ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 5 ТОМАХ ТОМ 1. РАССКАЗЫ И ПОВЕСТЬ
© Copyright by Philipp Keel, Zürich
Friedrich Dürrenmatt
GESAMMELTE WERKE
Фридрих Дюрренматт
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ
1
РАССКАЗЫ И ПОВЕСТЬ
Перевод с немецкого
Харьков «Фолио»
Москва АО Издательская группа «Прогресс»
1997
ББК 84.4Ш Д97
Серия «Вершины» основана в 1995 году
Составитель Е. А. Кацева
Предисловие и комментарии В. Д. Седельника
Художники
М. Е. Квитка, О. Л. Квитка
Редактор Л. Н. Павлова
В оформлении издания использованы живопись и графика автора
©Copyright 1978 by Diogenes Verlag AG, Zürich
All rights reserved
Copyright © 1986 by Diogenes Verlag AG, Zürich
Данное издание осуществлено при поддержке фонда «PRO HELVETIA» и центра «Echangps Culturels Est — Ouest» г. Цюрих, а также при содействии Посольства Швейцарии в Украине
ISBN 966–03–0104–9 (т. 1)
ISBN 966–03–0103–0
ISBN 5–01–004564–0 (т. 1)
ISBN 5–01–004567–2
© Составление, предисловие, комментарии, перевод на русский язык произведений, кроме отмеченных в содержании *, АО «Издательская группа «Прогресс»», издательство «Фолио», 1997
© М. Е. Квитка, О. Л. Квитка, художественное оформление, 1997 © Издательство «Фолио», издание на русском языке, марка серии «Вершины», 1997
Парадоксы и предостережения Фридриха Дюрренматта
Мы роем Вавилонскую шахту.
Франц КафкаКто имеет дело с парадоксом, сталкивается с реальностью.
Фридрих ДюрренматтКогда задумываешься над тем, что сделало Фридриха Дюрренматта, писателя маленькой западноевропейской страны, знаменитым на весь мир прозаиком и драматургом, когда пытаешься понять, благодаря чему он на протяжении десятилетий властвовал над умами своих современников, неизбежно приходишь к выводу: самым главным и существенным, о чем он не уставал твердить в своих сочинениях, было то же, что волновало и большинство других крупных художников XX века, — судьба нашей планеты и человека, на ней обитающего. Но в отличие от многих строптивый и неудобный Дюрренматт предпочитал не утешать, не заманивать обещаниями благотворных перемен, а тревожить, эпатировать, предостерегать. Необычными ходами мысли, гротескно-парадоксальными образами он разбивал устоявшиеся представления, сомневался в, казалось, самоочевидном, будоражил нечистую совесть обывателя, расшатывал устои бездумного самодовольства технической цивилизации, пугал равнодушных и ленивых духом возможным «концом света», апокалипсисом.
Как и его не менее знаменитый земляк Макс Фриш, Дюрренматт не раз повторял, что он наследник европейского Просвещения. Но это был странный просветитель. Он хотел объяснить мир, но объяснить не до конца, ибо вконец истолкованный мир — вещь довольно скучная. Как, впрочем, и литературный сюжет — детективный или психологический. Дух человеческий взыскует не только разрешения загадок, он требует загадок неразрешимых, требует секретов и тайн, способных наполнить жизнь удивительным смыслом.
Собственно говоря, Дюрренматт всю жизнь искал способы и приемы выразить то, что почти не поддается выражению, нащупывал, борясь с собой, со своими страхами и сомнениями, новые пути познания и художественного воплощения мира, который то восхищал его своей красотой, то поражал бесчисленными нелепостями и несуразностями. Говоря языком спортивных комментаторов, он до самой смерти играл на грани фола, выделывал свои почти буффонадные финты с мыслью и словом на пятачке парадокса, на том последнем рубеже, где его с одинаковой степенью вероятия могли поджидать и громкий успех, и сокрушительная неудача.
Случалось то и другое, но успех все же преобладал. Благодаря широте кругозора (Дюрренматт, помимо литературы и живописи, всю жизнь занимался философией и естественными науками), мощи творческого воображения и необычайному богатству художественных находок и открытий, благодаря гражданскому мужеству и духовной независимости он сумел утвердиться в ряду крупнейших, может быть, даже великих писателей XX века. Его лучшие книги были и остаются гротескным зеркалом, которое увеличивает и шаржирует изображение, но не искажает его сути, зеркалом, в котором не то что без прикрас, но в ужасающе-беспощадной достоверности «отразился век и современный человек».
Дюрренматт ушел из жизни (это случилось в декабре 1990 года) полный творческих планов и грандиозных замыслов. Он писал книгу о Михаиле Горбачеве, собирался выпустить отдельным изданием свои многочисленные речи, произнесенные по разным поводам, работал над книгой о фригийском царе Мидасе, который, как явствует из греческого мифа, обладал способностью превращать в золото все, к чему ни прикасался, и в результате — не станешь же есть драгоценный металл — обрек себя на голодную смерть; в этом сюжете писатель хотел увидеть развернутую метафору современной цивилизации в ее взаимоотношениях с окружающей средой. И не переставал размышлять над своими «Материалами», над темами и сюжетами своей творческой биографии, так и не нашедшими художественного завершения, мечтая вскоре издать очередной, третий том этих удивительно интересных записок (два первых под названием «Лабиринт» и «Возведение башни» появились соответственно в 1980 и в 1990 годах).
И все же его творческий путь отнюдь не выглядит незавершенным. Писатель, который до последнего мгновения сражался за открывшуюся ему истину, отвоевывая ее у равнодушия и тупой покорности, имел право считать, что он исполнил свой земной долг и сказал людям то, что хотел и обязан был сказать. А то, что не успел, могло быть только вариантами уже сказанного, пусть неожиданными, пусть обогащенными новыми нюансами, но — вариантами. Не полагаясь на авось, он заблаговременно, лет за десять до того, как стряслось неизбежное, закрепил свое место в литературе — место живого швейцарского классика — изданием 30-томного собрания сочинений (1980). После этого он успел опубликовать еще девять книг, среди которых была только одна драма («Ахтерлоо»), а преобладали произведения прозаические и философско-публицистические: романы «Правосудие» и «Ущелье Вверхтормашки», повесть «Поручение, или О наблюдении наблюдателей за наблюдателями», баллада «Минотавр», сборник эссе «Опыты» и другие. Им были свойственны все достоинства прежнего Дюрренматта, но появилось и некое новое качество, для него неожиданное. Раньше, словно в пику своему земляку Максу Фришу, который публично и, видимо, с удовольствием «разоблачал» себя, выдавал тайны своей личной жизни, Дюрренматт поступал наоборот: избегал даже намека на автобиографические мотивации, предпочитая набрасывать масштабные и потому обезличенные «модели мира». Теперь же, особенно в двух книгах «Материалов», он вдруг заговорил о себе, о родительском доме в Конольфингене, где в 1921 году он появился на свет, о воспоминаниях и впечатлениях детства, о том, что в дальнейшем так или иначе сказалось на его писательской судьбе. Заговорил в иной, нежели раньше, тональности, с большей доверительностью и серьезностью, словно желая оставить после себя читателю не только шаржированный набросок скандального комедиографа, но и достоверный, по возможности точный, портрет Дюрренматта-человека.
В предлагаемый вниманию читателя пятитомник вошли практически все законченные произведения Дюрренматта — прозаика и драматурга, за исключением тех, сюжеты которых использовались в разных жанровых вариациях (к примеру, «Авария» существует как повесть, как комедия и как радиопьеса). В таких случаях приходилось выбирать лучшее, с точки зрения составителя, жанровое воплощение. За пределами издания осталась богатейшая, яркая публицистика и эссеистика Дюрренматта, иначе его пришлось бы увеличивать еще на несколько томов. Первые три тома отданы прозе, два оставшихся — драматургии. Самый первый том составляют рассказы — короткие и развернутые, написанные как в самом начале творческого пути, так и в его конце. Именно с рассказов и надо начинать знакомство с творчеством писателя: они не только введут в мир «страшных» мыслей Дюрренматта, но и настроят на нужную тональность восприятия, в которой способность распознавать притаившееся повсюду зло сочетается с избавительным комизмом ситуаций.
В рассказах, создававшихся еще в 40-е годы и впервые опубликованных в 1952 году в сборнике «Город», возникают сквозные проблемы и тревожные видения, преследовавшие писателя до конца жизни, — о богооставленности людей («Пилат»), о мире как лабиринте, тюрьме и сумасшедшем доме («Город»), о человечестве, несущемся без руля и без ветрил, с нарастающей скоростью в пропасть небытия («Туннель»). Каждый раз Дюрренматт заново создает свой мир (или, точнее, антимир) — хаотичный, парадоксальный и во многом условный, но каким-то удивительным образом своими несообразностями напоминающий нашу повседневную реальность, — чтобы в конце устроить ему апокалипсис и рассчитаться с ним. А заодно и погрозить кулаком всеведущему и всеблагому создателю, равнодушно взирающему на беспомощность и страдания копошащихся на планете людей. Дюрренматта, сына благочестивого протестантского пастора, всегда остро занимало неразрешимое противоречие между совершенством творца и несовершенством творения. Свойственная писателю склонность к богохульству, к осмеянию религиозных догматов, что не раз ставилось ему в вину строгими блюстителями чистоты веры, проистекает, судя по всему, из отчаянного сомнения в разумности мироздания и страстного желания исправить, подкорректировать заложенную в творении программу. Он хочет сделать все для спасения человека — а значит, и Бога, ибо с гибелью последнего человека погибнет и Бог. Ну а если, несмотря на все предостережения, спасти все же не удастся, то хоть посмеяться над людской слепотой и глупостью. Горький смех очищает душу и возвышает над пороками лабиринта.
И он смеялся. Смеялся над собой, над своим окружением, над Швейцарией. («Я не страдаю от малости Швейцарии, я смеюсь над ней».) Но не только над тем, что незначительно и мелко. Столь же язвительно и громко он смеялся над великими империями, уже исчезнувшими или исчезающими с карты мира, и даже над невообразимо громадной Вселенной, созвездия и галактики которой со скрипом вертятся, как детали кофемолки, когда ветхозаветный бог задумывает ублажить себя чашечкой кофе («Ущелье Вверхтормашки»).
Правда, в ранних рассказах ему еще не до смеха. Там властвует страх. Высокопоставленный римский чиновник, с первого взгляда распознавший в приведенном к нему «преступнике» бога, но так и не осмелившийся заступиться за него (вот если бы это сделали другие, тогда не пришлось бы демонстративно «умывать руки»!), с ужасом ждет мести, расплаты, наказания за трусость. Воспитанный в античной традиции язычник привык видеть в боге героя-победителя, но никак не униженного, страдающего, беззащитного человека, и только смутное предчувствие подсказывает ему, что отныне он будет судим этим новым богом — собственной совестью.
Еще более жуткая картина возникает в рассказе «Город», представляющем собой фрагмент так и не написанного романа, причем фрагмент отнюдь не единственный (рассказ «Из записок охранника», повесть «Зимняя война в Тибете»). Человек попадает в город, символизирующий собой современную цивилизацию, но одновременно и некий платоновский город-ад, тюрьму, в которой каждый — охранник и узник, преследуемый и преследователь в одно и то же время.
Образ города-ада не случаен. «Мы превратили этот мир в ад», — обронил как-то Дюрренматт. И добавил: «В моих словах нет ничего загадочного, я даже не очень преувеличиваю. Вспомните о военных конфликтах, о революциях и переворотах, которые потрясают и будут потрясать человечество, о бедности и голоде, о недостатке свободы для многих — в том числе и у нас, о неуверенности и страхе — и все это только в политическом плане, личные трагедии не в счет. Конечно, наряду с этим есть и «не-адское», нормальное и социальное, красивое и прекрасное, само собой, но в общем человечество находится зачастую в скандальном беспорядке…»
Этому «скандальному беспорядку» он пытался противопоставить скандальные выходки и вызывающие заявления, хотя по натуре был человеком скромным, спокойно и самокритично несшим бремя мировой славы. Время от времени он бросал увесистые камни своих сочинений и интервью в болотные хляби сытого равнодушия в надежде расшевелить сонное воображение, найти отклик в умах и душах. Отклики, особенно на родине писателя, в Швейцарии, чаще были недружелюбными, чем благожелательными. Для многих своих земляков он был не только местной достопримечательностью, но и «осквернителем собственного гнезда», неудобным и неблагодарным гражданином благополучной страны, который не хотел замыкаться в сфере чисто эстетических вопросов, а все время «лез куда не следует» — вмешивался в политику, поучал недальновидных экономистов, разоблачал национальные мифы. Незадолго до смерти он в очередной раз вызвал возмущение своей речью, произнесенной на торжественном заседании по поводу вручения Вацлаву Гавелу, бывшему диссиденту и узнику совести, а в то время президенту Чехословацкой республики, премии имени Готлиба Дутвайлера. Неожиданно для всех (надо думать, текст выступления не согласовывался ни в каких кабинетах) Дюрренматт вдруг заговорил о «Швейцарии как тюрьме». Слово «тюрьма» и производные от него были повторены в коротком выступлении около сотни раз, писатель, похоже, нарочно жонглировал этим словом, чтобы вызвать ярость истеблишмента. Это вообще было его принципом — говорить и писать только то, что вызывает раздражение. Действительно, было от чего всполошиться: свободная, благополучная Швейцария, оплот демократии и национального мира — и вдруг «тюрьма».
Но ревнители национальных ценностей возмущались напрасно. Мыслящий не в национальных, а в глобальных, вселенских категориях Дюрренматт уже очень давно воспринимает мир как тюрьму (варианты: лабиринт, сумасшедший дом). Почему же Швейцария должна быть исключением? Она тоже тюрьма, хотя, может быть, и самая благоустроенная на нашей планете. Сам писатель эту «тюрьму» предпочитал любому другому месту на земле. Он часто иронизировал над своей родиной, но еще чаще признавался ей в любви. Кстати, изъявлением любви к Швейцарии завершилось и его выступление в честь Вацлава Гавела.
Рожденные творческой фантазией образы туннеля, лабиринта, тюрьмы сопровождаются отчаянными попытками попавшего туда человека-минотавра разобраться в зеркальных отражениях стеклянных стен и выбраться, выпутаться из плена. Все попытки обречены на неудачу, но они нужны бунтующему как способ самоутверждения. Дюрренматт, считавший бунтарство понятием изначальным и перманентным («я бунтую все время»), напрямую соотносил его с юмором, который играл в его системе художественных ценностей одну из ведущих ролей. Бунтарь без чувства юмора нелеп и страшен. Только юмор помогает осознать относительность и практическую бесполезность бунта. А заодно и его необходимость.
Пугающие картины апокалипсиса, вселенского краха Дюрренматт набрасывал, разумеется, не ради страсти к живописанию катастроф, а во имя спасения человечества, неумолимо сползающего в пропасть самоуничтожения. Для того чтобы понять это, нужно иметь воображение, нужно уметь домысливать до конца и представлять себе воочию последствия тех процессов, которые набирают силу в культуре, политике, экономике. Это умение и воспитывал Дюрренматт. Творческой фантазии он отводил первостепенную роль и считал своим долгом стимулировать и развивать у своих читателей силу воображения. Он полагал, что растущее недовольство людей деятельностью профессиональных политиков не является единственной причиной, толкающей художника к оппозиции; его недовольство иного порядка. Благодаря богатому воображению он способен увидеть пропасть между действительностью и тем, что действительностью не стало, что было упущено. Будущее его интересует в большей мере, чем настоящее. Таким образом он, бунтарь и отрицатель, заполняет пробел, мимо которого проходят политики, — воспитывает уважение к будущему.
Дюрренматт — и в этом читатель может легко убедиться — всегда был больше воспитателем и просветителем, чем нигилистом. Парадоксалист и моралист в одном лице, он тосковал по вселенской гармонии и не любил, когда его причисляли к абсурдистам. «Хотя я и самый мрачный из современных драматургов, — говорил он в одном из интервью, — мне очень нравится шутка, я вовсе не безнадежный угрюмый тип». Считая себя писателем гротеска, а не абсурда («абсурдного я не люблю, ибо оно означает отсутствие смысла»), Дюрренматт даже обижался на критиков: как можно называть нигилистом и «пророком заката» того, кто ставит грозный, но беспощадно трезвый диагноз?
Еще совсем недавно иные критики потешались над Дюрренматтом как над мрачным комиком балаганного типа, на потеху жизнерадостной публике (ты пугаешь, а нам не страшно!) твердившим о неизбежном конце человечества. Но времена быстро меняются, и вот уже то, что еще вчера казалось гротескным приемом, трагикомической гиперболой, стало восприниматься как повседневная реальность. Похоже, даже сам Дюрренматт не ожидал от истории такой прыти.
Тревожно-пугающие предсказания, относящиеся к более или менее отдаленному будущему, — а он, опираясь на закон больших чисел, задолго до Чернобыля предсказал «чудовищные по своим масштабам катастрофы в области атомной энергетики» — в одночасье обрели характер срочного диагноза, действительность настигла, а кое-где и оставила далеко позади себя даже самые смелые фантазии. Над планетой уже вспыхнула горестно-яркая звезда Полынь, по усеянным радионуклидами полям и лесам уже скачут суровые всадники Апокалипсиса, мир раздирают этнические и религиозные конфликты. Если и дальше так откровенно пренебрегать настоящим, то будущего может и не быть. Чтобы выжить, человек должен научиться жить по-иному, быть скромнее в своих потребностях, отказаться от претензий на роль хозяина и повелителя живой и неживой природы, заклинал писатель. И не забывать о чудодейственной силе любви. «Только любовь способна воспринимать милость судьбы такой, какая она есть, — внушает Архилохосу президент в повести «Грек ищет гречанку», выдавая, может быть, самые сокровенные мысли Дюрренматта. — Знаю, это самое трудное. Жизнь ужасна и бессмысленна. И только любящие вопреки всему могут верить в то, что и в ужасе, и в бессмыслице кроется какой-то смысл».
Фридрих Дюрренматт был признанным мастером детективного жанра. Он не только обогатил возможности детектива, но и как бы исчерпал их, растворил в проблемах общефилософского свойства. По крайней мере, он счел себя вправе объявить о смерти этого жанра, пропеть ему «отходную», хотя тема преступления и наказания, поднятая до уровня философского осмысления жизни и смерти, волновала его вплоть до самых последних произведений. На первый взгляд роман «Судья и его палач» (1952) мало чем отличается от традиционного англосаксонского детектива. В нем есть круто замешенный сюжет и основные ингредиенты жесткой схемы: жертва, преступник и тот, кому по долгу службы и по внутреннему убеждению положено это преступление распутать. Более того, происходит — не без участия проницательного, себе на уме сыщика — как бы удвоение криминального действия: поиски одного преступника накладываются на поиски другого, более изощренного и страшного, перераспределяются функции, сыщик берет на себя роль судьи (что, как известно, противоречит закону), а функции палача возлагает на вычисленного им менее опасного преступника (разумеется, без ведома последнего). Но есть в романе и еще более странные неожиданности. Не добро и зло противостоят в нем друг другу, как это принято в «добропорядочном» детективе, но, скажем так, меньшее зло большему злу. То, что делает комиссар Берлах, имеет мало общего с отправлением законности, а скорее смахивает на самосуд. Однако Берлах все же не носитель зла, он действует вопреки закону, но в полном согласии с совестью и справедливостью. Уже в этом первом детективе торжествует сатирический дар Дюрренматта. Парадокс таится в глубине и пока не выходит на передний план, не становится стержнем сюжета.
В написанном годом позже романе «Подозрение» парадокс уже выступает тем камнем преткновения, о который разбивается детективная интрига. Комиссар Берлах в этом романе, забыв об осторожности, оказывается в руках у матерого нацистского преступника, врача-убийцы, орудующего в послевоенной Швейцарии, и терпит — вопреки требованиям жанра — полный профессиональный крах: превращается из преследователя в преследуемого, из охранника в беспомощного узника. Возникает ситуация, чем-то напоминающая ту, которая описана в рассказе «Город».
Пожалуй, самое интересное в этом романе — уже не детективная канва, а диалоги комиссара с врачом и его сообщницей. Эпатирующие идеи о всевластии и безнаказанности зла, о ничтожестве человека, о роли слепого случая в его судьбе, вложенные в уста преступников, создают некий парадоксальный контекст, помогающий раскрыть философскую подоплеку противоправных деяний. Раскрыть — и ужаснуться их силе и размаху. И все же моралист в Дюрренматте не позволяет торжествовать злу: в последний момент Берлаха выручает загадочный персонаж с говорящим именем Гулливер, выступающий одновременно в роли сыщика, судьи и палача и на правах бывшей жертвы садиста воздающий ему по заслугам. Именно он формулирует вывод, который станет лейтмотивом многих сочинений Дюрренматта в разных жанрах: «Надо пытаться не спасти мир, а выжить в нем — вот единственное истинное приключение, которое еще остается нам в эту эпоху».
Сыщик Маттеи из романа «Обещание» (1958) чем-то напоминает Берлаха: он так же умен, добр и справедлив, готов, если надо, рисковать, ставить на карту не только собственную репутацию, но и жизнь. Но он, в отличие от скептического Берлаха, слепо верит во всемогущество разума и непогрешимость логики. Собственно, такая вера — непременное условие традиционного детектива, без нее он теряет смысл. Дюрренматт же убежден, что в жизни много случайного, нелепого, что в ней сплошь и рядом встречаются вещи, никакой логике не поддающиеся. Поэтому «Обещание», как и «Подозрение», — книга не о триумфе мастера сыска, а о его крахе. Гениальный сыщик, столкнувшись с властью слепого случая (точно вычисленный им убийца случайно погибает в автокатастрофе по пути к месту очередного злодеяния), не выдерживает такой насмешки над логикой и лишается рассудка.
И все же поражение Маттеи нужно воспринимать не как дискредитацию разума вообще — преступник-то вычислен безошибочно, — а как предостережение от упрощенчества, от бездумного следования заданным образцам. Мало разрешить криминалистическую задачу, хотя и это требует огромного напряжения интеллекта и интуитивных прозрений. Важно не забывать, что помимо логической загадки есть еще загадка человека, есть тайна творения и творца, раскрыть которую вряд ли под силу самому проницательному детективу. Именно об этом напоминает читателю Дюрренматт, повествуя о бессилии мастеров сыска перед лицом непостижимой действительности.
Одним из шедевров Дюрренматта по праву считается повесть «Авария» (1956), названная автором «почти правдоподобной историей», приключившейся с преуспевающим коммивояжером из-за поломки автомобиля. Эта трагикомическая история вряд ли могла быть воссоздана в ином ключе — психологическом или натуралистическом. Не до лирических излияний, когда за кулисами притаилась судьба, а на сцене разыгрывается очередная «авария», каких в нашей жизни становится все больше. И где бы они ни случались — в частной жизни, экономике, политике, культуре, — каждая в интерпретации Дюрренматта способна обернуться масштабной катастрофой.
Особенно тревожило писателя то, какая пропасть разделила в последнее время знание и действие. Человек вроде бы знает одно, но какая-то неведомая сила заставляет его поступать по-иному, делать иногда прямо противоположное тому, что следовало бы делать в сложившихся обстоятельствах. Наше знание, даже самое современное и научное, есть всего лишь вариант интерпретации, есть вера в науку, в ее чудодейственные возможности, но не само знание, утверждал он. Мир представлялся Дюрренматту неуправляемым плотом посреди бурного потока, находящиеся на нем люди мечутся в растерянности или, в надежде на мудрость рулевого, уговаривают себя не суетиться, но рулевой, похоже, и сам правит, полагаясь исключительно на интуицию.
Без сомнения, пессимизм Дюрренматта с годами возрастал. Но — удивительное дело — росла, крепла и надежда. Выдвинув принцип выживания, он звал не к смирению, а к неповиновению року, к подвижничеству и мученичеству Прометея, дерзнувшего восстать против жестоких богов. Испытанный прием домысливания, доведения каждой неразумной ситуации до «наихудшего конца» — не мировоззренческий, а драматургический принцип: авария, катастрофа, техническая или душевная, локальная или, тем более, вселенская, позволяет ярче изобразить человека, на короткое время вырвать его из бездумного прозябания, показать на трагическом изломе жизни и попытаться хоть чему-то научить. Используя излюбленный прием лабиринта, блуждания человека в закоулках враждебного, не поддающегося рациональному объяснению мира, Дюрренматт опять-таки зовет не к отчаянию, в чем его не раз упрекали, а к поискам выхода из тупиковой ситуации, подводит к мысли, что в полной нелепостей и опасностей жизни побеждает тот, кто стремится понять механизм насилия, обмана, манипулирования общественным мнением, кто не боится противопоставить силам зла мужество защитника исконных человеческих ценностей: «Если человек осознает себя человеком, он может возвыситься над лабиринтом».
Скрытая полемика с теми, кто упрекал писателя в приверженности нигилизму и абсурдизму, прочитывается в повести «Поручение, или О наблюдении наблюдателя за наблюдателями» (1986). Героиня повести, волею обстоятельств попав в водоворот необъяснимых и грозных событий, оказывается на грани гибели, но в конце концов спасается благодаря активному сопротивлению злу, благодаря действию, а не созерцанию. В повести налицо все признаки дюрренматтовской прозы: острый, почти детективный сюжет, апокалипсические видения конца света, отточенный, лапидарный язык. Но интересна она не столько загадочными исчезновениями, преследованиями и убийствами, сколько все той же озабоченностью состоянием мира. Уверенность человека зиждется на том, есть ли у него постоянный объект наблюдения, философствует один из персонажей повести. У всякого наблюдателя есть свой наблюдатель, каждый наблюдает за каждым, граждане ревниво следят за политикой государства, государство с помощью хитроумных технических средств следит за своими гражданами, человек пытается уклониться от наблюдения, он не доверяет государству, а государство не доверяет ему. В мире царит всеобщая подозрительность, слежка ведется не только за людьми, но и за природой, природа, оберегая свои тайны, сопротивляется, становится агрессивной. Учащаются естественные катастрофы — землетрясения, извержения вулканов, ураганы, наводнения. Загрязненный воздух, отравленные водоемы, умирающие леса, повышение радиоактивного фона — все это результат борьбы человека с природой, их взаимной ненависти. Неблагополучие выходит за рамки политики и экономики, принимает планетарные масштабы. Депрессивные состояния, которым так подвержен современный человек, есть психосоматический феномен, вызванный осознанием нелепости жизни, направленной на самоуничтожение. Человек в состоянии вынести все, кроме свободы плевать на смысл жизни (вспомним: «абсурдного я не люблю, ибо оно лишено смысла»).
Но высший смысл жизни немыслим без идеи Бога. Заявлявший о своем атеизме Дюрренматт был одержим бунтом против религии, то есть против того, что в глазах неверующего не должно было бы иметь значения. Но он был сыном протестантского пастора и в этом качестве не мог пройти мимо парадоксов протестантизма. В ранней радиопьесе «Двойник» (1946) он в иносказательной форме полемизирует с идеей первородного греха, высшей справедливости, предопределения. Некто, проснувшись поутру, обнаруживает у своей постели двойника и узнает от него, что «высший суд» приговорил его, невиновного, к смертной казни. Убийство совершил двойник, но умереть должен он, невиновный. Логика двойника: все мы заслуживаем смертной казни. Приговоренный протестует, требует суда, но волею обстоятельств оказывается в ситуации, когда сам становится убийцей, и добровольно отдается в руки правосудия. Ему открывается некая высшая истина: «Лишь тот, кто осознал свою неправоту, обретает право на справедливость, и лишь тот, кто подчиняется высшему суду, обретает блаженство». (Оборотная сторона этой формулы воссоздана в романе «Правосудие» (1985): кто хочет искоренить зло, сам творит его; восстановить справедливость можно только преступлением.)
Значит ли это, что Дюрренматт согласен с идеей предопределения и первородного греха? Нет, притча «Двойник» неожиданно заканчивается парадоксом: никакого высшего суда нет, таинственный замок, где должно вершиться правосудие, обветшал и пуст, поиски справедливости лишены смысла. Хочешь не хочешь, а таким выводом приходится удовлетвориться. Но удовлетвориться — не значит прекратить поиски высшей справедливости: человеку не пристало отрекаться от своей сути даже в нечеловеческих условиях. Нелепо брать на себя вину за мифический «первородный грех», но еще нелепее делать вид, что несуразности мира тебя не касаются и что ты абсолютно ни в чем не виноват.
Так ли уж удивительно, что именно Дюрренматту теологический факультет Цюрихского университета присвоил в 1983 году звание почетного доктора теологии? «Странный протестант», отвергавший все существующие вероисповедания, никогда не терял веры в возможности человека. Звание, как сказано в официальном документе, присваивается ему за то, что он «своей диалектикой веры и сомнения сталкивает теологию с противоречивыми импульсами ее собственной традиции, тем самым способствуя ее дальнейшему развитию».
С самых первых шагов Дюрренматта обуревала жажда абсолютно самостоятельного творчества, он шел от «головы», от фантазии, а не от действительности в ее жизнеподобных проявлениях, больше размышлял, чем наблюдал, создавал свой художественный универсум из себя, опираясь на собственный интеллектуальный опыт. Он рассматривал мир как огромный театр в духе массовых представлений эпохи барокко, жизнь человеческую — как исполнение заданной кем-то роли, а жизнь общества — как абсурдный спектакль, поставленный неведомым режиссером, имя которому то ли Бог, то ли дьявол, то ли слепой случай. В его гротескно-парадоксальных иносказаниях нет воссоздания жизни в формах самой жизни, зато много внутренней логики и много юмора, много комизма, идущего от полемики с окружением, от критической дистанции к нему.
Начало драматургической карьеры Дюрренматта (постановка пьес «В Писании сказано…» и «Слепой» в конце 40-х годов) сопровождалось провалами и скандалами: публика никак не могла привыкнуть к вызывающе дерзким парадоксам и обильным дозам художественной условности. Лишь после того, как его комедии «Брак господина Миссисипи» (1952), «Визит старой дамы» (1956) и «Физики» (1962) начали триумфальное шествие по театральным подмосткам Старого и Нового Света, он вздохнул с облегчением: по крайней мере материальная независимость была обеспечена. Но слава неудобного, неуживчивого писателя, стоявшего, по его же словам, «ни справа, ни слева, а поперек», сопровождала его всю жизнь. Среди его читателей и зрителей равнодушных не было, были восторженные поклонники и злобные хулители.
Дюрренматт был убежден, что нынешнее состояние мира можно выразить только в комедии. «Трагедия предполагает вину, горе, чувство меры и чувство ответственности, представление о будущем. В мясорубке нашего столетия, в этой пляске смерти белой расы нет больше ни виновных, ни обремененных ответственностью. Никто не виноват, никто не предполагал, что все обернется именно так. Все происходит как бы само по себе. Все куда-то затягивается и повисает на каком-то крючке. Мы все вместе виноваты, все вместе втянуты в орбиту вины наших отцов и праотцев… Это наша беда, а не вина: вина сегодня существует только как личное дело каждого, как религиозный поступок. Нам пристала только комедия».
На этой почве возникли разногласия между маститым тогда Брехтом и начинающим Дюрренматтом. Дюрренматт восхищался драматургическим мастерством Брехта, его умением поразить публику знаменитыми «приемами очуждения», раскрыть глаза зрителя на несообразности общественного устройства (у Брехта — обязательно буржуазного), активизировать интеллектуальную реакцию зрительного зала. Но он решительно не принимал идеологической заданности своего старшего коллеги, марксизм Брехта уже в сороковые годы казался ему «чересчур доктринерским». Не ускользнуло от него и то, что Брехт из одному ему ведомых соображений предпочитал дипломатично не замечать происходящего внутри социалистического лагеря. Брехт мыслит неумолимо, говорил он, потому что на многое столь же неумолимо закрывает глаза. И к тому же страшно упрощает картину мира. Брехт в свою очередь полагал, что Дюрренматт фетишизирует негативную перспективу борьбы и низводит человека до игрушки в руках слепых исторических сил.
Между ними готовилась теоретическая дуэль: в 1955 году они должны были публично дискутировать на тему: «Можно ли воссоздать современный мир в театре?» Но Брехт заболел и на конференцию драматургов в Баден-Бадене не приехал. Дюрренматт, тоже больной, приехал и выступил, но всерьез его не восприняли. Да он и не рассчитывал на успех: слишком разными были весовые категории. Авторитет Брехта был неоспорим, его сценические эксперименты надежно прикрывала теория «эпического театра». Театр может воссоздавать современный мир при условии, что этот мир изменяем, утверждал Брехт. Человек — творец истории. Изменяя мир, он изменяется сам, разумеется, в лучшую сторону. Задача искусства — показать процесс этих изменений, опираясь на пафос исторического и диалектического материализма. Дюрренматт, не в меньшей мере интересовавшийся законами социально-исторического развития общества, считал, что рационалистические модели к истории неприменимы — они неизбежно ведут к упрощениям. Насильственное, вопреки законам естественной эволюции, изменение мира и человека ни к чему хорошему не приведет. Сегодня, воочию видя результаты силовых экспериментов над обществом и человеком, можно утверждать, что Дюрренматт, остерегавшийся выдавать желаемое за действительное, оказался прозорливее своего оппонента. Позже, размышляя над загадочными зигзагами истории, в том числе и российской, он писал о преждевременности идей, на службу которым отдал свой талант Бертольт Брехт: «Реакционная идея Маркса превратить философию в идеологию и с ее помощью не объяснить мир, а изменить его — идея романтическая, ибо для ее осуществления он должен был основать новую веру и новую церковь; он воплотил в жизнь романтическую мечту, создав новое средневековье, в то время как наука уже давно изменяла мир, по-новому интепретируя природу. Поэтому Октябрьская революция, провозглашенная от его имени и разыгранная умелым режиссером его идеологии, есть вершина романтизма, пришедшегося на эпоху расцвета науки…» А коли так, то Брехт с его острым как бритва интеллектом и его устремленностью в будущее (которого может и не быть?) оказался в плену утопии, реакционно-романтическая подоплека которой вроде бы уже не должна вызывать сомнений.
Однако не следует думать, будто в схватке гигантов немецкоязычной драматургии пальмовая ветвь победителя безоговорочно досталась швейцарцу. Все гораздо сложнее и неоднозначнее. И дело тут не только в том, что маятник общественно-политических симпатий может качнуться в другую сторону и важнейшие признаки брехтовского искусства обретут прежнюю привлекательность. Дело в самом Дюрренматте. Среди многочисленных парадоксов его творчества бросается в глаза и такой: чем маститее и опытнее становился драматург, тем чаще поджидали его сценические неудачи. В 70–80-е годы театры всего мира предпочитали ставить «Брак господина Миссисипи» (1952), «Визит старой дамы» (1956) и «Физиков» (1962), а не «Соучастника» (1976), «Срок» (1977) или «Ахтерлоо» (1983). Это, похоже, глубоко задевало драматурга, который хотя и храбрился в многочисленных интервью, сваливая вину на режиссеров, актеров и театральных критиков, но мучительно переживал происходящее и с одержимостью продолжал работу над пьесами, не получившими зрительского признания. Они обрастали автокомментариями, альтернативными — в пику режиссерам и критике — толкованиями, новыми вариантами.
Так, «Соучастник» после неудачной постановки в 1973 году через три года был опубликован повторно, но уже с развернутым авторским комментарием, который вместе с другими материалами значительно превысил по объему саму пьесу («Соучастник. В комплексе», 1976). Нечто подобное произошло и с комедией «Ахтерлоо», она также выходила несколько раз, в новых редакциях и с многочисленными пояснениями, помогающими раскрыть глубинный смысл произведения. Но ни одна из постановок так и не стала пока событием театральной жизни, как это случилось в свое время с шедеврами Дюрренматта — комедиями «Визит старой дамы» и «Физики». Их небывалый успех объясняется многими причинами, но не в последнюю очередь и тем, что «модели мира» строятся из локально окрашенных кирпичиков. Гюллен в «Визите старой дамы» — очень швейцарский захолустный городок, а сюжетный стержень представляет собой вариацию распространенного в швейцарской литературе XX века мотива «возвращения блудного сына». Появление в Гюллене Клэр Цаханассьян — это «возвращение блудной дочери», которое, однако, несет городу не избавление от экономического застоя, а повальное совращение жителей. Удачным представляется и сочетание широкой социальной панорамы с исследованием индивидуальной судьбы человека, совершившего когда-то преступление и теперь вынужденного расплачиваться за него. Парадокс в том, что самопожертвование героя ведет не к утверждению справедливости, а, наоборот, к разгулу аморализма и торжеству хищнических инстинктов. Именно это и наделяет комедию чертами гротескной трагедийности.
В «Ахтерлоо» эту функцию выполняет идея мира как сумасшедшего дома, однажды уже блестяще использованная в комедии «Физики». Но в «Ахтерлоо» эта стержневая идея значительно усложнилась, подчинив себе стилистику и образный строй произведения. Философ, мыслитель, просветитель тут явно потеснил художника, вынудив его ради универсальной метафоры поступиться пластичностью образов и достоверностью (пусть даже фарсовой, парадоксальной) ситуаций.
Впрочем, вполне может статься, что когда-нибудь придет время и этой пьесы и она обретет новую злободневность, как это случилось с радиопьесой «Страницкий и Национальный герой», написанной и поставленной в начале 50-х годов. Ее сюжетная пружина насажена на стержень маленькой личной «аварии»: у национального героя Бальдура фон Меве после благотворительной поездки в одну из стран «третьего мира» обнаруживается проказа на большом пальце левой ноги. Болезнь — истинную или мнимую — он использует для укрепления пошатнувшейся популярности. Но дешевый популизм — штука небезопасная. Инвалиды Страницкий и Антон, жертвы недавно закончившейся войны, в которой один потерял ноги, а другой глаза, связывают с публичными самобичеваниями новопрокаженного надежды на социальное переустройство и улучшение жизни бедняков: больные, увечные, отверженные должны понимать друг друга независимо от положения, которое они занимают в обществе. Но расчеты на содействие со стороны «собрата по несчастью» рушатся, — и инвалиды гибнут, не в силах вынести разочарования и позора.
Сатира Дюрренматта направлена не просто против дутой славы «национального героя», а против вождизма и национал-героизма как явления, круто изменившего лик XX столетия. И против легковерности так называемого «простого народа», бездумно клюющего на приманку пропагандистских клише. Сатира Дюрренматта — обоюдоострая.
В радиопьесе явственно слышны отголоски того времени, когда она создавалась: в начале 50-х годов повсюду в Европе еще были видны следы отгремевшей войны, а проблема вернувшихся с фронтов стояла чрезвычайно остро (правда, не в Швейцарии, но ведь и пьеса была впервые передана в эфир западногерманской радиовещательной корпорацией). Но удивительным образом это произведение сохраняет свою актуальность и сегодня, касается нас, нашей нынешней жизни, наших нерешенных проблем, включая те, с которыми все еще сталкиваются инвалиды войны, «афганцы», «чеченцы» и т. д. Видимо, феномен гофмановского «крошки Цахеса», когда жертвы приносят одни, а слава, почет и богатство достаются совсем другим, не зависит ни от эпохи, ни от общественного устройства.
В «Страницком» много ярких сцен, запоминающихся образов и гротескных ситуаций, но поистине гоголевская сила обличения звучит в заключительном эпизоде — в рассказе диктора о том, как год спустя после гибели инвалидов, в день встречи возвратившегося с отдыха Меве, из глубины канала всплывают страшные, раздувшиеся трупы утопленников, и поднятая рука Страницкого грозит Национальному герою, взывая к справедливости и напоминая о неизбежности возмездия. Параллель с мертвецом-чиновником, снявшим шинель со «значительного лица», напрашивается сама собой…
Имя Гоголя упомянуто тут не всуе и не только потому, что швейцарского драматурга можно считать восприемником великих сатириков прошлого. Дюрренматт хорошо знал русскую литературу и высоко ценил воплощенную в ней заботу об отверженных, обездоленных, страдающих. «Толстой, Достоевский, Гоголь, Чехов — это огромный общечеловеческий опыт, — говорил он, — океан знаний о людях и обществе, спрессованный в авторских страницах. Великая русская литература… Я очень люблю «Каштанку» Чехова, а «Вечера на хуторе близ Диканьки» — это шедевр. Мое «Ахтерлоо» выросло из «Записок сумасшедшего» Гоголя — несчастье человека и вечные поиски совершенства…»
Разрушением мифа о «национальном герое» Дюрренматт занят и в комедии «Геркулес и Авгиевы конюшни» (радиопьеса — 1954, пьеса — 1963). В качестве сюжета Дюрренматт берет самое «грязное» деяние героя — очистку огромного скотного двора царя Авгия. Легендарный Геракл справляется с заданием смекалисто и быстро, с помощью рек Алфея и Пенея смывая навоз в море. Не то у Дюрренматта. Его интересуют не подвиги силача, а слава профессионального «национального героя», механизм ее функционирования. Все подвиги Геркулеса — грубого, невежественного великана, не лишенного, однако, душевного величия — разоблачаются как легенды, сочиненные сворой наемных писак. Даже любовные подвиги совершает за него свинопас Камбиз. Об очистке от навоза целой страны и говорить не приходится, это поручение античному богатырю тоже не по плечу.
Критики много спорили о том, какой смысл вкладывал Дюрренматт в атмосферу заплывшего навозом скотного двора. Что понимать под «навозом»: культуру? политику? экономику? вездесущую бюрократию? национально-патриотические ценности? Метафора емкая, однозначно истолковать ее трудно. Во всяком случае, ясно, что навоз — это то, что мешает проявлению человеческого в человеке. Простоватый сын Авгия ответил на вопрос так: «Навоз — только символ нашего невежества и нашей глупости». А неграмотный пастух Камбиз пошел еще дальше: навозом по самую макушку забиты головы жителей Элиды, поэтому избавить от него людей не под силу никакому герою. Спасение от «навоза» — не в подвигах «национальных героев», а в незаметном, повседневном труде на земле. Только так навоз превратится в жирную почву и начнет плодоносить.
Обладая буйной, раскованной фантазией, Дюрренматт доверял и фантазии читателя (зрителя, слушателя). Сцена была для него не полем столкновения теоретических или мировоззренческих концепций, а инструментом, возможности которого он испытывал, играя на нем, получая от игры удовольствие и доставляя удовольствие другим. Удовольствие одновременно эмоциональное и интеллектуальное. «Обыгрывая мир, я осмысляю его. Результатом этого мыслительного процесса является не новая действительность, а комедия, в которой действительность подвергается анализу, точнее, анализу подвергается зритель», — говорил он.
Показывая человека и мир в момент гибели, на краю мрачной бездны, Дюрренматт призывал извлекать уроки из недобрых дел, учиться не столько на положительных примерах, сколько на «игрищах зла». В этом смысл и своеобразие его гротескно-парадоксального реализма, в этом сила его размашистой творческой фантазии, внешне несколько сумбурной, но внутренне очень логичной, работающей вопреки неразумной, алогичной действительности.
В одном из последних интервью Дюрренматт высказал непривычную в его устах, привыкших к сардоническому хохоту, горестно-робкую надежду, что мир все-таки может образумиться и прийти к истинно новому мышлению, но только через великие катастрофы, через череду новых «аварий», новых жестоких испытаний. И чем раньше наступит отрезвление, чем быстрее придет время смирения гордыни и ограничения запросов, тем лучше.
Об этом, собственно, все творчество Дюрренматта — прозаика, драматурга, эссеиста, живописца. Он навсегда останется в ряду мыслителей и творцов, которые обретались в художественном пространстве между жизнью и смертью и бились над последними, роковыми вопросами бытия.
В. Седельник
Рассказы
Рождество
Было Рождество. Я шел по широкому полю. Снег был как стекло. Было холодно. Воздух был мертв. Полная неподвижность, ни малейшего шороха. Горизонт был круглый. Небо — черное. Звезды умерли. Луна ушла в могилу вчера. Солнце не взошло. Я закричал. Я не слышал себя. Я закричал снова. Я увидел лежащее на снегу тело. Это был младенец Христос. Руки-ноги белые и неподвижные. Венец — желтый застывший диск. Я поднял ребенка. Я принялся шевелить его руки. Я раскрыл его веки. У него не было глаз. Я был голоден. Я стал есть его венец. У него был вкус засохшего хлеба. Я откусил ему голову. Засохший марципан. Я пошел дальше.
Палач
Глыбы кладки мертвы. Воздух как камень. Земля давит со всех сторон. Из щелей капает холодная вода. Земля гноится. Темень настороже. Щипцы для пыток видят сны. Огонь пылает во сне. Муки прилипли к стенам. Он притаился в углу. Он прислушивается. Часы ползут. Он встает. Далеко вверху хлопает дверь. Огонь просыпается и багровеет. Щипцы шевелятся. Веревки натягиваются. Муки отстают от стен и опускаются на каждый предмет. Камера пыток начинает дышать. Шаги приближаются.
Он пытает. Стены задыхаются. Глыбы кладки ревут. Каменные плиты визжат. Из щелей пялит глаза ад. Воздух — кипящий свинец. Огонь разливается по белому телу. Перекладины стремянки гнутся. Секунды тянутся вечность.
Он опять скорчился в углу. Его глаза пусты, его руки как лед. Волосы слиплись. Камера пыток устала. Кровь высыхает. Глыбы кладки каменеют. Омерзение выливается через решетки. Тишина душит. Время пробуждается. Секунды начинают копошиться, и часы наваливаются один на другой. Огонь лижет последние угли.
Ночь легла на город. Звезды желтые. Луна бурая. Дома ползут по земле. Он проходит улицу и входит в трактир. Факелы горят черным огнем. Люди убегают. Вино — старая кровь. Кто-то кричит. Вдалеке отодвинули стул. Проржали что-то скабрезное. У женщины белая кожа. На ней чья-то рука. Хлопает дверь. Становится тихо. Какой-то незнакомец присаживается к нему.
Он глядит на руки незнакомца. Они узкие. Пальцы играют тростью. Серебряный набалдашник блестит. Лицо бледное. Глаза — пропасти. Губы раскрываются. Незнакомец начинает говорить.
Ты палач. Ты последний из людей. Гнуснейший. У меня есть золото. У меня есть жена и двое детей. У меня есть друзья. Когда-нибудь у меня ничего не останется. Я умру. Я сгнию. Я стану тем, что ты сейчас. Моя жизнь — это спуск в небытие. Твоя всегда одинакова в небытии. Я завидую тебе. Ты — счастливейший человек.
Я изведал все радости жизни. Но моя радость рассыпалась. Осталось отвращение. Твоя радость неисчерпаема. Она вечна. Ты пытаешь. Под твоими руками рушится иллюзия «человек». Остается вопящее животное. Малейшее твое движение родит бесконечный страх. Ты начало и конец. Я делаю тебе предложение. Поменяемся внешностью. Возьми мою жену. Мое золото. Мою молодость. Мою власть. Дай мне стать палачом. Встретимся снова через два года. Не забывай об этом. А то мы так и останемся навеки в чужом обличье.
Слова незнакомца стучатся ему в уши. Падает стакан. Вино заливает стол. На полу — осколки. Он видит лицо незнакомца. Оно красиво. Одежда на нем богатая. Палач целует узкие руки. Он слышит свой смех.
Они входят в какой-то зал. Тени летают по стенам. Окна пусты. На потолке висят летучие мыши. Пол — зеркало. Жертвенная чаша пылает синим пламенем. Дым поднимается вертикально. Он протягивает руки незнакомцу. Свет темнеет. Тени отделяются от стен. Воздух поет. Летучие мыши на потолке качаются, как колокольчики, туда-сюда. Он видит палача.
Бесформенный великан. Набухшие гнойники. Слабо светится гниющая рожа. Один глаз заплыл красным. Зрачок — нарыв. Рот брызжет слюной. Он убегает.
Он идет по улицам. Его шаг становится спокойнее. Он решил никогда больше не возвращаться. Его узкие руки играют тростью. Восходит солнце. Дома светятся. Небо — широкое море. Люди идут на работу. Девушка улыбается ему.
Он входит в какой-то дом. Стены белые. Собаки удаляются на свое место. Слуги кланяются. Он целует детей. Появляется женщина. Она нежна. Волосы у нее светлые. Ножка — маленькая. Он смеется. Она обнимает его. Он гладит ее грудь.
Ночной покой. День далеко. Ровно дышит комната. Темнота теплая. Она лежит нагая. Ее кожа как облако.
Катятся дни. Идут месяцы. Проходит год. Улицы пусты. Руки играют тростью. Серебро блестит. Небо всей тяжестью лежит на земле. Под ногами бело. Снег скрипит. Он идет по аллее. На снегу лежит ветка. Кричит ребенок. Ветка как щипцы для пыток.
Он сидит в кресле. Темно. Он пьет. Вино — старая кровь. Темнота вползает в поры. Темнота истязает. В камине горит красный огонь. Рядом в белой стене — трещина. Он сбивает каблуком штукатурку. Проступают каменные глыбы. Он встает и выходит. Он хлыстом запарывает насмерть собак.
Близится час. Он дает бал. Зал шумит. Столы ломятся. Огни мигают на лицах. У женщин круглые плечи. Мужчины смеются. Тени летают по стенам. Кто-то проржал скабрезность. Он целует. Она рывком распахивает платье. Вино разливается по столу. Кровь высыхает. Он вскакивает. Он торопится уйти. Он вскачь мчится по улицам. Дома свистят. Башни взлетают в небо со скоростью стрел. Улица опускается. Дома сдвигаются вплотную. Они преграждают ему путь. Он пробивается и врывается в зал. Жертвенная чаша разбита. Окна глядят на него во все глаза. Пол покрыт мертвыми летучими мышами. Он ждет. Его губы дрожат. Палач не приходит. Он крадется назад. Небо — холодный сланец. Его дом бледен. Его жена спит. Она лежит тихо. Ее волосы как золото. Он поднимает факел. Огонь разливается по белому телу. Кровать — деревянная кобыла для пыток. Кто-то стонет. Кровь красная.
Он сидит. Он молчит. Свет очень яркий. Люди проходят мимо окна. Судьи говорят. Он встает. Судьи вещают.
Коридор уводит все ниже. Он узок. Пол каменный. Стены — глыбы камня.
Открывается какая-то дверь. Комната четырехугольная. Огонь тянется языками ему навстречу. Воздух мокрый. От угла отделяется какая-то тень. Щипцы поднимаются из огня. Тень приближается. Он вскрикивает. Это палач.
Он прикован к полу. Его рот ревет. Каменный потолок падает. Воздух забивает поры. Гири — стонущие земные шары. Застенок — вселенная. Вселенная — мука. Палач — Бог. Он пытает.
Человек кричит:
— Почему ты не пришел?
Бог смеется:
— Зачем мне становиться опять человеком?
Человек стонет:
— Зачем меня мучаешь?
Бог смеется:
— Мне тени не нужно.
Человек умирает.
Колбаса
Человек убил жену и пустил ее на колбасу. Преступление обнаружилось. Человека арестовали. Одна из колбас еще нашлась. Возмущение было велико. За дело взялся верховный судья страны.
Зал суда светлый. В окна врывается солнце. Стены — яркие зеркала. Люди — бурлящая масса. Они заполнили зал. Они сидят на подоконниках. Они висят на люстрах. Лысина прокурора горит справа. Она красная. Защитник слева. Его очки — слепые стекла. Обвиняемый сидит посредине между двумя полицейскими. Руки у него большие. Кончики пальцев — синие. Надо всем царит верховный судья. Мантия на нем черная. Борода его — белый флаг. Глаза у него строгие. Лоб его — ясность. Брови его — гнев. Лицо его — человечность. Перед ним колбаса. Она лежит на тарелке. Над верховным судьей восседает Справедливость. Глаза у нее завязаны. В правой руке у нее меч. В левой — весы. Она из камня. Верховный судья поднимает руку. Люди молчат. Волнение замирает. В зале тишина. Время наготове. Прокурор встает. Его живот — земной шар. Его губы — гильотина. Его язык — топор гильотины. Его слова молотом стучат в зал. Обвиняемый вздрагивает. Судья слушает. Между бровями — отвесная складка. Его глаза как солнца. Их лучи попадают в обвиняемого. Тот оседает. Его колени трясутся. Его руки молятся. Его язык висит. Его уши оттопырены.
Колбаса перед верховным судьей красная. Она безмолвствует. Она набухает. Концы у нее круглые. Веревочка на краешке желтая. Она неподвижна. Верховный судья глядит сверху вниз на подлейшего из людей. Тот мал ростом. Кожа у него дубленая. Рот у него как клюв. Глаза — булавочные головки. Лоб плоский. Пальцы толстые. Колбаса пахнет приятно. Она придвигается ближе. Оболочка шершавая. Колбаса мягкая. Ноготь оставляет в ней лунку. Колбаса теплая. Форма у нее пышная. Прокурор молчит. Обвиняемый поднимает голову. Его взгляд — как у замученного ребенка. Верховный судья поднимает руку. Защитник вскакивает. Очки пляшут. Слова прыгают в зал. Колбаса пускает пар. Пар теплый. Открывается складной ножичек. Колбаса брызжет соком. Защитник молчит. Верховный судья видит обвиняемого. Тот далеко внизу. Он — блошка. Верховный судья начинает говорить. Его слова — мечи Справедливости. Они падают на обвиняемого как горы. Его фразы — веревки. Они бичуют. Они душат. Они убивают. Мясо нежное. Оно сладкое. Оно тает как масло. Оболочка несколько жестче. Стены гудят. Потолок сжимает кулаки. Окна скрежещут. Двери шатаются в петлях. Городские стены топают ногами. Город бледнеет. Леса высыхают. Воды испаряются. Земля дрожит. Солнце умирает. Небо рушится. Обвиняемый проклят. Смерть открывает свою пасть. Ножичек ложится на стол. Пальцы липкие. Они приглаживают черную мантию. Верховный судья молчит. Зал мертв. Воздух тяжелый. Легкие наполнены свинцом. Люди дрожат. Обвиняемый прилип к стулу. Он проклят. Ему разрешено высказать последнюю просьбу. Он съежился. Просьба выползает из его мозга. Она мала. Она растет. Она становится великаном. Она сжимается в ком. Она принимает форму. Она разжимает губы. Она врывается в зал суда. Она звучит. Останки своей бедной жены убийца-садист хочет съесть: эту колбасу. Отвращение вскрикивает. Верховный судья поднимает руку. Люди умолкают. Верховный судья как Бог. Его голос — последний трубный глас. Он удовлетворяет просьбу. Проклятому разрешается съесть эту колбасу. Верховный судья смотрит на тарелку. Колбасы нет. Он молчит. Душная тишина. Люди смотрят на верховного судью. У проклятого большие глаза. В них стоит вопрос. Вопрос этот ужасен. Он вливается в зал. Прикипает к стенам. Пристраивается вверху на потолке. Захватывает каждого. Мир становится огромным вопросительным знаком.
Сын
Один хирург, прославившийся не только как главный врач знаменитой клиники, но и своими научными исследованиями и снискавший всеобщую любовь благотворительной помощью бедным, на вершине своей карьеры, к изумлению и огорчению друзей и коллег, бросил работу, поместил во всех газетах страны брачные объявления, самым тщательным образом изучил многочисленные предложения, побывал во всех публичных домах города, вступал с каждой девкой в долгие разговоры, вникал в характер и обстоятельства любой встречной женщины, вызывая повсюду столь странным поведением — ведь он слыл холостяком строгого нрава — недоумение и осуждение, стал наконец добиваться расположения одной восемнадцатилетней красавицы, дочери богатого фабриканта, сделал ее, несмотря на величайшую антипатию с ее стороны, беременной, заманив ее в свой дом и грубо там изнасиловав, сына же, которого она под единоличным его наблюдением родила в его частной клинике, — сына он сразу после рождения, невзирая на то что молодая женщина умерла от сильного кровотечения, стремглав отвез на автомобиле в построенную им в пятидесяти километрах от города в заросшем парке виллу, где без посторонней помощи, даже без няньки, воспитал его особым образом: ходил при нем всегда нагишом, исполнял любое его желание, но не просвещал его насчет добра и зла и так ловко оберегал его от всякого общения с людьми, что сын полагал, будто он и отец — единственные люди на свете, а дальше парка ничего нет, пока отец не привел к нему шлюху из какого-то заурядного борделя, после чего сын, которому только что минуло пятнадцать, голый, в чем мать родила, покинул дом, но уже через час вернулся за одеждой, чтобы через сутки, с кровью на руках и лице, так как он, недолго думая, убил человека, отказавшегося накормить его безвозмездно, бежать от преследовавших его по пятам полицейских и собак, назад к отцу, который, ничего не спрашивая, принял его, отогнал пулеметом полицию, укрылся, когда та снова начала бой, в одной из комнат бок о бок с сыном самым отчаянным образом, несмотря на то что полуразрушенная ручными гранатами вилла была охвачена пламенем, отбивался от превосходящих сил противника, снова и снова обращая нападавших в бегство и покрывая трупами землю, — пока сын, тяжело раненный раздробившей ему плечо пулей, задыхаясь в углу комнаты от валившего в нее дыма и на чем свет кляня отца, не упрекнул его в том, что тот превратил его в изверга и люди неведомо почему преследуют его как дикого зверя и травят псами, после чего отец глазом не моргнув пристрелил сына.
Старик
Стаи танков шли из-за холмов так мощно, что сопротивляться никакой возможности не было. Тем не менее люди сражались, может быть, они верили в чудо. Разделившись на группы, они врылись в землю. Некоторые сдались, большинство погибло, и лишь немногие ушли в леса. Потом бой прекратился так внезапно, как иногда прекращаются грозы. Кто остался жив, бросили оружие и побежали с поднятыми руками навстречу врагу. Ужас парализовал людей. Чужие солдаты распространились по стране как саранча. Они входили в старые города. Они тяжело шагали по улицам и с наступлением темноты загоняли людей в дома. Через деревни катились тяжелые бронированные машины, часто прямо сквозь хижины, которые валились на них, ибо в деревнях сопротивление еще не погасло. Это было сопротивление, теплившееся втайне, в уголках глаз мальчиков, в спокойных движениях стариков, в поступи женщин. Это было сопротивление, отравлявшее воздух, и чужеземцы дышали как в краю, где вспыхнула эпидемия. Из лесов выходили мужчины, то поодиночке, то группами, и снова исчезали в непролазных чащах, куда ни один чужеземец не осмеливался следовать. Еще не было столкновений с врагом, но людей, сотрудничавших с ним, находили мертвыми. Потом было восстание. Юнцы и старцы бросались со старыми ружьями на врага, который ударил так, словно очнулся от страшного сна. Видели женщин, которые нападали на врага, вооружившись вилами и косами. Ночь и день длилась борьба, потом восстание обессилело. Деревни были оцеплены, жители согнаны вместе и скошены пулеметами. Горящие леса несколько недель освещали ночи.
Потом стало тихо, как становится тихо в могиле, когда земля покрывает гроб. Люди ходили как ни в чем не бывало. Они похоронили мертвых. Крестьянин вернулся к плугу, ремесленник — в свою мастерскую. Но глубоко внутри у них окрепло то, чего они прежде не знали: это была ненависть. Она целиком завладела ими, наполнила их пылающей силой и определяла их жизнь. Это была не дикая, нетерпеливая ненависть, которая должна спешить действовать, чтобы продолжать жить, это была ненависть, которая могла и ждать, хоть годы, которая таилась у них в глубине, не выходя на поверхность, стала их естеством, не рвалась наружу, а как меч вонзалась в душу, но не для того, чтобы уничтожить ее, а для того, чтобы закалить своим жаром. Но как доходит до нас свет звезд, движущихся далеко-далеко, так и ненависть эта дошла до того, что обрела некий облик, маячивший где-то вдали, в темноте, невидимый, как многие облики бездны, они не знали о нем ничего определенного, кроме того, что от него исходили все муки ада, на них обрушившиеся, и ненависть угнетенных сосредоточилась на этой фигуре, которую они называли Стариком, до такой степени, что чужеземные солдаты стали им безразличны и часто казались смешными. Чутьем ненависти они чувствовали, что эти люди, похожие друг на друга в своих мундирах, стальных шлемах и коротких тяжелых сапогах, мучили их не от жестокости, а потому, что были целиком во власти Старика. Эти солдаты действовали как безвольные орудия, без свободы, без надежды, без цели и страсти, потерявшиеся в чужой стране, среди людей, презирающих вторгшегося в их страну чужеземца, как презирают орудия пытки или как считают позорным ремесло палача. Все находились под страшным гнетом. Он сковывал угнетенных и угнетателей одной цепью, как рабов на галере, и законом, правившим ими, была власть Старика. Люди озлобились друг на друга, человечности среди них не было и в помине, и чем сильнее народ ненавидел, тем больше ожесточались чужеземные солдаты. Они истязали женщин и детей, чтобы не чувствовать мук, которые приходилось терпеть им самим. Все было необходимо, как все необходимо в книгах по математике. Вражеская армия была огромной сложной машиной, давившей и раздавливавшей страну, но где-то должен был находиться мозг, который управлял ею, преследуя свои цели, человек из плоти и крови, которого можно было ненавидеть от всей души, и человеком этим был Старик, говорить о котором они осмеливались лишь шепотом и только среди своих. Никто его никогда не видел, они никогда не слышали его голоса, не знали даже его имени, под жестокими распоряжениями, на них сыпавшимися, стояли подписи безразличных генералов, которые подчинялись Старику, понятия о нем не имея, и, может быть, воображали, что действуют по собственному разумению.
То, что покоренные знали о Старике и его ненавидели, было их тайной силой, их преимуществом перед чужеземцами. Чужеземные солдаты не питали к Старику ненависти, они ничего не знали о нем, как ничего не знают о человеке, которому должны служить, части машины, не питали они ненависти и к угнетенному ими народу, но чувствовали, что тот становится все сильнее в своей ненависти, направленной против чего-то, чего они не знали, но с чем были, видимо, связаны какой-то таинственной связью. Они видели, что народ относится к ним со все большим презрением, и становились все беспощаднее и беспомощнее. Они не знали, что они творят и почему находятся среди чужих людей, ненавидящих их упорной, смертельной ненавистью. Что-то было над ними, обращавшееся с ними так, как обращаются с натасканными животными. Так и влачили они свои дни, словно призраки, бродящие в долгие зимние ночи.
А надо всеми, над чужеземными солдатами, над крестьянами и над жителями старых городов, день и ночь кружили огромные серебряные птицы, подчинявшиеся, как считал народ, непосредственно Старику. Кружили они так высоко, что гул их моторов был слышен лишь изредка. Время от времени они, как коршуны, срывались с высот, чтобы обрушить свой смертельный груз на деревни, которые вспыхивали под ними красным огнем, или на собственные колонны, выполнявшие приказы недостаточно быстро.
Но вот ненависть покоренных достигла той высочайшей степени, когда даже слабые люди оказываются способны на подвиги, и одной молодой женщине удалось найти того, кого она ненавидела больше всех на свете. Мы не знаем, как она добралась до него. Мы можем только предположить, что сильнейшая ненависть дает человеку дар ясновидения и делает его неприступным. Она пришла к нему, не встретив никаких помех ни с чьей стороны. Она застала его одного в маленьком старинном зале с распахнутыми окнами, через которые лился солнечный свет и врывался птичий щебет, где по стенам стояли старые книги и бюсты мыслителей. Ничего из ряда вон выходящего здесь не было и не указывало на то, что он должен быть в этом зале, и все же она узнала его. Он сидел склонившись над большой картой, огромный и неподвижный. Он встретил ее спокойным взглядом, положив руку на шею большой собаки, сидевшей у его ног. В этом взгляде не было ничего угрожающего, не было и вопроса, откуда она пришла. Она остановилась и поняла, что ее карта бита. Но она все-таки вынула револьвер из складок своего платья и направила его на Старика. Тот даже не улыбнулся. Он невозмутимо смотрел на женщину и наконец, поняв, протянул руку немного вперед, как мы это делаем с детьми, когда они хотят чем-то нас одарить. Она приблизилась к нему и вложила оружие в его открытую руку, которая тихо взяла револьвер и медленно положила на стол. Все эти движения совершались как-то бесшумно, и во всем происходившем было что-то ребяческое, но в то же время все было пугающе нелепо и несущественно. Затем он опустил глаза и взглянул на карту, словно уже забыв все случившееся. Она хотела убежать, но тут Старик заговорил.
— Вы пришли убить меня, — сказал он. — То, что вы хотите сделать, совершенно бесполезно. Нет ничего более незначительного, чем смерть.
Он говорил медленно, и голос его был благозвучен, но своим словам он не придавал, казалось, никакого значения.
— Откуда вы? — спросил он затем, не отрывая взгляда от карты, и, когда она назвала город, он после долгой паузы, во время которой тщательно рассматривал карту, заметил, что этот город будет разрушен, поскольку он помечен красным крестом. Затем он умолк и стал проводить по карте длинные линии, вдоль и поперек. Линии он проводил тяжелые, фантастические, со странными, прихотливо-симметричными закруглениями, заставляющие вглядываться в себя, но ничего, кроме замешательства, не вызывающие. Она стояла в нескольких метрах от него и глядела на огромную темную массу, склонившуюся над картой. Она стояла на вечернем солнце, которое покрывало и Старика мягким золотом. Он не обращал внимания ни на солнце, ни на женщину, хотевшую его убить и не сумевшую. Он был в пустоте, там, где уже нет никаких связей и никакой ответственности перед другими. Он не питал к людям ненависти, не презирал их, он их не замечал, и женщина почувствовала, что тут-то и кроется корень его власти. Так стояла она перед ним как осужденная, неспособная ненавидеть его, и ждала причитавшейся ей смерти от его рук. Но потом женщина поняла, что он забыл ее и ее поступок и она может уйти куда угодно, но что это и есть его месть, которая страшней и губительней смерти. Она медленно пошла к двери.
Тут злобно залаяла черная собака у его ног. Женщина обернулась к Старику, и он поднял глаза. Его рука взяла револьвер, которым она хотела убить его. Потом она увидела револьвер у него на ладони, протянутой к ней. Так, одним нечеловеческим жестом, бесконечно унизительным для нее, он навел мост над бездной между ними и раскрыл самую суть своей власти, обреченной в конечном счете на гибель, как все вещи, суть которых абсурдна. Она посмотрела ему в глаза, глядевшие на нее без насмешки и без ненависти, но и без доброты и не подозревавшие, что он вернул ей все, что у нее отнял, ее ненависть и силу его убить. Она спокойно взяла из его руки оружие и, стреляя, почувствовала ту ненависть, которую люди питают подчас к Богу. Он еще аккуратно положил на стол карандаш, которым водил по карте, а потом медленно упал, как сваленный дуб-исполин, и собака спокойно облизала лицо и руки мертвеца, не обращая ни малейшего внимания на женщину.
Образ Сизифа
По воле случая я оказался этой зимой в одной деревне французской Швейцарии, но дни, прожитые там в одиночестве, запомнились мне смутно. Я, правда, ясно вижу пологие белые холмы, но немногочисленные хижины призрачно слились в какое-то нагромождение лестниц, коридоров и неуютных комнат, по которым я мечусь туда-сюда. Только одно впечатление этих потерянных недель осталось в моей душе — так еще долго стоит у нас перед глазами яркое пятно, когда в них внезапно ударит солнце. Тогда я с какой-то угловатой лестницы, терявшейся где-то в темноте, заглянул через полузамерзшее окно в ярко освещенную комнату, где все происходило отчетливо, но совершенно беззвучно. Поэтому каждая подробность осталась у меня в памяти, и я мог бы назвать цвета одежды, которая была тогда на детях, особенно запомнился мне огненно-красный, с золотым шитьем жакет одной светловолосой девочки. На круглом столе дети строили большой карточный дом, и было интересно наблюдать за их необычайно осторожными движениями. А потом, достроив до конца, они стали уничтожать сделанное. Разрушили они, однако, свою постройку не резкими движениями, как я ожидал, а тщательно снимая карту за картой, пока, после больших усилий, точно соответствовавших затраченному на постройку труду, карточный дом не исчез. Это странное зрелище напомнило мне о гибели одного человека, жившего давным-давно. Когда я из укрытия смотрел на детей, за мирной картиной, представшей мне в комнате, возникала как бы другая картина, темнее и редкостней первой, но все же ей родственная, сначала расплывчато, потом все отчетливей, и, как явленный тайным заклинанием мертвец, в мое сознание, вызванный игрой детей, вошел тот несчастный, о ком я так долго боялся думать, — вошел не страшно, а в смягчающем сумеречном свете воспоминания, однако с четким контуром, ибо он предстал мне вдруг зримо. Как забрезживший день иногда открывает нам сначала линии горизонта, а потом отдельные предметы, так и в моей памяти постепенно всплывали разные черты этого человека.
Проснулись во мне и темные подозрения, связавшиеся с его личностью. Припоминаю, что лежавшие на столе карты напомнили мне тогда о слухе, приписывавшем ему тайную страсть к игре. Я долго считал это легендой, приставшей, как многие другие сплетни, к этому странному человеку, не подозревая об ужасной иронии, определявшей его поведение. Меня тогда сбивало с толку то обстоятельство, что он окружал себя вещами, мгновению не подвластными, однако меня должны были бы насторожить его речи, а он любил повторять, что смыслит в искусстве больше всех нас, оттого что он весь во власти мгновения и потому может созерцать произведения искусства так же спокойно, как мы — звезды. Кажется мне сегодня существенным и то, что даже его имя вылетело у меня из головы, хотя смутно припоминаю, что студенты называли его «Краснопальтишник». Как он приобрел это прозвище, если оно у него и впрямь было, я уже не помню, возможно, какую-то роль тут сыграло его пристрастие к красному цвету.
Как то часто бывает с людьми, обладающими большой властью над другими, в основе его власти лежало какое-то скрытое преступление, принесшее ему огромное состояние, о котором ходили фантастические слухи. Такие преступления редко совершаются от собственной подлости, они — необходимое орудие подобных людей, которые с их помощью влезают в общество, куда им доступ закрыт.
Преступление Краснопальтишника было странным, как все, что он совершал, и странно было то, как он потом погиб, но не скрою, мне сейчас трудно мысленно восстановить без изъянов всю цепь событий, приведших к его гибели. Дело тут, видно, в природе памяти, представляющей нам теперь пережитое когда-то во времени лишь с внешней стороны и вне времени, и отсюда наше чувство неуверенности: мы ощущаем тайное несоответствие между запомнившимся нам и происшедшим в действительности. Да и никогда не помним мы всех эпизодов той или иной истории одинаково отчетливо, одни прячутся в непроницаемом мраке, другие ярко сияют, поэтому мы часто путаем последовательность отдельных моментов, располагая их по степеням яркости и тем самым невольно отклоняясь от действительности. В таком призрачном свете предстает мне и та ночь, когда я впервые ощутил силу водоворота, которому суждено было унести в бездну Краснопальтишника.
Мы собрались тогда в конце осени у одного из богатейших и несчастнейших людей нашего города, человек этот умер лишь несколько лет назад в крайней нищете. Ясно вижу, как вхожу с врачом, лечившим меня тогда во время моей тяжелой болезни, в боковую комнатку со странным сводом, стены которой приглушали шум праздника, превращали его в таинственную музыку. Сдается мне также, что мы вели тогда очень обстоятельный разговор, отвечавший натуре моего собеседника, и я старался опровергнуть один упорно повторявшийся довод, состоявший из какого-то любопытного утверждения, которое выпало у меня из памяти. Это был утомительный диалог, шедший по безнадежному кругу. Мы умолкли лишь тогда, когда увидели висевшую на стене картину в тяжелой раме с табличкой, на которой я прочел имя голландца Иеронима Босха[1]. Мы с изумлением рассматривали эту маленькую картину, написанную на дереве и изображавшую ад со всеми его самыми ужасными и самыми тайными муками, встревоженные странным распределением красной краски. Мне казалось, что я гляжу на пылающее море огня, языки которого принимали все новые и новые неисчислимые формы, и лишь постепенно я уловил законы, лежавшие, по-видимому, в основе этой картины. Прежде всего испугал меня тот факт, что мой взгляд, направляемый ухищрениями загадочного художника, то и дело возвращался к почти скрытому несметной толпой казнимых голому человеку, который вкатывал огромный камень на холм, грозно высившийся на заднем плане над морем темно-красной крови. Изображен мог быть только Сизиф — по преданию, хитрейший из смертных. Я понял, что здесь центр картины, вокруг которого, как вокруг солнца, все вертится. Одновременно, однако, я почувствовал, что картина старого мастера передает судьбу Краснопальтишника, как бы иероглифическими письменами, расшифровать которые я тогда не сумел бы. Возможно, что подозрение это пробудили красные массы краски, но оно перешло в полную уверенность, когда в комнату вместе с хозяином дома, банкиром, вошел Краснопальтишник. Они вошли, не разговаривая, не в маскарадном наряде как большинство, а в вечерних костюмах, с совершенным спокойствием двух светских людей, но взгляд у обоих был неподвижный. Я понял, что между ними произошло что-то ужасное, сделавшее их смертельными врагами и каким-то неведомым мне образом связанное с этой картиной.
Все продолжалось, однако, лишь несколько мгновений. Банкир ушел с врачом назад в зал, а Краснопальтишник втянул меня в странный и темный разговор о Сизифе, захватывавший все более и более грозные области, куда обычно не хочется забредать мыслями; за его речами к тому же пылал, казалось, тот фанатизм, который встречается у людей, готовых пожертвовать миром ради своей идеи. Хотя в памяти у меня сохранились лишь части нашего разговора, сказанное им, помню, убедило меня в том, что гнала его к этой старой картине, с которой он во время нашей беседы не спускал глаз, какая-то сильная и странная любовь. Я лишь смутно припоминаю некоторые намеки насчет возможности таинственных параллелей между мукой Сизифа и сущностью ада. Еще он насмешливо говорил о присущей адским мукам иронии, которая как бы пародирует вину грешника, тем самым ужасающе удваивая его мучения.
Остальное из этого разговора забылось словно тяжелый сон, не помню уж, как мы разошлись; от праздника, длившегося до позднего утра, в памяти у меня остались только напоминавшие кобольдов черные и ярко-желтые маскарадные костюмы, какие тогда носили танцовщицы.
Потом, вынужденный из-за своей болезни рано уйти, я задолго до конца праздника отправился в обществе врача к своему дому — сквозь густой туман, вспыхивавший иногда белыми отблесками; пространственные соотношения тоже были нарушены, и мы двигались словно в каком-то погребе, куда проникли тайком. Чувство непосредственной опасности усиливалось тем, что впереди все время маячила фигура человека, которого мы упорно пытались догнать, предполагая в нем Краснопальтишника, давно уже вызывавшего все больший интерес у врача. Но наши попытки неизменно терпели неудачу оттого, что фигура эта всякий раз вела себя иначе, чем мы ожидали, так что мы все время как-то жутковато обманывались. Когда мы так шли, боязливо вглядываясь в шагавшего впереди, который то исчезал, то вдруг опять появлялся совсем рядом, врач стал очень тихо, словно боясь, что его услышат, рассказывать мне о Краснопальтишнике. Основой его рассказа было то обстоятельство, что Краснопальтишник, как узнал врач, не раз пытался завладеть вожделенной картиной, но уходил ни с чем, ибо самые заманчивые предложения банкир отвергал. В связи с этим врач высказал предположение, которого поначалу не стал объяснять подробнее, что Краснопальтишник прибегнет к любому средству и даже не остановится перед преступлением, чтобы заполучить картину с Сизифом. Я постарался успокоить его, и еще сейчас помню, как досадовал на то, что каждый разговор с врачом оборачивается какой-то неопределенностью, потому что он никогда не ссылался на реальные вещи, а всегда шел окольными путями темных предположений и догадок. Врач, о котором я и сейчас вспоминаю с величайшей благодарностью, обладал феноменальной способностью угадывать сомнительную сторону любого явления, он любил обнажать связь событий только тогда, когда они уже приближались к бездне. Обезоружил он меня прежде всего тем аргументом, что много лет назад Краснопальтишник уже владел этой картиной, он купил ее за бесценок у старьевщика и перепродал за огромную сумму, есть и причины полагать, что когда-то он был очень беден. Со смехом, который сегодня все больше и больше кажется мне саркастическим, врач, проводивший меня до дому, заметил на прощанье, что надо бы мне прислушаться к толкам, способным, пожалуй, пролить некоторый свет на темное прошлое Краснопальтишника. Утверждают, будто в юности он был весьма талантливым художником, и не исключено, что деньги, вырученные за ту старую картину, оказались причиной, по которой он бросил искусство, есть даже какие-то признаки, подтверждающие такое мнение.
Итак, разговор этот кончился мрачным предзнаменованием, тем более что обострение болезни надолго заперло меня в моей комнате. Тогдашним своим строго замкнутым образом жизни и объясняю я то, что так долго ничего не слыхал о жестокой борьбе, начавшейся между Краснопальтишником, которому тогда исполнилось шестьдесят лет, и банкиром из-за картины. Врач тоже долго молчал, чтобы не тревожить меня.
То была схватка двух противников, любящих действовать тайно, когда все средства дозволены. Это была долгая и осторожная борьба, фантастическая лишь тем, что шла из-за картины, борьба, которая велась самым тонким и тайным оружием, где каждая атака и каждое отступление тщательно продумывались и каждый шаг мог принести гибель, борьба, проходившая в вечно полутемных конторах, в приемных департаментов и плохо отапливаемых канцеляриях, в комнатах, где говорить осмеливаются только шепотом и где творятся те вещи, о которых до нас нет-нет да и доходят лишь неопределенные слухи, как обо всех делах, вершащихся втайне и не отражающихся на лицах тех, кто участвует в них самым смертельным образом. Да и противники они были равные, если иметь в виду предельную решимость, которая и обусловливает форму этой борьбы, однако у Краснопальтишника было преимущество первого хода, в таких ситуациях обычно решающее. К тому же в этой призрачной дуэли ему выпала роль нападающего, а банкир всегда пребывал в обороне и в невыгодном положении еще и оттого, что движущей силой его действий было тщеславие, не позволявшее ему отступиться от картины и тем самым спастись, а в Краснопальтишнике демоническую тягу к картине рождала темная сила, питаемая самим злом и потому способная действовать неустанно. Много лет тянулся этот поединок крупного промышленника с крупным банком, натравливая друг на друга все новые тресты и вызвав наконец экономическую катастрофу, тянулся как медленная болезнь, неизбежно приводящая к смерти, и долго оставалось неясно, кто победит. Постепенно, однако, гигантский капитал банкира развалился, ибо Краснопальтишник действовал как те шахматисты, которые идут на любые потери ради крошечной выгоды, и, пожертвовав всем своим состоянием, сумел лишить состояния банкира и завладеть картиной.
Какие были у него причины обратиться ко мне, я предположить не решаюсь, но не могу сказать, что его приглашение было для меня неожиданностью, нет, я принял его как что-то неотвратимое.
Это была одна из моих последних прогулок по нашему городу незадолго до того, как мне пришлось покинуть его (при обстоятельствах, о которых расскажу позднее). Я долго шел по длинным улицам предместья, через рабочие кварталы, которые казались мне каким-то первобытным пейзажем — с их странной зубчатостью, глубокими ущельями и геометрическими тенями, резко очерченными на асфальтовых плоскостях. Была поздняя ночь, шатались только, изрыгая дикие песни, какие-то пьяные, и где-то шла драка с полицией. Потом я пришел к его дому, внизу у реки, окруженному прибрежными кустами, небольшими огородами и поднимающимися широким полукругом коробками доходных домов, — это было продолговатое здание, с разными крышами, составленное из четырех, неодинаковой высоты домов, стены между которыми были убраны и окна которых сейчас блестели при свете луны. Главный подъезд был распахнут, что меня встревожило, тем более что мне пришлось перелезть через опрокинутые кадки с растениями, чтобы в него проникнуть, однако внутри я поначалу не нашел беспорядка, которого ждал. Я прошел по огромным комнатам, освещенным только мерцавшей в окнах луной, угадывая на стенах бесценные картины и дыша запахом редких цветов, но везде, в серебристом сумраке, видел приклеенные ко всем предметам ярлыки описи. Пробираясь на ощупь дальше — электричество было отключено, и я напрасно щелкал выключателями, — я понял сущность лабиринта, скрывавшего в своих внутренностях момент величайшего ужаса, момент, который подготавливается постепенным, равномерным усилением страха и наступает тогда, когда мы сразу после резкого поворота натыкаемся на косматого Минотавра. Вскоре, однако, продвигаться стало труднее. Я вышел в те части здания, где были лишь маленькие, зарешеченные оконца, да и находились они высоко; к тому же ковры здесь были скатаны, а мебель сдвинута с мест. В этом возраставшем беспорядке я быстро заблудился. Мне показалось, что я несколько раз возвращался в одну и ту же комнату. Я стал кричать, чтобы обратить на себя внимание, но никто не отзывался, только один раз мне послышался смех вдалеке. Наконец, поднявшись по винтовой лестнице, я выбрался. Я вошел в какое-то чердачное помещение, подобие большого тока, как мне помнится, с балками повсюду, подпиравшими крышу, с разными площадками, которые, поскольку они были разной высоты, соединялись друг с другом закрепленными железными лестницами. Здесь тоже хозяин устроил все удобно и уютно, хотя назначение этого чердака было непонятно. Вдруг где-то в глубине, у брандмауэра, замерцал красный свет. Я с трудом облазил вверх-вниз несколько лестниц. Окон нигде не было видно, так что ничем, кроме огня в камине, помещение не освещалось, а огонь этот был неровный, он то вспыхивал, отчего все чердачные предметы, столбы, балки, мебель, четко выделялись, а по стенам и по крыше, которая была видна изнутри, плясали буйные тени, то почти угасал, оставляя меня где-нибудь на лестнице или на площадке в непроглядной темноте. Я все приближался к огню. Перелезши через беспорядочную кучу упавших книжных полок, я наконец вышел к камину. Возле него сидел старый, изможденный человек в рваной, грязной, мешковатой одежде, небритый, бродяга с виду, с лысой, освещенной пламенем головой, страшное существо, в котором я сразу узнал Краснопальтишника. На коленях, неотрывно на нее глядя, он держал ту самую картину голландца, на ее раме тоже была наклейка. Я поздоровался, и лишь через долгое время он поднял глаза. Сначала мне показалось, что он не узнал меня, да и не было уверенности, что он не пьян, ибо на полу валялось несколько пустых бутылок. Наконец он заговорил скрипучим голосом, но я уже не помню, с чего он начал. Вероятно, он бормотал что-то глумливое насчет своей гибели, утраченных богатств, фабрик, треста или о том, что он должен покинуть свой дом и наш город. Но то, что последовало потом, я понял лишь тогда, когда увидел, как те дети в комнате строили и с таким же усердием разрушали свой карточный дом. Он нетерпеливо похлопал себя по правому бедру худой, старой рукой.
— Вот я сижу в грязной одежде моей молодости, — вскричал он вдруг злобно, — в одежде моей нищеты. Я ненавижу эту одежду и эту нищету, я ненавижу грязь, я вылез из нее, и вот я снова увяз в этой трясине, — и запустил в меня бутылкой, которая, поскольку я увернулся, разбилась где-то сзади о стенку. Он несколько успокоился и посмотрел на меня странным, колючим взглядом. — Можно ли создать что-то из ничего? — спросил он выжидательно, и в ответ я недоверчиво покачал головой. Он грустно кивнул. — Ты прав, малый, — сказал он, — ты прав, — и вырвал картину из рамы и бросил ее в огонь.
— Что вы делаете?! — закричал я в ужасе и прыгнул к камину, чтобы вытащить картину из огня. — Вы сжигаете Босха!
Но он отбросил меня назад с такой силой, какой я от старика не ждал.
— Картина не подлинная, — засмеялся он. — Ты должен был бы это знать, врач это давно уже знает, он всегда все знает давно.
Камин опасно вспыхнул и обдал нас мерцающим багровым светом.
— Вы сами подделали ее, — сказал я тихо, — и потому захотели вернуть ее.
Он посмотрел на меня угрожающе.
— Чтобы из ничего создать что-то, — сказал он. — Деньгами, вырученными за эту картину, я нажил состояние, и если бы эта картина стала снова моей, я сотворил бы что-то из ничего. О, вот что такое точный расчет в этом жалком мире!
Затем он снова уставился в огонь и отупело сидел так в своей рваной, грязной одежде, бедный, как когда-то, серый нищий, неподвижный, потухший.
— Что-то из ничего, — шептал он снова и снова, тихо, едва шевеля бледными губами, не переставая, казалось, тикали какие-то призрачные часы. — Что-то из ничего…
Я печально отвернулся от него, пробрался ощупью через описанный за долги дом и, выйдя на улицу, не заметил, что к дому, откуда я вышел, вдруг со всех сторон бросились люди с широко открытыми от ужаса глазами, и заглянул я в эти глаза, кажется мне, только тогда, когда окно, через которое я много лет спустя смотрел на детей, на их карты, на их руки на круглом столе, совсем замерзло и только оконная рама, охватывавшая пустую плоскость, повисла передо мной в сумерках.
Директор театра
Человек, которому суждено было покорить город, жил среди нас и раньше, хотя мы еще не замечали его. Заметили мы его лишь тогда, когда он стал обращать на себя внимание своим, как нам казалось, смешным поведением, и в те времена он был всеобщим посмешищем. Однако он уже заведовал театром, когда мы заметили его. Смеялись мы над ним не так, как смеемся над людьми, потешающими нас своим простодушием или остроумием, а так, как порой веселимся по поводу какой-нибудь непристойности. Трудно, однако, объяснить, что вызывало смех в начале знакомства с ним, тем более что позднее ему выказывали не только раболепную почтительность — это, как свидетельство страха, нам было еще понятно, — но и искреннее восхищение. Странной была прежде всего его внешность. Он был маленького роста. Тело у него было, казалось, без костей, какое-то слизистое. У него не было ни волос, ни даже бровей. Он передвигался как канатоходец, боящийся потерять равновесие, бесшумными шажками, быстрота которых то и дело менялась. Голос у него был тихий и запинающийся. Вступая с кем-либо в разговор, он всегда направлял взгляд на неодушевленные предметы. Нельзя, однако, точно сказать, когда мы впервые заподозрили в нем зло. Может быть, это случилось тогда, когда на сцене стали заметны некоторые перемены, происшедшие по его милости. Может быть, но надо учитывать, что перемены в эстетике мы вообще-то еще не связываем со злом, когда они впервые обращают на себя наше внимание: мы думали тогда, собственно, скорее о какой-то безвкусице или потешались над его предполагаемой глупостью. Конечно, первые спектакли в нашем театре, им поставленные, еще не выделялись, как те, которым впоследствии суждено было прославиться, однако задатки, намекавшие на его замысел, были налицо. Так, уже в эту раннюю пору его постановки отличались тяготением к маскарадности и была уже в них та абстрактность конструкции, которая позднее так подчеркивалась. Эти черты, правда, не выпирали, но все-таки множились признаки того, что он преследовал определенную цель, которую мы чувствовали, но определить не могли. Он походил, пожалуй, на паука, готовящегося сплести огромную паутину, но действовал он с виду без плана, и эта-то бесплановость как раз, может быть, и подбивала нас смеяться над ним. Конечно, со временем я увидел, что он незаметно лез вперед, после его избрания в парламент в этом убедились все. Злоупотребляя театром, он совращал толпу в таком месте, где никто не ждал опасности. Но опасность эту я осознал лишь тогда, когда перемены на сцене достигли такой степени, которая обнажила тайную цель его поведения. Как в шахматах, погубивший нас ход мы увидели слишком поздно, когда он был уже сделан. Тогда мы стали спрашивать себя, что заставляло публику ходить в его театр. Мы вынуждены были признать, что ответить на этот вопрос непросто. Мы думали о злом инстинкте, толкающем людей в руки их убийц, ибо те перемены выдавали, что он стремился погубить свободу, доказывая ее невозможность, что его искусство было дерзкой атакой на смысл человеческого существования. Эта цель заставляла его исключать какую бы то ни было случайность и все тщательно обосновывать, отчего происходившее на сцене подчинялось железному закону. Особым образом обращался он и с языком, подавляя в нем те элементы, которыми отличаются друг от друга отдельные авторы, искажая тем самым естественный ритм, чтобы добиться однообразного утомительного такта поршней. Актеры двигались как марионетки, а сила, определявшая их действия, не пряталась где-то на заднем плане, а как раз и представала бессмысленным насилием, так что мы, казалось, глядели в машинный зал, где производилось вещество, которое должно уничтожить мир. Упомянуть надо здесь и о том, как он пользовался светом и тенями: они служили ему не для того, чтобы указать на бесконечные пространства и таким образом установить связь с миром веры, а для того, чтобы подчеркнуть конечность сцены: оригинальные кубические блоки ограничивали и задерживали свет, ведь он был мастером абстрактной формы; с помощью скрытых приспособлений избегали и любой полутени, отчего казалось, что действие происходит в тесных тюремных камерах. Он применял только красный и желтый цвета в огненном, режущем глаза сочетании. Самое дьявольское, однако, состояло в том, что каждая перипетия незаметно приобретала другой смысл и жанры смешивались, трагедия превращалась в комедию, а водевиль подделывался под трагедию. Поговаривали тогда и о восстаниях тех несчастных, что готовы были улучшить свою долю насилием, но все же мало кто верил слухам, что движущей силой этих событий был он. На самом же деле театр с самого начала служил ему только средством достичь той власти, которая позднее обернулась разгулом насилия. Мешало нам тогда разобраться во всем этом то обстоятельство, что дело актрисы принимало, на взгляд посвященных, все более угрожающий оборот. Ее судьба особым образом сплелась с судьбой города, и он пытался уничтожить ее. Но когда это его намерение стало ясно, его положение в нашем городе так укрепилось, что женщину эту постигла уготовленная ей жестокая участь, участь, которая грозила всем и отвратить которую были не в силах и те, кто раскусил, в чем суть его обольщений. Эта актриса была побеждена им, потому что презирала власть, олицетворением которой он был. Нельзя сказать, что она была знаменита до того, как он стал руководить театром, однако в театре она занимала положение хоть и невысокое, но прочное и, пользуясь всеобщим уважением, могла заниматься своим искусством без тех уступок, которые должны были делать публике другие, более целеустремленные и занимавшие более важное положение актеры. И знаменательно, что благодаря этому он и уничтожил ее, ибо он умел унижать человека, используя его достоинства.
Актриса не подчинялась его указаниям. Она не обращала внимания на перемены в театре, чем все заметнее отличалась от других. Но именно это наблюдение меня и тревожило, ибо он явным образом палец о палец не ударял, чтобы заставить ее следовать своим указаниям. В этом и состоял его план, чтобы она выделялась. Говорят, правда, что однажды, вскоре после того, как стал директором, он сделал какое-то замечание по поводу ее игры; но ничего достоверного об этом разногласии я так и не узнал. Однако потом он оставил ее в покое и не предпринимал ничего, чтобы выгнать ее из театра. Напротив, он все явственнее выдвигал ее на передний план, так что со временем она вышла в театре на первые роли, хотя такая задача была ей не по силам. Это-то и насторожило нас, ведь ее искусство и его трактовка были до такой степени противоположны, что казалось — спора не избежать и спор этот будет тем опаснее, чем позднее вспыхнет. Были и признаки того, что ее положение начало решительно изменяться. Если раньше игру ее публика восторженно, с бездумным единодушием хвалила (актрису считали его великим открытием), то теперь раздавались голоса тех, кто ругал ее, упрекал в том, что она не доросла до его режиссуры, и усматривал свидетельство редкого его терпения в том, что он все еще оставляет ее на главных ролях. Но поскольку особенным нападкам подвергалась ее верность законам классического актерского мастерства, под свою защиту взяли ее именно те, кто видел истинные недостатки ее игры, и эта злосчастная борьба, к сожалению, укрепила ее в намерении добровольно не уходить из театра: так бы ей еще, может быть, и удалось спастись, хотя город наш вряд ли уже был способен вырваться из его сети. Решительный поворот последовал, однако, только тогда, когда обнаружилось, что ее игра вызывает странную, несносную, вероятно, для актрисы реакцию у публики, состоявшую в том, что над ней тайком, а потом и во время спектакля стали посмеиваться; такую реакцию он, конечно, точно предвидел и всячески форсировал. Мы были ошеломлены и беспомощны. Этого жестокого оружия невольной комичности мы не ждали. Хотя актриса и продолжала играть, не было сомнения, что она это видела, полагаю даже, что она раньше нас знала о неизбежности своего краха. В ту пору была завершена работа, о которой в нашем городе давно уже шли толки и которую мы ждали с большим интересом. По поводу этой постановки существует много разных суждений, но, прежде чем высказать свое отношение к ней, я должен заметить, что мне и по сей день было бы непонятно, как он добыл средства на этот новый театр, если бы не заявило о себе одно подозрение, отмести которое я не могу. Но тогда мы еще не могли поверить слуху, связывавшему эту постройку с теми бессовестными кругами нашего города, которые всегда заботились только о своем беспредельном обогащении и против которых восставали те, на кого он тоже умудрялся влиять. Как бы то ни было, эта постройка, ныне, говорят, разрушенная, казалась каким-то кощунством. Говоря об этой постройке, представлявшей собой невероятную смесь всех стилей и форм, нельзя, однако, отказать ей в каком-то великолепии. В этом здании не было ничего живого, что может иногда выразить косная материя, если она преображена искусством, наоборот, всячески подчеркивалась мертвость, вневременная, неподвижная тяжесть. И все это прямо-таки выпирало, обнаженно, бесстыдно, неприкрашенно, двери были железные, то огромные, исполинские, то вдруг приземистые, как ворота тюрьмы. Постройка казалась случайным циклопически неуклюжим нагромождением нелепых мраморных глыб, к которым ни с того ни с сего привалили тяжелые колонны. Но так только казалось, все в этой постройке было рассчитано на определенный эффект, направлено на то, чтобы подавить человека, подчинить власти чистого произвола. В противоположность этим грубым глыбам, этим диким пропорциям некоторые детали были отделаны вручную с точностью, как хвалились, до одной десятитысячной миллиметра. Еще страшнее было внутреннее помещение со зрительным залом. Он походил на греческий театр, но форма его теряла смысл, потому что над ним простирался странно изогнутый потолок, и поэтому, входя в этот зал, мы приходили как бы не на спектакль, а на какой-то праздник в чреве земли. Так дело и дошло до катастрофы. Мы ждали тогда спектакля с немым волнением. Мы сидели бледные, прижавшись друг к другу, расширявшимися кругами, и не отрывали глаз от скрывавшего сцену занавеса, на котором в виде какой-то карикатуры было изображено пригвождение к кресту. Это тоже воспринималось не как кощунство, а как искусство. Затем начался спектакль. Позднее говорили, что эту революцию учинили буйные силы улицы, но тогда в зале сидели как раз те жители нашего города, которые больше всех гордились своим лоском и своей образованностью, а в директоре театра чтили большого художника и революционера сцены, видели в его цинизме талант и ничего не подозревали, когда этот тип старался вырваться из восхищавшей их в нем эстетики в области вовсе не эстетические; да и при открытии нового театра, еще до начала спектакля, под овации праздничной публики сам президент вручал директору шекспировскую премию. Какое классическое произведение играли в честь открытия, был ли то «Фауст» или «Гамлет», я уж не помню, но, когда занавес с распятием открылся, режиссура оказалась такой, что этот вопрос потерял значение, прежде чем мог быть задан: ни с классикой, ни вообще с произведением какого-либо писателя не имело ничего общего то, что происходило теперь на наших глазах под частые и восторженные аплодисменты правительства, светского общества и университетской элиты. Ужасное насилие обрушивалось на актеров, как обрушивается на дома и деревья вихрь, чтобы свалить их и смять. Голоса звучали не по-человечески, а так, словно заговорили какие-то тени, потом вдруг, без всякого перехода, уподоблялись грохоту барабанов каких-то диких племен. Мы чувствовали себя в его театре не людьми, а богами. Мы любовались трагедией, которая на самом деле была нашей собственной. А потом появилась она, и я никогда не видел ее такой беспомощной, как в те мгновенья, что предшествовали ее смерти, но никогда и такой чистой. Если сначала, когда она вышла на сцену, толпа разразилась смехом — выход ее был так точно рассчитан, что должен был произвести впечатление неприличной остроты, — то вскоре этот смех превратился в ярость. Она казалась преступницей, посмевшей выступить против силы, которая хоть и все сокрушает, но зато прощает любой грех и отменяет какую бы то ни было ответственность, и я понял, что в этом-то и заключалась причина, соблазнявшая толпу отказаться от свободы и отдаться злу, ибо вина и искупление существуют лишь при свободе. Она заговорила, и голос ее был для них оскорблением тех жестоких законов, в которые человек верит тогда, когда хочет подняться на высоту Бога, упразднить добро и зло. Я разгадал его замысел и понял, что он задумал осуществить ее гибель у всех на глазах и с одобрения всех. План его был совершенен. Он открыл бездну, куда бросилась жадная до крови толпа, чтобы требовать все новых и новых убийств, потому что только так достигался тот пьяный угар, без которого нельзя не оцепенеть в бесконечном отчаянии. Она стояла среди озверевших людей как преступница. Я увидел, что есть страшные мгновения, когда совершается некий смертельный переворот и невиновный предстает людям виновным. Итак, наш город был готов присутствовать при этом преступлении, означавшем дикое торжество зла. С потолка над сценой спустилось какое-то приспособление. Это были, по-видимому, легкие металлические шесты и проволока с прикрепленными к ним зажимами и ножами, а также стальные штанги со странными сочленениями, связанные друг с другом каким-то особым образом и походившие на какое-то огромное неземное насекомое, причем заметили мы это приспособление только тогда, когда оно уже схватило женщину и подняло ее вверх. Как только это произошло, толпа разразилась неистовыми аплодисментами и криками «браво». Когда на актрису опускались и схватывали ее все новые зажимы, зрители покатывались со смеху. Когда ножи стали разрезать ее одежды и она повисла голая, из сгрудившейся массы вылетел возглас, который где-то, наверно, возник, который со скоростью мысли распространялся все шире, взмывал в бесконечность, снова и снова подхватывался и передавался дальше, пока все не слилось в один крик: «Убей ее!», и под рев толпы ножи расчленили ее тело так, что голова упала к зрителям, которые поднялись, схватили ее, мараясь кровью, и потом она перелетала от одного к другому как мяч. И когда люди, длинными извилистыми цепями по кривым улицам, повалили из театра, образуя заторы, топча друг друга, подбрасывая на ходу голову, я покинул город, где уже пылали яркие флаги революции, где люди, оцепленные его сбродом, бросались друг на друга как звери, где занимался новый день, покорный его порядку.
Западня
Впервые я почувствовал на себе его взгляд на улице, в толпе. Я остановился, но, обернувшись, не увидел никого, кто бы наблюдал за мной. Мимо меня двигались люди, которые обычно в конце дня заполняют улицы городов: дельцы, расходящиеся по гостиницам, влюбленные у витрин, женщины с детьми, студенты, проститутки, совершающие свой первый, еще нерешительный променад перед наступлением темноты, ученики, стайками выбегавшие из школ; но с этой минуты меня уже не покидала уверенность, что он следит за мной. Я часто вздрагивал, выходя из дому, ибо знал, что сейчас он покинул вход в подвал, где дотоле прятался, или фонарь, прислонившись к которому дотоле стоял, что сейчас он сложил газету, которую будто бы читал, готовый продолжить преследование, кружить около меня, а если я неожиданно остановлюсь, найти какое-нибудь новое укрытие. Я часто часами неподвижно стоял на одном месте или возвращался обратно, чтобы встретить его. Затем, правда, лишь через несколько недель, уже привыкнув к неясному страху, который он мне внушал, я начал ставить ему ловушки; дичь теперь сама стала охотником. Но он был ловчее меня и никогда не попадался на мой крючок, пока однажды случай не помог мне засечь его. Я быстро шел вниз в старой части города. Горели лишь редкие огни. Звезды светили со страшной яркостью, хотя уже близилось утро. Я вышел из аркад и, перейдя перекресток, остановился, смущенный туманом, вставшим прямо передо мною мутной и плотной стеклянной стеной, в которой, мерцая, тонули звезды. В этот миг промедления я впервые услышал его шаги позади себя. Они были совсем как мои и приспособлены так искусно, что я не отличил бы их от звука собственных шагов. Они были настолько близко, что я отчетливо представил себе фигуру, выходящую из-под свода аркады на более светлую улицу. Тут незнакомец отпрянул. Он увидел в тумане мои очертания. Он нерешительно стоял напротив меня в аркаде, но в тени его не было видно. Когда я медленно двинулся к нему, он резко повернулся, после чего я быстро зашагал к аркаде. Я надеялся увидеть незнакомца, когда он выйдет из темноты на свет горевшего чуть выше фонаря. Но, отступив в закоулок, кончавшийся какой-то дверью, он оказался из-за своего бегства в моей власти. Я слышал, как он натолкнулся на дверь и трясет ее, чтобы выйти из западни, а сам остановился у входа в его закуток. Он дышал тяжело и быстро.
— Кто вы? — спросил я.
Он не ответил.
— Почему вы преследуете меня? — спросил я снова.
Он промолчал. Так мы оба стояли, а снаружи уже поднимался рассвет в оседавшем тумане. Во мраке закоулка я медленно различил какую-то темную фигуру, обе руки на двери, как распятие. Однако я не мог войти в закоулок. Между мною и этим человеком, который, глядя в неясное утро, прижимался спиной к двери, лежала пропасть, и преодолеть ее я не осмеливался, потому что встретиться мы могли не как братья, а так, как встречает убийца свою жертву. И я оставил его и ушел, не заботясь о нем больше.
Пытаясь передать решающее событие его жизни, я могу ссылаться только на него, однако тогда я старался по тону его слов и по его жестам прочесть многое, о чем он умолчал в ту летнюю ночь, когда мне открылась его судьба. Он подошел под густыми деревьями к моему столику, куда огни города и большого моста прорывались через стволы, и, едва увидев его лицо, я понял, что смотрю в глаза человеку, который меня преследовал.
— Я обязан дать вам отчет, сударь, — начал он, садясь, — тем более, что не ответил, когда вы обратились ко мне.
Он заказал рюмку перно и осушил ее в один прием.
— Я преследовал вас, — продолжал он, — больше того, я прослеживал каждый час вашей жизни, я изучал ваши следы.
— Мои следы? — переспросил я в недоумении.
— Каждый оставляет следы. Мы — дичь, за которой гонятся и которую однажды убьют. Я изучал не только вас, не только как вы живете, что вы едите, что вы читаете, как вы занимаетесь своим делом, я наблюдал и за вашими друзьями.
— Чего вы хотите? — спросил я.
— Я хочу рассказать вам свою жизнь, — ответил он.
— И для того вы меня преследовали?
— Ну да, — засмеялся он. — Должен же я доверять тому, кому рассказываю свою жизнь. Я должен знать его как самого себя. Пойдемте.
Мы встали, и он продолжил свою речь. Странная была у него манера говорить. Он говорил, словно отбросив себя, равнодушно, иногда со смехом, но потрясал огромностью своего отчаяния. Мы пробыли вместе недолго, и все же он проник в меня так, что и сегодня врывается в мои сны. Тогда я вижу его лицо, которое странно менялось, пока мы шли по улицам нашего города: оно как бы разламывалось, как бы открывалось изнутри. Он не сказал мне, кто его мать и отец, умолчал и о своем занятии, фамилии его я тоже так и не узнал, но, по-видимому, он был высокопоставленный чиновник. Он объяснил мне, как был совращен, причем не женщиной, не деньгами, а только самим собой. Его победила смерть, которая была неотделима от него, как рука от туловища или глаза от лица, но он, верилось ему, владел ею так, как владеют картой, способной в нужную минуту решить игру. Однако карта эта была крапленая, ибо на самом деле он был одержим страхом смерти, проникшим в него так глубоко, что он полагал, будто любит то, чего в действительности боялся, и он был в отчаянии от неспособности преодолеть этот страх. Я видел его лоб и его руки, и я знаю, что ради смерти он никогда не отдавался радости. С юных лет он жил в решимости совершить самоубийство. Он изучал смерть, покупал оружие, приготовлял редчайшие яды, сконструировал себе гильотину. Он играл со смертью, пока не проиграл себя и его жизнь не стала ложью, а путем убийства он надеялся освободиться, уйти от страха, который и заставил его однажды утром бросить службу и пуститься на поиски места своей смерти.
Выйдя с намерением покончить с собой из теплого вагона с замерзшими окнами уже на исходе дня, он едва успел взглянуть на низкие холмы, ибо ночь наступила рано и быстро. Домишки возле маленькой станции походили в сумерках на спящих животных, на улицах лежал снег и желтый свет фонаря, и он побрел как во сне. Так началось время, когда он затерялся в маленькой пограничной деревне между холмами и рекой и жизнь его потонула в белых зимних днях, объявших его чудовищной тишиной. Он взбирался на холмы, ходил по пологим гребням вдоль раскинувшихся перед далекими горами плоскогорий с заснеженными ельниками и покинутыми деревнями. Он шагал часами в таинственной темноте, и ветер стремительно кружил около него по ночам. Ноги его шагали по стеклянному снегу, на который ложилась его большая синяя тень. Деревья чернели на фоне белого неба, и время от времени навстречу ему, щуря глаза, шел кто-нибудь закутанный в лохматую шубу, с раскрасневшимся лицом. Иногда он стоял на мосту у реки, которая мутно катилась внизу, неся лед и гнилушки. Или поднимался по зимней дороге, что шла на север, где вокруг него, задевая его крыльями, кружили черные птицы. Реже он бывал в деревне и наблюдал за людьми. Он останавливался тогда и мерз между далеко отстоявшими здесь друг от друга домами, деревня была без церкви и без кладбища, без центра, бесформенная. Он видел людей, недоверчиво таившихся в грязных норах. Деревня была полна чужеземцев, о которых никто не знал, откуда они явились и куда направляются, что у них на уме и на каких неведомых языках говорят они между собой. Они стояли среди улицы, широко расставив ноги, размашисто жестикулируя, в просторных клетчатых пальто, и на пальцах у них были золотые кольца со сверкающими бриллиантами. Часто пытались они перейти границу, подкупив стражей, которые сидели на своих постах или пили в укромной темноте буфетных, людей, показывавшихся в деревне лишь изредка, когда они, пьяные, ковыляли по улице к женщинам, которые лежали в чердачных каморках, похотливые, белые, облизываемые гладившей их тела луной. Выпадали и кровавые ночи. Они оглашались короткими сухими ружейными выстрелами, и он слышал крики, медленно затихавшие в лесах, но все это он отмечал как бы издалека, безучастно. Он думал о своей смерти, наслаждаясь ею все глубже, и плыл по течению. Он захаживал в лес, через который проходила граница. У елей были прямые стволы, а под снегом прятался белый мох. Сквозь стволы проглядывала скала, на которую он и влезал. У ног его расстилалась поляна и терялась в глуши зимнего леса. Иногда по ней легко и настороженно шагали косули или хищная птица парила к высоким елям, и по снегу пробегала тень, а ветер доносил из леса крик какого-то зверька. А однажды, перед самыми сумерками, из леска выскочил человек и поспешил куда-то по поляне, которая обдала его светлой белизной. Тишину прорезал выстрел. Человек раскинул руки и упал в снег, словно сваленный вихрем. Он лежал потом темной бесформенной грудой среди поляны, с зарывшимися в снег руками, а из него, разливаясь по чистому снегу, текло сначала черное, а под конец алое, и теперь он знал, что там, где лежал несчастный, как раз через его тело, проходила граница, которую сделал зримой кровавый круг вокруг мертвеца.
В последовавшую затем ночь он решил, что час его смерти близок. Он отправился в путь, но было уже светло, когда он добрался до поляны. На ветках висел лед, и, продираясь через последние кусты, он издалека увидел лежавшего мертвеца. Когда он вышел на поляну, ноги его утонули в снегу. За елками, невидимо для него, уже взошло солнце, ибо небо сияло от скользящего света. Холод проникал через пальто, через всю одежду, и болела кожа. Мертвец лежал в снегу ничком. Крови уже не было видно, и неподвижное тело подернулось стеклянной пленкой. Он стоял с опущенной головой над мертвецом и ждал пули из темных стволов. Он целый день простоял над трупом. Сырость пронизывала его насквозь. На мгновенья над поляной показывалось большое красное солнце, но тут же опять скрывалось за елками, выглядывало вновь и опять пряталось. Много часов простоял он в менявшемся свете, неподвижно, в жадном ожидании смерти, как друг, поджидающий друга. Затем ему показалось, что кто-то шагает по снегу. Когда он поднял глаза, напротив него, за чертой границы, по другую сторону тела стояла женщина.
— Кто ты? — спросил он.
— Я его жена, — ответила та, засмеялась и коснулась мертвеца ногой. Они постояли и помолчали.
— Ты не горюешь? — спросил он наконец.
— Нет, — ответила она. Затем она наклонилась и сняла кольцо с руки мертвеца, с трудом разжав ее. — Ему оно уже не нужно, — сказала она при этом.
— Откуда ты? — спросил он через некоторое время.
— Из деревни, — ответила она и указала за спину, туда, где по ту сторону границы находилась, он знал, деревня. — А ты что здесь делаешь?
Он сказал:
— Я хочу убить себя.
— Зачем? — спросила она.
— Потому что я люблю смерть.
— Ты палач? — засмеялась она.
— Ты права, — ответил он, — я палач.
Они взглянули друг на друга, два белых лица в сгущающихся тенях.
— Солнце заходит, — сказала она, — хочешь пойти со мной?
— Пойду с тобой, — ответил он и переступил через труп.
Она шла на несколько шагов впереди его. Лес по ту сторону границы был реже, но стволы здесь были еще мощнее и зверья было больше. Вдруг близко перед ним грянул выстрел, но она продолжала спокойно шагать вперед, и только позднее он заметил, что по лбу у него течет кровь. Когда они вышли из лесу, внизу показались огни и очертания деревни; они шагали между светом и тьмой. У ног их земля расстилалась длинными волнами, и два ворона с костяными клювами сопровождали их в сумраке. «Всегда здесь птицы, — думал он, — всегда они вьются надо мной, друзья моей души, птицы смерти».
Залаяли собаки, где-то заржала лошадь. Они дошли до чужой деревни. Дома теснились вокруг церкви, а на площади в сгущавшейся темноте торчал ветхий, развалившийся колодец. Он был покрыт льдом, отчего поверхность его походила на зеркало, однако, наклонившись над этой прозрачной плоскостью, он не увидел своего лица.
— Здесь никого нет? — спросил он, озираясь.
— Они в лесах, — сказала женщина и зашагала по снегу к какому-то дому.
Они поднялись по лестнице, которая шла по продольной стене; с крыши свисали мертвые сосульки, и дверь открылась с трудом.
— Дай мне руку, — приказала женщина, которую он уже не мог разглядеть в темных дверях. Она повела его в глубь дома, по коридорам и новым лестницам. Они шли в полном мраке, он не видел даже очертаний окон, ему казалось, что он проник в сердце Вселенной.
Дом был, видимо, старый, ибо доски, по которым он шагал, иногда шатались под его ногой. За спиной у него захлопнулась дверь. Женщина отпустила его руку, и он остановился в одиночестве. Он слышал ее шаги. Потом остановилась и она. Вспыхнула спичка, она зажгла свечу. Они находились в маленькой комнате. Окно было заколочено толстыми досками. В середине комнаты стоял большой грубый стол, на котором и горела свеча. У стола стоял стул, у стены — кровать, больше в комнате ничего не было, ни зеркала, ни картины, ни шкафа, везде, куда ни глянь, только старое дерево, голое, неотесанное, с волокнами, которые испещряли поверхности, как жилы, и сливались с его и ее тенями.
«Это комната, где я умру, — подумал он, — я знал, что она такая», — и посмотрел на женщину.
«Я хочу умереть с ней, — подумал он опять, — нет смысла уходить одному». — И он рассмеялся.
— Почему ты смеешься? — спросила женщина.
— Я смеюсь, потому что все так просто, — ответил он и умолк.
Он знал теперь, что делал всю свою жизнь, почему забрел в эту пустынную деревню на границе, в эту страну снегов и лесов, почему бросил все, что имел, — положение, доброе имя, деньги, — почему все время откладывал свою смерть. Он искал человека, с которым хотел умереть.
Когда ее дыхание успокоилось и ее тело, обессилев, оторвалось от его тела, он, мгновенно, как и она, уснув, увидел сон. Он находился на лестнице, спускавшейся в ночь. Лестница была широкая, и он не видел ни перил, ни чего-либо, что ее ограничивало, она казалась наклонной плоскостью, простирающейся во все стороны в бесконечность. Ступени были сложены из гранита, который был мокр. На маленьких ровных площадках, прерывавших лестницу, стояли лужи. Ночь над камнями висела беспросветная, вызывая у него ощущение, что он движется в полном мраке. Однако он различал ступеней пятьдесят выше и ниже себя, словно обладал глазами, способными видеть без света, что внушало ему тревогу. По лестнице скатывались люди, под ним, на той же высоте и над ним, в огромном количестве. Он был среди них как в потоке, волной среди волн, и знал, что с самого начала времени был частью этого потока, что путь его не мог быть ничем иным, как спуском вперед, в бездну. Он спускался по ступеням и через маленькие площадки все глубже и глубже, мимо фонарей, которые, не светя, косо вонзались в пустоту. С ним двигались вниз женщины, выжженные муками родов, с длинными космами растрепанных волос над тощими телами. Дети кричали резко и странно. Рядом с ним были мужчины, они вели непонятные речи, а руки их делали одни и те же круговые движения, как крылья мельницы. Он проходил мимо людей, которые, сложив руки, лицом к бездне сидели на ступенях, а потом вскакивали с громкими криками. Он шагал вниз без страха, как идут знакомой, привычной дорогой, но со временем почувствовал неуверенность из-за какой-то перемены внизу. В безмерной дали бездны, куда уходила лестница, он заметил далекий свет, который, по мере того как они спускались, делался ярче, но до сознания толпы еще не доходил; неколебимо, волна за волной, катились люди навстречу ему. Лишь изредка угадывал он страх, мелькавший в отдельных лицах. Так спускался он к усилившемуся свету, словно сквозь века, зачарованно вглядываясь в то, что ему медленно открывала бездна. По мере усиления света, поднимавшегося снизу, как красное облако, картина медленно менялась. Если до сих пор глазам его представала неясная толпа, которая тонула во мраке, так что отчетливо были видны только ближайшие, то теперь силуэты людей выделялись на фоне бездны с предельной резкостью. К тому же этот свет, вероятно, дал о себе знать и другим, ибо он видел, что иногда кто-нибудь, перестав двигаться вместе с массой, начинал подниматься вверх и никто его не задерживал. Все отчетливее вырисовывалось гигантское огненное озеро, в которое изливалась эта масса. Он видел, как в глубине поднимаются раскаленные пузыри газа и протуберанцы огненными цветками вздымаются из пены пылающей лавы. Снизу доносились крики и стоны, и он видел судорожно сжатые руки, с проклятьем протянутые к небу, которое нависало надо всем этим неподвижно, без солнца и луны, черной сутаной, прикрывающей горящую рану. Толпа, однако, не останавливалась в оцепенении, хотя и возрастало число тех, кто уходил вверх. С закрытыми глазами люди рядом с ним и над ним ускоряли шаг, захватывали с собой нижних и уносились вниз, навстречу все более громким воплям тех, которых уже лизнули языки пламени. Тут он с ужасом увидел, как кто-то рвется наверх, мощными руками разрезая встречный поток толпы. Когда этот человек беззвучно пробегал мимо него вверх, ему показалось, что он видит обуглившиеся одежды и покрытые ожогами руки и ноги. Он был потрясен появлением и исчезновением этого человека. Он увидел нелепость своего положения и понял, что ему конец, если он ничего не предпримет. Он остановился и повернулся с внезапной решимостью. В первый миг он подумал, что будет убит чудовищной человеческой массой, вздымавшейся перед ним в бесконечность неба пирамидой голов, тел, конечностей, туловищ, но потом стал подниматься, поднялся на одну, на другую, на много ступеней. Сверху навстречу ему плыли лица, блики огня на которых походили на кровь, и несколько раз он уже был готов повернуть назад, так страшно было это зрелище, однако он продолжал подниматься все выше. Порой он замечал, как кто-то содрогался, увидев его, поворачивал и, задыхаясь, бежал рядом с ним вверх по лестнице, а потом начинал вертеться с пронзительными криками и наконец выбирал снова путь вниз. Толпы валили сверху навстречу все гуще, и часто ему приходилось прокладывать себе дорогу обеими руками, однако казалось, что отсветы огня на лицах уже не так ярки. Он пошел медленнее, и со временем человеческий поток стал редеть. Он обратил внимание и на то, что люди были одеты уже не так, как он, их платье было стариннее, чем его, и вот он уже увидел иных в одежде, которую носили в средневековье. Людей попадалось все меньше. Навстречу ему уже не валил сплошной поток. Ему показалось также, что сверху мимо него проходят те, кого он уже видел однажды, когда они поднимались, ибо на них было такое же платье, как и на нем. Вспыхнули красками первые одежды древности, римские тоги и греческие плащи. Ясно обозначились группы, разделенные уже большими расстояниями. Если сначала эти расстояния были как случайные просветы в каком-то непрерывном ряду, то теперь он без труда выделял группы, постепенно переставшие быть многочисленнее двадцати человек. Он отметил, что люди одной группы составляли как бы одно целое. Одежды становились странными. Порой попадались такие, каких он и представить себе не мог. Как пестрые украшения, тонули они в пучине. Он начал было наблюдать за отдельными людьми, но вид лестницы стал другим. Свет вдали сменился полным мраком, и чем дальше кверху, тем темнота делалась гуще. Он продолжал подниматься. Теперь лестница была видна в пределах десяти ступеней и казалась тускло освещенным помещением, куда люди тихо входили и откуда уходили так, словно возникали из пустоты и в пустоту низвергались. Вопли давно умолкли, и слышал он только однозвучный шум спешащих вниз шагов. Группы распадались, и вот уже навстречу ему спускались врозь одиночки, одетые в меха и шкуры. Так следовало мимо него человечество в бездну. Появились последние. Темные толпы, голые, гуртами, как скот. Часто случалось, что он долго был в одиночестве и никого не встречал. Когда, однако, он неподвижно стоял, вслушиваясь в ночь, он все еще слышал приближающиеся сверху шаги. А многих проходивших мимо него он и не мог видеть, ибо у лестницы не было границ и по ширине, что ему теперь стало ясно, и он часто думал, что где-то в бесконечности пространства, на той же высоте, что и он, поднимается, может быть, какой-то его двойник, направив, как и он, взгляд на ступени лестницы. Ночь окружала его как колесо, и поэтому тех, кто еще спускался, он видел только тогда, когда они приближались к нему вплотную, с огромными головами, где глаза были белые камни, а низкие лбы выдавались вперед, как кулаки, звероподобные существа, беспорядочно рассеянные во мраке первобытных времен. Потом исчезли и они. Он поднимался, не встречая никого, кто шел бы навстречу сверху, и когда останавливался, что случалось теперь часто, не слышал никаких приближающихся шагов. Только снизу доносился далекий отголосок тех, кто прошел мимо него, однако через некоторое время все потонуло в несказанной дали бездны. Он был в пустоте. Его шатало. Но тут он услышал, как сверху приближаются шаги — со скоростью, которая, как у падающего камня, все росла и росла. Он перестал подниматься и уставился взглядом вверх, где ночь сгустилась в непроницаемую, молчащую стену, из которой и мчались к нему эти шаги. Тут перед ним, летя как стрела из пасти ночи, возник человек с обугленными руками, воздетыми в бесконечном ужасе к небу. Но он не сдвинулся с места. Казалось, что этот безумец сейчас налетит на него. Влекомый бездной, незнакомец ударился лицом о гранит и перевернулся, чтобы исчезнуть в ночи глубоко под ним, с быстротой молнии катясь на спине по лестнице головой вниз. Теперь он был один. Он стал подниматься дальше, с трудом, потому что пустота смущала его. Он думал, что лучше было бы двигаться в полной темноте, ибо странная прозрачность ночи сковывала его движения. Ничто не мешало ему подниматься, кроме него самого. Ему казалось, что он находится внутри огромного каменного ступенчатого колеса. Он постарался сосредоточить свои мысли на чем-нибудь. Он попытался понаблюдать за своим телом и таким образом задержаться на каком-нибудь предмете. Он наблюдал, как при подъеме выглядывала из-под выдвинутого вперед колена ступня, чтобы, едва показавшись, снова исчезнуть под туловищем. Он казался сам себе странным и чужим, как какое-то насекомое, и его движения казались ему движениями какой-то нереальной машины. Он снова отвел взгляд от себя в ночь. Он бесконечно долго шагал через пустое пространство и через пустое время. Мысли вселяли в него страх. Он представил себе, что лестница вдруг кончится и тогда он увидит прямо под собой красные облака, скапливающиеся на дне пропасти. Представить себе это было невыносимой мукой, хотя ничто не предвещало такой возможности. Он был предоставлен самому себе. Угнетало его также, что ничего определенного от этого восхождения ждать не приходилось. Он полагал, правда, что лестница должна кончиться и он должен прийти туда, откуда все вышли, однако мысли его путались, поскольку он не понимал, что заставило людей пуститься в этот ужасный путь вниз. Однообразие лестницы подавляло его дух, а молочный сумрак, покрывавший ступени, мокрый гранит и монотонные звуки его шагов надрывали ему душу. Исчезли площадки, которые время от времени прерывали подъем и создавали хоть какое-то разнообразие, потому что были расположены неравномерно, и давали ему возможность считать ступеньки между ними. Теперь он поднимался по лестнице ровным шагом. Не раз он уходил по какой-нибудь ступени налево или направо, часто шел так часами, не встречая никаких заграждений. Один раз ему послышались какие-то далекие шаги, однако они были так далеко от него, что вскоре умолкли. Он в отчаянии поднимался по лестнице наискось, громко крича, чтобы задержать того, кто, может быть, где-то шел вниз. Он хотел спросить его, почему тот делает это, и попросить его подняться с ним вместе, чтобы обоим спастись, но вдруг остановился, покрываясь потом и задыхаясь. Он ощутил холод плит у себя под ногами и лед бесконечности у лба. Он начал подниматься снова. Он смотрел вперед, вытянув шею и наклонившись. Его руки двигались бесцельно, а ноги спотыкались. Он поднимался неравномерно, и при подъеме медленно возрастал страх, который с каждым шагом усиливался. Он упал, с трудом встал на ноги, обливаясь кровью, и снова упал. Он долго лежал, прижавшись лицом к влажному граниту, от которого промокала его одежда. Потом он пополз, как животное, снова поднялся и прошел несколько шагов вверх, в нарастающий ужас. Одиночество было как камень, такое, какими бывают умершие звезды, безмерное, без просветов в безжалостной плотности, где атом пригнан к атому. Пустота прилипала к нему, его всасывал бескровный зев небытия. Он остановился. Каждый дальнейший шаг был бессмыслен, равен стоянию на месте. Смысл был теперь в одном: снова вниз, к людям, задыхаясь, в свободном падении — две воздетые руки, два мертвых глаза, кричащий рот, — чтобы слиться с судьбой человечества, которое тонуло в аду, окутанное серными парами горящих морей. Было невозможно оставаться одному, наедине с самим собой, лицом к лицу с самим собой, впритык, без мира, без возможности говорить, молиться, клясть, кричать, ибо все, что он делал, беззвучно проглатывало пространство и изничтожало пустое время. В нем была сила тяжести, тянувшая его вниз. Он еще оказал ей сопротивление. В последний раз. Затем бездна мира разверзлась сама. Он закрыл обеими руками глаза и рухнул в пропасть, которая раскрыла свои объятия, ужасная в своем величии, в венце чудовищных всесожжений, звенящая, как медный колокол, от человеческого отчаяния, и когда он тонул в ее чреве, вопль его: «Милость, где милость?» — умолкал без ответа на ее лике.
— Ты кричишь, — сказала женщина и затормошила его. Просыпаясь, он увидел ее лицо, склонившееся над ним. Ее глаза были равнодушны. «Она знает, что у меня на уме», — подумал он и только теперь заметил, что над ним висит крест, одинокий, черный, прибитый гвоздем посредине стены. Он поднялся, оделся, закутался в пальто. Ему было холодно. Женщина тоже поднялась. Он прислонился к стене. Свеча все еще горела.
«Подожду, пока она погаснет», — подумал он и сжал в руке оружие.
— У тебя всегда такие пустые глаза? — спросила она.
— Да, — ответил он, — всегда.
Они снова умолкли. Он, как и женщина, смотрел на тихо горевшее пламя. Ее руки лежали на столе, словно отделенные от нее. С ничего не выражавшим лицом она держала их ладонями вниз, неподвижно, как будто забыла на столе эти руки, ставшие бессмысленными предметами, слева и справа от свечи, с которой стекало сало. Надо всем нависало ее лицо, окаменевшее, сливавшееся с тишиной комнаты. Потом он увидел, что свеча догорает. Пламя мигало. Оно то увеличивалось, то уменьшалось, и комната от этого дышала, как живое существо. Отсветы плясали на женщине. Пламя еще раз вспыхнуло между ее руками светлым лучом, чтобы затем упасть, умереть в темноте. Ночь смерти стала совершенной. Все еще оглушенный своим видением, он теперь пробудился, обрел такую уверенность и ясность сознания, какой никогда в жизни не знал. В нем пылала радость. Тупость его души исчезла, слепой в темноте комнаты, он все видел ясно и четко. Он пил тишину этого часа, как воду, которая подана умирающему от жажды, готовый отворить дверь, отделявшую его от небытия, от безграничного одиночества пространства, от плавающих пустынь между бледными звездами, полный решимости ступить вместе с этой женщиной на дышавший где-то здесь рядом порог, ступить, как жертвенное животное, которое молча ждет удара жреца.
Он долго стоял в темноте, после того как выстрелил, один раз, потом еще несколько раз, не целясь; однако он знал, что не промахнулся. Затем шагнул к середине комнаты, не в состоянии убить себя.
— Я хочу жить, — сказал он громким голосом, пытаясь отыскать ее ощупью, — хочу жить, — и еще раз: — жить!
Он стал ощупывать стол с бесконечной, как ему показалось, поверхностью, проводя пальцем по трещинам, как по линиям руки. Он нащупал пальцами что-то твердое, в чем далеко не сразу узнал голову женщины. В первый раз он содрогнулся. Проведя ладонями по ее туловищу и волосам, он почувствовал на своей руке кровь. Потом он стоял посреди деревни, которая все еще казалась безлюдной. Деревенская площадь блестела. Он нагнулся над колодцем и разбил револьвером лед. Когда он окунул руку в воду, кровь сошла с нее, чтобы затем темным облачком расплыться по диску луны, желтевшему в колодце, как грубая тарелка, до которой можно было дотронуться. Он пошел по мостовой мимо пустых окон. Он проходил мимо домов с фигурными фронтонами, и тень его шла перед ним у самых ног. Затем он вышел на аллею. Огромные деревья донельзя отчетливо вырисовывались на небе по обе стороны. Они вырывались из земли и вцеплялись в облака, как руки, утопающие в болоте. Он шел между ними ровным шагом, и его тень шла с ним. То и дело налетал ветер, взвывал вдалеке и шумел в деревьях, гнал луну по пустынным полям, и она катилась по холмам, большая, как дом, бледной головой в гнойниках и дырах, из которых вылезали гигантские мухи и зеленые жуки. Но и когда луна зашла, не стало темнее, все перед ним лежало без теней, безжалостное и нереальное. Он продолжал шагать, не способный ни на что другое. Его лицо изменилось. Оно стало непроницаемым и бледным, как угасшая луна между елями. Пути через аллею не было конца, и конца не было небу над ним, где колыхалась стая птиц, его провожатых, чей крик доносился до него издалека и чей полет охватывал все, что его окружало: деревья и небо, свет и дорогу, по которой он шел, но также и его бессмысленную жизнь с его ложью и его преступлением, мертвое тело женщины над столом с глубокими трещинами и кровь в колодце. Потом вдруг загремели деревенские колокола, и он услыхал далекие крики тревоги. Издалека мчались мотоциклеты, дальний горизонт со свистом окутали облака выстрелов. Он упал на землю, сполз в канаву, побежал через поля, то попадая в конусы света, то скрываясь от них. Лес принял его, но почти вместе с ним в рощу проникли преследователи. От их пуль расщеплялись стволы. Он уже видел белки их глаз, искаженные лица, ножи, которые они уже выхватили из-под одежды, но тут пошел снег, он лег бесшумно, огромным одеялом, холодной мягкой рукой, которая поразила всех слепотой. Благополучно достигнув поляны, он беспрепятственно переступил через труп, след за ним тихо закрылся, последние тщетные выстрелы преследователей затихли вдали. Он шагал через лес, закутавшись в свое рваное пальто, не замечая рассвета, занимавшегося где-то за толщей валящего снега. В сугробах показались первые дома деревни и снова исчезли. Мужчины с большими лопатами стояли по пояс в снегу, кляня свою бессмысленную работу, ибо мело все сильнее. Он добрался до гостиницы, расплатился, никому до него не было дела. Он сел в первый шедший в столицу поезд, ни о чем не думая, не грустя, ничего не желая, когда редкие дома, быстрая река и низкие холмы скрылись за окном, которое, едва поезд тронулся, уже закрыл быстро намерзший лед.
Что он делал с той поры, неважно, ибо, что бы он ни делал, это было бессмысленно. Он стал таким же человеком, как все, человеком с положением, женатым, имеющим детей, дом, автомобиль, любовницу, но все это было смешно, потому что скрывало некую тайну, тщетную попытку уйти в небытие с развевающимся знаменем смерти. Что бы он ни делал, оборачивалось обманом, даже если обманывал он только себя самого, обманом был и наш разговор, хотя он не знал этого. Мы прошли через предместья к реке, затем по набережной под высокими арками моста. По ходу рассказа менялось его поведение. Он уже не шел наобум; не сознавая того, он направлял наш путь через летнюю ночь, пока мы не проникли в какую-то заброшенную фабрику, это был комплекс белых зданий с трубами между ними и полуразрушенными доменными печами, все здесь тонуло в буйно разросшейся сорной траве; только площадка, где мы остановились, казалось, не оставляла желать лучшего, большие каменные плиты были пригнаны одна к другой без зазора. Среди двора мы простились; нам лучше, сказал он с мелькнувшим в его глазах страхом, расстаться до того, как рассветет, но я обернулся еще раз: он стоял напротив меня с поднятым револьвером. Я понял, что попал в ужасную западню. Рассказав мне о своем преступлении только затем, чтобы убить меня, потому что теперь я знал тайну его отчаяния, он во второй раз подбил себя на убийство; раз уж ему не удалось быть человеком, он хотел быть хотя бы шакалом, зверем, который ночами рыщет по полям и пьет кровь. Но вдруг, со слезами на глазах, он отвел от меня револьвер и, выстрелив, рухнул, словно хотел слиться с площадкой, на которую упал и водостоки которой наполнились его кровью.
Пилат
Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют.
Евангелие от Луки, 8; 10Лишь только распахнулись железные двери в противоположной стене зала, прямо напротив его судейского кресла, и лишь только эти отверстые гигантские пасти изрыгнули потоки людей — их с трудом сдерживали легионеры, ставшие цепью, взявшись за руки, спиной к беснующейся толпе, — он осознал, что человек, которого чернь точно щит несла перед собой ему навстречу — не кто иной, как бог: а между тем он не решился даже второй раз взглянуть на него, так ему стало страшно. Избегая смотреть на лик бога, он рассчитывал также выиграть время, за которое как-то сумеет разобраться, приспособиться к своему ужасному положению. Ему было ясно, что этим явлением бога он отмечен среди всех людей, не закрывал он глаз и на опасность, которая неминуемо содержалась в таком отличии. И потому он заставил себя скользнуть взглядом по оружию легионеров, проверил, как всегда, плотно ли пригнаны подбородные ремни шлемов, начищены ли мечи и копья, точны ли и уверенны движения, крепки ли мускулы, и лишь потом искоса посмотрел на толпу, которая застыла, сгустившись в недвижную массу, и теперь беззвучно заполняла зал, выставив вперед бога — жадно облепленный множеством рук, он спокойно ждал, а Пилат еще и сейчас избегал глядеть на него. Более того, он опустил глаза на свиток с императорским указом, развернутый у него на коленях. А сам размышлял о том, что же мешает ему принародно воздать почести этому богу. Ему отчетливо представился тот миг, когда бог поразил его своим взглядом. Пилат вспомнил, что встретился с богом глазами, когда двери, через которые толпа втолкнула бога, едва отворились, и что он увидел лишь эти глаза, и больше ничего. То были всего-навсего человеческие глаза, без всякой сверхчеловеческой силы или того особого света, который восхищал Пилата на греческих изображениях богов. И не было в них презрения, какое питают к людям боги, когда они спускаются на землю, чтобы истребить целые поколения, но не было и непокорства, какое тлело в глазах преступников, приводимых к нему на суд, — бунтовщиков, восставших против империи, и дураков, умиравших смеясь. В этих глазах выражалось безусловное подчинение, что, однако же, наверняка было коварным лицедейством, ибо благодаря этому стиралась грань между богом и человеком и бог становился человеком, а человек — богом. Посему Пилат не верил в смирение бога и полагал, что тот, приняв человеческий облик, лишь прибегнул к уловке, чтобы испытать человечество. Для Пилата важнее всего казалось узнать, как воспринял бог его собственное поведение; ибо он ясно осознавал, что перед лицом бога от него требуются какие-то поступки. Его охватил страх, что, переведя глаза на свиток, он упустил решающий миг, ведь в этом движении его глаз бог мог увидеть пренебрежение. Поэтому Пилат счел за лучшее поискать на лицах своих солдат признаки, подтверждающие его подозрение. Он поднял как бы невидящие глаза, медленно, не торопясь и не выдавая своего страха, обвел ими легионеров, словно удивляясь, зачем они находятся в этом зале.
Однако не обнаружил на их лицах никаких поводов для беспокойства, но также и ничего такого, что могло бы устранить его опасения, ибо он тут же сказал себе, что легионеры умеют скрывать свои мысли; с другой стороны, возможно, что им совершенно безразлично, как он вел себя по отношению к богу, они ведь не распознали в этом человеке бога. Итак, он решился второй раз взглянуть на толпу, и от его взгляда она дрогнула. Передние отпрянули, а в середине возникла давка, поскольку задние, жаждая во что бы то ни стало истолковать его взгляд, в это время стали напирать. Перед ним были неприкрытые в своей откровенности лица; обезображенные ненавистью, они показались ему безобразными до отвращения. У него мелькнула мысль, не отдать ли приказ легионерам запереть двери, а затем, обнажив оружие, со всех сторон врезаться в толпу; однако он не решался поступить так перед лицом бога. При этом, видя неистовство толпы и ярость, с которой она вцепилась в свою жертву, Пилат ясно понял, что эти люди потребуют от него казни бога, и он невольно повернулся к связанному веревками, хотя ему по-прежнему было неимоверно страшно второй раз встретиться с ним глазами. Но вид его был таков, что Пилат долго не мог отвести от него взгляда. Бог был невысокого роста, его можно было принять за тщедушного человека. Руки связаны впереди, на них вздулись синие жилы. Одежда грязная и изодранная, в прорехах сквозило голое тело в кровоподтеках и ссадинах. Пилат понял, какой жестокостью со стороны бога было избрать обличье, которое не могло не обмануть людей, понял и то, что только невообразимая ненависть могла внушить богу мысль явиться в маске такого оборванца. Но самое ужасное — что бог не счел нужным взглянуть на него; ибо, хотя Пилат и боялся его взгляда, думать, что бог пренебрегает им, было ему невыносимо. Бог стоял опустив голову, щеки у него были бледные, ввалившиеся, и великая скорбь, казалось, разлилась по его лицу. Взгляд был как бы обращен внутрь, словно все окружающее было бесконечно далеко от него: толпа, облепившая его, легионеры с их оружием, но также и тот, кто сидел перед ним в судейском кресле и кто единственный понял истину. Пилат хотел, чтобы время повернуло вспять и бог посмотрел бы на него, как тогда, когда распахнулись двери, и он знал, что теперь бы он преклонил перед ним колена, и стал плакать в голос и вслух читать молитвы, и перед легионерами и всем народом назвал бы его богом. Но, увидев, что богу нет больше до него дела, Пилат судорожно сжал руки, будто хотел разорвать свиток, лежавший у него на коленях. Теперь он знал: бог явился для того, чтобы убить его. И поняв это, он откинулся на спинку трона, на лице его выступил холодный пот, а свиток выскользнул из рук и упал к ногам бога. Но когда к нему наклонилось скучающее и усталое лицо легата, Пилат, словно речь шла о чем-то незначащем, вполголоса отдал приказ, а после повернулся к одному из префектов, только что возвратившемуся из Галилеи, поманил его к себе; легат между тем громко и безразлично повторил его приказ, и, слушая доклад префекта, Пилат смотрел вслед толпе, которая с ропотом удалялась через раскрытые двери. Но бога он больше не видел — так тесно обступили его люди, скрывая, словно свою тайну.
Теперь двери снова были заперты и зал перед ним пустынен. Пилат знаком приказал оставить его одного. Он откинулся в кресле и смотрел на свиток на полу, который легонько касался его ноги. Руки спокойно охватывали подлокотники. Слегка склонив голову, Пилат прислушивался к удаляющимся шагам своих центурионов; с ним остался только один раб. Потом Пилат внимательным взглядом обвел зал, словно бы для того, чтобы обнаружить в нем следы бога. Он видел мощные стены, воздвигнутые без всякого архитектурного замысла и лишенные красоты, железные створки дверей, тех самых, через которые толпа вынесла бога, они были расписаны причудливым орнаментом кричаще-красного цвета. Пилата охватило безразличие, дотоле ему неведомое. Страх лишил его силы. Этот страх был везде. Стены давили его. Пилат встал и прошел мимо раба. Узким коридором он вышел из башни и ступил на двор. Фигуры легионеров на угловых башнях и высоких стенах выделялись на фоне глубокой синевы неба. Камни, которыми был вымощен двор, сверкали на солнце. Пересекая двор, Пилат словно бы проходил сквозь огонь, так много света было вокруг. Он направился к главному зданию дворца, который высился перед ним, похожий на топорной работы блестящую игральную кость, шагнул в главный зал. Потом поднялся по лестнице, прямо напротив входа, она вела на верхний этаж, в путаницу маленьких покоев с проломами в стенах и узкими зарешеченными окнами под самым потолком, сквозь которые слабо сочился послеполуденный свет. Стены были голые, потому что Пилат редко жил в столице этой ненавистной страны: однако пол был устлан коврами и подушками. В самом большом покое его ждал легат, он уже возлег на пиршественное ложе. Пилат подсел к легату, но к еде не прикоснулся и выпил совсем немного вина. Он спокойно вел беседу, слушал и отвечал. В глубине души Пилату очень хотелось перевести разговор на бога; но он не решился, потому что не доверял легату, очень уж выжидающим был его взгляд. Пилат стал задавать конкретные вопросы, касающиеся войска, и это сбило с толку легата, потому что разговор вдруг стал сугубо деловым. Теперь Пилат мог в глубине своего существа, как бы наблюдая из потаенного места, с удивительной отчетливостью воспроизвести каждое мгновение своей встречи с богом. Он считал маловероятным, чтобы Ирод оставил бога у себя, ибо догадывался, что лишь ему одному, Пилату, дано было прозреть истину. Он и боялся, что бог вернется к нему — ведь пришел же он к нему, и ни к кому другому, — и, как это ни странно, страстно желал этого. Пропасть между человеком и богом бесконечна, и теперь, когда бог перекинул мост через эту пропасть и стал человеком, он, Пилат, должен погибнуть по милости бога, разбиться об него, как пловец, которого волна швыряет на риф.
Но вот явился гонец: оказалось, что бог, отосланный Иродом, снова стоит, связанный, у ворот дворца, а вокруг беснуется толпа; Пилат отдал приказ ввести бога во дворец, желая вырвать его из рук толпы, и выждал время, потребное для того, чтобы легионеры привели бога в зал дворца. Потом встал и прошествовал мимо императорского бюста у двери, по привычке остановив взор на мраморном изваянии: венценосная голова, недвижно парившая над ним во мраке, казалась удивительно чуждой. Он миновал длинный коридор, ведущий к лестнице, по сторонам которого стояли легионеры. Их фигуры выступали из сумрака, резко очерченные в свете факелов, которые здесь были уже зажжены, и на легионеров желтыми и красными волнами, одна за другой ударяющимися в обитые железом щиты, падал мерцающий свет. Пилат спускался к выходу, и он уже виделся ему как светлый прямоугольник, через который можно было заглянуть в зал, и снова в его воспоминании возник взор бога. Мгновение Пилат словно бы помедлил; зато оставшиеся несколько шагов сделал столь решительно, что ему пришлось энергично раздвинуть копья легионеров, и вышел из полумрака в светлое помещение зала. Чуть наклонив голову, глянул. С ужасом увидел легионеров, в глазах которых едва успела погаснуть насмешка. Бог недвижно стоял между ними. Руки его по-прежнему были связаны, только теперь на плечи ему накинули белый плащ, перепачканный человечьим дерьмом. Пилат понял, что над богом надругались, понял и то, что это его вина, ведь именно он, Пилат, послал бога к Ироду. Да, так и было, как он предполагал: все, что он предпринимал для своего спасения, на самом деле вело к его проклятью; и, поняв это, Пилат вернулся тою же дорогой, какой пришел, мимо легионеров, отложив покамест всякие мысли о боге.
Бичевать бога он приказал во время третьей ночной стражи, но еще до этого срока явился на обычное место экзекуций между дворцом и ближайшей к нему башней. Прошедший день был жарким, и солнце, катившееся над двором по безоблачному небу, жгло немилосердно: теперь же ночь опустилась на город, луна еще не взошла, лишь колючие огоньки звезд пробивали тьму, так что казалось — весь мир ограничен неосвещенными плоскостями этих стен и этих башен, на которых, как на сваях, покоилось небо; пространство, неизмеримое по глубине, хотя в длину и ширину оно измерялось определенным числом шагов. Пилат подошел к столбу, предназначенному им для бога; столб отвесно торчал из земли, вонзаясь в ночь, едва освещенный факелом в руке раба. Обхватив деревянный столб ладонями, Пилат ощутил гвозди и сучки, которые до крови расцарапали ему кожу. Потом он повернулся к стене дворца, где в проеме небольших боковых ворот стояло кресло, и, опустившись в это кресло, велел рабу погасить факел, ибо ему показалось, что он уже слышит шаги легионеров; однако прошло еще некоторое время, пока до него донеслись голоса. На противоположной стене, наискосок от него, появился едва заметный отблеск приближающихся факелов, на глазах он становился все ярче, и наконец стена осветилась так ярко, что стал ясно виден каждый камень кладки. И с особенной отчетливостью выделялся на фоне стены позорный столб, его тень, прямая как стрела, лежала на мощеной поверхности двора, круто переламывалась у подножия стены и вертикально бежала дальше вверх по стене, растворяясь в бесконечности ночи; но по мере того, как приближались факелы, она начала раскачиваться из стороны в сторону, как взбесившийся маятник гигантских часов. По освещенному двору к столбу темной массой лилась толпа, она постепенно растеклась во все стороны и вот уже заполнила пространство густой мешаниной бесформенных голов, неистово развевающихся перьев на шлемах и судорожно сжатых кулаков, и наконец глазам Пилата предстали легионеры: буйное переплетение тел и оружия, а некоторые высоко во тьму вздымали факелы; раздавались смех и возгласы, ведь никто не знал, что Пилат упрямо ждет их, застыв в своем кресле, едва замечая тяжелое дыхание раба за своей спиной. Он знал, что среди легионеров, там, где всего гуще толпа и неистовей людской водоворот, шагает бог, невидимый ему; его острый глаз различал, однако, как именно в том месте резко поднимались и опускались рукоятки мечей и кулаки, иногда даже останавливалось все шествие, потому что каждый стремился протолкаться, нанести удар, потом пронзительным смехом разрядить свое напряжение, а после снова поспешить к столбу, который постепенно окружала прибывавшая толпа. Но людей было так много, что Пилат не мог разглядеть среди них бога.
Один из легионеров взобрался на столб и прикрепил факелы вокруг его верхушки, после чего бросил вниз веревку и спрыгнул в самую гущу толпы, которая теперь, громко крича, сгрудилась вокруг столба, создав неимоверную давку. Факелы сверху освещали ее ярким нереальным светом, от которого во все стороны разбегались тени, подобные лепесткам внезапно раскрывшегося огромного редкостного цветка. Однако потом толпа распалась, разделилась на одиночек, спешивших прочь за круг света огненной короны и садившихся на землю в темноте, подчас так близко к Пилату, что они едва не касались его ног. Он же не замечал этого и сидел не шелохнувшись, ибо теперь бог явился его глазам, и вид его был ужасен. Бог был наг, и приподнятые его руки были обвиты веревкой, которая, косо натянувшись под его тяжестью, свисала с верхушки столба. Бог стоял на некотором расстоянии от столба, он был один у этого древа позора, один под бесконечно темным и вместе огненным небом, отчетливо видный в свете факелов, окружавшем его как колесо, он был загнан в этот круг и был живым свидетельством власти того, кто недвижно сидел во мраке в проеме боковых ворот лицом к лицу с богом. Однако тень бога выходила за пределы светового круга и падала прямо в сердце Пилату, и все, что сейчас свершалось, разыгрывалось между ними двоими, Пилатом и богом. Ведь все это — легионеры и пламя факелов, столб, вонзающийся в небо, суровая каменная кладка стен, жесткая мощеная поверхность двора, тихое дыхание раба и огненные массы звезд, — все это существовало лишь потому, что существовал бог и существовал он, Пилат, — только поэтому; а они оба существовали потому, что в споре между богом и человеком не может быть иного решения, кроме смерти, и иного милосердия, кроме проклятия, и иной любви, кроме ненависти. И не успел Пилат додумать эту мысль до конца, как выступили из скрывавшей их ночи легионеры — немногие из них — и, обнаженные до пояса, со всех сторон окружили бога, одни — ярко освещенные, другие — видные лишь как силуэты. Бичи в их руках извивались словно змеи, играя, обвивали могучие руки, далее скользили, подрагивая, по земле, точно жестокие твари с уродливыми головками из свинца. Легионеры будто водили вокруг бога хоровод, как бы играя, касались его тонкими бичами, а затем вдруг набрасывались на него с бешеной яростью, и свинцовые головки глубоко вгрызались в его тело, так что выступала кровь, и это переполняло Пилата в его кресле невыразимой мукой, ибо он втайне ожидал, что бичевание не причинит вреда богу, как если бы он был мраморный. Но теперь Пилат видел, как бог упал под страшными ударами легионеров, как его подняли, сильно дернув за веревку, к которой были привязаны его руки, как ноги его протащились по земле, как его швыряло из стороны в сторону под градом ударов, как снова и снова опускались на него свистящие бичи полуголых легионеров, водивших вокруг него хоровод, чтобы настигать его со всех сторон. В колеблющемся свете факелов тени призрачно повторяли этот хоровод на каменных плитах двора, подобного зеркалу, подобного тонкому льду на поверхности бездонного моря. Но вот тело бога безжизненно поникло: легионеры отступились, их лица уже одеревенели, а бичи в руках устало повисли; мало-помалу легионеры исчезли в ночи, их нестройные шаги отзвучали, и Пилат остался наедине с богом. Факелы горели теперь ровнее; но они готовы были вот-вот погаснуть, и смола капала на окровавленное тело, обвившее подножие столба. Пилат поднялся со своего кресла и медленно подошел к богу. Он подошел к нему так близко, что мог бы коснуться его; и видел он теперь обнаженное тело бога совершенно отчетливо. Тело это не было красиво: кожа дряблая, в ссадинах и глубоких ранах, некоторые из них гноились, и все было залито кровью. Но лица бога Пилат не видел, потому что голова его была опущена и скрыта между руками. Да, тело это было обезображено и некрасиво, каким бывает тело всякого человека после пытки, и все равно в каждой ране и в каждой ссадине Пилат узнавал бога; и он застонал и удалился в ночь, а за его спиной над богом погасли факелы.
Скрючившись, как зверь, от ужаса, Пилат лежал без сна где-то в своих покоях среди голых стен, отражавших пламя масляного светильника. Всей своей душою погрузился он в страх, он был совсем одинок среди людей, и никто из них не понял бы его страха — никто из тех, кто проходил перед его взором, не вызывая никаких чувств; так видишь в морозную ночь смутные тени людей в мертвенном свете луны. Здесь, вдали от глаз людских, руки Пилата блуждали по узору ковра, судорожно зарывались в подушки или, дрожа, хватали кубок с вином. Порой он искоса полубезумным взглядом скользил по лицу императора, белевшему в темноте, казалось, на губах императора мелькала улыбка, нереальная, как улыбка мертвецов среди могил, — улыбка, терявшаяся во мраке. Потом Пилат безмолвно переводил глаза на раба, и тот отворачивался, смущенный непонятной завистью, которая брезжила во взгляде господина. Утром же, едва взошло солнце, Пилат приказал позвать музыкантов, и однообразная мелодия коснулась его слуха; но ничто не могло ни развлечь, ни взволновать его, потому что образ бога отныне и навсегда поселился в его душе.
Раз уж ему не удалось вынудить к действию самого бога, он попытался снять с себя часть вины, переложив ее на толпу. Местом для осуществления своего замысла Пилат выбрал лестницу, ведущую к главному порталу дворца, а временем — раннее утро следующего дня после своей первой встречи с богом; ведь все события разыгрались всего за несколько дней. Лестница и главный портал находились в тени, которая узкой полоской тянулась вдоль дворца и покрывала часть площади и собравшейся на ней толпы. Люди, которые всю ночь распевали песенки, хулящие бога, еще спозаранок появились у ворот крепости и, неистово галдя, стали вливаться во двор; теперь они целиком заполняли огромный двор, не беспокоясь о том, что находятся во власти легионеров, которые, обнажив оружие, окружали народ. Когда Пилат из своих покоев дошел до зала, он увидел через открытую дверь, что бог и Варавва уже стоят на лестнице перед толпой, ненамного возвышаясь над нею, как он и приказывал; несмотря ни на что, он спокойно выступил из полутемного зала и неожиданно встал между богом и разбойником, столь величественный в своем белом плаще, что чернь окаменела под его взглядом. Он равнодушно взглянул на море голов, без конца и края простиравшееся перед ним, море лиц, на которых налитые кровью глаза напоминали ржавые гвозди, а меж желтых зубов тяжело покоился бесформенный черный язык. Казалось, у толпы одно-единственное лицо, общее для всех людей, огромный устрашающий лик; от него исходило грозное безмолвие, которое заволокло все окружающее. Толпе предстояло сделать выбор: бог или разбойник, истина или насилие… и единодушным пронзительным воплем толпа потребовала, чтобы бог был предан смерти. И поскольку бог допустил все это, Пилат приказал рабу принести чашу с водой и умыл руки в знак своей невиновности, не обращая больше внимания на неистовствующую толпу. Однако же, когда Пилат повернулся и увидел немой лик бога, он понял, что не может переложить на толпу даже малую часть своей вины, потому что только он один знал истину. Он невольно причинял богу одну боль за другой, потому что знал истину, но не разумел ее, — и, поняв это, он закрыл лицо руками, с которых еще капала вода.
И с этой минуты Пилат, как казалось ему, стал мертвецом среди мертвецов. Он проверял, как идет подготовка к распятию бога, и наблюдал, как над богом измываются легионеры. Он стоял лицом к лицу с богом, смотрел на него спокойно, равнодушным взглядом; не воспрепятствовал он также и тому, чтобы на бога надели терновый венец. Потом Пилат велел, чтобы ему показали крест и поставили перед ним это сооружение из неструганого дерева вертикально, а сам придирчиво провел руками по коре. Он выбрал легионеров для участия в казни и потом смотрел вслед процессии, пока вся толпа не вывалилась за ворота, увлекая с собой бога, который, шатаясь под тяжестью огромного креста, брел посреди отряда легионеров. Пилат повернулся, чуть не налетев на ребенка кого-то из рабов, хныча бежавшего через двор туда, где под аркой ворот исчез бог. Он возвратился в свои покои и приказал приготовить ему поесть. Недвижно возлежал он у стола и словно издалека слышал игру лидийских музыкантов, которые, надувая щеки, дудели в свои флейты, а по ту сторону толстых стен, ограждавших его покои, опустилась ночь. Солнце померкло. Небо превратилось в камень, и все, кто был здесь, вздрогнули. Музыканты отняли флейты от побелевших губ и, вытаращив глаза, уставились на зарешеченные окна. Посреди неба недвижно стояло мертвое солнце, диск, лишенный блеска и света, подобный огромному шару, испещренному глубокими дырами. И тут сотряслась земля, так что все попадало, и люди с криками вжались в землю. Пилат понял, что в эту самую минуту бог, творя устрашающие чудеса, сошел с креста, дабы наконец свершить возмездие. Он встал и вышел во двор. Велел подать ему коня и ускакал в сопровождении немногочисленной свиты. Лошади понесли, как будто были сильно напуганы. Улицы города опустели, провалившись в разрушенную землю, придавленную небом, и нельзя было больше отличать день от ночи. Лица спутников Пилата были бледны, а шлемы — как панцирь улитки на голом черепе с потухшими глазами. Пилат испугался, увидев свои руки: будто пауки обвились они вокруг поводьев.
Всадники выехали из города, направляясь к холму, где были воздвигнуты кресты. Они проезжали мимо людей, которые, обхватив руками колени, сидели на корточках вдоль дороги и громко и быстро произносили непонятные слова. Некоторые молча бросались на дорогу перед всадниками и так и оставались лежать, растоптанные копытами. Пальмы были сломаны посередине, оливы расщеплены. Гробы, высеченные в скалах, стояли разверстые, и мертвецы выступали, чуть не вываливались из гробов, и их бесплотные руки как стяги поднимались в густом тумане. Толпы прокаженных ковыляли навстречу в развевающихся плащах, похожие на черных птиц, и их гнусавые голоса напоминали неблагозвучный птичий свист. Тропа поднималась вверх среди скал. На ней валялись изуродованные останки самоубийц, которые бросались с вершин. Лошади становились все беспокойнее по мере того, как они приближались к месту, где были воздвигнуты кресты, посредине — крест бога, сейчас, вероятно, покинутый, а сам бог, быть может, прислонился к нему, обнаженный и прекрасный, громко смеясь, и поджидает Пилата, чтобы разорвать его в клочки. Солнце, перегоревшее и недвижное, по-прежнему стояло в зените, как будто время перестало существовать. Сделалось еще темнее, и Пилат чуть не налетел на крест, вздымавшийся прямо перед ним; с большим трудом удалось ему определить, что это и есть крест бога. Он уже было отвернулся, чтобы продолжать поиски; но в это время на востоке взлетела в небо огромная зеленая комета, и Пилат увидел, что этот крест вовсе не пуст, как он ожидал. Прежде всего он увидел ступни. Они были пробиты гвоздем, а когда взгляд Пилата скользнул выше, он увидел тело, выгнувшееся и тяжело свисавшее вниз, и вытянутые руки, нечеловеческим отчаянным жестом воздетые к небесам; а прямо над его лицом склонился мертвый лик бога.
Через три дня рано утром к нему явился гонец и возвестил, что ночью бог покинул свой гроб, он оказался пуст; Пилат тотчас поскакал туда и долго глядел в глубь пещеры. Да, она была пуста, и рядом лежали обломки тяжелого камня, которым завалили вход. Пилат медленно повернулся. А за спиной у него стоял раб, и теперь он увидел лицо господина. Как будто бескрайний ландшафт царства мертвых разостлался перед рабом — таково было это лицо, бледное в свете занимающегося дня, со смеженными веками, а когда глаза господина открылись, взгляд их был холоден и безучастен.
Город
Из записок охранника, опубликованных младшим библиотекарем городской библиотеки, которые явились началом пятнадцатитомного труда под общим названием «Наброски очерка», уничтоженного во время большого пожара.
Во время долгих ночей под завывание ветра передо мной снова и снова возникает облик города таким, каким я впервые увидел его в то утро в лучах зимнего солнца, облик города, раскинувшегося на берегу реки, вытекавшей из ледников близлежащих гор и охватывавшей их внизу среди домов странной петлей, оставлявшей открытой только западную сторону и таким образом определявшей форму города; горы, покрытые дымкой, находились словно где-то далеко и были похожи на легкие облака, видневшиеся за холмами, откуда они ничем не угрожали людям. Теплые брызги света золотили стены домов, в предрассветных сумерках город был удивительно красив, но я вспоминаю о нем с ужасом, потому что, как только я приблизился к нему, очарование рассыпалось в прах, и, едва очутившись на его улицах, я погрузился в море страха. Над ним стоял ядовитый туман, убивавший всякий зародыш жизни и вынуждавший меня с трудом переводить дух; при этом у меня возникало мучительное ощущение, что я проник в места, запретные для посторонних, что я на каждом шагу нарушал какой-то тайный, неизвестный мне закон. Я долго блуждал, преследуемый мрачными галлюцинациями, гонимый городом, который доставлял муки всякому прибывшему издалека и желающему найти здесь пристанище. Я понимал, что у него было все, ибо он был совершенен и беспощаден. Он не менялся на протяжении долгой истории человечества, ни один дом в нем за это время не исчез и ни одного здания построено не было. Здания оставались неизменными, они не были подвержены влиянию времени, улицы не были кривыми, как в других городах, а четко спланированы: они были прямыми и шли параллельно друг другу. Казалось, что они ведут в бесконечность, но при этом не возникало ощущения свободы, ибо низкие аркады вынуждали людей идти согнувшись, делая их незаметными и потому лишь терпимыми для города. Бросалось в глаза и то, как осторожно двигались по улицам люди, медленными крадущимися шагами. Они были замкнуты и существовали только в себе, как и город, в котором они жили, и лишь редко удавалось завязать с ними короткий разговор, но даже и тогда они избегали откровенности, как бы испытывая тайное недоверие к постороннему. Невозможно было проникнуть к ним в жилища, в которых они неподвижно и молча сидели друг против друга с широко открытыми глазами. Где-то там, в глубине жизни, орудовали отвратительные секты, совершенно скрытно и в таком мраке, куда никто из нас не решился бы заглянуть. Никто не голодал, в городе не было ни богатых, ни бедных, у всех была работа, но мне ни разу не довелось услышать, как смеются дети. Город принял меня в свои молчаливые объятия, на его каменном лице темнели пустые глазницы. Ни разу не удалось мне прорваться сквозь завесу нависшей над городом тьмы, напоминавшей о сумеречном будущем человечества. Жизнь моя была лишена смысла, ибо город отвергал все, в чем не имел насущной нужды, потому что презирал излишества. Он неподвижно застыл на клочке земли, омываемой зеленоватыми водами реки, которая неутомимо пробивалась сквозь его пустынные кварталы и только иногда, по весне, грозно вздувалась, чтобы затопить стоявшие вдоль берегов дома.
Мы можем заглянуть в зеркало мучений, лишь когда действуем в соответствии со своей натурой. Нам постоянно нужны надежные убежища, куда можно было бы спрятаться, хотя бы для сна; но и их могут отобрать у нас в самых глубоких подземельях действительности. Таким прибежищем стала для меня моя комната, ей я многим обязан, в ней я всегда прятался от жизни города. Находилась она по ту сторону реки, в восточном предместье, которое не входило в черту города. Там селились приезжие, которые не общались друг с другом, чтобы не привлекать внимания властей. Многие из них вдруг исчезали, и мы не знали, что с ними произошло. Некоторые утверждали, что эти люди были отправлены властями в большую тюрьму, но я ни разу не получил подтверждения этим слухам, да никто и не знал, где тюрьма находится. Моя комната была расположена под самой крышей многоквартирного дома, как две капли воды похожего на все другие дома предместья.
Высокие стены были наполовину скошены, две ниши, выходившие на север и на восток, служили окнами. У западной стены, широкой и наклонной, стояла кровать, рядом с печкой примостилась кухонная плита, из мебели в комнате были два стула и стол. На стенах я рисовал картины, не очень большие, но со временем ими покрылись и стены, и потолок. Даже дымоход, проходивший через комнату, со всех сторон был изрисован фигурками. Я изображал сцены из смутных времен, особенно великие события истории человечества. Когда для новых картин уже не осталось места, я принялся переделывать и улучшать то, что было написано раньше. Случалось, в припадке слепой ярости я соскабливал со стены картину, чтобы тут же написать ее заново — унылое занятие в тоскливые часы одиночества. На столе лежала стопка бумаги, и я исписывал лист за листом, сочиняя по большей части бессмысленные памфлеты против города. Тут же стоял и бронзовый подсвечник, найденный на свалке, в котором всегда горела свеча, так как в комнате даже средь бела дня царил полумрак. Мне никогда не приходило в голову исследовать дом, в котором я жил. Снаружи он казался совсем новым, но внутри был старый, вконец обветшалый, с лестницами, которые вели куда-то в темные провалы. Я ни разу не видел в нем людей, хотя на дверях были написаны имена жильцов, среди них и фамилия чиновника городской администрации. Лишь однажды я осмелился нажать на дверную ручку, дверь оказалась незапертой, я заглянул в коридор, по обеим сторонам которого тоже были двери. Мне почудилось, что откуда-то доносятся приглушенные голоса, поэтому я осторожно прикрыл входную дверь и вернулся в свою комнату. Дом, видимо, принадлежал городу, потому что у меня часто появлялись служащие администрации. Они никогда не требовали квартплаты, будто не сомневались, что у меня за душой ни гроша. Это были люди с вкрадчивыми манерами, в странных меховых шапках и высоких сапогах, но никто из них не появился дважды. Они заводили речь о ветхости дома и о том, что город давно бы его снес, если бы не крайняя нужда в жилье, ощущаемая в предместьях. Время от времени ко мне являлись какие-то личности в белых плащах, со свернутыми в трубочку бумагами под мышкой и часами, ни слова не говоря, измеряли мою комнату и что-то записывали, рисовали острыми перьями в своих чертежах. Я, однако, не могу упрекнуть их в навязчивости, да они ни разу и не спросили меня, откуда я взялся. Они приходили только ко мне и никогда не заглядывали к другим жильцам, я видел из окна, как они поднимались ко мне в комнату и сразу же выходили из дома, закончив у меня свою работу. Но большую часть дня я проводил у окна на восточной стороне, из которого смотрел на большой город, смотрел, как утром крестьяне направлялись из деревень на рынок. Погруженные в свои мысли, они неподвижно сидели в повозках, огромные колеса которых возвышались над ними, и тени от спиц скользили по их сгорбленным фигурам. Иногда они скупыми окриками подгоняли коров, запряженных в повозки. Проходили мимо дома и закованные в цепи арестанты, сопровождаемые коренастыми, с маленькими желтыми лицами охранниками, которые размахивали огромными плетками; после такого зрелища я по целым дням не мог заставить себя подойти к окну. Но самое страшное впечатление произвел на меня вид осужденного, которого везли на казнь. Он был спиной привязан к столбу, укрепленному на узкой и длинной деревянной повозке, колеса которой были не совсем круглой формы, и потому повозка катилась по дороге, как-то странно подпрыгивая. Перед повозкой шагал палач в красном плаще и белой маске. Он нес меч подобно кресту, и длинными черными рядами молча шли судьи. Бедняга был худ и громким монотонным голосом пел песню на каком-то чужом языке, которая еще долго звучала у меня в ушах и наполняла меня глубокой печалью.
Построенный для того, чтобы мы могли до конца испить чашу страданий, он учил меня видеть грани, открывая при этом свое величие. Я познал свое бессилие через его силу и его совершенство через свое поражение. Мы не боги, а всего лишь люди. Мы познаем все вначале путем опыта, а лишь затем через разум. Нас нужно помучить, чтобы мы поняли, и только на крик наших мучений мы можем получить ответ. И, пожалуй, благодаря такой позиции администрации я смог безнаказанно принять участие в восстании угленош, если это восстание вообще было кем-то замечено. Я должен был сначала узнать город во всех его ужасах, прежде чем поступить к нему на службу, прежде чем начать борьбу, прежде чем отказаться от нее: то, что любая борьба против города является бессмысленной, я понял лишь тогда, когда мятеж провалился из-за какого-то сумасшедшего, из-за юродивого, которого раньше я часто видел шагавшим по городу со смешным негнувшимся знаменем какого-то оборонительного союза былых времен, глупая улыбка блуждала на его жирном лице под мятой круглой шляпой. Как-то раз я вышел из своей комнаты в предместье, как это часто делал в белые лунные ночи, и направился в местечко, куда захаживал редко. Здесь стояли ряды таких же однотипных многоквартирных домов, мимо которых я шествовал, но выглядели они гораздо запущеннее, чем в других предместьях. В грязных дворах и на прогнивших скамейках, у реки я видел влюбленные парочки — они сжимали друг друга в объятиях, искали утешения в любви. Я видел блудниц, продававших себя за гроши, они передвигались вокруг как звери, и воздух был наполнен их гортанными звуками. Проходил мимо зеленых щитов, рекламировавших дешевые фильмы, и по мере моего продвижения местечко становилось все более пустынным. Я очутился в районе больших площадок, стиснутых бетонными квадратами домов, пустырей, на которых возвышались горы мусора и немалые участки земли были покрыты густой растительностью. На одной из таких площадок, посередине которой между огромными кучами мусора и ржавыми кузовами старых автомобилей, стоявших вокруг как мирно пасущиеся звери, пролегали трамвайные пути, я уже издалека увидел человека, медленно начинавшего какой-то танец. Его тяжеловесная фигура энергично поднималась над поверхностью земли, как бы заваленной доисторическими руинами. Первыми начали двигаться короткие толстые ноги, описывая беспомощные и заостренные фигуры, но затем танец становился все яростнее, и, когда человек распростер свои непомерно длинные руки, которые придавали его облику нечто гориллообразное, и его длинная белая борода стала раскачиваться у него под подбородком, как колокол, я увидел, что это вдребезги пьяный старый угленоша, живший неподалеку от меня. Я смотрел на танец старика и наблюдал за его тенью, которая повторяла каждое движение его туловища, коротких ног и длинных рук и таким образом дополняла пространственное движение движением на поверхности. Я непроизвольно направился в сторону пьяного и заметил, что к нему со всех сторон стали стекаться люди. Это были мужчины и женщины, плохо одетые, совершенно истощенные, пахнущие сивухой и как бы вырванные из тяжелого сна. Некоторые старались копировать танец старика, но не было слышно ни одного звука, хотя мужчин собралось так много, что они постепенно заполнили площадь, поднялись на мусорные кучи и, как огромные призрачные птицы, уселись на крышах старых автомобилей. Теперь я даже смог рассмотреть лицо огромного старика, который, закончив свой танец, с трудом держался на ногах: лицо его окаменело, а налитые кровью глаза тускло блестели. Я уже было собирался отвернуться от него, чтобы продолжать путь. Но тут люди пришли в движение, вся эта оборванная толпа тесно сгрудилась и стала двигаться вперед. Я находился немного позади угленоши, который, казалось, возглавлял толпу, но я не мог понять, куда мы направлялись. Я был плотно окружен призрачными лицами этих мужчин и женщин, погружен в аромат их сивушного духа, но мне все-таки, хотя и с трудом, удалось высвободиться из толчеи, после чего я оказался рядом со стариком во главе процессии, вопреки своей воле и не имея возможности повернуть обратно. Я все еще не узнавал улиц, по которым мы шли, но видел, что мы движемся по направлению к городу. Дома придвинулись вплотную друг к другу, они стали ниже, и их крыши простирались над бесконечными рядами идущих людей, которые двигались как в ущелье. Толпа беззвучно тянулась по площадям и улицам, вслед за стариком, который раскачивался из стороны в сторону, то цепляясь за меня, то падая на того, кто шел за его спиной, в тесных рядах, и люди отталкивали от себя пьяного, а он принялся хохотать все громче и злораднее. Это был какой-то дрожащий и своенравный смех, которому мы стали вторить, как бы от чего-то освободившись, как будто этот смех помогал нам преодолеть страх, какой мы испытывали перед городом. Движение толпы ускорилось. С громкими криками и всевозможными ругательствами мы рванулись вперед, и в этот момент в спокойном и молчаливом величии перед нами предстал город, его вид был настолько страшен, что мы замолкли. Город лежал по ту сторону реки, через которую был переброшен длинный и узкий висячий мост. Освещенный луною, он отсвечивал белизной, как огромный горбатый, разрезанный синими тенями ледник, покоящийся на двузубой скале; но самой реки мы не видели, так как она была окутана молочным туманом, и казалось, что город парит в облаках. Мы остолбенели и вцепились руками друг в друга, но старик вступил на мост, и мы последовали за ним, охваченные дикой страстью идти напролом.
Мост был настолько узким, что многие хватались за перила, чтобы с их помощью удержаться, некоторые даже пробовали переходить по тросам, поддерживающим мост; люди гроздьями висели на мосту, но никто не боялся упасть, хотя мост очень сильно раскачивался. Просев под тяжестью толпы, устремившейся на противоположный берег, он опустился навстречу волнам ночной реки; мы на мгновение погрузились в туман, и казалось, мы парим в пустоте, потому что теперь города совершенно не было видно. Когда мы настолько низко оказались над рекой, что наши ноги стала заливать вода, а многих, жалобно кричащих, смыли волны, мост, получив облегчение, как пружина, круто поднялся вверх, и прямо над собой мы вновь увидели город; теперь он был уже близок и грозил нам своими стенами и башнями, как будто хотел сбросить их на нас, и мы непроизвольно пригнулись от страха. Но теперь, когда мы уже карабкались вверх по скале, на которой он был построен, мост начал успокаиваться, его колебания стихли, и те, кто остался на мосту, спокойно покинули его. Мы устремились к городу и проникли в него через полуразрушенные ворота, вначале осторожно, затем более решительно, хотя нам, собственно, еще не было ясно, чего мы хотим, ведь ночное шествие убогой, грязной толпы оборванных и пьяных людей началось совершенно стихийно и вначале не походило на бунт, а скорее являло собой беспомощное выражение тупого отчаяния. Теперь же, когда мы уже шли по улице, которая вела нас в центр города, мы осознавали нашу акцию, и в нас все сильнее зрела воля к бунту. Дома искривились, как старые деревья, они окружали нас пустыми глазницами окон. Площадь, на которой мы оказались, была изрыта, а в глубоких траншеях лежали трубы и кабель, на нас падала огромная тень башни, за которую спряталась луна. Плотным клином мы вышли на одну из улиц. С момента, как мы достигли города, не раздалось ни единого звука. Мы неслышно передвигались по камням мостовой и вскоре при полном свете луны увидели возвышавшийся вдалеке над крышами домов шпиль кафедрального собора, мы проследовали в его сторону. Пройдя через низкую арку, мы неожиданно вышли на главную улицу, которая наполовину была освещена луной, выступавшей из-за крыш и светившей так ярко, что мы испугались, однако затем вновь успокоились. Плотно прижавшись друг к другу, мы направились вверх по улице, и в наших взглядах горел дикий восторг мятежников. Людской поток неудержимо катился по улице, он то скрывался в тени домов с островерхими крышами и галереями, то вновь возникал в серебре ночи, которое, как снег, лежало вокруг. Мы достигли площади, расположенной в самой высокой точке центра города, где гора раздваивалась и круто обрывалась вниз, образуя вертикальное ущелье, на дне которого пенился едва различимый поток реки. Мы были полны решимости взять штурмом администрацию, а в случае необходимости были готовы пролить кровь. Мужчины вытащили ножи, у некоторых в руках заблестели ружья и топоры. Сгрудившейся толпой мы направились через площадь к каменному мосту, переброшенному через пропасть, на середине которого, как мы увидели все сразу, стоял юродивый в круглой шляпе, в руках он держал свое знамя. Мы остановились, застыв в неподвижности, толпа людей в холодном свете луны. Нас парализовал не вид сумасшедшего. Нас наполнило ужасом осознание того, насколько город нас презирал: он был так уверен в своей победе, что направил навстречу нам одного лишь беспомощного идиота. Пригнувшись, мы неподвижно смотрели на это смешное создание. Его развернутое знамя неподвижно возвышалось в ночи, и изображенные на нем символы были хорошо видны при ярком свете луны. Мы понимали, что должны действовать, и в то же время осознавали, что были бессильны. Тогда вперед выступил старый угленоша, еще до конца не протрезвевший, и направился навстречу сумасшедшему. Старик медленно двигался по каменному мосту, его тело мелкими точками просвечивало сквозь дыры разорванного платья, а длинная белая всклокоченная борода касалась блестевших камней, по которым он шагал; его толстые руки раскачивались, как огромные поленья; мощные плечи были наклонены вперед: он выжидающе двигался навстречу идиоту, который, глупо улыбаясь, стоял со своим знаменем на середине моста. Когда угленоша приблизился к идиоту, мы все замерли. Дурачок остался неподвижен. Подойдя к нему, старик схватил знамя, которое бедняга беспомощно и добродушно выпустил из рук, он, как мы это отчетливо увидели, также был ошарашен неожиданным поведением старика, а тот швырнул знамя в пропасть через каменные перила моста, и оно, беззвучно падая, описало дугу, казалось, что оно несется куда-то само по себе. Это сняло с нас оцепенение, наши глаза вновь загорелись, в нас поднялось чувство бешеной радости: юродивый побежден. Угленоша уже намерен был начать триумфальный танец (он уже поднял кверху свои обезьяньи руки), мы собрались ринуться через мост в дикой решимости растоптать идиота, наши руки уже обхватили рукояти ножей, рты открылись для громких проклятий, когда дурачок, осознав, что лишился своего знамени, вдруг закричал» Это был страшный крик, который не прерывался и не затихал, вырываясь из его широко открытой глотки. Крик заполнил все пространство вокруг, казалось, это город кричит вместе с юродивым, что они слились и этот крик — выражение того, что нас безмолвно окружает и молча уничтожает. Мы с ужасом отпрянули назад, тем более что крик не ослабевал, а вырывался из этого открытого рта равномерной пронзительной струей, как кровь из раны, он был настолько ужасным, что мы каждую минуту ожидали появления охранников. Но город оставался мертвым и пустынным, как будто он был необитаем, и слышен был только крик, перед которым все дальше отступала оборванная толпа, будничная и бесцветная, чтобы затем под несмолкаемый крик, охваченная паникой, обернуться в бегство, крича в непомерном страхе, растаптывая женщин и стариков. Я остался один на площади, усеянной мертвыми телами. На мосту перед несмолкающим идиотом все еще стоял огромный угленоша и лихорадочно пытался заставить юродивого замолчать. Он руками зажимал ему рот, но крик с той же силой вырывался сквозь пальцы, а когда в отчаянии старик засунул в орущую глотку кулак, крик не прекратился, но теперь он отделился от него, теперь крик звучал везде — в перилах моста, в крышах домов, в химерах собора, в серебристом шаре луны, и все-таки это был крик юродивого, и никакой другой. Тогда угленоша схватил несчастного, оба тела чудовищно вздыбились, но крик все еще не смолкал; опутанные белой бородой старика, они покатились по мосту в мою сторону, но меня они не достигли, а упали в таинственную бездну ущелья, из которой еще какое-то время доносился крик.
Дом, куда мне следовало обратиться для поступления на службу в городе, находился недалеко от моего жилища, в районе, где я почти не бывал и потому плохо ориентировался, несмотря на строгую планировку улиц. Я долго не мог отыскать его, потому что все вокруг было застроено небольшими домами. В них жили мелкие служащие городского управления, которым не разрешалось селиться непосредственно в городе. Это были низкие строения из красного кирпича, похожие друг на друга, с одинаковыми маленькими палисадничками. Дом стоял на прямой, как стрела, улице, рядом с автобусной остановкой, это я помню абсолютно точно. Обычный дом для служащих с двумя березками у калитки, что подчеркивало мелкобуржуазный характер жилья. Необычным мне показалось только то, что дверь на мой звонок открыла девчонка лет пятнадцати. От нее веяло свежестью, которая чуть смягчала мрачное впечатление от убогой прихожей, по которой она меня вела. Прихожая от пола до середины стены была выкрашена бурой краской в белесую полоску. Перед одной из дверей она вдруг прижалась ко мне всем телом и прошептала на ухо слова страшной угрозы. Затем отпустила меня и открыла дверь (такого же бурого цвета). Ударивший мне в глаза свет был так ярок, что я отшатнулся. Постепенно осмотревшись, я заметил, что меня ввели в комнату средней величины, обставленную безвкусной мебелью, какая обычно встречается в домах нуворишей. В помещении стоял резкий сладковатый запах, пропитавший буквально все; мой взгляд был обращен на середину комнаты, где вплотную друг к другу, образуя бесформенную массу, стояли предметы мебели, эти безвкусные комоды и перегруженные буфеты. Сидя в легких складных креслах, три старухи играли за столом в карты и пили чай из китайских чашечек, и до сих пор меня охватывает неприятное чувство, когда я вспоминаю эти существа, которые напоминали таинственные экскременты огромных доисторических млекопитающих. Их губы были накрашены синей краской, но омерзение вызвали не они, а их отвислые, лоснящиеся от жира щеки. Они сдвинули головы, отчего впечатление бесформенности еще более усилилось. На них висела легкая летняя одежда ярко-красного цвета, которая еще больше подчеркивала всю нелепость их облика. Они приветствовали меня потоком бессмысленных восклицаний, не отрываясь от карт и не прекращая запихивать в рот огромные куски тортов и пирожных своими липкими пальцами. Я внимательно и недоверчиво вслушивался в их грязные слова и наконец уразумел, какая работа меня ждет. Я услышал, что нахожусь в городской тюрьме, которой в качестве представителей администрации приданы эти старухи, и что именно здесь я должен начать свою службу охранника. Они напомнили мне, что охрана действует тайно, поэтому мы ничем не должны отличаться от узников. «Служба тяжелая, — сказали мне они, — но добровольная, и ты в любое время сможешь возвратиться в город в свою комнату». Предложение было заманчиво, и я его принял. Они приказали девчонке подать мне одежду охранника, но не разрешили мне переодеться в другом месте, мне пришлось подчиниться и раздеться в их присутствии. Одежда, переданная мне девчонкой, была необычной, на ней разноцветными нитками были вышиты таинственные знаки и фигурки, и она совершенно не сковывала движений. Когда девчонка уводила меня из комнаты, старухи неожиданно отвернулись. Они, казалось, больше меня не замечали и снова полностью предались игре, пирожным и чаю.
Мы вышли через другую дверь, ибо теперь я уже находился не в коридоре, из которого мы попали в комнату к старухам, а перед лестницей, круто спускавшейся вниз. Хотя я еще находился под впечатлением от случившегося, я все же спросил девчонку, где будет моя комната, но она ничего не ответила, и я молча последовал за ней. После короткого спуска мы оказались в маленькой четырехугольной комнате, одной из стен которой была двустворчатая стеклянная дверь, здесь же стоял высокий, узкий стол с полуувядшей геранью. Но мы не стали задерживаться в этой странной комнате, девчонка открыла дверь, оказавшуюся незапертой, и мы пошли дальше. Передо мной был длинный и, как мне показалось, узкий коридор, но это впечатление было обманчивым: когда мы с девчонкой окунулись в наполнявшие его синие сумерки, я увидел, что он очень широк. Она привела меня к узкой нише; в ней стояли нары, я определил это на ощупь и опустился на них. Посмотрев вслед девчонке, которая, весело напевая, исчезла за дверью, я заметил, что дверь она оставила незапертой, так как створки ее еще некоторое время колебались. С моего места был хорошо виден весь коридор, поскольку в моей нише стояла непроглядная тьма. Слева от себя я видел лишь половину двери, так как не отважился высунуться из ниши. Стеклянная створка двери отсвечивала зеленоватым цветом, вероятно, такое впечатление создавали царившие вокруг синие сумерки. Мое внимание привлекли ужасные фигуры на стенах и потолке, которые трудно было рассмотреть, а также ниша, расположенная напротив меня в другой стене коридора. Она была такой же высоты, как и моя, и также переходила в узкую арку, также наполнена была мраком и казалась окном, открытым в пустоту. Это создавало ощущение тяжести и мрачности, что обычно бывает присуще подземным сооружениям. Приглядевшись, я обнаружил между этой нишей и стеклянной дверью другую нишу такой же формы, и справа от нее я ясно различил еще пять ниш. Дальше мой глаз проникнуть не смог, так как все очертания размывались, а синие сумерки переходили там в плотный туман. Наблюдая внимательно за коридором, я был встревожен тем, что никто не появлялся, чтобы дать мне конкретные инструкции по работе (которая была не из самых легких), но постепенно я принялся обдумывать свое положение. В результате раздумий появилась спасительная мысль о том, что ниша служит укрытием охранника и меня совершенно не нужно вводить в курс дела, которое и без того абсолютно ясно. Мне стало понятно, что коридор ведет к камерам узников и что лишь необычность обстановки не сразу привела меня к этой мысли. С чувством большой гордости я понял, что администрация дала мне главный пост у выхода, что эту ключевую позицию могли доверить только настоящему мужчине, ведь дверь оставлена незапертой, и это был знак безграничного доверия, которое оказано мне благодаря моим способностям. Но тут же я сделал еще открытие. Я почувствовал, что за мной наблюдают. И вовсе не потому, что услышал какие-то шорохи или увидел кого-то, то была абсолютная уверенность, не требовавшая ни средств, ни доказательств. Я понял, что в нише напротив меня сидит человек, который неподвижно смотрит на меня широко открытыми глазами. Я не мог прорезать тьму, меня окружавшую, но мне было абсолютно ясно, что он смотрел именно туда, где чувствовал мое присутствие, ибо знал о моем существовании, ведь он видел, как я появился здесь. Я бросил взгляд на пустую и темную щель перед собой, где наверняка он сидел на своих нарах, как и я, в таком же напряжении, так же затаив дыхание. Я ощущал его глазами и мысленно ощупывал его бледный невидимый лик с плотно сжатыми губами, с морщинками на коже и глубоко посаженными глазами, в которых гнездился страх (ведь он не знал, что у меня не было оружия). Не видя, я догадался, что во всех нишах сидели люди, окутанные молчанием ночной синевы этого грота, узники, преступники, мятежники (может быть, одним из них был и угленоша); не двигаясь, пристально смотрели они в сторону моей ниши, о которой знали; они знали, что там находится их охранник, и боялись его, и этим страхом, как парализующим ядом, было наполнено все. Меня охватила дикая радость, причиной которой было неожиданное чувство неизмеримой власти, сделавшей меня богом этих бедолаг, дрожащих передо мной в своих нишах. Меня охватило желание пройтись по этому коридору, чтобы все меня видели, и ходить так вечно, взад и вперед, без перерыва, равномерными шагами, ходить мимо тех, кто затаился, как пойманный зверь, запертый в клетке, в своих нишах, вцепившись руками в соломенные тюфяки убогих нар, на которых они сидели. О! Как я хотел их усмирить. И тому, что я этого не сделал, что не вскочил со своего места и не начал ходить взад и вперед, а остался сидеть в своей нише, помешала мысль, вдруг возникшая у меня и становившаяся все более навязчивой по мере того, как я переставал в нее верить, ибо с первых минут пребывания здесь меня мучила и нелепая, и беспочвенная идея: я вспомнил, что мне нельзя выделяться среди остальных узников, так как мы были одинаково одеты (по словам трех старух); но все-таки остановило меня не это, а подозрение, которое вдруг родилось во мне: я сам такой же узник, как и все остальные, — мысль, которая при всей ее нелепости появлялась у меня постоянно и, по всей вероятности, исходила из того недоверия, какое естественно вселили в меня эти три старухи своим ужасным видом; подозрение тем более непростительное, что оно содержало примитивную логическую ошибку, заключавшуюся в том, что по недостатку отдельных звеньев я сделал вывод о несостоятельности всей цепочки, как будто бы идея городской администрации заключалась в том, чтобы держать у себя на службе полноценных служащих. Хотя вполне возможно, что я был одет так же, как и те, которые находились вместе со мной в этом коридоре (конечно же, старухи могли и пошутить из озорства, будучи в хорошем настроении от чая и пирожных), лишь для того, чтобы использовать данную мне власть незаметно и полно, как это объяснили мне мои пожилые наставницы. Узники знали, что среди них находится охранник, но не знали, кто он, ибо все, кого к ним приводили, были одеты так же, как и они. И я ошибся, предположив, будто узники знали, что именно я их охранник, которого они боялись, во мне они могли видеть лишь возможного охранника, а не того, кто еще больше усугубил бы их положение. Я был рад, что не встал, не сделал обход и не раскрыл себя — единственного охранника многочисленных узников — и что не лишил себя шанса, в случае попытки к бегству какого-нибудь преступника или бунтовщика (например, угленоши), внезапно у самого выхода преградить ему путь. Правда, возможно, существовали и другие охранники, и для такого предположения имелись основания. Но то были предположения, гипотезы, которые нечем было доказать, и глупо было бы даже думать об этом, ибо факт, что я был охранником, оставался истиной, не подвергавшейся никакому сомнению. Наверное, мое положение среди других охранников было не таким уж выдающимся, как я это предположил вначале, оно могло быть и подчиненным — ведь я лишь недавно приступил к работе; но все-таки оно было чрезвычайно важным, поскольку в конечном итоге было важно все, и я без страха вглядывался в синий сумрак, который терялся в бесконечности. Иногда мне казалось, что я слышу чье-то тяжелое дыхание, но, когда я прислушивался, не слышал ничего. Однако я сильно испугался, когда вдруг уловил тихий шорох, донесшийся от внутренней стены моей ниши, откуда я вообще не ждал никакой опасности. Когда я осторожно повернулся, то обнаружил тарелку с мясом, которая невесть как попала в мою нишу. Я ел осторожно и тихо, потом забылся от усталости в полусне, но тут же проснулся, охваченный внезапным непонятным страхом, причиной которого могла быть только неясность моего положения и той роли, которая на меня возложена в этой тюрьме, страх обрушивался на меня всякий раз, когда мне не удавалось осознать свое положение. Так как власти не шли ко мне — где уж им до меня, когда они заняты организацией дел в городе, — то я был вынужден помочь себе сам. Я надеялся, что смогу внести ясность в свое положение только путем собственных рассуждений. Когда я вспомнил, что сумел осмотреть лишь одну сторону коридора, то подумал, а нет ли другой ниши и в моей стене. Кроме того, я хотел знать, в каких еще нишах сидели охранники — если их было действительно несколько; но вначале было необходимо выяснить общий порядок расположения ниш. Стена напротив меня дала важную информацию. Ниши в ней были расположены на одинаковых расстояниях друг от друга, и то обстоятельство, что моя была напротив точно такой же ниши, свидетельствовало о том, что все ниши на моей стене шли в том же порядке. Поэтому я подумал, что все ниши расположены симметрично и что подземный коридор служит для них своеобразной осью. Такой вывод казался смелым, но меня еще не интересовал план всей системы — создать его за такой короткий срок было бы самой настоящей авантюрой, — а только лишь структура той части, которая находилась у меня перед глазами; мне нельзя было прерывать свои наблюдения. Я должен был признаться себе, что вынужден строить умозаключения на таких посылках, которые невозможно было доказать. Таким образом, мне ничто не мешало считать ниши необитаемыми, так как я ни разу не видел никого напротив себя, да и вообще кого-нибудь постороннего. Но то, что я не стал так считать, объяснялось той самой истиной, которую я чувствовал: я просто знал, что во всех нишах находились люди. И когда я представлял себе их расположение симметричным (с коридором в качестве оси), то эта истина еще не была определенна, хотя многие моменты указывали на то, что мое заключение было вероятным. Прежде всего я уже заметил, что между нишей, расположенной напротив меня, и стеклянной дверью была еще одна ниша. Ей предназначалась основная роль как при расположении ниш, так и при распределении охранников. Было совершенно очевидно, что из нее можно быстрее добраться до выхода, чем из моей. Некто в ней занимал более удобное положение, чем обитатели других ниш, которым, чтобы добраться до выхода, нужно было обязательно миновать меня. Вот здесь-то и проступала известная ущемленность моей позиции, что породило у меня недоверчивость, ведь расположение ниш было настолько точно продумано, что я предположил в нем определенное намерение. Эта мысль навела меня на подозрение, что в этой нише может находиться охранник, что создавало трудности, ибо этот охранник по общему замыслу мог оказаться лишним, если бы моя ниша находилась ближе всех к двери. Если там действительно сидел охранник, то мое положение вызывало сомнение и в определенном смысле оказывалось ненужным. Но я не хотел предполагать это, так как это не только противоречило словам трех старух (которые, правда, не очень-то заслуживали доверия), но и вновь подняло бы вопрос о том, не являюсь ли я сам узником и не является ли мое положение охранника лишь фикцией, с помощью которой городские власти меня просто надули. Сложность положения помогла мне понять назначение четырех ниш возле двери: в нише, расположенной ближе к двери, находился охранник, а напротив него, на моей стороне коридора и потому для меня невидимой, должна быть ниша, в которой содержался узник. На моей стороне институт охранника был представлен моей персоной, а напротив меня был узник (который неподвижно следил за мной), и, таким образом, в этих четырех нишах находились охранники и узники, но сидели они таким образом, что на каждой стороне стены было по одному охраннику и по одному узнику, которые располагались каждый в своей нише. Разумеется, можно было также предположить, что в невидимой для меня нише возле двери находился охранник, а не узник, узник же, наоборот, в видимой, как это явствовало из всех комбинаций, которые я выстраивал. Я постоянно, хотя и против воли, возвращался к мысли, которая эти смелые выводы, с помощью каковых я пытался познать истину, ставила в зависимость от решения вопроса, являюсь я охранником или узником. Правда, я свободно мог бы через дверь (ведь она казалась незапертой) подняться наверх к трем старухам с их картами и пирожными, но такое поведение сразу после того, как я получил место охранника — а это, что ни говори, была весьма значительная должность, получить которую мог далеко не каждый, — было бы действительно неприличным. Однако интересовавший меня вопрос возник больше на основе логических рассуждений и ими же был обострен, он больше затрагивал теоретическую возможность, чем реальную действительность. Поэтому лучше было рискнуть незаметно прошмыгнуть к двери. (Ведь возможно, она сейчас была и заперта.) Если она окажется незапертой — а не было никакой причины предполагать обратное, — я бы еще сумел подняться к этим страшным старухам, единственной административной инстанции, которая для меня существовала; других служащих я просто не знал — ни раньше, ни теперь. Мое одеяние внушало мне надежду на возможность осуществления моего замысла. Я вспомнил, что на моем платье были изображены фигурки, такие же, как на стенах коридора. Итак, я смог бы незаметно продвинуться к выходу, держась вплотную к стене. Правда, я понимал, что непреодолимым препятствием на моем пути может стать та самая ниша, наличие которой я предположил между собой и дверью, но некоторое сомнение в правильности моих расчетов позволило мне отважиться на этот риск. Я начал осторожно выдвигаться из ниши, мое продвижение было бесконечно долгим и заняло несколько часов. Наконец я очутился в коридоре; плотно прижавшись к стене, я стоял, вытянув руки и растопырив пальцы. И тут меня поразила одна особенность стены, о которой я и не догадывался. Стена оказалась не прямой, как я думал, а изогнутой, на ней были впадины и выпуклости, это удлиняло мой путь. Кроме того, поначалу я не разобрал, из какого она материала, это было зернистое стекло. Фигуры на стене изображали страшных демонов и абстрактные орнаменты, соединенные в произвольном порядке, таким образом, я продвигался как в чаще и был уверен, что меня не видно, ибо я сам с трудом различал свое тело, настолько полно моя одежда сливалась со стеной. Неразличимы должны были быть мое лицо и руки, ибо по стенам разбросаны были большие белые пятна, а благодаря освещению здесь любое объемное тело превращалось в плоское, так как совершенно отсутствовали тени. Я медленно двигался к двери и, по всей вероятности, находился уже на полпути между исходной точкой своего движения и местом, где, по моим предположениям, должна была находиться соседняя ниша, когда левой рукой, которую я простер далеко от себя и прижал ладонью к стене, я ощутил какой-то предмет. Это прикосновение было почти незаметным, однако мне показалось, что я почувствовал легкую вибрацию предмета, который спокойно реагировал на мое прикосновение. Но мне еще показалось, что он слегка надавил на кончики моих пальцев. Я посмотрел в сторону двери, которую не мог видеть, так как находился возле углубления в стене. В этом углублении также были изображены идолы со звериными головами, смотревшие на меня зелеными глазами. В хаосе форм я не мог различить собственную руку, она показалась мне чужой, словно не моей, у меня возникло ощущение, что я потерял над ней всякую власть. Я с напряжением посмотрел на нее, прижав лицо к стене, чтобы выяснить, к чему она прикоснулась. На участке стены, где лежала моя рука, были плотно нанесены линии, а рядом — многорукое чудовище, и невозможно было ничего разглядеть на стене. Поэтому меня мгновенно охватил ужас, когда рядом со своей я увидел постороннюю руку. Она могла принадлежать только человеку, который должен был стоять у стены недалеко от меня. Это была маленькая и мясистая мужская рука с тонкими, чрезвычайно белыми пальцами с узкими и длинными ногтями, выступавшими над моими настолько, что кончики пальцев этой руки касались моей, казалось, что обе руки срослись друг с другом. Я стоял неподвижно и осторожно, терпеливо пытался проследить за этой чужой рукой, которая, будто отделенная от туловища, была приклеена к стене. Я обратил внимание, что рука эта повернута ладонью к стене. Обстоятельство это навело меня на мысль, что незнакомец находился в таком же положении, что и я. Я поднял взгляд выше и после длительного поиска в том месте, где был выступ в стене, увидел лицо мужчины, который смотрел на меня. Я увидел узкое лицо такой формы, какую до этого никогда не видел, на лице была четко обозначена каждая линия и каждая складка кожи. Губы были искривлены, и я разглядел даже мелкие, острые частые зубы. Я помню свое бессмысленное, но упорное стремление их сосчитать, отчего мало-помалу пришел в новое замешательство. Но сильнее всего меня привлекли его глаза, казалось, они горели от ужаса. Затем я потерял его из виду, но не могу сказать, кто из нас двинулся вперед, может, незаметно изменилось направление моего взгляда и человек потерялся в линиях стены, а может, он удалился. Я начал отступать назад, движения мои были настолько медленны и осторожны, что на возвращение в мою нишу, где я смог бы обдумать свое новое положение, ушло несколько часов.
Обстоятельство, что человек, которого я увидел, был обитателем той самой оставшейся для меня невидимой ниши, казалось мне очевидным и наполняло меня определенной гордостью: ведь я все-таки нашел подтверждение истины, каковая была вычислена исключительно теоретическим путем (хотя во мне вдруг в какой-то момент возникло чертовское, хоть и необоснованное, подозрение, что я увидел лишь свое собственное изображение, ведь стены грота были сделаны из стекла). Поэтому, если допустить, что человек с широко открытыми от ужаса глазами и острыми частыми зубами действительно существовал (о своем новом подозрении я скажу позже), то это так же совершенно очевидно должен был быть охранник, так как он двигался мне навстречу, узник же, чтобы попытаться бежать, должен был бы направляться в другую сторону. Факт, который снова ставил под сомнение мое положение как охранника. Конечно, было проще — я все время возвращался к этой возможности — подняться наверх к трем старухам и выяснить у них всю правду. Я мог бы несколькими прыжками преодолеть этот путь — всего какие-то считанные метры — до незапертой двери, я бы рывком открыл ее и выскочил из тюрьмы, конечно, я бы спокойно смог сделать это, и похоже, ничто не мешало мне сделать это; однако вновь возникала мысль, что если бы эти жирные, обрюзгшие пугала с синими губами, липкими пальцами и отвислыми щеками меня бы не отпустили (правда, я даже отдаленно не допускал такого коварства), то реальность оказаться узником, а не охранником стала бы для меня настоящим адом. Ибо кто мог бы тогда жить в этом коридоре, который незаметно теряется во чреве земли, наполненный синим светом, освещающим дикие лики на стенах, где мы должны таиться каждый в своей нише, быть рядом друг с другом, не видя друг друга, даже не чувствуя дыхания соседа, каждый в надежде, что он — охранник, а остальные — узники и что ему дана власть быть здесь первым, где сидят бездушные тени, образующие замкнутый круг? Эта мысль была невыносима для меня. Единственным утешением служила надежда, что я лишь тогда, к удовлетворению моего начальства, смогу выполнять свои трудные обязанности охранника, когда поверю в его заверение, что я свободен (иногда основой для такого доверия — что создает величие города — будет не вера, а страх). Но в этом месте моих рассуждений мне пришла в голову решающая идея (аналогичная утверждению Коперника): нужно иначе представить себе расстановку охранников. Нужно…
Сведения о состоянии печати в каменном веке
Современное человечество высказывает порой столь же ошибочные, сколь и нелепые суждения о веке, в котором я жил. Люди почему-то привыкли считать каменный век сугубо примитивной эпохой, упуская при этом из виду, что основополагающие изобретения и открытия, которые нынче считаются чем-то само собой разумеющимся, были сделаны именно тогда. Правда, к рисункам на стенах наших пещер удалось привлечь известный интерес, но наше величайшее культурное завоевание — наша печать — до сих пор остается непризнанной.
Как многовековой редактор «Лиасского наблюдателя», органа, который зачастую ошибочно смешивают с «Новой третичной газетой», боевым листком консерваторов, я хотел бы в общих чертах устранить грубейшие предрассудки и рассеять тьму неведения применительно к нашей эпохе.
Газета есть одно из первых изобретений человечества, можно по справедливости утверждать, что газета вообще есть второе по счету изобретение человечества. Необходимость в ней возникла, когда человек осознал, что наделен даром изобретательства, осознание, к которому, разумеется, можно было прийти лишь после первого изобретения — способа вертикально перемещаться по ровной земле при помощи обеих ног вместо того, чтобы лазать по деревьям. Изобретатель тотчас смекнул, что изобретения, которые неизбежно последуют благодаря этому способу, станут неотъемлемым завоеванием всего человечества лишь в том случае, когда с помощью газет их сделают достоянием гласности.
Первые газеты еще выцарапывались на коре деревьев, но уже в пермский период их начали высекать на камне. Появление гигантских звероящеров потребовало более солидного материала, ведь и мы сами начали в тот же период и по тем же причинам слезать с деревьев и переселяться в пещеры. Камень стал для нас излюбленным материалом; сперва, еще в юрский период, это был, разумеется, известняк, позднее, когда воздвигались Альпы, мы преимущественно использовали гранит, мне самому еще довелось поработать с этим идеальным материалом в последней четверти моей журналистской карьеры.
«Лиасский наблюдатель» был единственной газетой мезозойской эры, которая выходила ежегодно, правда, «Меловой период», орган прогрессивной партии, попытался достичь той же периодичности, но, потерпев неудачу уже под названием «Будущее», ограничился выходом раз в десятилетие, как и все остальные газеты. А «Каменноугольная газета», старейшая у нас, выходила каждые сто лет.
Выпуск газеты был титаническим, трудоемким занятием, которое в свою очередь предполагало наличие исполинских сил, готовность стойко переносить нечеловеческие тяготы, неподкупность суждений и литературный стиль. К тому же это было весьма опасное занятие, лицом к лицу со смертью, и не один мой коллега навсегда остался лежать под рухнувшим на него газетным листом, на котором только и оставалось, что проставить цену.
Но дух человеческий способен превозмогать любые трудности. Особенно упростилось газетное дело в мезозойскую эру благодаря великим открытиям и изобретениям. На мое время приходится прежде всего открытие силы тяжести. Как сейчас помню свои первые шаги в «Юрском вестнике», окончившем свое существование вместе с юрским морем. В те времена мы еще делали много лишнего, а деревья валили следующим образом: отрезали кусок за куском, начиная сверху, а потом с великой натугой тащили вниз.
В лиасский период сила тяжести проявила свое благотворное воздействие в самых различных областях. Что до газетного дела, то мы выучились добывать камень на крутых склонах, чтобы он падал сам по себе. Экстренные выпуски — ну например, по поводу возникновения Альп — мы писали на круглых камнях и катили их на ровное место, что, конечно же, весьма упрощало доставку газеты, которую тоже брало на себя издательство. (Почту придумали лишь в третичный период, другими словами, в начале кайнозойской эры.)
Если первые наши газеты, что вполне естественно, содержали лишь информацию о наших великих открытиях и достижениях, из которых я хотел бы здесь упомянуть лишь использование огня и эпохальные военные изобретения палицы и пращи (которые, кстати сказать, сделали способ ведения войны настолько бесчеловечным, что война сама по себе стала невозможной), то с ходом времени характер газет резко изменился. До сих пор они занимались исключительно мирным и гармоническим развитием рода человеческого, теперь же, с началом юрского периода, и для них наступила новая, решающая эра.
Правда, мирное обитание на деревьях, тот золотой век, который воспевали наши поэты, уже давно миновал, но люди еще не утратили надежды когда-нибудь вновь туда вернуться. Пещеры пермского периода воспринимались людьми как некая хоть и необходимая, но недолговечная ссылка, ибо они не могли предвидеть, что выступающие сначала лишь по-одиночке звероящеры, от которых они и спаслись бегством в пещеры, когда-нибудь поставят под сомнение само существование рода человеческого. В звероящерах люди видели не более как причудливую, хотя и небезопасную игру природы. Увы, юрский период доказал людям их неправоту. Нам пришлось раз и навсегда распроститься с мечтой когда-нибудь снова вернуться на деревья, и теперь лишь утописты, как, например, староконсерваторы, еще поминали ее для неубедительной агитации в пользу своей партии. Ящеры стократно превосходили нас, людей, размерами, тысячекратно — численностью. Они неустанно развивали новые, все более страшные и фантастические формы. Они отравляли воздух, вытаптывали землю, оскверняли воду. Их все более удлиняющиеся шеи создавали потребность во все более глубоких и сложных пещерах. Но не одни лишь ящеры угрожали нам в юрский период. К ужасам животного мира прибавились ужасы природы. Земля и сама менялась. Не зря же она породила этих чудовищных животных. Альпы пробились на поверхность под грохот землетрясения. Человечество, сидя в пещерах, почувствовало, как сотрясаются над ним горы, и, однако же, не осмелилось покинуть их спасительную тьму.
Вот в это время газеты целиком и полностью поставили себя на службу роду человеческому. Речь шла уже не о том, чтобы осуществлять прогресс, а о том, чтобы спасти жизнь как таковую.
Юрский период есть великая, есть героическая эпоха газеты каменного века. Все чаще по склонам гор скатывались в долины экстренные и специальные выпуски, либо сами редакторы собственноручно закатывали их долгими зимними ночами по шаткой земле мимо спящих ящеров в пещеры своих собратьев. Газеты сообщали о месте обитания ящеров, рисовали и описывали их новые формы, строили прогнозы относительно ближайших землетрясений. Прибавьте к этому репортажи о схватках между отдельными ящерами и отдельными племенами и подробный критический разбор этих схваток. Словом, в те ужасные времена газета зачастую была единственным светочем свободы.
Лишь меловой период, бурно встреченный неумеренными восторгами, принес с собой решающий поворот. Ящеры покинули пределы все более усыхающего юрского моря. Альпы же воздвиглись окончательно, хотя и с опозданием на несколько тысячелетий. И поэтому «Юрский наблюдатель» приступил к осуществлению своей последней и — увы — бесполезной миссии.
Нельзя отрицать, что меловой период был одной из самых счастливых эпох в истории человечества, хотя, на мой взгляд, ни величием, ни значением он не идет ни в какое сравнение с юрским. Люди снова начали свободно и без опасений передвигаться по земле, хотя, храня традицию, так и не вышли из пещер. Расцвели искусства. Была открыта варка продуктов. Строгие формы юрской живописи уступили место импрессионизму меловой культуры. Смягчились строгие и умеренные нравы периода ящеров, которые ставили себе единственной целью во что бы то ни стало сохранить человечество, игры и танцы завоевывали все большую популярность, особенно после того, как было изобретено хлопанье в ладоши.
Как ни хотелось нам поприветствовать эти новшества на страницах «Юрского наблюдателя», от нас не укрылось, что наступил век более слабый, который с ходом времени разовьется в опасность куда большую, нежели звероящеры. Нас переполняла растущая тревога. Характер испытанной газеты изменился, она стала глубоко консервативной.
Всего сильней встревожило нас открытие мела и последующее его применение для письма. Множилось число газет, написанных мелом и посвященных мимолетной злобе дня. Человечеством овладел зуд письменного многословия. Канул в забвение чистый, лаконичный стиль юрского периода. Стало ясно, что вслед за исчезновением опасности уменьшится и сила человека.
«Юрский наблюдатель» проиграл битву. К концу мезозойской эры он прекратил свое существование. Это одно из самых горьких воспоминаний моего поколения. Как сейчас помню темную новогоднюю ночь в году миллионном до Рождества Христова, с которой началась кайнозойская эра. Моим предчувствиям суждено было сбыться. Я уже видел мысленным взором дефилирующих гигантских мамонтов, этих жалких карликов по сравнению с ящерами, неспособных представлять сколько-нибудь серьезную угрозу для человека и тем самым сделать его сильным. Изобретение почты меня не обмануло. Изобретение каменного щита подтвердило мои опасения: надежды, которые мы возлагали на палицу и пращу, рухнули, война вновь стала возможной теоретически и потому вскорости началась практически. А причиной войны послужило изобретение государства, сделанное в середине третичного периода.
Не одна лишь война явилась следствием этого рокового и злосчастного изобретения, нет, ему мы были обязаны также отмиранием газет. Газеты могли существовать лишь как международные институции, адресованные всему человечеству, государство же низвело их до уровня муниципальных листков, и они оказались недостаточно гибкими для выполнения новых, мелких задач. Закрывалась одна газета за другой, и уже в плиоцене приказала долго жить последняя газета каменного века — «Орган мергеля и гипса».
Собака
Уже в первые дни своего пребывания в этом городе я обратил внимание на группку людей, стоявших вокруг расхристанного мужчины, громко читавшего из Библии. Собаку, которая была при нем и лежала у его ног, я заметил не сразу и удивился тому, что не обратил раньше внимания на этого огромного и безобразного зверя, черного как смоль, покрытого гладкой и влажной от пота шерстью. У пса были желтые, как сера, глаза, и, когда он открыл свою чудовищную пасть, я с содроганием увидел клыки такого же цвета, и весь его облик был таков, что я не мог сравнить его ни с одним живым существом на свете. Я не выдержал, не смог долго смотреть на это огромное чудовище и вновь обратил свой взор к его хозяину. Это был коренастый мужчина в рваной одежде. Однако кожа его, проглядывавшая сквозь дыры в ней, была чистой, его нищенское одеяние также отличалось необычайной опрятностью, а Библия, которую он держал в руках, была настоящим сокровищем: ее переплет сверкал золотом и брильянтами. Голос проповедника был тверд и спокоен. Его слова отличались необычайной ясностью, речь была простой и уверенной. Мне бросилось в глаза также и то, что он никогда не прибегал к иносказательности. Это было спокойное изложение Библии, лишенное всякого фанатизма, и если его слова не всегда звучали убедительно, то это объяснялось исключительно присутствием собаки, неподвижно лежавшей у его ног и взиравшей на слушателей своими желтыми глазами. И вот это странное сочетание хозяина и собаки меня сразу пленило и направило все мое внимание на выяснение личности этого человека. Он каждый день читал свои проповеди в городе. Однако обнаружить его всякий раз было сложно, хотя он и занимался своим делом до поздней ночи. В городе было легко заплутать, несмотря на то что он был спланирован четко и просто. Ко всему прочему проповедник покидал свое жилище в разное время и вообще в его действиях нельзя было усмотреть какой-либо разумной последовательности. Иногда он непрерывно говорил весь день на одной и той же площади, иногда же менял место каждые четверть часа. И всегда его сопровождала черная и огромная собака, которая шествовала рядом с ним, когда он шел по улице, и тяжело ложилась на мостовую, когда он начинал свою проповедь. У него никогда не было много слушателей, чаще всего он стоял один. Но, насколько я смог заметить, его это не смущало. Он не уходил со своего места и продолжал свою проповедь. Часто я видел, как он вдруг останавливался посреди небольшой улочки и начинал громко молиться. А совсем неподалеку, по другой, более широкой улице, шли люди и не обращали на него никакого внимания. Мне никак не удавалось незаметно проследить за ним, я постоянно был вынужден полагаться на случай — и потому попытался отыскать его жилище, но никто не мог мне указать его. Поэтому однажды я весь день ходил за ним по пятам. Мне пришлось потратить на это несколько дней, так как к вечеру он бесследно исчезал, ведь я старался следить за ним незаметно, чтобы он не обнаружил моих намерений. Но вот наконец однажды поздно вечером я увидел, как он вошел в дом на одной из улиц, где, как мне было известно, жили только богатейшие граждане города, это меня привело в немалое удивление. С того момента я изменил свое поведение, перестал прятаться, держась в непосредственной близости от него, чтобы он видел меня; я ему нисколько не мешал, но собака при моем приближении начинала рычать. Так прошло несколько недель. И вот как-то, в конце лета, окончив толкование Евангелия от Иоанна, он подошел ко мне и попросил проводить его домой. По дороге он не произнес ни слова. Когда мы вошли в дом, было уже так темно, что в большой комнате, куда он меня ввел, горела лампа. Комната находилась ниже уровня улицы, войдя в дверь, мы спустились на несколько ступеней вниз. Стен не было видно из-за огромного количества книг. Под лампой стоял большой простой стол из еловых досок, возле которого стояла девушка в темно-синем платье и читала книгу. Она не отреагировала на наше появление. В комнате было два окна, завешанных плотными занавесками, под одним из окон лежал обычный тюфяк, у противоположной стены стояла кровать, а возле стола — два стула. У двери печь. Когда мы приблизились, девушка повернулась к нам, и я увидел ее лицо. Она подала мне руку и указала на один из стульев, тут я обнаружил, что хозяин уже расположился на тюфяке, собака легла у него в ногах.
— Это мой отец, — произнесла девушка, — он уже заснул и не слышит нас. У собаки нет имени. Она просто появилась у нас однажды вечером, когда отец читал проповедь. Дверь не была заперта. Она открыла ее сама, надавив лапой на ручку, и вошла в комнату.
Как оглушенный стоял я перед девушкой, а затем тихо спросил, кем был ее отец.
— Он был очень богат, у него было много фабрик, — ответила она, опустив глаза, — но он оставил мать и братьев, оставил, чтобы нести людям правду.
— Ты думаешь, все то, что проповедует твой отец, действительно правда? — спросил я.
— Да, правда, — ответила девушка, — я всегда знала, что это правда, и потому пришла с ним в этот подвал и живу тут. Но я не знала, что, когда начинают провозглашать правду, появляется собака.
Девушка замолчала и посмотрела на меня так, будто хотела меня о чем-то попросить, о чем не осмеливалась сказать вслух.
— А ты прогони этого пса, — сказал я, но девушка лишь покачала головой.
— У него нет имени, и потому он никуда не уйдет, — тихо произнесла она. Она заметила мою растерянность и присела на один из стульев. Я последовал ее примеру.
— Ты что, боишься ее? — спросил я.
— Я боялась ее всегда, — ответила она. — Когда год назад сюда пришла мать с адвокатом и братьями, чтобы вернуть нас с отцом домой, они тоже страшно испугались этой безымянной собаки, а собака стала перед отцом и принялась рычать на них. Я боюсь ее, даже лежа в постели, но сейчас все стало по-другому. Сейчас пришел ты, и я теперь ничего не боюсь. Я всегда знала, что ты придешь. Конечно, я не представляла, как ты выглядишь, но была уверена, что ты однажды появишься вместе с отцом и это случится вечером, когда уже будет гореть лампа и когда на улице стихнет шум. Я знала, что ты придешь, чтобы подарить мне брачную ночь в этой комнате, наполовину ушедшей в землю, в моей кровати, рядом с книгами. Вот так мы будем лежать рядом, мужчина и женщина, а там, на тюфяке, — отец. Он будет лежать в темноте как ребенок, и огромная черная собака будет охранять нашу несчастную любовь.
Как мне было забыть нашу любовь! Окна, как узкие четырехугольники, парили где-то в пространстве над нашей наготой. Мы лежали, тесно прижавшись, со все большей страстью сливаясь друг с другом, и уличные шумы смешивались с замирающим криком нашей страсти. Иногда до нас доносилась неуверенная поступь пьяного, возвращающегося домой, иногда это были семенящие шаги проститутки, иногда — долгий монотонный стук солдатских сапог проходящей колонны, сменяемый затем звонким перестуком конских копыт, глухим перекатом колес. Мы лежали под землей, окутанные теплой темнотой, более не страшась ничего, а из угла, где беззвучно, как мертвец, спал на своем тюфяке хозяин, на нас смотрели желтые глаза собаки, круглые диски двух желтых лун, они подстерегали нашу любовь.
Пришла осень, пылающая золотом и багрянцем, за ней последовала поздняя в этом году зима, мягкая, без фантастических морозов предыдущих лет. Мне так ни разу не удалось выманить девушку из подвала, чтобы познакомить ее с друзьями, сходить с ней в театр (где зрели великие дела) или погулять вместе по сумеречному лесу, раскинувшемуся по холмам, которые волнами подступали к городу, — она постоянно оставалась дома, сидя за столом из еловых досок, пока не возвращался отец с огромной собакой, тогда она увлекала меня в постель под желтый свет окон над нами. Но вот как-то в самом начале весны, когда в городе еще лежал снег, грязный и мокрый, метровой высоты в затененных местах, девушка неожиданно появилась у меня в комнате. В окно проникали косые лучи солнца. Время близилось к вечеру, и я подбросил в печь несколько поленьев. Вот тут в дверях и появилась она, бледная и дрожащая, наверняка замерзшая, так как была без пальто, в своем темно-синем платье. Только на ногах у нее были красные меховые туфельки, которые я видел на ней впервые.
— Убей собаку, — произнесла девушка, едва появившись на пороге, еле переводя дух. Ее волосы были распущены, а глаза широко раскрыты. Весь ее облик был настолько призрачным, что я не осмелился до нее дотронуться. Я подошел к шкафу и вынул револьвер.
— Я знал, что ты когда-нибудь попросишь меня об этом, — сказал я, — и потому купил оружие. Когда я должен сделать это?
— Сейчас, немедленно, — тихо ответила она. — Отец тоже боится собаки, он боялся ее всегда, теперь я поняла это.
Я проверил револьвер и надел пальто.
— Они в подвале, — сообщила девушка, опуская глаза. — Отец лежит на своем матраце, целый день, не решаясь пошевелиться, так он боится ее. Даже молиться не может, а собака улеглась перед дверью.
Мы спустились к реке, перешли через каменный мост. Небо было багряно-красного цвета, как при пожаре. Солнце только что село. В городе было оживленнее, чем обычно. По улицам сновали люди и машины. Казалось, что они двигались в толще какого-то кровавого моря, поскольку окна и стены еще отражали лучи багряного вечернего солнца. Мы ринулись в толпу. Движение все усиливалось. Мы пробирались сквозь ряды тормозящих автомобилей и раскачивающихся омнибусов, похожих на огромные чудовища со злыми матовыми глазами, спешили мимо возбужденно жестикулирующих полицейских в серых шлемах. Я с такой решительностью устремился вперед, что девушка заметно отстала; наконец я выбрался наверх, на нужную улицу, задыхаясь, в расстегнутом пальто, навстречу фиолетовым сгущающимся сумеркам. Но пришел я слишком поздно. В тот самый момент, когда я стремительно прыгнул в подвал и, держа в руке револьвер, ударом ноги распахнул дверь, я увидел огромную тень страшного животного, которое, разбив стекло, выскочило через окно на улицу. А на полу белой массой в черной луже лежал хозяин, растерзанный собакой до неузнаваемости.
Когда я, весь дрожа, прислонился к стене, утонув в книгах, на улице раздались сигналы машин. Вошли люди с носилками. Я увидел неясные очертания врача, стоявшего перед покойником, и вооруженных до зубов полицейских с бледными лицами. Повсюду стояли люди. Я громко позвал девушку. Я бросился в город, вновь пересек мост и добрался домой. Но там ее не было. Я искал ее всюду, в отчаянии, без сна и отдыха, забыв про еду и питье. На ноги была поднята полиция. И поскольку все испытывали огромный страх перед этой чудовищной собакой, то на помощь искавшим были также направлены солдаты местного гарнизона, которые цепью прочесывали окрестные леса. По грязной желтой реке поплыли лодки, и люди длинными шестами тщательно обследовали дно. Уже наступила весна, обрушивая на город и окрестности беспрерывные теплые ливни, и поиски перенесли в пещеры каменоломен. Девушку звали громкими голосами, освещая пространство высоко поднятыми факелами. Ее искали в канализационных туннелях и даже под крышей местного кафедрального собора. Но она как в воду канула. Никто не видел больше и собаку.
Спустя три дня поздно ночью я возвратился домой. Опустошенный усталостью и потерявший всякую надежду, прямо в чем был я бросился на кровать и тут же услышал внизу на улице шаги. Я подбежал к окну, распахнул его и высунулся в ночь. Внизу черной лентой лежала улица, еще мокрая от дождя, который шел до полуночи. На влажном асфальте неровными золотистыми пятнами отражались уличные фонари, а по улице вдоль деревьев шла девушка в темном платье и красных туфельках, длинные пряди ее волос отливали в ночи синевой, а рядом с ней, как темная ночь, мягко и беззвучно, подобно агнцу, шла собака с желтыми круглыми сверкающими глазами.
Туннель
Двадцати четырех лет от роду, весь заплывший жиром, он умел провидеть страшное (это его дар, пожалуй, единственный) и, дабы не принимать все слишком близко к сердцу, старался закрыть те отверстия в своем теле, сквозь которые и проникает в нас все чудовищное, иными словами: он курил сигары («Ормонд Брэзил-10»), поверх очков носил еще вторые, солнечные, а уши затыкал ватой. Этот молодой человек, до сих пор зависящий от родителей, посещающий какие-то мифические занятия в университете, до которого добираться надо целых два часа, — так вот в воскресенье под вечер этот молодой человек, как обычно, сел в поезд — отправление в 17.50, прибытие в 19.27, — чтобы на другой день попасть на семинар, который он, впрочем, уже решил прогулять. Солнце сияло в безоблачном небе, когда он покидал родной городок. Стояло лето, прелестная погода. Поезд шел между Альпами и Юрой, мимо богатых деревень и крошечных городков, потом вдоль реки и меньше чем через двадцать минут, сразу за Бургдорфом, нырнул в небольшой туннель. Вагоны были переполнены. Молодой человек, сев в первый вагон, стал с трудом протискиваться назад, взмокший от пота, он производил на всех впечатление придурка. Пассажиры сидели очень тесно, многие на чемоданах; купе второго класса тоже были набиты битком, и лишь в первом классе было свободно. Когда молодой человек пробился наконец сквозь гущу рекрутов, студентов, любовных парочек и семей — на ходу его мотало из стороны в сторону, он то и дело натыкался на чьи-то животы и груди, — в последнем вагоне он нашел место; в этом купе третьего класса (а в третьем классе редко бывают купе) было так просторно, что он смог занять целую скамейку. Напротив него сидел человек, еще более толстый, чем он, и сам с собою играл в шахматы, а рядом, у выхода в коридор, сидела рыжеволосая девушка и читала роман. Итак, он уселся у окна и только закурил свою сигару «Ормонд Брэзил-10», как начался туннель, показавшийся ему длиннее, чем обычно. Он часто ездил этим путем, чуть ли не каждую субботу и воскресенье вот уже год, и на туннель почти не обращал внимания, просто чувствовал его. Правда, он всякий раз намеревался сосредоточиться при въезде в туннель, но, вечно думая о чем-то своем, почти не замечал краткого погружения во мрак, ибо, когда он вспоминал о нем, туннель уже кончался, так быстро несся поезд и таким коротким был туннель. Вот и сейчас молодой человек даже не снял солнечных очков, когда они въехали в темноту, он и думать забыл о туннеле. Солнце еще светило вовсю, и местность, по которой они ехали, леса и холмы, далекая цепь Юры и дома в городке — все казалось сделанным из золота, все так сверкало в вечернем свете, что он вдруг осознал внезапно наступившую темноту туннеля; вот и объяснение, почему туннель показался ему длиннее обычного, когда он о нем вспомнил. В купе было темным-темно — туннель короткий, какой же смысл зажигать свет, ведь еще секунда, другая, и в окне появится первое, еще робкое мерцание дня, и, молниеносно нарастая, ворвется в купе золотой полный свет. Но поскольку все еще было темно, он снял солнечные очки. В этот миг девушка закурила сигарету, очевидно сердясь, что не может дальше читать роман, так ему показалось в красноватом свете спички; на его часах со светящимся циферблатом было десять минут седьмого. Откинувшись в угол у окна, он задумался о своей безалаберной учебе, в которую, кажется, никто не верил, о семинаре, в котором он должен участвовать завтра и на который не пойдет (все, что он делал, было только видимостью, желанием под предлогом какой-то деятельности достичь порядка, но не порядка как такового, а только ощущения порядка в предвидении того Страшного, от чего он отгораживался, заплывая жиром, затыкая рот сигарой, а уши ватой). Когда же он вновь глянул на часы, было уже четверть седьмого, а туннель все не кончался. Это сбило его с толку. Правда, теперь зажегся свет, в купе стало светло, рыжая девушка могла дальше читать роман, а толстый господин продолжал сам с собою играть в шахматы, но снаружи, за стеклом, в котором отражалось все купе, по-прежнему был туннель. Молодой человек вышел в коридор, где взад и вперед расхаживал рослый мужчина в светлом плаще и черном шарфе. В такую-то погоду, подумал молодой человек и заглянул в другие купе — люди сидели уткнувшись в книги или просто болтали. Он опять забился в свой угол, туннель вот-вот кончится, еще чуть-чуть — и все, на часах уже почти двадцать минут седьмого. Он рассердился на себя за то, что раньше не обращал внимания на этот туннель, ведь он длится уже четверть часа, и, судя по скорости поезда, это длинный туннель, один из длиннейших в Швейцарии. Вполне вероятно, что он сел не в тот поезд, а иначе как он мог бы не помнить, что в двадцати минутах езды от его родного городка находится такой длинный туннель. Поэтому он спросил толстого шахматиста, идет ли этот поезд в Цюрих, тот ответил: да. «Я и понятия не имел, что на этом пути есть такой длинный туннель», — сказал молодой человек, однако шахматист, пожалуй, даже сердито — вот уже второй раз прерывают его нелегкие размышления — ответил, что в Швейцарии много, чрезвычайно много туннелей и хотя он впервые в этой стране, но сразу же это отметил, вдобавок он читал в каком-то статистическом ежегоднике, что ни в одной стране мира нет такого количества туннелей, как в Швейцарии. А теперь он должен извиниться, нет, ему в самом деле жаль, но он занят очень важной проблемой, связанной с защитой Нимцовича, и не может больше отвлекаться. Шахматист был вежлив, но тверд, и молодой человек понял, что от него ответа не дождешься. И потому страшно обрадовался приходу контролера. Он был убежден, что ему сейчас попросту вернут билет, и, даже когда контролер, бледный, тощий человек, с виду очень нервный, особенно в сравнении с рыжеволосой девушкой — у нее он прежде всего взял билет, — сказал, что ей надо сходить в Ольтене, молодой человек все еще не терял надежды, так он был уверен, что сел не в тот поезд.
— Мне придется доплатить за билет, ведь мне надо в Цюрих, — сказал он, не вынимая изо рта сигары («Ормонд Брэзил-10»), и протянул билет контролеру.
Проверив билет, тот ответил, что все в полном порядке.
— Но мы же едем в туннеле! — сердито и довольно энергично воскликнул молодой человек, решившись наконец прояснить ситуацию.
— Герцогенбухзее уже проехали, скоро будет Лангенталь, — сообщил контролер. — Это точно, сейчас уже восемнадцать двадцать.
— Но мы уже почти двадцать минут едем в туннеле! — настаивал молодой человек.
Контролер взглянул на него с недоумением.
— Это поезд до Цюриха, — произнес он и тоже посмотрел в окно. — Восемнадцать двадцать, — повторил контролер, казалось, теперь и он чем-то встревожен. — Скоро будет Ольтен, в восемнадцать тридцать семь. Погода портится, неожиданно испортилась, вот оттого и темень, может быть, ураган, да, похоже на то.
— Чепуха! — вмешался человек, занятый защитой Нимцовича, раздраженно, поскольку все еще держал в руке свой билет, на который контролер даже не взглянул. — Чепуха! Мы едем через туннель. Совершенно отчетливо видны скальные породы, кажется, это гранит. В Швейцарии туннелей больше, чем где бы то ни было. Я читал это в статистическом ежегоднике.
Контролер, взяв наконец билет у шахматиста, снова стал уверять, чуть ли не с мольбой в голосе, что поезд идет в Цюрих. В ответ на это молодой человек потребовал начальника поезда. Он в первом вагоне, ответил контролер, и все-таки поезд идет в Цюрих, сейчас восемнадцать двадцать пять, и через двенадцать минут, согласно летнему расписанию, будет остановка в Ольтене, он ездит этим поездом трижды в неделю. Молодой человек вышел в коридор. Теперь идти по переполненным вагонам было еще труднее, чем раньше, когда он шел тем же путем, только в обратном направлении, вероятно, поезд набрал громадную скорость, и грохот его был ужасен; так что молодому человеку пришлось опять засунуть в уши вату — он вынул ее, садясь в поезд. Люди, мимо которых он проходил, вели себя спокойно, поезд этот ничем не отличался от других поездов, которыми он ездил по воскресеньям, во второй половине дня; и тревоги он ни в ком не заметил. В купейном вагоне второго класса у окна коридора стоял англичанин и, сияя от радости, постукивал курительной трубкой по стеклу.
— Симплон[2], — сказал он.
И в вагоне-ресторане все было как всегда, впрочем, все места были заняты. А ведь кто-нибудь из пассажиров или кельнеров, подающих на столики венские шницели с рисом, мог бы обратить внимание на туннель…
— Что вам угодно? — осведомился начальник поезда, высокий, спокойный человек с тщательно ухоженными черными усами и в очках без оправы.
— Вот уже двадцать пять минут мы едем по туннелю, — проговорил молодой человек.
Начальник поезда вопреки его ожиданиям даже не взглянул в окно, а обратился к кельнеру:
— Дайте-ка мне коробку сигар «Ормонд Брэзил-10», — сказал он, — я курю тот же сорт, что и этот господин.
Но кельнер не мог подать ему сигары, так как этого сорта в буфете не было, и молодой человек, обрадованный, что нашлась наконец точка соприкосновения, предложил начальнику поезда свои сигары.
— Спасибо, — сказал тот, — в Ольтене у меня совсем не будет времени раздобыть сигары, и потому я весьма ценю вашу любезность. Курение штука немаловажная. Могу я просить вас следовать за мной?
Он повел молодого человека в багажный вагон, расположенный рядом с вагоном-рестораном.
— Дальше уже только локомотив, — сказал начальник поезда, — мы сейчас в самой голове состава.
В багажном вагоне горел слабый желтый свет, большая часть вагона тонула во мраке и неизвестности, боковые двери были заперты, и лишь сквозь маленькое зарешеченное оконце видна была тьма туннеля. Вокруг громоздились чемоданы, многие с наклейками отелей, несколько велосипедов и одна детская коляска. Начальник поезда повесил на крюк свою красную сумку.
— Итак, что же вам угодно? — спросил он снова, не глядя на молодого человека, вынул из сумки тетрадь и стал заполнять ее какими-то таблицами.
— После Бургдорфа мы едем по туннелю, — решительно начал молодой человек, — на этой дороге нет такого длинного туннеля, я каждую неделю езжу этим поездом туда и обратно и знаю дорогу как свои пять пальцев.
Начальник поезда продолжал писать.
— Молодой человек, — сказал он наконец и подошел к нему совсем близко, почти вплотную. — Я должен вам что-то сказать. Как мы угодили в этот туннель, я не понимаю, просто не знаю, чем это объяснить. И все же я прошу вас, подумайте сами: мы же движемся по рельсам, следовательно, туннель куда-то ведет. И в туннеле все как будто в порядке, кроме, разумеется, того обстоятельства, что он не кончается.
Начальник поезда, держа во рту нераскуренную сигару, говорил тихо, но с большим достоинством и так отчетливо и определенно, что каждое его слово было внятно, хотя в багажном вагоне грохот был много сильнее, чем в вагоне-ресторане.
— В таком случае я прошу вас остановить поезд, — нетерпеливо проговорил молодой человек, — я не понял ни слова из того, что вы сказали. Если с этим туннелем что-то не так, если вы сами не в состоянии объяснить, как мы сюда попали, то остановите поезд.
— Остановить поезд? — медленно переспросил начальник, он и сам уже подумывал об этом и, захлопнув тетрадь, сунул ее в красную сумку, болтавшуюся из стороны в сторону на крюке, а затем аккуратно раскурил сигару.
— Не пора ли рвануть стоп-кран? — спросил молодой человек и хотел уже схватиться за рычаг, что был как раз над его головой, но его тут же швырнуло вперед, и он ударился о стенку вагона. На него покатилась детская коляска и обрушились чемоданы: странно покачиваясь и вытянув вперед руки, начальник поезда двинулся через багажный вагон.
— Мы едем вниз, — сказал он, прислонясь к стенке рядом с молодым человеком, но ожидаемого удара мчащегося поезда о скалу не последовало, вагон не разлетелся в щепки, не сплющился в гармошку, нет, оказалось, туннель все тянется и тянется. На противоположном конце вагона распахнулась дверь. В ярком свете вагона-ресторана люди весело чокались друг с другом, потом дверь опять захлопнулась.
— Идите к машинисту, — произнес начальник поезда, задумчиво и, как показалось молодому человеку, с некоторой угрозой глядя на него, затем открыл дверь, возле которой они стояли, но в лицо им с такой ураганной силой ударил поток горячего воздуха, что их опять отшвырнуло к стене, и тут же багажный вагон заполнился страшным грохотом и ревом.
— Необходимо добраться до локомотива, — прокричал начальник поезда прямо в ухо молодому человеку, но его слова едва можно было разобрать, и тут же он исчез в прямоугольном проеме двери, сквозь который видны были ярко освещенные стекла кабины машиниста. Молодой человек решительно двинулся вслед за ним, хоть и не видел большого смысла в том, чтобы карабкаться на локомотив. Он ступил на платформу, с двух сторон огороженную железными перилами, и вцепился в них что было сил, но страшнее всего был не чудовищный сквозняк, который смягчался по мере приближения к локомотиву, а близость туннельных стен, которых он, правда, не видел, поскольку смотрел только вперед, но чувствовал их, сотрясаемый грохотом колес и свистом ветра, так что ему казалось, будто он с космической скоростью мчится в мир камня. Вдоль локомотива вели узкие стальные мостки, а над ними, вместо поручней, штанга; и мостки и штанга огибали локомотив, видимо, тут и надо было идти; ему предстояло прыгнуть, он прикинул — не меньше метра. Он прыгнул, ему удалось ухватиться за штангу, и, тесно прижимаясь к обшивке электровоза, он начал медленно продвигаться вперед. По-настоящему страшно ему стало, лишь когда он достиг боковой стороны локомотива — тут ураган ревел и свирепствовал вовсю и угрожающе близко проносились скалы, ярко освещенные огнями локомотива. Его спасло лишь то, что начальник поезда сквозь маленькую дверцу втянул его внутрь. Молодой человек в изнеможении привалился к стене, и вдруг, разом, все стихло — едва начальник поезда закрыл за ним дверцу, стальная обшивка гигантского локомотива почти совсем заглушила грохот.
— И сигары мы тоже потеряли, — произнес начальник поезда. — Глупо было закуривать, перед тем как лезть сюда, ведь эти сигары так легко ломаются, когда без коробки…
После опасной близости скальных стен туннеля молодому человеку приятно было переключиться на что-то напоминавшее ему о повседневности, в которой он пребывал еще менее получаса назад, о неразличимо похожих днях и годах (неразличимо похожих, ибо он жил только ради этого мгновения, мгновения обвала, ради этого внезапного опускания земной поверхности, ради этого фантастического падения в недра земли). Он достал из правого кармана коричневую коробку и вновь предложил начальнику поезда сигару, потом и себе в рот сунул сигару, и они осторожно склонились над зажигалкой начальника поезда.
— Я весьма ценю этот сорт, — заметил начальник поезда, — надо только хорошенько тянуть, а то они быстро кончаются.
Эти слова пробудили в молодом человеке подозрение, он почувствовал, что начальник поезда тоже с неохотой думает о туннеле, по-прежнему тянущемся снаружи (еще была надежда, что он вдруг кончится, как внезапно обрывается сон).
— Восемнадцать сорок, — сказал он, взглянув на свои часы со светящимся циферблатом, — сейчас мы должны уже быть в Ольтене. — И подумал о лесах и холмах, еще так недавно золотившихся в свете заходящего солнца.
Они стояли, прислонясь к стене, и курили.
— Моя фамилия Келлер, — представился начальник поезда, попыхивая сигарой.
Но молодой человек не сдавался.
— Карабкаться сюда было совсем небезопасно, — заявил он, — по крайней мере для меня, непривычного к такому лазанью, и потому я хотел бы знать, зачем вы меня сюда затащили.
Келлер ответил, что и сам толком не знает зачем, просто хотел выиграть время, время для раздумий.
— Время для раздумий, — повторил молодой человек.
— Да, — сказал начальник поезда, — именно так. — И снова принялся за сигару. Локомотив, казалось, опять пошел под уклон. — Мы же можем пройти в кабину машиниста, — предложил Келлер, продолжая в нерешительности стоять у стены, тогда как молодой человек уже двинулся вперед по коридору. Открыв дверь в кабину, он замер.
— Пусто, — сообщил он подошедшему начальнику поезда. — Машиниста на месте нет.
Они вошли в кабину, шатаясь от бешеной скорости, с которой поезд все дальше и дальше несся в глубь туннеля.
— Сейчас, — сказал начальник поезда, нажимая на какие-то рычаги, и даже рванул стоп-кран. Машина не слушалась. Келлер уверял, что, едва заметив отклонение от курса, они делали все возможное, чтобы остановить состав, но он все несся и несся.
— Его теперь не остановишь, — сказал молодой человек, указывая на счетчик скорости. — Сто пятьдесят. Эта машина когда-нибудь развивала такую скорость?
— О, Господи! — проговорил Келлер. — Нет, такую — никогда, самое большее — сто пять.
— То-то и оно, — заметил молодой человек. — А скорость все нарастает. На счетчике уже сто пятьдесят восемь. Мы падаем.
Он подошел к приборной панели, но не мог держаться прямо и прижался лицом к стеклу, уж очень велика была скорость.
— А где машинист? — крикнул он, вглядываясь в толщу скал, стремительно летевших прямо на него в ярком свете прожекторов со всех сторон, сверху и снизу, и исчезавших за стеклами кабины.
— Спрыгнул! — в ответ ему закричал Келлер, сидевший на полу, спиной к приборной панели.
— Когда? — настаивал молодой человек.
Начальник поезда немного помедлил, ему пришлось еще раз раскурить свою сигару, при этом ноги его, так как локомотив все больше кренился вперед, были уже на уровне головы.
— Уже через пять минут, — произнес он наконец. — Надежды на спасение не было. Проводник багажного вагона тоже соскочил.
— А вы?
— Я же начальник поезда, — отвечал тот, — и к тому же всегда жил, ни на что не надеясь.
— Ни на что не надеясь, — повторил молодой человек; он теперь лежал — в относительной безопасности — на стекле кабины, лицом к бездне. «Выходит, мы сидели в своих купе и знать не знали, что все кончено, — подумал он. — Нам казалось, что все в порядке, а бездна уже поглотила нас, и мы гибнем в ней, как сообщники Корея[3]».
Начальник поезда крикнул, что ему необходимо вернуться.
— …В вагонах начнется паника. Все ринутся в хвост поезда.
— Конечно, — ответил молодой человек, вспомнив толстого шахматиста и рыжеволосую девушку с романом. Он протянул Келлеру оставшуюся у него коробку сигар «Ормонд Брэзил-10». — Возьмите, — сказал он, — а то опять потеряете сигару, когда полезете туда.
— А вы не хотите вернуться? — спросил начальник поезда. Он уже поднялся на ноги и теперь с трудом пытался забраться в узкую воронку коридора.
Молодой человек смотрел на ставшие бессмысленными приборы, на все эти смехотворные теперь рычаги и переключатели, окружавшие его в серебристо сверкающем свете кабины.
— Двести десять! — сказал он. — Не думаю, что при такой скорости вам удастся перебраться в вагоны, ведь они прямо над нами.
— Но это мой долг! — вскричал начальник поезда.
— Разумеется, — проронил молодой человек, не поворачивая головы и не видя тщетных попыток Келлера.
— Я обязан хотя бы попробовать! — кричал начальник поезда, он был уже далеко, вернее, высоко в коридоре, локтями и ляжками упираясь в его металлические стенки, а так как локомотив все круче шел под уклон, в ужасающем падении мчался к сердцу земли, к этой цели всего сущего, то начальник поезда в коридоре оказался висящим над головой молодого человека, распростертого на серебристом стекле кабины машиниста лицом вниз, силы покинули его. И тут начальник поезда рухнул на пульт управления, обливаясь кровью, подполз к молодому человеку и обхватил его за плечи.
— Что нам делать? — закричал он сквозь грохот несущегося на них туннеля прямо в ухо молодому человеку, чье жирное, уже ставшее бесполезным, ни от чего не спасающее тело недвижно покоилось на стекле, отделяющем его от бездны, и сквозь это стекло бездна струилась в его впервые широко открытые глаза. — Что нам делать?
— Ничего, — безжалостно ответил молодой человек, не отворачивая лица от этого смертоносного зрелища, однако не без какой-то уже потусторонней веселости, весь в осколках стекла от разбитой приборной панели; и вдруг невесть откуда взявшийся сквозняк (в стекле кабины появилась уже первая трещина) подхватил два ватных тампона, и они со свистом унеслись вверх. — Ничего. Господь покинул нас, мы падаем и, значит, несемся ему навстречу[4].
Из записок охранника
Эти записки остались после смерти охранника и были опубликованы младшим библиотекарем городской библиотеки.
1
Считаю необходимым сразу же предупредить: мои записки — не мистическая притча и не изложение исполненных символического значения снов чудаковатого нелюдима; я не описываю ничего, кроме действительно существующего города, его доподлинной реальности и повседневного облика. На это можно было бы возразить, что моему изображению реальности недостает дистанции, а значит, и веры, ибо прежде всего вера позволяет увидеть действительность в истинном свете и вынести о ней свое суждение, я же всего лишь охранник и в этом качестве вряд ли смогу соблюсти достаточную дистанцию и веру. Оспорить это возражение я не в состоянии. Я человек неверующий, и я охранник: следовательно, отношусь к самым мелким городским служащим. Но все же я городской служащий и как таковой — пишу об этом не без гордости, ибо в этом особенность моего положения, — я значу куда больше, чем значил в то время, когда впервые появился в городе. Тогда я был чужаком и в качестве такового значил в глазах города бесконечно меньше, чем когда стал охранником. Я просто рассказываю о том, как я очутился в городе и как стал охранником. Это целая история. Каждый, у кого есть собственная история, крепко связан с реальной жизнью, ибо всякая история случается только в той или иной действительности. Я не ставлю перед собой задачу дать исторический очерк города, мне, охраннику, это не по плечу, ибо я представляю себе город не как что-то исторически сложившееся, а только как фон, на котором, будто огненными буквами, вырисовывается моя судьба. Тем самым я ни в коей мере не хочу поставить под сомнение огромной важности исторические события, которые вызвали город к жизни и мало-помалу сформировали его законы; так в алмазе можно увидеть всю историю земли, немыслимое движение грандиозных процессов. Но можно ли получить представление о развитии города, если неизвестно, как организована его жизнь? Хотя все мы выросли под влиянием города и занимаем место в его иерархии в соответствии со своими способностями и даже пороками, никто не может утверждать, что он проник в тайны городского управления. Город похож на ущелье, в глубины которого никогда не проникало солнце. Те же, кому положение предоставляет больше сведений, для нас недостижимы, так как мы стоим на самой низшей ступени административной лестницы. Но и им ведомо лишь то, что лежит на поверхности, их взгляд не пробивается к средоточию ужасов, где мы исполняем свой долг. Никому не дано видеть одновременно то, что делается наверху и внизу. Но об этом лучше не говорить. Я обретаюсь в сферах, не поддающихся описанию. И если я все же с огромным трудом и сомнениями продолжаю писать эти строки, то только потому, что город — это нечто реально существующее, а не вымысел. Поэтому моя история происходит не в символической сфере духа и не в бесконечных сферах веры, любви, надежды и милосердия, а в реальности. В самом деле, что может быть реальнее ада и где можно найти больше справедливости и меньше милосердия, чем в аду?
Во время долгих ночей — там, наверху, — под завывание холодного ветра передо мной снова и снова возникает город, каким я увидел его в то утро, в лучах зимнего солнца, — город, раскинувшийся на берегу реки.
Теплые брызги света золотили стены домов, в предрассветных сумерках город был удивительно красив, но я вспоминаю о нем с ужасом, потому что, как только я приблизился к нему, очарование рассыпалось в прах, и, едва очутившись на его улицах, я погрузился в море страха. Казалось, над городом висели тучи ядовитых газов, которые в зародыше разрушали ядро жизни и вынуждали меня с трудом переводить дух. Только значительно позже мне пришло на ум, что город жил своей собственной жизнью, в которой не оставалось места человеку. Проложенные по твердому плану прямые улицы шли параллельно друг другу или же, вытекая из площадей, радиальными лучами прорезали серые пустыни домов. Там и сям на площадях старые ветхие здания заменили скучными домами новейшей конструкции, но именно эти гигантские строения выглядели старомоднее других. Дворцы разваливались, правительственные здания стояли в запустении, в них жили люди, темными провалами зияли разбитые витрины пустых магазинов. Кое-где еще высились соборы, но и они неотвратимо разрушались. Над городом вздымались гигантские клубы дыма из фабричных труб, медленно, безо всякой цели, поворачивались громады подъемных кранов. Облака неподвижно висели над сплетением кирпича и металла, прямо в свинцовое небо чадили дымовые трубы домов. Зимой на город бесшумно опускалось белоснежное покрывало, но и на него скоро оседал серый налет, оно чернело. Никто не голодал, в городе не было ни богатых, ни бедных, у всех была работа, но мне ни разу не довелось услышать, как смеются дети. Город принял меня в свои молчаливые объятия, на его каменном лице темнели пустые глазницы. Ни разу не удалось мне прорваться сквозь завесу нависшей над городом тьмы, напоминавшей о сумеречном будущем человечества. Жизнь моя была лишена смысла, ибо город отвергал все, в чем не имел насущной нужды, потому что презирал излишества. Он неподвижно застыл на клочке земли, омываемой зеленоватыми водами реки, которая неутомимо пробивалась сквозь его пустынные кварталы и только иногда по весне грозно вздувалась, чтобы затопить стоявшие вдоль берегов дома.
Построенный для того, чтобы мы могли до дна испить чашу наших страданий, город научил меня осторожности даже в мелочах. Мы не боги, а всего лишь люди, которым выпало жить в эпоху, знающую толк в пытках. Нам постоянно нужны надежные убежища, куда можно было бы спрятаться, хотя бы для сна, но и их могут отобрать у нас в самых глубоких подземельях действительности. Таким надежным прибежищем стала для меня моя комната, ей я многим обязан, в ней я всегда прятался от жизни города. Находилась она в восточном предместье, на чердаке многоквартирного дома, как две капли воды похожего на все другие дома. Высокие стены были наполовину скошены, две ниши, выходившие на север и на восток, служили окнами. У западной стены, широкой и наклонной, стояла кровать, рядом с печкой примостилась кухонная плита, из мебели в комнате были два стула и стол. На стенах я рисовал картины, не очень большие, но со временем ими покрылись и стены, и потолок. Даже дымоход, проходивший через комнату, со всех сторон был изрисован фигурками. Я изображал сцены из смутных времен, особенно приключения своей бурной жизни, войны, в которых принимал участие на стороне борцов за свободу; отобразил и мощные атомные атаки. Когда для новых картин уже не осталось места, я принялся переделывать и улучшать то, что было написано раньше. Случалось, в припадке слепой ярости я соскабливал со стены картину, чтобы тут же написать ее заново — унылое занятие в тоскливые часы одиночества. На столе лежала стопка бумаги, и я исписывал лист за листом, сочиняя по большей части бессмысленные памфлеты против города. Тут же стоял и бронзовый подсвечник, в котором всегда горела свеча, так как в комнате даже средь бела дня царил полумрак. Мне никогда не приходило в голову исследовать дом, в котором я жил. Снаружи он казался совсем новым, но внутри был старый, вконец обветшалый, с лестницами, которые вели куда-то в темные провалы. Я ни разу не видел в нем людей, хотя на дверях были написаны имена жильцов, среди них и фамилия чиновника городской администрации. Лишь однажды я осмелился нажать на дверную ручку, дверь оказалась незапертой, я заглянул в коридор, по обеим сторонам которого тоже были двери. Мне почудилось, что откуда-то доносятся приглушенные голоса, поэтому осторожно я прикрыл входную дверь и вернулся в свою комнату. Дом, видимо, принадлежал городу, потому что у меня часто появлялись служащие администрации. Они никогда не требовали квартплаты, будто не сомневались, что у меня за душой ни гроша. Это были люди с вкрадчивыми манерами, нередко с ними приходили и женщины, просто одетые, в плащах, но никто из них не появился дважды. Они заводили речь о ветхости дома и о том, что город давно бы его снес, если бы не крайняя нужда в жилье из-за растущего числа чужаков. Время от времени ко мне являлись какие-то личности в белых плащах, со свернутыми в трубочку бумагами под мышкой и часами, ни слова не говоря, измеряли мою комнату и что-то записывали, рисовали острыми перьями в своих чертежах. Я, однако, не могу упрекнуть их в навязчивости, да они ни разу и не спросили меня, откуда я взялся. Я относился к ним с презрением и даже не пытался прятать от них свои записки, свои памфлеты. Они приходили только ко мне и никогда не заглядывали к другим жильцам, я видел из окна, как они поднимались ко мне в комнату и сразу же выходили из дома, закончив у меня свою работу.
Научившись презирать людей, я начал их ненавидеть. Они были замкнуты, себе на уме, как и город, где они жили. Лишь изредка удавалось завязать с ними короткий, торопливый разговор о вещах, меня не интересовавших, но и в этом случае они вели себя уклончиво. Проникнуть в их дома было делом совершенно безнадежным. Но я только тогда перестал охотиться за их тайнами, когда узнал, что никаких тайн у них нет. Миллионы жителей города, у которых не было никаких идеалов, позволяли загонять себя в дымящие фабрики, на унылые предприятия, в бесконечные ряды конторских столов. Ничто не украшало и не облагораживало их облика. Город открывался моему взору в своей неприкрытой наготе. Стоя в обеденные часы на огромной площади, я наблюдал, как волнами накатывали толпы рабочих, проезжали мимо косяки велосипедистов, проходили переполненные вагоны трамваев и покрытые ржавчиной автобусы, с которых клочьями свисала облупившаяся краска. Черные провалы метро через равномерные промежутки выплевывали толпы пассажиров. Собственных машин не было ни у кого, только иногда неслышно проплывал полицейский автомобиль. Я стоял и смотрел на катящиеся валы повседневности, на беспрерывно проплывающие мимо меня все новые и новые лица, усталые, серые, грязные. Я видел согбенные спины, убогую одежду, потрескавшиеся, покрытые мозолями руки, которые только что орудовали рычагами, а теперь крепко сжимали руль велосипеда. Воздух был пропитан потом. Тупая толпа приняла меня в свои объятия, втянула в круг людей, влачащих жалкое существование, вмонтированных в гигантскую штамповочную машину, колеса которой крутились безостановочно — часы, дни, годы напролет, невидимые глазу, не ведающие движения времени. Я видел женщин, лишенных какой бы то ни было привлекательности, беспомощных, тянущих общую упряжку с вечно ворчащим, вечно пьяным мужем, видел девушек, не знавших украшений, неуклюжих, то впадавших в смешную сентиментальную влюбленность, то совершенно подавленных, с глазами, полными отчаяния. Будто испуганные животные, торопились люди в свои берлоги, в захламленные пансионы и мрачные, холодные каморки под покосившимися крышами. В складках лиц я читал их каждодневные заботы и безысходные судьбы, догадывался об их мечтах, не уносивших их дальше самых элементарных потребностей, — мечтах о куске постного мяса, который они надеялись найти дома в алюминиевой миске, об объятиях увядшей, утратившей остроту переживаний женщины, о захватанной книге из библиотеки, о коротком неспокойном сне на неудобном, потрепанном диване, о скудном урожае с крохотного огородика. По воскресеньям я наблюдал за их развлечениями. Сдавленный огромной толпой, поглощенный ее отвратительным единодушием, я стоял на футбольных площадках, слушал неистовые крики болельщиков. Затем я шел в громадные городские парки, наблюдал за семейными процессиями, покорно и равнодушно маршировавшими гусиным шагом в заданном направлении, наблюдал за отцами семейств, мечтавшими о кружке разбавленного водой пива как о глотке счастья в этой пустыне безрадостного труда. Я спускался в глубину их ночей. Хриплые песни пьяниц вспугивали звезды, красными факелами загоравшиеся на горизонте. В грязных дворах и на прогнивших скамейках у реки я видел влюбленные парочки — они сжимали друг друга в объятиях, искали утешения в любви и не находили его. Я видел блудниц, продававших себя за гроши, проходил мимо зеленых щитов, рекламировавших дешевые фильмы. Я слышал несмолкаемый, монотонный гул площадей. Потом вдруг раздавались дикие проклятия, белыми молниями сверкали ножи, у моих ног застывала черная кровь. С воем сирен подъезжали машины, из них выскакивали темные фигуры, ныряли в обезумевший клубок тел, разнимали дерущихся. Покинув улицы, я шел в общественные здания. Там я находил тех, кто искал спасения в науках, я заходил в их пыльные лаборатории, в их читальные залы, видел, как они гоняются за призраками, чтобы не оказаться один на один с действительностью этого мира. Я заглядывал в мастерские художников и с отвращением отворачивался: как и я сам, они безвольно запечатлевали свои мечты. Поэты и музыканты походили на привидения из давно забытых времен. Я вступал под своды обветшалых соборов и вслушивался в проповеди священнослужителей; перед полупустыми храмами они пытались осветить светом своих религий пустое пространство этого мира. Глупцы, они надеялись одарить толпу той самой истиной, в силу которой уже не верили сами. Я видел, что безверие написано у них на челе, и со смехом шел дальше. Я нападал на след сект и диковинных сообществ, сходившихся в убогих комнатках, на чердаках, где над головами, напоминая древние хоругви, развевалась паутина, а летучие мыши гадили на дароносицу, или в подвалах, где им приходилось делить с крысами свою скудную вечерю. Все, что предлагал мне город, несло на себе печать безграничного убожества и было затоплено мутными водами повседневности, мертвым океаном, над которым черной вороньей стаей размеренно кружили охранники.
Я попал в железные объятия города, и мой удел с каждым днем становился все безысходнее. Отвращение и ненависть, которые вызывала во мне толпа на городских площадях, все чаще загоняли меня в мою каморку, где я начал предаваться бесплодным мечтам, тем более нелепым, что их исполнение в этом унылом мире было просто немыслимо. Мне стало ясно, что есть лишь одна возможность жить, не причисляя себя еще при жизни к мертвецам: эта возможность — власть. Слишком слабый, чтобы подавить в себе жажду власти, и слишком трезвый, чтобы надеяться на обретение хоть самой ничтожной власти в этом городе, я в отчаянии отдавался на волю безрассудных желаний. В мыслях я видел себя мрачным деспотом: то я изобретал для ненавистной толпы все новые и новые мучения и любовался невиданными пожарами, то осыпал ее праздниками, награждал кровавыми игрищами и оргиями. Потом я снова гнал ее на чудовищные завоевательные войны. Темнело небо, когда в воздух поднимались эскадрильи моих самолетов. Когда приходилось трудно, я не отступал и, стиснув зубы, держался до последнего. В казенных столовках я забирался куда-нибудь в уголок, подальше ото всех, и, хлебая то, что было в алюминиевой миске, все время воображал себя участником грандиозных свершений. Я покидал обжитые людьми области и вместе с миллионами рабочих, объединенных в специальные отряды, осваивал Антарктику, обводнял пустыню Гоби, я даже готов был отказаться от нашей планеты, отбросить ее, как скорлупу съеденного ореха. Я оказывался на Луне, облачался в фантастический скафандр и плавал в лучах огромного Солнца, меряя шагами безмолвные лавовые пустыни. Когда трамвай бесконечно долго вез меня домой, в предместье, я мечтал, зажатый толпой, о дымящихся джунглях Венеры, о том, как я, обливаясь потом в клубах испарений, прокладываю себе путь сквозь полчища ящеров.
Или же мне чудилось, что я вцепился руками в холодные как лед камни спутника Юпитера, круглая тень которого проносится по гигантскому красному диску планеты, заслонившей все небо, — вязкая, колышущаяся каша, чудовище неслыханной массы и веса. Зато сколько мук приносило мне возвращение к реальности! Отвращение застывало на моем лице, когда я смотрел на грязные городские крыши, видел сохнувшее на веревках, трепетавшее на ветру белье, замечал изменчивые тени, отбрасываемые тяжелыми облаками на людскую безысходность. Я перестал рисовать и принялся описывать то, что видел в мечтах. Я чувствовал себя Дон Кихотом, только у меня не было ни клячи, ни ржавого боевого снаряжения, чтобы броситься в атаку на мир, который меня окружал. Как безумный, я бегом спускался по улочкам и пыльным дворикам мелких фабричонок, которых в этой части города было великое множество, к реке и неотрывно смотрел на бесконечное струение воды. Я помышлял о самоубийстве. Потом возникла мысль о преступлении, я видел себя убийцей, которого преследуют люди, хищным животным, обретающимся в разрушенной канализации и убивающим просто так, из любви к убийству. Отчаяние толкало меня в объятия порока, я все чаще проводил ночи с девицами легкого поведения, нависал над обнаженными податливыми телами где-нибудь на заброшенном чердаке, в окружении воркующих голубей, которых я пугал своими сладострастными криками. Наконец я решил действовать. Я выбрал квартиру одного чиновника, который жил через улицу, на первом этаже неопрятного густонаселенного дома, среди криков детворы и шума, производимого мелкими ремесленниками. Когда я вышел из своей комнаты, чтобы совершить бессмысленное убийство, я увидел засунутую под дверь до половины разорванную записку: на следующий день меня приглашали к чиновнику администрации.
Комната, куда мне надлежало явиться, находилась в огромном доме в центре города. Должно быть, когда-то в этом доме была школа, а теперь на третьем этаже размещались различные отделы администрации. Лестницы были старые и грязные, стертые бесчисленными шаркающими подошвами, в окнах недоставало стекол, в коридор откуда-то доносилось тиканье старинных напольных часов; еще один коридор до самого потолка был заставлен старыми партами. На первом и втором этажах, похоже, были жилые помещения; какой-то малыш быстренько прошмыгнул у меня между ног и скрылся в одном из проходов. На третьем этаже мне пришлось потратить уйму времени, прежде чем я нашел нужный отдел, так как комнаты были пронумерованы беспорядочно, без всякой последовательности. Помимо прочего, в этом коридоре было значительно темнее, чем этажом ниже. Я выглянул в открытое окно и увидел, что нахожусь в здании прямоугольной формы; внутри прямоугольника был вымощенный булыжником двор, необычайно захламленный. Вокруг валялись ржавые велосипедные рамы, сломанные садовые скамейки, разбитые пишущие машинки, погнутая посуда, пестрый детский мяч. В самом центре, рядом с раскуроченным старым матрацем, в котором играли котята, стояла сгнившая фисгармония. Поперек двора была натянута веревка, на которой, видимо, уже давно висело поношенное, желтое белье. Между булыжниками буйно разрасталась высокая трава. Я отвернулся от окна и продолжил поиски. Пол в коридоре был покрыт стершимся линолеумом. Вокруг стояла тишина, только раз мне показалось, будто я слышу треск пишущей машинки. Когда я наконец отыскал нужную мне дверь и постучал, мне открыл молодой еще человек, одетый довольно опрятно — белый китель, серые брюки и серая же рубашка, но без галстука.
— Простите, — сказал он вместо приветствия. — Вас, наверно, сбила с толку нумерация комнат. Здесь собраны отделы из разных департаментов. К сожалению, каждый отдел принес сюда свой прежний номер. Так возникла путаница, и посетители вынуждены попусту тратить время.
Он предложил мне обшарпанное, но удобное кресло с подлокотниками, а сам сел на обыкновенный деревянный стул, стоявший за столом. Стол был примитивный: четыре ножки и доска. На нем не было ничего, кроме картонной папки и желтого карандаша.
— Спасибо, что пришли, — сказал чиновник, открывая папку.
— Так вы же администрация, — сказал я, смущенный его благодарностью и удивляясь тому, что сидеть мне было много удобнее, чем ему. — Когда меня вызывают, я повинуюсь не раздумывая. В вашем распоряжении полиция, стоит только приказать.
— Вы служили в армии и оцениваете нас в соответствии со своими солдатскими привычками, — возразил чиновник. — Между тем администрация — организация иного рода, поэтому вы делаете ложное умозаключение.
Он говорил спокойно, деловито, будто речь шла о математике.
— В вашем случае мы не имеем права приказывать, — продолжал он. — Ведь вы даже не состоите на службе. Если кто-то отказывается прийти к нам, мы сами идем к нему, хотя это отнимает массу времени. Случается, что нам иногда попросту не открывают, тогда мы бессильны что-либо сделать, прибегать к помощи охранников мы можем лишь в очень редких случаях.
— Кого вы называете охранниками? — спросил я.
— Так мы называем полицейских. Администрация предпочитает пользоваться словом «охранники».
— И что же администрации понадобилось от меня? — спросил я, разглядывая комнату.
Кроме стола и двух стульев здесь была еще печка. Окно с тщательно вымытыми стеклами выходило во двор; одно стекло было разбито, его заменили серой картонкой. Совершенно голые деревянные стены производили неприятное впечатление.
— Я хочу попытаться предложить вам работу, — ответил чиновник и вынул из папки какой-то листок. — Вы, вероятно, меня встречали. Я живу недалеко от вас. Однажды я стоял рядом с вами на футбольном матче.
— Вы живете на первом этаже многоквартирного дома, через улицу от меня? — спросил я, весь напрягшись.
— Да. Администрация поручает каждому из нас такие дела, какие нам легко вести лично, — ответил чиновник. На его лицо падал свет, мое оставалось в тени, преимущество и здесь было на моей стороне: я мог незаметно наблюдать за ним. Его бесстрастное лицо почти ничего не выражало, глаза, нос, рот, лоб — все отличалось какой-то геометрической строгостью.
— Итак, администрация намерена определить меня на службу, — сказал я. — Вы можете объяснить, что это значит?
— Надо же найти для вас какое-то занятие, — ответил он и чуть приподнял четко очерченные веки. — Мы просто обязаны сделать для вас что-нибудь.
— Но я доволен своей жизнью, — соврал я.
— Если вам нравится так жить, живите себе на здоровье. Казенная столовая всегда к вашим услугам, комнату никто у вас не отнимет. Вы абсолютно свободны. И все же я прошу выслушать предложения администрации и только после этого принимать решение. Хотите сигарету?
— Администрация великодушна, — сказал я, прикуривая сигарету — той марки, какую все мы курим. Я почувствовал, что он хочет выиграть время, потому и предложил закурить. — Итак? — спросил я, затягиваясь и выпуская дым через ноздри. — Что же вы мне предлагаете?
— Есть место фабричного рабочего, место ремесленника, место садовника на наших сельскохозяйственных предприятиях, место складского рабочего и место в службе по уборке мусора, — ответил чиновник.
— Которая, увы, не на высоте, — заметил я.
— Мы только сейчас начинаем развивать эту службу, — сказал он. — А теперь давайте обсудим наши предложения. Вы вправе выбирать.
— Вы считаете, я должен выбрать одно из предложенных вами мест? — спросил я, откинувшись в кресле и слегка повернув голову к дверям.
— Я думаю, это лучшее, что вы можете сделать.
— Благодарю, — сказал я. — Я доволен своей жизнью. А сейчас я хотел бы вернуться в свою комнату.
Эти слова я произнес равнодушным тоном и хладнокровно посмотрел на чиновника, которому вынес смертный приговор, ибо я не отказался от мысли совершить убийство. В этом мире только преступление еще имело смысл. Чиновник, который, сам того не ведая, воевал за свою жизнь, поднес листок к глазам и проговорил:
— Вы очень недружелюбно настроены к нашему городу. Особенно плохо вы отзываетесь о тех, кого называете толпой. Вы недовольны своим нынешним положением.
— Откуда вы взяли? — насторожился я.
Чиновник положил листок обратно в папку и взглянул на меня. Я вдруг понял, что этот молодой еще человек в белом кителе и серой рубашке без галстука устал, как устают после многолетней непрерывной работы мысли, и что это постоянное напряжение наложило отпечаток на геометрически четкие черты его лица. Одновременно мне стало ясно, что в его голове таится чуткий и расчетливый ум и что его взгляд отточен даром неподкупной наблюдательности. Такие люди опасны. Я решил быть начеку.
— Я читал кое-что из того, что вы написали, — после паузы сказал чиновник и отвел глаза в сторону.
Главное было сказано. Мы снова посмотрели друг на друга и с минуту помолчали. За окном во дворе вдруг послышался детский смех.
— Смеха детей в нашем городе вы тоже не заметили. — В голосе чиновника звучала горечь.
— Относятся ли мои писания к тем случаям, когда вправе вмешиваться охранники? — спросил я, охваченный смутным подозрением.
— Интеллектуальная деятельность не наказуется ни при каких обстоятельствах, даже если она противоречит точке зрения администрации, — решительно возразил он.
— Скажите, те служащие, что приходили в мою комнату и делали какие-то замеры, шпионили за мной? — спросил я с издевкой в голосе и удобнее устроился в кресле.
— Мы обеспокоены образом вашей жизни и ваших мыслей и намерены вам помочь, — ответил он, не обратив внимания на мой вопрос. Это была его первая ошибка, ею следовало воспользоваться.
— Вот не думал, что я представляю угрозу для города, — рассмеялся я.
Чиновник молча и, как мне показалось, с некоторым удивлением посмотрел на меня. Его, похоже, поразила моя мысль.
— Город боится меня, — сказал я с показным равнодушием, хотя на самом деле мне было очень не по себе. — Я не хочу ему служить.
— Об этом не может быть и речи, — ответил наконец чиновник. — Мы никого не боимся. Но вы угрожаете самому себе, нас беспокоит только это, и ничего больше. Вы все еще не поняли, в каком мире живете.
За окном снова послышался детский смех.
— Зато это хорошо поняли те, что вкалывают в пыльных складских помещениях или на грязных сельскохозяйственных предприятиях, те, что до смертного часа ишачат на бесчисленных фабриках, если, разумеется, не решатся перейти в службу по уборке мусора, которая работает пока очень плохо, — отпарировал я, обозленный детским смехом, и пустил струю сигаретного дыма в лицо чиновнику. Он, казалось, не заметил моей бестактности и продолжал сидеть неподвижно.
— Вы презираете людей, — сказал он. — Но у вас еще остался последний шанс.
— У нас с вами нет никаких шансов, если вы называете шансом возможность стать подсобным рабочим, — заметил я. — Администрация позаботилась о том, чтобы у нас не осталось никаких шансов. Она превратила мир в огромный муравейник. Я был солдатом. Я сражался за лучшую долю.
— У вас был приказ покончить с бандитами, — поправил меня чиновник, слегка приподняв брови: это движение я замечал у него всякий раз, когда он оказывался в затруднительном положении.
— Мы воевали с бандитами за мир и свободу, за лучшее будущее и еще Бог знает за что, — упрямо твердил я свое. — Но вот наступил мир, мы свободны. Искали чистой воды, а попали в болото.
— Мы давно наблюдаем за вами, — сказал чиновник и выпрямился на стуле. Раньше он сидел слегка согнувшись, теперь его поза стала напряженной. Он положил локти обеих рук на стол и продолжал под нарастающий шум детей во дворе: — Вы воевали до конца, до самого последнего сражения. Вам довелось участвовать даже в альпийских войнах. Администрация несколько раз пыталась отозвать вас, но вы отказались вернуться.
— Не мог же я бросить в беде товарищей, — лаконично заметил я.
— Вы были в специальном отряде, целиком состоявшем из добровольцев. Вы и ваши товарищи в любой момент могли отказаться от участия в боевых операциях. Но никто этого не сделал. Вот вы говорите, что воевали за свободу. На самом деле вы воевали потому, что война для вас — приключение.
— Вы когда-нибудь были на войне? — полюбопытствовал я.
— Нет, — подтвердил он мое предположение.
— Я так и думал, — сказал я. — Видите ли, война не приключение, о котором мечтаешь, лежа в постели. Война — это ад.
— А вы пошли бы снова добровольцем? — спросил он, и в голосе его почувствовалось странное колебание. По его глазам я видел, с каким напряжением он ждет моего ответа.
— Разве где-нибудь еще идет война? — недоверчиво спросил я, остерегаясь ловушки.
— В Тибете.
С этого момента беседа с чиновником захватила меня. До сих пор я поддерживал ее без особого рвения, только потому, что случай свел меня с человеком, которого я решил убить. Теперь же я начал догадываться, правда, пока очень смутно, что существует еще один, помимо убийства, способ выносить тяготы этого мира: надо снова стать солдатом. Я хорошо понимал, что чиновник вовсе не собирался делать мне это предложение, просто из упрямства, свойственного всем чиновникам, он хотел настоять на своем и доказать, что война для меня всего лишь приключение. Но возвращение на фронт было единственным выходом из моего безнадежного положения, и я решил не перечить. С такими людьми надо уметь быть терпеливым.
— Разумеется, я пойду добровольцем, если представится возможность, — сказал я. — Видите, я спокойно иду в ловушку, которую вы мне расставили. Но вы не знаете войны, и на этот раз именно вы делаете ложное умозаключение. Война — это ад, но ад по крайней мере самоочевидный. В этом аду есть смысл бороться за свою жизнь. Если так понимать войну, то она и в самом деле приключение, тут вы правы. Но администрация создала ад куда более страшный, чем любая война, — ад повседневности.
— Для нас наиболее показательны те ваши сочинения, где вы рассказываете о своих мечтах, — снова завел свое чиновник, не замечая моего желания побольше узнать о войне в Тибете. — Они убеждают нас в том, что вы все еще мечтаете о приключениях, которые мы уже не можем себе позволить.
— Тем не менее мы позволяем себе концлагеря и в их газовых камерах задыхаемся от скуки, — рассмеялся я.
— Вы правы, — помолчав, ответил чиновник. — Мы все узники.
Смех детей во дворе становился невыносимым.
— Целые тысячелетия мы беззаботно брали от земли все, что она нам давала, — продолжал чиновник. В его голосе неожиданно появилась страстность, лицо преобразилось, в глазах засверкали странные, угрожающие огоньки. — Мы сравнивали с землей горы, вырубали леса, возделывали поля, плавали по земным морям. Земля казалась неисчерпаемой, мы возводили на ней города, создавали и разрушали империи. Расточительные, как сама природа, и жестокие, как она, мы вели наши войны сначала из страсти к разрушению, потом из жажды золота и славы, а под конец просто со скуки, мы приносили в жертву своих детей, нас косили эпидемии, но мы снова входили к нашим женам, полные жажды дать начало новой жизни, из их лона вытекал все более многочисленный и могучий поток человечества, и нам никогда не приходила в голову мысль, что наше спасение и наша миссия — в сохранении самой Земли, маленькой нашей планеты.
В это мгновение со звоном разлетелось стекло, и у меня на коленях оказался пестро раскрашенный детский мяч.
— Уже второе стекло, — с досадой сказал чиновник, — а их так трудно достать.
Я механически подал ему мяч, и он выбросил его в окно.
— Вы же знаете, здесь работает администрация! — крикнул он во двор. — Каждый раз, когда у меня важное совещание, вы шумите и гоняете мяч.
— У чиновников не бывает важных совещаний, — донесся со двора мальчишеский голос.
Чиновник закрыл окно. Теперь снаружи доносились женские голоса, матери ругали своих детей, послышался наконец и мужской голос.
— Привратник, — объяснил чиновник и пожал плечами. — Он вечно пьян и никогда не следит за порядком.
Вынув из папки лист картона, он закрепил его в раме вместо выбитого стекла. В комнате стало темнее. Чиновник уселся на свое место.
— Вы мечтаете о полете на Луну, — неожиданно снова заговорил он, не замечая моего смущения, вызванного не только происшествием с мячом, но и страстностью и точностью его слов. — Мы побывали на Луне. Полеты, о которых вы мечтаете, уже совершены. — Он показал пальцем на лист бумаги, вынутый им из папки, я узнал в нем свои записки. — Это было ужасно глупое предприятие. Мы убедились, что, кроме нас, нет ничего живого — только мертвая бессмыслица равнодушной природы, в безбрежных пустынях которой плавает один-единственный шар, согретый дыханием жизни, — наша Земля. Эти полеты возвратили нам Землю и снова поставили нас в центр Вселенной. Произошло второе обращение к системе Птолемея. Нас изменили не познание, не разум и не религия, нас заставила измениться сама Земля. По мере того как мы набирали силу, она уменьшалась и стала вдруг совсем маленькой и обозримой, целиком вместилась в нашем сознании. Нас победила нужда. Старые экономические системы рухнули не потому, что опирались на ложные теории, а из-за шаткости их структур. Их взаимное сближение оказалось невозможным в мире, где незначительная часть людей жила в роскоши и богатстве, изобретая неслыханные благоглупости, чтобы не умереть со скуки, а подавляющее большинство прозябало в беспросветной нужде. Чудовищный рост населения планеты потряс политические системы, предпринимались бессмысленные попытки сохранить бессмысленное равновесие, потом все рухнуло. Всеобщая нищета, голод, страх перед все более разрушительным оружием росли столь же стремительно, как и технические возможности покорения природы. Наконец наступил мир, но мир, не похожий на рай, на блаженное состояние, когда исполняются все желания. Скорее он должен восприниматься как последний шанс выжить, как тяжелые трудовые будни, вызванные потребностью создавать самое необходимое для постоянно растущего человечества, думать не о роскоши, а об одежде и продуктах питания, о лекарствах и развитии науки, как неумолимое требование, которое гонит нас на фабрики и склады, в механизированные сельскохозяйственные предприятия и полуразрушенные угольные шахты. Печально, что администрации снова и снова приходится напоминать об этом — без всякой, видимо, пользы.
— Печально, — насмешливо возразил я, — что достижения администрации… Да прославится она в веках… — Тут я преувеличенно низко поклонился. — …Что эти достижения, в которых никто не сомневается, уже никого не удовлетворяют. Взгляните на толпы недовольных, которые ежедневно слоняются по улицам. Да, у нас есть хлеб. Да, мы не голодаем, хотя и не едим досыта. Да, проституция процветает, насколько позволяет климат. Но не хлебом единым жив человек.
Он посмотрел на меня испытующе, но не сказал ни слова.
— Что мы имеем, кроме хлеба насущного и крыши над головой? — продолжал я. — Не буду говорить о качестве этого хлеба и этой крыши. Давайте посмотрим правде в глаза. У нас отнято все, что нас возвышало, что превращало неисчислимые серые массы в единый организм, правда, организм довольно тупоумный, — говорил я, не сводя глаз с застигнутого врасплох чиновника. — У нас нет больше отечества, которое нас вдохновляло, которое наделяло нас честью и придавало нашей жизни величие и смысл. У нас нет больше партий… Видите, я не требую ничего невозможного. Нет партий, которые воодушевляли бы нас обещаниями и идеалами. Мы лишены даже самого жалкого развлечения — войны, которая нас сплачивала и в которой нужно было выжить, лишены героев, которыми мы восторгались. Даже церкви, — рассмеялся я, — вы превратили в частные заведения для маленьких развлечений.
Чиновник все еще молчал.
— Отечество, партии, войны, церкви — это все вещи, значение которых мы сильно преувеличивали. Согласен. Но это все же хоть что-нибудь, — продолжал я. — А что вы дали нам взамен? Мы пожертвовали всем этим. А что получили?
— Ничего, — сказал чиновник.
— В таком случае мы совершили плохую сделку, — заявил я. — У нас не осталось ничего, кроме наших однообразных развлечений, нашего пива, наших девок, наших футбольных стадионов и наших воскресных прогулок.
— Да, у нас осталось только это, — сказал чиновник.
— И вы хотите, чтобы я с головой погрузился в это серое море повседневности? — спросил я. — Вы ведь это хотели сказать, не так ли?
Чиновник молча смотрел на меня. В комнате стояла мертвая тишина. Наконец он встал, предложил мне еще одну сигарету и сказал:
— Вы должны решиться на этот шаг.
Его лицо окаменело, стало жестоким. Настойчивость, с которой он уже во второй раз призывал меня решиться на эту ужасную жизнь, снова вызвала во мне подозрение, что администрация собирается толкнуть меня на этот шаг, даже если я буду отказываться. Я видел, с какой легкостью чиновник соглашался со мной — как человек, которому не надо кого-то уговаривать, ибо у него есть средство настоять на своем. И это усиливало мое подозрение.
— Вы не имеете права меня заставлять, — сказал я спокойным голосом, но весь напрягся в ожидании ответа и в надежде, что терпение его наконец лопнет.
— Не имеем, — подтвердил он. — Я вам об этом уже говорил.
— Следовательно, администрация намерена только побеседовать со мной, — сказал я. — Должен признаться, это меня удивляет. У администрации, надо думать, есть дела поважнее, чем беседовать с бедолагой вроде меня. Администрация отдает распоряжения, и у нее должны быть средства, чтобы проводить их в жизнь. Ненасильственных администраций не бывает. Я прошу вас сказать мне: что означает мой вызов к вам?
По его лицу было видно, что он растерян.
— Администрация намерена сделать вам предложение, — сказал он уклончиво. — В сложившихся обстоятельствах она собирается предложить вам то, что предлагает крайне неохотно и что вы, естественно, вправе отклонить. Однако, прежде чем администрация будет вынуждена сделать это, я хотел бы еще раз предложить вам шанс, который пока есть у каждого человека.
— Шанс раствориться в массе.
— Да, это так, — сказал он.
— Очень гуманно с вашей стороны.
— Вы неверно оцениваете политическую ситуацию, — принялся он снова развивать свою теорию. — Старая политика претендовала на большее, чем могла быть, и потому превратилась в пустую фразу. Нужда заставляет нас заново осмыслить политические задачи. Из крайне запутанного клубка идеологий, страстей, инстинктов, насилия, доброй воли и делячества политика стала делом разума, она стала деловой и трезвой. Она превратилась в науку бережливости, в науку приспособления планеты к нуждам человека, в искусство жить на этой планете. Война теперь невозможна не потому, что люди стали лучше, а потому, что политика не нуждается больше в этом устаревшем средстве. Отныне задача политики не в том, чтобы обезопасить государства друг от друга, а в том, чтобы создать на земле огромное, так сказать, математически вычисленное пространство, в котором будет обеспечена социальная справедливость.
— На эту приманку вряд ли кто клюнет, — сказал я со смехом.
— Такую политику нам навязали, — заметил он. — Другой мы не можем себе позволить.
— А как же свобода? — спросил я.
— Она стала личным делом каждого.
— В таком случае каждый человек только тогда почувствует себя свободным, когда станет преступником, — возразил я. — Извините, но ваши умозрительные рассуждения я привел к логическому концу.
— Мы боялись, что вы сделаете именно это ложное умозаключение, — сказал чиновник и задержал на мне взгляд.
Он помолчал. Какое-то ужасно затянувшееся мгновение мне казалось, что он видит меня насквозь и все обо мне знает, казалось, будто я сижу перед судьей, в руках которого каким-то непостижимым образом очутилась моя судьба. За окном во дворе все еще слышался детский смех. Дым сигарет поднимался в лучах света голубыми спиралями и кольцами, сгущался в облачка — они кружились и растворялись наподобие туманностей, которые астрономы открывают в бескрайних просторах Вселенной.
— Со временем наша политика даст массам возможность жить по-человечески, но она не сделает их жизнь содержательной. Это в руках только самого человека. По мере сокращения шансов толпы будут возрастать шансы отдельного человека. Нам пришлось заново определить, что принадлежит кесарю, а что отдельному человеку, что подобает обществу, а что личности. Дело политики — создать пространство, дело отдельного человека — осветить это пространство.
— Очень мило, что вы доверяете нам хотя бы роль сальной свечи — пусть жалкой, зато честно делающей свое дело, — снова сдержанно пошутил я. — Вы не даете человеку ничего, а требуете от него все.
— Мы даем ему хлеб и справедливость, — сказал чиновник. — Вы только что заявили, что не хлебом единым жив человек. Я рад, что вы знаете Библию, но эта фраза звучит кощунственно в устах человека, способного прийти к выводу, будто свободу дает только преступление.
По этому неожиданному выпаду я заключил, что наша беседа взволновала его куда больше, чем могло показаться на первый взгляд.
— Того, в чем человек нуждается помимо хлеба и справедливости, ему не дадут никакая политика и никакая организация, — продолжал он свои рассуждения. — Политика дает человеку только то, что она в состоянии дать, а может она самую малость, только то, что само собой разумеется. Остальное в руках человека, его счастье не зависит от политики.
— Вы бросили нас на произвол судьбы, — возразил я с горечью. — Ваша правда, мы оказались во власти обывательского болота, во власти самодовольных мещан. Я уже не говорю об из рук вон плохо функционирующей вывозке мусора, о неудовлетворительной программе жилищного строительства и о многом другом. Администрация не особенно утруждает себя такими вещами. Она только выдает абстрактные этические лозунги, которые не вдохновляют никого.
— Мы никогда не ставили перед собой задачу кого-то вдохновлять, — тут же отреагировал чиновник, и в голосе его появилось волнение. — Как будто администрация существует для того, чтобы вдохновлять. Нельзя восхищаться элементарной необходимостью, а то ведь даже сооружение общественных уборных станут встречать ликованием. Политика, предлагающая сегодня мировоззренческие концепции, преступна. Такая политика неизбежно растворится в экономике и превратится во всепожирающего Молоха. Человек будет вынужден вращаться вокруг нее, как Земля вокруг Солнца, а между тем он сам должен стать солнцем.
Произнеся эти слова, чиновник побледнел. Теперь мне ради достижения цели надо было во что бы то ни стало сохранить спокойствие.
— Я снова и снова перечитывал ваши сочинения, — продолжал чиновник. — Просто уму непостижимо, скажу я вам. Это же надо умудриться до такой степени не понимать действительности.
— Я очень хорошо понимаю действительность, — спокойно отпарировал я. — Вам не надоело без конца возвращаться к моим писаниям?
— Я вынужден к ним возвращаться! — В голосе чиновника прозвучала решительность, и я уступил, чтобы не испортить все дело. Спокойствие прежде всего. — В вашем изображении город — нечто серое, грязное, полуразрушенное, сплошные развалины, — продолжал он. — Ладно, все так и есть, однако кто все это сделал? Это ваша работа. Когда вы идете по городу, вы видите себя самого, вы заглядываете в собственное сердце.
— Ну, это вы уж слишком, — невозмутимо сказал я.
Чиновник какое-то время молча смотрел на меня. Казалось, он подавляет в себе желание высказать то, что вертелось у него на языке. В комнате потемнело. Детский смех со двора теперь доносился только изредка.
— Мир разрушен последними войнами, столь же чудовищными, сколь и бесполезными, — снова заговорил он. — Вы это знаете не хуже меня. Нелепо отрицать то, что есть. Да и люди все еще не избавились от тупого оцепенения, они полны недоверия и усталости. Все мы устали. Нам предстоит огромная работа, чтобы создать для всех тот уровень благосостояния, который достоин человека, ибо наша нынешняя бедность бесчеловечна. Она — следствие войны. Вы жалуетесь на бедность и в то же время готовы отправиться воевать в Тибет. Кто правил миром до того, как власть перешла к нам? Я полагаю, миром правили вы, авантюристы, независимо от того, что было в ваших руках — фабрики или оружие, стремились вы к богатству или к другим способам завоевать власть. Мир принадлежал вам, а не массам безымянных, бесправных и беспомощных, которыми вы помыкали, увлекая за собой. Нынешний мир — это дело ваших рук, хотите вы того или нет. Серые каменные пустыни, полуразрушенные дома, отвратительные фабрики, старые автомобили, ржавые перила на лестничных клетках, толпы одетых в лохмотья рабочих, все то, что придает городу такой унылый вид и наполняет вас отвращением, — дело ваших рук. Мы имеем то, что унаследовали от вас, — мир, полный нищеты, лежащий в развалинах. На нашу долю выпало убрать мусорные кучи, оставшиеся после ваших праздничных пиршеств. Вы растранжирили богатство мира, а нам приходится платить ваши долги. Вы искали в жизни приключений, наслаждались великолепием нашей планеты, путешествовали по голубым морям, а нам достались только будни, тесные фабрики и повседневный изнуряющий труд. Ваше время кончилось, нам предстоит жить дальше. Наша жизнь всегда была такой, по-иному жили только вы. Мы всегда были бедны, красота казалась нам обманом. И вот тонкая оболочка сорвана. Наша бедность предстала во всей своей наготе. Город таков, каким он был всегда, за сожженными кулисами ваших деяний проступил его подлинный облик.
Волнение чиновника нарастало. Он раздавил пальцами сигарету и предложил мне новую. Я отказался, так как не выкурил свою и до половины. Когда он прикуривал, его рука дрожала. Видя, что ему никак не удается это сделать, я протянул ему горящую спичку.
Он дважды затянулся и снова погасил сигарету.
— А вы нервничаете, — сказал я, чтобы смутить его еще больше.
— А как же, — выдохнул он в бешенстве. — Не скрою, ваше дело меня волнует.
Вдруг он перегнулся через стол и железной рукой схватил меня за воротник.
— Послушай, — закричал он, — ты разве не понимаешь, что речь идет о поисках истинных приключений, приключений духа, любви и веры, приключений, найти которые человек может только в одиночку!
— Давайте сюда ваши приключения, но прежде уберите руки, — невозмутимо сказал я и пристально посмотрел в приблизившееся ко мне лицо.
— Не могу, — тихо ответил он. — Истинные приключения дать вам я не могу.
Он отпустил меня, встал и подошел к окну.
— В таком случае администрация признает свое бессилие, — с ликованием в голосе провозгласил я, наслаждаясь его слабостью.
— Она бессильна, — подтвердил он, побледнев. Он смотрел в окно на сумерки, заполнявшие комнату и смазывавшие очертания мира за ее стенами. Со двора больше не доносился детский смех. — Да и к чему нам сила! Разве с ее помощью можно заставить человека смиренно и мужественно делать то, что он все еще в состоянии сделать, в чем его истинное предназначение, — в любой момент раствориться в безымянной толпе, стать ее солью, пропитать ее изнутри своей любовью и верой. Мир можно завоевать только с помощью духа. Понять это — вот истинное блаженство! Но мы беспомощны. Мы никому не можем открыть дверь, которая и без того открыта для всех. Мы беспомощны. Мы бессильны, — прошептал он.
Я победил.
Я повернул выключатель, который заметил на стене. Над столом зажглась тусклая лампочка.
— Давайте поговорим серьезно, — сказал я. — Что вы можете мне предложить?
Он медленно отвернулся от окна и посмотрел мне в глаза. Его лицо было смертельно бледным, на лбу выступили капельки пота.
— Убирайтесь отсюда! — крикнул он и топнул ногой. — Уходите домой!
— Я не позволю выставить себя за дверь, — холодно и твердо сказал я. — Меня вызвала сюда администрация. Я пришел и хочу знать, что вы собираетесь мне предложить.
Он подошел к столу и принялся рассматривать бумаги.
— Ладно, — устало сказал он, не отрывая глаз от папки. — Раз вы настаиваете, я вынужден повиноваться. Администрация предлагает вам власть.
Его слова смутили меня, и я в недоумении уставился на чиновника. Я не предполагал, что одержу такую блестящую победу. Он, однако, не заметил моей растерянности и снова уселся за стол.
— Я вас не понимаю, — осторожно сказал я. Его предложение до такой степени шло навстречу моим желаниям, что от радости я стал недоверчив. Не исключено, что чиновник догадался о моем намерении убить его и теперь изготовился к ответному удару.
— Раньше общество делили на тех, кто имеет, и тех, кто не имеет, — начал он как бы между прочим, — или, выражаясь терминами моей науки, на эксплуататоров и эксплуатируемых. В процессе развития это разделение устарело. Изменились политические и экономические условия. Люди получили хлеб и справедливость, а также гарантированную каждому свободу мысли, но они утратили политические свободы, потому что политики в старом понимании больше не существует. Но прежде всего они утратили власть. Властью располагают лишь немногие, особая каста. Общество распадается на бессильных и сильных, или, как мы говорим, на узников и охранников. Это делается ради точности, чтобы не придавать тем, кто в силе, слишком большого значения. Они могут внушать страх, но не преклонение.
— Вы хотите взять меня в администрацию? — спросил я, затаив дыхание. Такая мысль еще не приходила мне в голову.
— Нет, — ответил он. — Принять вас в администрацию мы не можем. У администрации только одна задача: отделять мир силы от мира бессилия и не позволять им перетекать друг в друга. Она располагает только такой властью, и никакой другой.
Он сказал это очень уверенно, не переставая пристально смотреть на меня. Не отвел он глаз и тогда, когда продолжил свою несколько абстрактную речь.
— Администрация также предоставляет городу полицейских, которых простые люди часто путают с охранниками. Благодаря полицейским она передает преступников в руки охранников, которые, как и все другие люди, наделенные абсолютной властью, отделены от населения и живут тайной жизнью. Власть администрации не распространяется на охранников, так же как она не распространяется и на узников, под которыми я разумею массы населения. В свою очередь охранники получают власть над узниками только в том случае, если это позволяет им администрация. Она выступает в роли посредника, и только. — Он сделал рукой пренебрежительное движение. — Она даже не имеет права делить людей на сословия. Каждый волен выбрать свой удел, стать узником или охранником. У вас тоже есть выбор. С вашим решением администрация обязана согласиться.
Последние слова он проговорил быстро, равнодушным тоном.
— В чем заключается власть охранника? — все еще недоверчиво спросил я.
— В том же, в чем и любая другая власть, — ответил он. — Во власти над людьми.
— Над какими людьми? — продолжал допытываться я.
— Над людьми, которых вам выдадут, — ответил чиновник с невозмутимым видом. — То, что происходит в среде охранников, администрации не касается. Соглашаясь на наше предложение, вы оказываетесь в царстве безмерной власти. Власть охранников не знает границ.
— Смогу ли я принять участие в тибетской войне? У меня большой опыт боевых действий в горах. Я думаю, и администрация заинтересована в том, чтобы одержать там победу.
Чиновник пожал плечами.
— Офицеры сами решат, куда вас определить.
— Куда мне нужно явиться? — решительно спросил я.
— Вы готовы принять наше предложение? — осведомился он, поколебавшись, отвечая вопросом на вопрос.
— Я выбираю профессию охранника, — заявил я.
Чиновник посмотрел мне в глаза. Он снова был совершенно спокоен.
— Хорошо. Вот адрес. — Он протянул мне листок, похожий на тот, что лежал у меня под дверью. — Отправляйтесь туда, когда захотите. Мне жаль, что вы сделали именно этот выбор. Но вам, я думаю, наплевать на мои сожаления.
— Это точно.
Он встал. Я тоже поднялся. Он тщательно закрыл папку с моими бумагами. Мы подошли к двери, он открыл ее и вдруг совершенно неожиданно положил руку на мое левое плечо.
— Вы уходите, — сказал он. — Вы приняли предложенную вам власть. Я и на этот раз потерпел поражение. Теперь вы охранник, а с ними у нас ничего общего. Я беспомощен, вы это знаете. Но в одном хочу вас заверить: в любой момент вы можете отказаться от службы в охране. Вы добровольно вступили в ряды охранников и вольны их покинуть. Дверь открыта. Вы пока не понимаете, что значат эти слова, но когда-нибудь поймете: дверь открыта. Я прошу, я умоляю вас верить тому, что я сейчас сказал. Ваше счастье зависит от того, поверите вы моим словам, причем безоговорочно, или не поверите. Больше мне нечего добавить.
Я засмеялся и оставил забавного парня на пороге его кабинета. Я одержал победу, а он сохранил себе жизнь.
2
Надеюсь, читатель не будет в обиде, если то, как принимали меня на следующий день в сословие охранников, я опишу в самых общих чертах, не поступаясь, однако, исторической достоверностью; по правде говоря, мне вовсе не хочется вспоминать об этом событии во всех подробностях. В отличие от многих моих товарищей я не усмотрел в нем ничего такого, что унижало бы новобранцев, и все же это была странная процедура, объяснимая разве что небрежностью, с какой администрация относится к разного рода официальным мероприятиям. Было бы нелепо делать отсюда вывод, будто она не умеет ценить наше сословие, наоборот, она знает, что ей без охранников не обойтись. Поэтому, на мой взгляд, лучше всего в полном соответствии с дисциплиной, соблюдать которую мы поклялись, раз и навсегда принять проявляемое администрацией невнимание к форме как факт, который не подлежит изменению (по крайней мере по инициативе тех, кто призван следить за порядком), и спокойно отнестись к тому, что для проведения этого важного в жизни охранников ритуала она подбирает самых неподходящих лиц.
Дом, адрес которого дал мне чиновник, находился в предместье, где я почти не бывал и поэтому плохо ориентировался, несмотря на строгую планировку улиц. Я долго не мог отыскать его, потому что все вокруг было застроено предназначенными для рабочих домишками из красного кирпича, с островерхими крышами, похожими друг на друга, с одинаковыми палисадничками. Дом стоял на прямой, как стрела, улице, рядом с автобусной остановкой, это я помню абсолютно точно. Обычный домик для рабочей семьи, с двумя березками у калитки. Необычным мне показалось только то, что дверь на мой звонок открыла девчонка лет пятнадцати. От нее веяло свежестью, которая чуть смягчала мрачное впечатление от убогой прихожей. Я молча показал ей записку, и она повела меня по коридору. Перед одной из дверей она вдруг прижалась ко мне всем телом и прошептала на ухо слова страшной угрозы. Затем отпустила меня и открыла дверь. Ударивший мне в глаза свет был так ярок, что я отшатнулся. Постепенно осмотревшись, я заметил, что меня ввели в комнату средней величины, обставленную безвкусной мебелью, какая обычно встречается в домах нуворишей. Видимо, администрация здесь куда терпимее относилась к бессмысленной роскоши.
Особенно противен был резкий, сладковатый запах, наполнявший комнату, но внимание мое привлекла какая-то бесформенная масса в центре. Сидя в легких складных креслах, три старухи играли за столом в карты и пили чай из японских чашечек. Даже сейчас, пытаясь описать эти существа, я испытываю непреодолимое отвращение. Губы их были накрашены синей краской, но мое омерзение вызвали не они, а отвислые, лоснящиеся от жира щеки. Глаза и руки старух я почти не запомнил. Они сдвинули головы, отчего впечатление бесформенности еще более усилилось, и, не отрывая глаз от карт, приветствовали меня потоком бессмысленных восклицаний. Внимательно и недоверчиво вслушиваясь в их грязные слова, я наконец уразумел, какая работа меня ждет. Я услышал, что нахожусь в городской тюрьме, которой в качестве представителей администрации приданы эти старухи, и что именно здесь я должен начать свою службу охранника. Они напомнили мне, что охрана действует тайно, поэтому мы ничем не должны отличаться от узников, не считая, разумеется, спрятанного под одеждой оружия. Старухи приказали девчонке подать мне одежду, полагающуюся охраннику, но не разрешили переодеться в другом месте. Мне пришлось подчиниться и раздеться в их присутствии. Странная это была одежда, которую вручила мне девчонка, разноцветными нитками на ней были вышиты таинственные знаки и фигурки, но сидела она на мне хорошо и не стесняла движений. Из оружия мне вручили револьвер, два комплекта боевых патронов и две ручные гранаты.
После этого старухи вдруг утратили ко мне всякий интерес и снова погрузились в свою игру. Девчонка вывела меня из комнаты. Мы вышли через другую дверь и очутились не в коридоре, откуда пришли, а на лестнице, которая круто спускалась вниз. Я еще находился под впечатлением случившегося, но все же не упустил случая и спросил девчонку, в какой части я буду служить, но она ничего не ответила, и я молча последовал за ней.
После короткого спуска мы попали в маленькое квадратное помещение. За деревянным столом сидел пожилой человек и что-то писал. Одет он был так же, как и я, только на плече у него висел автомат.
— А вот и новенький, — сказал он и встал. — Ну-ка подтянись, а ты, девчушка, мотай отсюда наверх, к своим старым хрычовкам!
Склонив набок голову, он прислушался к удаляющимся шагам. Когда шаги затихли, он удовлетворенно кивнул, открыл низенькую, полуразвалившуюся деревянную дверь и приказал мне следовать за ним.
Мы попали в узкий проход, прорубленный в скалах, влажный от сочившейся отовсюду воды и тускло освещенный маленькими красными лампочками; электрические провода свободно свисали вдоль стен. Охранник протянул мне одну из двух касок, висевших на гвозде за дверью; они были обтянуты белой материей с такими же гротескными фигурками, как и на моей одежде. Затем он протянул мне автомат, заметив при этом, что старым каргам вовсе не обязательно знать все.
Проход оказался длиннее, чем я предполагал. Он вроде бы все время шел вниз, но я в этом не уверен, так как временами нам приходилось с трудом взбираться наверх, чтобы потом снова опускаться в неведомые глубины: ведь в принципе невозможно получить зрительный образ лабиринта, в котором мы живем. Иногда мы по колено погружались в ледяную воду. Слева и справа к нашему ходу примыкали такие же штольни.
Мой проводник молча шел впереди, держа автомат на изготовку. По фронтовой привычке я делал то же самое, и, как оказалось, не зря: когда мы проходили мимо одной из боковых штолен, у моей головы просвистела пуля, и лающий звук выстрела эхом отозвался в проходах. Мы стремительным броском продвинулись метров на сто вперед и остановились у винтовой лестницы, откуда охранник — как мне показалось, совершенно бессмысленно, ибо никого не было видно, — до тех пор строчил в пустоту, пока не кончились патроны.
Спустившись еще ниже, мы очутились в пещере, где было чуть светлее. Вверх и вниз из нее вели винтовые лестницы. Мой сопровождающий отступил в сторону, из крохотного тамбура, куда мы спустились по лестнице, я шагнул в пещеру и в ужасе замер на пороге: в самом центре был подвешен за руки голый бородатый человек, к ногам его привязали тяжелый камень. Человек этот висел неподвижно, время от времени издавая хрип. У стены на кое-как сколоченных нарах посреди груды разнообразного оружия и ящиков с патронами сидел огромного роста пожилой офицер в расстегнутом кителе, из-под которого выглядывала белая грудь, заросшая слипшимися от пота волосами. Мундир был мне знаком еще со времен войны.
— Ваше превосходительство, — пробормотал я. В офицере я узнал своего старого командира.
Из стоявшей рядом с ним на нарах бутылки он налил себе полный стакан шнапса и только тогда заметил меня.
— А, Ганс, малыш, — хрипло рассмеялся он и опрокинул в себя шнапс. — Подойди сюда!
Когда я подошел, он прижал мою голову к своей потной груди и впился костлявыми пальцами мне в волосы.
— Ты ли это, Ганс, малыш! — почти запел надо мной хриплый голос. — Ты снова со мной, сукин ты мой сынок, явился к своему командиру, в возвышенную, единственно достойную человека зону опасности. Будь проклята эта жизнь над нами. А? — И он с силой тряхнул мою голову. — Ни за что бы не поверил, что им удастся приручить моего паренька, этим добреньким господам из администрации. Но не будем говорить плохо о тех, кому служим!
Неожиданно он отпустил мою голову и наградил меня таким пинком, что я налетел на подвешенного, который громко застонал и закачался туда-сюда, будто язык огромного колокола. Я поднялся.
— Сигару мне, скотина! — со смехом крикнул офицер сопровождавшему меня охраннику и выпрямился. — Я свою порцию уже выкурил.
Когда охранник протянул ему одну из тех дешевых сигар, которые все мы курим, потому что других просто не существует, офицер небрежно прикурил ее от золотой зажигалки, выглядевшей довольно странно на фоне его грязного мундира и чудовищного убожества пещеры. Но тут я вспомнил, что зажигалка была у него еще на фронте, и это наполнило меня удовлетворением. Старые добрые времена не совсем миновали.
— Ганс, — сказал он и, подойдя к висевшему обнаженному человеку, выпустил ему в лицо клубы дыма, — дурачок, ты, кажется, удивлен, видя здесь вот этого. Армия — надеюсь, ты это еще не забыл, — не жалует живодеров. И если здесь кто-то болтается голым на веревке, то сделано это против воли твоего старого командира. Не так ли? Ты ведь порядочный парень, малыш. И подумал именно об этом?
— Так точно, ваше превосходительство, — вытянулся я по стойке смирно.
Сощурившись, старик подозрительно взглянул на меня.
— Ганс, — спросил он, — что ты думаешь об этой вонючей собаке? Почему он здесь висит?
— Это узник, ваше высокоблагородие, — отрапортовал я, все еще вытянувшись по стойке смирно.
— Это охранник, черт возьми, — проворчал он и топнул ногой. — Такой же охранник, каким хочешь стать ты, если у тебя хватит мужества.
— Я решил стать им, — сказал я, не сдвинувшись с места.
— Отлично, — кивнул головой командир, — я вижу, ты все тот же бравый парень, готовый на все, как и тогда, в окопах. А теперь смотри хорошенько, малыш, что я буду делать.
И он погасил горящую сигару о грудь висевшего, который громко застонал.
— Ганс?
— Слушаю, — пробормотал я, смертельно побледнев.
— Эта собака болтается здесь уже двенадцать часов. Но он храбрый пес, отличный охранник.
Он подошел ко мне. Старый великан был на две головы выше меня.
— А знаешь ли ты, кто сотворил это свинство? — угрожающе спросил он.
— Нет, ваше превосходительство, — ответил я, щелкнув каблуками.
— Я, малыш, я, — захохотал командир. — А знаешь, почему? Потому что этот вонючий пес вообразил, будто он не охранник.
— Кем же он себя считает?
— Узником, — ответил командир.
Остановка в небольшом городке
Фрагмент
ПРИБЫТИЕ
Окончательно и бесповоротно разорившийся банкир Бертрам, последний барон из Шангнау, вот уже много лет именовавший себя де Шангнау, возвращался последним поездом домой, в Ивердон.
Подыскивая новый род занятий, он побывал в Базеле, у такого же прогоревшего финансиста, падение которого, собственно, и привело к падению барона (или, наоборот, как утверждал базелец) и которому удалось на последние гроши основать издательство для спасения западной цивилизации, более чем однозначное предприятие, процветавшее всем на удивление, хотя все наперебой предсказывали ему неизбежный крах: однако де Шангнау без раздумий отклонил предложение базельца войти в новое дело разъездным агентом, ибо не до конца утратил надежду устроиться в Союз невшательских виноторговцев (специальность — белые вина) как секретарь и шеф по рекламе.
Он ехал навстречу цели своей поездки, мимо неярких зимних пейзажей, которые проплывали за окном, словно выцветшие рекламные проспекты. Сорок три года прожил он на земле, человек вполне заурядный — если, конечно, отвлечься от его более легендарного, нежели истинного бернского высокородства, — угодивший в ужасный финансовый переплет, как многие до него, имевший десятилетнюю дочь и жену, на которой он женился лишь затем, чтобы было где разместить банк, как он признавался теперь себе самому: ведь Мадлен, урожденная Ле Локль, была, подобно ему, последней представительницей своего рода и в этом качестве владела мрачным, но респектабельным домом в Ивердоне (на place[5], между Замком и Собором).
Он стоял в проходе, накинув на плечи серое твидовое пальто, прислонясь к окну и всецело погрузившись в беспросветное однообразие швейцарских будней. Он бросил взгляд в купе первого класса, где некий пассажир надевал пальто, тоже из твида, тоже серое, с тем, вероятно, чтобы выйти на ближайшей остановке. Он припомнил, как в апогее своих банковских дел тоже ездил первым классом, в этих маленьких, обитых красным клетушках с цветными репродукциями, с Ходлерами[6] и Бёклинами[7], с Каламами[8] и Анкерами[9] на стенах для сугубого просвещения верхних десяти тысяч и с неизменно укоризненными и завистливыми лицами в коридоре по ту сторону застекленной двери. Но едва дали о себе знать первые финансовые затруднения (безнадежные векселя, по которым нельзя было получить, акции, которые ничего не стоили, подписи, которые были, грубо говоря, подделаны, полиция, которая к нему зачастила), как его постоянным окружением стали купе второго класса, украшенные лишь родными пейзажами: Бернские Альпы, или там монастырь Айнзидельн, или Блюмлисальп, вид с запада, Напф — вид с юга, Маттерхорн — с севера, или Пайернский собор. Недалек тот час, когда ему придется ездить среди почти голых, почти лишенных родины и культуры стен третьего класса, как он уже собирался однажды. И вот теперь тоже.
За окном давно стемнело. Поезд не слишком торопился проехать мимо Юры, останавливался то здесь, то там. Де Шангнау злился, что прозевал скорый, через Делемон, и вот теперь вынужден тащиться кружным путем, через Ольтен. Чемодан и портфель лежали в сетке над его свободным теперь местом, он три дня не был дома, успел за это время встретиться с той англичанкой. В «Христианском приюте». И в этом тоже были приметы падения. Во времена оны он нарушал супружескую верность в «Трех волхвах» либо в Цюрихе — в «Бор-о-лак». Он скучливо оглянулся на свое купе, которое покинул, чтобы передохнуть от жары в более прохладном коридоре. В этой стране все поезда были чересчур жарко натоплены. Двадцать два градуса, попробуй вытерпи. Студент заснул над своим учебником анатомии, и коммивояжер, севший в Энсингене, подремывал в молочном отблеске стекол. Де Шангнау взглянул на часы. Двадцать один час тридцать семь минут. В двадцать один пятьдесят девять он будет на месте. Он раскурил сигарету «Паризьен». Все было пронизано дрожью от равномерных толчков поезда, все облечено в лед и стекло. Проводник с красной сумкой, шатаясь, прошел мимо, вскоре после него из вагона-ресторана проследовал статский советник Рос из Лозанны — по счастью, близорукий, — с которым он некогда был дружен. Де Шангнау вгляделся, угадал взглядом отдаленные фонари и световую рекламу, поезд где-то между Золотурном и Гренхеном, а может, и еще где-то подкатил к перрону маленького городка, который трудно было опознать сквозь оледеневшие стекла и который не мог предложить сколь-нибудь разумной причины, чтобы в нем выйти.
А если банкир все-таки и вышел, то из одного лишь любопытства, единственного, за что он еще мог уцепиться в этой жизни. Сквозь почти непрозрачное стекло он заметил освещенную женскую руку, рука, высунувшись из киоска, что-то подавала пассажиру, только что покинувшему купе первого класса.
Шангнау не мог устоять перед искушением. Он вышел из поезда. Пустой перрон был более чем скупо освещен. Холод отрезвил банкира. Он проследовал вдоль поезда и подошел к киоску. Но сама киоскерша не вполне соответствовала своей изящной ручке. У нее были черные и гнилые зубы. Банкир помешкал, он не знал толком, зачем сюда подошел и что ему теперь делать, решил наконец купить сигарет, хотя у него в кармане еще лежала непочатая пачка, пошарил в карманах, злясь, что вышел, но тут поезд тронулся. Последний из баронов де Шангнау не мог вскочить на ходу, мешало наброшенное на плечи пальто. Ему не оставалось больше ничего, кроме как засунуть руки в рукава, застегнуться на все пуговицы и проводить глазами освещенный квадрат окна, который все быстрее и быстрее проплывал мимо, уходя в ночь, в пустоту, как показалось барону.
Скорые поезда, как с легкой досадой, словно неудача постигла именно его, пояснил начальник станции, к которому обратился де Шангнау, — скорые поезда стоят очень недолго, поэтому лучше всего без крайней надобности не выходить на остановках. Сигареты можно купить и в вагоне-ресторане. Куда, кстати, направляется пассажир?
— В Ивердон.
— Где жил Песталоцци[10], — констатировал начальник, зажав под мышкой виновника всего случившегося — распорядительный щиток.
— Верно, — ответил де Шангнау.
Далее начальник станции перелистал сводное расписание и сообщил, что, к его глубокому сожалению, в Ивердон больше никак не попадешь. Небрежно, изображая богатого банкира, которым он больше не был, де Шангнау сказал, чтобы позаботились о его багаже, купе для курящих, второй класс.
Начальник станции обещал связаться по телефону.
— Как он, между прочим, называется, этот городок?
— Кониген.
— Вот это да! — ахнул обанкротившийся барон. — Кто по доброй воле поедет в Кониген? Тогда уж осмотрим с божьей помощью эту захолустную дыру. Здесь хоть есть порядочная гостиница?
— «Вильгельм Телль», — с достоинством ответил начальник станции и отвернулся.
Ну, подумал про себя де Шангнау, кто живет в городе Песталоцци, тот вполне может заночевать и в «Вильгельме Телле», после чего он кивнул начальнику станции, пренебрегая гневом и неприязнью последнего, и вошел в зал ожидания. Посреди зала человек в твидовом пальто, тот, что ехал первым классом, согнувшись, в позе, явно для него неудобной, завязывал шнурок на левом ботинке.
Де Шангнау проводил глазами продавщицу, которая закрыла свой киоск и теперь продефилировала мимо него к выходу. На сей раз она показалась ему еще менее привлекательной, в красном пальто и лыжных брюках. У выхода стоял замерзший газетчик с теплыми наушниками, он курил «Бриссаго». Барон купил у него «Лозаннский бюллетень» на французском языке, «Базлер нахрихтен», а также «Она и он». Он хотел на сон грядущий, уже лежа, почитать в «Вильгельме Телле», он и дома, на «Пляс», поступил бы точно так же.
На привокзальной площади было холодно. Городок лежал в отдалении, вероятно ближе к горной цепи, и лишь немногочисленные дома окружали слабо освещенную площадь: гостиница «У вокзала», которая выглядела точно так же, как все одноименные гостиницы, и здание поновей, почтамт. Отъехал троллейбус, красное пальто киоскерши сверкнуло в окне. Теперь на площади никого не было. Перед почтамтом стоял ряд телефонов-автоматов, перед гостиницей — голые деревья, а из городка доносились голоса, музыка, пение. Над всем этим висела половинка луны, потом еще дальше — одинокая звезда, словно приколотая к серебристо-серому полю. Обанкротившийся барон почувствовал себя одиноким, заброшенным, прибитым к чужому, недоброму берегу. В нем вдруг поднялась тоска по чему-то теплому, по его комнате в Ивердоне с гербом Ле Локлей над камином, по семейному столу и даже по жене. Глядя на эту ночную площадь, он вдруг разом возненавидел все и всяческие путешествия, всех англичанок, все закулисные маневры, весь этот мир уловок и бизнеса, в котором он так неискусно передвигался. И он решил взять такси, только что подъехавшее такси, последнее, которое ему по карману. Едва оно подъехало, Шангнау сказал:
— «Вильгельм Телль», — и, когда распахнулась задняя дверца, влез.
Он не сразу заметил, что с этим такси не все ладно. Машина рванула с места на какой-то адской скорости к рядам домов, потом — по широкой торговой улице, полной людей и освещенных магазинов, мимо кинотеатров. Де Шангнау откинулся на спинку сиденья и глянул в окно. Не таким он представлял себе Кониген, исходя из распространенной присказки «дыра вроде Конигена», однако в этой ночной поездке Кониген явил приметы большого города, так что даже необузданный нрав шофера показался ему вполне уместным, впрочем, переведя взгляд налево, он заметил, что отнюдь не один разместился на заднем сиденье. Рядом с ним был еще кто-то, так же откинувшийся на спинку и лишь с трудом различимый, как неясный силуэт.
— Ну, — сказал тот, другой, — учтите: через две минуты она рванет!
И прежде, чем де Шангнау понял, о чем идет речь, ему на колени положили какой-то круглый предмет, размером с голову, тяжелый металлический предмет, и он невольно прижал его к себе.
Машина притормозила, и банкир очутился на улице посреди мощеной площади, небольшой, старинной, окруженной солидными строениями семнадцатого-восемнадцатого веков, среди которых затесался один, совершенно здесь неуместный, высотный дом. Второй пассажир буквально выкинул его из машины, де Шангнау чуть не упал и с трудом удержался на ногах. В чем дело?! — хотел он закричать, прежде чем машина, взвыв, свернула в переулок и скрылась. Но протест не состоялся. Ибо, взглянув на предмет в своих руках, он увидел, что это бомба.
Мы готовы согласиться с необычностью ситуации: разоренный дотла банкир, с бомбой, которая теперь уже меньше чем через две минуты взорвется, посреди ночного городка, о котором он ровным счетом ничего не знает, кроме названия, и в котором только что очутился в первый раз. Словом, ситуация была такова, что грозила даже самого де Шангнау вывести из тупого равнодушия, с недавних пор сопутствовавшего ему во всех его начинаниях, будь то семейная жизнь в Ивердоне или финансовые неурядицы.
Пробуждение оказалось мучительным. Он клял на чем свет стоит приключение, внезапно на него свалившееся. Он стоял несчастный, бледный, замерзший, со зловещим предметом в руках, он уже решил положить бомбу и убежать подальше, что было бы самым естественным в данной ситуации. Но ему помешали.
Со стороны церкви, высившейся за рядом домов, на площадь вылилось шествие, духовой оркестр, музыканты в сверкающих шлемах и в черно-красных мундирах, судя по всему, пожарная часть: на уровне лица — ноты, прикрепленные к инструменту, над площадью торжественно и мощно зазвучало «Ближе к Тебе, Господь», а позади факелы, люди, распахнутые окна.
Де Шангнау, как человек отнюдь не бестолковый, понимая, что многие его заметили, и не желая напрасных жертв, отступил в ближайший переулок (а куда ж еще?) и мимо нескончаемого ряда домов, мимо любопытных, стекавшихся отовсюду поглядеть на шествие, припустился бегом, пока ноги не отказались нести его.
Перед ним была старинная башня, ярко подсвеченная прожекторами, не то романская, не то готическая, откуда банкиру знать, с гигантским циферблатом и с золотыми стрелками, под которыми именно сейчас зашевелились фигурки: папа, король, горожанин, выше кивали апостолы и размахивала косой смерть. Послышались глухие удары. Десять часов. Арочный проем был пуст — настежь распахнутая пещера, сама башня, судя по всему необитаема, над аркой — дощечка: музей, открыто с десяти до двенадцати и с двух до пяти. Всего несколько секунд. Де Шангнау припомнил, что когда-то, может быть среди отечественных пейзажей в купе второго класса, видел эту башню как нечто знаменитое, если не на всю Швейцарию, то по крайней мере на весь Кониген, знаменитое, почитаемое, символическое, но именно это здание представляло единственную возможность никому не повредить, если она вообще у него оставалась, эта возможность, ибо шествие уже приближалось, громче стали звуки труб, по-прежнему «Ближе к Тебе, Господь», и здесь одно за другим тоже начали распахиваться окна.
И тогда, с чувством какой-то мучительной гуманности, он швырнул бомбу под арку башенных ворот, толкнулся в ближайшую дверь, которая сразу открылась, споткнулся в подъезде, еще услышал один удар башенных часов — трубу Страшного суда, потом второй, а потом раздался взрыв.
Подъезд, куда юркнул террорист, содрогнулся. В дверях полыхнуло пламя, грохот рвал уши. Де Шангнау чувствовал, как на него сыплется штукатурка, и отступил еще дальше в глубину дома, потому что за дверью что-то рушилось с ужасным грохотом. Он пятился ощупью назад и наткнулся на другую дверь, которую тоже сумел открыть. Пока ему везло. Он очутился на какой-то улице, против гостиницы, чью вывеску украшала привычная глазу фигура национального героя Швейцарии, как с облегчением установил банкир. Теперь он желал только одного: поскорей лечь и с головой укрыться одеялом, а там будь что будет.
У ПАРИКМАХЕРА
Он проспал до девяти. Покуда он разделся и заснул, сотрясаемый зябкой дрожью после своего приключения, до него еще успел донестись вой пожарных машин и топот возбужденных людей. Затем, после внезапного пробуждения, не грозящий арест был первой заботой банкира, удивленного, что сквозь шторы уже сияет солнце, нет, арест произойдет сам собой, и унизительный марш в полицию бок о бок с молчаливым сотрудником, и тягостный допрос, и недоверие, с каким в полиции выслушают его рассказ; нет, всего мучительней было сознание, что у него осталось при себе лишь десять франков, единственный капитал, которым он располагал на данную минуту.
В «Вильгельме Телле» он по старой привычке назвался банкиром: «Бертрам де Шангнау, директор банка «Де Шангнау и Ле Локль», улица Песталоцци, 10, Ивердон» — и, довольный, что обрел пристанище, взял комнату с ванной. В последний раз. Нам это его намерение уже известно.
Номер обойдется как минимум в двадцать франков, потому что пришлось взять двухкомнатный. Словом, меньше чем в двадцать пять не уложишься, даже отказавшись от завтрака, и тем самым ничтожный шанс благополучно выпутаться из этой скверной истории, смотавшись отсюда как можно скорей, стал маловероятным из-за нехватки каких-то нескольких франков.
Потом, в теплой воде, разглядывая свое обнаженное тело, он вспомнил про англичанку, с которой опять встретился в «Христианском приюте». При всем желании он не мог найти сколько-нибудь серьезной причины, которая придала бы хоть какой-то смысл этой связи, не мог сослаться на страсть, на любовь, даже на вожделение и то не мог, из одной только прихоти, из разговора в вагоне-ресторане, когда за окном было Фирвальдштетское озеро, возникли эти равнодушные ночи в равнодушных номерах, потому, должно быть, что ему было скучно. А теперь он лежал в ванне, в номере, за который не мог заплатить, и ждал полицию. За стенами гостиницы была разрушенная башня, взорванный краеведческий музей, взбудораженный городок. Все как в скверной сказке. Все было тесно связано между собой, и одно вытекало из другого. Сплошные случайности, ненужная ночь любви, неразумная прогулка по перрону, загадочное недоразумение в такси, соединясь, породили событие, лишенное смысла, он совершил поступок, которого в жизни не думал совершать, который вообще считал для себя невозможным, и этот поступок как нельзя лучше обнажил всю бессмысленность его существования.
Поскольку полиция до сих пор не подавала признаков жизни, он решил все-таки позавтракать и, если неизвестно почему никто его так и не заподозрит, перехватить деньжонок у владельца гостиницы и первым попавшимся поездом бежать из Конигена. Заказать завтрак в номер он постеснялся, потому что его тяготил разговор с хозяином гостиницы, который за этим последует.
Вот почему, освежившись в ванной, он спустился вниз, но пошел сперва не в зал для завтраков, а к парикмахеру, и это тоже было своего рода мерой предосторожности, если уж добывать деньги, то делать это надо по-банкирски, насколько возможно.
Он надеялся перехватить взаймы сотню франков, а то и полторы сотни, если подыщет правильное объяснение и произнесет свою просьбу с естественной непринужденностью, которая уже не была для него естественной. Раньше, в своей прежней жизни, жизни банкира, когда ему доводилось оказаться где-нибудь без гроша в кармане, он с величайшей легкостью занимал десятки, сотни тысяч, и то, что подобная процедура вдруг оказалась ему тягостной, заставило его призадуматься. Если им завладеет эта техническая неуверенность, тогда вообще пиши пропало.
По словам портье, надо было лишь перейти через улицу. Парикмахерская находилась рядом с дверью, из которой он вчера вечером спасся бегством. На дворе сияло солнце, посылая лучи с конца улицы, и небо поражало светлой голубизной, но было по-прежнему холодно, и все вызывало мысль о сибирских холодах.
Шангнау, без пальто, торопливо вошел в салон под звон дверного колокольчика. Парикмахер как раз читал газету и встал, чтобы его обслужить.
— Побрить. — Де Шангнау сел и тут же был повязан белой простынкой.
Собственное лицо в зеркале, круглое и отечное, произвело на банкира гнетущее впечатление, первый раз ему было так неприятно очутиться лицом к лицу с самим собой. Он показался себе тупым и бездуховным, будто взаправдашний террорист. И, напротив, парикмахер, высокий человек с медлительными движениями, смахивал в своем халате на преуспевающего зубного врача. Взбивая пену, он полюбопытствовал, не из Берна ли приехал его клиент.
— Из Ивердона.
— Из города Песталоцци, — констатировал парикмахер.
— Совершенно верно, — сказал банкир. Вот уже много лет он говорил «совершенно верно», когда кто-нибудь в очередной раз устанавливал связь между Ивердоном и Песталоцци.
Лично он думал, что господин приехал из Берна, подхватил парикмахер, явно разочарованный ответом, из Берна, из следственной комиссии. Господин выглядит как вылитый детектив — в них всегда есть что-то одухотворенное, и он намылил щеки де Шангнау.
— Доброе утро, господин архитектор, — его приветствие прозвучало как-то механически, — садитесь, мой сын вас сейчас обслужит. Вильгельм, побрить!
Под звон колокольчика вошел какой-то господин, повесил на крючок свое пальто и сел рядом с банкиром. Их взгляды встретились в зеркале. Городской архитектор был человек небольшого роста, толстый, но не жирный, с могучими мускулами, надо полагать, одетый почти как крестьянин, с тяжелой серебряной часовой цепочкой поперек живота.
Де Шангнау осторожно спросил парикмахера, точившего бритву, что можно расследовать в Конигене и зачем здесь нужны детективы.
Парикмахер возбужденно отвечал, что вчера в десять вечера взлетел на воздух Большой Карапуз, от него остались только развалины да обугленные балки, потому что после взрыва башня загорелась.
— То, что случилось с нашим дорогим Карапузом, с нашим старым добрым Карапузом, — это большое, можно сказать, национальное бедствие. Не правда ли, господин архитектор Кюнци? — обратился он отчасти с гордостью, отчасти с прискорбием ко второму клиенту, но господин Кюнци не ответил на его вопрос, вместо того он то и дело украдкой бросал через зеркало пристальные взгляды на де Шангнау, почти угрожающие, как тому казалось.
В раннем выпуске известий по радио, перед утренней зарядкой (он каждый день делает зарядку), уже было передано сообщение, разливался счастливый парикмахер, радуясь, что нашел тему для разговора и уже не выпускает ее, жаль только, диктор из Беромюнстера произнес сообщение таким же тоном, как любую зарубежную новость, а ведь в данном случае было бы вполне уместно сочувствие и скорбь, при такой общешвейцарской катастрофе, в конце концов, это касается всего швейцарского народа, от федерального советника до простого парикмахера, но чтоб растрогать подобного диктора, должна по меньшей мере преставиться какая-нибудь королева или папа; к счастью, парикмахеру не дали довести речь до конца. Очередной звонок дверного колокольчика прервал его речи.
Новый клиент (осанистый мужчина с седыми усами, как де Шангнау увидел в зеркале) сел на один из стульев среди газет, взял «Швайцер иллюстрирте» и был почтительнейше приветствован парикмахером как господин мясник Циль.
— Доброе утро, Кюнци, — засмеялся мясник, — ты пришел сбрить бороду? Да и как же иначе, когда у тебя под носом башни взлетают в небо.
И поскольку архитектор промолчал, вероятно обиженный подобной грубостью, мясник, все так же смеясь, добавил, что из-за вознесения Большого Карапуза Кюнци, видно, говорить разучился.
— Как вы — играть на трубе, — поспешил на выручку парикмахер, приставив бритву к левой щеке банкира (правую он уже обработал).
— Твоя правда, брадобрей, — сказал мясник, раскуривая сигару, — я вчера как раз трубил в честь столетия нашей Труди Майер-Хюнляйн-Шер-Хофер, второй муж которой, Хюнляйн, шестьдесят лет назад был у нас председателем городской общины, ну а первый, Шер то есть, был аптекарем, а третий, пастор Майер, уже сорок лет как умер, но я-то еще у него конфирмовался, вот я и трубил вчера «Ближе к Тебе, Господь» изо всех сил, как пожелала наша юбилярша, и вдруг перед самым моим носом Большой Карапуз взлетает на воздух, так что залюбуешься. И не только перед моим носом, но и перед носом у нашей пожарной дружины, которая частью тоже дудела, а частью участвовала в процессии, потому как аптекарь когда-то был у них начальником. Лично для меня это был возвышенный момент, скажу вам честно, все равно как удачная проповедь о бренности всех Больших Карапузов. Во всяком случае, умей наши духовные отцы так здорово читать проповеди, я б тоже ходил в церковь каждое воскресенье. Но наша юбилярша, верно, натерпелась страху от этой серно-желтой молнии и от грохота, прямо как во времена Содома и Гоморры. Она ведь у нас живет неподалеку от Карапуза.
Парикмахер, уже обработавший левую щеку банкира, заметил, что госпожа Майер-Хюнляйн туга на ухо.
Ее счастье, успокоил себя господин Циль, о том, чтобы трубить дальше, не могло быть и речи, вся процессия помчалась в пожарную часть взять там брандспойты и прочую утварь, но спасти башню все равно бы не удалось, хорошо хоть сумели отстоять от огня соседние дома, один наполовину обрушился, просто чудо, что сегодня можно зайти побриться, дом парикмахера тоже был в опасности. Лично ему хотелось бы узнать, какие объяснения найдет комиссия из Берна, которая приехала сегодня ночью, уж навряд ли они придумают что-нибудь толковое.
Парикмахер подхватил реплику и сказал, что с Карапузом разделались по всем правилам искусства, это ясно. Ведь недаром взрыв произошел как раз за два дня до пятисотлетия битвы под Болленом — одной из важнейших дат отечественной истории, за два дня до большого шествия и до приезда федеральных советников Эттера, Фельдмана и Птипьера[11]. Заподозрить можно только коммунистов либо масонов, и это вполне логично, но сторонников Москвы, по его мнению, надо исключить, они довольно слабые, им нужны голоса, Карапуз ведь был очень популярен, и они не рискнули бы протягивать к нему свои красные пальцы.
— А вот масоны, — вдруг вскричал он, — масоны — те очень сильны, они могут позволить себе такую наглость. Вот увидите, господа, комиссия из Берна ничего не найдет, даже если привезет в десять раз лучших детективов и со всего мира, не найдет, потому что ей не позволят найти. Зато типа, который разрушил символ нашего города, я бы хорошенько проучил, попадись он мне под бритву. — И он с удвоенной энергией заскреб щеку де Шангнау; во имя родины он, парикмахер, готов даже и на убийство, как Вильгельм Телль, как Арнольд фон Винкельрид[12] и другие швейцарцы былых времен.
— Осторожнее, — хотя и нерешительно, взбунтовался де Шангнау, поскольку и в самом деле показалась кровь, и его вдруг охватило неприятное чувство, что парикмахер догадывается, кого скребет своей бритвой.
— Ах, пардон, пардон, — вскричал растерянный парикмахер, увидев, что порезал банкира, потом обработал его кровеостанавливающим карандашом, потом выразил глубокое сожаление, вообще-то у него считается самая твердая рука в Конигене, просто сегодня он решительно не в себе из-за национального бедствия.
Мясник подал голос со своего стула, где он все еще перелистывал «Швайцер иллюстрирте», и сердито сказал, что насчет масонов — это бред сивой кобылы, не хватало еще, чтобы брадобрей приплел сюда евреев, тогда все козлы отпущения будут налицо. Скорей всего, где-нибудь лопнула газовая труба, потому как ума, который потребен, чтобы уничтожить Карапуза, он лично не находит сегодня ни у евреев, ни у масонов, а у сторонников Москвы — и подавно, не говоря уже про другие партии, будь то католики, демократы или социалисты. Надо честно признать, что Карапуз страшно мешал уличному движению, проехать можно было только на «фольксвагене», да и на «фольксвагене» с трудом. Но то-то и оно: наша полиция отродясь не видела того, что каждому ясно, иначе Карапуз уже давно приказал бы долго жить. Он не боится это сказать, хотя здесь же присутствует городской архитектор, вернее, именно потому, что он здесь присутствует. Нельзя построить ни дома, ни гаража, ни даже крольчатника, чтобы архитектор не вмешался, надо вечно помнить про старые времена и про старый стиль, и некоторые конигенцы ведут себя так, словно люди и впрямь по сей день разгуливают с бородами и алебардами.
— Господин Циль, — ответил парикмахер вместо архитектора, который по-прежнему молчал и не сводил глаз с де Шангнау, — господин Циль, — повторил он, опрыскивая банкира одеколоном, — помимо ценностей материальных существуют и ценности духовные, вот наш Карапуз и был такой духовной ценностью, отечественным сокровищем, символом истинно швейцарского духа, как Песталоцци и Готфрид Келлер[13].
На это мясник, как знаменем взмахнув «Швайцер иллюстрирте», возразил, что он и сам настоящий швейцарец, не меньше швейцарец, чем Готфрид Келлер, которого он, между прочим, тоже проходил в школе, но он современный швейцарец и потому не делает, подобно Кюнци, вид, будто лично принимал участие в сражении под Болленом под командой рыцаря Куно из Цецивиля, а насчет рыцаря у него есть один вопрос: произнес бы тот свое знаменитое «Мы победим, ибо наделены духом», если бы тогдашние швабы двинулись на Боллен с атомной бомбой, или нет. И нечего ему вечно тыкать в нос достижения предков. Платить налоги — подвиг ничуть не менее героический, чем выиграть битву, а он платит больше налогов, чем все здесь присутствующие, вместе взятые. Никому не дано повернуть время вспять, даже лучшему архитектору мира — и то не дано, сейчас город живет сыроварней, часовым заводом, заводом кузовов, сигарами и велосипедным заводом, а вовсе не Карапузом.
— Надо быть честными, господа, — воззвал он, в то время как парикмахер щеточкой чистил де Шангнау, который уже поднялся с места, — честность — вот истинная добродетель швейцарца. Сперва сыр, а уже потом Карапуз — таков естественный порядок вещей, и не только в Конигене, а во всей Швейцарии, которая уже давным-давно сделала из национального героя Телля рекламную фигуру. Поэтому не стоит так ужасно сокрушаться по поводу взлетевшего на воздух Карапуза, ну взлетел и взлетел, и никто не запрещает тем, кто захочет, по-прежнему наклеивать картинку с Карапузом на изделия сыроварни, на сигары и колбасы, где ему самое место и есть.
Де Шангнау, наконец-то вырвавшись из парикмахерской, перешел через улицу обратно в «Телля», в зал для завтраков. Он проголодался, заказал себе два яйца в стакане, которые особенно любил, и кофе с молоком. Он сидел у окна, на солнце, и мог видеть, как на другой стороне улицы вышел из парикмахерской архитектор, нерешительно поглядел на отель и побрел дальше.
За соседним столом сидел еще один постоялец, чье сходство с архитектором сразу бросилось банкиру в глаза, он был такой же приземистый и грузный, как Кюнци, только одет не на крестьянский лад. Он сидел в просторной замшевой куртке и бриджах, турист туристом, в высоких, подбитых гвоздями башмаках, ел глазунью с ветчиной и пил вперемешку молоко, томатный сок и апельсиновый.
Банкир прихватил «Базлер нахрихтен» и начал перелистывать газету в ожидании яиц и кофе, но потом вдруг с досадой отложил ее и весь побагровел, потому что со второй страницы ему неожиданно бросился в глаза один заголовок. Лопнувший банк в Ивердоне. Он велел кельнеру принести другую газету, местную, которую как раз перед этим скатал в трубку двойник Кюнци. Здесь о крахе банка «Де Шангнау и Ле Локль» сообщалось уже на первой странице, а о разрушенном музее не было вообще ни строчки, потому что газета здесь выходит по вечерам. Итак, банкир потерпел неудачу и покорился своему жребию. Он принялся за еду. Ел он с большим аппетитом, чуть поспешнее, чем привык, ибо сознавал, что для него это последняя трапеза осужденного. Теперь уже не имело ни малейшего смысла просить о займе дирекцию «Вильгельма Телля», уж верно, они там тоже читают газеты, и тут в приступе черного юмора барон заказал еще и ветчины, как это сделал до того человек за соседним столиком, а управившись с ветчиной, выбрал из сигар одну «Коста-Пенна», еще раз — в последний раз. Теперь он был готов явиться с повинной, велел поставить завтрак ему в счет, который все равно уже не мог оплатить, и, надев твидовое пальто и укутавшись в тропический дым импортной сигары, отправился искать полицию.
РАЗГОВОР С НОВИЧКОМ
Было половина одиннадцатого. Для начала банкир решил побывать на месте своего отнюдь не добровольного террористического акта, ибо считал долгом приличия взглянуть, что же он там натворил.
Не без растерянности узрел он гору развалин среди старинных домов, потрясенный тем, что своими руками произвел это ужасное опустошение. От былого величия Карапуза не осталось больше и следа, бомба сработала основательно. По горе развалин лазили полицейские в штатском и мерзли, занимаясь какими-то таинственными изысканиями, у некоторых были длинные шесты, и этими шестами они ковырялись в обожженных балках. Другие, в форме, не подпускали слишком близко конигенцев, удивленно созерцавших руины символа своего города: мужчины стояли, засунув руки в карманы пальто и охваченные чувством всеобщего гнева, женщины — с детьми на руках. Вокруг стайками стояли школьники и полные скорби учителя. Слышались всхлипывания, проклятия, приглушенный ропот.
Банкир, который невольно принимал все это хотя бы отчасти на свой счет, даже и не пытался прорвать человеческую цепь, которая отделяла его от центра катастрофы. Благоговейно помешкав, он через несколько секунд пошел обратно по той самой улочке, по которой бежал вчера вечером, с бомбой в руках, спасаясь от духового оркестра, но теперь его охватила досада, потому что в разрыве между домами он углядел реку, знай он об этом вчера, бомба взорвалась бы, никому не причинив вреда, но на сегодня это географическое открытие запоздало.
Отсюда он, как и предполагал, выбрался на маленькую площадь, где вчера вечером его вытолкнули из машины, дома сплошь семнадцатого-восемнадцатого веков, память его не подвела, узнал он и высотку и вторично подумал, что она здесь совершенно неуместна.
Площадь была почти пуста, лишь регулировщик неизвестно зачем торчал посредине в белом шлеме и белом плаще, банкир спросил его, где находится полицейское управление, и тот велел идти на центральную площадь.
Старый город через несколько шагов закончился, то, что вчера, во время бешеной ночной гонки, произвело на него впечатление большого города, оказалось захолустной дырой с претензией на столичный шик.
Де Шангнау остановился и стал разглядывать Главную улицу, которая полого шла под гору. И движение здесь было такое, какое пристало малому городу, много крестьян, верно, где-нибудь поблизости есть рынок, жены рабочих, католический священник, школьники, многие в фуражках, указывавших на наличие гимназии. Вышли первые газеты с сообщением о несчастье: «Конигер тагблат», «Экспресс», «Бунд», и де Шангнау с удовлетворением отметил, что теперь в них есть и другой читабельный материал, кроме его банкротства.
Навстречу от вокзала, как ему подумалось, шел троллейбус и ниже, у дорожного указателя Цюрих — Берн — Лозанна, свернул за угол.
Городские строения, красные дома, желтые, синие, белые, дома из дерева, словно выпиленные лобзиком, дома из камня, из бетона, ренессансный фасад, школа, строение в стиле модерн, кантональный банк, торговый дом «Ше Бийетер», потом кинотеатры, три, четыре, по ту и по другую сторону улицы: «Капитоль», «Аполло», «Альгамбра», «Метрополь», с яркими надписями, «Limelight»[14]. «Улица в Рио, девятая неделя», «Хайди», «Мария из гавани», огромные целующиеся лица, огромные бюсты, кооперативный магазин, еще вывески врачей, портных, парикмахеров, певческая школа Конигена, лавки всех видов, мясная лавка Циля, еще одно здание в стиле модерн, вероятно театр, крестьянские дома, а между ними прямо на тротуаре кучи навоза и молочные бидоны, потом бары, кафе, перед ними — большие машины, «студебекер», «мерседес», «бьюик» и один джип; на часы местного завода поднялся небывалый спрос, они приносят небывалый доход, неплохо бы принять участие, подумал банкир. Дальше возникли флажки и вымпелы к завтрашнему юбилею битвы, бернские знамена, конигенские, синие с желтыми поперечными полосами, красные швейцарские с белым крестом, а за ними плакаты с изречениями: «Где Кониген, там и клятвенный союз», «Кониген признателен федерации» — и, наконец, призывы участвовать в фестивальных торжествах «Дух Боллена и дело Боллена».
Вот по этой патриотической аллее и надлежало пройти погубителю Большого Карапуза, коль скоро он решил признаться в своем преступлении. Вполне понятно, что он не слишком спешил. На другой стороне улицы, на солнце, свет которого совсем не давал тепла, стоял архитектор, грузный, явно способный к насилию крестьянин, стоял, несмотря на холод, в расстегнутом пальто, без шарфа, стоял и следил за де Шангнау. Банкир замерз. Последний раз он наслаждался свободой, хотя и вымученной, и тут от «Коста-Пенны» было немного проку. Он бросил ее и растер ногой, злясь из-за впустую истраченных денег и одновременно испугавшись, ибо внезапно овладевшая им скупость неопровержимо свидетельствовала о его банкротстве.
— Дяденька, — услышал он звонкий голосок, — дяденька, пойдем со мной.
Де Шангнау обернулся. В открытых дверях одного подъезда стояла девочка лет примерно десяти, в тонкой красной юбочке и грязном полуизорванном фартучке, с голыми коленками, в желтых носочках, тоже рваных, и сандалиях. Замерзшее существо, синее от холода. Маленькое худое личико, выпученные зеленые глаза.
— Пойдем, дяденька, — повторила она.
Де Шангнау спросил, как ее зовут.
— Иветта.
Куда же ему надо идти?
— К папе.
Банкир уставился на девочку, будто грезя наяву.
— Это почему же?
Он вспомнил про свою дочку в Ивердоне, и ее тоже зовут Иветтой, и она такая же худенькая и белокурая и так же ему непонятна и незнакома, и впервые его потянуло домой, на улицу Песталоцци.
— Из-за башни, — сказала девочка своим тихим стеклянным голоском, и ее дыхание облачками уплывало от ее лица.
— Тогда пошли, — сказал банкир, — тогда пошли.
Девочка вприпрыжку побежала перед ним, сперва по тротуару. Они прошли мимо кондитерской лавки.
— Дяденька, — сказала девочка, — купи мне пирожное, папа говорил, что у тебя есть деньги и что ты купишь мне пирожное.
Банкир дал ей франк, мелочи у него не оказалось, и девочка забежала в магазин. Он видел через стекло, как это красное, щуплое создание с сияющими глазами выбирало что-то, потом девочка снова вышла.
— Дяденька, я купила сразу два, — сказала она, держа в каждой руке по липкому изделию кондитера и уже жуя; о том, что ей должны были дать сдачу, она ничего не сказала.
— А теперь веди меня к твоему отцу, — сказал банкир.
Девочка вприпрыжку свернула в какой-то переулок, а оттуда — во двор между домами. Банкир помешкал.
Двор был залит асфальтом, задние фасады домов — грязные, серо-голубая краска отслаивалась целыми лепешками, повсюду перед окнами висело белье, пеленки, местами ярко освещенные солнцем. Проржавелые железные штанги, кузова старых автомобилей, железные тачки и другая утварь стояли по всему двору, рифленые навесы, под ними — велосипеды, ближе к дровяным сараям, и, наконец, фабрика, почти закрытая сараями, с дымом из трубы и сладковатым запахом бензина в воздухе.
Девочка остановилась посреди двора.
— Пойдем, дяденька, — сказала она, — пойдем.
Де Шангнау вошел. Во дворе было не так холодно, как на улице: доходные дома защищали его от ветра.
— А это папа, — сказала девочка и, продолжая уминать пирожное, подскочила к молодому человеку, который стоял в дверях сарая.
Человеку было от силы года двадцать два, он был белокурый, как и девочка, волосы ежиком, лицо круглое и розовое, тело тщедушное, почти детское, кожаная куртка с меховым воротником, вельветовые брюки и грубые башмаки.
— Подойдите ближе, — сказал он банкиру, — нам с вами надо поговорить. Моя фамилия Байн. То есть на самом деле у меня другая фамилия, но для вас пусть я буду Байн.
Банкир с профессиональной любезностью ответил, что ему очень приятно познакомиться, и подошел ближе, по неосторожности, потому что внезапно растянулся на асфальте, сбитый с ног ударом кулака. Молодой человек спокойно посмотрел на него. Девочка не переставая жевала.
— Это злой дяденька?
— Нет, — ответил Байн, — не злой. Встаньте, — обратился он после этого к банкиру. — И пошли за мной.
Де Шангнау с трудом поднялся.
— Пошли в сарай, — скомандовал Байн. И де Шангнау покорно последовал за ним. Пусть пригнется, чтоб не запачкать костюм. Вот здесь полотенце, а вот таз с чистой водой. Это просто кровь из носу, скоро пройдет, слышал он голос Байна и прижимал к лицу мокрое полотенце, которое сразу окрасилось в красный цвет.
Наконец-то остановив кровотечение, де Шангнау заметил, что у господина Байна престранные манеры.
— Такова жизнь. Жизнь, и больше ничего, — посочувствовал Байн. — Я сбил вас с ног, чтоб вы знали, с кем имеете дело, и впоследствии не испытали разочарования. Надеюсь, мне не придется вторично прибегать к подобной мере. Мне это было бы крайне неприятно, поскольку я вежливый человек, вежливый, но принципиальный. А теперь подайте сюда вашу карточку.
Они стояли в маленьком дровяном сарае со множеством бочек, через запыленное окно проникал свет. На ящике стоял таз с розоватой от крови водой, рядом лежало полотенце, тоже в крови. Все явно заранее приготовлено. У двери стоял багор, тяжелый молот и большое зубило.
Девочка тоже пошла за ними, поглядела на де Шангнау и приступила ко второму пирожному.
Байн прочел переданную ему банкиром визитную карточку, достал бумажник из своей куртки и спрятал карточку туда.
— Бертрам, барон де Шангнау, — произнес он, — банкир, улица Песталоцци, 10, Ивердон. С титулом в порядке?
— Нет, — ответил де Шангнау.
— Вот видите, так я и думал. Обанкротились? Я читал в газете. Ваш банк прогорел. А теперь посмотрим, что у вас при себе имеется.
Он подошел к банкиру, спокойненько, не без приятности, обшарил карманы де Шангнау, ощупал всего, словно отыскивая оружие.
— Семь франков шестьдесят, — сказал он, очищая кошелек де Шангнау. Квитанции он, к сожалению, дать не может, оставить билет тоже не может, ему в самом деле очень-очень жаль, но и без золотых часов тоже вполне можно прожить.
Банкир не сопротивлялся, он лишь сокрушенно пожал плечами, с него вполне хватило удара кулаком, на героические поступки его как-то не тянуло, признание в фальшивом титуле окончательно лишило его этой тяги.
— «Голуаз»? — спросил Байн, протягивая ему раскрытый портсигар.
Банкир поблагодарил, здесь пахнет бензином, в бочках, наверно, бензин, словом, курить здесь, на его взгляд, опасно. Как барону будет угодно, отвечал Байн, потом закурил и выпустил дым через нос. Де Шангнау полюбопытствовал, что все это значит. В ответ Байн, желая объяснить свое загадочное поведение, сообщил, что намерен основать дело. Всего бы лучше открыть торговлю сигарами, только не здесь, не в Конигене, который он не любит, а в Цюрихе. Ему нужна культура, хорошая музыка, порядочный театр, а здесь он прозябает, как с моральной, так и с финансовой точки зрения. Де Шангнау одобрил его намерения, если сравнить с тем, чем господин Байн занимается в настоящее время, это, несомненно, будет шагом вперед.
— Ну, нам, пожалуй, обоим одинаково далеко до тюрьмы, — заметил Байн. — Это вы подняли Карапуза на воздух.
Банкир, начавший кое-что понимать, спросил, откуда это Байну известно, и решил все-таки выкурить сигарету. Байн промолчал. Банкир полюбопытствовал, не намерен ли Байн его шантажировать.
— А почему бы и нет? — наконец признался тот, задумчиво поглядел на банкира и дал ему огня.
Девочке, верно, стало скучно в сарае, она сказала, что пойдет купить себе еще одно пирожное, у нее остались дяденькины деньги, затем она отворила дверь и шмыгнула наружу. Мужчины тоже вышли из сарая и стояли теперь на солнце. Мимо них шли рабочие с фабрики.
— Ваше предложение? — спросил де Шангнау и поглядел на женщину, которая у себя на балконе снимала белье с веревки.
— Двадцать тысяч.
Банкир ответил, что таких денег у него нет.
— Сам знаю, — сказал Байн, — вы разорены, и вам нечем заплатить за мое молчание.
Их разговор представлялся банкиру все более нереальным. Зачем, спрашивается, тогда было просить двадцать тысяч.
Чтобы дать барону шанс, отвечал собеседник в прежней загадочной манере, этого требует простая вежливость, даже если у барона почти нет возможности уйти подобру-поздорову. Двадцать тысяч за молчание — вполне справедливо, потому что двадцать ему уже посулили.
— За что? — спросил де Шангнау.
— За то, чтобы вас убить.
Тут женщина на другом балконе принялась выбивать ковер, ее примеру последовали прочие женщины, все сплошь толстые, здоровые бабищи с могучими руками и спинами. До сих пор оба говорили вполголоса, а теперь же им пришлось кричать во всю глотку, чтобы продолжить разговор, да вдобавок им пришлось отскочить в сторону от грузовика, который въехал во двор и с которого рабочие начали сгружать длинные железные штанги.
Сквозь шум Байн объяснил, что мог бы шантажировать и своего нанимателя и что в этом случае он бы тоже затребовал те же двадцать тысяч, поскольку действует по справедливости и ведет себя порядочно даже в сомнительных делах.
Де Шангнау констатировал, что господин Байн пребывает в нерешительности.
На это Байн прокричал, что знает, кто взорвал краеведческий музей и кто сделал бомбу. Такое знание надо использовать. Знание — сила.
Банкир осмелел в присутствии рабочих и женщин, да вдобавок ему наскучила вся эта нелепая ситуация, поэтому он подступил к Байну и схватил его за воротник.
— Господин! — закричал он, изо всех сил стараясь перекричать оглушительный шум, потому что теперь чуть не десять женщин разом ударили по своим коврам да вдобавок фабрика со злобным шипением выпустила облако пара. — Господин, с кого вы намерены получить двадцать тысяч, попытавшись убить меня либо шантажируя кого-то другого, мне глубоко безразлично. Надеюсь, вы и сами поймете, как глупо и гнусно себя вели.
Байн побледнел, спросил, в самом ли деле господин де Шангнау так считает, отодрал руки банкира от своего воротника, выволок его со двора и отпустил на все четыре стороны.
— Такова жизнь, такова жизнь, — пробормотал он сокрушенно. — Я первый раз занимаюсь таким делом. У меня нет ни малейшего опыта. Даже поручение убить вас мне совершенно не по силам, я понятия не имею, как надо убивать. В конце концов, мы находимся в Конигене, а не в Париже или в Чикаго. Я был бы вам признателен за любой совет, поверьте слову. А главное, я боюсь, ужасно боюсь, что дело кончится плохо.
Они шли к Главной улице, Байн утратил розовость щек, теперь это был всего лишь беспомощный робкий паренек. Он спросил банкира, может ли пригласить его к себе домой. Это недалеко отсюда. Де Шангнау отрицательно помотал головой. Он и сам знает, где живет Байн, он видел девочку в дверях дома, но, исходя из поручения, которое получил господин Байн, он, пожалуй, откажется от визита.
— Очень жалко, — сказал Байн.
Банкир ответил, что и сам весьма сожалеет и что теперь он пойдет в полицию, твердо решив признаться в своей беде.
Тут Байн спросил, упомянет ли барон его имя.
— Само собой, упомяну.
Когда они вышли на Главную улицу, там уже стояла девочка, вся продрогшая, она ела очередное пирожное и с любопытством таращилась на обоих.
— К Центральной площади надо идти вниз, — сказал Байн жалким голосом, — все время по Главной улице. А полиция у нас рядом со Швейцарским кредитным банком.
Де Шангнау кивнул, он уже получил необходимую информацию от полицейского.
— Не стану вас удерживать, — сказал Байн. — Вы человек свободный. Но сперва выслушайте пинкертонов. Не действуйте слишком опрометчиво. Не вылезайте сразу с признанием, постарайтесь выведать, насколько они в курсе. Я вам добра желаю, поверьте.
Де Шангнау засмеялся и сказал, что бесстыдство Байна можно сравнить только с его наивностью.
— Для начала я попрошу пинкертонов, чтобы они выслушали вас.
Молодой человек грустно покачал головой.
— Вы неправильно расцениваете ситуацию, — сказал он, — я убежден, что полиция даже и не подозревает, кто взорвал Карапуза. В этих все-таки благоприятных обстоятельствах с вашей стороны было бы не очень порядочно по отношению ко мне махнуть на себя рукой и во всем признаться.
Поскольку удивительные притязания Байна насмешили банкира, он помотал головой, хотя и не без непонятного беспокойства. К тому же он заметил, что на другой стороне улицы все так же стоит архитектор. Как будто за время его странной встречи с Байном ничего не изменилось.
— Я честно себя веду по отношению к вам, — продолжал Байн, теперь уже дрожа от холода и выпуская облачка пара. — Мой шанс — заработать двадцать тысяч, а вы мечтаете уйти подобру-поздорову. Если вы отдадите себя в руки полиции, я пропал, потому что не получу денег, а вы пропали, потому что вам никто не поверит. Если же вы не признаетесь, остается надежда, что я приобрету небольшое состояние, пусть даже после того, как сумею вас убить, но ведь и для вас тоже остается надежда, причем вот какая: вы справитесь со мной и, никем не узнанный, покинете Кониген. Не отдав себя в руки полиции, вы сохраните свободу, зато, не скрою, вступите в зону опасности и борьбы. Но именно этого человеку и не следовало бы избегать. А теперь прощайте, барон, теперь вы должны принять решение. Я говорил с вами как мужчина с мужчиной. Надеюсь снова вас завтра встретить, осуществить свою трудную задачу, а вам желаю всего доброго.
Байн взял за руку свою дочь и зашагал к Старому городу. На ходу он еще раз оглянулся.
— Такова жизнь, жизнь, и больше ничего, — пробормотал он и тоскливо помахал банкиру, который в свою очередь кивнул новичку в такой странной профессии, так что расстались они, можно сказать, без вражды.
Через два шага, если идти к Центральной площади, де Шангнау снова остановился и начал размышлять про свои семейные дела. Без всякой видимой связи, затем, может быть, чтобы не думать больше о своем приключении, о разрушении Карапуза и о Байне. Остановился же он перед витриной мясной лавки Циля.
На Мадлен Ле Локль он женился двенадцать лет назад, в первые годы их супружество было вполне счастливым, с молодым банкиром, который без оглядки швырял деньги, жилось неплохо, но потом их брак умер, как внезапно умирает дерево, думал де Шангнау, и никто не знает почему. В это мгновение, перед мясной лавкой, он захотел представить себе, как выглядит его жена, потому что, вспоминая о ней, видел перед собой только щуплую, озябшую девочку в красной юбке, ту, которая отвела его к Байну и напомнила ему дочку Иветту. Может быть, его жена выглядела в молодости именно так, или, может быть, она сейчас так выглядит, такая замерзшая, бедная. Ему вдруг захотелось поговорить с ней, он собирался уже перейти улицу, потому что на другой стороне стояла телефонная будка, но с досадой остановился: у него совсем не было денег.
И тогда он пошел обратно в отель, довольный, что можно на какое-то время отложить явку в полицию, хотя и не признавался себе в этом до конца. Пошел — и заблудился. Неожиданно он вновь очутился перед Карапузом, побежал обратно — и снова очутился перед ним. А тем временем подоспела пресса, фотографы, журналисты, и толпа стала еще больше, чем час назад. Де Шангнау вышел наконец прямиком к «Вильгельму Теллю».
Мистер Ч. в отпуске
Фрагмент
Мистер Ч., существование которого от веку вызывает у нас легкое неприятие, покинул жутковатые места своих трудов (заодно прихвативши толику серно-желтого пламени) и после бесконечного подъема по великому множеству лестниц добрался до конторы мистера Б., о профессии и имени коего мы опять-таки умолчим. Мистер Ч. приоделся: визит был важный, а тянул он с ним немыслимо долго, — приоделся, насколько это было возможно при хотя и достойной, однако же искони грязной работе в затхлых и, как всем известно, жарких его владеньях. Итак, на худосочной фигуре мистера Ч. болтался обтрепанный сюртук, брюки были аккуратно вычищены, а руки — если не замечать траура под ногтями — отмыты; чистым было и лицо (к ушам мы приглядываться не станем), бесхитростно-скромное и — что для большинства из нас, пожалуй, явится неожиданностью — определенно располагающее к доверию. У самого входа в контору мистера Б. весь кураж, под нажимом которого он только и отважился на этот подъем, куда-то сгинул, а ведь он собирался предстать перед начальством. Крутой узенький трап (более меткого названия для такой лестницы не подобрать), ведший к утлой двери, он, правда, одолел еще вполне решительно, но прошло не одно мгновение, прежде чем он несмело потянул звонок в надежде, что там все равно услышат. Однако звонок повел себя не так, как думал мистер Ч.: могучий, словно гул церковного колокола, звон заставил его вздрогнуть. Ждать пришлось недолго. В двери открылось оконце, мелькнул розовый лик белобородого старца и тут же снова исчез — оконце захлопнулось. Немного погодя, когда дверное оконце открылось вновь, столь же испуганно воззрился на посетителя, облаченного в не вполне отчищенный от угольной пыли сюртук, некто безбородый — судя по унылой мине, это был, скорее всего, чиновник из ведомства мистера Б., — существо, которое, преисполнясь дурных предчувствий, встретило нарушение вековечного однообразия горних порядков смиренным вздохом. Но впустили мистера Ч. быстрее, нежели, надо полагать, рассчитывали двое за дверью. Принципал велел просить. Чиновник — его имени мы тоже не назовем, — еще моложавый старший конторщик А., повел мистера Ч. по коридору, в дальнем конце которого находился кабинет мистера Б., и сооружение это было так утло, что ветхие половицы под гостем сплошь и рядом проваливались — то под левой его ногой, то под правой отверзалась неизмеримая бездна. Но и этот последний путь он благополучно осилил. Мистер Б., наружностью похожий на деревенского пастора, принял его доброжелательно.
— Надеюсь, у вас внизу все в порядке, — молвил он, глядя на мистера Ч. не без тревоги и сомнения.
— Конечно, в порядке, — ответил тот.
Мистер Б. облегченно вздохнул.
— Слава Богу, — сказал он. — Садитесь, прошу вас.
Посетитель последовал приглашению с осторожностью — очень уж хлипким выглядел предложенный стул. Кабинет, где-то там, в горних высях, был большой и просторный, но такой же утлый, как давешний коридор, на вид вроде сарая, с голыми дощатыми стенами; сквозь щели и дырки от сучков внутрь проникал холод космического пространства, и гость, привыкший к иным пространствам и иным температурам, изрядно мерз. Он был слегка сконфужен. Принципал, сидя за письменным столом, взирал на него благосклонно, и бесчисленные голуби в открытых окнах ворковали приветливо, но его смущали валявшиеся повсюду телефонные книги, длинный, старый, весь в ржавчине телескоп, нацеленный куда-то далеко во Вселенную, в точку, которую надо было держать под контролем (огромное голубое светило грозило вот-вот взорваться), а особенно его обескураживала мина старшего конторщика А.: мистер Ч. опасался теологии, хотя нападки ее и внушали ему известную гордость. Но вот мистер Б. отпустил старшего конторщика А., и Ч. остался с принципалом наедине.
— Чего же ты хочешь? — спросил мистер Б., переходя на доверительное «ты» (они близко познакомились и сдружились одною исторической ночью — сей факт Б. скрывал от своих сотрудников не потому, что стыдился его, а потому, что, зная их примитивные и зачастую слишком уж педантичные нравы, не желал сеять замешательство). — Чего же ты хочешь, дорогой мой Ч.? Знаю, у тебя внизу не мешало бы кое-что улучшить, ввести определенные гигиенические послабления, не для узников, разумеется, для них все должно остаться как есть, из принципиальных соображений, а для персонала, для надзирателей, но реформа невозможна, нет средств, фирма ничегошеньки не дает, да и не может дать, вот и приходится ограничивать себя. Сам видишь, мы тут наверху тоже ничего себе не позволяем, все у нас по-старому, все как было, на живую нитку.
Мистер Ч. невольно чихнул. Он-то ведь на предприятии с самого начала, нерешительно проговорил он, вот уж шесть тысяч лет, а то и семь — он и сам в точности не помнит, — и возложенную на него тяжкую работу всегда выполнял честно и добросовестно. Принципал поспешил заверить, что жалоб у него нет.
— Я трудился, не щадя своих сил, — продолжал посетитель и, осмелев, добавил: — Порой у меня такое чувство, будто из всей фирмы один я работаю по-настоящему.
В кабинете потемнело, голуби умолкли, проплывающее мимо дождевое облако закрыло солнце, холод пространства (межпланетного) стал прямо-таки лютым. Поеживаясь, оба сидели в молочной белизне облаков.
— Ты и здесь прав, — молвил принципал, — работаешь ты с превеликим усердием, а мы у себя наверху сильнее в планировании, нежели в исполнении. И неудивительно — (мистер Б. на миг словно бы позавидовал подчиненному), — ты работаешь руками, а мы — головой.
Гость повеселел: голуби опять заворковали, облако редело (пошел даже мелкий снежок — на такой-то головокружительной высоте). Трудился без отдыха с самого, дескать, начала, сказал он, и добился значительных успехов, это бесспорно, если учесть, в каком состоянии пребывает нынче мир, а будущее по всем приметам сулит дальнейшие, еще более грандиозные успехи. Ему бы впору гордиться, продолжал мистер Ч., только от подобных успехов любой, у кого есть сердце, тревогой изойдет. Мир того и гляди покатится к черту. Мистера Б. удивило, что как раз он, мистер Ч., терзается такими мыслями. Переутомился, наверное.
— Вот именно! — воскликнул посетитель, радуясь, что разговор сам собою дал ему возможность высказать просьбу. — Мне нужен отпуск.
Мистер Б. удивился, прямо обомлел. С такими просьбами он никогда еще не сталкивался.
— Отпуск? — переспросил он на всякий случай, ведь мог и ослышаться.
— Отпуск, — подтвердил посетитель, — впервые за шесть тысяч лет.
— Надолго? — осведомился принципал.
— На три недели, — ответил посетитель и добавил, что, на его взгляд, просьба весьма скромна.
— Что же ты намерен делать эти три недели?
— Добрые дела, — ответил мистер Ч.
Принципал не поверил своим ушам.
— Ты? Добрые дела? — прошептал он.
— Почему бы и нет? — отозвался гость, он всегда мечтал творить добро, вот и решил посвятить этому целых три недели.
— А куда ты собираешься? — полюбопытствовал мистер Б.
Гость ответил не сразу. Он покраснел и смущенно потупился.
— В обитель святой Цецилии, — вымолвил он наконец, — в обитель святой Цецилии в К.
Деревенский пастор скатал план мирозданья, который задумчиво развернул на столе.
— Господи, — вскричал он, — в обитель святой Цецилии?! Единственное место там внизу, где блюдут мои заповеди? Но почему?
Вот и настал тот миг, которого мистер Ч. более всего страшился (не до жиру, быть бы живу!), из-за которого он мялся здесь, в горних высях, у дверей в контору. Делать нечего, надо признаваться. Если мистер Б. благоволит взглянуть, что висит над камином в салоне обители святой Цецилии, неподалеку от письменного стола сестры Евгении Кошмарный Апокалипсис, он все поймет, робко сказал мистер Ч. Принципал поднялся.
— Ну что ж, идем, — молвил он, — любопытно все-таки, что общего у тебя с сестрой Евгенией Кошмарный Апокалипсис.
И он провел гостя в дальний угол кабинета. Убрав всякие-разные фолианты, небесные купола и прочий хлам, они отыскали среди утлых, затянутых паутиной балок старый, плохонький телевизор.
— Надеюсь, работает еще. — Мистер Б. взялся крутить ручки: Землю он, дескать, мигом найдет, чай не первый раз, а уж обитель святой Цецилии тем паче, любит он к ним заглянуть. Оба уселись перед аппаратом, оплетенным паучьими сетями; тенета свисали с балок, и в них копошились перепуганные крестовики. На пыльном экране возник студенистый шар, сильно сплюснутый, желтоватый, вокруг него вертелись шарики помельче.
— Она, — объявил принципал, гордый своей сноровкой, но гость осторожно заметил, что вряд ли, у Земли ведь всего одна луна.
— Верно, — молвил мистер Б., справившись по какой-то научной книге, — пожалуй, это был Юпитер.
Он опять принялся крутить настройку. Вдалеке ворковали голуби, и солнце, ослабленное размерами комнаты, чертило зигзаги на ветхом дереве стен. Наконец принципал отыскал то, что нужно: на экране, по которому в эту самую минуту полз паук, появился голубоватый шар с белыми полярными шапками и буровато-зелеными континентами.
— Нашли, — сказал мистер Б., — ну а теперь город К., по-моему, надо повернуть ручку вправо.
Перед ними было море, береговые кручи, леса, холмы, серебрилась река, пастух приветственно махал шапкой. Потом на экран выдвинулся К., черный от копоти и одновременно золотой. Блоки стали и стекла рвались в небо, из фабричных труб выползали темные клубы дыма. Куда ни глянь, всюду бесконечные ряды многоэтажных домов, всюду, вперемешку с церквами и дворцами, площади и скверы, рассеченные рельсами и мостами. Оба молча глядели вниз. Ближе к центру город уплотнялся, превращаясь в лабиринт старых домов. Вот показались узенькие, тесные переулки. Грязные, обшарпанные дома с островерхими кровлями, над мостовой сохнет белье на веревках, натянутых из окна в окно. Принципал добавил увеличения. На экране возникла людская толчея, нищие, сутенеры, проститутки, вооруженные до зубов полицейские, вор-карманник Куку Сирень — вытаскивает портмоне из брючного кармана какого-то приезжего.
— Скверное место, — заметил мистер Б., — ты поработал на совесть. — И он с легкой завистью покосился на гостя.
Переулками промчался автомобиль и резко свернул за угол.
— Чересчур уж быстро, — проворчал принципал.
Седоки палили из автоматов.
— Это надо бы запретить, — тихонько буркнул деревенский пастор.
Народ бросился врассыпную. Полиция попряталась. Кто-то опрокинул рыночный ларек. На полной скорости подлетел второй автомобиль.
— Бебэ Роза, — пояснил мистер Ч.
Принципал наморщил лоб, тем более что в поле зрения возник теперь и король гангстеров Пепе Лилия: жующий резинку, небритый, он стоял на пороге борделя; принципал едва не выключил телевизор, мистеру Ч. тоже стало не по себе. Пепе метнул нож, который упруго вонзился в левое заднее колесо Бебэ. Машина пошла юзом, откуда-то высыпали полицейские, а Бебэ Роза скакнул в окно (в объятия прекрасной гангстерской подружки Мей Мак-Мей) — и был таков. Наверху в своем кабинете мистер Б. раздумывал, не устроить ли новый потоп. Но вот он улыбнулся, и хмурое лицо разгладилось. Они увидели обитель святой Цецилии. Монастырь был расположен возле большой площади, на которой играли дети. Он утопал в диких розах, изящный дворец в стиле рококо, сильно тронутый временем, обнесенный фигурной кованой оградой. Там бесшумно сновали сестры в старомодных одеяниях, напевая псалмы, творя добро: сестра Мария Нааманова Проказа, сестра Бланш Седьмой Апостол, Генриетта Отрезанная Грудь Святой Агаты, Клер Неронова Факельная Аллея Сжигаемых Христиан и многие другие. Сидючи на гнутых стульчиках, они вязали свитера, наподобие тех — как с болью в сердце установил мистер Б. (покрутив ручку настройки в обратном направлении), — что носил король гангстеров. Из старинного зала слышалась органная музыка, а самая младшая из сестер, Розочка Десять Тысяч Мучений, наделяла голодных детей бутербродами. Лицо мистера Б. все больше светлело, голуби, долго молчавшие в испуге, разворковались как никогда, солнечные блики на стене сияли ярким золотом. Но продолжалось так лишь мгновение, и тем досаднее был поворот: на запыленном экране настоятельница, сестра Евгения Кошмарный Апокалипсис, читала в салоне Библию, а рядом, над камином, обрамленный розами, висел некий портрет, видимо высокопочитаемый. Мистер Ч. смущенно опустил голову. Принципал, изумленно взирая на экран, увеличил резкость.
— Возможно ли, — произнес он, и глас его был столь могуч, что за окнами собрались грозовые тучи, — возможно ли? Твой портрет над камином в обители святой Цецилии? Прошу тебя, объясни мне, что это значит.
Мистер Ч. долго молчал.
— Моя тяга к добру, — ответил он наконец, терзаясь угрызениями совести.
— Объяснись, — повелел принципал, и снаружи зарокотал гром.
— Может быть, соблаговолишь сам заглянуть в мое прошлое, — промямлил гость.
— Изволь, — рыкнул мистер Б.
Он нажал какой-то рычажок на телевизоре. После ряда неудачных попыток оба узрели мистера Ч. (средь языков серножелтого пламени) в мрачных местах его трудов. Он исправлял свои служебные обязанности. Освидетельствовал некоего дипломата. Потный, во все еще элегантном фраке, покойник стоял перед ним. Мистер Ч. работал тщательно. Ничто не укрывалось от него, ни один грешок, ни одна неправедная мзда. Грехи он заносил в реестр, банкноты складывал на свой полуобугленный стол. При этом, как заметил принципал, несколько купюр отправились в ларец с надписью «Обитель святой Цецилии».
— Ты помогаешь моим овечкам, — дрогнувшим голосом сказал деревенский пастырь, — помогаешь деньгами, изъятыми при служебных освидетельствованиях?
Совершенно верно, кротко согласился мистер Ч., а иначе, мол, как бы сестрички сводили концы с концами? Ведь нет на свете ничего более разорительного, нежели благие дела. Деньги идут в обитель по почте, и для сестричек он богатый помещик Судерблум (на экране мистер Ч. заполнял формуляр), а когда настоятельница однажды попросила у него фотографию, он выслал снимок следующим же письмом. Кто уж там внизу знает, каков он с виду. Принципала эта история не оставила равнодушным. Он со вздохом выключил телевизор. Оба вернулись к письменному столу (запорошенные пылью, с паутиной в волосах).
— Так как же теперь насчет отпуска? — поинтересовался мистер Ч.
Ему весьма неловко, ответил принципал, это в корне противоречит плану мирозданья (он снова развернул его), однако же он намерен спросить старшего конторщика А., тот лучше разбирается в подобных вещах. Появился старший конторщик А. Раз уж его спрашивают, сказал он, то он вынужден признать, что никогда не понимал смысла деятельности мистера Ч., ведь в плане мирозданья записано, что его предприятие со временем отомрет, а значит, по сути, в нем уже сейчас нет надобности. Принципал вынул из кармана кусок черствого хлеба. Подошел к окну (тучи развеялись) и покормил голубей, потом бросил взгляд в телескоп на далекую точку в пространстве (на солнце, которое как раз в эту минуту взорвалось).
— Мистер Ч. творит добро, а А. считает, что надобности в мистере Ч. нету, — молвил он наконец, сурово глядя на обоих. — Кажется, назревает мятеж.
Мистер Ч. и старший конторщик А. сконфуженно поклонились, гость при этом чихнул: он простудился.
— Ладно, — продолжил принципал, — попробуем. Три недели. Вы помогали моим овечкам, мистер Ч., и заслужили награду.
В плане мирозданья ничего от этого не изменится, попытался унять последние сомнения старший конторщик А. Пусть мистер Ч. и не будет склонять ко злу, целых три недели, да только люди все равно не перестанут его творить, хотя бы в силу привычки.
— Возможно, — ответил принципал, размышляя уже об иных, более важных задачах и отпуская своих подчиненных. — Возможно. Боюсь только, что искушение добром окажется слишком могучим. Прощайте, мистер Ч. Судерблум.
После этих слов старший конторщик, провожая гостя из кабинета, украдкой покачал головой. Облегченно вздохнув и радуясь успеху своего начинания, мистер Ч. возвратился в свое обиталище и по дороге не отказал себе в озорном удовольствии съехать вниз по перилам — там, где они сохранились. Внизу он черкнул настоятельнице несколько строк, предупреждая ее, что он, помещик Судерблум, прибудет послезавтра и погостит у них три недели; письмо он передал одному из своих служащих, который как раз собирался наверх — это был нижний чин отдела чувственности, — с поручением бросить его в ближайший почтовый ящик. Письмо мистера Ч. (помещика Судерблума) сестре Евгении Кошмарный Апокалипсис оказалось последним из тех, что почтальону Эмилио предстояло наутро доставить по адресам. Эмилио было сорок пять лет, и двадцать пять из них он прослужил в почтовом ведомстве. Ежемесячные денежные переводы, которые он относил в обитель святой Цецилии (всегда по тринадцатым числам), не прошли для него бесследно. Левое ухо Эмилио было порвано, правая ладонь продырявлена; он хромал и лишь недавно оправился от огнестрельного ранения в грудь. На сей раз он тоже двинулся в путь с большой неохотой. На велосипеде, хотя тот наверняка будет помехой. Но страх щекотал нервы, вводил в соблазн, ведь Старый город пользовался дурной славой. И вот он свернул налево с проспекта Маршала Фёгели, миновал Пантеон и возле «Френера и Потта» по Котельному переулку въехал в опасный район. Опасения его были, как выяснилось, справедливы. Он вдруг заметил, что переулок словно вымер, тогда как обычно там царили шум и гам. Кругом ни души — крыс и тех не видно. Перед порталом синагоги высилась баррикада, здание школы сгорело дотла — пожарище еще дымилось, — окна домов были заколочены досками, магазины стояли на замке. Письмоносец повернул бы обратно, да вот беда: поскольку Котельный переулок возле «Френера и Потта» круто идет под гору и ехать по булыжной мостовой опасно, он обратил внимание на все эти перемены, уже забравшись далеко в глубь Старого города. Сейчас он проезжал мимо частного банка «Вильгельм и Эрнст». Банк ограблен подчистую. Эмилио озирался по сторонам, высматривая полицию. Увы. Когда ему продырявили ладонь, вспомнил он, все было точно так же. Делать нечего, надо ехать дальше. Он принялся насвистывать «Честность и верность навек сохрани, до самого смертного часа». Сквозь щели забаррикадированных дверей и заколоченных окон за ним испуганно наблюдали, он это чувствовал. Вот уже и Мясницкий переулок, что берет начало возле памятника неизвестному полицейскому и заканчивается у площади Святой Цецилии. Эмилио изо всех сил нажимал на педали, но Мясницкий был вымощен еще хуже, чем Котельный. Вперед он продвигался медленно, велосипед трясся и подпрыгивал. А ведь именно теперь скорость была бы как нельзя более кстати, ибо в низких дверях Мясницкого — баррикад здесь никто не возводил — стояли гангстеры. Эмилио хорошо их знал. Эти имена в К. осмеливались произносить только шепотом: Додо Тюльпан, угрюмый душитель вдов; Фруфру Мак, печально известный вор-верхолаз; Дада Лаванда, осквернитель церквей; Зисси Ревень, вымогатель; Куку Сирень, карманник; Шиши Фиалка, насильник, и другие, не менее солидные персоны. Письмоносец, обливаясь потом, ехал сквозь их строй, с перепугу насвистывая. От прессы присутствовал один Дж. П. Белчерн, репортер «Эпохи». Гангстеры стояли, прислонясь к дверным косякам и устремив взгляд в небо высоко над ущельем переулка (в сияющее летнее небо). «Ни на пядь не отступи от стези господней», — высвистывал Эмилио. Гангстеры свистели за компанию. Зловеще поднималась к небу благочестивая мелодия. Гангстеры не шевелились. Эмилио подъехал к площади Святой Цецилии, залитой солнцем, кишащей голубями и играющими детьми, а за площадью была обитель, где ему для полного счастья придется выпить ромашкового отвару, которым привратница, сестра Мария Нааманова Проказа, усиленно потчевала его всякий раз, как он приносил письмо. Опасность как будто бы миновала. Оставалось только проехать пивную «Благое желанье», двухэтажную развалюху с геранями за пыльными стеклами и до блеска начищенной небесно-голубой вывеской с золотой надписью. Письмоносец хотел было предпринять финишный рывок. Но тут с порога пивной, подмигнув левым глазом, ему улыбнулась Мей Мак-Мей (мистер Б. у себя в горних высях взирал на это с неудовольствием). Эмилио затормозил и слез с велосипеда. Правда, Мей подмигивала и в тот раз, когда он получил легочное ранение, которое только что залечил. Но, как ни боялся почтальон гангстеров (и нового легочного ранения), перед женщинами он был герой. Прислонив велосипед к бровке тротуара, он посмотрел на Мей. Она была прекрасна. И выше ростом, чем коренастый Эмилио. Складная, пухленькая блондинка, не то что его супружница дома в Апостольском переулке, с пятью детьми да бесконечными пеленками.
— Выпьешь со мной перно? — спросила Мей Мак-Мей и опять подмигнула.
Гангстеры по-прежнему насвистывали, привалясь к косякам. Вроде бы и не интересовались почтальоном.
— С радостью, — промямлил Эмилио.
В конце концов, он вез в обитель всего лишь письмо, а не деньги. Нынче не тринадцатое, и гангстеры наверняка это знают. Как во сне, он бок о бок с Мей переступил порог пивной «Благое желанье». Солнце заглядывало внутрь сквозь пыльные окна. А в Апостольском квартира выходила на север. Где-то вдали насвистывали гангстеры: «Честность и верность навек сохрани». Пивнушка была пуста (тогда, при легочном ранении, тоже). За стойкой маячил слепой Челио. Плутон, старая овчарка, даже головы не поднял. На столе у окна стояли две рюмки перно, зеленовато-белые в солнечных лучах. Эмилио был слишком переполнен счастьем и дерзостью, чтобы в нем зародилось хоть какое-то подозрение. Благоухали духи Мей — «Роб де нюи». Прошлый раз были другие, «Нюи д’амур». Мей села. Эмилио тоже. Они с улыбкой чокнулись. Эмилио отпил глоток и тотчас крепко заснул. «По крайней мере что-то новенькое», — только и успел он подумать.
Схема продолжения
Через заднюю дверь в пивную «Благое желанье» входит король гангстеров Пепе Лилия вместе со своими людьми. Мей исчезает, равно как и слепой Челио со старой овчаркой Плутоном. Почтовый эксперт вытаскивает из сумки усыпленного Эмилио письмо и аккуратно распечатывает его. Текст прочитывает вслух. Появляется Бебэ Роза, соперник Пепе Лилии. Тоже читает письмо. Гомерические речи короля гангстеров и Бебэ Розы — каждый норовит изобразить себя хуже, подлее, порочнее другого. Единоборство, завершающееся вничью. Оба одинаково хорошо владеют автоматами, и пули их сталкиваются в воздухе. Гангстеры заключают перемирие. Пепе Лилия и Бебэ Роза торжественно клянутся, что верят друг другу в том, будто они происходят от шлюх и преступников (на самом деле Пепе — сын учителя, а Бебэ — сын священника). Они решают совершить налет на обитель святой Цецилии. Помещика Судерблума нужно захватить, когда он прибудет в монастырь. Засим они кладут письмо, снова аккуратно запечатанное, в почтовую сумку Эмилио.
Эмилио просыпается. Пивнушка пуста, Мей исчезла, но письмо в обитель святой Цецилии пока на месте. За стойкой слепой Челио, на полу старая овчарка. Снаружи, в Мясницком переулке, гангстеры по-прежнему стоят, привалившись к косякам, и насвистывают «Честность и верность навек сохрани». Почтальон на велосипеде пробирается к обители, осторожно лавируя в сутолоке играющей детворы и порхающих голубей. Вручив письмо привратнице, он угощается ромашковым отваром.
В обители царит ликованье. Настоятельница сообщает, что приезжает помещик Судерблум, на три недели. Готовят комнату для гостей. Сестра Розочка Десять Тысяч Мучений видит Бебэ Розу, тот клянчит у нее кусок хлеба: переодетый нищим, он пришел в обитель на разведку. Он получает ломоть хлеба с маслом и съедает его с наслаждением, не отрывая глаз от зардевшейся Розочки. На кухне сестры начинают стряпать пироги и торты для большого приема.
Мистер Ч. под видом помещика Судерблума поднимается на землю. Первым делом он наносит визит нескольким банкирам, которых уличает в обмане. Дрожащие банкиры один за другим падают в свои кресла и заполняют чеки мистера Ч. Завладев огромнейшим состоянием, мистер Ч. отправляется за подарками для обители — к Диору, к Фату, в парфюмерные магазины, в ювелирные, в универсальные. Он покупает самые модные бюстгальтеры, умопомрачительные вечерние туалеты, самые дорогие украшения, самые лучшие вина, самые выдержанные коньяки и т. д.
Въезд мистера Ч. с караваном прислужников, несущих подарки, в обитель святой Цецилии. В подъездах и за оградами повсюду караулят гангстеры, вооруженные автоматами и ножами.
Мистера Ч. тепло принимают в обители. Набожное пение сестричек, речь растроганного мистера Ч. на тему «Творите одно лишь добро». Затем он велит распаковать подарки. Сестрички в смятенье разбегаются, увидев бюстгальтеры, вечерние платья, украшения, но мало-помалу одна за другой возвращаются. Застенчиво примеряют у себя в кельях наряды, пробуют духи. Стойко держится одна настоятельница.
В горних высях мистер Б. наблюдает на телеэкране метаморфозы в обители. Старший конторщик А. впал в задумчивость. Драгоценности и вечерние туалеты, по его разумению, суть зло. У него в голове не укладывается, как же сестрички все это надевают, тем более что мистер-то Ч. взял отпуск и зла уже не существует. Они и духами пользуются! Старший конторщик ломает руки. Мистер же Б. усмехается. Сестрички в красивых платьях нравятся ему, пожалуй, больше, чем когда-либо.
В обители святой Цецилии праздник. Сестрички рискнули появиться в вечерних платьях и драгоценностях. Одна лишь настоятельница держится стойко. В окно заглядывают ребятишки и жители квартала. Настоятельница под звуки фисгармонии танцует вальс с мистером Ч., хотя и поневоле, и с нечистой совестью. Она была бы рада выпроводить мистера Ч., но ей нужны его деньги, поэтому она решает примириться с его присутствием.
Наутро гангстеры готовят налет. Гангстерский король степенно шагает через площадь. Как только он окажется на той стороне, пора начинать атаку — таков его секретный приказ. Пепе Лилия доходит до середины площади. И тут ему под ноги катится детский мячик. Он поднимает его, бросает какой-то девочке. Малышка улыбается гангстерскому королю. Пепе Лилии становится как-то не по себе. Он опускается на скамейку посреди площади, беспомощно улыбается в ответ. Девочка усаживается к нему на колени. Пепе Лилия растроганно шмыгает носом. Облепленный детьми и голубями, король гангстеров блаженно рассказывает ребятам сказки. Искушение добром оказалось выше его сил. Гангстеры всё ждут, не зная, что им делать. Бьет полдень, час, два. Мистер Ч. выходит из обители на прогулку. Видит детей, видит короля гангстеров, рассказывающего сказки. Мистер Ч. показывает фокусы. Дети и Пепе Лилия аплодируют. Затем все вместе: мистер Ч., Пепе Лилия и дети — водят хоровод. Гангстеры хоть и с автоматами, но в отчаянии.
Бебэ Роза решает действовать в одиночку и через окно прокрадывается в обитель. Пепе Лилия с мистером Ч., став друзьями, пришли в комнату мистера Ч., чтобы выпить на брудершафт. Мистер Ч. пьет шампанское, Пепе Лилия — молоко. Они чокаются. Бебэ Роза с автоматом в руке крадется по дому. В коридоре он сталкивается с Розочкой Десять Тысяч Мучений, которая несет в комнату мистера Ч. торт (мистер Ч. предпочитает в первую очередь торты, украшенные надписью «Да здравствует добро!»). Розочка испуганно стискивает торт, оба медленно опускаются на колени. Бебэ Роза смотрит на Розочку Десять Тысяч Мучений, а Розочка Десять Тысяч Мучений — на Бебэ Розу. Целуются.
В мире воцаряется добро. Случай с карманником Куку Сирень. Он крадет бумажник, набитый пятидесятитысячными банкнотами, крадет чисто машинально. И, едва осознав это, хочет вернуть их потерпевшему. Но тот отказывается принять деньги: мол, раз уж Куку Сирень не может не красть, значит, и деньги ему пригодятся. Боксеры, не желающие более драться, и т. д., и т. д.
Настоятельница обнаруживает в кладовке спящих Розочку и Бебэ. На стене висит автомат с розой в дуле. Настоятельница в отчаянии, спешит наверх к мистеру Б. Но звонок у двери в контору она дергает слишком резко, поэтому не слышно ни звука. Звонок откликается лишь на мягкое обращение.
Мистер Ч. творит добро. Город К. превращается в райские кущи. Гангстеры и полицейские братаются и т. д. Пепе Лилия — солдат Армии спасения. Мир замер в неподвижности, ибо существует одно только добро. Нельзя ни заколоть тельца, ни срезать колос. Экономика разваливается, ведь полное исчезновение коррупции и биржевых мошенничеств парализует ее.
Мистер Б. у телевизора решает вмешаться. У дверей в контору он обнаруживает отчаявшуюся настоятельницу и вместе с нею спускается на землю. Разговор мистера Б. с мистером Ч., который осознает, что надо вернуться к своей работе. Но, как просит мистер Б., впредь ему, пожалуй, не стоит выполнять ее столь скрупулезно, как раньше.
Мистер Ч. прощается с обителью святой Цецилии. Сестры, дети машут ему вслед и поют, утешившаяся настоятельница тоже.
Мир, однако, претерпевает обратную метаморфозу. Прямо на митинге Армии спасения Пепе Лилия снова становится гангстерским королем, спешит вернуться к своим парням, чтобы напасть в Мясницком переулке на покинувшего обитель мистера Ч., и с автоматом выходит ему навстречу, после чего прямо на глазах у перепуганных гангстеров мистер Ч. с Пепе Лилией проваливаются сквозь землю. На дороге остается лишь круглое отверстие, из которого поднимаются ввысь черные, как сажа, облачка.
А вот с Розочкой Десять Тысяч Мучений и с Бебэ Розой обратной метаморфозы не происходит, они уходят прочь.
Абу Ханифа и Анан бен Давид
Не всегда богословы отделываются дешево. И в их учениях тоже есть взрывчатое вещество. Тут тоже иудаизм и ислам обнаруживают некую общность, которая, по-видимому, заключена в самом существе богословия. Будучи религиями, основанными на книге откровений, ни тот ни другой своими откровениями не довольствуются. Иудеи дополняют Библию Талмудом, диалектически комментируя Пятикнижие, а мусульмане добавляют к Корану устное предание о деяниях и словах Пророка, сунну[15] и хадис[16]. Когда примерно в 760 году аббасид[17] аль-Мансур[18], числившийся официальным преемником Пророка, велит взять под стражу книжника Абу Ханифу[19], вступив с этим большим знатоком Корана в неприятный теологический спор, он в гневе на богослова, перед тем как с неохотой, но с сознанием исполненного долга удалиться от текущих государственных дел в гарем, приказывает бросить в темницу также и некоего рабби по имени Анан бен Давид. Никто не осмеливается спросить аль-Мансура, за что, он, может быть, и сам этого не знает. Вероятно, он поступает так просто из смутного чувства какой-то злой справедливости, присущей калифу как владыке над правоверными и неверными. Но возможно также, что он вспомнил о каком-то небрежно им прочитанном прошении, не помня толком, откуда оно пришло, из одной ли канцелярии его управления по еврейским делам или сразу из нескольких, ему даже кажется вдруг, что ему просто приснилось это неразборчиво написанное письмо, требующее арестовать Анана по той причине, что приверженцы этого рабби из богатой сектами глубины Персии противозаконно провозгласили его правителем вавилонской общины. Аль-Мансур велит бросить Анана бен Давида в грязное подземелье, где уже пребывает Абу Ханафа. Детина-стражник, приводящий Анана бен Давида, открывает маленькую железную дверь, загороженную двумя дубовыми поперечинами и едва достающую ему до бедра, валит раввина наземь и вталкивает его в камеру мощным пинком. Рабби долго лежит без сознания на каменном полу. Придя в себя, он разглядывает подземелье, где оказался. Оно квадратное, тесное и высокое. Единственный источник света — зарешеченное окошечко, где-то недостижимо высоко над ним в грубой стене. В углу кто-то сидит скорчившись. Анан бен Давид подползает к нему, узнает Абу Ханафу, отползает назад в угол, диагонально противоположный углу мусульманина. Оба богослова молчат, каждый думает, что другой виновен, пусть не перед аль-Мансуром, который гнусно обошелся с ними обоими, но с точки зрения вечной истины. Древний старик-надзиратель, выдающий себя, чтобы его оставили в покое, за сабеянина, а в действительности поклоняющийся ржавому одноглазому истукану и презирающий мусульман, иудеев и христиан как болванов-безбожников, ежедневно приносит им миску с едой и кувшин с вином. По приказу аль-Мансура, чья жестокость никогда не бывает грубой, а всегда изощренна, еда приготовлена превосходно. Оскорбительно для обоих то, что еврей и мусульманин должны есть из одной миски; вино оскорбляет только Абу Ханифу. Неделю богословы ничего не едят. С безмерной стойкостью каждый старается превзойти другого в благочестии и посрамить противника своей покорностью воле Божьей. Только к вину прикладываются они вместе, время от времени лишь пригубляя его, — мусульманин, чтобы не умереть от жажды, что тоже было бы ведь грехом перед Аллахом, Анан бен Давид, которому вино дозволено, — чтобы не оказаться бесчеловечным перед Абу Ханифой, чью жажду он удвоил бы, если бы пил залпом. К миске подбираются крысы, крысы здесь везде. Сначала они вылезают с опаской, но с каждым днем делаются все наглее. Спустя неделю Абу Ханифа находит смирение еврея возмутительным: оно не может быть таким же искренним, как у него, мусульманина, еврей поступает так, конечно, из богохульного упрямства или из дьявольской хитрости, чтобы унизить своим напускным смирением слугу Пророка, глубокого знатока Корана, сунны, хадиса. Абу Ханифа стремительно поглощает содержимое миски, прежде чем на нее, как то до сих пор бывало, успевают, при всем своем проворстве, наброситься крысы. Богослов оставляет лишь жалкие крохи, каковые и слизывает Анан бен Давид — скромно опустив глаза, хотя и не совсем без поспешности, очень уж голод несносен, но он помнит, что Талмуд отвергает мученичество, и разочарованные крысы осаждают теперь его, даже пытаются укусить. Абу Ханифу мгновенно озаряет мысль, что смирение еврея искренне. Посрамленный этим, раздавленный, сокрушенный перед Аллахом, Абу Ханифа на следующий день ничего не ест, а Анан бен Давид, который тоже не хочет унижать Абу Ханифу, потому что тот ел накануне, убежден теперь в его благочестии и к тому же унижен смирением мусульманина перед ним и перед Иеговой, ест, поглощает, торопливо пожирает содержимое миски, все эти превосходно приготовленные яства, еще поспешнее, чем Абу Ханифа накануне, потому что крысы стали еще жаднее, еще наглее, еще неистовее, но и он не съедает все дочиста, как мусульманин днем раньше, и теперь Абу Ханифа, счастливый, что наконец может таким же образом унизиться перед рабби, слизывает остатки, и на него тоже набрасываются крысы, влезают на него, облепляют его, так что уже нельзя различить, где Абу Ханифа и где крысы, а затем эти твари разочарованно и обиженно удаляются восвояси. С этого часа оба, мусульманин и иудей, сидят друг против друга довольные одинаковым благочестием, одинаково униженные, в одинаковом смирении, одинаково измученные благочестивым поединком. Они убедили друг друга не верой, которая у них остается разной, непримиримой, а одинаковой благочестивостью, одинаковой силой веры в их разные веры. Так начинается богословский разговор, которому благоприятствует яркий лунный свет, косо падающий из зарешеченного оконца.
Говорят они друг с другом сначала нерешительно, осторожно, с долгими паузами глубокой задумчивости, то Абу Ханифа спрашивает, а Анан бен Давид отвечает, то спрашивает раввин, а отвечает мусульманин. Брезжит утро, где-то уже пытают. Крики и стоны не позволяют им продолжить разговор, рабби Анан и Абу Ханифа молятся, каждый на своем языке, так громко и так истово, что палачи в испуге отрываются от своих жертв. Наступает день, солнце вспыхивает в камере, вонзается в нее лучом, который, правда, не достает до пола темницы, а лишь на мгновение озаряет седины Абу Ханифы. День следует за днем, ночь за ночью, они едят вместе лишь самое необходимое, только малую часть пищи, которая становится все хуже, потому что приказ калифа постепенно забывается. Вместо вина в кувшине давно вода. Остаток не поддающегося определению месива, которое швыряет им теперь молчаливый надзиратель, они отдают крысам, и те становятся их друзьями, приветливо повизгивают, трутся о них носами. Оба гладят их, уйдя в свои мысли, так поглощены они важным разговором. Мусульманин и иудей хвалят одного и того же величественного Бога и находят донельзя дивным то, что он открылся сразу в двух книгах, в Библии и в Коране, в Библии более темным, непредсказуемым в своей милости и своем гневе, в своей непостижимой несправедливости, всегда оказывающейся справедливостью, в Коране более поэтичным, более патетичным, да и несколько более практичным в своих заповедях. Но, славя Бога, оба богослова начинают сожалеть о человеческом безрассудстве, посмевшем дополнять божественные подлинники: Анан бен Давид проклинает Талмуд, Абу Ханифа — сунну и хадис. Проходят годы. Калиф давно забыл обоих богословов. Донесение своей секретной службы, что растет вера в истинность одного лишь Корана, он выслушивает невнимательно, может быть, когда-нибудь и удастся использовать эту новую веру в политических целях, так или этак, а когда министр еврейских дел, еврей, хочет доложить, что в среде евреев растет сомнение в законности Талмуда, он прерывает доклад министра, на аль-Мансура нападает зевота. С возрастом гарем доставляет ему еще больше хлопот, чем его огромное царство, евнухи уже начинают острить, кроме того, нельзя больше доверять великому визирю; а поскольку великий визирь чувствует, что калиф больше не доверяет ему, он тоже забывает об обоих узниках — с чистой совестью, ведь это же задача администрации — печься об Анане бен Давиде и Абу Ханифе. Но администрация перегружена делами, тюрьма давно слишком мала ввиду начавшейся политической смуты: восстают рабы, бунтуют коммунисты-маздакиты[20], гаремы перебегают к ним один за другим, поскольку и жены у них общие. Строятся новые тюрьмы, сначала рядом со старой, каменные ограды используются как опорные стены для новых темниц, возникает целый тюремный город, над которым со временем вырастают второй и третий города-тюрьмы, беспорядочные, но прочные нагромождения каменных плит. Давно умер и аль-Мансур, и его преемник аль-Махди, и его преемник аль-Хади ибн аль-Махди, которого велела убить его мать, чтобы привести к власти своего любимого сына Гаруна аль-Рашида ибн аль-Махди; потом умирает и тот, и его преемник, и так далее, все исчезают. Темница, где сидят друг против друга Абу Ханифа и Анан бен Давид, глубоко внизу, под всеми тюрьмами, которые построены рядом с ней и над нею и снова рядом с ней и над нею строятся, потому что восстание рабов-негров вынуждает калифа аль-Мутамида ибн аль-Мутаваккиля строить новые гигантские тюрьмы, — этот площадью всего в несколько квадратных метров подвал в изначальной тюрьме давно уже забыт, а с ним вместе давно забыты Абу Ханифа и Анан бен Давид, но, не зная о том, оба все еще сидят друг против друга во мраке, почти во мраке, ибо днем откуда-то сверху, преломленный бесчисленными шахтами, проходящими из-за нескончаемого строительства во всех направлениях, к ним проникает слабый свет, которого хватает как раз на то, чтобы они, нагнувшись друг к другу, могли различить черты лица соседа по заточению. Однако их это не заботит, предмет, которым они заняты, неисчерпаем, он даже становится как бы все более неисчерпаемым, по мере того как они погружаются в него все глубже и глубже. Их предмет — Бог в его величии, по сравнению с чем все незначительно: жалкая еда, влажная шерсть крыс, давно уже сожравших Коран и Тору, единственные книги, которые аль-Мансур не мог не позволить читать им в тюрьме; даже исчезновения обоих своих священных сокровищ они не заметили: Абу Ханифа и Анан бен Давид нежно поглаживали по шерстке этих зверьков, когда те принялись за свою разрушительную работу. Абу Ханифа давно стал как бы Кораном, а Анан бен Давид Торой; стоит еврею привести какое-нибудь место из Торы, араб приводит суру из Корана, которая подходит к этому месту из Торы. Обе книги, кажется, каким-то таинственным образом дополняют друг друга; даже когда буквального совпадения нет, они сходятся. Мир обоих узников совершенен, но, погруженные в божественные откровения, с виду опровергающие, а на поверку дополняющие друг друга, они не принимают во внимание одного, самого близкого, надзирателя, старого-престарого, как теперь и они, сабеянина, который втайне все еще поклоняется своему истукану и тем упрямее презирает араба и еврея, чем безжалостней молчит этот грубый одноглазый идол. Надзиратель, как и оба узника, давно забыт, тюремное начальство не знает об его существовании, ему приходится выклянчивать себе пищу у других надзирателей, которые тоже забыты и тоже должны выклянчивать пищу. То немногое, что ему удается выклянчить, он делит с узниками машинально, из какого-то чувства долга, более сильного, чем его презрение к обоим, презрение, медленно перерастающее в ненависть, в бессильную темную злость, которая гложет и наполняет его так, что от него ничего уже не остается, кроме этой ненависти ко всем евреям и арабам, а сверх того, к их богу, когда-то будто бы что-то сказавшему, к этому богу-сочинителю, как он его называет, сам не зная, где подцепил это словцо, ибо, что такое сочинитель, он тоже не знает. И вот какой-то калиф, то ли аль-Кадир ибн Исхак ибн аль-Мактадит, то ли аль-Каим ибн аль-Квадит, после счастливой ночи любви с пленницей-венецианкой по имени Аманди, Аннунциата или Аннабелла, с длинными, цвета красной киновари волосами, издает приказ отпустить на волю всех государственных преступников, чьи имена начинаются на А. По какой-то случайности этот приказ — через двести лет, в последние дни аль-Мустанзира ибн аз-Захира, предпоследнего из всех калифов, — доходит до старого-престарого сабеянина, который, ворча, отпускает на волю Анана бен Давида, а помедлив, чувствует, что надо бы отпустить и Абу Ханифу, можно ведь, собственно, думает он, руководствоваться и «Абу», никто не заметит, но ненависть к обоим побуждает его придерживаться «Ханифа» и разлучить богословов. Злорадствуя, он отпускает на свободу только Анана бен Давида. В ошеломлении еврей прощается с Абу Ханифой, еще раз гладит лицо своего закадычного друга, глядит в его словно бы окаменевшие глаза и вдруг чувствует, что Абу Ханифа уже не воспринимает его ухода, что тот утратил чувство какой-либо перемены. Рабби растерянно бредет, спотыкаясь, через темные коридоры, охваченный смутным страхом перед свободой, карабкаясь по лесенкам, ведущим вдоль мокрых стен наверх, в следующие тюрьмы, пробирается через все новые коридоры и выходит к крутым ступеням, после чего вдруг оказывается на ярком солнце, на каком-то дворе и щурится от света, старый, невыразимо грязный, в лохмотьях. К счастью, он видит, что одна половина двора в тени, закрывает глаза, пробирается вслепую к стене и опускается возле нее на землю. Какой-то надзиратель или тюремный чин находит его, расспрашивает и, ничего не поняв, открывает ему ворота тюрьмы. Старик не хочет уходить со своего места у стены, надзиратель (или тюремный чин) грозится применить силу, старик вынужден подчиниться. Начинается бесконечное странствование по миру Анана бен Давида — не по доброй воле, ибо, едва он выходит за ворота тюрьмы, на люди, все удивленно глядят на него; он одет иначе, чем они, хоть и в грязные лохмотья, но в старомодное платье. Да и его арабский язык звучит иначе; когда он спрашивает о какой-то определенной улице, его не понимают, к тому же и улицы этой давно уже нет, город изменился; он смутно припоминает, что некоторые мечети уже видел когда-то. Он находит еврейскую общину, просит доложить о себе раввину, знаменитому знатоку Талмуда. Здесь тоже старика понимают с трудом, но приводят его к святому старцу, который изучает написанную по-арабски книгу знаменитого рабби Саадии бен Иосифа «Опровержение Анана». Седой как лунь старичок обнимает колени великого талмудиста, называет себя. Рабби изумляется, переспрашивает, становится суров, Анан бен Давид либо дурак, либо обманщик, настоящий рабби Анан умер почти пятьсот лет назад и был еретик, зараженный тайными учениями персов, вон отсюда. Затем он снова погружается в свою книгу. Старое-престарое лицо Анана бен Давида бледнеет. Неужели тот все еще верит в Талмуд, спрашивает он рабби, в эту жалкую человеческую поделку? Тут знаменитый знаток Талмуда поднимается, великан с растрепанной, черной как смоль бородой, недаром община называет его «святой колосс».
— Выйди отсюда, недоумок Анан бен Давид, — гремит он, — давно истлевший! Отстань от меня и моей общины. Ты вовлек нас в беду, когда был жив, так будь же проклят и ныне, когда ты давно зарыт!
Анан бен Давид в ужасе убегает из дома святого, проклятья еврея несутся ему вдогонку. Он бродит без цели по улицам и площадям огромного города. Уличные мальчишки забрасывают его камнями. Собаки кусают его, пьяный валит его с ног. Он не видит иного выхода, как снова прийти к воротам тюрьмы, которые он с большим трудом и находит. Ему с удивлением отворяют ворота, но никто не помнит его, тюремный чин (или надзиратель), который выпустил его, куда-то отлучился. Старый еврей говорит об Абу Ханифе, никто никогда не слышал о таком узнике. Еврея расспрашивает молодой заместитель начальника управления всеми тюрьмами города, питающий интерес к истории, имя Абу Ханифы ему мало что говорит, хотя, вероятно, еврей что-то спутал, но какая-то доля истины во всем этом, наверно, есть. Он велит отвести старика в камеру в новом тюремном городке, предназначенную вообще-то для богатых подследственных, с видом на мечеть Гарун-аль-Рашида, велит накормить его и переодеть. Заместитель начальника сам удивляется своему великодушию. Он роется в старых указателях, изучает планы, но ни из чего нельзя заключить, что под всеми тюремными зданиями находится еще одна тюрьма. Заместитель начальника вызывает к себе всех старых надзирателей, в том числе и старых-престарых, давно ушедших на покой, никто не слыхал о каком-то сабеянине в должности надзирателя. Конечно, никто не знает всей тюрьмы, спору нет, планы грешат неполнотой, но какой-то след должен ведь все-таки найтись, если в рассказе еврея есть хоть крупица правды. К такому выводу заместитель начальника и приходит, с огорчением, ибо почему-то верит еврею, чувствует себя в долгу перед ним, хоть это, он признает, и странно, чувствует себя каким-то безвольным, спрашивает начальника, нельзя ли отвести старику какую-нибудь камеру, лучше всего ту, куда он уже помещен, с видом на мечеть. Это, к сожалению, исключено, начальник слегка раздражен своим заместителем, не может же тот всерьез полагать, что между этим старым евреем и умершим сотни лет назад Абу Ханифой есть какая-то связь. Он начальник тюрьмы, а не сумасшедшего дома, куда заместителю и следовало бы посадить этого еврея. Но прежде чем принимается такое решение, Анан бен Давид исчезает. Никто не знает, как он ухитрился покинуть камеру, может быть, она была даже заперта, а может быть, надзиратель нашел еврея мертвым на его койке и велел убрать труп, не докладывая начальству о столь незначительном происшествии. Но когда пятнадцать лет спустя Хюлегу, один из внуков Чингис-хана, сжег этот город со всеми его мечетями, больницами и библиотеками, вырезал восемьсот тысяч жителей, а пописывавшего аль-Мустазима ибн аз-Захира, аббасида исключительной кротости, велел завернуть в ковер и трясти насмерть, ибо по своему суеверию монгол опасался прогневить землю завоеванного им абассидского царства кровью последнего калифа, — один конный латник, увидев, как из сожженной синагоги убегает какой-то маленький, согбенный, старый-престарый еврей, и удивившись, что кто-то еще остался в живых, послал ему вдогонку стрелу, хотя и не мог поручиться, что при мутном от дыма свете угодил в цель. Двести лет спустя в Гранаде к старосте еврейской общины обращается какой-то невзрачный еврей неопределенного возраста, речь его невнятна, но, уразумев наконец, что пришелец хочет подискутировать с рабби Мозесом бен Маймоном, староста любезно отвечает ему, что «рамбам» умер почти триста лет назад в Каире, после чего чужеземец испуганно удаляется. В первые годы правления Карла V в Испании в руки инквизиции попадает какой-то старик-еврей, его, как диковинку, приводят к Великому инквизитору. Еврей ни на какие вопросы не отвечает, немой он или нет, выяснить не удается. Великий инквизитор долго молчит, глядя на еврея чуть ли не с благоговением, и, сделав неопределенное движение рукой, отпускает его на волю: все равно, мол, скоро умрет. Идет ли во всех этих рассказах речь об Анане бен Давиде, мы не знаем, точно известно лишь, что он блуждает по миру, не называя себя, не открывая своего имени. Он бредет из страны в страну, от одной еврейской общины к другой и не говорит ни слова. В синагогах он закутывается в старое, изодранное покрывало, и его, как то было с Великим инквизитором, принимают за глухонемого. Он появляется то в одном, то в другом гетто, сидит, скорчившись, то в одном, то в другом училище. Никому до него нет дела, он просто-напросто старый глухонемой еврей, который откуда-то пришел, которому подают самое необходимое, которого каждое поколение хоть и знает, но всегда принимает за кого-то другого, похожего на другого древнего глухонемого еврея, которого будто бы знало старшее поколение. Да его как бы и нет, это только тень, воспоминание, легенда; всего-то и нужно ему немножко хлеба, немножко воды, немножко вина, немножко водки, что уж дадут, он ведь ко всему едва притрагивается и, даже не кивнув головой в знак благодарности, глядит себе в пустоту своими большими глазами. Наверно, впал в слабоумие, совсем одряхлел. Ему безразлично, что о нем думают, безразлично, где он находится, преследования, погромы его не касаются, он так стар, что никто из врагов его народа уже не нападает на него; Великий инквизитор был последним, кто заметил его. Анан бен Давид давно исчез в Восточной Европе, в училище великого местричского магида он зимами топит печь — вероятно, это хасидское предание; где он пребывает летом, никто не может сказать. Наконец во время второй мировой войны нацистский врач выводит его из длинной очереди голых евреев, тянущейся в одну из газовых камер Освенцима; он проделывает с ним какие-то опыты, замораживает его на пять, на десять, на пятнадцать часов при температуре минус сто градусов, на две недели, на два месяца, еврей все еще жив, о чем-то думает, по сути, все время отсутствует; врач прекращает свои опыты. Отправлять его назад он тоже не хочет, он оставляет его в покое, лишь время от времени заставляет его убирать лабораторию. Вдруг еврей исчезает, и вот уже нацист забыл о нем. Но по мере того, как идут века, для Анана бен Давида становятся все значительнее, важнее, лучезарнее столетия, проведенные им в этом несчастном подвале в Багдаде. Правда, Абу Ханифу он давно забыл, он воображает, что был один в темнице, куда его бросил аль-Мансур (чье имя он тоже уже не помнит), но зато теперь ему кажется, будто он в те бесконечные годы говорил с Ягве, и не только говорил, а ощущал его дыхание, даже видел его беспредельный лик, и теперь эта жалкая дыра, где он был заточен, представляется ему все больше обетованной землей, так что все его помыслы, как свет в фокусе, сосредоточиваются на этом единственном месте и превращаются в неистовое стремление вернуться туда, в это священное место, он только и жив еще этим стремлением, хотя давно забыл, где, собственно, это священное место находится, как забыл и Абу Ханифу. А тот между тем, сидя в своем подвале, превратившись из-за падающих время от времени капель воды в какое-то подобие сталагмита, сохранив лишь искорку жизни, тоже давно уже, много веков назад, забыл Анана бен Давида, как забыл и Абу Ханифу старик-сабеянин; он приходил все реже и наконец совсем пропал» Может быть, его убил одноглазый, проржавевший истукан, отделившись вдруг от стены. Тем не менее миска Абу Ханифа не остается пустой, крысы, единственные живые существа, ориентирующиеся во всех надстроенных и пристроенных тюрьмах, притаскивают ему то немногое, что ему нужно для пропитания. Их жизнь коротка, но забота об этом забытом узнике передается по наследству, он друг бесчисленных поколений крыс, он когда-то делился с ними своей пищей, а теперь они делятся с ним своей. А он принимает их службу как нечто само собой разумеющееся, разве что порой поглаживает их по шерстке, все реже и реже, по мере того как окаменевает, ведь мыслями он не здесь. Ему тоже кажется, что он веками говорил с Аллахом, когда сидел один в этой темнице, да и жалкий подвал, где он сидит, для него давно уже никакой не подвал. Калифа он давно забыл, иногда он старается вспомнить его имя и то смешное расхождение во мнениях, что привело его в тюрьму, но не помнит даже, о чем шла речь в том споре; не сознает он и того, что, собственно, мог бы уже давно покинуть тюрьму, никто не остановил бы его. Он полон уверенности, что находится в священном месте, пусть кругом лишь грубо отесанные каменные плиты, которые нет-нет да выхватывает из темноты скупой свет, но они освящены тем, кто говорил с ним, самим Аллахом; и привязывает его к жизни задача хранить это место своей стойкостью как его, Абу Ханифы, собственность, переданную ему самим Аллахом. И Абу Ханифа ждет часа, когда Аллах в своем милосердии снова заговорит с ним, когда он снова почувствует его дыхание и увидит его беспредельный лик. Он ждет этого часа всей страстью своего сердца, всем пылом своего духа, и час этот приходит к нему, хоть и иначе, чем он ожидал. В ходе своих странствий Анан бен Давид оказался в Стамбуле, случайно, он даже не знает, что он в Стамбуле. Он сидит несколько недель перед какой-то синагогой, почти слившись со стеной, серый и ветхий, как ее камни, пока его не обнаруживает один пьяный швейцарец, скульптор, который, когда он не пьян, сваривает крупные железные конструкции и болванки. Швейцарец глядит на маленького, как карлик, старого-престарого еврея, водружает его на свои могучие плечи и тащит в свой ржавый, залатанный автобус «фольксваген». Надо это понимать так, что в Стамбуле швейцарец еще не по-настоящему пьян, только навеселе, но затем, едучи через Анатолию, пьянеет от остановки к остановке все больше и больше, явно пытаясь провести контрабандой виски в автобусе, чтобы заработать денег на свои железные скульптуры, явно успешно, хотя, правда, запас виски огорчительно уменьшается, а тем самым и заработок: на каждом пограничном посту, в каждом полицейском участке, на каждом контрольном пункте он щедро выставляет виски, и начинается бесконечное пиршество, после которого пограничные посты, полицейские участки и контрольные пункты оказываются еще пьяней, чем швейцарец. Анан бен Давид каждый раз свидетельствует, как всегда притворяясь глухим и тряся головой, что виски Кораном не запрещено; для того швейцарец и взял его с собой, приняв это дряхлое существо за мусульманина, а Анан бен Давид, погруженный в Ягве и в ожидание новой встречи с ним, о такой причине и ведать не ведает. Но в Багдаде — хотя Анан бен Давид не знает, что он в Багдаде, а думает, что он в Аргентине или во Владивостоке, так перепутались у него в голове после веков странствий континенты и воспоминания, — но в Багдаде швейцарец со скоростью сто двадцать километров в час вместо полагающихся здесь шестидесяти врезается в островок безопасности. И островок безопасности, и полицейский, и скульптор, и автобус охвачены ярким бензиново-алкогольным пламенем, все взрывается, желтым столбом дыма взлетает в воздух «Олд смаглер» вместе с одним из самых перспективных художников Гельвеции. Только Анан бен Давид исчезает в собравшейся толпе, которая преграждает путь сигналящим полицейским и санитарным машинам. От швейцарца осталась одна только присягающая рука, на что она присягала, уже нельзя выяснить. Анан бен Давид идет вдоль роскошных магазинов и, заворачивая за высотный дом, замечает, что его преследует какая-то белая собака. Собака эта длинноногая и голая, вся шерсть у нее выпала. Анан бен Давид убегает в переулок, дома здесь очень старые или кажутся очень старыми, в таком они запустении, а ведь где-то совсем близко тот высотный дом, хотя он уже не виден. Анан бен Давид не оглядывается на собаку, но знает, что та идет за ним. Он открывает дверь какого-то старого, ветхого дома, входит во двор, заваленный мусором, перелезает через него, находит в земле какое-то отверстие, не то ствол колодца, не то пещеру. На него злобно смотрит крыса, исчезает, в двери дома появляется белая голая собака, оскаливает зубы. Анан бен Давид лезет в пещеру, нащупывает ступени, спускается по ним, оказывается в бесконечных коридорах, темнота кромешная, но он идет вперед. Он знает, что голая белая собака крадется за ним, что его ждут крысы. Он и не видя знает, что перед ним пропасть, нагибается, его руки хватаются в пустоте за перекладину лестницы, он спускается по ней бесстрашно, добирается до твердой почвы, новая пропасть, снова его руки роются в пустоте, вдруг перед ним опять новая лестница. Он лезет вниз, лестница качается, наверху тявкает собака. Теперь он знает дорогу, он идет по низким коридорам, находит низкую железную дверь, засовы прогнили, дверь рассыпается в прах, едва он дотрагивается до нее, так она заржавела, он ползет в обетованную землю — в свою камеру, в свой подвал, в свою темницу, в свою тюрьму, где он говорил с Ягве, к неотесанным каменным плитам, к каменному полу. Он опускается наземь. На него нисходит бесконечный покой, покой его Бога, покой Ягве. Но вдруг две руки охватывают его горло. Абу Ханифа нападает на него, словно Анан бен Давид — дикая тварь, зверь, проникший в его, Абу Ханифы, царство, которое принадлежит ведь Аллаху, Абу Ханифа одержим чувством своего священного долга убить незваного гостя, который угрожает его свободе. Ведь свобода его состоит не просто в том, что этот жалкий подвал — его, Абу Ханифы, подвал, а в том, что подвал этот создан Аллахом, чтобы быть его, Абу Ханифы, подвалом. Но с такой же яростью защищается и Анан бен Давид; тот, кто на него нападает, завладел его, Анана бен Давида, обетованной землей, местом, где Он, Ягве, говорил с ним, своим недостойным рабом, где он, Анан бен Давид, ощущал Его дыхание, видел Его беспредельный лик. Борьба идет беспощадная, не на жизнь, а на смерть, каждый защищает вместе со своей свободой свободу своего Бога, место, назначенное тому, кто в него верит. И борьба эта для Анана бен Давида тем тяжелее, что на него нападает, вгрызается в него несметное множество крыс. Устав, бойцы отрываются один от другого, силы Анана бен Давида на исходе, он знает, что новой атаки своего противника и крыс ему не выдержать. Но вот постепенно, сначала нерешительно к нему начинают льнуть крысы, эти страшные твари, только что нападавшие на Анана бен Давида, начинают зализывать его раны. Они узнали его инстинктом, унаследованным от бесчисленных поколений, и, когда они лижут его, он ощущает непосредственную близость Ягве, своего Бога. Он непроизвольно наклоняется вперед, чтобы в неверном сумеречном свете разглядеть своего противника, а его противник наклоняется навстречу ему, наклоняется с трудом, разламывая известняк, который покрывает его, как броня, но уже сломленный своей вспыхнувшей прежде ненавистью. Анан бен Давид глядит в лицо Абу Ханифе, а Абу Ханифа глядит в лицо Анану бен Давиду. Каждый — а оба совсем одряхлели за столько веков — глядит как бы на самого себя, их лица похожи одно на другое. Но постепенно из их почти ослепших, окаменевших глаз уходит ненависть, они глядят друг на друга, как глядели на своего Бога, на Ягве и Аллаха, и впервые их губы, так долго, тысячи лет, молчавшие, произносят первое слово, не какое-то изречение из Корана, не какое-то слово из Пятикнижия, а только слово «ты». Анан бен Давид узнает Абу Ханифу, а Абу Ханифа узнает Анана бен Давида. Ягве был Абу Ханифой, а Аллах — Ананом бен Давидом, их борьба за свободу была бессмыслицей. На окаменевших губах Абу Ханифы появляется улыбка, Анан бен Давид нерешительно гладит белые волосы своего друга, чуть ли не с робостью, словно прикасаясь к святыне. При виде маленького, старого-престарого еврея, сидящего перед ним, Абу Ханифа понимает, и при виде сжавшегося перед ним на плитах тюрьмы араба Анан бен Давид убеждается, что их общая собственность, узилище Абу Ханифы и тюрьма Анана бен Давида, — это и есть свобода одного и свобода другого.
Смити
Трудности у него начались еще утром, они свалились на него неожиданно и давили и удручали тем сильнее, что Дж. Г. Смит — на этом имени, перепробовав много других, он в конце концов остановился — чувствовал себя уж если и не преуспевающим предпринимателем, то, во всяком случае, уверенно в своем деле; доходы достигали таких высот, когда можно неплохо жить, власти относились к нему терпимо, пусть неофициально, однако более-менее сносно; тем глупее были сейчас колебания Лейбница. Конечно, Лейбница можно заменить любым студентом-медиком, имеющим мало-мальский опыт в рассечении трупов, но Дж. Г. Смит привязался к Лейбницу, вот штука; зарабатывал тот, видит Бог, прилично, и, хотя Лейбниц получил разрешение — а именно сегодня утром ему его и вручили — и мог вновь открыть врачебную практику, должен же он, однако, понимать, что это разрешение ему теперь совсем без надобности, не из-за прежних его промашек — абортов и всего такого прочего, — а потому, что Лейбниц вот уже скоро четыре года как работает у Дж. Г. Смита, слишком большой срок, чтобы выходить из игры; ткнуть в это Лейбница носом было занятием не из приятных, но в конце концов до Лейбница дошло даже и то, почему ему не повысят ставку, тут Смит был непреклонен, не надо угрожать ему уходом, с ним этот номер не пройдет, однако занять такую же твердую позицию по отношению к новому фараону Смит, конечно, не мог: тот шел ва-банк и сорвал изрядный куш, против природы вещей не попрешь.
— Видите ли, Смити, — заявил новый фараон, ковыряя в зубах, сразу в самом начале разговора — они стояли на углу Лексингтон-авеню и 52-й стрит, где напротив строился городской банк. — Видите ли, Смити, конечно, у старого Миллера было четверо детей, а я холостой, но у меня иные требования к жизни.
А на робкую угрозу Смити обратиться к портовому инспектору — тот тоже относился к нему терпимо, он вообще был с ним на дружеской ноге — фараон только и ответил: ну, если так, тогда им не о чем и разговаривать. Трудности, одни только трудности. Да тут еще жара, и всего лишь третье мая, а подумать можно, самый разгар лета, Смити ходил все время мокрый; уже когда Лейбниц появился со своими требованиями, он весь обливался потом, все мельтешило в глазах от жары, Бруклин был почти не виден, кондиционер сейчас Смити не мог себе позволить, пахло трупами, правда, дворник не обращал внимания, а жил Смити в другом месте, по телефону его можно было еще застать у Симпсона, и Лейбниц тоже был ко всему привычный, тем не менее неудобство было, сплошь и рядом кто-нибудь из посетителей путал дверь и вместо бара у Симпсона попадал в «анатомичку», держать же трупы постоянно в холодильной камере Лейбниц тоже не мог, он затаскивал их на цинковый стол, когда приступал к работе, вообще-то, подумал Смити, надо бы замаскировать все под лабораторию, под нечто научно-техническое, сверкающее чистотой и белизной кафеля, а то, что у него на сегодня под Трайборским мостом, выглядит весьма сомнительно. Конечно, само место имело свои бесспорные преимущества, и прежде всего близость Ист-Ривера. Смити чертыхнулся: сходить домой, принять душ и сменить рубашку времени не было. Помимо жары донимала вонь. Не трупный запах, что шел с самого утра, тот профессиональный запах, на который он обращал так же мало внимания, как дубильщик на запах сырой кожи, нет, городская вонь доводила его до бешенства, он ненавидел ее, воняло все, кругом стояла едкая и липкая вонь, склеенная мириадами молекул пыли, гари и мазута, спрессованная воедино с горячим асфальтом, фасадами домов и чадящими улицами. Он изрядно выпил, начав еще во время разговора с Лейбницем. Джин. С новым фараоном они заглянули в бар на бегах в Бельмонте. Два пива. Потом он пил с портовым инспектором где-то на 50-й стрит виски. Инспектор выпил пива, съел два натуральных бифштекса, а Смити к своему так и не притронулся. Шеф полиции, пусть с опозданием, но все же явившийся, как и обещал портовый инспектор, оказался мерзким интеллигентиком, вообще не полицейский тип, голова яйцом, лысая, как у профессора, а пост этот он добыл через перекрестные связи гомосеков; пришел, представился Смити — конфронтирующие стороны теперь просматривались все труднее и труднее, гангстер тут один на днях, Смити помог ему избавиться от дочки миллионера, тоже, между прочим, гомик, был раньше священником, разгуливает себе спокойно на свободе. А может, шеф полиции вовсе и не гомик, на кельнершу только что поглядел очень даже с интересом. Про священника он был в курсе, сам связал его со Смити, а вовсе не портовый инспектор, как сначала думал Смити. Так что он должен еще оплатить шефу полиции дочку миллионера, хотя уже заплатил за нее портовому инспектору, что за проклятое предприятие, одни убытки. Смити допил виски. Собственно, ему пора идти к Симпсону, но шеф взял вдруг и разговорился. Этот тип может себе позволить поболтать, для него время не деньги, а тут еще жара не продохнуть, даже кондиционер не помогает: было бы лучше, если бы санитарная служба полиции все взяла на себя, само собой разумеется, будем все держать в тайне, и Холи, священник, того же мнения, слишком уж рискованно перепоручать ведение дела какому-то частному лицу, такому, как Смити, священник ведь новый секретный босс гангстеров на их участке. Смити опять перешел на джин. К мясу он все еще не притронулся, а шеф полиции вякал дальше: старый способ борьбы с преступностью больше не срабатывает, государство вынуждено сегодня жить с преступностью в согласии, с тех пор как они нашли с Холи общий язык, число преступлений на участке уменьшилось, все дело в обоюдной терпимости, Смити пора понять, что время его постоянных лавирований между легальным лагерем и нелегальным прошло, потому что на сегодня легальные силы пусть и не искоренили нелегальные, однако управляют ими, и в противном случае, если Смити не проявит должного понимания, придется подключить к делу санитарную службу полиции, на худой конец портовую полицию, хотя при этом всплывут некоторые сомнения гигиенического характера. Смити заказал кофе, взял три куска сахара, помешал ложечкой.
— Сколько?
— Половину в каждом случае, — произнес шеф, снял свои очки без оправы, подышал на них, протер, опять надел и стал изучать Смити, как естествоиспытатель вошь.
Портовый инспектор ковырял в зубах, как новый фараон, когда они стояли напротив городского банка. Шеф опять снял очки, протер их еще раз, вид Смити вызывал у него отвращение. По такому тарифу работать невозможно, сказал Смити, ему придется теперь вдвое больше платить Лейбницу, эта свинья опять может легально заняться врачебной практикой. Ну хорошо, сказал шеф полиции, заказав еще раз кофе, он переговорит с санитарной службой. Смити потребовал еще один джин.
— Мне, право, жаль, Смити, — сказал портовый инспектор.
Смити уступил, в надежде, что удастся договориться за спиной полиции с Холи, ведь постоянно заключались сделки, о которых ничего не следовало знать шефу полиции, точно так же, как обделывались делишки, никак не касавшиеся Холи, и Смити заказал еще одно пиво. Но когда он где-то около полуночи наконец принялся за свой натуральный бифштекс с картофелем фри во французском ресторане Томми, про который никто не знал, почему он называется французским, к нему вместо Холи подсел ван дер Зеелен, выдававший себя то за русского, то за поляка, смотря по обстоятельствам, хотя был, скорее всего, итальянцем или греком и звался как-нибудь совсем иначе; кое-кто даже утверждал, что на самом деле он голландец, только зовут его не ван дер Зеелен, а как «сыр» по-датски; во всяком случае, он перекантовался сюда два года назад полудохлым эмигрантом из Европы, будь она неладна, штампует всех этих крыс подряд, давно бы уже пора президенту вмешаться в это дело, а то теперь вот смотри, сидит себе в чертовски дорогом костюме, шелковистая ткань, разит до невозможности парфюмерией, курит гаванскую сигару «Монте-Кристо». Холи, к сожалению, помешали прийти, сказал ван дер Зеелен.
— Дела? — спросил Смити, хотя лично его это вовсе не касалось, он был зол, ему надо было договориться с Холи.
— Собственно, да, — ответил ван дер Зеелен, заказал себе салат из омаров и добавил, что Холи, скорее всего, лежит уже в холодильной камере в каморке у Смити, а может, даже уже и на столе у Лейбница.
— Жалко гомика, — посочувствовал Смити, посмотрел задумчиво на ван дер Зеелена и решил про себя как-нибудь при случае обязательно узнать, как будет «сыр» по-датски: уличный фараон под Трайборским мостом был швед, а потом подумал, известно ли шефу полиции, что босс уже кто-то другой, вовсе не Холи.
Ван дер Зеелен пояснил со снисходительной ухмылкой:
— Двое на один участок слишком много, один — лишний. Мы уж как-нибудь поладим друг с другом, Смити.
— К сожалению, вынужден повысить тариф, — заявил Смити. — Лейбниц обходится теперь дороже.
Ван дер Зеелен покачал головой.
— Я женился, Смити, на прошлой неделе, — сообщил он.
— Ну и что? — спросил Смити.
У его жены есть брат, студент-медик, правда, спекулирует, к сожалению, играет на бирже на срок, чертовски дорогое удовольствие.
Смити понял.
— Будем работать по старому тарифу, — предложил он.
— На десять процентов меньше, — ответил ван дер Зеелен, — мне все-таки надо как-то поддерживать своего шурина.
Дела Смити были из рук вон плохи, да плюс еще эта убийственная жара, он как в кипящий бульон окунулся, когда вышел из французского ресторана Томми. Собственно, он собирался пойти домой, в свои три меблированные комнаты с кухней и ванной, чудовищно обставленные, на немецкий лад, с пола до потолка забитые книжками, ни одну из которых невозможно прочитать, профессорская квартира, доставшаяся ему от предшественника Лейбница, не квартира, а затхлая конюшня, дышать нечем, не проветривается, не убирается, зато люкс, если вспомнить тот закуток, где он ютился много лет подряд, в трущобах Бронкса. Однако, если дела с новыми партнерами и дальше так пойдут, он очутится вскоре где-нибудь в сыром подвале, шеф полиции — коммунист, это ему ясно, а ван дер Зеелен — еврей, это еще яснее ясного, скорее всего из Голландии, хотя и зовут его как «сыр» по-датски, самое время сейчас смыться отсюда, в Лос-Анджелес или еще куда, смыться и открыть там новую контору, такой, как Смити, везде нужен, трупы повсюду требуется убирать. Напротив французского заведения Томми был маленький бар. Смити стал переходить улицу, резко тормознула машина, ее занесло, шофер выругался. В баре Смити опять заказал джин, лучше всего сейчас напиться. Через открытую дверь бара он видел, как ван дер Зеелен сел в свой «кадиллак», рядом с Сэмом, своим шофером. Смити выпил одним залпом джин, но домой пошел не сразу. Лоснящаяся физиономия ван дер Зеелена нагнала на него тоску, ему стало жалко Холи. Смити шмыгал носом, пока называл шоферу такси улицу вблизи Трайборского моста, Холи все-таки верил еще в справедливость, вообще постоянно твердил о Боге, умора, конечно, при его-то бизнесе, Смити не сомневался, что гомик втайне молился, перебирая четки, хотя для Смити все это уже было пустым звуком. Шофер такси что-то бормотал себе под нос по-испански, не замолкая ни на минуту, Смити был рад, когда машина добралась до нужной улицы, шофер казался ему ненормальным, хотя, конечно, жара любого донимала. Смити нужно было еще пройти вдоль нескольких домов и спуститься потом вниз к Ист-Риверу, по старой привычке он никогда не доезжал до самого места своей работы. Улочки, как узкие коридоры, втиснутые в безжизненное пространство, казались пустыми, но на тротуарах, вдоль стен и на балконах лежали и спали люди, голые и полуголые, почти неразличимые из-за плохого освещения, но ощущалось их присутствие кругом, в колыхающе-расплывшейся массе было нечто звериное, Смити бежал вдоль пышущих жаром, храпящих, взмокших потом каменных стен, с него лило ручьями, он слишком много выпил, наконец он добрался до полуразрушенного пакгауза. На пятом этаже размещалась «анатомичка» Лейбница, не совсем, конечно, практично, но Лейбниц настаивал на этих помещениях, вообще-то Смити не совсем было ясно, как в деталях осуществлялась деятельность Лейбница и как он с этим справлялся; например, остатки, ведь должно же было что-то оставаться, ну пусть совсем немного, и их нужно же куда-то девать, с пятого-то этажа, непонятно, может, все без остатка растворялось и с шумом летело в канализационную трубу? Смити передернуло, когда он подумал, что до Лейбница его работу делал профессор прямо в той квартире, где сейчас жил Смити, хотя, правда, оборот тогда был еще небольшим — всего один труп в месяц. Смити уже открыл ключом дверь, слабо надеясь еще раз увидеть Холи, пусть хотя бы его останки, как вдруг, вторгаясь в его сентиментально-благочестивый настрой, обволакивающий Смити пьяным туманом, голос позади него, со стороны улицы, произнес:
— Я хочу переспать с тобой.
Смити, держась за ручку полуоткрытой двери и собираясь переступить порог, оглянулся. Вплотную позади него, тоже около двери, стояла женщина, виден был только ее силуэт, Смити еще не зажег лестничного освещения. Шлюха какая-нибудь, подумал он и собрался уже захлопнуть перед ее носом дверь, как вдруг его охватил дикий азарт.
— Заходи, — сказал он и в темноте на ощупь пошел к лифту.
Женщина последовала за ним, он чувствовал ее в спертой духоте нагревшегося за день коридора, лифт спускался сверху. Они стояли близко друг от друга, пришлось подождать, пока кабина — то был старый, еле передвигавшийся грузовой лифт — оказалась внизу, Смити, сильно пьяный, успел уже позабыть про женщину. И только когда он прислонился в ярко освещенном лифте к стенке, она попалась ему на глаза, и он вспомнил, что взял ее с собой. Лет тридцати, изящная, падающие прядями темные волосы, большие глаза, может, красивая, а может, и нет, в пьяном угаре Смити никак не мог составить себе о ней цельного впечатления, сквозь хмель пробивалось ощущение исходившего от нее благородства, чего-то необычного, таившего в себе опасность, на ней было безумно дорогое платье, облегавшее ее, фигурка что надо, и вся она как-то никак не вписывалась в окружающую обстановку. Отчего, Смити не знал, он только чувствовал это, ее облик просто не вязался с продажным телом шлюхи, и, хотя ему смутно мерещилось, что не стоит ввязываться в эту авантюру, он нажал на кнопку, и лифт поехал. Женщина рассматривала его в упор, без насмешки, но и без страха, просто равнодушно. Теперь он не дал бы ей больше двадцати пяти, он уже привык определять возраст чисто профессионально.
— Сколько? — спросил Смити.
— Даром.
Его опять захлестнул бесовский азарт, ну я ей сейчас устрою развлеченьице, и он представил себе, как она обезумеет и, забыв про свое проклятое благородство, начинавшее раздражать его, завопит, бросится вниз по лестнице, кинется, скорее всего, к фараонам и как те просто ухмыльнутся ей в ответ. Когда он все это себе представил, то осклабился в улыбке прямо ей в лицо, но она не скривилась и продолжала смотреть на него, не меняя выражения лица. Лифт остановился, Смити вышел, открыл дверь в «анатомичку», вошел, не оглядываясь на женщину. Она шла за ним, остановилась в дверях. Смити подошел к столу, уставился на Холи, тот мертвый и уже голый лежал перед ним, с простреленной грудью, удивительно чистый, Лейбниц, вероятно, уже обмыл труп. Через спинку стула была перекинута сутана священника, аккуратно сложенная, и лежало нижнее шелковое белье Холи цвета красной киновари.
— А четок не было? — спросил Смити.
— Больше ничего, — ответил Лейбниц, — кроме вот того, — и указал в угол около окна: лента с патронами, револьвер, автомат, несколько ручных гранат. — Все было спрятано под сутаной, чудо, что все это не взлетело на воздух! — Лейбниц стал наполнять водой старую ванну, Смити видел ее впервые. — Я думаю, он вообще не был священником. Просто гомиком.
— Не исключено, — сказал Смити. — Новое приобретение? — Он рассматривал канистры и бутыли, стоявшие кругом.
— Что? — спросил Лейбниц.
— Ванна, — ответил Смити.
— Она всегда тут была, — сказал Лейбниц и подтолкнул тележку с хирургическими инструментами к цинковому столу.
— Ты тоже датского не знаешь?
— Нет, — ответил Лейбниц.
Смити отвернулся, разочарованный, и увидел женщину, все еще стоявшую в своем дорогом платье в дверях, небрежно прислонившись левым плечом к косяку. Он опять забыл про нее и сразу вдруг вспомнил, как представлял себе — вот она закричит и бросится бежать к фараонам.
— Убирайся, — произнес Смити в бешенстве и тут же понял, что это всего лишь фраза.
Она молчала. Ее лицо не было накрашено, волосы спадали вниз длинными мягкими прядями.
Смити почувствовал озноб, было страшно жарко, а его вдруг пробрал ледяной холод, и тогда, не спуская глаз с женщины, все еще стоявшей прислонившись к дверной притолоке, Смити спросил:
— Лейбниц, а где ты, собственно, спишь?
— Этажом выше, — ответил Лейбниц, уже разрезая Холи.
Смити направился к женщине. Ничего не говоря, она равнодушно смотрела на него.
— Иди в лифт, — приказал Смити.
Опять они стояли друг против друга, прислонившись к стенкам кабины, и в течение минуты пристально разглядывали один другого. Смити закрыл решетку шахты, сквозь открытую дверь их рабочего помещения он видел Лейбница, усердно трудившегося над трупом Холи. Потом лифт пошел наверх, остановился. Они оба не двигались. Смити смотрел на женщину, она на него, как на что-то неживое, как на воздух, однако предметно-материализованный, не то чтобы она смотрела в пустоту или делала вид, что не видит его, нет, и в этом было как раз что-то безумное. Напротив, она наблюдала за ним, изучала его, ощупывала взглядом каждую пору его небритого пропотевшего лица, прослеживала каждую морщинку, и все же он оставался ей безразличен, она просто хотела отдаться ему, совокупиться с ним, как это делают животные, а они, подумал Смити, пожалуй, тоже безразличны друг другу, он думал обо всем как-то между прочим, разглядывая ее плечи, груди под подчеркнуто изысканным платьем, а перед глазами у него стоял голый труп Холи, который Лейбниц резал этажом ниже на части. По лицу Смити струился холодный пот, ему было страшно, хотелось близости, чего-то мягкого и теплого в этом леденящем холоде, сковавшем в его теле бесновавшуюся вокруг жару, он рванул за собой женщину, толкнул дверь напротив лифта, затащил ее в комнату, увидел нечеткие очертания матраца и толкнул ее туда, только свет из лифта проникал через открытую дверь, женщина безмолвно позволила ему проделать все над собой; и, покончив с этим, он принялся, ползая на четвереньках, искать свои брюки, он их куда-то зашвырнул, а она лежала, не попадая в полосу света, падавшего в комнату из лифта, ситуация была комичной до идиотизма.
— Такси, — сказала женщина ровным голосом.
Смити влез в брюки, заправил рубашку, поискал свой пиджак, нашел его посреди груды книг, комната, казалось, была набита ими, как дома, где кругом все еще валялись книги профессора, только здесь не было никакой мебели, кроме матраца, невероятно, как опустился Лейбниц, а еще требует при этом, бродяга, повышения процента. Света Смити так и не зажег, он стыдился, хотя и подумал вскользь, что нечего ему стыдиться проститутки, но в ту же минуту с уверенностью сказал сам себе, что никакая она не проститутка. Женщина все еще лежала на матраце, куда падали слабые отблески света из лифта, обнаженная и белая. Смити удивился, он, собственно, ничего не помнил, вероятно, он разорвал на ней платье, ну и прекрасно, пусть теперь попробует собрать его по кусочкам, скорее всего, ее дорогое платье и взбесило его, да и вообще могла бы сама обо всем позаботиться, она к нему пристала, а не он к ней, однако он все же спустился вниз, к Лейбницу, вошел через все еще открытую дверь «анатомички», от Холи уже осталось одно только туловище, невероятно, как Лейбниц работает, Смити вдруг захлестнула волна гордости за него. Видит Бог, Лейбниц заслужил свои проценты, он смотрел, как Лейбниц все мешал и мешал в ванне какую-то пенообразную кашу, потом раздалось бульканье, и ванна медленно освободилась. Очень практично. Смити замер благоговейно в мыслях о тленности всего земного, потом вдруг увидел, что в дверях опять стоит женщина, как и до того, и опять в платье, и платье целехонько, по-видимому, она все-таки сама сняла его. Смити смутился, возможно потому, что предавался мыслям о тленности всего земного, но он не думал, что она что-то могла заметить в этом пекле, он опять вдруг почувствовал изнурительную жару, она одолевала его, пот бежал ручьями по его телу, он сам себе был противен. Он подошел к телефону на подоконнике и позвонил ван дер Зеелену, он еще ни разу ему не звонил, но знал его номер от Сэма. Ван дер Зеелен довольно долго не отвечал на звонок, каждый раз трубку снимал кто-то другой и говорил, что ван дер Зеелен подойти к телефону не может, но когда он наконец все же взял трубку, потому что Смити беспрерывно звонил туда, и зарычал, что, собственно, Смити взбрело в голову, то Смити прорычал в ответ, что требует на двадцать процентов больше, иначе он прикроет свою лавочку.
— Хорошо, хорошо, — ответил вдруг ван дер Зеелен до противности любезно, — на двадцать процентов больше.
А теперь он хочет спать. И еще ему нужен Сэм с «кадиллаком», прокричал Смити. Куда подать, спросил ван дер Зеелен все так же отвратительно любезно. Под Трайборский мост, ответил Смити, и он не намерен долго ждать. Он будет там, будет, — сказал ван дер Зеелен примирительно, и Смити положил трубку.
Тем временем от Холи уже ничего не осталось, кроме его сутаны, которую Лейбниц бросил напоследок в ванну вместе с шелковым исподним цвета красной киновари. Смити пошел с женщиной вниз. Дверь в подъезд так и стояла открытой. Прохладой все еще не веяло, хотя уже брезжил рассвет, утро подкралось, как банда налетчиков, было светло как днем, когда появился Сэм с «кадиллаком». Смити сел рядом с ним, женщина села сзади Смити.
— Куда? — спросил Смити.
— В «Каберн», — ответила женщина.
Сэм хмыкнул.
— Хорошо, — сказал Смити. — К «Каберну» так к «Каберну».
Они ехали по пустынным улицам. Взошло солнце. В машине было приятно прохладно. Работал кондиционер. Во втором зеркале заднего вида, поставленном еще по распоряжению Холи, когда его возил Сэм, потому что Холи всегда мерещилось, что его преследует ван дер Зеелен — ну, в общем уж не настолько Холи оказался не прав, — Смити видел женщину и наблюдал за ней. На шее синяки. Должно быть, он душил ее, хотя ничего такого не помнил, зато сейчас он был по крайней мере трезв, а завтра он поговорит с этим коммунистом из полиции так же, как сегодня поговорил с ван дер Зееленом, Смити им нужен, это ему абсолютно ясно. Тут Сэм остановился перед «Каберном», у главного входа в отель. Один слуга распахнул дверцу «кадиллака», женщина вышла из машины, тот согнулся в поклоне, другой слуга согнулся перед ней у входа в отель, стеклянные двери автоматически разъехались перед ней в разные стороны.
— Черт побери, — забормотал Сэм, — я готов побиться об заклад, они вышвырнут ее назад.
— Отвези меня домой, Сэм, — сказал Смити, почувствовавший вдруг смертельную усталость.
Войдя к себе в квартиру, он бросился, не раздеваясь, на кровать. Сплошь книжные стеллажи, в другой комнате письменный стол, и третья комната тоже забита книгами, немецкими книгами, имена на обложках ничего не говорили ему, названия их он не понимал. Чем, собственно, занимался этот профессор, не знал ни один человек, но ему постоянно нужен был материал, а материал поставлял ему Смити, и, когда у профессора не стало денег, чтобы заплатить за материал, у Смити родилась блестящая идея, и тогда профессор занялся исчезновением трупов для честной компании, а заодно и для менее честной, а когда профессора однажды самого превратили в материал, его работу взял на себя Лейбниц и в качестве пробы, демонстрируя свое умение, растворил профессора. Смити заснул, и спал так глубоко, что долго не мог понять, что его разбудил телефон. Он бросил взгляд на будильник: он проспал не больше двух часов. Это был шеф полиции. Что ему надо, спросил Смити.
— Приезжайте в «Каберн».
— Ну хорошо, — сказал Смити.
— Я выслал вам машину.
— Очень мило, — произнес Смити, побрел ощупью в ванную комнату, нашел раковину, наполнил ее водой, окунул лицо, вода была парной, ничуть не освежала, город, казалось, медленно закипал. В дверь позвонили, Смити еще раз окунул лицо в воду, хотел потом сменить рубашку, но, поскольку звонки не утихали, пошел к входной двери. Двое полицейских, потные, рубашки прилипли к телу.
— Давай, пошли! — сказал один из них Смити, а другой повернулся к нему спиной, чтобы спускаться по лестнице.
Он собирался еще переодеться и побриться, сказал Смити, вода капала ему с лица на рубашку и пиджак.
— Не говори глупостей. Пошли, — сказал полицейский с лестницы и зевнул.
Смити закрыл за собой входную дверь и только тут ощутил, как паршиво он себя чувствовал — болела голова, кололо в затылке, до этого как-то он ничего не замечал, подумал он про себя, ни боли, ни жары, помнил только отвратительно теплую воду в раковине. Они затолкали его в «шевроле», на переднее сиденье, зажав с двух сторон, у «Каберна» они высадили его перед служебным входом. Здесь же стояли детектив Кавер и очень возбужденный элегантный мужчина, одетый в черное, с белым платочком в нагрудном кармане.
— Вот он, — сказал Кавер и указал на Смити.
— Фридли, — представился человек с платочком в кармане, — Якоб Фридли.
Смити не понял, что он сказал, это звучало вроде по-немецки, вероятно, его так звали, а может, он пожелал ему доброго утра по-немецки или по-голландски, ведь было как раз что-то около семи утра, и Смити вдруг очень захотелось спросить его, как будет по-датски «сыр», но человек, вытерев нагрудным платочком пот со лба, заговорил на английском языке.
— Пожалуйста, следуйте за мной, — сказал он.
Смити пошел за ним, детектив остался внизу, у служебного входа.
— Я швейцарец, — сказал человек с платочком, пока они шли по длинному коридору, который вел, очевидно, к подсобно-хозяйственным помещениям.
Смити было абсолютно безразлично, кто был этот человек и зачем он ему сообщил, кто он, по нему — будь он хоть итальянец или даже гренландец. Такого с ним еще никогда не случалось, никогда, сказал швейцарец. Смити кивнул, хотя подивился, что со швейцарцем такого никогда не случалось: труп, возникший при законных или менее законных обстоятельствах, — такое случается в каждом отеле, а то, что речь шла о трупе, было ясно, иначе шеф полиции не притащил бы сюда Смити в такую несусветную рань. Они поднимались на грузовом лифте бесконечно долго, Смити не волновало куда, но после двадцатого этажа у него появилось предчувствие, что речь пойдет о чертовски важном трупе из знатных господ. Лифт остановился. Они вошли в помещение, похожее на кухню, вероятно буфетную, где блюдам из основной кухни придавался последний шик, перед тем как подать их здесь, наверху, особо важным господам, как рисовалось Смити в его воображении, и в этой то ли буфетной, то ли кухне прямо посредине, перед сверкающим лаком столом, стоял шеф полиции и пил черный кофе.
— Вот этот человек, Ник, — сказал швейцарец.
— Добрый день, Смити, — поздоровался шеф полиции, — ты ужасно выглядишь. Хочешь кофе?
Он ему просто необходим.
— Дай Смити кофе, Джек, — сказал шеф полиции.
Швейцарец подошел к серванту, подал Смити чашку черного кофе, вытер своим платочком пот. Смити было приятно, что такой благородный господин тоже потеет.
— Остальное доверьте мне, Джек, — сказал шеф полиции.
Швейцарец вышел. Шеф потягивал из чашечки кофе.
— Холи исчез.
— Все может быть, — ответил Смити.
— Он уже побывал на столе у Лейбница?
— Я никогда не присматриваюсь, кто там лежит, — сказал Смити.
— Ван дер Зеелен?
— На месте, — ответил Смити, поставил свою пустую чашку на сверкающий стол и спросил, чего Нику от него надо. Ему было впервой, чтобы он назвал шефа полиции просто Ником. Прежнего он звал Толстяком. Ник ухмыльнулся, подошел к серванту, вернулся с кофейником в руках. Сколько Смити должен отдавать ван дер Зеелену, спросил Ник и налил кофе сначала себе, потом Смити.
— На двадцать процентов меньше, чем Холи, — сказал Смити. — На нем было шелковое белье цвета красной киновари.
— На ком? — спросил Ник.
— На Холи, — ответил Смити.
— Ну что ж, — сказал Ник, — теперь пришел черед ван дер Зеелена экипироваться роскошно, — и опять с шумом хлебнул кофе. Помолчав, он произнес: — Смити, мы ведь вчера договорились друг с другом за обедом. На скольких процентах мы сошлись? Я что-то запамятовал.
— На тридцати, — сказал Смити.
— Тридцать процентов твоих? — спросил Ник.
— Тридцать процентов твоих, — ответил Смити.
Ник промолчал, допил свой кофе, налил себе еще.
— Смити, — сказал он спокойно, — мы сошлись на половине. Этого я в общем и целом хотел бы придерживаться. Только не сегодня. Сегодня ты удовлетворишься десятью процентами, конечно в том случае, если не проболтаешься и ван дер Зеелен ничего не узнает о том, что здесь сегодня произойдет, иначе тебе придется еще и ему платить.
О десяти процентах, сказал Смити, не может быть и речи. Он закрывает свою лавочку, пусть Ник обращается к санитарной службе полиции. Речь идет о пятистах тысячах, произнес Ник спокойно, и доля Смити составит пятьдесят тысяч. Это совсем другое дело, сказал Смити, тогда он согласен. Пусть Ник присылает труп. Ник задумчиво посмотрел на Смити. При столь огромной сумме Смити придется как-нибудь самому обо всем договориться, произнес он наконец. Смити налил себе кофе. Понятно, сказал он, чтоб Ник смог остаться чистым.
— Вот именно, — сказал Ник, — пошли.
Смити выпил еще глоток кофе и вышел вместе с Ником через раздвижную дверь. Они оказались в помещении, похожем на то, из которого вышли, только без окон, пройдя еще одну раздвижную дверь, они очутились в широком фешенебельном коридоре, скорее вытянутом в длину зале, в противоположных концах которого за огромными витринными окнами бетонной стеной стояло раскаленное небо. Приятная прохлада окружала их. Они шли по зеленому ковру, закрывавшему пол от стены до стены.
— Ты знаешь датский?
— Нет, — сказал Ник, — пошли к клиенту.
— Нет, к трупу, — сказал Смити.
Ник остановился:
— Зачем? Тебе же его доставят!
Смити ответил:
— После этого будет проще обо всем договариваться.
Ник похлопал его по плечу:
— Смити, ты еще станешь бизнесменом.
Они пересекли коридор, Ник нажал на кнопку.
— Апартаменты «люкс» № 10, — сказал он.
Открыл пожилой мужчина, лысый, очевидно, в смокинге, Смити не был в этом уверен, такую одежду он видел на мужчинах только в кино.
— Мы пройдем к ней, — сказал Ник.
Лысый ничего не ответил, отступил в сторону; небольшой салон, золотистых тонов ковер на полу, благородная мебель, как назвал бы ее Смити, доведись ему ее описывать, и тут Ник открыл одну дверь, белую, филенчатую, с позолотой по краям, спальня, белый ковер, белая широкая кровать с золоченым балдахином, задернутая, как облаками, белым пологом из вуали. Ник раздвинул облака. На белоснежной постели, в которой еще никто ни разу не спал, лежала женщина, все в том же платье, что было на ней не больше трех часов назад, когда она, выйдя из «кадиллака», легкой тенью скользнула мимо согнувшихся перед ней слуг отеля «Каберн». Глаза ее были широко открыты, казалось, ее взгляд устремлен на Смити и она смотрит на него, как все время тогда — сосредоточенно и равнодушно, ее темные волосы раскинулись по плечам, разметались по белой простыне, только шея ее была на сей раз чудовищно изуродована, тут кто-то душил ее куда как энергичнее, чем Смити, и, когда Смити молча смотрел на мертвую, он с удивлением вдруг понял, как она была прекрасна.
— Шлюха? — спросил он, больше чтоб вообще что-нибудь сказать, и тут же смутился, едва успев произнести, сразу почувствовал всю грязь своего вопроса.
— Нет, — сказал Ник за его спиной, скучающе глядя в окно сквозь шторы на лежащий далеко внизу город, — иначе разве мы могли бы потребовать пятьсот тысяч.
— Пошли к клиенту, — сказал Смити устало.
В небольшом салоне, служившем, очевидно, холлом, как пытался сориентироваться Смити, опять смущаясь от великосветского антуража, всей этой мебели, картин, стоял Лысый. По-видимому, дворецкий, мелькнуло в голове у Смити, испытавшего удовлетворение от своей догадки, его всегда радовало, когда ему удавалось хоть как-то разобраться в запутанной ситуации.
— Он спит? — спросил Ник.
— Врач… — попытался объяснить Лысый.
— Зовите его сюда, — сказал Ник, открыл дверь, расположенную напротив той, что вела в спальню с трупом, толкнул ее и прошел вовнутрь.
Смити последовал за ним. Просторное помещение, возле окон возвышение, письменный стол.
Ник бесцеремонно плюхнулся в огромное кресло.
— Садись, Смити, — сказал он, указав ему на другое.
Смити сел, ему было неприятно, что он не побрился.
— Врач… — начал было опять Лысый.
— Возникли трудности, — перебил его Ник.
— Слушаюсь, — сказал Лысый и открыл дверь позади письменного стола.
— Ну, Смити, — сказал Ник, — пробил твой звездный час.
— У кого мы находимся? — спросил Смити.
Ник потянулся в огромном кресле, обмяк в нем, положил ноги на кожаный пуфик, приставил растопыренные пятерни друг к другу, упершись большими пальцами себе в грудь, помассировал кончиками указательных нос и посмотрел на Смити с явным любопытством.
— Газеты читать, как видно, занятие не для тебя? — спросил он.
— Не для меня, — ответил Смити.
— Ни бельмеса в политике?
Он интересуется только хоккеем, парировал Смити.
Ник помолчал, потом сказал, что для хоккея сейчас не самое подходящее время года. Он вообще ненавидит лето, сказал Смити и тоже положил перед собой ноги на кожаный пуфик.
— Чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, — произнес Ник.
— Ну и что? — спросил Смити.
— А ничего, — сказал Ник и опять замолчал.
Дверь позади письменного стола открылась, Смити тотчас же узнал этого человека, то есть он, конечно, не знал, кто был этот человек, но он его уже не раз видел по телевизору. Смити стал соображать, но так и не вспомнил, во всяком случае, этот человек в элегантной пижаме кто-то из Европы — или глава государства, или премьер-министр, или министр иностранных дел, или еще кто-то очень важный, невероятно известная личность, он только скользнул по Смити взглядом, будто Смити пустое место, так же равнодушно, как смотрела на него этой ночью та женщина, но только без всякого внимания к нему, вообще никак, таким взглядом, который мгновенно привел Смити в бешенство, хотя объяснить почему он вряд ли бы смог, и тогда он тоже прижал друг к другу растопыренные пальцы и принял позу, в какой сидел в огромном кресле Ник, принявший ее еще до того, как перед ними появился этот человек, излучавший такое спокойствие и величие духа, словно был самим Господом Богом, а Смити для него всего лишь букашкой или и того меньше, потому что букашкой Смити был уже для Ника, но Смити просто не представлял себе, что еще бывает меньше букашки и чем он мог бы быть для самого Господа Бога, перед которым предстал.
— Трудности? — спросил Отче наш, сущий на небесах, обращаясь к Нику, и тот поднялся.
— Трудности, да, человек тут создает трудности.
— Вот этот? — спросил о-Господин-наш, о-наш-Бог в роскошной пижаме цвета бордо, не удостоив Смити даже повторным взглядом.
— Вот этот, — сказал Ник, засунув руки в карманы брюк.
— Чего он хочет? — спросил Бог Саваоф.
Смити невольно запомнил все имена Господа Бога, их так любил цитировать Холи, и все они вдруг всплыли у него в памяти, так что ему даже пришлось подавить в себе желание спросить Господа Бога, не знает ли тот датского языка.
— Не знаю, — сказал Ник.
Владыка наш на небе и на земле сел за свой письменный стол, поиграл золотой шариковой ручкой.
— Ну? — спросил он.
— Чей труп? — спросил Смити.
Яхве молчал, продолжая играть золотой ручкой, потом удивленно взглянул на Ника, стоявшего за спинкой кресла, в котором он только что сидел. Ник повернулся к Смити, пораженный его вопросом, но потом вдруг заухмылялся, словно до него что-то дошло.
— Вашей дочери? — спросил Смити.
Бог Саваоф положил золотую шариковую ручку назад на стол, достал из зеленой коробочки туго набитую приплюснутую сигарету, прикурил от золотой зажигалки.
— К чему эти вопросы? — произнес он, все еще не удостаивая Смити взглядом.
— Мне надо знать, желаю я или нет, чтоб этот труп исчез, — сказал Смити.
— Назовите вашу цену, тогда и узнаете, — ответил Иегова скучающим голосом.
Смити упорствовал. Он только тогда сможет назвать цену, когда будет знать, чей труп, настаивал он на своем, к великому удовольствию Ника, как чувствовал Смити, и тут Господь всемогущий впервые по-настоящему взглянул на него, обратил серьезное внимание, рассердился на мгновение, даже разгневался, словно хотел в следующий миг испепелить Смити взглядом, но, так как он не был Богом, а всего лишь, как и Смити, человеком, пусть неизмеримо более важным, в общественном и историческом смысле и по части образования, финансового состояния и всего такого прочего, гнев на этом знаменитом, может, слегка одутловатом лице, принадлежащем худощавому представителю мировой истории, сидящему тут вот за письменным столом в пижаме цвета бордо, задержался только на секунду, точнее, виден был лишь какую-то долю секунды, еще точнее, лишь угадывался на нем, а потом тот улыбнулся Смити почти приветливо:
— Труп моей жены.
Смити изучал красное одутловатое лицо знаменитой личности в пижаме цвета бордо и все никак не мог вспомнить, президентом какой страны, или там премьер-министром, или министром иностранных дел он был, или канцлером, или вице-канцлером, или как там еще называется его бизнес, если он вообще был политиком, а не известным промышленником, или банкиром, или, может, всего лишь актером, игравшим в одном из фильмов президента или министра иностранных дел, почему он теперь и путал его с ними, но Смити вдруг все это стало совершенно безразличным, тот, что за письменным столом, был мужем той женщины, с которой Смити спал всего лишь за час до рассвета, уже сгустившегося опять там, за большими окнами, в слепящее раскаленное марево, окунуться в которое будет дьявольски трудно, еще труднее, чем накануне.
— Кто ее убил? — спросил Смити машинально.
— Я, — ответил невозмутимо-спокойно человек за письменным столом.
— За что? — спросил Смити.
Тот, за письменным столом, молча курил.
— Похоже, вы допрашиваете меня, — констатировал он.
— Мне надо принять решение, — сказал Смити.
Тип в пижаме цвета бордо бросил сигарету в круглую майоликовую пепельницу, открыл зеленую коробку, закурил новую сигарету, проделав все неторопливо, без тени замешательства, погруженный в свои мысли, потом повернулся к Смити.
— Я потерял самообладание, — сказал он, улыбнулся и замолчал, рассматривая Смити с возрастающим любопытством. — Моя жена, — продолжил он, тщательно выбирая каждое слово, на своем английском, как в школьных учебниках, который Смити знал только по английским фильмам, хотя, конечно, может, то был вовсе и не язык учебников английского, а скорее английский с густой окраской какого-то европейского языка, однако по сравнению с тем английским, на каком разговаривал Смити, он звучал как классическая английская речь, что для Смити стало вдруг абсолютно ясно, и он сам не знал, почему его это так злило. — Моя жена ушла отсюда два дня назад. За это время она спала без разбору со многими мужчинами, сказала она, вернувшись сегодня утром в отель. Вскоре после четырех. Или около половины пятого.
Тип за письменным столом наблюдал за Смити забавляясь, а Смити думал, что, собственно, он мог бы представить себе Холи таким же благородным, как и этот тип тут, за письменным столом, а таких рож, как у этого, в пижаме цвета бордо, — красных и опухших — хоть пруд пруди.
— Вот почему вы задушили свою жену, — произнес Смити, — Но у нее должна была быть какая-то причина, чтобы уйти отсюда.
Тип за письменным столом улыбнулся.
— Она просто хотела позлить меня, — сказал он, — И ей это удалось. Я разозлился. Впервые в моей жизни.
Рожа за письменным столом казалась Смити отвратительной.
— Впервые в моей жизни, — повторил он, зевнул и спросил: — Сколько?
— Пятьсот тысяч, сказал он мне, — ответил Ник вместо Смити. — Не соглашайтесь на это, свинство какое, я прикажу арестовать негодяя.
— Прекрасно, — произнесла подлая крыса из-за письменного стола, — пятьсот тысяч.
— Ну, если такова ваша воля, — обрадовался Ник, — тогда я бессилен.
— Нет, — сказал Смити.
— Миллион, — улыбнулся вонючий клоп в пижаме цвета бордо, Ник пожирал их глазами, обалдевший и сияющий от счастья.
— Ваша жена исчезнет даром, — сказал Смити вонючему клопу за письменным столом, не очень хорошо соображая, что он такое говорит, он думал в этот момент о мертвой, тут, за несколькими стенами, в восьми, девяти, десяти метрах от него, распростертой на белоснежных простынях в кровати с балдахином. Он думал о ее красоте и о ее мертвых глазах, уставившихся прямо на него, и тогда он сказал вставая:
— От вас я не приму ни гроша!
Он покинул большую комнату, апартаменты «люкс», бегло оглянулся в зале с зеленым ковром на полу, швейцарец с комичным платочком в нагрудном кармашке подошел к нему, проводил его до грузового лифта. Смити спустился вниз, в дверях у служебного входа все еще стоял Кавер, вытер со лба пот.
— Пусть Ник присылает мне товар, — сказал Смити, выходя из отеля и погружаясь в немилосердное пекло, образовавшее затор в каменном колодце городских улиц, но сейчас Смити все было безразлично — и беспощадное солнце над гигантским городом, и сам город-гигант, и люди, двигавшиеся по нему, и пар, валивший из-под канализационных крышек на мостовой, и медленно ползущие, изрыгающие вонь колонны машин, он шел и шел, по Пятой ли авеню, через Мэдисон-сквер или по Лексингтон-авеню, по Третьей, Второй или Первой авеню, он не разбирал, он просто шел, выпил где-то пива, поел в какой-то грязной закусочной, не зная что, долго сидел в парке на скамейке, как долго, он не знал, рядом с ним сидела сначала молодая женщина, потом старая, а потом ему показалось, что кто-то рядом с ним читает газету, ему все было безразлично, он думал только о мертвой, о том, как она ранним утром вошла в «Каберн», скользнув легкой тенью мимо слуг, как он смотрел на нее в зеркале заднего вида в «кадиллаке», как она стояла наверху, в дверях «анатомички», прислонившись левым плечом к притолоке, как лежала голая на матраце у Лейбница, как отдалась ему, как смотрела на него в лифте и как он ничего тогда не понял. Его охватила безумная нежность к ней и бешеная гордость за себя, он, Смити, оказался достоин ее, он тоже дал прикурить этому паршивому богу за письменным столом, показал ему не хуже, чем она ему показала; а потом вдруг настала ночь, зажглись уличные огни, и, возможно, эта ночь была еще более душной, чем сутки назад, и адски невыносимой, как и весь сегодняшний день, уже поглощенный ночью, окружавшей его теперь, но он ничего не замечал. Он жил, не ведая как, весь мыслями с женщиной, о которой ничего не знал: ни ее фамилии, ни имени, ничего, собственно, кроме только одного, как прекрасна она была мертвой, а до того он ее любил, и, когда он вошел в «анатомичку» Лейбница, все уже было кончено, только платье мертвой висело перекинутым через спинку стула, аккуратно сложенное, как это всегда было в привычках Лейбница. Смити взял платье. Он поехал на лифте в комнату Лейбница, но Лейбница и там не было. Он, вероятно, вышел, хотя никогда раньше не делал так в это время суток, но Смити уже в лифте знал, что найдет затхлую темную и грязную дыру пустой. Смити оставил дверь на лестничную площадку открытой, свет от лифта падал на него, он сел на матрац, прислонившись спиной к стене, на коленях у него лежало платье женщины, она была мертва, он любил ее на этом матраце, хотя не мог об этом вспомнить, в квадрате окна забрезжил неясный свет, лифт пошел вниз, остался только слабый свет в окне, Смити ничего не воспринимал, кроме материи платья, по которой скользили его руки, невесомая тряпка, и ничего больше. Лифт вдруг вернулся на этаж, какая-то тень просунулась между полоской света и Смити, заполнила дверной проем, в комнате вдруг резко вспыхнул невыносимо яркий свет, ван дер Зеелен зажег его, за ван дер Зееленом стоял Сэм. Смити прикрыл веки, свет слепил его, а руки все гладили платье.
— Ты загубил дело всей своей жизни, — сказал ван дер Зеелен даже как-то не очень сердито, скорее удивленно.
Смити ответил гордо:
— Дело Ника.
После чего ван дер Зеелен отошел в сторону, Сэм что-то держал в руке, но это «что-то» больше не производило на Смити никакого впечатления, он не боялся того, что должен был сделать Сэм, и, когда Сэм сделал это, ван дер Зеелен сказал, стоя в лифте и теперь уже с явным раздражением:
— Жаль моих процентов.
Смерть пифии
Дельфийская жрица Панихия XI, длинная и тощая, как и почти все ее предшественницы, раздраженная глупыми выходками собственных пророчеств и легковерием греков, внимала юному Эдипу: еще один из тех, кто хотел знать, являются ли его родители на самом деле его родителями, как будто так просто разобраться с этим в аристократических кругах; ну действительно, ведь были супружницы, уверявшие, что совокуплялись с самим Зевсом, и даже мужья, верившие им. Правда, пифия в подобных случаях отвечала очень просто — и да и нет, поскольку вопрошавшие и без нее сомневались, но сегодня все казалось ей ужасно глупым, может, потому, что бледный юноша приковылял после пяти, собственно, ей пора было уже закрывать святилище, и тут она в сердцах напредсказала ему такого — отчасти чтобы излечить юношу от слепой веры в могущество прорицаний, а отчасти потому, что ей в ее дурном настроении взбрело в голову позлить чванливого коринфского принца, и она выдала ему самое бессмысленное и невероятное пророчество, на какое только была способна и в несбыточности которого была абсолютно уверена; ну кто, думала Панихия, в состоянии убить отца и лечь в постель с собственной матерью, ведь напичканные кровосмешением истории богов и полубогов она всегда считала пустыми выдумками. Правда, неприятное ощущение слегка закралось ей в душу, когда нескладный юноша, услышав ее пророчество, побледнел, она заметила это, хотя треножник ее был окутан клубами испарений; молодой человек поистине был чрезмерно наивен и доверчив. И когда он потом медленно покинул святилище и, оплатив прорицание верховному жрецу Меропсу XXVII, лично взимавшему плату с аристократов, стал удаляться, Панихия еще какое-то время смотрела Эдипу вслед, качая головой: молодой человек не пошел дорогой на Коринф, где жили его родители. Панихия гнала от себя мысль, что, возможно, породила своим вздорным прорицанием очередную беду, и, отгоняя от себя прочь неприятные предчувствия, она выкинула Эдипа из головы.
Состарившись, она однообразно влачила свою жизнь через бесконечно тянувшиеся годы, постоянно грызясь с верховным жрецом, загребавшим благодаря ей баснословные деньги: ее пророчества становились с годами все смелее и вдохновеннее. Она не верила в них, более того, изрекая их, она насмехалась над теми, кто верил в пророчества, но получалось так, что она лишь пробуждала еще более неотвратимую веру в тех, кто верил в них. Так Панихия все предсказывала и предсказывала, об уходе на заслуженный отдых не могло быть и речи. Меропс XXVII был убежден: чем старее и слабоумнее становилась очередная пифия, тем лучше она предсказывала, а идеальной была та, которая стояла на пороге смерти; самые блистательные свои прорицания предшественница Панихии Кробила IV выдала на смертном одре. Панихия решила про себя ничего не предсказывать, когда придет ее смертный час, по крайней мере умереть она хотела достойно, не занимаясь всякой чепухой; уже одно то, что ей на старости лет все еще приходилось заниматься этим фиглярством, было для нее достаточно унизительным. А если к тому же учесть невыносимые рабочие условия? Святилище было сырым, по нему гуляли сквозняки. Снаружи оно выглядело великолепно — чистейший ранний дорический стиль, а внутри — обшарпанная, плохо законопаченная каменная дыра. Единственным утешением Панихии были пары, поднимавшиеся из расселины в скале, над которой стоял ее треножник, они смягчали ее ревматические боли, вызванные сквозняками. Все, что происходило в Греции, давно уже не волновало ее; ей было безразлично, трещит по швам семейный союз Агамемнона или нет, и с кем сейчас спит Елена — тоже наплевать; она прорицала наобум, что в голову взбредет, но, поскольку ей слепо верили, никого не волновало, что предсказания ее сбывались лишь изредка, а когда такое все-таки случалось, то воспринималось как должное — по-другому и быть не могло. Разве был у Геракла, обладавшего силищей быка и не находившего себе достойного противника, иной выход, кроме как подвергнуть себя сожжению на костре, и все только потому, что пифия шепнула ему на ушко, что после такой гибели его ждет бессмертие? А кто же мог проверить, стал он на самом деле бессмертным или нет? А тот факт, что Ясон женился на Медее, вообще уже сам по себе достаточно красноречиво объяснял, почему он в конце концов покончил жизнь самоубийством, ведь, когда он со своей невестой объявился в Дельфах, чтобы слезно вымолить для себя прорицание богов, пифия инстинктивно выпалила с молниеносной быстротой, что лучше ему сразу проткнуть себя мечом, чем жениться на такой фурии. При подобных провидениях ничто уже не могло остановить растущую популярность Дельфийского оракула, включая и его экономический расцвет. Меропс XXVII вынашивал планы колоссальных новостроек — гигантский храм Аполлона, огромный зал Муз, высоченную Змеиную колонну, хранилища для многочисленных сокровищ и даже театр. Теперь он общался только с царями и тиранами, а то, что со временем неприятности стали громоздиться одна на другую и боги, казалось, все халатнее относились к своим обязанностям, давным-давно уже перестало его беспокоить. Меропс хорошо знал своих греков — чем несусветнее тот бред, что несла старуха, тем лучше, пифию ведь так и так уже почти невозможно было стянуть с треножника; закутавшись в черную хламиду, она дремала там, одурманенная парами. Когда святилище закрывалось, она еще сидела некоторое время перед боковым порталом, а потом ковыляла в свою халупу, варила там себе бурду и, не притронувшись к ней, засыпала на ходу. Она ненавидела любую перемену в заведенном ею распорядке текущих дней. Очень неохотно появлялась она иногда в конторе Меропса XXVII, ворча и проклиная все на свете, если верховный жрец вызывал ее, он делал это теперь только в тех крайних случаях, когда один из провидцев затребовывал для своего клиента сформулированное им самим пророчество из уст дельфийской прорицательницы. Панихия ненавидела провидцев. Пусть она сама не верила в прорицания, но она не видела в них ничего дурного, они все были для нее глупостью, вожделенной для людей, а вот пророчества, составленные провидцами, которые она должна была по их заказу произносить, были чем-то совсем иным, они преследовали определенную цель, за ними скрывалась коррупция, если не политика; а что там замешаны и коррупция и политика, она тотчас же подумала в тот летний вечер, как только Меропс, потягиваясь за своим письменным столом, объявил ей в своей елейно-приторной манере, что от провидца Тиресия поступил заказ.
Панихия тут же поднялась, не успев сесть, и заявила, что она не желает иметь никаких дел с Тиресием — она слишком стара и память у нее на тексты уже не та, чтобы заучивать наизусть пророчества и декламировать его рифмы. Всё, она пошла. Минуточку, сказал Меропс и кинулся вслед за Панихией, задержав ее в дверях, минуточку, вовсе не стоит так волноваться, и ему этот слепой порядком надоел, он тоже знает, что Тиресий — величайший в Греции интриган и политикан и, клянусь Аполлоном, продажен до мозга костей, но, однако же, он лучше всех платит, а то, что он просит, не лишено смысла — в Фивах опять гуляет моровая язва. Она там без конца гуляет, проворчала Панихия, если принять во внимание антисанитарную обстановку вокруг крепости Кадмеи, то и ничего удивительного, что болезнь в Фивах, так сказать, эндемична, то есть не переводится. Именно так, поспешил заверить Панихию XI Меропс XXVII, Фивы — жуткое место, грязная клоака во всех отношениях, не случайно ведь ходит легенда, что даже могучие орлы Зевса с трудом перелетают Фивы, потому что махают только одним крылом, а другим зажимают ноздри, чтоб не дышать, а уж обстановочка при царском дворе — не приведи Господи. Тиресий предлагает дать ответ его клиенту, он зайдет к нам завтра, что болезнь исчезнет тогда, когда будет найден убийца фиванского царя Лая. Панихия удивилась банальности прорицания, Тиресий, по-видимому, страдает старческим слабоумием. Только ради проформы она еще спросила, когда же было совершено убийство. Да когда-то, несколько десятилетий назад, не имеет значения, найдут убийцу, хорошо, разглагольствовал Меропс, не найдут, тоже неплохо, болезнь так и так пройдет сама по себе, а жители Фив будут верить, что боги, во имя помощи им, жестоко покарали убийцу где-то там, в его уединении, где он сокрылся от их глаз, и тем самым собственноручно восстановили справедливость. Пифия, радуясь, что вот-вот снова очутится в теплых парах, фыркнула только да спросила, а как зовут клиента Тиресия.
— Креонт, — ответил Меропс XXVII.
— В жизни не слыхала, — сказала Панихия.
Он тоже нет, поддакнул ей Меропс.
— А кто царем в Фивах? — спросила опять пифия.
— Эдип, — ответил Меропс XXVII.
— Тоже не знаю, — произнесла Панихия XI, она на самом деле забыла Эдипа.
— И я нет, — опять поддакнул Меропс, довольный, что сейчас избавится от старухи, и протянул ей записку с искусно составленным Тиресием текстом пророчества.
— Ямбы, — вздохнула пифия уходя, бросив мельком взгляд на записку, — ну конечно, со стихоплетством он никак не может расстаться.
И когда на другой день, незадолго перед закрытием святилища, пифия, сидя на треножнике и блаженно раскачиваясь, укутанная в клубы паров, услышала робкий, набожно-смиренный голос некоего Креонта из Фив, она выдала ему заученное наизусть пророчество, правда, не так бойко, как прежде, в одном месте ей даже пришлось начать сначала:
— Не мудрствуя велит тебе прекрасный Аполлон изгнать убийцу, забвенью не предав кровь пролитую… Не мудрствуя велит тебе прекрасный Аполлон изгнать убийцу, забвенью не предав кровь пролитую, сбирающую в землях сих обильно дань: изгнать его, иль пусть он кровью кровь искупит. Кровь запятнала эту землю. За Лая смерть приказывает Феб отмстить царя убийцам. Таков его ответ.
Пифия умолкла, довольная, что справилась с текстом, размер стиха оказался не так уж прост, она вдруг очень возгордилась собой, а о том, что она запнулась в одном месте, она уже и думать забыла. Фиванец — как его там звали? — давным-давно ушел, и Панихия опять задремала.
Иногда она покидала стены святилища. Взору ее открывалась огромная строительная площадка — храм Аполлона, внизу под ней виднелись три колонны зала Муз. Жара стояла невыносимая, а ее знобило. Эти скалы, леса и море — все один обман, ее постоянный сон, но когда-нибудь и он кончится, и ничего от всего этого не останется, она знала, все выдумка и ложь, и она, пифия, тоже, ее выдавали за жрицу Аполлона, хотя она на самом деле всего лишь обманщица, изрекающая в зависимости от своих капризов безумные пророчества. И вот она наконец состарилась, стала стара как пень, превратилась в древнюю-предревнюю старуху, не помнит даже, сколько ей лет. Рядовые пророчества делает теперь ее преемница, пифия Гликера V; Панихии осточертели эти вечные испарения, ну, время от времени еще куда ни шло, может, разок в неделю, она взбиралась для платежеспособного наследного принца или самого тирана на треножник и произносила свои бессвязные слова, к чему даже Меропс относился с пониманием.
И вот как-то раз сидит она, блаженствуя на солнышке, погрузившись в себя и закрыв глаза, чтоб не глядеть на китч вокруг, во что превратился дельфийский ландшафт, прислонившись к стене святилища у бокового его портала, напротив наполовину уже возведенной Змеиной колонны, и чувствует вдруг, что перед ней что-то стоит, и, пожалуй, уже несколько часов, что-то такое, что имеет непосредственное касательство к ней и тревожит ее в ее оцепенении, и, когда она открыла глаза, не сразу, медля еще, у нее было такое ощущение, что ей вначале придется освоиться, прежде чем она сможет смотреть на свет, но, как только она стала различать предметы, она сразу увидела странную, невероятных объемов фигуру, опиравшуюся на другое не менее странное существо, и, пока Панихия XI всматривалась в них попристальнее, обе чудовищные фигуры съежились до нормальных человеческих размеров, и она узнала в них нищего в тряпье и лохмотьях, опиравшегося на маленькую ободранную нищенку. Нищенка оказалась молодой девушкой. А сам нищий таращился на Панихию в упор, но глаз у него не было, на их месте — две дыры, залитые черной запекшейся кровью.
— Я — Эдип, — сказал нищий.
— Не знаю тебя, — ответила пифия и заморгала, взглянув на солнце, медлившее с закатом над ослепительно синим морем.
— Ты мне предсказывала, — прохрипел нищий.
— Возможно, — сказала Панихия XI, — я предсказывала тысячам таких, как ты.
— Твое пророчество сбылось. Я убил своего отца Лая и женился на своей матери Иокасте.
Панихия XI стала рассматривать нищего, потом девушку в лохмотьях, с удивлением обдумывая, что все это могло бы значить, так еще ничего и не припоминая.
— Иокаста повесилась, — тихо сказал Эдип.
— Кто? — переспросила Панихия.
— Моя жена и мать, — ответил Эдип.
— Сочувствую, примите мои соболезнования.
— И тогда я выколол сам себе глаза.
— Так, так. — И тут пифия показала на девушку. — А это кто? — спросила она не столько из любопытства, сколько лишь чтоб что-нибудь сказать.
— Моя дочь Антигона, — ответил ослепивший себя, — или моя сестра, — добавил он смущенно и рассказал запутанную историю.
Пифия, широко раскрыв глаза, слушала лишь вполуха, уставившись на стоящего перед ней нищего, опиравшегося на свою дочь и сестру в одном лице, а за ними вдали виднелись скалы и леса, внизу шло начатое строительство театра, нестерпимо синело море, и над всем этим висело стальное небо, слепящая бездна пустоты, куда люди, чтобы не потерять рассудка, чего только не проецировали — и богов, и свои судьбы, и, когда пифии открылась эта взаимосвязь, она мгновенно вспомнила, как хотела, предсказывая Эдипу, всего лишь чудовищно созорничать, чтобы навсегда отбить у него охоту верить в прорицания, и тут Панихия XI неудержимо расхохоталась, смех ее становился все громче и неуемнее, и она все еще смеялась, хотя нищий, ковыляя, давно уже удалился отсюда прочь вместе со своей дочерью Антигоной. Пифия умолкла так же неожиданно, как и рассмеялась, — все это не могло быть чистой случайностью, промелькнуло вдруг у нее в голове.
Солнце село за стройплощадкой храма Аполлона — пошлое и безвкусное, как испокон веков; пифия ненавидела солнце, надо бы как-нибудь разобраться с ним, подумала она, все эти сказки про его золотую колесницу и крылатых коней просто смехотворны, она готова поспорить — ничего там нет, кроме массы вонючих огненных газов. Панихия направилась в архив, она хромала. Как Эдип, мелькнуло у нее в голове. Она полистала книгу пророчеств, поискала в ней, здесь были записаны все выданные в святилище Аполлона прорицания. Она наткнулась на одно из них, провозглашенное некоему Лаю, царю Фив: сын как будет у него, примет он смерть от руки его.
«Ужасающее пророчество, — подумала пифия, — не иначе как моя предшественница Кробила IV стоит за ним». Панихия знала о ее готовности уступать пожеланиям верховных жрецов. Она порылась в бухгалтерии и нашла квитанцию на пять тысяч талантов, уплаченных Менекеем, потомком древнего рода спартов, тестем фиванского царя Лая, с краткой припиской: «За прорицание по поводу сына Лая, составленное Тиресием». Пифия закрыла глаза, самое лучшее на свете быть слепым, как Эдип. Она сидела в архиве за письменным столом и размышляла. Одно ей стало ясно: если ее сбывшееся пророчество — гротесковая случайность, то Кробила IV предсказала так когда-то, чтобы помешать Лаю произвести на свет сына, а тем самым и наследника, шурин Креонт должен был стать после него царем. Первое пророчество, побудившее Лая выключить Эдипа из игры, родилось вследствие коррупции, второе произошло по воле случая, а третье, приведшее к расследованию этого дела, опять было сформулировано Тиресием: чтобы посадить Креонта на трон в Фивах. «Я уверена, что он там сейчас и сидит, — подумала она. — В угоду Меропсу, чтобы только от него отделаться, я произнесла новое пророчество Тиресия, — бормотала взбешенная Панихия, — да еще вдобавок составленное в бездарных ямбах, я еще хуже Кробилы IV, та хотя бы предсказывала только в прозе».
Она поднялась из-за стола и покинула заросший пылью архив — так давно никто не заходил сюда и не рылся в нем, да и кому теперь до него дело: в Дельфийском оракуле царили неряшливость и халтура. Правда, архив тоже будут перестраивать — на месте старой каменной развалюхи поднимется помпезное сооружение, уже запланировали канцелярию архива со штатом жрецов, чтобы заменить стихийную халтуру четко организованной.
Пифия смотрела на стройплощадку в сумраке ночи — кругом валялись тесаные каменные глыбы и колонны, ей казалось, что перед ней руины; когда-нибудь так и будет: одни лишь руины. Небо слилось с морем и скалами, на западе над грядой черных облаков ярко горела красным светом звезда, зловещая и таинственная. Пифии казалось, будто оттуда, сверху, ей грозит Тиресий, тот самый, что вечно навязывал ей свои стратегические пророчества, которыми он, провидец, так гордился, хотя они были такой же глупостью, как и ее собственные прорицания, тот Тиресий, что был еще старее ее и жил уже тогда, когда пифией была Кробила IV, а до Кробилы — Мелита, а до той — Бакхия. И вдруг, пока она, ковыляя, шла по огромной стройплощадке храма Аполлона, ее как током ударило: пришел ее смертный час, да по правде уж и давно пора. Она швырнула палкой в недостроенную Змеиную колонну — еще один китч вместо порядочного монумента — и пошла не хромая. Она переступила порог святилища: смерть — торжественный акт. Она была заинтригована, как это произойдет: предстоящее любопытное событие целиком завладело ею. Она оставила главный вход открытым, уселась на треножник и стала ждать смерти. Испарения, поднимавшиеся из расселины в скале, окутывали ее слегка красноватыми клубами, и сквозь их туман она видела светло-серую ночь, пучками света проникавшую в святилище через главный портал. Она чувствовала приближение смерти, любопытство ее росло.
Сначала появилась мрачная приплюснутая физиономия землистого цвета, с темными волосами, низким лбом и тупым взглядом. Панихия не взволновалась, должно быть, речь шла о предвозвестнике смерти, но тут вдруг она поняла, что это лицо Менекея, происходившего от древних спартов. Землистое лицо смотрело на нее. Взывало к ней, хотя и безмолвствовало, но так, что пифия без слов понимала потомка спартов.
Он был мелким крестьянином, коренастый такой, поехал потом в Фивы, работал там до седьмого пота, сначала поденщиком, затем десятником, наконец, стройподрядчиком, и, когда ему подкинули заказ на перестройку крепости Кадмеи, он не прозевал своего счастья: боги милостивые, какая крепость получилась! А то, что он обязан таким везением исключительно своей дочери Иокасте, — это все сплетни: конечно, царь Лай взял ее в жены, но Менекей не кто-нибудь, а знатного происхождения, он от спартов — древних воинов, выросших на глинистой фиванской пашне, куда Кадм посеял зубы убитого им дракона. Сначала из земли показались только острия копий, потом гребни шлемов, за ними головы, с ярой ненавистью плевавшие друг в друга; они выросли из земли еще только по грудь, а уже потрясали копьями, и наконец, поднявшись над пашней, где взошли, они набросились друг на друга, как хищники; но прадед Менекея Удей пережил кровавую бойню и спасся от той обломленной скалы, что обрушил Кадм на разивших друг друга мечами и копьями спартов. Менекей верил в древние героические сказания и потому ненавидел Лая, этого чванливого аристократа, ведшего свой род от брака Кадма с Гармонией, дочерью Ареса и Афродиты, ну конечно, там наверняка был сногсшибательный свадебный пир — однако все же задолго до него Кадм убил дракона и засеял поле его зубами, это доподлинно известно; Менекей, спарт, чувствовал свое превосходство над царем Лаем, ведь зачатие рода Менекея более древнее и сопряжено с большими чудесами, Гармония вкупе с Аресом и Афродитой не тянут против них, эка важность, и, когда Лай женился на Иокасте, гордой ясноокой девушке со жгуче-рыжими волосами, в Менекее забрезжила надежда — он или по крайней мере его сын Креонт придут наконец когда-нибудь к власти; тот черноволосый, мрачный, рябой Креонт, от чьего вкрадчивого голоса цепенели раньше рабочие на стройке, а теперь содрогались солдаты, потому что сегодня Креонт — шурин царя, главнокомандующий армией. Лишь дворцовая охрана не подчинялась ему. Но Креонт был до ужаса предан царю, горд своим зятем Лаем, верноподданнически благодарен ему, и к своей сестре он тоже был привязан, всегда брал ее под защиту, несмотря на мерзкие слухи вокруг нее со всех сторон; ждать радикальных действий с его стороны не приходилось. С ума можно было сойти, как хотелось Менекею порою крикнуть Креонту: да взбунтуйся же наконец, стань царем! Но он так ни разу и не решился на такое и уже совсем оставил свои надежды, пока не встретил в корчме Полора — тоже правнука одного из спартов того же имени — Тиресия, огромного, неприступного, ведомого мальчиком слепого провидца. Тиресий, лично знакомый с богами, оценил шансы Креонта на трон без всякого пессимизма: никому не ведомо, каково будет решение богов, зачастую они еще и сами его не знают и иногда пребывают в такой нерешительности, что даже радуются, если от людей поступают кое-какие подсказки — правда, в его, Менекея, случае такая подсказка обойдется ему в пятьдесят тысяч талантов. Менекей ахнул, испугавшись даже не столько баснословной цены, сколько самого факта, что эта гигантская сумма точно соответствовала его огромному состоянию, сколоченному им на строительстве Кадмеи и прочих царских подрядах, хотя Менекей всегда указывал к обложению налогом только пять тысяч, и он заплатил Тиресию.
Перед закрытыми глазами пифии, ритмично раскачивавшейся в сгустившихся клубах паров, возникла высокомерного вида фигура, без сомнения царского обличья, вся такая меланхоличная, светловолосая, холеная, томная. Панихия поняла, что это Лай. Конечно, тиран был удивлен, когда Тиресий передал ему ответ Аполлона: его сын, если Иокаста однажды родит такого, убьет его. Но Лай знал Тиресия, цены заказанного у Тиресия пророчества были неслыханными, только богатые люди могли себе позволить обратиться к услугам Тиресия, большинство же других сами отправлялись в Дельфы, чтобы испросить ответа у пифии, надежность которого, правда, была значительно ниже; если Тиресий вопрошал пифию, то тогда, во что свято верили, сила провидца перекидывалась на пифию, бред, конечно, Лай был просвещенным тираном, вопрос весь в том, кто подкупил Тиресия поспособствовать столь коварному прорицанию, кто-то должен был быть заинтересован в том, чтобы у Лая с Иокастой не было детей, — либо Менекей, либо Креонт, унаследовавший бы трон в случае их бездетного брака. Но Креонт по своей принципиальной тупости оставался преданным ему, его невежество в политических интригах было вопиющим. Значит, Менекей. Тот уже, пожалуй, спал и видел себя отцом царя, Зевс тому свидетель, неплохо он подзаработал на государственной казне, цены, что заламывал Тиресий, далеко превосходили размеры состояния Менекея, обкладываемого налогом. Ну ладно, этот потомок спартов все же его тесть, не стоит и говорить о его махинациях, но швырнуть огромное состояние за одно лишь прорицание, когда его можно было иметь почти за так… К счастью, в Фивах вокруг Кадмеи вспыхнула, как и каждый год, маленькая эпидемия моровой язвы, прибрав к рукам несколько десятков людишек — все больше никчемный народец: философов, рапсодов и прочих сказителей. Лай послал своего секретаря в Дельфы — с определенными предложениями и десятью золотыми: за десять талантов верховный жрец сделает все, потому что одиннадцать он уже обязан был оприходовать в книге. Ответ, доставленный секретарем из Дельф, гласил: болезнь, а она тем временем уже ушла из Фив, утихнет, если один из спартов принесет себя в жертву. Теперь оставалось только дождаться новой вспышки болезни. Полор, хозяин корчмы, заверял всех, что он вообще происходит не от того Полора, никакой он не спарт, все это злые козни. И Менекею, единственному из еще оставшихся в живых спартов, не оставалось ничего другого, как подняться на городскую стену и броситься вниз, но он, собственно, был даже рад принести себя в жертву городу: встреча с Тиресием разорила его, он оказался неплатежеспособным, рабочие ворчали недовольно, поставщик мрамора Капий давно уже прекратил все поставки, и кирпичный завод тоже; восточная часть городской стены была муляжом из дерева, а статуя Кадма на площади Собрания из гипса, выкрашенного бронзовой краской, Менекею так и так при первом же ливне пришлось бы кончать жизнь самоубийством. Он бросился вниз с южной части городской стены и падал, как обмершая ласточка, а акустическим фоном действу было торжественное песнопение хора юных девственниц из благороднейших семейств. Лай сжал руку Иокасты, Креонт отдал честь. А потом Иокаста родила Эдипа, и тут Лай встал в тупик. Само собой, он не верил в прорицание, тем более что оно было абсурдно — якобы он погибнет от руки собственного сына, но, Гермес свидетель, он бы дорого дал, чтобы узнать, действительно ли Эдип его сын, нет, он не отрицает, что что-то мешало ему спать со своей женой, их женитьба так и так была браком по расчету, он обручился с Иокастой, чтобы приблизиться к народу, потому что, Гермес свидетель, Иокаста с ее вольным образом жизни до замужества была очень популярна в народе, полгорода было тесно связано через нее с Лаем; конечно, может, простое суеверие мешало ему спать с Иокастой, однако же, сама идея, что его сын может убить его, действовала на него как-то отрезвляюще, да и, откровенно говоря, Лай вообще не любил женщин, он предпочитал им молоденьких новобранцев, но выходило, что по пьянке он все же переспал с ней разок-другой, так по крайней мере утверждала Иокаста, а сам он точно не помнил, да и потом еще этот проклятый офицер из его охраны — лучше всего, конечно, вывести из игры этого байстрюка, вдруг оказавшегося в царской люльке.
Пифия поплотнее закуталась в свой хитон, снизу вдруг повалили ледяные испарения, она стала мерзнуть и, дрожа от холода, снова увидела перед собой ободранного нищего с запекшейся кровью на лице, но вот кровь в глазницах исчезла, и на нее глянули голубые глаза — одичавшее, все в ссадинах, негреческое лицо; перед нею стоял юноша, как и тогда, когда Панихии захотелось подурачить его и она произнесла свое пророчество, взятое с потолка. «Он уже тогда знал, — подумала она сейчас, — что не был сыном коринфского царя Полиба и жены его Меропы, он обманул меня».
— Конечно, — донесся голос юного Эдипа сквозь пары, все плотнее окутывавшие пифию, — я всегда знал об этом. Рабы и придворные служанки все мне рассказали, да и пастух, нашедший меня на склонах Киферона — беспомощного новорожденного младенца с проколотыми булавкой лодыжками и связанными ногами. Я ведь знал, что именно в таком виде передали меня коринфскому царю Полибу. Не отрицаю, Полиб и Меропа были добры ко мне, но никогда не были до конца честны, они боялись открыть мне правду, потому что у них были свои виды на меня, им хотелось иметь сына, и тогда я отправился в Дельфы. Аполлон был единственной инстанцией, куда я мог обратиться. Я откроюсь тебе, Панихия, я верил Аполлону, я и сегодня все еще верю ему, я не нуждался в посредничестве Тиресия, но я задал Аполлону неискренний вопрос, ведь я же знал, что Полиб мне не отец. Я пришел к Аполлону, чтобы выманить его из его божественного укрытия, и выманил: его прорицание, грозно обрушившееся на меня из твоих уст, было поистине ужасающим, какой, пожалуй, и бывает всегда правда, и так же ужасно оно и исполнилось. Уходя тогда от тебя, я рассуждал так: если Полиб и Меропа мне не родители, то, согласно пророчеству, ими будут те, с кем оно сбудется. И когда в том месте, где сходились пути, я убил вздорного честолюбивого старца, я понял — еще прежде, чем убил, — что он мой отец, а кого же еще я мог убить, как не своего отца, ведь кроме него я убил еще только одного, и это произошло позднее, какого-то нестоящего офицера дворцовой охраны, я даже имени его не запомнил.
— Нет, ты еще кое-кого убил, — бросила реплику пифия.
— Кого же? — удивился Эдип.
— Сфинкс, — ответила Панихия.
Эдип помолчал немного, будто вспоминая, и улыбнулся.
— Сфинкс, — сказал Эдип, — была чудовищем с лицом и грудью женщины, телом льва, змеей вместо хвоста и крыльями орла, она задавала всем дурацкую загадку. Сфинкс кинулась с горы Фикион и разбилась насмерть, а я женился в Фивах на Иокасте. Знаешь, Панихия, я должен тебе кое-что сказать, ты скоро умрешь и потому можешь все узнать: больше всего на свете я ненавидел своих родителей, ведь они хотели бросить меня на растерзание диким зверям. Я только не знал, кто они, и вот пророчество Аполлона принесло мне избавление от мук — встретив в тесном ущелье между Дельфами и Даулем Лая, я в неистовом бешенстве, охватившем меня, скинул его с колесницы и, увидев, что он запутался в поводьях, хлестнул коней, те понеслись, волоча моего родителя по пыли, а когда замолкли его предсмертные хрипы, я увидал в придорожной канаве его возницу, пронзенного ударом моего посоха «Как звали твоего господина? — спросил я его. Он уставился на меня и молчал «Ну?! — прикрикнул я на него. Он произнес его имя: я отправил на погибель царя Фив, а потом, когда я в нетерпении спросил про фиванскую царицу, он вымолвил и ее имя. Он назвал мне имена моих родителей. Свидетелей оставаться не могло. Я вытащил свой посох из его раны и поразил его еще одним ударом. Возница испустил дух. И пока я вытаскивал свой посох из его мертвого тела, я заметил, что на меня смотрит Лай. Он все еще был жив. Я молча пронзил его. Я хотел стать царем Фив, и боги желали того же, и с триумфом возлег я на свою мать, и еще и еще раз, со злорадством зачал я в ее чреве четверых детей, потому что на то была воля богов, тех богов, которых я ненавижу еще больше, чем моих родителей, и каждый раз, когда я ложился на свою мать, я ненавидел ее пуще прежнего. Боги приняли чудовищное решение, и оно должно было осуществиться, а когда Креонт возвратился из Дельф с ответом Аполлона, что болезнь в Фивах утихнет, как только будет найден убийца Лая, я наконец понял коварство богов, замысливших столь чудовищную по жестокости судьбу, понял, кого они хотели затравить себе на потеху — меня, того, кто выполнил их волю. И с тем же триумфом я сам провел против себя расследование, уличившее меня в убийстве, с триумфом нашел в покоях повесившуюся Иокасту и с триумфом выколол себе глаза — ведь боги подарили мне величайшее из всех, какие только могут быть, мыслимых прав: сверхвысшую свободу ненавидеть тех, кто производит нас на свет, — родителей, предков произведших на свет моих родителей, а через них и богов, породивших и предков, и родителей, и теперь я брожу по Греции слепым и нищим вовсе не для того, чтобы славить всемогущество богов, а лишь для того, чтобы подвергать их хуле и осмеянию.
Панихия сидела на треножнике. Она ничего больше не чувствовала. «Может, я уже мертва», — подумала она, и только очень постепенно до ее сознания дошло, что в клубах испарений перед ней стояла женщина, светлоокая, с буйными рыжими волосами.
— Я Иокаста, — сказала женщина, — я все знала сразу после брачной ночи, Эдип рассказал мне свою жизнь. Он ведь был так доверчив и искренен и, клянусь Аполлоном, так наивен и горд тем, что смог избежать веления богов, не возвратившись в Коринф, и не убив Полиба, и не женившись на Меропе, которых он все еще принимал за своих родителей, как будто так просто ускользнуть от воли богов. Я еще раньше подозревала, что он мой сын, уже в первую ночь, едва он только вошел в Фивы. Я даже еще не знала, что Лай мертв. Я узнала его по рубцам у него на лодыжках, когда он голый лежал подле меня, но я ничего ему не открыла, да и зачем, мужчины всегда такие чувствительные, и именно поэтому я не сказала ему также, что Лай вовсе не его отец, как он, конечно, до сих пор думает. Его отцом был дворцовый офицер Мнесип, совершенно пустоголовый болтун с удивительными способностями в той области, где много говорить не требуется. Того, что он напал на Эдипа в моей спальне, когда мой сын, а впоследствии и супруг впервые посетил меня, коротко и почтительно поздоровавшись со мной и тут же поднявшись ко мне в постель, — по-видимому, избежать того нападения было нельзя. Очевидно, он хотел защитить честь Лая, именно он, Мнесип, который сам-то не очень считался с его честью. Я только успела вложить в руку Эдипа меч, последовал короткий бой, но Мнесип никогда не умел хорошо драться. Эдип приказал выбросить его труп на поругание коршунам, не из жестокости, нет, просто Мнесип катастрофически плохо провел бой, исходя из судейских оценок спортивных состязаний. Ну да, они были ниже всякой критики, спортсмены ведь строгий народ. И вот, поскольку я не осмелилась открыться Эдипу, чтобы не противиться воле богов, я не могла помешать ему и жениться на мне, охваченная ужасом, что твое пророчество, Панихия, исполнилось, и что оказалась бессильна как-либо воспрепятствовать ему: сын ложится в постель к собственной матери, Панихия, я думала, что лишусь чувств от ужаса, а я лишилась их от сладострастия, никогда не испытывала я большего наслаждения, чем отдаваясь ему. Из моего чрева появился на свет прекрасный Полиник, рыжая, как я, Антигона, нежная Йемена и герой Этеокл. Отдаваясь по воле богов Эдипу, я мстила Лаю за то, что он велел отдать моего сына на растерзание диким зверям и я годами лила горькие слезы, оплакивая моего сына, и поэтому каждый раз, когда Эдип заключал меня в объятия, я была едина с решением богов, пожелавших, чтобы я отдалась насильнику сыну и принесла себя в жертву. Клянусь Зевсом, Панихия, я принадлежала бесчисленному количеству мужчин, но любила одного Эдипа, которого боги определили мне в мужья, чтобы я, единственная из смертных женщин, подчинилась не чужому, а рожденному мною мужчине: себе самой. Мой триумф в том, что он меня любил, не ведая, что я его мать, и то, что самое противоестественное стало самым естественным, составило мое счастье, предопределенное мне богами. В их честь я и повесилась — то есть, собственно, я повесилась не сама, это сделал преемник Мнесипа, первый офицер из дворцовой охраны Эдипа Молорх. Когда он прослышал, что я мать Эдипа, он в бешенстве от ревности ко второму офицеру дворцовой охраны Мериону ворвался в мою спальню и с криком: горе тебе, кровосмесительница! — вздернул меня на дверной перекладине. Все думают, я повесилась сама. И Эдип так думает, и, раз он по велению богов любил меня больше, чем собственную жизнь, он и ослепил себя. Настолько сильна его любовь ко мне — его матери и жене в одном лице. Хотя Молорх, может, приревновал меня вовсе и не к Мериону, а к третьему офицеру дворцовой охраны Мелонфу — забавно, имена всех моих дворцовых офицеров начинаются по велению богов на М, — но это вот уж действительно не имеет никакого значения, главное, я думаю, что по велению богов я сумела устроить так, чтоб жизнь моя кончилась в радости. Во славу Эдипу, моему сыну и супругу, Эдипу, которого я любила по велению богов сильнее, чем всех остальных мужчин, и во хвалу Аполлону, возвестившему твоими устами, Панихия, чистую правду.
— Ах ты шлюха! — закричала хриплым голосом Панихия. — Потаскуха этакая! Ты с твоим велением богов… Какая там еще чистая правда моими устами? Все пророчество было сплошным обманом!
Но крика не получилось, раздался лишь хриплый шепот, а из расщелины поднялась огромная тень, перед пифией встала стена, не пропускавшая слабый свет сизой ночи.
— Знаешь, кто я? — спросила тень, когда на ней проступило лицо с серыми глазами и холодным льдистым взглядом.
— Ты Тиресий, — ответила пифия, она ждала его.
— Ты знаешь, зачем я явился тебе, — сказал Тиресий, — хотя и чувствую себя довольно неуютно в этих испарениях, я ведь не страдаю ревматизмом.
— Я знаю, — сказала пифия с облегчением, болтовня Иокасты окончательно отравила ей жизнь. — Я знаю, ты пришел, потому что я должна сейчас умереть. Я это уже давно поняла. Задолго до того, как начали подниматься тени — Менекей, Лай, Эдип, потаскуха Иокаста и вот теперь ты. Спускайся вниз, Тиресий, я устала.
— И я сейчас тоже умру, Панихия, — сказала тень, — нас обоих не станет в один и тот же момент. Я только что, приняв свое подлинное обличье, напился, разгоряченный, из холодного источника Тельфусы.
— Я ненавижу тебя, — прошипела пифия.
— Перестань злиться, — засмеялся Тиресий, — давай помиримся и спустимся вместе в аид. — И тут вдруг Панихия заметила, что огромный, древний-предревний провидец вовсе не был слепым, его светло-серые глаза подмигнули ей. — Панихия, — молвил он отеческим голосом, — лишь одно неведение того, что ждет нас в будущем, заставляет нас примириться с настоящим. Меня всегда безмерно удивляло, как падки люди до того, чтобы узнать свое будущее. Казалось, они готовы предпочесть своему счастью несчастье, лишь бы только знать, что их ждет. Ну хорошо, мы жили за счет этой навязчивой зависимости людей от судьбы, я, признаюсь, гораздо лучше, чем ты, хотя разыгрывать из себя в течение семи жизней, подаренных мне богами, слепого было вовсе не так легко. Но людям вынь да положь слепого провидца, а разочаровывать своих клиентов не дело. Что же касается первого заказанного мною в Дельфах пророчества, связанного с судьбой Лая и так разгневавшего тебя, то не суди слишком строго Провидцу тоже нужны деньги, мнимая слепота чего-то стоит, мальчику, водившему меня, ведь нужно было платить и каждый год менять его, потому что он непременно должен был оставаться семилетним, а спецслужба, а доверенные люди по всей Греции, и тут приходит этот Менекей… Знаю, знаю, ты нашла в архиве квитанцию только на пять тысяч талантов, уплаченных мною за пророчество, хотя Менекей дал мне за него пятьдесят — но, по сути, оно даже и не было пророчеством, а всего лишь предостережением, ведь у Лая, которому было сделано предостережение, что его сын убьет его, не только не было сына, но и не могло его быть чисто физически, я же, в конце концов, учел его роковую для продолжения династии предрасположенность.
— Панихия, — продолжал примиряюще Тиресий, — я, так же как и ты, человек разумный и тоже не верю в богов, но я верю в разум, и, поскольку я верю в разум, я убежден, что неразумную веру в богов нужно разумно использовать. Я демократ. Я же вижу, что наша старинная аристократия, ведущая свое происхождение от олимпийских богов, дошла до ручки и погрязла в трясине разврата, все они насквозь продажны и подкупны, готовы на любое грязное дело, а их моральное разложение не поддается никакому описанию. Достаточно только вспомнить вечно пьяного Прометея, налево и направо рассказывающего сказки, что орлы Зевса исклевали ему печень, тогда как у него цирроз на почве алкоголя, или возьми законченного обжору Тантала, впавшего теперь в другую крайность: не ест, не пьет, ссылаясь на строгости диеты для диабетиков. А посмотри на наши царские династии, я тебя умоляю. Фиест поедает на пиру своих сыновей, Клитемнестра убивает секирой мужа, Леда занимается любовью с лебедем, жена Миноса с быком. Благодарю покорно. А уж как представлю себе спартанцев с их тоталитарным государством — прости меня, Панихия, мне не хотелось бы обременять тебя политикой, — но спартанцы тоже ведут свое происхождение от спартов, от Хтония, одного из тех пяти бешеных воинов, что остались в живых, а Креонт происходит от Удея, отважившегося вылезти из земли, когда вся резня уже была позади. Моя дорогая Панихия, Креонт — преданная душа, согласен, преданность есть нечто чудесное и в высшей степени порядочное, и с этим согласен, но без преданности не состоялась бы ни одна диктатура, преданность — это та твердыня, на которой зиждется тоталитарное государство, без преданности оно рухнет, рассыпавшись в прах; демократия же нуждается в некоем умеренном отступничестве и непостоянстве, в некоей ветрености и легкомыслии, в аморфности мысли и избытке фантазии. А есть ли у Креонта фантазия? Из него вылупится чудовищный государственный деятель, Креонт из спартов, как и спартанцы тоже их потомки. Мой намек Лаю, что он должен остерегаться своего сына, иметь которого он не мог, был предостережением ему не сделать своим наследником Креонта, Лай неминуемо привел бы его к власти, если бы не принял заблаговременно мер: в конце концов, одним из его генералов был Амфитрион, самый лучший и благороднейший воин высокородного происхождения, его жена Алкмена еще более высокого рода или его, а может, и не его сын Геракл — оставим эти бабские сплетни. Роду Кадма пришел конец, Лай это понимал, помня о своих неотвратимых пристрастиях, а ведь я всего только и хотел подсказать ему своим пророчеством, что было бы умно с его стороны усыновить Амфитриона, но он не усыновил его. Лай оказался не столь умен, как я думал.
Тиресий умолк, помрачнел, посуровел.
— Все лгут, — сказала, как припечатала, пифия.
— Кто лжет? — спросил Тиресий, все еще погруженный в свои мысли.
— Тени, — ответила пифия, — никто не говорит правды до конца, за исключением Менекея, но тот слишком глуп, чтобы лгать. Лай лжет, и потаскушка Иокаста лжет. Даже Эдип не во всем честен.
— Ну, в общем и целом да, — согласился Тиресий.
— Может, конечно, все и так, — сказала пифия с горечью, — но только про Сфинкс он врет. Чудовище с лицом и грудью женщины и телом льва. Смех один.
Тиресий долгим взглядом посмотрел на пифию.
— Ты хочешь знать, кто такая Сфинкс? — спросил он.
— Ну кто? — спросила Панихия.
Тень Тиресия приблизилась к ней, накрыла ее, заслонив собой почти по-отечески.
— Сфинкс, — начал рассказывать Тиресий, — была столь прелестна, что я вытаращил глаза, когда увидел ее впервые в окружении ручных львиц, это было перед ее гротом на горе Фикион близ Фив. «Иди сюда, Тиресий, ты, старый мошенник, прогони своего мальца в кусты и сядь рядом со мной», — заворковала она. Я был рад, что она не произнесла этих слов при мальчике, она знала, что я только разыгрываю из себя слепого, но сохранила мою тайну. И вот я сел подле нее на расстеленную шкуру, львицы так и кружили, мурлыкая, вокруг нас. Пряди ее длинных, мягких, белокурых волос делали Сфинкс таинственной и лучезарной, она была просто чем-то совсем настоящим. И только когда она застыла словно камень — я испугался, Панихия, один только раз видел я ее такой: когда она рассказывала мне про свою жизнь. Ты ведь знаешь несчастную семью Пелопса. Высочайшего происхождения, от героев. Так вот, юный Лай, не успев стать царем Фив, соблазнил знаменитую Гипподамию, тоже особу высокородную. Ее супруг отомстил за себя в стиле этой семейки: Пелопс оскопил Лая и отпустил повизгивающим восвояси. Дочь, родившуюся у Гипподамии, сама мать в насмешку назвала Сфинкс, «душительница», и посвятила ее в жрицы Гермесу, проклиная и обрекая ее на вечную девственность, но с расчетом, чтобы Гермес, бог торговли, покровительствовал экспорту на Крит и в Египет, чем жили Пелопсы; и при всем при этом Гипподамия совратила и Лая, не то чтобы в ответ, а, как все аристократы, она тоже умела совмещать приятное с жестоким и жестокое с полезным. А вот почему Сфинкс осадила на горе Фикион своего папашу в Фивах и отдавала каждого, кто не мог отгадать ее загадку, на растерзание своим львицам, она мне не открыла, может потому, что догадалась, что я пришел к ней по поручению Лая выпытать у нее ее намерения. Она передала мне только приказ — Лай должен покинуть Фивы вместе со своим возницей Полифонтом. К моему великому удивлению, Лай повиновался.
Тиресий задумался.
— То, что случилось потом, — сказал он, — тебе, пифия, самой известно: роковая встреча в тесном ущелье между Дельфами и Даулем, убийство Лая и Полифонта Эдипом и его встреча со Сфинкс на горе Фикион. Ну хорошо. Эдип разрешил загадку, и Сфинкс бросилась с горы вниз.
Тиресий умолк.
— Что ты болтаешь, старый, — сказала пифия, — зачем рассказываешь мне эту байку?
— Эта история мучает меня, — сказал Тиресий. — Можно я сяду с тобой? Я озяб, холодный источник Тельфусы сжигает мне нутро.
— Садись на треножник Гликеры, — ответила пифия, и тень Тиресия взгромоздилась рядом с ней над расщелиной. Повалившие пары сгустились и окрасились в алые тона.
— А почему она тебя мучает? — спросила пифия почти по-дружески. — Что такое история этой Сфинкс, как не побочное свидетельство того, каков был конец жалкого рода Кадма? Кастрированный царь и проклятая на вечную девственность жрица.
— Что-то в этой истории не сходится, — сказал Тиресий задумчиво.
— Да в ней ничего не сходится, — подтвердила пифия, — это и неважно, что в ней ничего не сходится, потому что для Эдипа никакой роли не играет, был ли Лай гомиком или кастратом, так или иначе, он не был его отцом. А история Сфинкс сама по себе совершенно второстепенна.
— Вот именно это и беспокоит меня, — пробормотал Тиресий, — не бывает никаких второстепенных историй. Все взаимосвязано. Стоит только потрясти в одном месте, как зашатается все целиком. Панихия, — замотал он головой, — как получилось так, что именно ты своим пророчеством предрекла то, что произошло потом? Ведь без твоего прорицания Эдип не женился бы на Иокасте и сидел бы сейчас преспокойно на троне в Коринфе. Нет, я не собираюсь тебя обвинять. Больше всех виноват я. Эдип убил своего отца, ладно, бывает, переспал со своей матерью. Ну и что? А вот то, что все это вылезло как беспримерный прецедент наружу, уже чистая катастрофа. Будь проклято мое последнее провидение по поводу этой вечной моровой язвы! Вместо того чтобы сделать приличную канализацию, подавай им опять очередное пророчество.
При этом я же был в курсе. Иокаста мне во всем покаялась. Мне было известно, кто настоящий отец Эдипа: какой-то нестоящий офицер дворцовой охраны. И я понимал, на ком он женился — на своей матери. Ну хватит, подумал я, пора наводить порядок. Кровосмешение кровосмешением, но у Эдипа с Иокастой как-никак четверо детей, их брак надо спасти. Единственный, кто еще мог угрожать ему, был до ужаса честный Креонт, преданный своей сестре и своему зятю, и, если бы он дознался, что его зять ему племянник, а дети его зятя ему племянники, равноправные его племянникам от его племянника, у него от этого свихнулись бы набекрень мозги и он свергнул бы Эдипа уже из-за одной только преданности моральным устоям. И мы получили бы в Фивах такое же тоталитарное государство, как в Спарте, — бесконечные войны с потоками крови, ликвидация неполноценных детей, ежедневная военная муштра на плацу, геройство как гражданская повинность, и тогда я инсценировал величайшую в своей жизни глупость: я был убежден, Креонт убьет Лая в тесном ущелье между Дельфами и Даулем, чтобы самому стать царем, из преданности, конечно, на сей раз своей сестре, отомстя за ее сына, потому что он свято верил, что устраненный с дороги Эдип — сын Лая, наивная простота Креонт даже мысли не допускал о супружеской неверности сестры; и всю эту комбинацию я сконструировал так только потому, что Иокаста скрыла от меня, что Эдип убил Лая. Я склонен теперь думать, она знала об этом. Я уверен, что Эдип рассказал ей о случае, происшедшем с ним в тесном ущелье между Дельфами и Даулем, и что она только сделала вид, что не знает, чьей жертвой пал Лай. Иокаста должна была сразу обо всем догадаться.
Ну почему, Панихия, люди раскрывают только подобие правды, как будто в правде детали не самое важное? Может, потому, что люди сами — лишь подобие. Эта проклятая неточность. В данном случае она, пожалуй, вкралась потому, что Иокаста просто обо всем забыла, ведь смерть Лая ничуть не тронула ее, она выпустила из виду этот пустячок, и все тут, но этот пустячок, он открыл бы мне глаза и помешал бы направить подозрение на Эдипа как на убийцу Лая, мне следовало бы так сформулировать твое пророчество: Аполлон повелевает вам построить канализацию, и тогда Эдип по сей день был бы царем в Фивах, а Иокаста, как и прежде, царицей. А вместо этого? Теперь в Кадмее восседает преданный им Креонт и трудится над возведением своего тоталитарного государства. Случилось то, чему я хотел воспрепятствовать. Пошли вниз, Панихия.
Старуха взглянула на открытый вход в святилище. В клубах красноватых испарений ясно вырисовывался светлый проем портала, за ним простиралась вся еще во власти ночных красок земная твердь; и вдруг возник неопределенного вида клубок, постепенно принимавший все более ясные очертания, став потом желтым и оформившись наконец во львиц, терзающих мясной оковалок; затем львицы исторгли из себя проглоченные куски назад, и из их лап вырвалось человеческое тело; разодранные клочья тонкой ткани срослись, львицы отступили, и в проеме портала появилась женщина в белом одеянии жрицы.
— Не надо мне было приручать львиц, — произнесла она.
— Мне очень жаль, — сказал Тиресий, — но конец твой поистине ужасен.
— Это выглядит так только со стороны, — успокоила его Сфинкс, — даже досада берет, что ничего не чувствуешь. Ну а теперь, когда все уже позади и вы оба скоро тоже станете лишь тенями — пифия тут и Тиресий сначала тут, в пещере, а потом уже у источника Тельфусы, — вы должны узнать правду. Клянусь Гермесом, какой тут сквозняк! — Она стала поспешно подхватывать свои тонкие прозрачные одежды.
— Ты всегда удивлялся, Тиресий, — продолжила она свою речь, — почему я осадила со своими львицами Фивы. Так вот, мой отец был не тем, за кого он себя выдавал и кем ты его считал для успокоения своей совести. Он был коварным и суеверным тираном. Он прекрасно знал, что любое тиранство становится тогда невыносимым, когда опирается на принципы: нет ничего невыносимее для человека, чем тупая справедливость. Именно ее он воспринимает как несправедливую. Все тираны, основывающие свою власть на принципах — на всеравенстве или всеобщности, — будят в тех, над кем они властвуют, несравненно более сильное ощущение их угнетенности, чем тираны, которые, вроде Лая, ленивы на всякого рода увертки и довольствуются тем, что просто пребывают в тиранах, даже если они по сути своей более гнусные правители: поскольку их тиранство капризно и непредсказуемо, у их подданных создается иллюзия некоторой свободы. Они не ощущают, что над ними довлеют постоянный диктат и произвол, не оставляющие им ни малейшей надежды, нет, им кажется, они подвержены капризам произвола, и в промежутках между ними они усматривают лазейки для собственных надежд.
— Черт побери, — воскликнул Тиресий, — а ты умна.
— Я много думала о людях, расспрашивала их, прежде чем загадать им свою загадку и отдать их на растерзание моим львицам, — ответила Сфинкс. — Меня интересовало, почему люди позволяют властвовать над собой: от лени и тяги к покою, заходившими зачастую так далеко, что они выдумывали безумные теории ради чувства собственного единения со своими властителями, а те в свою очередь тоже измышляли такие же безумные теории ради собственной веры, что они не подчиняют себе тех, кем правят. Но только моему отцу все это было безразлично. Он принадлежал еще к тем авторитетам, которые гордились быть носителями неограниченной власти. Он не считал нужным прибегать к уверткам для проявления своего деспотизма. Его мучило только одно — его роковая судьба: то, что его кастрировали и тем самым положили роду Кадма конец. Я чувствовала его грызущую тоску, его злобные мысли, коварные планы, ворочавшиеся в его голове, когда он навещал меня, часами сидя передо мной и тайком следя за мной, и я стала бояться своего отца, вот тогда-то я и начала приручать львиц. И мои страхи оказались не напрасными. Умерла жрица, воспитавшая меня, и я осталась жить одна со своими львицами в святилище Гермеса в горах Киферона. Панихия, тебе я хочу рассказать об этом, да и ты, Тиресий, пожалуй, тоже можешь послушать: вот тогда ко мне и пришел Лай со своим возницей Полифонтом.
Они появились из леса, где-то в стороне пугливо ржали их кони, рыкали львицы, и у меня родилось предчувствие чего-то дурного, но меня как сковало. Я впустила их в святилище. Мой отец запер на засов дверь и приказал Полифонту изнасиловать меня. Я сопротивлялась. Мой отец помог Полифонту — он обхватил меня сзади, и Полифонт приступил к выполнению его приказания. Львицы с ревом носились вокруг святилища. Мощные удары их лап обрушивались на дверь. Она не поддалась. Я закричала, когда Полифонт овладел мною; львицы умолкли. Они дали Лаю и Полифонту беспрепятственно уйти.
В то же самое время, когда Иокаста родила от своего офицера дворцовой охраны сына, я тоже произвела на свет мальчика — Эдипа. Мне ничего не было известно про глупое пророчество, сформулированное тобой, Тиресий. Я знаю, ты хотел предостеречь моего отца и помешать приходу Креонта к власти и ты хотел обеспечить мир. Но, не говоря уже о том, что Креонт пришел к власти и начинается затяжная война, потому что против Фив выступило семь вождей, ты еще жестоко ошибся в Лае. Я знаю его пышные фразы: он выдавал себя за просвещенного правителя, а сам прежде всего верил в пророчества и больше всего испугался, когда ему предсказали, что его сын убьет его. Лай отнес это пророчество на счет моего сына, его внука; то, что он заодно избавился, подстраховавшись, еще и от сына Иокасты и ее офицера дворцовой охраны, было само собой разумеющимся: игры диктатора, зачем искушать судьбу.
И вот однажды вечером передо мной появился пастух Лая с младенцем на руках, лодыжки ног мальчика были проткнуты и связаны вместе. Пастух передал мне послание, в котором Лай приказывал мне бросить моего сына, своего внука, вместе с сыном Иокасты львицам на съедение. Я поднесла пастуху вина, и тот, охмелев, признался мне, что Иокаста подкупила его: он должен передать ее сына знакомому пастуху коринфского царя Полиба, не раскрывая тому происхождение ребенка. Когда пастух заснул, я бросила сына Иокасты львицам, проколола своему сыну лодыжки, и на следующее утро пастух отправился с запеленутым детенышем дальше, не заметив подмены.
Не успел он уйти, явился мой отец с Полифонтом; львицы лениво потягивались, около них на земле лежала детская ручонка с обескровленными пальчиками, бледненькая и маленькая, как цветок. «Львицы разорвали обоих детей?» — хладнокровно спросил мой отец. «Обоих», — ответила я. «Я вижу только одну ладошку», — сказал он, перевернув ее копьем. Львицы зарычали. «Львицы разорвали обоих, — сказала я, — но оставили только одну ладошку, и тебе придется этим довольствоваться». — «Где пастух?» — спросил мой отец. «Я отослала его», — ответила я. «Куда?» — «В одно святилище, — сказала я, — он был твоим орудием, но он — человек. У него есть право очиститься от своей вины, что он стал твоим орудием, а теперь ступай». Мой отец и Полифонт помедлили еще, но тут поднялись разгневанные львицы, прогнали обоих и не спеша вернулись назад.
Мой отец не отважился больше появляться у меня. Восемнадцать лет я не давала о себе знать. А потом я начала со своими львицами осаду Фив. Наша вражда вылилась наружу, однако мой отец не осмелился раскрыть причину этой войны. Раздосадованный и все еще напуганный пророчеством (ведь наверняка он знал только, что один ребенок был мертв, а что, если другой жив, и он не знает какой), он опасался, что где-то в живых остался его внук и я нахожусь с ним в заговоре. Он послал ко мне тебя, Тиресий, чтобы выпытать у меня.
— Он не сказал мне правды, и ты тоже не открыла мне ее, — с горечью произнес Тиресий.
— Если бы я сказала тебе правду, ты бы опять инсценировал очередное пророчество, — засмеялась Сфинкс.
— А почему ты приказала своему отцу покинуть Фивы? — спросил Тиресий.
— Потому что я знала, что смертельный страх обуял его и он собрался в Дельфы. Я же не могла предвидеть, какую кашу заварила там тем временем Панихия со своим гениальным пророчеством, я думала, придет Лай, там пороются в архиве во избежание несовпадений и повторят ему старый ответ, что повергло бы его в еще больший страх и трепет! А теперь одним только богам известно, что произошло бы, если бы Лай обратился с вопросом к Панихии, и что бы она ему там насочиняла, и во что бы он поверил. До этого дело не дошло, Лай и Полифонт столкнулись в тесном ущелье между Дельфами и Даулем с Эдипом, и сын не только заколол своего отца Полифонта, но и замучил до смерти своего деда, хлестнув коней, которые понесли.
Сфинкс умолкла. Пары рассеялись, треножник рядом с пифией опустел. Тиресий опять превратился в огромную тень, сливавшуюся с глыбами тесаного камня, громоздившимися друг на друга перед главным порталом, в проеме которого белел силуэт Сфинкс.
— А потом я стала возлюбленной своего сына. Многого не расскажешь о тех его счастливых днях, — произнесла после долгого молчания Сфинкс, — счастье не терпит лишних слов. До Эдипа я презирала людей. Они изолгались и, утратив естественность, не догадывались, что загадка — у какого из всех живущих на земле существ меняется в течение его жизни число ног: утром оно ходит на четырех, днем на двух, а вечером на трех, и когда оно ходит на четырех ногах, тогда меньше всего у него сил и оно медленнее всего двигается — имела в виду их самих, потому-то я без числа и отправляла их, не сумевших дать разгадку, на растерзание своим львицам. Они кричали о помощи, когда львицы рвали их на части, я не помогала им, я только смеялась.
Но когда пришел Эдип, хромая, из Дельф и ответил мне: это человек, который ползает, пока он мал и слаб, на четвереньках, ходит в зрелом возрасте прочно на двух ногах, а в старости опирается на палку, — я не бросилась вниз с горы Фикион. Ради чего? Я стала его возлюбленной. Он никогда не спрашивал меня о моем происхождении. Он заметил, конечно, что я жрица, и, будучи набожным человеком, помнил о запрете сожительства с одной из них, но, поскольку он все же жил со мной, он притворялся неведущим и не задавал мне никаких вопросов относительно моей былой жизни, а я не расспрашивала его, даже не интересовалась его именем, чтобы не повергнуть его в смущение. Я хорошо понимала, что, открыв мне свое имя и свое происхождение, он стал бы опасаться Гермеса, в чьи жрицы я была посвящена и кому отныне стало бы известно и его имя, ведь, как все набожные люди, он считал богов ужасно ревнивыми, а может, у него было предчувствие, что, выпытав у меня о моем происхождении, о чем он, собственно, должен был бы полюбопытствовать, как всякий любящий, он наткнулся бы на то, что я его мать. А он боялся узнать правду, и я боялась того же. Так он не знал, что он мой сын, а я — что я его мать. Счастливая, что у меня есть любимый, которого я не знаю и который не знает меня, я вернулась со своими львицами назад в свое святилище в горах Киферона; Эдип приходил ко мне все чаще и чаще, наше счастье было непорочным, как и сама сокровенная тайна.
Только львицы становились все неспокойнее и злее, но не к Эдипу, а ко мне. Они рычали на меня, возбуждаясь все сильнее, все больше выходя из повиновения и все чаще поднимая на меня свои когтистые лапы. Я отбивалась от них кнутом. Они опускались на землю с грозным рычанием, и, когда Эдип перестал появляться, они набросились на меня, и я мгновенно поняла, что произошло нечто непостижимое — ну вот, вы видели, что случилось тогда со мной и бесконечно случается в преисподней. И когда сквозь расщелину, над которой сидит Панихия, до меня донесло ветром ваши голоса, я вняла истине, услышав ту правду, которую мне положено было знать давным-давно, но и она не в силах уже больше ничего изменить: мой возлюбленный был моим сыном и ты, Панихия, провозгласила тогда истинную правду.
Сфинкс начала смеяться, как смеялась прежде пифия при появлении Эдипа. И смех ее тоже становился все неудержимее, и, даже когда львицы опять набросились на нее, она все смеялась, и, когда они в клочья изодрали ее белое платье и начали рвать ее на части, она все еще смеялась. Ну а потом уже ничего нельзя было разобрать, осталось ли там что после желтых бестий, смех отзвенел, львицы подлизали языками кровь и исчезли. Из расщелины вновь повалили испарения. Алые, как маковый цвет. Умирающая пифия осталась одна с едва различимой тенью Тиресия перед входом.
— Удивительная женщина, — произнесла тень.
Ночь отступила перед свинцово-сизым утром, оно как-то стремительно заполнило весь каменный свод святилища. Но то было еще не утро, но уже и не ночь — нечто неосязаемое неудержимо вторгалось, переливаясь снаружи вовнутрь, ни свет, ни темень — без теней и без красок. Как всегда в эти самые первые ранние часы, испарения опустились холодной изморосью на каменные плиты, осели на стенах в скале, повисли черными каплями, падающими постепенно под собственной тяжестью, повисая длинными тонкими нитями, исчезающими в расщелине скалы.
— Только одного я не понимаю, — сказала пифия. — То, что мое пророчество сбылось — пусть и не так, как представляет себе Эдип, — всего лишь невероятнейшее случайное совпадение. Но если Эдип с самого начала верил в прорицание и первый человек, кого он убил, был возница Полифонт, а первая женщина, ставшая его любовью, Сфинкс, почему он тогда не заподозрил, что его отцом был возница, а его матерью Сфинкс?
— А потому, что Эдип хотел лучше быть сыном царя, чем возницы. Он сам себе выбрал свою судьбу, — ответил Тиресий.
— Мы с нашими прорицаниями, — застонала пифия в ярости, — только благодаря Сфинкс узнали мы правду.
— Не знаю, — произнес в задумчивости Тиресий. — Сфинкс — жрица Гермеса, бога воров и плутов.
Пифия умолкла; испарения не поднимались больше из расщелины, и она мерзла.
— С тех пор как они начали строить театр, — заявила она, — испарений стало намного меньше. — Помолчав, она добавила: — Сфинкс, пожалуй, только в отношении фиванского пастуха сказала неправду. Она вряд ли послала его в святилище, скорее отдала на съедение львицам, как и Эдипа, сына Иокасты. А своего Эдипа, своего сына, того она собственноручно передала коринфскому пастуху, Сфинкс действовала так, чтобы ее сын наверняка остался в живых.
— Не думай об этом, старушка, — засмеялся Тиресий, — выкинь из головы, что там было не так и еще не раз окажется не так, чем дольше мы будем в этом разбираться. Не ломай больше голову, а то из преисподней поднимутся новые тени и не дадут тебе спокойно умереть. Откуда ты знаешь, может, есть еще и третий Эдип? Нам же неизвестно, а вдруг коринфский пастух вместо сына Сфинкс — если это вообще был сын Сфинкс — отдал царице Меропе своего сына, также предварительно проколов ему лодыжки, а настоящего Эдипа, который, может, и не был настоящим, отдал на съедение хищным зверям, или, может, Меропа бросила третьего Эдипа в море, а своего собственного сына, рожденного ею тайно — может, тоже от офицера дворцовой охраны, — предъявила доверчивому Полибу как четвертого Эдипа? Истина сокрыта от нас, и давай оставим ее в покое.
Забудь старые истории, Панихия, они не столь важны, во всей этой катавасии мы с тобой главные действующие лица. Мы оба столкнулись с чудовищной действительностью, которая сама по себе такая же тайна за семью печатями, как и человек, порождающий ее. Может, боги, если бы они существовали, пребывая за пределами этого гигантского клубка фантастически переплетенных друг с другом фактов, способствовавших тому, что имели место те беспрецедентные по бесстыдству случаи, составили бы себе некоторое, хотя и поверхностное, представление обо всем, а мы, смертные, варясь в котле этой невиданной неразберихи, только беспомощно барахтаемся в ней. Мы оба надеялись, изрекая пророчества, привнести в нее робкую видимость порядка, хоть малую толику законности в тот мутный, грязно-похотливый и зачастую кровавый поток событий, обрушивавшихся на нас и затягивавших нас, и именно потому, что мы пытались — пусть хоть и в малой дозе — обуздать их.
Ты предсказывала с фантазией, по настроению, из озорства, пожалуй, даже отчасти с беспардонным нахальством, короче: шалила кощунственно и остроумно. Я формулировал свои пророчества трезво, с холодным рассудком, железной логикой, или короче: по законам разума. Согласен, твое пророчество — полное попадание. Был бы я математиком, я бы точно рассчитал, какова вероятность того, что твое пророчество сбудется: оно было фантастически невероятным и вероятность его мала до бесконечности. Но, несмотря ни на что, оно сбылось, тогда как мои наиболее вероятные, построенные на разумных расчетах, преследовавшие цель вершить политику и изменить мир в духе разумного начала, оказались холостым выстрелом. Я глупец. Подчинив все разуму, я высвободил цепную реакцию причин и поступков, приведших к результатам, противоположным тому, к чему я стремился. И тут вмешиваешься ты, такая же безрассудная, как и я, с твоей неуемной раскованностью, и начинаешь напролом, с бухты-барахты вещать, чем коварнее и злее, тем вдохновеннее, почему так — давным-давно уже неважно, а кому во зло, тебя тоже абсолютно не волновало; и вот однажды чисто случайно ты предсказываешь бледному хромающему юноше по имени Эдип. Какая польза тебе, что твое прорицание попало в самую точку, а я ошибся? В нанесенном нами чудовищном ущербе мы виновны поровну. Выбрось свой треножник, пифия, твое место там, внизу, в преисподней, да и мне пора в могилу, источник Тельфусы сделал свое дело. Прощай, Панихия, но не надейся, что пути наши разойдутся. Как я, стремившийся подчинить мир своему разуму, противостою сейчас тебе в этой промозглой дыре, тебе, пытавшейся обуздать мир своими спонтанными фантазиями, так и те, для кого мир — воплощение порядка, будут на веки вечные конфликтовать с теми, для кого мир — непредсказуемое чудовище. Одни будут считать, что этот мир можно критиковать, другие будут принимать его таким, каков он есть. Одни будут считать, что мир можно изменить, как можно изменить камень, придавая ему резцом заданную форму, другие будут высказывать опасения, что мир со всей его непредсказуемостью, изменяясь, будет, подобно чудовищу, гримасничать, корча все новые рожи, и что мир можно критиковать только в тех пределах, в каких тончайший слой человеческого разума способен влиять на сверхмощные, тектонические силы человеческих инстинктов. Одни будут обзывать других пессимистами, а те высмеивать их как утопистов. Одни будут утверждать: история вершится по определенным законам, а другие говорить: эти законы существуют только в человеческом воображении. Противоборство между нами двоими, Панихия, вспыхнет во всех сферах, противоборство провидца и пифии; пока еще оно носит эмоциональный характер и в нем мало конструктивного, но уже строят театр, уже в Афинах неизвестный поэт слагает рифмы, описывая трагедию Эдипа. Однако Афины — провинция, и Софокла забудут, а Эдип будет жить вечно как материал и тема, задавая нам все время Эдипову загадку. Боги ли предрешили его судьбу или он сам — тем, что согрешил против принципов, на которых зиждется общество своего времени, от чего я пытался оградить его своим провидением, или, может, он пал жертвой случая, вызванного к жизни твоим причудливым пророчеством?
Пифия ничего больше не ответила, ее вдруг вовсе сразу не стало, пропал и Тиресий, а с ним и свинцово-сизое утро, тяжелым бременем придавившее Дельфы, тоже погрузившиеся в вечность.
Минотавр Баллада
Посвящается Шарлотте[21]
Существо, рожденное дочерью Солнечного бога Пасифаей, после того как она пожелала, чтобы ее, спрятанную внутри поддельной коровы, покрыл Посейдонов белый бык, долгие годы подрастало в хлеву среди коров, проспав все это время беспокойным сном. А потом слуги Миноса, взявшись за руки и растянувшись длинной цепью, чтобы не потеряться, затащили его в Лабиринт — сооружение, специально построенное Дедалом, чтобы защитить людей от этого существа, а это существо — от людей, — и там швырнули его на пол. Лабиринт был построен так, что вступивший в него никогда уже не мог найти выход, а бесчисленные его стены, как бы вложенные одна в другую, были сделаны из зеркального стекла. Минотавр — дитя Пасифаи, — лежавший скорчившись на полу, видел не только свое отражение, но также и отражения своих отражений. Он видел перед собой великое множество себе подобных, и, когда он повернулся кругом, чтобы больше не видеть их, снова перед ним было великое множество таких же существ. Он находился в мире, населенном скорчившимися существами, не зная, что все эти существа — он сам. Минотавр был словно парализован этим зрелищем. Он не понимал ни где он находится, ни чего надо этим скорчившимся существам, а возможно, он спит и видит сон, впрочем, Минотавр не знал, что есть сон, а что — явь. Минотавр инстинктивно вскочил на ноги, чтобы прогнать эти существа, — в тот же миг вскочили все его отражения. Минотавр встал на четвереньки, и вместе с ним встали на четвереньки его отражения. Прогнать их было невозможно. Минотавр вперил взгляд в отражение, которое казалось ему ближе всех, медленно отполз, и отражение тоже отодвинулось от него. Его нога уперлась в стену, он резко повернулся и оказался лицом к лицу со своим отражением; он осторожно отполз, отражение отползло тоже. Минотавр невольно ощупал свою голову, и в тот же миг отражения ощупали свою. Минотавр встал на ноги, и вместе с ним встали его отражения. Он взглянул вниз, на свое тело, и сравнил его со своими отражениями, и те тоже посмотрели вниз и сравнили его с собой, и так, рассматривая себя и свои отражения, Минотавр осознал, что в точности похож на них: вероятно, он был одним из многих одинаковых существ. Его лицо стало дружелюбным, лица его отражений тоже стали дружелюбнее. Минотавр помахал им, и они помахали в ответ, он помахал правой, они — левой рукой, впрочем, он не знал, что такое право и лево. Он потянулся, вытянул руки, замычал, вместе с ним потянулась, вытянула руки, замычала несметная масса одинаковых существ, тысячекратно отозвалось ему эхо, казалось, этому реву не будет конца. Чувство счастья охватило Минотавра. Он подошел к ближайшей стеклянной стене, одно из отражений также приблизилось к нему, а остальные в это время отдалились. Минотавр прикоснулся к своему отражению правой рукой, прикоснулся к левой руке своего отражения, на ощупь она была гладкой и холодной. Перед его глазами, тысячекратно повторяясь, взялись за руки остальные отражения. Минотавр побежал вдоль стены, касаясь гладкого зеркала, прикрывая левую руку отражения своею правой. Вместе с ним бежало его отражение, и, когда он побежал обратно вдоль зеркальной стены уже по другой стороне коридора, его отражение вместе с ним бежало обратно.
Минотавр расшалился, стал прыгать, кувыркаться, и вместе с ним прыгали и кувыркались его бесконечные отражения. Видя, что они мгновенно повторяют его движения, Минотавр почувствовал себя их предводителем, более того — богом (если бы только он знал, что такое бог), и от этого росла его шаловливость, все веселее и необузданнее бегал он и прыгал, кувыркался и ходил на руках. И мало-помалу его детская радость вылилась в ритмичный танец. Минотавр танцевал со своими двойниками, часть которых выступала в перевернутом зеркальном отображении, другие, будучи отражениями отражений, точно совпадали с самим Минотавром, еще другие, в свою очередь как отражения этих отражений, снова выступали зеркально перевернутыми, и так до бесконечности. Минотавр танцевал среди своего Лабиринта, среди мира своих отражений, танцевал, как чудовищное дитя, как его собственный чудовищный отец, как чудовищный бог среди вселенной своих отражений. Но вдруг Минотавр замер, остановился как вкопанный, скорчился на полу, его взгляд сделался настороженным, и вместе с Минотавром скорчились и с опаской посматривали его отражения. В упоении танцем Минотавр вдруг увидел среди танцующих отражений какие-то иные существа, они не танцевали и не были послушны ему. Девушка, отраженная в стене, как и сам Минотавр, стояла недвижно, нагая, с длинными черными волосами, а кругом скорчились подобия Минотавра, они были везде: перед ней, рядом с ней, позади нее, так же как и она сама тоже была везде: перед ним, рядом с ним, позади него. Девушка не решалась пошевелиться, не сводя испуганного взгляда с существа, которое скорчилось перед ней и было к ней ближе всех. Она знала, что существует лишь одно скорчившееся существо, остальные же — отражения, но она не знала, кто же сам Минотавр. Быть может, то существо, которое скорчилось перед ней, быть может, его отражение, быть может, отражение его отражения — этого девушка не знала. Она знала только, что бежала от этого существа, но и бегство привело ее к нему же, и видела теперь собственное отражение рядом со скорчившимся существом, а подальше — себя со спины и рядом с ней — скорчившееся существо со спины, и так дальше до бесконечности. Прикрыв скрещенными руками грудь, она как зачарованная смотрела на по-прежнему скорчившееся у ее ног существо. Ей казалось, что она может дотянуться до него рукой. Ей казалось, что она чувствует его дыхание. Ей казалось, что она слышит его сопенье. У него была бычья голова, огромная, покрытая блеклой светло-коричневой шерстью, высокий широкий лоб, заросший спутанными курчавыми волосами, рога короткие и изогнутые так, что концы загибались к корням, красноватые глаза казались скорее маленькими по сравнению со всем черепом и утопали в глазницах. Эти глаза были непостижимы. Мягкий наклон массивного носа, косо прорезанные ноздри, изо рта свисал длинный иссиня-красный язык, а с подбородка — длинная, слипшаяся от слюны борода. Все это еще можно было вынести, но что было невыносимо, так это переход от быка к человеку. Над бычьим черепом куполом поднималась целая гора меха, сверху лохматого, ниже потертого, и из его щетины и косм росли две человечьих руки, которые опирались о стеклянный пол. Как если бы огромная голова и горб над ней поднимались, буйно разрастаясь, из тела мужчины, который, приготовившись к прыжку, стоял на четвереньках перед девушкой и, опять-таки, рядом и позади нее. Минотавр встал на ноги. Он был огромен. Он вдруг понял, что на свете бывают не только минотавры. Его мир удвоился. Он видел отраженные в зеркалах глаза, рот, длинные черные волосы, ниспадающие на плечи, он увидел белую кожу, шею, груди, живот, лоно, бедра, как все это переходило, переливалось одно в другое. Он двинулся в сторону девушки. Девушка отстранилась — а в это время где-то в другом месте двинулась ему навстречу. Минотавр гнался за девушкой по Лабиринту, девушка убегала. Казалось, вихрь закружил минотавров и девушек, так завертелись они, двигаясь прочь друг от друга, друг мимо друга, навстречу друг другу. И вот девушка нечаянно очутилась у него в объятьях, он вдруг прикоснулся к живому телу, к влажной от пота теплой плоти вместо твердого стекла, к которому прикасался до сих пор. Тут он понял — в той мере, в какой к Минотавру применимо слово «понимание», — что до сих пор он жил в мире, где существуют только минотавры, каждый — заключенный в свою стеклянную тюрьму, а теперь он прикасается к другому телу, прикасается к плоти другого существа. Девушка выскользнула из его рук, он не препятствовал этому. Она отпрянула, не сводя с него своих больших глаз, и, когда он пустился в пляс, девушка тоже пошла плясать, и отражения их обоих плясали вместе с ними. Он выплясывал свое уродство, она — свою красу, он выплясывал радость, что ее нашел, она — ужас, что он ее нашел, он выплясывал свое освобождение, она — свою обреченность, он — свое вожделение, она — свое любопытство, он — свое преследование, она — свое отступление, он — свое вторжение, она — свое слияние с ним. Они плясали, и вместе с ними плясали их отражения, и Минотавр не знал, что взял девушку, не мог он знать и того, что убил ее, ведь он не знал, что такое жизнь и что — смерть. В нем было лишь неистовое счастье и неистовое вожделение. Взяв девушку, он громко замычал, а в зеркалах минотавры брали девушек, и, разносясь по Лабиринту, мычание превращалось в чудовищный рык, в немыслимый вселенский рык, словно не было в мире ничего, кроме этого рыка, который заглушил крик девушки. И вот Минотавр уже лежит на земле, и в зеркалах также лежат минотавры, и белое нагое тело девушки с большими черными глазами лежит рядом и отражается в стенах. Минотавр поднял левую руку девушки — она безжизненно упала, поднял правую — она безжизненно упала, повсюду безжизненно падали руки. Минотавр облизал девушку своим иссиня-красным огромным языком — лицо, груди, — девушка оставалась недвижной, все девушки оставались недвижны. Он перевернул девушку рогами — она не шелохнулась, ни одна девушка не шелохнулась. Он поднялся во весь рост, огляделся вокруг, повсюду стояли во весь рост минотавры и оглядывались вокруг, и повсюду лежали у их ног белые девичьи тела. Он нагнулся, поднял девушку с земли, жалобно замычал, вскинул девушку к темным небесам, и повсюду нагнулись минотавры, подняли девушек с земли, жалобно замычали, вскинули девушек к темным небесам, а потом он положил девушку между стеклянных стен, лег с ней рядом и уснул, и вместе с ним уснули все минотавры, растянувшиеся на полу, сплошь покрытом белыми нагими девичьими телами. Минотавр спал, и ему снилась девушка с черными волосами и большими глазами, он гнался за ней, играл с ней, заключал в объятья, любил ее. Когда он открыл глаза, что-то сидело у него на груди, вцепившись когтями в его заскорузлую бороду. Это «что-то» мазнуло крыльями по его влажному носу и нырнуло своей голой изжелта-белой шеей с маленькой головкой, красными глазами и диковинно выгнутым мощным клювом куда-то вниз рядом с ним. На стенах разрослись густые джунгли из перьев, шей, глаз, клювов, а вверху, над Минотавром, затемняя едва занимающееся утро, что-то кружило, камнем падало вниз, ныряло, раздирало, блаженствовало, мародерствовало, копалось, жрало, пронзительно визжало, улетало, прилетало, снова камнем падало вниз, падая и взлетая, отражалось в стенах, и Минотавр не понимал, почему это «что-то» падает вниз, ныряет, отрывает куски, взмывает вверх, кружит над ним, — не понимал, потому что слишком плотно окружало его это порхание и взмахи крыльев. А когда все это, кружа на все большей высоте, растворилось в слепяще светлой пустоте теперь уже ярко сверкающего неба, сквозь стеклянные стены проломилось солнце и выжгло в мозгу Минотавра свой образ в виде огромного крутящегося колеса. Оно бросало в небо снопы света в знак своего гнева на святотатство дочери своей, Пасифаи, родившей существо, которое было оскорблением для богов и проклятьем для людей, существо, осужденное быть не богом, не человеком, не зверем, а всего лишь Минотавром, безвинным и в то же время виновным. Он видел, хотя глаза его были закрыты, необъятное колесо, катившееся вверх по небу, колесо проклятья, тяготеющего на нем, колесо его судьбы, колесо его рождения и колесо его смерти, колесо, которое горело в его мозгу, хотя он и не знал, что такое проклятье, судьба, рождение и смерть, колесо, которое прокатилось по нему, колесо, на котором он был колесован; так лежал Минотавр, палимый солнцем и его до бесконечности отраженным светом, и вдруг заметил расплывчатый силуэт ноги, похожей на его собственную. Он подумал, что это девушка, что она снова обрела способность двигаться и хочет с ним поиграть. Он поднял голову и теперь увидел две ноги, которые отступили назад. Он встал во весь рост. Перед ним стояло существо, похожее на девушку и все-таки не девушка, в левой руке оно держало изодранный плащ, а в правой — меч; Минотавр не знал ни что такое плащ, ни что такое меч, он знал только — ибо пронизанные слепящим светом солнца стены больше ничего не отражали, — что покинут минотаврами и девушками, а та девушка, которую он взял, вероятно, снова обрела способность двигаться и ушла, раз ее здесь больше нет. Он был вытолкнут, изгнан из своего мира минотавров, оставлен один на один с существом, которое, не спуская глаз с Минотавра, то отступало назад, то останавливалось, то шло навстречу Минотавру и снова отступало назад. Минотавр приближался к нему, исполненный доброжелательности, хоть он и не смог бы определить это чувство, оно отличалось от того, какое он испытывал к девушке, было менее порывистым и жадным. Минотавр радовался, представляя, как будет играть с этим существом, бегать за ним по коридорам, возможно, это существо приведет его к другим минотаврам и к девушке и к таким же существам, как оно само. Но только обращаться с ним надо осторожнее, нежнее, чем тогда с девушкой, а не то оно тоже перестанет двигаться. Минотавр радостно фыркнул, а когда то существо снова взмахнуло плащом, он пустился в пляс. На фоне сверкающих на солнце стен оба двигались как тени: танцующий и скачущий, хлопающий в ладоши и лихо притопывающий Минотавр и существо, взмахивающее куском ткани, то подступающее ближе, то отступающее, снова и снова пытающееся достать Минотавра мечом; этот меч, спрятав его под плащом, человек пронес в Лабиринт, чтобы убить Минотавра, но теперь, когда он стоял с чудовищем лицом к лицу и видел его незлобивость, ему стало стыдно. Минотавр плясал вокруг него, хлопая в ладоши и топая ногами. Он выплясывал радость избавления от одиночества, выплясывал надежду встретить других минотавров, девушек и существа, подобные тому, вокруг которого он сейчас плясал. В танце он забыл о солнце, в танце он забыл о проклятье. Остались лишь веселье, приветливость, легкость, нежность. Он танцевал, а пришелец выжидал своего часа, наскакивая на него со всех сторон; солнце опустилось, и вместе с его тысячекратным отражением стали видны отражения и обоих партнеров. Минотавр танцевал, он был счастлив, что нашел других минотавров и эти новые существа, скоро он найдет девушку, которую он взял и которая стала вдруг неподвижна, а потом ушла, и других девушек, которых взяли минотавры, после чего они тоже стали неподвижны, а потом ушли. Оба танцевали, сходясь и расходясь, отражения пересекались, накладывались друг на друга, стремительно проносились мимо друг друга. Куда ни глянь, всюду танцевал, вертелся волчком Минотавр, и куда ни глянь, юноша делал прыжок вперед и снова отскакивал, то пружинисто, то неловко, выжидая случая нанести удар; и когда солнце опустилось за Лабиринт и стеклянные стены вспыхнули глубоким багряным светом, юноша нанес удар, отскочил назад, прислонился к стене, не сводя глаз с Минотавра. Тот с мечом в груди сделал еще несколько танцевальных па, остановился, вытащил меч правой рукой, удивленно оглядел его, левой схватился за грудь, из которой била черная струя, отбросил меч с такой силой, что тот прокатился по полу, прижал и правую руку к груди, зашатался; казалось, он вот-вот упадет, но он вновь встал неподвижно. Он был сбит с толку. Он не понимал, чем окрасились его руки и откуда боль, бушующая у него в груди. Он чувствовал лишь, что это существо, которое подскочило к нему и воткнуло что-то в его тело, не любит его, как любили до сих пор все — минотавры, девушка, другие девушки. И когда он это почувствовал, его охватила подозрительность, ведь он не умел думать, все проплывало у него в голове как вереница картинок, как послание, написанное своего рода картиночным письмом. Возможно, девушка его совсем не любила и другие девушки не любили минотавров, потому-то они стали неподвижны, а потом ушли. Возможно, они принадлежали этому новому существу, которое было похожим на девушку и все-таки другим, существу почти такому же мощному, как он, Минотавр. Это существо подскочило к нему, и другие такие же существа подскочили к минотаврам, и вот те сейчас, как и он, прижимают руки к груди, из которой бьет черная струя. И тут появились шестеро других девушек и шестеро других юношей, они шли взявшись за руки, и в зеркалах их хоровод казался непрерывным, в свете вечера он удваивался, учетверялся, умножался тысячекратно. Они нашли наконец своего сотоварища, который прислонился к стене и ждал, когда Минотавр наконец-то упадет замертво. Человекобыку показалось — показалось бы, если бы он владел этим понятием, — что все человечество вторглось в Лабиринт, чтобы уничтожить его, Минотавра. Он пригнулся. Ему стало страшно, и, чтобы не бояться, он призвал на помощь гордость. Он гордился тем, что он Минотавр, и всех, кто не были минотаврами, он воспринимал как врагов. Только минотавры имеют право находиться в Лабиринте, ибо у них нет иного мира — ведь смутное ощущение коровьего тепла в хлеву, где он вырос, едва брезжило в его памяти. Его обуяла ненависть, которую питает животное к человеку — тому, кто приручил зверя, использует его ему же во зло, охотится на него, забивает на бойне, пожирает его, — извечная ненависть, которая тлеет в каждом животном. Глаза его налились бешенством. На губах выступила пена. Юноша отделился от стены, ошибочно истолковав движение Минотавра как приближение смерти, убежденный, что ранил его смертельно, и люди — девушки и юноши — окружили пригнувшегося быка, не замечая его бешенства, и тоже ликовали и водили вокруг Минотавра необузданный хоровод, все стремительнее, все задорнее, словно были спасены, все неистовее, не думая о том, что обречены хотя бы потому, что находятся в Лабиринте, — ведь, даже если бы человекобык умер, они все равно не выбрались бы из вставленных друг в друга зеркальных коробок, — все неосторожнее в опьянении своей мнимой свободой, все более сужая свой крикливый круг, все более угрожающие в наступающей ночи; в этой ночи Минотавр видел лишь людей и не видел больше собственных отражений, потому что кружащиеся и скачущие вокруг юноши и девушки заслонили от него стены Лабиринта и он больше не отражался в них. Поэтому ему казалось, что и минотавры тоже бросили его на произвол судьбы и предали. Минотавр стал вращать глазами и сопеть, пригнулся еще ниже, напряг мускулы, прыгнул, помчался, поднял одну девушку на рога и, подкидывая ее вверх, исчез в Лабиринте. После чего вернулся, вне себя от ярости, с перепачканными кровью — так часто они вонзались в тело девушки — рогами, а люди сбились в кучку, свились в клубок теней. Между тем над их головами голодные пернатые джунгли уже опустились на стены, темный клубок над другим темным клубком. Птицы метались, и их карканье, свист, хриплые крики и гогот смешивались с воплями перепуганных людей. Где-то за Лабиринтом всходила луна; ночь, лишь скудно подсвеченная закатившимся солнцем, стала яснее. Минотавр ринулся в атаку, врезался в мягкий клубок белых тел, пропорол его насквозь, снова врезался и катался по нему, топтал ногами, затаптывал, поднимал на рога, рвал на куски, наносил удары, вспарывал, а вокруг него обрушивались вниз, клевали, грызли, хрустели, хватали куски, заглатывали птицы; кричащий и воющий человеческий клубок, посреди которого буйствовал Минотавр, был накрыт облаком летучих пожирателей падали: бородачи, ягнятники, черные грифы, стервятники, кондоры, коршуны хватали, заглатывали, снова ныряли в гущу тел. Непрерывно нанося удары, взбешенный человекобык вырывал из человеческого клубка то чью-то руку, то ногу, лакал кровь, ломал кости, разворачивал чрева и лона до тех пор, пока не рассеялась в лунном свете косматая туча крыльев, перьев, шей, глаз, клювов, лап и когтей. Минотавр был один. Ослепленный луной, он снова увидел в холодных стенах свои отражения — черные тени, они вкладывались одна в другую, срастаясь в лабиринт теней внутри Лабиринта. Он поднял руки, погрозил кулаками, потряс ими, вместе с ним подняли руки его отражения, погрозили кулаками, потрясли ими, и от этого ярость Минотавра возросла до того, что он, нагнув свою бычью голову, вслепую ринулся на ближайшую тень. Он проломил стену и в ярости искал среди осколков отражение, не зная, что оно — его собственное; ему казалось, что оно просто засыпано осколками. Он просунул в дыру свою огромную голову и, увидев на следующей стене свое отражение, все еще ничего не понял, снова кинулся в атаку, снова бросился, нагнув голову, на врага, а тот, нагнув голову, бросился на него. Минотавр отскочил, наткнувшись на стену, уставился бешеными красноватыми бычьими глазами на свое отражение, и оно тоже уставилось на него бешеными красноватыми бычьим и глазами.
Он снова бросился на врага, еще стремительнее, и еще резче отбросила его стена, он даже упал навзничь. Луна находилась пока позади Лабиринта, но она светила сквозь стены и отражалась в них, она не была еще полной, неровные края кратеров на ее еще не округлившейся стороне были причудливо увеличены, и отражений луны было так много, что Минотавру казалось, будто он попал в каменную вселенную, иссеченную трещинами. Он вглядывался в этот лунный мир и при этом боялся, что враг его тем временем встал на ноги.
Он перевернулся на живот и увидел, что предатель хотя и не встал, но подстерегает его, лежа на животе. Минотавр пополз навстречу своему отражению, и оно приближалось к нему таким же способом. Минотавр был готов вскочить и броситься на врага, но, наблюдая за ним, он всякий раз, как только собирался сделать это, видел в глазах того точно такое же намерение. Он старался запомнить лицо предателя — покрытое шерстью, широкий лоб зарос спутанными курчавыми волосами, обсыпанными битым стеклом, голубовато поблескивающим в лунном свете. Короткие изогнутые рога, мягкий наклон носа, мокрые губы, длинный иссиня-красный язык. Минотавр перевел дух, пар из его ноздрей замутил зеркало, к которому он придвинулся так близко, что больше не видел своего отражения. Чтобы разогнать туман, он непроизвольно провел рукой по влажной поверхности — и был поражен, когда за гладкой холодной стеной внезапно возникла громадная бычья морда предателя. Минотавр инстинктивно ринулся на нее лбом вперед, но ударился о стену, а не о лоб предателя, который, как это ни странно, оказался в самой стене, а не снаружи. Минотавр недоумевал. Он отодвинулся от стены, стукнул по ней правым кулаком, в тот же миг отражение стукнуло левым, и еще раз они обменялись ударами разными руками, потом Минотавр ударил обоими кулаками сразу, то же сделало отражение, и в конце концов Минотавр стал бить кулаками в стену, как в барабан. Он барабанил свою ярость, он барабанил свою страсть к разрушению, он барабанил свою жажду мести, он барабанил свой страх, он барабанил свой бунт, он барабанил свое самоутверждение. Но вдруг он почувствовал, что существо перед ним — казалось бы, такое же существо, как он сам, но все же предавшее его, потому что было другим существом, а все, что не было им самим, было враждебно, — так вот, он понял, что существо это недостижимо для него, неприступно: Вообще-то он сразу же, как только начал просыпаться в Лабиринте — хотя он до сих пор еще не знал, что находится в Лабиринте, — ощутил, что между ним и всеми этими минотаврами стоит нечто загадочное, похожее на стену, но, пока он танцевал с ними как их предводитель, как их царь, как их бог в мире минотавров, он не придавал этому значения, однако сейчас, после того как он взял девушку и слился телом с ее телом, и после того как он пронзил рогами тела других людей и разорвал их в клочья, и из них потекло что-то горячее и красное, и из его собственного тела тоже потекла горячая и красная жидкость, — теперь, после всего этого, он ощутил нереальность существа, которое, правда, предало его, но тоже было осыпано осколками стекла, как и он сам, и возможно, его, Минотавра, лицо было так же перепачкано кровью, как и лицо предателя. Он ощупал лицо, посмотрел на руки — да, и его лицо испачкано кровью. Он настороженно наблюдал за своим отражением, притворяясь, что не смотрит на него, он чувствовал, что оно не то, чем кажется. Минотавр испытывал ужас и вместе любопытство. Он отступил от стены, то же сделал его двойник, и постепенно до Минотавра дошло, что ему противостоит не кто иной, как он сам. Он попытался спастись бегством, но, куда бы он ни повернулся, напротив стоял он сам, он был замурован в себе самом, везде был он сам, он сам был бесконечен, до бесконечности отражаемый стенами Лабиринта. Он ощутил, что на самом деле нет множества минотавров, есть лишь один Минотавр, что такое существо, как он, — одно-единственное, ни до ни после него такого не было и не будет, что он — единственный в своем роде, одновременно исключенный и заключенный, что Лабиринт создан специально для него только потому, что он родился на свет Минотавром, потому, что он существо, какого не должно быть; Лабиринт создан, чтобы сохранить границу, установленную между зверем и человеком и между человеком и богами, дабы мир пребывал в порядке и не превратился бы в лабиринт и по этой причине не впал бы снова в хаос, из которого некогда возник. И когда Минотавр ощутил это — чувствуя, но не понимая, то было озарение без осознания, непохожее на человеческое познание через понятия, то было познание Минотавра через образы и чувства, — он рухнул наземь и, лежа на земле скрючившись, как некогда во чреве Пасифаи, начал мечтать о том, чтобы стать человеком. Он мечтал о речи, он мечтал о братстве, он мечтал о дружбе, он мечтал о защищенности, он мечтал о любви, о близости, о тепле и, мечтая об этом, знал в то же время, что он — чудовище, нелюдь, что никогда не знать ему ни речи, ни братства, ни дружбы, ни любви, ни близости, ни тепла; он мечтал об этом так, как люди мечтают уподобиться богам, люди — с человеческой тоской, Минотавр — с тоской звериной. А когда появилась Ариадна, он спал. Она шла танцующей походкой со своим клубком шерсти, разматывая его. И, пританцовывая, прямо-таки с нежностью, она обмотала рога Минотавра красной нитью, потом, следуя за нитью, такою же танцующей походкой вышла из Лабиринта. Проснувшись стеклянным утром, Минотавр увидел, как в бессчетных отражениях к нему приближается минотавр, устремив взгляд на шерстяную нить, словно то был кровавый след. Сначала Минотавр подумал, что это его собственное отражение, — хотя он до сих пор не понимал, что такое отражение, — но потом сообразил, что сам лежит на полу, а к нему направляется другой минотавр. Он был сбит с толку. Минотавр встал, не заметив, что рога его обмотаны красной нитью. Тот, другой, подошел ближе. Минотавр вскинул вверх руки, то же сделал и другой, Минотавр было заподозрил, что это все-таки его отражение, но вспомнил, что тот, другой минотавр вроде бы вскинул руки немножко позже, чем он, а ведь обычно отражения все делали одновременно с ним. Впрочем, он мог и ошибиться, тем более что оба многократно отражались в стенах, и тот, другой, теперь остановился. Минотавр сделал танцевальное па, то же сделали отражения, но на этот раз многие отражения повторили его шаг с опозданием. Минотавр отчетливо заметил это. Минотавр снова стоял неподвижно и осторожно наблюдал за другим минотавром, тот тоже стоял неподвижно. Минотавр пытался размышлять. Он пошевелил мизинцем правой руки, зорко присматриваясь, пошевелил еще раз. Другой тоже пошевелил мизинцем правой руки, и это обеспокоило Минотавра: что-то было не так, кажется, другой должен был пошевелить мизинцем левой руки. Другой минотавр стоял прямо перед ним, но это могло быть и отражение другого минотавра или отражение его собственного отражения, вероятно, в этом невозможно разобраться, сколько ни размышляй. У этого другого — если на самом деле это другой — была такая же голова, как у него, и такое же тело, как у него. Минотавр пошевелил правой рукой, теперь другой пошевелил левой рукой, почти, а может быть и совсем, без опоздания; и, перебирая вот так разные возможности, Минотавр вдруг увидел, что у другого минотавра или отражения другого минотавра у пояса висит какой-то предмет, что-то меховое. Минотавр хоть и не понимал, что это за предмет, но это было неопровержимым доказательством того, что перед ним другой минотавр или отражение другого минотавра. Минотавр вскрикнул, впрочем, то был скорее рев, чем возглас, протяжный вопль, рык и вой, рожденный радостью, ведь он был теперь не единственный в своем роде, одновременно исключенный и заключенный, на свете был другой минотавр. Кроме его собственного «я» существовало еще и чье-то «ты». Минотавр стал танцевать. Это был танец братства, танец дружбы, танец защищенности, танец любви, танец близости, танец теплоты. Минотавр выплясывал свое счастье, выплясывал избавление от одиночества, выплясывал свое освобождение, выплясывал погибель Лабиринта, чьи стены и зеркала теперь с грохотом уйдут в землю, выплясывал дружбу между минотаврами, зверями, людьми и богами. С рогами, обвитыми красной шерстяной нитью, танцевал он вокруг другою минотавра и не заметил, как тот натянул красную нить и вытащил кинжал из меховых ножен, и отражения одного танцевали вокруг отражений другого, которые натягивали красную нить и вытаскивали кинжал из меховых ножен, и, когда Минотавр бросился в раскрытые объятия другого, веря, что обрел брата, такое же существо, как он сам, и когда все его отражения бросились в объятия отражений другого, тот, другой, нанес удар, и его отражения нанесли удар, и так точно вонзил тот, другой, свой кинжал ему в спину, что Минотавр был уже мертв, когда тело его коснулось пола. Тесей снял с лица маску, изображавшую бычью морду, и все его отражения сняли маску, он смотал красную нить и покинул Лабиринт, и все его отражения смотали красную нить и покинули Лабиринт, и теперь зеркальные стены отражали только бесконечно повторяемый темный труп Минотавра. Потом, перед восходом солнца, прилетели птицы.
Грек ищет гречанку
Комедия в прозе
1
Дождь шел и шел час за часом, ночь за ночью, день за днем, неделя за неделей. Улицы, проспекты, скверы влажно поблескивали, вдоль тротуаров неслись потоки воды, текли реки и ручейки; машины плыли, люди пробирались, спрятавшись под зонтики, закутавшись в плащи; башмаки у них не просыхали, чулки — хоть выжми; с кариатид, подпиравших балконы дворцов и гостиниц, с лепных амурчиков и афродит на фасадах домов текло и капало, струи воды перемешивались с размокшим птичьим пометом, голуби прятались на эллинском фронтоне парламента, меж ног и торсов на историко-патриотических барельефах. Кошмарный январь. А потом пошли туманы — и опять день за днем, неделя за неделей; вспыхнула эпидемия гриппа; для людей порядочных, социально обеспеченных она не столь уж опасна, грипп унес, правда, нескольких богатых старичков и старушек, нескольких почтенных государственных мужей, но пачками он косил только бездомных бродяг, ютившихся под мостами у реки. А дождь лил и лил. Лил как из ведра.
Его звали Арнольф Архилохос, и мадам Билер за стойкой говорила:
— Бедняжка. Какое немыслимое имя. Огюст, принеси ему еще стакан молока.
А по воскресеньям она изрекала:
— Дай ему еще стакан перье.
Но ее муж Огюст, костлявый мужчина, занявший однажды первое место в легендарной велогонке «Тур де Сюис» и второе в еще более легендарном велокроссе «Тур де Франс» — он обслуживал посетителей в костюме гонщика, в желтой майке победителя (ведь приходили все свои, болельщики), — придерживался другого мнения об Архилохосе.
— Не понимаю, чем он тебе люб, Жоржетта, — говорил он утром, вставая с постели или нежась под одеялом, а также вечером, когда публика расходилась и экс-чемпион, забравшись за печку, мог подержать в тепле свои тощие волосатые ноги, — не понимаю, чем люб этот Архилохос. Никакой он не мужчина, а просто растяпа. Нельзя же всю жизнь ничего не пить, кроме молока и минеральной воды.
— И ты прежде ничего другого не пил, — отвечала Жоржетта своим низким голосом и подбоченивалась, а если она лежала в кровати, то складывала руки на мощной груди.
— Согласен, — говорил Огюст после долгого размышления, во время которого он не переставая массировал себе ноги. — Но у меня была цель: прийти первым в «Тур де Сюис», и я пришел первым, хотя брал такие высокие перевалы; и в «Тур де Франс» я тоже чуть не пришел первым. Ради этого стоило себе во всем отказывать. С Архилохосом ты меня не равняй. Он даже с женщинами не спал, хоть ему уже сорок пять.
Последнее огорчало и мадам Билер. Она приходила в смущение всякий раз, когда Огюст, лежа в кровати или расхаживая по комнате в своем костюме гонщика, касался этой темы. Нельзя отрицать, что у мсье Арнольфа — так мадам называла Архилохоса — были свои твердые принципы. К примеру, он не курил. А уж о крепких словечках и говорить нечего. Наконец, Жоржетта не могла представить себе Арнольфа в ночной рубашке и уж тем более — голым: настолько он был всегда подтянутым и застегнутым на все пуговицы, хотя одет был бедновато.
Мир его стоял незыблемо: все было разложено по полочкам, высоконравственно, жесткая иерархия. И во главе этой системы, этого нравственного миропорядка возвышался президент государства.
— Поверьте мне, мадам Билер, — говорил иногда Архилохос, почтительно взирая на портрет президента в рамке из эдельвейсов, который висел позади стойки над бутылками из-под водки и ликеров. — Поверьте мне, наш президент — трезвенник, мудрец, почти святой. Не курит, не пьет, уже тридцать лет как овдовел. Можете сами прочесть об этом в газетах.
Мадам Билер не решалась возражать по существу. Она, как и все ее сограждане, испытывала почтение к президенту — ведь он был единственной твердыней в беспокойной политической жизни страны, в этой чехарде, где правительства без конца сменяли одно другое, — испытывала почтение, хотя столь безупречная добродетель пугала ее. Трудно было в это поверить.
— Мало ли что пишут в газетах, — говорила Жоржетта нерешительно, — пусть себе пишут, но как оно там на самом деле — никому не ведомо. Все знают, что газеты врут.
— Нет, — отвечал Архилохос, — неверно. Мир, в сущности, исполнен нравственности. — И при этом он размеренными глотками допивал перье, да так торжественно, словно то было шампанское. — Огюст тоже верит газетам.
— Ну что вы, — возражала хозяйка, — уж мне-то лучше знать. Огюст не верит газетам, ни одному их слову.
— Разве он не верит спортивной хронике, которую печатают газеты?
С этим мадам Билер не могла спорить.
— Добродетель всем видна, — продолжал Архилохос, протирая свои очки без оправы, с погнутыми дужками. — Она светится на лице президента, и на лице моего епископа она тоже светится. — При этом Архилохос бросал взгляд на портрет, висевший над дверью.
Мадам Билер протестовала: епископ, говорила она, довольно-таки толстый мужчина, уж он-то никак не может быть добродетельным.
Однако и в этом пункте Архилохоса нельзя было поколебать.
— Такая у него комплекция, — возражал он, — если бы он не жил добродетельно, как мудрец, он был бы еще толще. Вот посмотрите на Фаркса: невоздержанный субъект, неуемный гордец. Законченный грешник. И к тому же тщеславный. — Большим пальцем он через правое плечо указывал на изображение пресловутого революционера.
Но мадам Билер не сдавалась.
— Какое уж там тщеславие, — заявляла она, — при эдакой физиономии и всклокоченной шевелюре. Да еще при его-то социальных симпатиях.
Арнольф возражал, что у Фаркса, дескать, особый вид тщеславия.
— Не понимаю, почему здесь красуется этот совратитель. Ведь его только что выпустили из тюрьмы.
— Никогда не знаешь, как все обернется, — говорила в таких случаях мадам Билер, залпом выпивая бокал кампари. — Никогда не знаешь. В политике тоже надо быть осторожным.
Возвратимся, однако, к портрету епископа. Портрет Фаркса висел на противоположной стене. Епископ занимал второе место в иерархическом миропорядке господина Архилохоса. То был не католический епископ, хотя мадам Билер была на свой лад доброй католичкой: она ходила в церковь — если ей случалось туда зайти, — чтобы самозабвенно поплакать (точно так же самозабвенно она плакала и в кино). То был также не протестантский епископ, хотя Огюст Билер (Густи, сын Гёду Билера), выходец из немецкой Швейцарии (Гроссафолтерн), этот «корифей велогонок, которого Швейцария дала миру» («Спорт» от 9 сентября 1929 года), как сторонник Цвингли[22], не признавал вообще никаких епископов, впрочем, сам он и не подозревал, что является цвинглианцем. Тот епископ на стене был главой старо-новопресвитериан предпоследних христиан, довольно-таки редкой и путаной секты, импортированной из Америки; теперь он висел над дверью, потому что Архилохос впервые предстал перед Жоржеттой с его портретом под мышкой.
Это было девять месяцев назад. Майский день, на улицах — яркие солнечные блики, в маленькой закусочной — косые снопы света, золотившие и без того золотистую майку Огюста, а также его унылые волосатые ноги велогонщика, как бы окутывая их мерцающим облаком.
— Мадам, — сказал тогда Архилохос робко, — я пришел к вам потому, что в вашем заведении висит портрет нашего президента. Прямо над стойкой, на самом видном месте. Меня как патриота это радует. Я ищу ресторанчик, где мог бы столоваться. По-домашнему. Я хотел бы иметь постоянное место, лучше всего в углу. Я одинок, работаю бухгалтером, веду размеренный образ жизни, совершенно не употребляю спиртного. Не курю. И конечно, не произношу бранных слов.
Они столковались насчет цены.
— Мадам, — заговорил Архилохос снова, передавая хозяйке портрет и меланхолично разглядывая ее через свои грязноватые и немодные очки, — мадам, разрешите обратиться к вам с просьбой: повесьте, пожалуйста, на стенку этого старо-новопресвитерианского епископа предпоследних христиан. Желательно рядом с президентом. Я не могу есть в помещении, где нет этого портрета. Именно потому я и ушел из столовой Армии спасения, в которой питался до сих пор. Я чту епископа. Он пример абсолютного трезвенника, настоящего христианина.
Так получилось, что Жоржетта повесила у себя епископа предпоследних христиан — правда, всего лишь над дверью, — и он висел там, безмолвный и ублаготворенный, человек чести; только иногда его предавал Огюст, кратко и ясно отвечая на вопрос немногих любопытных:
— Мой коллега по спорту.
Через три недели Архилохос принес второй портрет. Фотографию с факсимиле. На фотокарточке был изображен Пти-Пейзан — владелец машиностроительного концерна «Пти-Пейзан». Архилохос сказал, что ему было бы приятно, если бы в закусочной висел также Пти-Пейзан. Может быть, его стоило бы повесить вместо Фаркса. Оказалось, что в основанном на нравственных принципах миропорядке Архилохоса владелец машиностроительного концерна занимал третье место. Но мадам Жоржетта была против.
— Пти-Пейзан производит пулеметы, — сказала она.
— Ну и что?
— Танки.
— Ну и что?
— Атомные пушки.
— Не забывайте электробритву Пти-Пейзана и родовспомогательные щипцы Пти-Пейзана, мадам Билер. Исключительно гуманные изделия.
— Мсье Архилохос, — торжественно возвестила Жоржетта, — я должна вас предостеречь: никогда не имейте дела с Пти-Пейзаном.
— Я служу у него, — ответил Арнольф.
Жоржетта рассмеялась.
— Раз так, — сказала она, — зря вы пьете одно только молоко и минеральную воду, зря не едите мяса. — (Архилохос был вегетарианец.) — И не живете с женщинами. Пти-Пейзан выполняет поставки для армии, а когда армия обеспечена поставками, начинается война. Это уж всегда так.
Архилохос стоял на своем.
— Но не при нашем президенте! — воскликнул он. — Не у нас.
— Как же!
На это Архилохос, ничуть не смутившись, ответил, что мадам, мол, ничего не знает о санатории для беременных работниц и о домах призрения для престарелых рабочих-инвалидов, которые открыл Пти-Пейзан. Вообще Пти-Пейзан человек нравственный, можно сказать, настоящий христианин.
Но мадам Билер была непреклонна, и получилось так, что, кроме первых двух столпов миропорядка господина Архилохоса (он сидел в своем углу, окруженный болельщиками, бледный, застенчивый, немного располневший), третьим в ее заведении висел тот, кто в этом миропорядке был последним звеном, воплощением негативных явлений, а именно Фаркс, коммунист, устроивший путч в Сан-Сальвадоре и революцию на Борнео. Ибо и номер четвертый Арнольфу тоже не удалось протащить.
Передавая Жоржетте еще одну картинку — на сей раз репродукцию, и притом дешевенькую, — Архилохос предложил повесить ее где угодно, ну хотя бы под Фарксом.
Жоржетта спросила, кто это намалевал, и с удивлением воззрилась на треугольные четырехугольники и на искривленные круги, представившиеся ее взору.
— Пассап.
Оказалось, что мсье Арнольф — поклонник этой мировой знаменитости. Тем не менее Жоржетта никак не могла понять, что изображено на картине.
— Подлинная жизнь, — утверждал Архилохос.
— Но ведь внизу написано «Хаос»! — воскликнула Жоржетта и показала на правый нижний угол репродукции.
Архилохос покачал головой:
— Великие художники творят бессознательно. Я убежден, что это полотно изображает подлинную жизнь.
Однако никакие доводы не помогли, и это так разобидело Архилохоса, что он не приходил в закусочную целых три дня. Потом он опять явился, постепенно мадам Билер вошла в курс жизни мсье Арнольфа, если вообще можно назвать это существование жизнью, таким оно было размеренным, упорядоченным и ни с чем не сообразным. Выяснилось, например, что в миропорядке Архилохоса были еще номера — от пятого до восьмого включительно.
Номером пятым шел Боб Форстер-Монро, посол Соединенных Штатов. Правда, он не являлся старо-новопресвитерианцем предпоследних христиан, а был всего лишь старопресвитерианцем предпоследних христиан — обидное, но не безнадежное различие, о котором Архилохос, человек отнюдь не нетерпимый, мог рассуждать часами. (Не считая всех других религий, он решительно отвергал и новопресвитериан предпоследних христиан.)
Номером шестым шел мэтр Дютур.
Номером седьмым — Эркюль Вагнер, ректор университета.
В свое время адвокат Дютур защищал давным-давно обезглавленного убийцу-садиста, который был младшим проповедником у старо-новопресвитериан. («Это плоть изнасиловала его дух, душа осталась неоскверненной».) Что же касается ректора университета, то он посетил как-то раз студенческое общежитие предпоследних христиан и минут пять беседовал со вторым номером миропорядка (епископом).
Под номером восьмым шел Биби Архилохос, брат Арнольфа, большой души человек, как его охарактеризовал Архилохос, но безработный, что немало удивило Жоржетту, ведь благодаря стараниям Пти-Пейзана вся страна была пристроена к делу.
Архилохос жил в каморке под крышей неподалеку от закусочной «У Огюста» — так называлось заведение чемпиона велоспорта, — и ему приходилось тратить больше часа, чтобы добраться до белого двадцатиэтажного административного здания машиностроительного концерна Пти-Пейзана, которое построил Ле Корбюзье. Каморка Арнольфа помещалась в мансарде на шестом этаже. Вонючий коридор, в комнатке негде повернуться, косой потолок, обои неопределенного цвета, стул, стол, койка, Библия, выходной костюм, прикрытый простыней. Зато на стене… Во-первых — президент, во-вторых — епископ, в-третьих — Пти-Пейзан, в-четвертых — репродукция картины Пассапа (четырехугольные треугольники), и так далее вплоть до Биби (семейная фотография: родители и детишки). Вид из окна: грязная стена общественной уборной всего на расстоянии двух метров, подозрительные подтеки — белые, желтые и зеленые; ровные ряды открытых вонючих окошек; только в разгар лета около полудня в каморку откуда-то сверху проникало солнце; вдобавок все время слышался шум спускаемой воды. Что касается рабочего места, то Архилохос сидел вкупе с пятьюдесятью другими бухгалтерами в большом, разделенном стеклянными перегородками зале, напоминающем лабиринт; передвигаться по нему можно было только зигзагами; восьмой этаж, объединение акушерских щипцов: нарукавники, карандаш за ухом, серый рабочий халат, обед в столовке при предприятии, где Архилохос чувствовал себя несчастным, потому что там не было портретов президента и епископа, а только портрет Пти-Пейзана (номер три). Собственно говоря, Архилохос числился не бухгалтером, а всего лишь помощником бухгалтера. А если выразиться точнее — младшим помощником бухгалтера. Словом, он являлся одним из последних помощников бухгалтера, если вообще можно употребить термин «последний», поскольку число бухгалтеров и помощников бухгалтеров в концерне Пти-Пейзана практически приближалось к бесконечности. Но, даже занимая эту незначительную, чуть ли не последнюю должность, наш Архилохос зарабатывал гораздо лучше, чем это можно было предположить, судя по его мансарде. К полутемной, окруженной уборными трущобе его приковывал Биби.
2
С номером восьмым (братом) мадам Билер познакомилась. Это произошло как-то в воскресенье. Арнольф пригласил Биби Архилохоса отобедать «У Огюста».
Биби появился с одной законной и двумя незаконными женами и семью детками; старшие, Теофил и Готлиб, были уже почти взрослые. Тринадцатилетняя Магда-Мария привела поклонника. Сам Биби оказался горьким пьяницей; жену его сопровождал «дядюшка», как его называла вся семья, — отставной моряк, от такого не избавишься. Поднялся адский шум, даже болельщики ахнули. Теофил хвастался тем, что сидел в тюрьме. Готлиб — тем, что участвовал в ограблении банка. Маттиас и Себастьян, двенадцати и девяти лет от роду, не расставались с финками, а оба младших мальчика, близнецы шести лет — Жан-Кристоф и Жан-Даниэль, — подрались из-за бутылки настойки.
— Что за люди! — воскликнула возмущенная Жоржетта, когда вся эта банда удалилась.
— Они еще дети, — успокаивал ее Архилохос, уплачивая по счету (половину своего месячного оклада).
— Послушайте, — возмутилась мадам Билер, — ваш брат содержит, по-моему, целую шайку разбойников. И вы еще даете ему деньги? Чуть ли не все, что зарабатываете?
Но и в этом пункте Архилохоса нельзя было переубедить.
— Нужно смотреть в корень, мадам Билер, — сказал он. — Нужно смотреть в корень, а корень у них здоровый. Как у всех людей. Внешность обманчива. Мой брат, его супруга и их детки — благородные создания, пожалуй только плохо приспособленные к жизни в этом мире.
И вот Архилохос опять пришел в маленькую закусочную — было снова воскресенье, половина десятого утра, — пришел на этот раз по другому поводу, с красной розой в петлице. И Жоржетта с нетерпением дожидалась его… Во всем был, в сущности, виноват этот нескончаемый дождь, и туман, и холод, и непросыхающие носки, и эпидемия гриппа, и еще то, что грипп перешел в желудочный и Архилохос — мы ведь знаем его жилищные условия — из-за постоянного шума не мог сомкнуть глаз. Все это заставило Арнольфа изменить свою позицию: чем выше поднималась вода в сточных канавах, тем покладистей он становился, а мадам Билер все настойчивей заводила речь на одну тему, которая ее чрезвычайно задевала.
— Вам надо жениться, мсье Арнольф, — говорила она. — Что за жизнь у вас в этой каморке под крышей? И нельзя вечно быть в обществе болельщиков, вы ведь человек с культурными запросами. Вам необходима жена, которая бы о вас заботилась.
— Обо мне заботитесь вы, мадам Билер.
— Бросьте, если вы женитесь, все будет по-другому. Уютное гнездышко. Сами увидите.
Наконец она вырвала у него согласие поместить брачное объявление в газете «Ле суар». И тут же принесла бумагу, ручку и чернила.
— «Холостой бухгалтер, сорок пять лет, старо-новопресвитерианин, чуткий, ищет старо-новопресвитерианку», — предложила она.
— Это лишнее, — сказал Архилохос, — я сам обращу свою жену в истинную веру.
Жоржетта согласилась:
— «…ищет милую, веселую жену своего возраста. Можно вдову».
Но Архилохос заявил, что нужна обязательно девушка.
Жоржетта стояла на своем.
— О девушке забудьте, — сказала она твердо. — У вас никогда не было женщины, а хотя бы один из двоих должен знать, как это делается.
Но тут мсье Арнольф осмелился возразить, что он, мол, представлял себе объявление совершенно иначе.
— Как именно?
— Грек ищет гречанку!
— Господи! — поразилась мадам Билер. — Разве вы грек? — спросила она и уставилась на господина Архилохоса, слегка обрюзгшего, неуклюжего мужчину, скорее северного склада.
— Видите ли, мадам Билер, — сказал он застенчиво, — люди действительно представляют себе греков не такими, каким стал я. И впрямь, мой предок давным-давно переселился в эту страну, чтобы погибнуть в битве при Нанси на стороне Карла Смелого. Так что я не очень-то похож на грека. Согласен. Но сейчас, мадам Билер, в этот туман и стужу, в этот дождь, меня так же, как почти каждую зиму, тянет на родину, которую я никогда не видел. Я мечтаю о Пелопоннесе, о его красноватых скалах и голубом небе. Я как-то прочел об этом в «Матче». Вот почему я непременно хочу жениться на гречанке, наверно, и она в этой стране чувствует себя такой же одинокой.
— Вы поэт в душе, — ответила Жоржетта, вытирая слезы.
И смотри-ка, уже на третий день Архилохосу пришел ответ. Маленький надушенный конвертик с голубым, как небо Пелопоннеса, листочком бумаги. Хлоя Салоники писала ему, что она одинока, и спрашивала, когда им можно встретиться.
По совету Жоржетты он ответил в письменной форме, предложив Хлое встретиться «У Огюста» в январское воскресенье такого-то числа. Они узнают друг друга по красной розе.
Архилохос надел свой темно-синий костюм, справленный еще к конфирмации, но забыл пальто дома. Он волновался.
Думал, не повернуть ли ему назад, не забраться ли в свою мансарду, и впервые ощутил недовольство, увидев, что у дверей закусочной его поджидает Биби, с трудом различимый в тумане.
— Гони монету, — сказал Биби, протягивая свою братскую раскрытую ладонь. — Магде-Марии необходимо брать уроки английского.
Архилохос удивился.
— У нее новый кавалер, вполне приличный, — разъяснил Биби, — но говорит он только по-английски.
Архилохос с красной розой в петлице дал Биби деньги.
Жоржетта тоже не находила себе места, один Огюст, как всегда, когда в кафе не было народу, спокойно сидел в своем костюме велогонщика у печки, потирая голые ноги.
Мадам Билер прибирала на стойке.
— Интересно, какая она. Можно лопнуть от любопытства, — сказала Жоржетта, — держу пари, что толстая, но милашка. Надеюсь, не слишком старая, ведь про это она ничего не пишет. Да и кто признается в таких вещах?
Чтобы немного согреться, Архилохос заказал стакан горячего молока.
Хлоя Салоники вошла в закусочную как раз в ту минуту, когда он протирал очки, запотевшие от пара, который подымался над стаканом.
По близорукости Архилохос увидел сначала только нечто расплывчатое, овал лица и под ним где-то справа большое красное пятно — розу, как он догадывался, но молчание, которое вдруг воцарилось в забегаловке, гробовая тишина, не прерываемая ни звяканьем стаканов, ни человеческим дыханием, так встревожила его, что он не смог сразу нацепить очки. Однако лишь только это удалось ему, как он снова снял их и опять стал в волнении протирать стекла. Произошло нечто невероятное. В этой дыре в туманный и дождливый день свершилось чудо! К обрюзгшему холостяку, к застенчивому растяпе, загнанному судьбой в вонючую каморку под крышей и не пьющему ничего, кроме молока и минеральной воды, к этому младшему помощнику бухгалтера, изнывающему от своих принципов и страхов, разгуливающему в мокрых рваных носках, в измятой рубахе, в куцем костюмчике и в стоптанных башмаках, — к этому человеку, у которого в голове была сплошная каша, явилось волшебное создание, чудо красоты и грации, настоящая маленькая принцесса; немудрено, что Жоржетта не смела шелохнуться, а Огюст стыдливо спрятал за печку свои ноги велогонщика.
— Господин Архилохос? — раздался тихий, нерешительный голосок.
Архилохос поднялся и зацепил рукавом стакан, молоко пролилось на его очки. Он с трудом надел их опять и, застыв на месте, глядел на Хлою Салоники сквозь молочные струйки.
— Принесите мне еще молока, — проговорил он наконец.
— О, — рассмеялась Хлоя, — мне тоже.
Архилохос сел, не в силах оторвать глаз от красавицы и не смея пригласить ее за свой столик. Ему было страшно, эта нереалистическая ситуация подавляла его, и он не отваживался вспоминать о своем объявлении; розу он смущенно вытащил из петлицы пиджака. Он ждал, что Хлоя вот-вот разочарованно повернется к дверям и исчезнет навсегда. А может быть, он думал, что все это ему только снится. Он был беззащитен перед красотой девушки, перед чудом, которое было невозможно постичь и которое, по его мнению, не могло продлиться более нескольких секунд. Он чувствовал себя смешным уродом и вдруг с необычайной ясностью представил себе свое жилище, беспросветность рабочего квартала, в котором он прозябал, и все унылое однообразие работы младшего помбуха; но тут девушка присела к нему за столик и взглянула на него своими огромными черными глазами.
— Ах, — сказала она счастливым голосом, — я и не знала, что ты такой славный. И я рада, что мы, греки, нашли друг друга. Подвинься ближе, у тебя на очках молоко. — Она сняла с него очки и вытерла их, очевидно, своим шарфом, так показалось близорукому Архилохосу, а потом принялась дышать на стекла.
— Мадемуазель Салоники, — с трудом выдавил из себя Архилохос. Казалось, он произносит свой смертный приговор. — Я, может быть, уже и не совсем настоящий грек. Моя семья эмигрировала во времена Карла Смелого.
— Грек всегда остается греком, — рассмеялась Хлоя. Потом она надела на него очки, и Огюст принес молоко.
— Мадемуазель Салоники…
— Зови меня просто Хлоя, — сказала она, — и говори мне «ты», мы ведь поженимся, я хочу выйти за тебя замуж, потому что ты грек. Мне хочется, чтобы ты был счастлив.
Архилохос покраснел.
— Хлоя, я в первый раз в жизни беседую с девушкой, — выдавил он из себя наконец. — Из женщин я разговаривал раньше только с мадам Билер.
Хлоя молчала. Она, очевидно, думала о чем-то своем, и они пили горячее молоко, от которого шел пар.
Дар речи вернулся к мадам Билер только после того, как Хлоя и Архилохос вышли из закусочной.
— Какой шик, — сказала она, — глазам своим не верю. А за эти браслет и колье она, наверно, отдала сотни тысяч франков, здорово потрудилась. А манто ты видел? Не знаю, что и за мех! О лучшей жене мечтать нельзя.
— Совсем молоденькая, — не мог прийти в себя Огюст.
— Положим, ей уже за тридцать, — ответила Жоржетта и налила себе стакан кампари с содовой. — Но она следит за собой. Небось каждый день у нее массаж.
— И у меня тоже был массаж, когда я занял первое место в «Тур де Сюис», — сказал Огюст и с грустью взглянул на свои костлявые ноги. — А какие у нее духи!
3
Хлоя и Архилохос стояли на улице. Дождь все еще шел. И был густой туман, мрак и пронизывающий холод.
Наконец Архилохос прервал молчание и сказал, что на набережной напротив Всемирной организации здравоохранения есть безалкогольный ресторан, очень дешевый.
Архилохос мерз — ведь он был в одном потрепанном мокром костюмчике, справленном еще к конфирмации.
— Возьми меня под руку, — предложила Хлоя.
Помбух смутился. Он толком не знал, как это делается. И только изредка осмеливался взглянуть на девушку, которая легкими шажками пробиралась сквозь туман, накинув на черные волосы серебристо-голубой платочек. Архилохос немного стеснялся. В первый раз он шел вдвоем с девушкой — собственно, он был рад туману. Часы на церкви пробили половину одиннадцатого. Они шли по пустынным улицам предместья, на мокром асфальте отражались ряды домов. Эхо их шагов отбрасывали стены. Казалось, Арнольф и Хлоя идут по сводчатому подземелью. Кругом ни души, но вот навстречу из плотного тумана вынырнул голодный пес, грязный, промокший насквозь спаниель, черный с белым, уши и язык спаниеля уныло висели. Оранжевый свет уличных фонарей казался тусклым. Мимо Арнольфа и Хлои промчался, бессмысленно сигналя, автобус. Наверно, шел к Северному вокзалу. Ошеломленный пустынной улицей, этим воскресеньем и непогодой, Архилохос прижался к мягкому меху, ища укрытия под маленьким красным зонтиком Хлои. Они шагали в ногу, почти как настоящая любовная парочка. Где-то в тумане гнусаво запели — это была Армия спасения, а из окон домов по временам доносилась музыка — по телевидению передавали утренний концерт, какую-то симфонию, не то Бетховена, не то Шуберта, и во все эти звуки врывались гудки машин, плутавших в тумане. Арнольф и Хлоя спустились к реке — так им по крайней мере казалось: одинаковые улицы сменяли друг друга, видны были только куски мостовой, да и то когда светлело; все остальное растворилось в серой пелене. Потом потянулся длинный-предлинный бульвар со скучными однообразными фасадами домов по обеим сторонам, и стало ясно, что они шли теперь мимо особняков давно прогоревших банкиров и отцветших кокоток, особняков с дорическими и коринфскими колоннами у подъездов, с чопорными балконами и высокими окнами в бельэтаже, освещенными или заколоченными, мокрыми и призрачными.
Хлоя начала рассказывать. Она рассказывала историю своей юности, столь же необыкновенную, как она сама. Она говорила запинаясь, порой смущенно. Но самые неправдоподобные эпизоды не вызывали сомнения у младшего бухгалтера — ведь и то, что он переживал сейчас, походило на сказку.
Хлоя была сиротой (по ее словам), родилась в греческой семье, эмигрировавшей с Крита, там они замерзали в суровые зимы. В бараке. А потом Хлоя осталась одна-одинешенька. Она росла в трущобах, ходила в лохмотьях, грязная, как тот черный с белым спаниель; воровала фрукты с лотков и монетки из церковных кружек. Ее преследовала полиция, за ней охотились торговцы живым товаром. Она спала в пустых бочках и под мостами вместе с бродягами, пугливая и недоверчивая, как зверек. А потом ее подобрала чета археологов, подобрала в буквальном смысле этого слова во время вечерней прогулки; девочку поместили в школу к монахиням, и вот она подросла и стала прислугой у своих благодетелей; приличная одежда, приличное питание, в общем и целом — ужасно трогательная история.
— Чета археологов? — удивился Арнольф. Такого он еще не слыхивал.
Хлоя Салоники разъяснила, что это супруги, которые занимаются археологией и производят в Греции раскопки.
— Они обнаружили там храм с ценными статуями, который погрузился во мхи. Храм с золотыми колоннами, — добавила она.
Он спросил, как зовут супруга.
Хлоя немного замялась. Казалось, она подыскивала подходящее имя.
— Джильберт и Элизабет Уимэн.
— Знаменитые Уимэны?
(Только что в «Матче» была напечатана об Уимэнах статья с цветными иллюстрациями.)
— Они самые.
Арнольф сказал, что он включит их в свой миропорядок, основанный на нравственных принципах, под номерами девять и десять, а может быть, и под номерами шесть и семь, мэтр Дютур и ректор университета тогда перейдут, соответственно, на номера девять и десять, что, впрочем, тоже весьма почетно.
— У тебя есть свой миропорядок? — с удивлением спросила Хлоя. — Что это такое?
Архилохос ответил, что каждому человеку необходимо иметь в жизни опору, а также нравственные образцы для подражания. И его, Архилохоса, путь был нелегким, хотя он и не рос среди убийц и бродяг; они с братом Биби воспитывались в сиротском приюте; после этого он начал рассказывать Хлое о своем высокоморальном миропорядке.
4
Погода исправилась, но вначале они этого даже не заметили. Дождь перестал, в тумане появились просветы. Теперь он как бы стал призрачным; над виллами, банками, правительственными зданиями и дворцами клубились, сплетались, подымались ввысь и постепенно таяли нескончаемые драконы, неповоротливые медведи и люди-гиганты.
Сквозь скопления тумана проглядывало голубое небо, вначале, правда, тускло, еле заметно, как предвестник весны, которая придет еще не скоро; голубые пятна были сперва очень блеклыми, но потом они стали яснее, лучезарнее, ярче. На мокром асфальте вдруг обрисовались тени домов, уличных фонарей, памятников, и внезапно каждый предмет обрел необычайную четкость и заблестел в потоках света.
Архилохос и Хлоя очутились на набережной перед дворцом президента. Бурая река чудовищно вздулась. Через нее были перекинуты мосты с ржавыми чугунными решетками, под ними плыли пустые баржи, увешанные детскими пеленками, на палубах прогуливались промерзшие капитаны с трубками в зубах. Улицы по случаю воскресенья были полны народа. Вдоль тротуаров шпалерами выстроились важные старики со своими разряженными в пух и прах внуками, целые семьи. Повсюду были видны полицейские, фоторепортеры, журналисты — очевидно, они ожидали президента. И вот он выехал из дворца в своей исторической карете, запряженной шестеркой белых лошадей, а вокруг кареты гарцевали лейб-гвардейцы в золотых шлемах с белыми плюмажами; президент должен был, наверно, совершить акт государственной важности — освятить памятник, или прикрепить орден к чьей-то груди, или открыть сиротский приют. Цоканье копыт, фанфары, крики «ура», мелькание шляп в воздухе, омытом туманом и дождем.
И тут-то случилось нечто непостижимое.
В ту самую секунду, когда президент поравнялся с Хлоей и Архилохосом и Арнольф, обрадованный неожиданной встречей с номером первым его миропорядка (который он как раз собирался разъяснить Хлое), уставился на своего седого бородатого кумира — лицо президента в позолоченном переплете каретного окошка было точь-в-точь как на фотографии, висевшей у мадам Билер над бутылками перно и кампари, — в ту самую секунду президент поздоровался с младшим бухгалтером, махнув ему рукой, будто Архилохос был его закадычный приятель. Рука его превосходительства в белой перчатке настолько явственно взмахнула и жест этот столь недвусмысленно относился к Архилохосу, что два полицейских с залихватскими усами вытянулись перед бухгалтером во фрунт.
— Президент поздоровался со мной, — пролепетал ошеломленный Архилохос.
— А почему бы ему не здороваться с тобой? — спросила Хлоя Салоники.
— Но ведь я человек маленький.
— Он — президент. Стало быть, всем нам отец, — так откомментировала странное происшествие Хлоя.
Но тут произошло новое событие, которого Архилохос, правда, также не понял, но которое преисполнило его еще большей гордостью.
Собственно, он как раз собрался поговорить о номере втором своего миропорядка, о епископе Мозере, и о той глубокой пропасти, которая разделяет старо-ново- и просто старопресвитериан предпоследних христиан, а затем вкратце остановиться на новопресвитерианах (этом скандальном явлении внутри пресвитерианской церкви), как вдруг они увидели Пти-Пейзана (номер третий миропорядка Архилохоса, до которого, в сущности, речь еще не дошла). Пти-Пейзан вышел не то из Международного банка, находившегося в пятистах метрах от президентского дворца, не то из собора святого Луки, расположенного рядом с банком. Одет он был с иголочки — пальто, цилиндр, белый галстук; прямо-таки лоснился от элегантности. Его шофер уже распахнул дверцу «роллс-ройса», и в эту секунду Арнольф заметил Пти-Пейзана. Он растерялся. Это было небывалое событие в его жизни, и притом поучительное, если вспомнить, что он как раз разъяснял Хлое свой миропорядок. Миллионер не знал Архилохоса, да и не мог знать, поскольку Архилохос был всего лишь младшим помощником бухгалтера в объединении акушерских щипцов, и именно это обстоятельство дало Архилохосу мужество указать перстом на великого человека, но не дало ему мужества поздороваться с ним (нельзя же здороваться с высшим существом!). Итак, Архилохос, хоть он и испугался, все-таки чувствовал себя защищенным — ведь он мог незамеченным пройти мимо всемогущего промышленника. Но тут во второй раз, как только что с президентом, случилось чудо: Пти-Пейзан ухмыльнулся, снял цилиндр, помахал им и отвесил любезный поклон побледневшему Архилохосу, а потом, опустившись на мягкое сиденье своего лимузина, еще раз взмахнул рукой, и машина умчалась.
— Это был Пти-Пейзан, — тяжело дыша, пробормотал Архилохос.
— Ну и что?
— Номер третий моего миропорядка.
— Ну и что?
— Он мне поклонился!
— Надо надеяться.
— Но я всего лишь помощник бухгалтера и работаю еще с пятьюдесятью другими помощниками бухгалтеров во второстепенном подотделе отдела акушерских щипцов! — воскликнул Архилохос.
— Стало быть, у него есть социальное чутье, — заявила Хлоя твердо, — и он достоин занять третье место в твоем миропорядке, основанном на нравственности.
По-видимому, она никак не могла уразуметь, насколько поразительно было это происшествие.
Чудесам воскресного дня конца не предвиделось, да и сам этот зимний день становился все лучезарней, все теплей, небо все голубело; это уже было какое-то невероятное небо. С Архилохосом, который шагал со своей гречанкой то по мостам с чугунными решетками, то по старым аллеям парка мимо полуобвалившихся дворцов, теперь здоровался, казалось, весь огромный город. И сердце Арнольфа наполнялось гордостью, он приосанился, его походка стала непринужденной, лицо просветлело. Он уже представлял собой нечто более значительное, нежели простой младший помощник бухгалтера. Он был счастливым человеком! Из кафе и автобусов ему махали рукой вылощенные молодые люди, ему кланялись солидные господа с серебристыми висками, с ним поздоровался даже увешанный орденами бельгийский генерал, который вышел из джипа, — очевидно, он служил в штабе НАТО. Американский посол Боб Форстер-Монро, который прогуливался около посольства с двумя шотландскими овчарками, явственно крикнул Арнольфу «хэлло»; что касается номера второго (это был епископ Мозер, еще более упитанный, чем на портрете у мадам Билер), то он повстречался им между Национальным музеем и крематорием, недалеко от безалкогольного ресторана, что напротив Всемирной организации здравоохранения. И епископ Мозер поклонился Архилохосу — теперь это казалось в порядке вещей. Архилохос знал епископа только по пасхальным проповедям, это отнюдь не было личным знакомством, просто Арнольф внимал Мозеру в толпе старушек, распевавших псалмы; правда, он читал о жизни епископа раз сто в брошюре, посвященной этому важному вопросу и распространяемой в епархии. Однако епископ выглядел еще более смущенным, чем приветствуемый им рядовой прихожанин старо-новопресвитерианской церкви, которую сей муж возглавлял. Поздоровавшись, епископ заторопился и моментально юркнул в какой-то глухой проулок.
А потом Архилохос и Хлоя обедали в безалкогольном ресторане. Они сели у окна и смотрели на другой берег реки — на Всемирную организацию здравоохранения и на памятник знаменитому здравоохранителю из этого ведомства; памятник облюбовали чайки, они сидели на нем, взмывали ввысь и, покружившись в воздухе, снова садились на то же место. Архилохос и Хлоя, утомленные долгой прогулкой, молчали, держась за руки, хотя им уже подали суп. Ресторан посещали главным образом старо-новопресвитериане (и в небольшом количестве старопресвитериане), в основном старые девы и холостяки без царя в голове; борясь с алкоголизмом, они приходили сюда по воскресеньям обедать, хотя хозяин, закоснелый католик, ни за что не желал повесить в своем заведении портрет Мозера, более того, рядом с изображением президента красовалось изображение католического архиепископа.
5
А после два грека нашли прибежище под сенью двух других греков. Теперь Архилохос и Хлоя сидели на скамейке в старом городском парке, все теснее прижимаясь друг к другу, рядом с замшелой скульптурой, которая, согласно всем путеводителям и городским справочникам, должна была изображать Дафниса и Хлою. Они наблюдали, как за деревьями опускалось солнце, похожее на алый воздушный шарик. И здесь с Архилохосом все здоровались. Казалось, этим невзрачным человеком (бледным, слегка обрюзгшим очкариком), которого раньше никто не замечал, кроме болельщиков «У Огюста» и младших бухгалтеров, вдруг заинтересовался весь город — он как бы стал центром всеобщего внимания. Сказка продолжалась. Мимо Архилохоса и Хлои проследовал номер четвертый (Пассап), окруженный толпой ценителей искусства, кое-кто из них был озадачен, кое-кто ликовал, ибо мастер живописи только что покончил с прямоугольным, а также кругло-гиперболоидным периодом своего творчества и перешел к изображению углов в шестьдесят градусов, эллипсов и парабол; одновременно он отказался от красной и зеленой красок в пользу синего кобальта и охры. Классик современной живописи в изумлении остановился, пробурчал что-то невнятное, оглядел Архилохоса с ног до головы, кивнул ему и прошествовал дальше, поучая на ходу свою свиту. В отличие от Пассапа мэтр Дютур и ректор университета — в прошлом номера шесть и семь (а ныне девять и десять) — ограничились легким подмигиванием, почти совершенно незаметным, поскольку оба шли рука об руку со своими супругами необъятных размеров.
Архилохос рассказывал о себе, о жизни.
— Жалованье у меня скромное, — сообщил он, — и работа однообразная — сводки об акушерских щипцах. Главное в этом деле — аккуратность. Мой начальник, заместитель бухгалтера, человек строгий, и потом, я должен помогать брату Биби и его деткам. Симпатичные создания, может быть, правда, несколько неотесанные и непосредственные, но зато честные. Мы будем откладывать деньги и через двадцать лет поедем в Грецию. На Пелопоннес и острова. Это моя заветная мечта, а с тех пор, как я знаю, что мы поедем вместе, мечта стала еще прекрасней.
Хлоя обрадовалась.
— Чудесное будет путешествие, — заметила она.
— Мы поедем на пароходе.
— На «Джульетте».
Он вопросительно взглянул на нее.
— Самый шикарный пароход! Мистер и миссис Уимэн всегда путешествуют на «Джульетте».
— Конечно, — вспомнил Архилохос, — в «Матче» об этом писали. Но «Джульетта» нам не по карману, и через двадцать лет ее сдадут в металлолом. Мы поедем на грузовом, это обойдется дешевле.
После чего сказал, что часто думает о Греции, и взглянул на поднимавшийся туман, который пока что стлался по земле наподобие легкого белого дыма. И тогда, продолжал Архилохос, он явственно видит старые, полуразрушенные храмы и красноватые скалы, которые просвечивают сквозь оливковые рощи. Порою ему кажется, что в этом городе он — изгнанник, как иудеи в древнем Вавилоне, и что весь смысл его жизни — вернуться на давно покинутую предками родину.
Теперь туман, похожий на огромные белые тюки ваты, подстерегал их за деревьями и по берегам реки, обволакивая медленно проплывавшие, призывно ревущие баржи, потом начал ползти кверху, окрасился в лиловые тона, а когда красное огромное солнце зашло, окутал все вокруг. Архилохос проводил Хлою на улицу, где жили супруги Уимэн; он заметил, что это был богатый аристократический район. Они шли мимо оград, мимо обширных садов с густыми деревьями, за которыми едва угадывались виллы. Платаны, вязы, буки, черные ели подымались к серебристому вечернему небу, их верхушки тонули во все сгущавшихся клубах тумана. Хлоя остановилась перед узорчатыми воротами с литыми амурчиками и дельфинами, с гирляндами причудливых листьев, перевитых спиралями; ворота замыкали два огромных каменных цоколя, а над ними висел красный фонарь.
— Завтра вечером?
— Хлоя!
— Ты позвонишь? — спросила она, указывая на старинный звонок. — Завтра в восемь. — Потом она поцеловала младшего бухгалтера, обвила руками его шею и поцеловала еще и еще раз. — Мы поедем в Грецию, — прошептала она, — на нашу старую родину. Скоро. На «Джульетте».
Она открыла чугунные ворота и сразу исчезла за деревьями в тумане, но потом взмахнула рукой и ласково крикнула что-то — казалось, в саду запела таинственная птица; Хлоя шла к какому-то зданию, которое, очевидно, находилось в глубине парка.
Архилохос же пустился в обратный путь, в свой рабочий квартал. Идти ему было далеко, он брел по тем же улицам, по которым недавно шагал вместе с Хлоей. Мысленно он вспомнил все этапы этого сказочного воскресенья, постоял немного у опустевшей скамьи под сенью Дафниса и Хлои, потом перед безалкогольным рестораном, из которого как раз выходили последние посетители — старо-новопресвитерианские старые девы; одна из них поклонилась Арнольфу и, видимо, решила подождать его на ближайшем углу. Потом он миновал крематорий и Национальный музей и вышел на набережную. Туман опять сгустился, но сейчас он был не грязно-серый, как раньше, а нежный, молочно-белый. Так ему по крайней мере казалось, и этот чудесный туман был прошит длинными золотистыми нитями и скреплен тонкими игольчатыми звездочками. Архилохос подошел к «Рицу», и в ту секунду, когда он поравнялся с роскошным подъездом, охраняемым швейцаром двухметрового роста в зеленой накидке, в красных шароварах и с длинным серебряным жезлом, из отеля вышли Джильберт и Элизабет Уимэн, знаменитые археологи, которых он знал по фотографиям в газетах. Это были два истых британца, и миссис тоже больше походила на британца, нежели на британку; у них были одинаковые прически и золотые пенсне, а у Джильберта еще рыжие усы и короткая трубка в зубах (в сущности, единственные приметы, которые явственно отличали его от жены).
Архилохос собрался с духом.
— Мадам, мсье, — сказал он. — Мое вам почтение.
— Well, — ответил ученый и с изумлением обратил взгляд на младшего бухгалтера, который стоял перед ним в своем потрепанном костюме, справленном еще к конфирмации, и в стоптанных башмаках и на которого удивленно взирала миссис Элизабет сквозь свое пенсне. — Well, — повторил он снова, а потом добавил: — Yes.
— Я сделал вас номерами шестым и седьмым своего миропорядка, основанного на нравственности.
— Yes.
— Вы приютили гречанку, — продолжал Архилохос.
— Well, — сказал мистер Уимэн.
— Я — тоже грек.
— О, — сказал мистер Уимэн и вытащил кошелек.
Архилохос отрицательно покачал головой.
— Нет, сударь, нет, сударыня, — сказал он, — я знаю, что моя внешность не внушает доверия и что я, пожалуй, не ярко выраженный греческий тип. Но моего жалованья в машиностроительном концерне Пти-Пейзана должно хватить на то, чтобы завести скромный домашний очаг. И детишек мы вправе позволить себе — правда, всего трех или четырех, — ведь при машиностроительном концерне Пти-Пейзана существует такое социально передовое учреждение, как санаторий для беременных жен рабочих и служащих.
— Well, — сказал мистер Уимэн и спрятал кошелек.
— Будьте здоровы, — сказал Архилохос, — да благословит вас Господь. Я буду молиться за вас в старо-новопресвитерианской церкви.
6
Однако у входа его ждал Биби с протянутой братской ладонью.
— Теофил задумал обчистить Национальный банк, но фараоны разнюхали, — сказал Биби на своем обычном блатном жаргоне.
— Так что же?
— Ему надо сматываться на юг, а то пахнет жареным. Гони монету. На Рождество отдам.
Архилохос протянул ему деньги.
— Что случилось? — заныл разочарованный Биби. — Так мало?
— Больше никак не могу, — извинился Архилохос. Он был смущен и, к собственному удивлению, немного рассержен. — Право, не могу. Я пригласил девушку в безалкогольный ресторан, что напротив Всемирной организации здравоохранения. Стандартный обед и бутылка виноградного сока. Хочу обзавестись семьей.
Брат Биби испугался.
— Зачем тебе семья? — воскликнул он с возмущением. — Ведь у меня уже есть семья! Или, может, девушка богатая?
— Нет.
— Чем занимается?
— Прислуга.
— Где?
— Бульвар Сен-Пер, дом номер двенадцать.
Биби свистнул сквозь зубы.
— Иди проспись, Арнольф. И дай еще монету.
7
Забравшись в свою каморку на шестой этаж, Архилохос разделся и лег в постель. Собственно говоря, он хотел открыть окно. Воздух был затхлый. Но близость уборных ощущалась как никогда. Арнольф лежал в полутьме. На стене напротив его окна беспрерывно вспыхивал свет то в одном, то в другом узеньком окошечке. И слышался шум воды. Фотографии, висевшие у него в комнате, попеременно возникали из мрака: то епископ, то президент, а вот Биби и его детки, репродукция картины Пассапа — треугольные четырехугольники, а вот кто-то из прочих занумерованных столпов миропорядка.
Архилохос решил, что завтра должен приобрести портреты супругов Уимэн и окантовать их.
В каморке было так невыносимо душно, воздух был такой спертый, что Архилохос задыхался. О сне и думать нельзя было. Ложась в постель, он чувствовал себя счастливым, а сейчас его одолевали заботы. Немыслимо привести сюда Хлою, немыслимо устраивать здесь свой домашний очаг и обзаводиться тремя или четырьмя детками, о которых он мечтал, возвращаясь домой. Необходимо подыскать другое жилье. Но у него нет ни наличных, ни сбережений. Все, что у него было, он отдал брату Биби. И остался ни с чем. Даже это убогое ложе, даже этот колченогий стол и шаткий стул принадлежали не ему. Он снимал меблированную комнату. Его личной собственностью были только портреты столпов миропорядка. Архилохос ужаснулся своей бедности. Он понимал, что изящество и красота Хлои нуждались в изящном и красивом обрамлении. Нет, она не должна вернуться к старому — к ночевкам под мостами, к бочкам и помойкам. Шум спускаемой воды казался ему все более невыносимым, все более отвратительным. Он поклялся вырваться из этой клоаки. Решил уже завтра подыскать себе новую комнату. Но, размышляя над тем, как претворить в жизнь эти замыслы, он терял мужество. Чувствовал, что у него нет выхода. Он был колесиком безжалостной машины, понимал, что не предвидится ни малейшей надежды реализовать чудо, которое судьба подарила ему в это воскресенье. В отчаянии, обессилев, он ждал утра, и оно возвестило о себе адским шумом: воду в уборных спускали с удвоенной силой.
Незадолго до восьми — в это время года на улицах еще было темно — Архилохос, как всегда по понедельникам, вместе с целой армией бухгалтеров, секретарш и помощников бухгалтеров брел по направлению к административному зданию машиностроительного концерна Пти-Пейзана, он был незаметной частичкой серого потока людей, изливавшегося из метро, автобусов, трамваев и электричек, — потока, который при свете уличных фонарей уныло устремлялся к огромному кубу из стали и стекла; куб заглатывал его, разделял на отдельные ручейки, сортировал, поднимал и опускал на лифтах и эскалаторах, проталкивал сквозь коридоры; первый этаж — отдел танков; второй этаж — атомные пушки; третий — пулеметы, и так далее. Толпа сдавливала Архилохоса со всех сторон, мяла и тискала, а потом выбросила на восьмой этаж — объединение акушерских щипцов для родильных домов, отдел 122АЩ, — в одно из тысяч скучных помещений с голыми стенами, разделенных стеклянными перегородками; но, прежде чем приступить к работе, он еще должен был пройти через процедурный кабинет, прополоскать горло и принять таблетку (профилактика против желудочного гриппа) — мероприятие по охране здоровья. Потом он натянул на себя серую спецовку, согреться он так и не успел: в эту ночь в первый раз за всю зиму грянул настоящий жестокий мороз, который сковал весь город. Архилохос торопился, было уже без одной минуты восемь, а в концерне не разрешали опаздывать (время — деньги!). Архилохос сел за стол — даже стол был из стали и стекла, за ним, кроме Архилохоса, трудились еще три помбуха: номера МБ122АЩ28, МБ122АЩ29, МБ122АЩ30, — и снял чехол с пишущей машинки. На его спецовке было начертано: МБ122АЩ31. Когда стрелка на больших часах показала ровно восемь, Архилохос стал выстукивать на машинке окоченевшими пальцами отчет на тему «Резкое повышение спроса на акушерские щипцы Пти-Пейзана в кантоне Аппенцель-Иннерроден». Три помбуха за одним столом с Архилохосом также стучали на машинках, равно как и еще сорок шесть бухгалтеров, сидевших в этой комнате, равно как сотни и тысячи других бухгалтеров, находившихся в здании концерна. Они стучали с восьми до двенадцати, а потом с двух до пяти, в промежутке был перерыв на обед, который надлежало съедать в общей столовке: в образцовом аппарате Пти-Пейзана все было регламентировано, недаром концерн посещали и отечественные министры, и иностранные делегации — из комнаты в комнату проплывали очкастые китайцы и томные индусы со своими супругами в шелках, — словом, все, кто интересовался социальными проблемами.
Однако чудеса, которые случаются по воскресеньям, иногда (хоть и редко) продолжаются и в понедельники.
8
Репродуктор вдруг возвестил, что Архилохоса вызывает начальник отдела бухгалтер Б121АЩ. На секунду в комнате 122АЩ воцарилась мертвая тишина. Никто не дышал. Машинки робко замерли. Грек привстал. Он был бледен, слегка пошатывался. Он не ждал ничего хорошего. Предстояло сокращение штатов. Однако бухгалтер Б121АЩ, кабинет которого находился рядом с комнатой 122АЩ, встретил Архилохоса прямо-таки с распростертыми объятиями. Архилохос, едва осмелившийся переступить порог его кабинета, был ошеломлен. Он наслушался страшных историй о бешеном нраве Б121АЩ.
— Мсье Архилохос! — воскликнул Б121АЩ, направляясь навстречу помбуху и пожимая ему руку. — Не скрою, я уже давно заметил ваш редкостный талант.
— Благодарю вас, — сказал ошарашенный похвалой Архилохос. Он все еще опасался подвоха.
— Ваш отчет, — продолжал, улыбаясь и потирая руки, Б121АЩ (маленький подвижный человечек лет пятидесяти с хвостиком, лысый и близорукий, в белой бухгалтерской куртке с серыми нарукавниками), — ваш отчет о внедрении акушерских щипцов в кантоне Аппенцель-Иннерроден — пример для всех.
Архилохос ответил, что он, мол, очень рад этому, но про себя опять подумал, что стал жертвой злой шутки бухгалтера: его любезность он принимал за коварство. Бухгалтер предложил своему недоверчивому подчиненному сесть, а сам в волнении заметался по комнате.
— Учитывая вашу отличную работу, дорогой господин Архилохос, я задумал предпринять некоторые шаги.
— Весьма польщен, — запинаясь, промолвил Архилохос.
И тут Б121АЩ шепотом поведал, что он, дескать, метит Архилохоса на пост заместителя бухгалтера.
— Только что я направил это предложение начальнику отдела кадров, который ведает нашим отделом.
Архилохос приподнялся в знак благодарности, но бухгалтер хотел урегулировать с ним еще одно дельце, и когда он о нем заговорил, вид у него стал такой робкий и несчастный, словно он, а не Архилохос был всего лишь младшим бухгалтером.
— Да, чуть было не забыл, — тихо сказал Б121АЩ, стараясь сохранить достоинство. — Старший бухгалтер СБ9АЩ выразил желание принять господина Архилохоса. Нынче же утром. — И бухгалтер отер красным клетчатым платком пот со лба. — Да, нынче утром, — продолжал он, — старший бухгалтер вас примет. Сядьте, дорогой друг, в нашем распоряжении еще несколько минут. Но прежде всего возьмите себя в руки, не нервничайте, наберитесь мужества, будьте на высоте положения.
— Конечно, — сказал Архилохос. — Постараюсь.
— Боже мой, — воскликнул бухгалтер, садясь за свой письменный стол, — Боже мой, господин Архилохос, дорогой друг. Я ведь могу назвать вас другом с глазу на глаз в личной беседе? Кстати, моя фамилия — Руммель. Эмиль Руммель. Боже мой, ничего подобного в моей практике еще не случалось, хотя я служу в концерне Пти-Пейзана тридцать три года. Никогда старший бухгалтер так, за здорово живешь, не вызывал младшего помощника — это совершенно поразительное нарушение субординации. Ей-богу, мне дурно, дорогой друг. Конечно, я всегда верил в ваш гений, но подумайте сами! Ведь я еще ни разу в жизни не говорил со старшим бухгалтером, а если бы это случилось — дрожал бы как осиновый лист. Старшие бухгалтеры общаются только с помощниками старших бухгалтеров. А тут вдруг вы! Вас вызвал непосредственно старший бухгалтер. Разумеется, на это есть свои причины, свои тайные соображения: я понимаю — вам предстоит повышение. Сядете на мое место, вот в чем дело, — при этих словах Б121АЩ вытер слезы, — может, вы даже станете помощником старшего бухгалтера. То же самое стряслось недавно в объединении атомных пушек: тамошний бухгалтер имел честь близко познакомиться с супругой одного из главных начальников отдела кадров… Но не думайте, что я намекаю, друг мой, Боже упаси, в данном случае повышение вызвано исключительно вашими деловыми качествами, превосходным отчетом по кантону Аппенцель-Иннерроден, знаю. И еще, дорогой друг, говорю вам это строго между нами: чистая случайность, что мое предложение назначить вас помощником бухгалтера и вызов старшего бухгалтера, так сказать, совпали во времени. Клянусь честью! Мое ходатайство о вашем повышении было уже составлено, и тут, будто гром среди ясного неба, раздался звонок секретарши нашего высокоуважаемого старшего бухгалтера… Но время не ждет, любезный друг… Между прочим, моя жена страшно обрадуется, если вы к нам пожалуете… А уж дочь как обрадуется… Прелестная девушка… миловидная… берет уроки пения… Заходите в любое время… Для нас это большая честь… Уже пора, пятый коридор, юго-восточное крыло, шестой кабинет… О Господи, я ведь сердечник… И почки тоже пошаливают…
9
Старший бухгалтер СБ9АЩ (пятый коридор, юго-восточное крыло, шестой кабинет) был представительный мужчина: черная бородка клинышком, сверкающие золотые зубы, запах духов, животик; на письменном столе фотография полуобнаженной танцовщицы в платиновой рамке. Он принял младшего помбуха с большим достоинством: выгнал из кабинета стайку секретарш и королевским жестом указал Архилохосу на удобное кресло.
— Дорогой господин Архилохос, — начал он, — ваши выдающиеся работы, особенно ваши отчеты о внедрении акушерских щипцов на Дальнем Севере, а главное — на Аляске, уже давно привлекли наше внимание и — хочу подчеркнуть — возбудили восхищение всех моих коллег — старших бухгалтеров. В наших кругах только и разговору что о вас, а упомянутый отчет об Аляске поразил и дирекцию.
— По-видимому, здесь какое-то недоразумение, господин старший бухгалтер, — заметил Архилохос, — я занимаюсь исключительно кантоном Аппенцель-Иннерроден и Тиролем.
— Зовите меня просто Пти-Пьер, — сказал старший бухгалтер СБ9АЩ. — Мы ведь говорим с вами с глазу на глаз, а не в кругу глупых обывателей. Какая разница, кто именно составлял отчет об Аляске? Важно то, что он инспирирован вами, что на нем отпечаток вашего таланта, что он сделан в непревзойденных традициях ваших классических отчетов по кантону Аппенцель-Иннерроден и по Тиролю. Еще одно доказательство, что у вас, слава Богу, есть последователи. Я всегда твердил коллеге старшему бухгалтеру Шренцле: Архилохос — поэт, большой прозаик! Кстати, Шренцле кланяется вам. А также старший бухгалтер Хеберлин. С болью в сердце взирал я на то подчиненное положение, которое вы занимали в нашем прекрасном концерне, — положение, ни в какой степени не соответствующее вашим выдающимся достоинствам. Позвольте между прочим предложить вам рюмочку вермута.
— Спасибо, господин Пти-Пьер, — сказал Архилохос. — Я не потребляю алкогольных напитков.
— Особенно скандальным я нахожу то, что вы работали под началом бухгалтера Б121АЩ, вот уж действительно пешка, серая личность, под началом этого господина Руммлера, или как его там зовут.
— Он только что предложил мне стать заместителем бухгалтера.
— Очень похоже на него, — сердито сказал СБ9АЩ. — Заместителем бухгалтера! Тоже рассудил! Человек с вашими талантами! Ведь бурный рост производства акушерских щипцов Пти-Пейзана в последнем квартале исключительно ваша заслуга.
— Ну что вы, господин Пти-Пьер…
— Не скромничайте, уважаемый друг, не скромничайте. Скромность тоже имеет свои границы. Много лет я терпеливо ждал и надеялся, что вы доверитесь мне, обратитесь к вашему самому верному другу и почитателю, а вы сидите себе под началом этого ничтожества, числитесь младшим помощником младшего бухгалтера, одним из самых младших помощников, и вращаетесь в среде, которая воистину недостойна вас. Давно пора было стукнуть кулаком по столу! Воображаю, как раздражал вас этот сброд. Пришлось мне наконец самому вмешаться. Правда, я всего лишь старший бухгалтер, песчинка в нашем огромном управленческом аппарате, круглый ноль, винтик. Но я собрался с силами. Кто-то ведь должен иметь мужество вступиться за гениального человека, даже если мир провалится в тартарары, даже если это будет стоить ему головы! Гражданское мужество, дорогой мой! Если ни один из нас не найдет в себе гражданского мужества, ставь крест на моральных устоях концерна Пти-Пейзана, мы тогда скатимся к диктатуре бюрократии, о чем я давно кричу на всех перекрестках. И вот я звоню главному начальнику управления кадров нашего отдела — кстати, он вам тоже кланяется, — хочу предложить вашу кандидатуру на пост заместителя директора объединения. Для меня не может быть большей радости, чем работать в концерне под вашим руководством, уважаемый, дорогой господин Архилохос, и, не щадя сил, трудиться над усовершенствованием и распространением акушерских щипцов. Но, к сожалению, к великому сожалению, меня опередил сам Пти-Пейзан — так сказать, всемогущий бог или, если хотите, сама судьба. Лично для меня это маленькая неудача, а для вас, разумеется, огромное счастье, хотя и заслуженное.
— Пти-Пейзан? — Архилохосу казалось, что все это ему снится. — Не может быть!
— Он желает вас видеть, господин Архилохос, еще сегодня, еще сегодня утром, сию минуту, — сказал СБ9АЩ.
— Но…
— Никаких «но».
— Я думаю…
— Господин Архилохос, — торжественно сказал старший бухгалтер и провел рукой по своей холеной бородке. — Давайте говорить начистоту, как мужчина с мужчиной, как добрые друзья. Положа руку на сердце, сегодня исторический день, день истинных признаний и ясности. И вот я чувствую огромную потребность заверить вас честным словом благородного человека, что мое предложение назначить вас заместителем директора объединения и приглашение, которое передал вам Пти-Пейзан — перед этим именем мы все благоговеем, — ни в малейшей степени не связаны между собой. Совсем наоборот. Как раз в ту секунду, когда я диктовал официальное ходатайство о вашем повышении, меня вызвал к себе директор Зевс.
— Директор Зевс?
— Начальник объединения акушерских щипцов.
Архилохос извинился за свою серость. Фамилию Зевс он ни разу не слышал.
— Знаю, — ответил старший бухгалтер, — имена руководящих кадров неизвестны широкому кругу бухгалтеров и их помощников. Да это и не нужно. Пусть канцелярские крысы корпят над своими бумажками, над филькиными грамотами о кантоне Аппенцель-Иннерроден и о других медвежьих углах. Их писанина, строго между нами, дорогой господин Архилохос, никого не волнует… Конечно, я не говорю о присутствующих. Вы — наша опора, ваши отчеты мы, старшие бухгалтеры, признаюсь, буквально рвем друг у друга из рук. Ваши труды по Базельскому округу, например, или по Коста-Рике непревзойденны. Это — классика, как я уже говорил. Что же касается всех остальных младших бухгалтеров и их помощников, то они не стоят тех денег, которые им платят, шуты гороховые, я без конца твержу это господам начальникам. Всю бумажную волокиту я мог бы провернуть один со своими секретаршами. Машиностроительный концерн Пти-Пейзана — не богадельня, и нечего нам нянчиться с умственно отсталыми субъектами. Кстати, директор Зевс сердечно кланяется вам.
— Большое спасибо.
— К сожалению, его увезли в больницу.
— Ай-яй-яй!
— Нервный шок.
— Как жаль.
— Видите ли, дорогой друг, благодаря вам в руководстве объединения акушерских щипцов разыгралась форменная буря. По сравнению с тем, что творится у нас, в Содоме и Гоморре была тишь и гладь. Пти-Пейзан пожелал встретиться с вами! Ладно, это его право, всемогущий бог все может, даже согнуть луну в бараний рог, но, если бы он это сделал, мы все же удивились бы. Пти-Пейзан — и младший бухгалтер! Примерно такое же чудо! Естественно, что в ушах незадачливого директора раздался погребальный звон. А заместитель директора? И он тоже свалился как подкошенный.
— Но почему?
— Голубчик, драгоценный, да потому что вас назначат директором объединения акушерских щипцов, это ясно каждому младенцу, иначе какой смысл в вызове Пти-Пейзана. Человек, которого вызывает Пти-Пейзан, становится директором — это нам по опыту известно. Вот если решают кого-нибудь выгнать, то это идет через отдел кадров.
— Назначат директором меня?
— Несомненно. Об этом уже сообщено в отдел кадров, кстати, Февс вам тоже кланяется.
— Директором объединения акушерских щипцов?
— А может, и директором объединения атомных пушек. Кто знает? Главный начальник отдела кадров Февс считает, что все возможно.
— Но по какой причине? — воскликнул Архилохос, который ничего не понимал.
— Дорогой мой, драгоценный! Вы забываете о ваших выдающихся отчетах по Северной Италии.
Но младший бухгалтер опять упрямо поправил старшего, сказав, что он, мол, занимается только Восточной Швейцарией и Тиролем.
— Да, да. Восточной Швейцарией и Тиролем, всегда путаю географические названия, но ведь я не учитель географии.
— Все, что вы сказали, еще не основание для того, чтобы назначить меня директором объединения акушерских щипцов.
— Ну-ну!
— Чтобы стать директором объединения, нужны особые дарования, а у меня их нет, — запротестовал Архилохос.
СБ9АЩ помотал головой и бросил на Архилохоса загадочный взгляд, потом улыбнулся, оскалив золотые зубы и сложив руки на своем барском животике.
— Дорогой, бесценный друг, — сказал он, — причину, по какой вас назначают директором, должны знать вы, а не я, а если она вам не известна — не допытывайтесь. Так будет лучше. Послушайтесь моего совета. Сегодня мы разговариваем с вами в последний раз. Директорам и старшим бухгалтерам не положено общаться между собой — это было бы нарушением неписаного закона нашего опытно-показательного концерна. Сегодня я первый раз в жизни встретился с господином Зевсом — естественно, встретился в час его заката, а в это время беднягу Штюсси, его заместителя и моего прямого начальника, — он единственный, кто непосредственно общался со старшими бухгалтерами, — в это самое время Штюсси тащили на носилках, форменное светопреставление. Но не будем останавливаться на этой душераздирающей картине. Вернемся к вашим опасениям. Вы боитесь, что не справитесь с обязанностями директора объединения. Дорогой, бесценный друг, с обязанностями директора может справиться каждый человек, скажу по секрету — каждый болван. Вам ничего не надо делать, нужно просто быть директором, вжиться в образ, носить свое звание, представительствовать, водить из комнаты в комнату индийцев, китайцев, зулусов, представителей ЮНЕСКО и всяких там объединений медиков — словом, каждого, кто в этом мире заинтересуется нашими несравненными акушерскими щипцами. Все практические дела, будь то производство, технические вопросы, калькуляция, планирование, — все это прокручивают старшие бухгалтеры, извините, дорогой друг, за это несколько вульгарное выражение. Вам же лично не придется забивать себе голову всякими пустяками. Правда, очень важно, на ком вы остановитесь, когда будете выбирать своего заместителя среди толпы старших бухгалтеров. Штюсси — человек конченый, и слава Богу. Он был слишком тесно связан с господином Зевсом, превратился в прихвостня своего высокого шефа… Ну да насчет деловых качеств Зевса я вообще не желаю распространяться. Сейчас не время. У него и так нервный шок. Я не бью лежачих. Но, между нами говоря, это был тяжелый крест для меня, он даже не мог оценить ваши отчеты по Далмации, мой дорогой друг и покровитель. Да и вообще он круглый невежда… Знаю, знаю, отчеты не по Далмации, а по Тогенбургу или Турции, черт с ними. Вы рождены для лучшей доли. Подобно орлу, вы воспарите в поднебесье, оставив на этой грешной земле нас, потрясенных бухгалтеров. Во всяком случае, еще раз говорю вам со всей откровенностью: мы, старшие бухгалтеры, счастливы, что вы станете нашим директором. Разумеется, будучи вашим лучшим другом, я ликую и торжествую больше всех. — Тут СБ9АЩ прослезился. — Но я считаю неуместным это подчеркивать, ведь мои слова можно истолковать как желание выдвинуться в ваши замы, хотя я и без того мог бы претендовать на этот пост как старший по званию. Но, каков бы ни был ваш выбор, кого бы вы ни назначили своим заместителем из старших бухгалтеров, я заранее смиряюсь перед вашей волей и остаюсь вашим самым горячим почитателем… С вами хотел бы встретиться также коллега Шпецле и коллега Шренцле, но боюсь, боюсь, что мне следует спешно проводить вас к Пти-Пейзану, сдать вас целым и невредимым в его приемную. Час настал. Так пойдемте же, выше голову, упивайтесь своим счастьем — ведь вы самый достойный и талантливый среди нас. Все правильно, вы, можно сказать, гениальное детище акушерских щипцов, и благодаря вам наше объединение одним рывком обставит объединение пулеметов, могучим скачком обгонит его. Да, я это чувствую, уважаемый, бесценный господин директор, разрешите мне уже сейчас назвать вас так… Прошу вас… Имею честь… С превеликим удовольствием… Давайте же сразу поднимемся на директорском лифте.
10
Вместе с СБ9АЩ Архилохос вступил в незнакомый мир, в царство стекла и каких-то неизвестных ему строительных материалов, где все сверкало чистотой, великолепные лифты подняли его на верхние, строго секретные этажи административного корпуса. Вокруг с улыбкой на устах порхали благоухающие секретарши: блондинки, брюнетки, шатенки и одна с неописуемо рыжими, как киноварь, волосами; референты уступали ему дорогу, директора объединений отвешивали поклоны, генеральные директора приветствовали кивком головы, а Архилохос и СБ9АЩ шагали себе по тихим коридорам, где над дверями вспыхивали то красные, то зеленые лампочки — единственные признаки того, что и здесь шла своя, невидимая глазу административная деятельность. Бесшумно ступали они по мягким коврам; казалось, ковры поглощали все звуки, вплоть до самого легкого покашливания, вплоть до приглушенного шепота. На стенах висели полотна французских импрессионистов (собрание картин Пти-Пейзана славилось во всем мире), «Танцовщица» Дега, «Купальщица» Ренуара; в высоких вазах благоухали цветы. Чем выше поднимались, вернее, возносились Архилохос и его спутник, тем пустыннее были коридоры и залы. Они теряли свое деловое, холодное ультрасовременное обличье, хотя планировка была та же; да, они становились все более изысканными и в то же время теплыми, человечными. На стенах теперь висели гобелены, позолоченные зеркала в стиле рококо и Людовика XIV, несколько картин Пуссена, несколько — Ватто и одна картина Клода Лорена. А когда они поднялись на самый верхний этаж (СБ9АЩ был так же напуган, как Архилохос, ведь и он еще никогда не проникал в это святилище; здесь он и простился с Арнольфом), помбуха принял на свое попечение сановный седой господин в безукоризненном смокинге, вероятно референт, и он провел грека по нарядным коридорам и светлым залам, где стояли античные вазы, готические мадонны и азиатские боги и висели индейские настенные ковры. Здесь уже ничто не напоминало о производстве атомных пушек и пулеметов, разве только при взгляде на херувимчиков и младенцев, которые улыбались помбуху с полотна Рубенса, возникали отдаленные ассоциации с акушерскими щипцами. Все тут радовало глаз. Солнце, проникавшее в окна, казалось теплым и ласковым, хотя на самом деле оно светило с ледяного небосклона. Повсюду стояли удобные кресла и канапе, где-то слышался звонкий смех, этот смех напомнил облаченному в серую спецовку Архилохосу смех Хлои в минувшее счастливое воскресенье, у которого оказалось столь же сказочное продолжение; откуда-то доносилась музыка — не то Гайдн, не то Моцарт, не трещали машинки, не слышались лихорадочные шаги бухгалтеров — словом, ничего, что могло бы напомнить Арнольфу о мире, из которого он только что вырвался и который остался где-то далеко внизу, похожий на дурной сон. А потом они очутились в светлых покоях, обитых малиновым шелком, на стене висела большая картина, изображавшая обнаженную женщину, вероятно, это было знаменитое полотно Тициана, то самое, о котором все говорили и цену которого называли шепотом. Вокруг стояла изящная мебель: миниатюрный письменный стол, небольшие стенные часы с серебряным звоном, ломберный столик, по бокам несколько креслиц, и повсюду — цветы, цветы в невиданном изобилии: розы, камелии, тюльпаны, орхидеи, гладиолусы, — казалось, на свете не существует ни зимы, ни холода, ни тумана.
Стоило им переступить порог зала, как где-то сбоку распахнулась маленькая дверь и появился Пти-Пейзан в смокинге, как и его референт; в левой руке он держал изящный томик Гёльдерлина, заложив указательным пальцем его страницы. Референт удалился. Архилохос и Пти-Пейзан остались с глазу на глаз.
— Ну-с, — сказал Пти-Пейзан, — милейший господин Анаксимандр.
Поклонившись, младший бухгалтер поправил Пти-Пейзана, сообщив, что его зовут Арнольф Архилохос.
— Архилохос. Отлично. Я помнил, что в вашем имени есть что-то греческое, балканское, господин любезный старший бухгалтер.
— Младший, — уточнил Архилохос свое социальное положение.
— Младший, старший — это ведь почти одно и то же, — улыбнулся промышленник. — Разве не так? Я по крайней мере не вижу разницы. Как вам нравится у меня наверху? Должен сказать, что вид отсюда прекрасный. Весь город и река как на ладони, виден даже дворец президента, не говоря уже о соборе, а вдали — Северный вокзал.
— Очень красиво, господин Пти-Пейзан.
— Вы, кстати, первый человек из объединения атомных пушек, который поднялся на этот этаж, — сказал промышленник таким тоном, будто поздравил Архилохоса с альпинистским рекордом.
Архилохос возразил, что он, мол, из объединения акушерских щипцов. Занимается Восточной Швейцарией и Тиролем, а в данный момент — кантоном Аппенцель-Иннерроден.
— Смотри-ка, смотри-ка, — удивился Пти-Пейзан, — оказывается, вы работаете в объединении акушерских щипцов, а я даже не подозревал, что мы выпускаем подобные изделия. Что это, собственно, такое?
Архилохос сообщил, что акушерские щипцы, по-латыни forceps, — родовспомогательный хирургический инструмент, предназначенный для того, чтобы в процессе родов охватывать головку ребенка; с их помощью роды проходят быстрее. Машиностроительный концерн Пти-Пейзана производит щипцы различных конструкций; но во всех конструкциях надо различать, во-первых, ложечки с зеркалами, изогнутые так, что они могут охватить головку плода, кроме того, в щипцах имеются еще изгибы для таза и для промежности, что делает их пригодными для введения в родовые пути роженицы; во-вторых, различные конструкции, отличающиеся друг от друга ручками: ручки бывают короткие и длинные, деревянные и металлические, они могут быть с особыми приспособлениями, с поперечными перекладинами и без них; наконец, существуют различные замки, то есть зажимы, при помощи которых ложечки при родовспоможении фиксируются. Цены…
— Вы большой специалист, — сказал, улыбаясь, мультимиллионер. — Но не будем касаться цен. Итак, дорогой господин…
— Архилохос.
— …Архилохос, перейдем к делу, не хочу вас долго томить, сразу скажу, что назначаю вас директором объединения атомных пушек. Правда, вы только что сказали, что работаете в объединении акушерских щипцов, о существовании которого я и впрямь не имел понятия. Это меня немного озадачивает, очевидно, произошла путаница, но на таких гигантских предприятиях, как наше, где-то всегда возникает путаница. Ладно, не так уж важно. Стало быть, сольем два объединения, и вы можете считать себя директором и объединения атомных пушек, и объединения акушерских щипцов, а я отправлю на пенсию бывших директоров этих объединений. Рад сообщить вам лично о вашем повышении и пожелать счастья.
— Господин директор Зевс из объединения акушерских щипцов в данное время в больнице.
— Неужели? Что с ним такое?
— Нервный шок.
— Да ну! Значит, он уже все узнал. — Пти-Пейзан с удивлением покачал головой. — А я ведь собирался уволить директора Иехуди из объединения атомных пушек. Какие-то слухи всегда просачиваются, люди — неисправимые болтуны, ну да ладно, директор Зевс опередил меня, слег в больницу. Все равно мне пришлось бы его уволить. Будем надеяться, что директор Иехуди встретит свою отставку куда более достойно.
Архилохос собрался с духом и в первый раз за весь разговор взглянул прямо в лицо Пти-Пейзану, который стоял с томиком Гёльдерлина в руке.
— Позвольте узнать, — сказал он, — как все это понимать? Вы вызвали меня и назначили директором объединений атомных пушек и акушерских щипцов. Признаться, я в тревоге, потому что не понимаю, что происходит.
Пти-Пейзан спокойно взглянул в глаза младшего бухгалтера, положил Гёльдерлина на зеленое сукно ломберного столика, сел сам и жестом пригласил сесть Архилохоса. Теперь они сидели друг против друга в мягких креслах, освещенные солнцем. Архилохос затаил дыхание — эта сцена казалась ему чрезвычайно торжественной. Наконец-то он узнает причину загадочных происшествий, думал он.
— Господин Пти-Пейзан, — снова начал он, робко запинаясь, — я всегда вас почитал, вы занимаете третье место в здании миропорядка, каковое я воздвиг себе, чтобы иметь в жизни моральные устои. Вы непосредственно следуете за нашим уважаемым президентом и за епископом Мозером — главою старо-новопресвитерианской церкви. Видите, я ничего не утаиваю; и тем более умоляю вас, объясните мне причину вашего поступка; бухгалтер Руммель и старший бухгалтер Пти-Пьер хотят уверить, что меня возвысили из-за отчетов по Восточной Швейцарии и по Тиролю, но ведь их никто не читал.
— Дорогой господин Агезилаос, — торжественно сказал Пти-Пейзан.
— Архилохос.
— Дорогой господин Архилохос, вы были бухгалтером или старшим бухгалтером — в этих тонкостях я, как вы поняли, не разбираюсь, — а теперь стали директором, очевидно, это вас и смущает. Видите ли, друг мой, все эти непонятные для вас превращения надо рассматривать в свете широких мировых взаимосвязей, как часть многообразной деятельности, которую осуществляет мой прекрасный концерн. Ведь выпускает же он, как я сегодня с радостью узнал, родовспомогательные щипцы. Будем надеяться, что их производство рентабельно.
Архилохос просиял, он заверил Пти-Пейзана, что в одном только кантоне Аппенцель-Иннерроден за последние три года было продано шестьдесят две штуки щипцов.
— Гм, маловато. Но пусть так. Очевидно, это надо рассматривать, скорее, как гуманное начинание. Очень приятно, что наряду с изделиями, которые отправляют людей на тот свет, мы производим также изделия, которые помогают им появиться на этот свет. Известное равновесие необходимо, даже если кое-что и нерентабельно. Не надо гневить Бога, мы — люди благодарные.
Пти-Пейзан помолчал немного, и лицо его выразило благодарность.
— В своем поэтическом творении «Архипелаг» Гёльдерлин называет коммерсанта, стало быть и промышленника, «дальномыслящим», — продолжал он с легким вздохом. — Это слово меня потрясло. Наше предприятие — огромная махина, дорогой мой господин Аристипп, на нем занято бесчисленное число рабочих и служащих, бухгалтеров и секретарш. Обозреть все это хозяйство невозможно, я с трудом помню директоров объединений, даже с генеральными директорами знаком только шапочно. Человек близорукий заблудится в этих джунглях, лишь человек дальнозоркий, который не видит частностей, не обращает внимания на единичные судьбы, зато способен охватить всю картину, который не выпускает из поля зрения конечные цели, то есть человек «дальномыслящий», как говорит поэт — ведь вы читали Гёльдерлина? — человек, у которого беспрестанно роятся новые идеи и который создает все новые предприятия, то в Индии, то в Турции, то в Андах, то в Канаде, — только такой человек не погрязает в болоте конкуренции и борьбы монополий. Дальномыслящий… Я вот как раз замыслил объединиться с трестом резины и смазочных масел. Это будет настоящее дело.
Пти-Пейзан опять замолчал, и лицо его выразило дальномыслие.
— Вот как я планирую, вот как работаю, — сказал он, помолчав немного, — по мере сил ворочаю тяжелые жернова истории. Хотя и в скромных масштабах. Что такое машиностроительный концерн Пти-Пейзана по сравнению со Стальным трестом или с металлургическим концерном «Вечная радость», с заводами «Песталоцци» и «Хёсслер-Ла-Биш»? Мелкота!.. Ну а что происходит в это время с моими рабочими и служащими? С единичными судьбами, которые я вынужден не замечать, чтобы не выпускать из поля зрения всю картину? Об этом я часто думаю. Счастливы ли они? Мы боремся за свободный мир. Свободны ли мои подчиненные? Я осуществил ряд социальных мероприятий — открыл дома отдыха для работниц и рабочих, стадионы, плавательный бассейн, столовые, раздаю профилактические таблетки, устраиваю коллективные посещения театров и концертов. Но, быть может, массы, которыми я руковожу, цепляются за чисто материальные блага, за презренный металл? Этот вопрос не дает мне покоя. С директором приключился нервный шок только из-за того, что на его место назначен другой. Какая мелочность! Разве можно думать об одних деньгах? Важны лишь духовные ценности, дорогой господин Артаксерксес, деньги — это самое низменное, самое несущественное на земле. Право, я очень озабочен…
Пти-Пейзан снова замолк, и лицо его выразило озабоченность.
Архилохос боялся шевельнуться.
Но вот промышленник выпрямился, и в его и без того ледяном голосе зазвучал металл:
— Вы спрашиваете, почему я назначил вас директором? Отвечаю: чтобы перейти от разговоров о свободе к ее осуществлению. Я не знаю своих служащих, незнаком с ними, мне кажется, что они еще не усвоили чисто духовного понимания сути вещей. Мои светочи Диоген, Альберт Швейцер, Франциск Ассизский, по-видимому, еще не стали их светочами. Они хотят променять созерцательность, деятельную благотворительность, идеальную бедность на социальную мишуру. Что ж, дай миру то, что он желает. Я всегда придерживался этой заповеди Лао-Цзы. И именно потому я назначил вас директором. Пусть и в этом вопросе восторжествует справедливость. Человек, который вышел из низов, который сам досконально познал заботы и нужды служащих, станет директором. Я занят всем производством в целом, пусть же человек, который имеет дело с бухгалтерами, старшими бухгалтерами, референтами, секретаршами, рассыльными и уборщицами — словом, с аппаратом управления, будет выходцем из его рядов. Директор Зевс и директор Иехуди не вышли из низов: когда-то я просто перекупил их у обанкротившихся конкурентов, перекупил готовыми директорами. Бог с ними. Но теперь уже пора воплотить в жизнь идеалы западного мира. Политики с этим не справились, и, если деловые люди тоже не справятся, дорогой господин Агамемнон, нам грозит катастрофа. Только в процессе творчества человек становится человеком. Ваше назначение — творческий акт, одно из проявлений творческого социализма, который мы обязаны противопоставить нетворческому коммунизму. Вот и все, что я хотел сказать. Отныне вы директор, генеральный директор. Но сперва возьмите себе отпуск, — продолжал он, улыбаясь, — чек для вас уже выписан, он лежит в кассе. Займитесь личными делами. На днях я видел вас с прелестной женщиной.
— Моя невеста, господин Пти-Пейзан.
— Собираетесь жениться? Поздравляю. Женитесь. К сожалению, мне не довелось испытать семейного счастья. Я распорядился, чтобы вам выплатили соответствующее жалованье за год, но сумма будет удвоена, поскольку в придачу к атомным пушкам вы еще получаете акушерские щипцы… А теперь у меня срочный разговор с Сантьяго… Будьте здоровы, дорогой господин Анаксагор…
11
Когда генеральный директор Архилохос, в прошлом МБ122АЩ31, покинул святая святых здания концерна — до лифта его провожал референт Пти-Пейзана, — ему устроили царскую встречу; генеральные директора с восторгом заключали его в объятия, директора низко кланялись, секретарши льстиво щебетали, бухгалтеры маячили в отдалении, а СБ9АЩ, поджидавший Архилохоса на почтительном расстоянии, прямо-таки истекал подобострастием; из объединения атомных пушек вынесли на носилках директора Иехуди, который был, очевидно, в смирительной рубашке — он лежал обессиленный, в обмороке. Говорили, что Иехуди переломал у себя в кабинете всю мебель. Но Архилохоса ничего не интересовало, кроме чека, который ему тут же вручили. Чек — это по крайней мере что-то реальное, думал он, так и не избавившись от своей подозрительности. Потом он произвел СБ9АЩ в свои замы в объединении акушерских щипцов, а номера МБ122АЩ28, МБ122АЩ29 и МБ122АЩ30 — в бухгалтеров, дал еще несколько руководящих указаний насчет рекламы родовспомогательных щипцов в кантоне Аппенцель-Иннерроден и покинул здание концерна.
Сев в такси первый раз в жизни, он поехал к мадам Билер, измученный, голодный и совершенно растерявшийся от своих головокружительных успехов.
Небо в городе было ясное, холод — отчаянный. В ярком свете дня все вокруг: дворцы, церкви и мосты — выступало с особой четкостью, большой флаг на президентском дворце будто застыл в воздухе, река была как зеркало, краски казались необыкновенно чистыми, без всяких примесей, тени на улицах и бульварах — резкими, словно их провели по линейке.
Архилохос вошел в закусочную — колокольчик над дверью, как всегда, зазвенел — и бросил потертое зимнее пальто.
— Боже мой! — воскликнула Жоржетта за стойкой, уставленной бутылками и рюмками, которые сверкали в холодных лучах солнца; Жоржетта только что налила себе кампари. — Боже мой, мсье Арнольф! Что с вами? Вы такой усталый, такой бледный, невыспавшийся, явились к нам средь бела дня, когда вам полагается просиживать штаны на вашей живодерне! Стряслось что-нибудь? Может, вы в первый раз спали с женщиной? Или напились? А может, вас выгнали с работы?
— Наоборот, — сказал Архилохос и сел в свой угол.
Огюст принес молоко.
Удивленная Жоржетта осведомилась, что может означать в данном случае «наоборот», закурила и начала пускать колечки дыма прямо в косые солнечные лучи.
— Сегодня утром меня назначили генеральным директором объединения атомных пушек и акушерских щипцов. Лично Пти-Пейзан, — заявил Архилохос; он все еще не мог отдышаться.
Огюст принес миску с яблочным пюре, макароны и салат.
— Гм, — пробормотала Жоржетта, очевидно не очень-то потрясенная новостью. — А по какой причине?
— По причине творческого социализма.
— Неплохо. Ну а как вы провели время с гречанкой?
— Обручились, — смущенно сказал Архилохос и покраснел.
— Вполне разумно, — похвалила мадам Билер. — Чем она занимается?
— Прислуга.
— У нее прямо-таки поразительное место, — заметил Огюст, — если она могла купить себе такую шубу.
— Не болтай! — прикрикнула на него Жоржетта.
Арнольф рассказал, что они гуляли по городу и что все было очень странно, необычно, почти как во сне. Незнакомые люди вдруг стали с ним здороваться, они махали ему из машин и автобусов, абсолютно все — и президент, и епископ Мозер, и художник Пассап, и американский посол, который крикнул ему «хэлло».
— Ага, — сказала Жоржетта.
— И мэтр Дютур со мной поздоровался, — продолжал Арнольф, — Эркюль Вагнер тоже, хотя они всего-навсего мне подмигнули.
— Подмигнули, — повторила Жоржетта.
— Ну и птичка, — пробормотал Огюст.
— Помолчи! — сказала мадам Билер так резко, что Огюст залез за печку и спрятал окутанные мерцающим облаком ноги. — Не вмешивайся! Не мужское это дело! Мой совет: сразу же женитесь на вашей Хлое, — снова обратилась она к Архилохосу и залпом выпила кампари.
— Как можно скорее.
— Очень правильно! С женщинами надо быть решительным, особенно если их зовут Хлоя. А где вы собираетесь жить с вашей гречанкой?
Архилохос, вздохнув, признался, что не знает, одновременно он уплетал яблочное пюре и макароны.
— В своей каморке я, конечно, не останусь — из-за шума воды и из-за запаха. Первое время придется жить в пансионе.
— Что вы, мсье Архилохос, — рассмеялась Жоржетта, — теперь-то вам все по карману. Снимите номер в «Рице», там таким, как вы, сам Бог велел жить. И с сегодняшнего дня вы будете платить мне вдвое. С генерального директора надо драть шкуру, больше они ни на что не годны. — С этими словами она налила себе еще рюмку кампари.
Архилохос ушел, и «У Огюста» на некоторое время воцарилось молчание. Мадам Билер мыла рюмки, а ее муженек сидел за печкой не шелохнувшись.
— Ну и птичка, — сказал наконец Огюст, поглаживая свои костлявые ноги. — Когда я занял второе место в велогонке «Тур де Франс», я тоже мог завести себе такую — в такой же меховой шубке, надушенную дорогими духами и с богатым покровителем. Он был промышленник, господин фон Цюнфтиг, бельгийские угольные шахты. И я стал бы теперь генеральным директором.
— Чепуха, — сказала Жоржетта, вытирая руки. — Ты другого полета. Такая женщина за тебя не пошла бы. В тебе нет изюминки. Архилохос родился в рубашке, я это всегда чувствовала, и потом, он грек. Увидишь, что из него получится. Он еще себя покажет, да еще как. А она — женщина люкс. Я не удивляюсь, что она решила бросить свое ремесло. Заниматься им долго — утомительно и, уж что ни говори, мало радости. Все женщины такого сорта стремятся покончить с этим. И я когда-то стремилась. Правда, большинству это не удается, они впрямь подыхают под забором, недаром это говорят с амвонов. Ну а некоторые получают своего Огюста и весь век любуются его голыми ногами и желтой майкой… Ладно, если уж мы вспомнили старые времена, то я своей жизнью довольна. И потом, лично у меня никогда не было крупного промышленника. Для этого мне не хватало профессионального размаха. Ко мне ходили только мелкие буржуа да чиновники из министерства финансов. Две недели я встречалась с аристократом — графом Додо фон Мальхерном, последним отпрыском этого рода, теперь его давно уже нет в живых. Но Хлоя своего добьется. Она нашла Архилохоса, а уж из него будет толк.
12
Не теряя времени, Архилохос поехал на такси в Международный банк, а оттуда — в туристское агентство на набережной де л’Эта. Он вошел в большой зал, стены которого были увешаны географическими картами и пестрыми плакатами: «Посетите Швейцарию», «Твоя мечта — солнечный Юг», «Самолеты «Эр Франс» доставят вас в Рио», «Зеленая Ирландия». Служащие с вежливыми гладкими лицами. Стрекотание пишущих машинок. Лампы дневного света. Иностранцы, говорящие на неведомых языках.
Архилохос сказал, что он хочет поехать в Грецию: Керкира, Пелопоннес, Афины.
Служащий ответил, что агентство, к сожалению, не устраивает экскурсий на грузовых пароходах.
Архилохос возразил, что он, дескать, желает поехать на «Джульетте». Просит каюту люкс для себя и жены.
Служащий полистал расписание и сообщил сутенеру-испанцу (по имени дон Руис) время отправления и прибытия какого-то поезда. Затем он сказал, что на «Джульетте» нет свободных мест, и повернулся к коммерсанту из Каира.
Архилохос вышел из туристского агентства и сел в такси, поджидавшее его у входа. Задумался. Потом спросил шофера, кто лучший портной в городе.
Шофер удивился.
— О’Нейл-Паперер на проспекте Бикини и Фатти на улице Сент-Оноре.
— А самый лучший парикмахер?
— Жозе на набережной Оффенбаха.
— Самый лучший шляпный магазин?
— Гошенбауэр.
— А где покупают самые лучшие перчатки?
— У де Штуца-Кальберматтена.
— Хорошо, — сказал Архилохос, — поедем по всем этим адресам.
И они поехали к О’Нейлу-Папереру на проспект Бикини, к Фатти на улицу Сент-Оноре, к Жозе на набережную Оффенбаха, к де Штуцу-Кальберматтену в магазин перчаток и к Гошенбауэру в магазин головных уборов. Архилохос прошел через множество рук — его мяли, обмеривали, чистили, кромсали, терли, и он менялся буквально на глазах: каждый раз он садился в такси все более элегантный и благоухающий; после посещения Гошенбауэра на голове у него появилась серебристо-серая шляпа, введенная в моду Иденом. К концу дня он опять приехал в туристское агентство на набережной де л’Эта.
Недрогнувшим голосом он обратился к тому же служащему, который его спровадил, сказал, что желает получить двухместную каюту люкс на «Джульетте», и положил на стеклянный барьер серебристо-серую иденовскую шляпу.
Служащий начал заполнять бланк.
— «Джульетта» отплывает в следующую пятницу. Керкира, Пелопоннес, Афины, Родос и Самос, — сказал он. — Будьте любезны назвать вашу фамилию.
Однако после того, как Арнольф, отсчитав деньги за два билета, удалился, служащий заговорил с сутенером-испанцем, который все еще околачивался в агентстве — перелистывал туристские проспекты, а время от времени вступал в беседу с определенного сорта дамами, которые (также не отрывая глаз от проспектов) совали в его благородные узкие ладони денежные купюры.
— Скандальная история, сеньор, — сказал с отвращением служащий по-испански (испанский он изучал на вечерних курсах), — является к тебе какой-то там дворник или трубочист и требует два места на «Джульетте». А ведь «Джульетта» — аристократический пароход для особ из самого высшего общества. — Служащий поклонился дону Руису. — Следующим рейсом на «Джульетте» едут принц Гессенский, миссис и мистер Уимэн и Софи Лорен… А когда ты ему самым деликатным образом отказываешь, между прочим, из человеколюбия тоже, чтобы он не опозорился у такой публики, этот нахал возвращается разодетый, как лорд, и сорит деньгами, как архимиллионер, и ты вынужден дать ему каюту. Не могу же я бороться с мировым капиталом. За три часа этот подонок вылез из грязи в князи. Уверен, что здесь замешано ограбление банка, изнасилование, убийство с целью грабежа или политика.
— Действительно безобразие, — ответил дон Руис по-испански (испанский он изучал на вечерних курсах).
Тем временем уже стемнело и на улицах зажглись фонари. Архилохос проехал по новому мосту к бульвару Кюнекке, резиденции епископа старо-новопресвитерианской церкви предпоследних христиан; на обочине тротуара перед небольшой виллой в викторианском стиле, прислонившись к фонарному столбу, сидел Биби в изжеванной шляпе, грязный и оборванный. От него несло сивухой, и он читал газету, которую подобрал в канаве.
— Что это на тебе, брат Арнольф? — спросил Биби, свистнул сквозь зубы, прищелкнул языком и ударил в ладоши, а потом старательно сложил грязную газету. — Знатные шмотки. Шик-блеск!
— Меня назначили генеральным директором, — сказал Арнольф.
— Вот это да!
— Я возьму тебя бухгалтером в объединение акушерских щипцов. Конечно, если ты обещаешь держать себя в руках. Порядок прежде всего.
— Нет, Арнольф, я не создан для канцелярской работы. А двадцать монет у тебя найдется?
— Что опять стряслось?
— Готлиб сверзился со стены. Сломал руку.
— С какой стены?
— Со стены пти-пейзановского концерна.
Первый раз в жизни Архилохос рассердился.
— Готлиб не должен грабить Пти-Пейзана. — К удивлению Биби, он повысил голос. — Он никого не должен грабить, а Пти-Пейзан к тому же мой благодетель. Из соображений творческого социализма он сделал меня генеральным директором. И ты еще требуешь у меня денег! В конечном счете все мои деньги — от Пти-Пейзана.
— Больше это никогда не повторится, брат Арнольф, — с достоинством отвечал Биби. — Вообще мальчик просто упражнялся. И потом, он ошибся адресом. Хотел обчистить чилийского посла, залезть к нему, кстати, сподручней. Но он перепутал номера домов, ведь он еще невинное дитя. Ну так как, дашь монету? — И он протянул Архилохосу свою братскую раскрытую ладонь.
— Нет, — сказал Архилохос, — я не могу поощрять жуликов, и вообще мне пора к епископу.
— Я подожду тебя, брат Арнольф, — сказал стойкий Биби и опять развернул газету, — хочу уточнить международное положение.
13
Епископ Мозер — толстый розовощекий мужчина в черном одеянии церковного сановника с белым накрахмаленным воротничком — принял Архилохоса в своем кабинете, небольшой высокой прокуренной комнате, освещенной только одной лампочкой. Вдоль стен тянулись полки, заставленные книгами духовного и светского содержания, сквозь высокое окно с тяжелыми портьерами проникал свет уличного фонаря, под которым брат Биби поджидал Арнольфа.
Архилохос назвал себя. Собственно, он младший бухгалтер в концерне Пти-Пейзана, но сегодня его назначили генеральным директором объединений атомных пушек и акушерских щипцов.
Епископ Мозер благосклонно оглядел гостя.
— Знаю, дружок, — прошепелявил он, — вы посещаете проповеди отца Тюркера в часовне святой Элоизы. Правда? Как видите, я немножко знаком со своими милыми старо-новопресвитерианскими прихожанами. Добро пожаловать! — Епископ приветствовал генерального директора крепким рукопожатием. — Садитесь. — Жестом он указал Архилохосу на удобное кресло, а сам сел за письменный стол.
— Спасибо, — поблагодарил Архилохос.
— Прежде чем вы изольете мне душу, я хотел бы излить душу вам, — прошепелявил епископ. — Не угодно ли сигару?
— Я некурящий.
— Тогда, может, рюмочку вина или водки?
— Я непьющий.
— Надеюсь, вы не возражаете, если я закурю? С сигарой «Даннеман» легче говорить по душам, приятнее исповедоваться друг другу. «Греши смело», — сказал Лютер, мне хотелось бы еще добавить: «Кури смело» и «Пей смело». Вы ведь не возражаете?
Епископ наполнил стопку из запыленной водочной бутылки, которую держал за книгами.
— Что вы… Конечно, нет, — с некоторым смущением сказал Архилохос.
Его огорчало, что епископ все же не совсем соответствовал тому идеалу, который он себе создал.
Епископ Мозер закурил дорогую сигару «Даннеман».
— Видите ли, любезный брат… Разрешите мне так вас называть. Я уже давно мечтаю поболтать с вами. — Он выпустил первое облачко сигарного дыма. — Но, Бог мой, вы не знаете, как загружены епископы. Надо посещать дома для престарелых и организовывать молодежные лагеря, устраивать падших женщин в богоугодные заведения, следить за преподаванием в воскресных школах и за подготовкой к конфирмации, экзаменовать кандидатов на церковные должности, угощать новопресвитериан и мылить шею проповедникам. У епископа тысяча всяких дел и делишек, крутишься как белка в колесе. Старина Тюркер часто рассказывал о вас. Ведь вы не пропустили ни одной проповеди и проявили воистину редкое для нашей паствы рвение.
Архилохос просто, но твердо ответил, что ходить в храм Божий для него первейшая потребность души.
Епископ Мозер налил себе еще стопочку водки.
— Знаю. И давно уже отмечаю это с радостью. А теперь случилось вот что: достопочтенный член всемирного церковного совета старо-новопресвитериан два месяца назад предстал перед престолом Господа Бога. И я уже некоторое время подумываю: может, вы и есть самый подходящий человек, чтобы занять это почетное место, что вполне согласуется с вашим постом в концерне, не надо, пожалуй, только особенно акцентировать вопрос об атомных пушках… А вообще-то нам нужны люди, которые занимают прочное положение в жизни, ведь борьба за существование стала особенно многотрудной и зачастую жестокой, господин Архилохос.
— Но, господин епископ…
— Согласны?
— Для меня это неожиданная честь.
— Стало быть, я могу предложить вашу кандидатуру всемирному церковному совету.
— Если вы полагаете…
— Не скрою, всемирный церковный совет охотно следует моим пожеланиям, может быть, даже слишком охотно, многие говорят поэтому, будто я своенравный церковный владыка. Члены совета — славные люди и добрые христиане, этого нельзя отрицать, но они всегда рады, когда я снимаю с них организационную сторону дела, а зачастую и думаю за них: далеко не каждый на это способен, то же относится и к членам совета. Следующее заседание, на котором вы должны присутствовать как кандидат, состоится в Сиднее. В мае. Каждая такая поездка — дар Божий. Видишь новые страны, новых людей, знакомишься с чужими нравами и обычаями, с нуждами и проблемами любезного человечества в разных широтах. Разумеется, все расходы берет на себя старо-новопресвитерианская церковь.
— Мне, право, неловко…
— Я изложил вам свое дело, — прошепелявил епископ, — теперь перейдем к вашему. Не будем играть в прятки, господин Архилохос. Догадываюсь, что вас привело ко мне. Вы собираетесь сочетаться браком, соединить свою жизнь с милой женщиной. Встретив вас вчера на улице между крематорием и Национальным музеем, я приветствовал вас, но вынужден был тут же свернуть в темный переулок… Навещаю там одну умирающую старушку. Тоже святая душа.
— Да, да, господин епископ.
— Ну что, я угадал?
— Да, так и есть.
Епископ Мозер захлопнул лежащую перед ним Библию на греческом языке.
— Недурненькая особа, — сказал он, — что ж, желаю счастья. А когда состоится венчание?
— Завтра, в часовне святой Элоизы, если можно… Я был бы счастлив, если бы вы сами обвенчали нас.
Епископ почему-то пришел в замешательство.
— Собственно, это обязанность священника, который там служит, — сказал он. — Тюркер отлично совершает бракосочетания, и у него, между прочим, на редкость звучный голос.
— Прошу вас сделать для меня исключение, — попросил Архилохос, — тем более если меня выберут членом всемирного церковного совета.
— Гм. А успеете ли вы уладить все гражданские формальности? — спросил епископ. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке.
— Я обращусь к мэтру Дютуру.
— Тогда согласен, — сдался епископ, — скажем, завтра в три часа пополудни в часовне святой Элоизы. Сообщите мне, пожалуйста, фамилию невесты и кое-какие данные о ней.
Епископ все записал.
— Господин епископ, — начал Архилохос, — моя предстоящая женитьба, вероятно, достаточная причина, чтобы оторвать вас от дел, но для меня она не самая главная, если можно так выразиться и если это не прозвучит кощунством, ибо, казалось бы, что может быть важнее, чем связать себя узами брака на всю жизнь. И все же в этот час у меня есть еще более важная забота, которая лежит на мне тяжелым грузом.
— Говорите, дорогой мой, — любезно предложил епископ. — Смелее! Снимите камень со своей души: ведь все, что нас гнетет, дела человеческие, очень даже человеческие.
— Господин епископ, — начал Архилохос в полном унынии, но потом выпрямился в кресле и даже закинул ногу на ногу, — простите, вероятно, я несу Бог знает что. Но еще сегодня утром я был одет совсем иначе. Бедно одет, признаюсь честно. Костюм, который вы видели на мне в воскресенье, был куплен в день моей конфирмации, а теперь я вдруг щеголяю во всем новом и дорогом от О’Нейла-Паперера и от Фатти. Мне стыдно, господин епископ, вы можете подумать, что я с головой погряз в мирских соблазнах, как часто говорит нам проповедник Тюркер.
— Совсем наоборот, — улыбнулся церковный сановник, — приятная внешность, красивая одежда достойны похвалы, в особенности в наш век, когда в некоторых кругах, которые исповедуют безбожную философию, вошло в моду одеваться нарочито небрежно, почти нищенски, когда юноши носят пестрые рубахи навыпуск и прочую редкостную мерзость. Приличная модная одежда и христианство вовсе не исключают друг друга.
— Господин епископ, — продолжал осмелевший Архилохос, — думается, что хороший христианин будет встревожен, если на его голову одно за другим обрушатся несчастья. Он, наверно, почувствует себя Иовом, у которого, как известно, погибли все сыновья и дочери и который стал наг и заболел проказою лютою. И все же он сможет утешиться, считая, что несчастья ниспосланы ему за его прегрешения. Но представьте, что с человеком случается обратное, что на его голову сыплется одна удача за другой, вот когда можно встревожиться по-настоящему — ведь это совершенно необъяснимо. Разве есть человек, который заслужил бы столько счастья?
— Милый мой господин Архилохос, — улыбнулся епископ Мозер, — мир так устроен, что подобный случай навряд ли возникнет. Человек — тварь стенающая, сказал апостол Павел, и все мы стенаем от различного рода нагромождающихся бед. Правда, мы не должны воспринимать их слишком трагически. Нам следует учиться у Иова, об этом вы сказали очень верно и красноречиво, почти как сам отец Тюркер. То, о чем вы говорите — длинная цепь всевозможных удач, — почти исключено, вы с этим никогда не встретитесь.
— Я как раз и встретился, — сказал Архилохос.
В кабинете стало тихо, сумерки сгущались, день на улице совсем угас, наступила темная ночь, снаружи не доносилось почти ни звука, только время от времени слышался шум проезжающей машины или шаги прохожего, замирающие вдали.
— Счастье подстерегает меня на каждом шагу, — вполголоса продолжал бывший младший помбух, одетый в безукоризненный костюм с хризантемой в петлице (серебристо-серую шляпу иденовского фасона, ослепительно белые перчатки и элегантную меховую шубу он оставил на вешалке). — Я помещаю брачное объявление в «Ле суар», и ко мне приходит очаровательная девушка, она влюбляется в меня с первого взгляда, и я влюбляюсь в нее, все идет как в плохой кинокартине, мне даже стыдно рассказывать. Я отправляюсь гулять с девушкой, и весь город мне кланяется. Со мной здоровается президент, вы, господин епископ, и прочие важные персоны, а сегодня я вдруг сделал головокружительную карьеру — и светскую, и церковную. Только что я был никем, вел жалкое существование младшего из младших — и вот я уже генеральный директор и меня прочат в члены всемирного церковного совета старо-новопресвитериан. Все это совершенно необъяснимо и повергает меня в тревогу.
Епископ долго не произносил ни слова, теперь он казался усталым и седым стариком; сидел уставившись в одну точку; сигару он положил в пепельницу, и она лежала там погасшая и ненужная.
— Господин Архилохос, — сказал наконец епископ, голос его изменился, окреп, он уже не шепелявил, — господин Архилохос, признаюсь, все эти происшествия, о которых вы поведали мне в этот тихий вечер с глазу на глаз, в самом деле удивительны и необычны. Что же касается причин, которые их обусловили, мне думается, что не этим неизвестным нам причинам, — тут голос его дрогнул, и на секунду опять стало заметно, что епископ шепелявит, — следует приписывать столь решающее значение, поскольку они ведь лежат в сфере человеческого, а в этих пределах все мы грешники. Суть в другом: в том, что на вас снизошла благодать и что вам все время являются зримые признаки этой благодати. Сейчас вы уже не младший бухгалтер, а генеральный директор и член всемирного церковного совета, и речь теперь идет о том, сможете ли вы доказать, что достойны сей Божьей милости. Несите свой счастливый крест столь же смиренно, как несли бы крест несчастий. Вот все, что я могу вам сказать. Быть может, путь, на который вы вступили, особенно труден, ведь это путь удач: и Бог потому не ниспосылает его людям, что они еще меньше способны им идти, нежели путем несчастий, обычным для этой земли. А теперь прощайте. — С этими словами епископ встал. — Мы увидимся завтра в часовне святой Элоизы, когда вы уже многое себе уясните. А я буду молиться, чтобы вы не забыли мои слова, как бы ни сложилась ваша жизнь в дальнейшем.
14
После разговора с епископом Мозером, после прокуренной комнаты с тяжелыми портьерами, письменным столом и полками, забитыми классикой и библиями, и после того, как брат Биби, читавший под окном епископа газету («Ле суар»), получил требуемую сумму, члену всемирного церковного совета захотелось сразу же поехать на бульвар Сен-Пер, но часы на церкви Иезуитов у площади Гийома пробили всего шесть раз, а они с Хлоей условились встретиться в восемь, и Архилохос решил подождать до восьми, хотя и подумал с болью в сердце, что Хлое еще два лишних часа придется пробыть в прислугах. Он хотел уже сегодня переехать с ней в «Риц» и все заранее подготовил: заказал два номера — один на втором этаже, другой на шестом, чтобы не смущать девушку и чтобы не ставить себя как церковного деятеля в ложное положение. Потом он попытался разыскать мэтра Дютура, но — увы — тщетно: Архилохосу сказали, что адвокат и нотариус Дютур отправился оформлять передачу какого-то дома новому владельцу. В результате у Арнольфа образовалось свободное время — полтора с лишним часа. Он подготовился к свиданию — купил цветы, узнал, в каком ресторане можно поесть; в безалкогольный ресторан напротив Всемирной организации здравоохранения он не хотел больше идти, а об «Огюсте» тем более не могло быть и речи. С тайной грустью Архилохос подумал, что в этой элегантной одежде ему там не место — костюм от О’Нейла-Паперера не подходил к желтой майке мсье Билера. Поэтому он, хоть втайне его и мучили угрызения совести, решил пообедать в «Рице», конечно, без вина; заказал столик и, радостно взволнованный, отправился на выставку Пассапа, которую случайно обнаружил в художественной галерее Пролазьера, прямо напротив «Рица», и которая из-за наплыва посетителей была открыта также по вечерам. В светлом выставочном зале были экспонированы и последние работы Пасапа (углы в шестьдесят градусов, эллипсы и параболы); Архилохос с восторгом любовался ими, пробираясь с букетом цветов (белые розы) сквозь толпу американцев, журналистов и художников. Но от одной картины он прямо-таки отпрянул, хотя на ней, собственно, не было ничего особенного — всего лишь два эллипса и одна парабола, написанные синим кобальтом и охрой. Некоторое время Архилохос с изумлением смотрел на эту картину, покраснев до корней волос и судорожно сжимая в руке букет, потом в паническом ужасе, обливаясь потом и одновременно дрожа от озноба, рванулся прочь и вскочил в первое попавшееся такси, не забыв, впрочем, узнать адрес художника у Пролазьера, который в черном смокинге стоял у кассы, улыбаясь и потирая руки. Тут же владелец галереи, как был, без пальто и тоже на такси, пустился в погоню за Архилохосом. Он боялся, что Арнольф тайно приобретет у Пассапа картину, и желал получить причитающиеся ему комиссионные. Пассап жил на улице Фюнебр, в Старом городе, и такси выехало на проспект маршала Фёгели (впритык за ним следовало другое такси, с Пролазьером). Правда, такси выехало с огромным трудом, поскольку сторонники Фаркса как раз в это время устроили многолюдную манифестацию: на длинных шестах они несли портреты анархиста, красные флаги и огромные транспаранты: «Долой президента!», «Срывайте Луганский договор!» и другие в том же духе. Где-то поблизости держал речь сам Фаркс. На улицах стоял дикий рев и гам, прерываемый свистками и конским топотом, потом полицейские взялись за резиновые дубинки и шланги, и оба такси — Архилохоса и владельца галереи — были облиты водой, причем владелец галереи, на свою беду, опустил стекло — видимо, из любопытства. Но как раз в эту минуту шоферы, ругаясь на чем свет стоит, свернули у магазина «Френер и Потт» в Старый город. Плохо мощенные улицы круто шли в гору, дома были ветхие, то тут, то там попадались подозрительные заведения. Кучками стояли проститутки, похожие на черных птиц: они призывно махали руками и шипели; было так холодно, что мокрые такси уже давно обледенели. На тускло освещенной улице Фюнебр — у дома номер 43 (где жил Пассап) — Архилохос с букетом белых роз вышел из своей сказочно разукрашенной сверкающими и звенящими сосульками машины и велел шоферу ждать; уличные мальчишки сразу же обступили Архилохоса, хватая его за штанины; наконец, миновав злую и пьяную консьержку, он проник внутрь большого старого дома и начал взбираться по нескончаемой лестнице. Лестница была совершенно трухлявая, несколько раз ступеньки проваливались под ногами Арнольфа, и он повисал в воздухе, уцепившись за деревянные перила. Чуть ли не в полной темноте с огромным трудом одолевал он этаж за этажом, больно обдирая ладони об необструганные перила. Напрягая зрение, он пытался различить, нет ли на какой-нибудь из ветхих дверей имени Пассапа; за его спиной пыхтел Пролазьер, на которого он по-прежнему не обращал внимания. В доме был адский холод, за стенкой бренчали на рояле, где-то хлопало окно. В какой-то квартире визжала женщина и орал мужчина, и повсюду пахло грязью и пороком. Архилохос подымался все выше, опять продавил ступеньку и провалился по колено, потом угодил головой в паутину; по лбу у него проползло жирное полузамерзшее насекомое, и он с отвращением смахнул его. Шуба от Фатти и шикарный новый костюм от О’Нейла-Паперера запылились, брюки он порвал — хорошо еще, что розы были невредимы, — но вот в конце узкой и крутой чердачной лестницы он увидел хлипкую дверь и на ней по диагонали огромную надпись мелом: «Пассап». Архилохос постучал. Двумя пролетами ниже лязгал зубами Пролазьер. На стук никто не отозвался. Архилохос постучал снова, потом еще раз и еще. Ни ответа, ни привета. Тогда член всемирного церковного совета нажал ручку, дверь оказалась незапертой. Архилохос вошел.
Он очутился на необъятном чердаке, почти на гумне — над головой сплетение балок на разном уровне. Всюду стояли негритянские идолы, лежали груды холстов, пустые рамы, скульптуры — проволочные каркасы диковинной формы, над раскаленной железной печкой подымалась неимоверно длинная, причудливо изогнутая труба, тут же валялись винные и водочные бутылки, мятые тюбики с красками, пузырьки и кисти. По чердаку бегали кошки, а на полу и на стульях громоздились горы книг. Посредине у мольберта стоял Пассап в халате; когда-то давно халат был, по-видимому, белый, сейчас он был сплошь заляпан красками. Пассап колдовал шпателем на холсте, изображавшем параболы и эллипсы, а против него, у печки, на расшатанном стуле, сцепив руки на затылке, позировала жирная девица с длинными светлыми волосами; она была совершенно голая; член всемирного церковного совета окаменел (ведь он первый раз в жизни видел голую женщину), он боялся дохнуть.
— Кто вы такой? — спросил Пассап.
Архилохос представился, хотя вопрос живописца его несколько удивил, ведь не далее как в воскресенье тот сам с ним поздоровался.
— Что вам надо?
— Вы написали мою невесту Хлою обнаженной, — с трудом произнес грек.
— Вы говорите о картине «Венера, 11 июля»? Вывешена в галерее Пролазьера?
— Да.
— Одевайся, — приказал Пассап натурщице, и та исчезла за ширмой. Потом он с трубкой в зубах долго и внимательно разглядывал Архилохоса, дым таял где-то под крышей в нагромождении балок. — Ну и что?
— Сударь, — с большим достоинством начал Архилохос, — я почитатель вашего таланта, с восхищением следил я за вашими успехами, вы даже шли номером четвертым в моем миропорядке.
— Какой миропорядок? Что за чушь! — сказал Пассап, выдавливая на палитру целые горы красок (кобальт и охру).
— Я составил список самых достойных представителей нашей эпохи, список людей, которые служат для меня моральной опорой.
— Ну, а дальше?
— Сударь, несмотря на все то уважение и восторг, которые вы у меня вызываете, я вынужден просить объяснений. Не так уж часто, по-моему, случается, что жених видит на картине свою невесту обнаженной, в облике Венеры. Даже если мы имеем дело с абстрактной живописью, тонко чувствующий человек всегда угадывает натуру.
— Правильно, — сказал Пассап, — жаль, что критики на это неспособны. — Он опять воззрился на Архилохоса, подошел к нему ближе, ощупал его, как ощупывают лошадь, снова отступил на несколько шагов и прищурился. — Раздевайтесь, — сказал он наконец, налил стакан виски, отхлебнул и снова набил трубку.
— Но… — попытался было возразить Арнольф.
— Никаких «но». — Пассап так грозно взглянул на Архилохоса своими злыми черными колючими глазками, что тот прикусил язык. — Я хочу изобразить вас в виде Ареса.
— Какого Ареса?
— Арес — бог войны в Древней Греции, — пояснил Пассап. — Много лет я искал подходящего натурщика — в пару к моей Венере. И вот нашел. Вы — типичный изверг, порождение грохота битв, тиран, проливающий реки крови. Вы грек?
— Конечно, но…
— Вот видите.
— Господин Пассап, — сообразил наконец Архилохос, — вы ошибаетесь, я не изверг и не тиран, проливающий реки крови, и не порождение грохота битв, я человек смирный, член всемирного церковного совета старо-новопресвитерианской церкви, абсолютный трезвенник, некурящий. К тому же вегетарианец.
— Ерунда, — сказал Пассап. — Чем вы занимаетесь?
— Генеральный директор объединения атомных пушек и…
— А я что говорил, — прервал его Пассап, — стало быть, бог войны. И изверг. Вы просто скованы, еще не развернулись. По натуре вы горький пьяница и распутник. О лучшем Аресе я и не мечтал. Раздевайтесь, и поживее! Мое дело писать, а не точить лясы.
— Не буду раздеваться, пока здесь эта барышня, которую вы только что писали, — заупрямился Архилохос.
— Проваливай, Катрин, он стесняется! — закричал художник. — До завтра ты, толстуха, мне больше не понадобишься!
Жирная девица со светлыми волосами, уже одетая, попрощалась. Когда она открыла дверь, на пороге появился Пролазьер — он дрожал от холода и сильно обледенел.
— Протестую! — осипшим голосом закричал владелец галереи. — Протестую, господин Пассап, мы ведь договорились…
— Убирайтесь к чертовой матери!
— Я дрожу от холода, — в отчаянии завопил владелец галереи. — Мы ведь договорились…
— Замерзайте на здоровье.
Девица закрыла дверь, слышно было, что она спускается по лестнице.
— Ну что? Вы еще в штанах? — раздраженно спросил Архилохоса художник.
— Сию минуту, — ответил генеральный директор, раздеваясь. — Рубашку тоже снимать?
— Снимать все.
— А цветы? Они для невесты.
— Бросьте на пол.
Член всемирного церковного совета аккуратно сложил свой костюм на один из стульев, предварительно почистив его (ибо костюм сильно запылился во время трудного восхождения по лестнице), и остался нагишом.
Он мерз.
— Придвиньте стул к печке.
— Но…
— Станьте на стул в позе боксера, руки должны быть под углом в шестьдесят градусов, — распорядился Пассап, — именно таким я и представляю себе бога войны.
Архилохос повиновался, хотя стул ходил под ним ходуном.
— Слишком много жира, — раздраженно бормотал художник, опять наливая себе виски. — У баб это еще куда ни шло, иногда мне даже нравится. Ну ладно, жир уберем. Главное — голова и торс. Густая шерсть на груди — хорошо, верный признак воинственности. Ляжки тоже годятся. Снимите очки, они все портят.
Потом художник начал писать; он писал углы в шестьдесят градусов, эллипсы и параболы.
— Сударь, — снова заговорил член всемирного церковного совета (стоя в позе боксера). — Я жду объяснений насчет…
— Помолчите! — заорал Пассап. — Здесь говорю только я. Вполне естественно, что я писал вашу невесту. Вполне. Грандиозная женщина. Вы ведь знаете, какая у нее грудь.
— Сударь…
— Одни бедра чего стоят! А пупок!
— Я попросил бы…
— Станьте как следует, я же сказал, в позе боксера, черт возьми, — зашипел художник, нанося на холст целые горы охры и синего кобальта. — Никогда не видел свою невесту голой, а еще туда же — обручается!
— Вы топчете цветы. Белые розы.
— Ну и пусть. Ваша невеста — откровение. Когда я увидел ее голой, то чуть было не превратился в пошлого натуралиста или в эдакого беззубо-безобидного бодрячка-импрессиониста. Роскошная плоть, а кожа дышит! Втяните живот, прямо беда с вами! Никогда у меня не было такой божественной натуры, как Хлоя! Великолепная спина, точеные плечи, а две нижние выпуклости — упругие и округлые, как два земных полушария. При виде эдакой красоты в голову лезут космические мысли. Уже давно живопись не доставляла мне такого удовольствия. Хотя женщины меньше всего интересуют меня в плане живописи: я пишу их редко, да и то обычно толстух вроде этой. Для искусства женщина не находка; мужчина — совсем другое дело, и самое интересное — это отклонения от классических норм. Но Хлоя — счастливое исключение! У нее все райски гармонично: и ноги, и руки, и шея, а голова еще не утратила истинной женственности. Я изобразил ее в скульптуре тоже. Вот смотрите! — Пассап показал на какой-то каркас несуразной формы.
— Но…
— Примите позу боксера! — одернул Пассап члена всемирного церковного совета, отошел на несколько шагов, внимательно оглядел картину, поправил один эллипс, снял холст с мольберта и прикрепил новый. — Арес после битвы! Теперь опуститесь на колени, — приказал он. — Наклоните туловище вперед. В конце концов, вы ведь не будете позировать мне каждый день.
Совершенно растерянный и наполовину изжаренный из-за соседства с печкой, Архилохос почти не сопротивлялся.
— И все же я попросил бы вас… — начал Архилохос.
Но при этих словах на чердак, дрожа, ввалился Пролазьер, который уже совершенно обледенел и даже позвякивал на ходу: он заподозрил неладное, решил, что Архилохос все же покупает картину.
Пассап разъярился.
— Убирайтесь! — взвыл он.
И владелец картинной галереи вновь ретировался на лестницу, в арктическую стужу.
— У меня одно объяснение — искусство, — говорил художник, попивая виски, нанося на холст краски и одновременно гладя кошку, сидевшую у него на плече, — и мне безразлично, удовлетворяет вас это объяснение или нет. Из вашей голой невесты я сделал шедевр, в котором все совершенно: и пропорции, и плоскостное решение, и ритм, и цвет, и поэзия линий. Целый мир кобальта и охры! Вы же сделаете с Хлоей как раз обратное, как только она окажется голой в вашем распоряжении. Вы превратите ее в мамашу с выводком пискунов. Вы, а не я, разрушаете шедевр, созданный природой, я же облагораживаю его, возвожу в абсолют, придаю законченность и некую сказочность.
— Уже четверть девятого! — воскликнул Архилохос, напуганный тем, что прошло уже так много времени, и вместе с тем с чувством облегчения от слов художника.
— Ну и что?
— Мы условились с Хлоей встретиться в восемь, — робко сообщил Арнольф и попытался было слезть со стула, который со всех сторон осаждали мурлыкающие кошки. — Она ждет меня на бульваре Сен-Пер.
— Пусть подождет. Стойте, как стояли, — проревел Пассап, — искусство важнее ваших любовных шашней. — И он продолжал писать.
Архилохос застонал. Серый кот с белыми лапками вскарабкался к нему на плечо и выпустил когти.
— Тише! — приказал Пассап. — Не шевелитесь.
— Кот…
— Кот молодчага, чего не скажешь про вас, — бушевал художник. — Мыслимо ли отрастить такое брюхо, да еще человеку непьющему.
На чердаке опять появился Пролазьер (окоченевший и покрытый ледяной корой). Хныча, он заявил, что промерз до костей; он так охрип, что речь его стала совсем невнятной.
— Никто не просит вас околачиваться у меня под дверью, а в мастерскую я вас не пущу, — грубо ответил Пассап.
— Вы на мне наживаетесь, — прохрипел владелец картинной галереи, он хотел высморкаться, но не смог вынуть руку из кармана брюк, рука примерзла.
— Как раз наоборот: это вы на мне наживаетесь! — заорал художник громовым голосом. — Вон!
Владелец галереи удалился в третий раз.
Да и Архилохос не смел пикнуть. А Пассап, прихлебывая виски, малевал свои углы в шестьдесят градусов, параболы и эллипсы, густо накладывая кобальт на охру и охру на кобальт; прошло еще полчаса, прежде чем он разрешил генеральному директору одеться.
— Берите, — сказал Пассап и сунул Арнольфу в руки проволочный каркас. — Поставьте это возле своего супружеского ложа. Мой свадебный подарок… Будете вспоминать красоту своей невесты, когда она отцветет. Один из ваших портретов я тоже пришлю, пусть только подсохнет. А теперь убирайтесь подобру-поздорову. Ненавижу членов всемирных церковных советов и генеральных директоров — пожалуй, они еще хуже, чем владельцы галерей. Ваше счастье, что вы вылитый бог войны. Иначе я давно выбросил бы вас голого на мороз. Не сомневайтесь!
15
Архилохос ушел от художника, держа в одной руке белые розы, а в другой — каркас, который должен был изображать его обнаженную невесту; на узкой, крутой чердачной лестнице — скорее, это была стремянка — он столкнулся с владельцем галереи, у которого под носом висела длинная сосулька. Пролазьер прижимался к стене; он отчаянно промерз, стоя на ледяном сквозняке.
— Вот видите, — запричитал он так тихо, что казалось, его голос доносился из расселины глетчера, — я ведь знал: вы у него купили. Протестую!
— Свадебный подарок, — объявил Арнольф, осторожно спускаясь; ему мешали цветы и проволочная скульптура, и он сердился на себя за это бессмысленное приключение — ведь скоро девять. Но идти по этой лестнице быстрее было опасно.
Владелец галереи спускался за ним.
— Как не стыдно, — протестовал Пролазьер; половину его слов вообще нельзя было разобрать. — Как вам не стыдно, я слышал, что вы говорили Пассапу: будто вы член всемирного церковного совета… Безобразие. Разве можно позировать, занимая такой пост? Да еще в чем мать родила?
— Подержите, пожалуйста, скульптуру, — волей-неволей попросил Пролазьера Архилохос (между пятым и четвертым этажами, около квартиры, где все еще визжала женщина и орал мужчина). — Всего минуту, у меня застряла нога — провалилась в трухлявую ступеньку.
— Не могу, — пискнул Пролазьер. — Без комиссионных я не прикасаюсь ни к одному произведению искусства.
— Тогда возьмите букет.
— Не в состоянии, — извинился владелец картинной галереи, — рукава примерзли.
Наконец они выбрались на улицу. Машина вся обросла сосульками и блестела, как серебро. Только радиатор был чистый — мотор все время работал. Но внутри машины стоял несусветный холод. Продрогший шофер объяснил, что отопление вышло из строя.
— Бульвар Сен-Пер, двенадцать, — сказал Архилохос; он был рад, что скоро увидит свою невесту.
Шофер нажал на газ, но тут в стекло застучал владелец галереи.
— Будьте любезны, захватите меня с собой.
Арнольф опустил стекло и высунул голову, чтобы расслышать невнятное бормотание поблескивающего Пролазьера, похожего на айсберг.
Айсберг заявил, что он не в силах ступить ни шагу, а в Старом городе ни за какие деньги не найдешь такси.
Невозможно, сказал Архилохос и объяснил, что торопится на бульвар Сен-Пер и так он, мол, сильно опаздывает.
— Как христианин и как член всемирного церковного совета вы не вправе бросить меня на произвол судьбы, — возмутился Пролазьер, — я уже начал примерзать к тротуару.
— Садитесь, — сказал Архилохос, открывая дверцу.
— Здесь, кажется, немного теплее, — заметил владелец галереи, когда он наконец уселся рядом с Архилохосом. — Будем надеяться, что я оттаю.
Однако они уже свернули на бульвар Сен-Пер, а Пролазьер так и не оттаял, но, впрочем, ему тоже пришлось выгрузиться из такси. Шофер не желал возвращаться на набережную, он и сам порядком замерз; машина ушла. Теперь Архилохос и Пролазьер очутились перед узорчатой решеткой с литыми амурчиками и дельфинами, с красным фонарем, который на этот раз не горел, и двумя огромными каменными цоколями. Архилохос позвонил в старинный звонок. Никто не вышел. Улица была безлюдна, только издалека доносился шум и гам — это бушевали сторонники Фаркса.
— Сударь, — сказал Архилохос, обеспокоенный своим опозданием, руки у него были заняты букетом и проволочным каркасом. — Я вынужден вас покинуть.
Он открыл дверцу ворот и решительно шагнул в парк, но Пролазьер следовал за ним.
Заметив, что он не отделался от обледеневшего владельца галереи, рассерженный Архилохос спросил, что тому надо.
Пролазьер заявил, что ему, мол, надо вызвать по телефону такси.
— Я почти незнаком со здешними хозяевами.
— Вы, как член…
— Пожалуйста, — сказал Архилохос, — пожалуйста, идите за мной.
Мороз все крепчал, при каждом шаге владелец галереи звенел, будто целая звонница. Ели и вязы стояли неподвижно, на небе светилась серебристая лента Млечного Пути, сверкали огромные звезды — красные и желтые. Сквозь стволы деревьев было видно мягкое золотистое сияние — освещенные окна. При ближайшем рассмотрении оказалось, что вилла — миниатюрный замок в стиле рококо, несколько вычурный; изящные колонны и стены обвивали ветки дикого винограда; в светлую ночь все это было нетрудно разглядеть. Архилохос и его спутник поднялись по пологой, красиво изогнутой лестнице. Дверь виллы была ярко освещена, но на ней не было дощечки с фамилией владельца, только массивный звонок. Никто и на сей раз не отворил им.
Пролазьер опять заныл: если он простоит еще минуту на таком морозе, то отдаст Богу душу.
Архилохос нажал на ручку. Дверь была не заперта, и Арнольф сказал, что он на минуту заглянет в дом.
Пролазьер последовал за ним.
— Вы что, с ума сошли? — прошипел Архилохос.
— Не могу же я стоять на улице в такой холод.
— Я незнаком с хозяевами.
— Вы, как христианин…
— Тогда ждите меня здесь, — велел Арнольф.
Они оказались в холле. Похожую мебель Архилохос уже видел в покоях Пти-Пейзана, на стенах висели изящные зеркала. Холл утопал в цветах, в доме было очень тепло. Владелец картинной галереи тут же начал таять, с него закапала вода.
— Сойдите с ковра! — прикрикнул на него член всемирного церковного совета: ему стало явно не по себе при виде Пролазьера, с которого текло в три ручья.
— Как угодно, — сказал тот и подошел к стойке с зонтами, — только бы мне поскорей добраться до телефона.
— Я изложу вашу просьбу хозяину.
— Ради Бога, не мешкайте.
— Подержите хотя бы скульптуру, — сказал Архилохос.
— Без комиссионных не могу.
Арнольф поставил проволочный шедевр у ног Пролазьера и открыл дверь в маленькую гостиную, где стояли диванчик, столик, миниатюрный клавесин и хрупкие креслица. Он откашлялся. В гостиной никого не оказалось. Но за высокой дверью послышались шаги. Очевидно, это был мистер Уимэн. Архилохос подошел к двери и постучал.
— Войдите!
К своему удивлению, Арнольф увидел мэтра Дютура.
16
Мэтр Дютур, маленький подвижный человек с черными усиками и живописной седой гривой, стоял у большого красивого стола в комнате с высокими зеркалами в позолоченных рамах. Ярко горела люстра со множеством свечей, словно рождественская елка.
— Я вас ждал, господин Архилохос, — сказал мэтр Дютур, поклонившись. — Садитесь, пожалуйста.
Он жестом указал Арнольфу на кресло, а сам сел напротив него. На столе лежала бумага с гербовыми печатями.
Архилохос сказал, что он не понимает, в чем дело.
— Дорогой господин генеральный директор, — с улыбкой начал адвокат, — я рад, что именно меня уполномочили передать вам в дар эту виллу. Дом не заложен, находится в прекрасном состоянии, если не считать крыши на западной стороне: ее, видимо, придется отремонтировать.
Архилохос повторил, что он ничего не понимает, он и впрямь был изумлен, хотя сюрпризы судьбы уже несколько закалили его волю и ко многому подготовили.
— Может, вы мне объясните…
— Прежний хозяин дома не пожелал себя назвать.
Арнольф заявил, что в общих чертах он догадывается — речь идет, конечно, о мистере Уимэне, знаменитом археологе, который специализировался на раскопках в Греции и обнаружил погрузившийся во мхи древний храм с ценнейшими статуями и золотыми колоннами.
Мэтр Дютур был явно озадачен, некоторое время он с удивлением взирал на Архилохоса, покачивая головой. Наконец заверил, что не имеет права разглашать профессиональную тайну; прежний владелец желает, чтобы дом принадлежал греку, и счастлив, что нашел в лице Архилохоса человека, который отвечает этому условию. Далее Дютур заявил, что в эпоху всеобщей коррупции и безнравственности, когда самые противоестественные преступления кажутся естественными, когда гибнет всякое правовое начало и человечество повсеместно возвращается к жестокому кулачному праву, то есть к временам варварства, — в эту эпоху юрист мог бы отчаяться, потерять вкус к порядку и справедливости, если бы ему хоть изредка не выпадала честь подготавливать и оформлять юридический акт, который символизирует бескорыстие в чистом виде, вот как, например, сей акт о передаче в дар этого маленького замка. Документы уже подготовлены, господину генеральному директору нужно только бегло просмотреть их и поставить свою подпись. Налоги в связи с передачей виллы (государство — этот ненасытный молох — требует жертв) тоже заплачены.
— Большое спасибо, — сказал Архилохос.
Мэтр зачитал вслух документы, и член церковного совета подмахнул их.
— Отныне вилла ваша, — сказал адвокат и поднялся с кресла.
Архилохос тоже поднялся.
— Сударь, — торжественно произнес Арнольф, — разрешите мне выразить радость по поводу знакомства с вами, человеком, которого я давно почитаю. Вы защищали беднягу проповедника. И тогда вы воскликнули: «Это плоть изнасиловала его дух, душа осталась неоскверненной…» Ваши слова на всю жизнь врезались мне в память.
— Что вы, — возразил Дютур. — Я только выполнял свой долг. К сожалению, проповедника обезглавили, до сих пор я безутешен — ведь я настаивал на двенадцати годах каторги. Правда, от самого страшного мы его спасли — как-никак его не повесили.
Архилохос попросил Дютура уделить ему еще минутку.
Дютур поклонился.
— Прошу вас, уважаемый мэтр, подготовьте документы к моему бракосочетанию.
— Они готовы, — ответил адвокат. — Ваша милая невеста уже говорила со мной.
— Неужели? — радостно воскликнул Арнольф. — Вы знакомы с моей милой невестой?
— Имел удовольствие.
— Чудесная девушка. Правда?
— Несомненно.
— Я самый счастливый человек на свете.
— Кого вы предлагаете в свидетели жениха и невесты?
Архилохос признался, что об этом он не подумал.
Дютур сказал, что рекомендовал бы в качестве свидетелей американского посла и ректора университета.
Арнольф заколебался.
Мэтр сообщил, что оба свидетеля уже дали согласие.
— Вам ничего не надо предпринимать. Предстоящая женитьба вызвала в обществе сенсацию, все уже знают о ваших поразительных служебных успехах, дорогой господин Архилохос.
— Но ведь эти господа незнакомы с моей невестой.
Маленький адвокат откинул со лба живописную седую прядь, погладил усы и почти злобно взглянул на Арнольфа.
— Думаю, что все-таки знакомы, — сказал он.
— Понимаю, — догадался вдруг Архилохос, — эти господа были гостями Джильберта и Элизабет Уимэн.
На этот раз опять изумился мэтр Дютур.
— Назовем это так, — сказал он после долгой паузы.
Имена свидетелей не вызвали у Арнольфа особого восторга.
— Конечно, я всегда восхищался ректором университета…
— Вот и прекрасно.
— Но американский посол…
— У вас опасения политического порядка?
— Да нет, — сказал Архилохос смущенно, — мистер Форстер-Монро занимает, правда, пятое место в моем миропорядке, но он старопресвитерианин, а их догмат всепрощения я не разделяю, я твердо верю в адские муки за гробом.
Дютур покачал головой.
— Не стану посягать на чужую веру. Но в данном случае, по-моему, это не повод для беспокойства: что общего между вашей женитьбой и адскими муками?
Архилохос вздохнул с облегчением.
— Собственно, я тоже так думаю, — сказал он.
— Стало быть, разрешите откланяться, — заметил Дютур, захлопывая портфель. — Гражданское бракосочетание состоится в два ноль-ноль в hôtel de ville[23].
Арнольф собрался проводить мэтра.
Но маленький адвокат сказал, что он предпочитает идти через парк; раздвинув красные портьеры, он открыл стеклянную дверь на веранду.
— Кратчайший путь.
В комнату ворвалась струя ледяного воздуха.
Когда торопливые шаги адвоката замерли в темноте, Архилохос подумал, что Дютур был в этом доме частым гостем; он постоял некоторое время на веранде, куда вела стеклянная дверь, глядя, как мерцают звезды над голыми деревьями. Потом ему стало холодно, он вернулся в комнату и запер дверь.
— Уимэны, как видно, жили на широкую ногу, — пробормотал он.
17
Архилохос бродил по миниатюрному замку в стиле рококо, который отныне был его собственностью. Ему почудилось вдруг, что в соседней комнате слышатся чьи-то легкие шаги, но там никого не оказалось. Вилла была ярко освещена: горели высокие белые свечи и лампочки. Арнольф проходил по анфиладе комнат и маленьких зал, обставленных изящной мебелью, ступал по пушистым коврам. Стены были обиты старинными штофными обоями, в некоторых местах уже немного потертыми, на серебристо-сером фоне — лилии, вытканные матовым золотом; повсюду висели великолепные картины, от которых Арнольф, впрочем, краснея, отводил глаза; с картин на него смотрели все больше голые женщины, зачастую они были в обществе мужчин, изображенных в том же натуральном виде. Хлоя так и не показалась. Вначале Архилохос шел куда глаза глядят, но потом заметил, что кто-то незримый указывает ему путь: на пушистых коврах то тут, то там лежали вырезанные из бумаги звезды — голубые, красные и золотые, — по этому следу, наверно, и надо было идти. Совершенно неожиданно Архилохос увидел узкую винтовую лестницу, которая начиналась у обитой штофом потайной двери (прежде чем обнаружить эту дверь, он долго стоял у стены, где звездная дорожка внезапно обрывалась), на ступеньках лестницы лежали бумажные звезды и кометы, а на одной даже планета Сатурн и его кольца; потом Арнольф увидел бумажную луну, а позже и солнце. Однако чем выше взбирался Архилохос, чем дальше шел по ступенькам, тем больше он терял мужество: на него напала привычная робость. Запыхавшись, он судорожно сжимал букет белых роз, который, впрочем, не выпустил из рук даже во время разговора с мэтром Дютуром. Винтовая лестница привела Архилохоса в круглую комнату с тремя венецианскими окнами, большим письменным столом и глобусом, креслом с высокой спинкой, шандалом и ларем; мебель была средневековая, как на сцене, когда ставят «Фауста»; на кресле лежал пожелтевший клочок пергамента, на котором губной помадой было выведено: «Кабинет Арнольфа». При виде телефона на письменном столе у Архилохоса мелькнула мысль о владельце галереи, он вспомнил, как тот стоял внизу в холле у стойки с зонтами и как с него текло в три ручья; наверно, Пролазьер в конце концов совсем оттаял. Но стоило Арнольфу открыть вторую дверь кабинета, на которую тоже указывали звезды и кометы, и он начисто позабыл о хозяине галереи — перед Архилохосом была спальня с огромной старинной кроватью под балдахином; «Спальня Арнольфа» — как сообщал клочок пергамента, лежавший на маленьком столике в стиле ренессанс. Но звездная дорожка вела дальше: следующая комната была снова выдержана в стиле рококо — то была уже не просто жилая комната, а прелестный будуар, освещенный лампами под красными абажурчиками; в нем стояли мебель и безделушки, обычные для будуаров; на одном из креслиц лежал пергамент с надписью, сделанной губной помадой: «Будуар Хлои»; и тут же в ужасающем беспорядке были разбросаны предметы дамского туалета, которые вконец смутили Архилохоса: бюстгальтер, пояс с резинками, корсаж, комбинация, штанишки — все белое, как снег: на полу валялись чулки и туфельки, а через полуоткрытую дверь можно было заглянуть в ванную, облицованную черным кафелем, с бассейном в полу, наполненным зеленоватой душистой водой, над которой подымался пар.
Однако кометы и звезды на ковре указывали путь не только к ванной, но и к другой двери; заслонившись букетом, как щитом, Архилохос открыл ее. Теперь он очутился в покоях с изящной, но необъятно широкой кроватью под балдахином, стоявшей как раз посередине. Звездная дорожка тут кончалась, хотя несколько звезд и солнц были еще приклеены к деревянной раме кровати. Занавеси над кроватью были затянуты, и Архилохос вначале никого не заметил. В камине горело несколько поленьев, и пламя отбрасывало гигантскую колеблющуюся тень Арнольфа на пурпурный балдахин, затканный причудливыми золотыми узорами. Архилохос боязливо приблизился к кровати. Сквозь щель в занавеске он заглянул внутрь, но вначале не заметил в темноте ничего, кроме белого кружевного облака. Однако ему показалось, что он слышит чье-то дыхание; перепуганный до смерти, он шепнул одними губами: «Хлоя». Ни звука. Необходимо было проявить решительность, хотя в глубине души Арнольфу хотелось незаметно выскользнуть из этой комнаты, из этого замка и снова залезть в свою каморку под крышей, почувствовать себя в безопасности, спастись от этих смущавших его душу звезд. И все же, хотя и с тяжелым сердцем, он раздвинул балдахин и увидел, что та, которую он искал, лежит в постели, окутанная волнами своих распущенных черных волос; Хлоя спала.
Архилохос был так смущен, что бессильно опустился на край кровати и стал робко наблюдать за Хлоей; вернее, изредка он бросал на спящую стыдливые взгляды. Да, он устал: счастье настигало его безостановочно, не давало ему спокойно вздохнуть, привести в порядок свои мысли. И вот тень Архилохоса, скользя по пурпурному воздушному балдахину, все ниже и ниже склонялась над Хлоей. Но тут он вдруг заметил, что Хлоя слегка приоткрыла глаза; наверно, она уже давно наблюдала за ним из-под длинных ресниц.
— Ах, Арнольф, — сказала она, делая вид, будто только что проснулась. — Легко ты меня нашел? Не заблудился?
— Хлоя! — воскликнул Архилохос с испугом. — Ты спишь в постели миссис Уимэн!
— Но ведь теперь постель принадлежит тебе, — рассмеялась Хлоя, потягиваясь.
— Ты открылась мистеру и миссис Уимэн? Сказала, что мы любим друг друга?
Некоторое время Хлоя колебалась, потом ответила:
— Конечно.
— И тогда они подарили нам этот дом?
— У них еще много домов в Англии.
— Знаешь, — сказал он, — у меня это еще как-то не укладывается в голове. Я не предполагал, что англичане настолько прогрессивны в социальных вопросах, что дарят прислугам свои замки.
— Видимо, в некоторых английских семьях такой обычай, — разъяснила Хлоя.
Архилохос покачал головой.
— И вдобавок меня назначили генеральным директором объединений атомных пушек и акушерских щипцов.
— Слыхала.
— И дали сказочное жалованье.
— Тем лучше.
— И сделали членом всемирного церковного совета. В мае я поеду в Сидней.
— Это будет наше свадебное путешествие.
— Нет, — сказал Архилохос. — Вот это, — и протянул Хлое два билета на пароход. — Мы отплываем на «Джульетте». — Но потом Арнольф вдруг смутился. — Откуда ты знаешь о моих служебных делах? — спросил он с удивлением.
Хлоя села, она была так прекрасна, что Архилохос опустил глаза. Казалось, она хотела что-то сказать, но потом задумалась, долго-долго смотрела на Арнольфа и ничего не сказала, только вздохнула и снова опустилась на подушки.
— Весь город только и говорит о твоей карьере, — заметила она каким-то странным голосом.
— И ты хочешь, чтобы мы завтра поженились? — спросил он, запинаясь.
— А ты разве не хочешь?
Архилохос все еще боялся взглянуть, потому что Хлоя сбросила с себя одеяло. Вообще он не знал, куда девать глаза в этой спальне: повсюду висели картины, изображавшие обнаженных богинь и богов. Архилохос никогда не предположил бы, что у сухопарой миссис Уимэн такой вкус.
«Уж эти мне англичанки, — подумал он, — к счастью, они очень порядочно поступают с прислугой, за это им можно простить их неуемный темперамент». Но как он устал! Хорошо бы обнять Хлою и заснуть; проспать много часов подряд без сновидений в этой теплой комнате при свете камина.
— Хлоя! — сказал он вполголоса. — Все, что случилось с нами, так необычно для меня, и для тебя, конечно, тоже, что минутами я теряюсь и думаю: может, я — это вовсе не я, может, на самом деле мое место в каморке под крышей с подтеками на обоях и, может, тебя вообще никогда не существовало? Епископ Мозер сегодня сказал, что счастье труднее перенести, чем несчастье, и порой мне кажется, что он прав. Беда никогда не приходит неожиданно, она предопределена, но счастье — дело чистого случая, поэтому мне страшно. Боюсь, что наше счастье так же быстро исчезнет, как и пришло. Боюсь, что это шутка, что кто-то подшутил над нами, над бедным помбухом и горничной.
— Не надо думать обо всем этом, любимый, — сказала Хлоя, — весь день я ждала тебя, и вот ты со мной. Какой ты красивый. Сними же шубу, уверена, что она от О’Нейла-Паперера.
Когда Архилохос начал снимать шубу, он заметил, что все еще держит в руках цветы.
— Дарю тебе белые розы, — сказал Архилохос.
Он хотел отдать ей букет и низко наклонился над кроватью, и тут Хлоя обняла его своими нежными белыми ручками и потянула к себе.
— Хлоя, — прошептал Арнольф, задыхаясь, — я ведь еще не успел разъяснить тебе основные догматы старо-новопресвитерианской веры.
Но в эту секунду за спиной Архилохоса раздалось легкое покашливание.
18
Член всемирного церковного совета отпрянул, а Хлоя, вскрикнув, нырнула под одеяло. Возле кровати с балдахином стоял владелец картинной галереи, дрожа мелкой дрожью; зубы у него стучали, он был мокрый, как утопленник, тонкие прядки волос свисали со лба, с усов текло, костюм облепил все тело, в руках Пролазьер держал проволочную скульптуру Пассапа, лужа, которая натекла от его ног, тянулась до самой двери, в ней отражалось пламя свечей и плавало несколько бумажных звезд.
Владелец галереи сообщил, что он уже совсем оттаял.
Архилохос смотрел на него непонимающим взглядом.
Владелец сказал, что он оттаял и принес скульптуру.
— Зачем вы сюда явились? — спросил окончательно смущенный Арнольф.
Пролазьер ответил, что он отнюдь не хотел мешать; при этом он тряхнул руками, и вода потекла на пол, словно из водопроводной трубы. Однако, продолжал Пролазьер, он вынужден просить Архилохоса, как христианина и члена всемирного церковного совета, немедленно вызвать врача, у него сильный жар, колет в груди и невыносимо ломит поясницу.
— Хорошо, — сказал Арнольф, приводя себя в порядок и поднимаясь. — Скульптуру можете поставить, хотя бы сюда.
Как будет угодно, ответил Пролазьер, ставя проволочный каркас у кровати с балдахином. Нагнувшись, он заохал, сообщив, что ко всему прочему у него резь в мочевом пузыре.
— Моя невеста, — представил Архилохос, ткнув пальцем в возвышение под одеялом.
— Как не стыдно, — сказал владелец галереи, у которого изо всех пор фонтанчиками била вода. — Вы, как христианин…
— Она в самом деле моя невеста.
— Можете рассчитывать, я буду нем как могила…
— А теперь я попросил бы вас, — сказал Архилохос, выпроваживая Пролазьера из спальни.
Но в будуаре, около стула, где лежали бюстгальтер, пояс с резинками и штанишки, владелец салона вдруг заартачился. Лязгая зубами, он показал на открытую дверь ванной, на бассейн с зеленоватой водой, над которой подымался пар, и заявил, что горячая ванна очень полезна в его состоянии.
— И не просите.
— Вы, как член всемирного совета пресвитерианских церквей…
— Ну хорошо, — сказал Архилохос.
Пролазьер разделся и влез в ванну.
— Только не уходите, — попросил он, сидя в ванне нагишом, весь размякший и потный, умоляюще глядя на Архилохоса широко раскрытыми, лихорадочно блестевшими глазами. — Я боюсь потерять сознание.
Архилохосу пришлось растереть его полотенцем.
Но тут Пролазьер вдруг всполошился.
— А что, если сюда придет хозяин виллы? — заскулил он.
— Я хозяин этой виллы.
— Но ведь вы сами сказали…
— Вилла только что передана мне в дар.
У владельца галереи, видимо, был сильный жар, его трясло.
— Бог с ним, кто хозяин, — сказал он, — я, во всяком случае, из этого дома не уйду.
— Верьте мне, — взывал Архилохос, — я всегда говорю правду.
Но, вылезая из ванны, Пролазьер бормотал, что он, мол, еще сохранил остатки здравого смысла.
— Вы, как христианин… Я глубоко разочарован… Вы не лучше других.
Архилохос закутал его в голубой полосатый купальный халат, который висел в ванной.
— Уложите же меня в постель, — простонал хозяин картинной галереи.
— Но…
— Вы, как член всемирного церковного совета…
— Хорошо.
Архилохос отвел Пролазьера к кровати под балдахином в комнату в стиле ренессанс. Пролазьер улегся, а Арнольф сказал, что он вызовет врача.
— Сперва дайте мне хлебнуть коньяка, — попросил хозяин галереи, хрипя и дрожа от озноба. — Мне это всегда помогает. Вы, как христианин…
Архилохос обещал сходить в винный погреб — поискать коньяк; еле волоча ноги от усталости, он вышел.
19
Однако, проблуждав немного по дому и обнаружив наконец лестницу, ведущую в подвал, Архилохос вдруг услышал дикие вопли, доносившиеся откуда-то издалека; он заметил также, что повсюду горит свет. А когда Арнольф спустился в подвал, его опасения подтвердились; брат Биби и близнецы Жан-Кристоф и Жан-Даниэль валялись на полу в окружении пустых бутылок и горланили народные песни.
— И кто грядет там с высоты? — в восторге проорал Биби, увидев Арнольфа. — Наш дядя Арнольф!
Встревоженный Арнольф спросил, что они тут делают.
— Хлещем водку и разучиваем песню про «Охотника из Курпфальца».
— Биби, — с достоинством возвестил Арнольф, — я попросил бы тебя прекратить пение. Ты находишься в подвале моего дома.
— Ну и ну, — загоготал Биби, — ты неплохо устроился, не стыдно похвастаться. Поздравляю. Садись прямо на трон, брат Арнольф. — И он жестом указал Архилохосу на пустую бочку, стоящую в луже красного вина. — Валяйте, детки, — обратился он к близнецам, которые уже успели забраться на колени и на плечи Арнольфа и кувыркались, как обезьяны. — Гряньте псалом в честь дядюшки.
— Будь верен и честен всегда, — визгливо запели Жан-Кристоф и Жан-Даниэль.
Архилохос попытался стряхнуть с себя усталость.
— Брат Биби, — сказал он, — я хочу раз и навсегда объясниться с тобой.
— Ни звука больше, малыши! Внимание! — забормотал Биби. — Дядя Арнольф хочет толкнуть речугу!
— Не думай, что я стыжусь тебя, — начал Архилохос, — ты мой родной брат, и я знаю, что, в сущности, ты человек добрый и тихий, благородная душа, но у тебя есть одна слабость, и потому я должен проявить к тебе отеческую строгость. Я всегда тебе помогал, но чем больше денег тебе давали, тем больше ты опускался, ты и вся твоя семья. А теперь ты дошел до того, что пьянствуешь в моем винном погребе.
— Досадное недоразумение, брат Арнольф, я думал, что это погреб военного министра. Досадное недоразумение.
— Тем хуже, — печально возразил Арнольф, — разве можно залезать в чужой погреб? Ты кончишь свои дни на каторге. А теперь отправляйся домой и забирай близнецов, завтра ты начнешь работать у Пти-Пейзана в объединении акушерских щипцов.
— Домой? В такую холодину? — с испугом спросил Биби.
— Я вызову такси.
— Хочешь, чтобы мои крошки-близнецы замерзли, — возмутился Биби. — У нас в хибаре гуляет ветер. Они сразу окочурятся в этаком холоде. Минус двадцать по Цельсию.
За стеной послышался адский грохот, и из соседнего помещения выскочили Маттиас и Себастьян, двенадцати и девяти лет от роду, кинулись на дядю, вскарабкались на колени и на плечи Арнольфа, где уже сидели близнецы.
— Маттиас и Себастьян, бросьте финки, раз вы играете с дядей! — прикрикнул на них брат Биби.
— Боже мой, кого ты еще привел сюда? — спросил Арнольф, на котором висели его четыре племянника.
— Никого, только мамочку и дядюшку-моряка, — ответил Биби, раскупоривая очередную бутылку, — ну и, конечно, Магду-Марию с ее новым кавалером.
— С англичанином?
— Почему именно с англичанином? — недоумевал Биби. — Тот уже давно смылся. У нее теперь китаец.
Когда Архилохос вернулся из подвала, оказалось, что Пролазьер спит, но и во сне его трепала жестокая лихорадка. Однако вызывать врача было уже слишком поздно. Силы покинули Архилохоса. А из подвала все еще доносились вопли и пение. Архилохос не посмел пройти второй раз по звездной дорожке, которая вела в спальню Хлои. Он лег на диванчик в будуаре Хлои, недалеко от креслица, на котором валялись бюстгальтер и пояс с резинками, и тут же заснул. Но предварительно он все же снял шубу от О’Нейла-Паперера и укрылся ею.
20
Утром часов в восемь его разбудила горничная в белом переднике.
— Живей, сударь, — сказала она, — надевайте пальто и уходите, в соседней комнате спит хозяин дома.
Горничная открыла дверь, которую он раньше не заметил, дверь вела в широкий коридор.
— Ничего подобного, — сказал Архилохос, — хозяин дома — это я. На кровати — владелец художественной галереи Пролазьер.
— О, — сказала девушка и сделала книксен.
— Как тебя зовут? — спросил Арнольф.
— Софи.
— Сколько тебе лет?
— Шестнадцать, сударь.
— Давно ты здесь служишь?
— Полгода.
— Тебя наняла миссис Уимэн?
— Мадемуазель Хлоя, мсье.
Архилохос решил, что произошла какая-то путаница, но постеснялся расспрашивать дальше.
— Не угодно ли, сударь, кофе? — осведомилась девушка.
— Мадемуазель Хлоя уже встала?
— Она спит до девяти.
Тогда и он позавтракает в девять, сказал Архилохос.
— Mon dieu[24], мсье. — Софи покачала головой. — В девять мадемуазель принимает ванну.
— А в половине десятого?
— Ей делают массаж.
— А в десять?
— К ней приходит мсье Шпац.
Архилохос с удивлением спросил, кто такой мсье Шпац.
— Портной.
Когда же он сможет увидеться со своей невестой, воскликнул Архилохос в отчаянии.
— Ah non[25], — сказала Софи энергично, — готовится свадьба, и мадемуазель страшно занята.
Архилохос сдался, он попросил проводить его в столовую: надо было хотя бы поесть.
Он завтракал в той комнате, где мэтр Дютур оформлял недавно дарственную на виллу, и ему прислуживал седой, исполненный величия дворецкий (вообще выяснилось, что в доме полным-полно слуг — камердинеров и горничных); Арнольфу подали яйцо, ветчину (к которой он не притронулся), кофе по-турецки, апельсиновый сок, виноград и свежие булочки с маслом и конфитюром. Тем временем за высокими окнами в парке с раскидистыми деревьями совсем рассвело, и в дом хлынул поток свадебных подарков: цветы, письма, телеграммы, груды свертков. К дверям, громко сигналя, подъезжали автофургончики; подарки множились, загромоздили холл и гостиную, их сваливали прямо на пол в спальне перед ренессансной кроватью и даже на саму кровать, в которой лежал всеми забытый владелец галереи и молча с большим достоинством лязгал зубами.
Архилохос вытер рот салфеткой. Он ел почти час, молча, истово, ведь с того времени, как Жоржетта накормила его макаронами и яблочным пюре, у него не было ни крошки во рту. На буфете стояла батарея бутылок с аперитивами и ликерами и ящики ароматных хрупких сигар: «Партагас», «Даннеман», «Коста-Пенна», рядом с сигарами лежали пестрые пачки сигарет; первый раз в жизни у Арнольфа возникло желание вкусить запретный плод, но он с испугом подавил это желание. Он наслаждался ранним часом и своей ролью хозяина. Правда, дикий шум, который производил семейный клан Биби и который время от времени явственно долетал наверх, вызвал в доме некоторую панику; толстая кухарка, спустившаяся за чем-то в погреб, выскочила оттуда совершенно растерзанная: ее чуть было не изнасиловал дядюшка-моряк.
Дворецкий со страхом сообщил, что в дом ворвалась шайка разбойников; он хотел было позвонить в полицию, но Архилохос удержал его.
— Это мои родственники.
Дворецкий поклонился.
Арнольф спросил, как его зовут.
— Том.
— Сколько вам лет?
— Семьдесят пять, сударь.
— Давно вы здесь служите?
— Десять лет.
— Вас нанял мистер Уимэн?
— Мадемуазель Хлоя.
Архилохос решил, что и на этот раз произошло недоразумение, но и сейчас он не хотел ни о чем спрашивать. Он немного стеснялся семидесятипятилетнего слуги.
Дворецкий доложил, что в девять явится О’Нейл-Паперер; он шьет свадебный фрак. Цилиндр от Гошенбауэра уже прибыл.
— Хорошо.
— А на десять назначен чиновник из ратуши. Придется урегулировать еще кое-какие формальности.
— Отлично.
— В половине одиннадцатого надо принять мсье Вагнера, который официально поздравит господина Архилохоса с присвоением ему звания почетного доктора медицинских наук за заслуги в деле внедрения акушерских щипцов.
— Жду его.
— На одиннадцать назначен американский посол. Он вручит поздравительное послание от президента Соединенных Штатов.
— Очень приятно.
— В час подадут легкую закуску для свидетелей бракосочетания, а без двадцати два состоится отъезд в отдел регистрации браков. После венчания в часовне святой Элоизы — обед в «Рице».
— Кто же все это организовал? — с удивлением спросил Архилохос.
— Мадемуазель Хлоя.
— Сколько гостей ожидается?
— Мадемуазель пожелала отпраздновать свадьбу в узком кругу, приглашены только самые близкие друзья.
— Совершенно согласен.
— Поэтому стол будет накрыт всего на двести персон.
Архилохосу опять стало не по себе.
— Хорошо, — сказал он, помолчав немного. — В этом я пока не разбираюсь. Вызовите мне такси на половину двенадцатого.
— Разве вы не поедете с Робертом?
Архилохос осведомился, кто такой этот Роберт.
— Ваш шофер, — ответил дворецкий. — У господина Архилохоса самый комфортабельный во всем городе красный «студебекер».
«Как странно», — подумал Архилохос, но именно в эту секунду появился О’Нейл-Паперер.
В половине двенадцатого Арнольф поехал в «Риц», чтобы увидеться с мистером и миссис Уимэн. Англичане находились в холле отеля — в роскошном зале с диванами, обитыми плюшем, и креслами всех фасонов; на стенах висели потемневшие от времени картины, они были такие темные, что почти невозможно было различить изображенные на них предметы — иногда, видимо, это были фрукты, иногда дичь. Супруги восседали на плюшевом диване и штудировали журналы: он — «Новое археологическое обозрение», она — археологический ежемесячник.
— Миссис и мистер Уимэн, — сказал Арнольф, взволнованный до глубины души, и протянул англичанке, которая смотрела на него с несказанным изумлением, две орхидеи, — вы самые лучшие люди на свете.
— Well, — ответил мистер Уимэн, пососал свою трубку и отложил в сторону «Новое археологическое обозрение».
— Отныне вы будете номерами первым и вторым в моем миропорядке, основанном на нравственности!
— Yes, — сказал мистер Уимэн.
— Вас я уважаю даже больше, чем президента и епископа старо-новопресвитериан.
— Well, — сказал мистер Уимэн.
— Подарки, которые преподносят от чистого сердца, вызывают чистосердечную благодарность.
— Yes, — сказал мистер Уимэн и в полном остолбенении перевел взгляд на жену.
— Thank you very much![26]
— Well, — сказал мистер Уимэн, потом еще раз сказал «Yes» и вынул из кармана портмоне, но Архилохоса уже и след простыл.
«Какой милый народ эти англичане, только уж очень сдержанные», — думал Архилохос, сидя в своем красном «студебекере» (самом комфортабельном во всем городе).
На этот раз свадебный кортеж у часовни святой Элоизы ожидала не жалкая кучка старо-новопресвитерианских кумушек, а гигантская толпа народу; вся улица Эмиля Каппелера была запружена полузамерзшими людьми: люди выстроились длинными шпалерами на тротуарах; любопытные осаждали окна грязных домов. Оборванные уличные мальчишки, будто припорошенные известкой, гроздьями висели на фонарях и на нескольких чахлых деревьях. Но вот вереница автомобилей показалась на бульваре Марклинга со стороны ратуши, и из головной машины — красного «студебекера» — вышли Хлоя и Архилохос. Наэлектризованная толпа бесновалась и орала: «Да здравствует Архилохос!», «Виват Хлоя!»; болельщики велоспорта сорвали себе голос от крика, а мадам Билер и Огюст (на сей раз не в костюме велогонщика) расплакались. Несколько позднее прибыл президент в разукрашенной карете, запряженной шестеркой белых лошадей; вокруг кареты на вороных конях гарцевали лейб-гвардейцы в золотых шлемах с белыми плюмажами. Толпа хлынула в часовню святой Элоизы.
Однако нельзя сказать, что часовня радовала глаз. Здание часовни — колокольни у нее не было — напоминало, скорее, маленькую фабрику; стены ее, уже довольно ободранные, были когда-то белыми, словом, часовня являла собой в высшей степени неудачный образец современного церковного зодчества; вокруг нее росло несколько унылых кипарисов. Внутренний вид часовни соответствовал ее внешнему облику; когда-то в нее завезли купленную по дешевке рухлядь из старой, пошедшей на слом церкви, на месте которой построили кинотеатр. Часовня была бедная, голая, в ней стояли простые деревянные скамьи и грубо сколоченная кафедра, торчавшая будто шишка на ровном месте. Трухлявый крест был укреплен против входа на узкой стене, которая своими желтыми и зеленоватыми подтеками, а также высокими, как бойницы, окошками живо напомнила Архилохосу стену напротив его прежней каморки; в церковные окна падали косые лучи солнца, в которых плясали пылинки. Но когда этот бедный, постный, затхлый храм, где воняло дешевым одеколоном, старухами и немножко чесноком, заполнили свадебные гости, он весь преобразился, расцвел, похорошел; повсюду сверкали бриллианты и жемчужные ожерелья, белели обнаженные плечи и груди, и аромат дорогих духов поднимался ввысь к закопченным балкам (в свое время церковь чуть не сгорела). Епископ Мозер взошел на кафедру, он был очень импозантен в своем черном старо-новопресвитерианском одеянии, епископ положил на рассохшееся дерево кафедры Библию со сверкающим золотым обрезом, молитвенно сложил руки и взглянул на толпу: казалось, он чем-то смущен, по его розовому лицу градом катился пот. Внизу у самых ног епископа сидели жених и невеста; огромные черные доверчивые глаза Хлои сияли от радости, в ее легкой прозрачной фате запутался солнечный зайчик; рядом с ней застыл смущенный Архилохос во фраке (от О’Нейла-Паперера); он был почти неузнаваем — о старом напоминали только очки без оправы с непротертыми стеклами, которые несколько криво торчали у него на носу. Но на коленях у Арнольфа лежали цилиндр (от Гошенбауэра) и белые перчатки (от де Штуца-Кальберматтена). Прямо за Хлоей и Архилохосом, отделенный от всей остальной публики, восседал президент — бородка клинышком, сетка морщин на лице, седой, в мундире кавалерийского генерала с золотым шитьем; худыми ногами в начищенных до блеска сапогах президент придерживал длинную саблю. Позади него сидели свидетели: американский посол, на белом фрачном жилете которого сверкали ордена, и ректор университета при всех своих регалиях. Чуть поодаль на неудобных жестких скамьях разместились гости: Пти-Пейзан, мэтр Дютур и возле него могучая дама — его супруга, похожая на высокую гору с шапкой ледников; тут же сидел Пассап, он тоже облачился во фрак, но руки у него были перепачканы кобальтом. Вообще в часовне собрался весь цвет столицы, все знатные мужи (главным образом это были именно мужи), так сказать, самые сливки сливок общества, и лица у всех были торжественные, а когда епископ уже собрался было приступить к своей праздничной проповеди, в церковь, хотя и с опозданием, вошел Фаркс, революционер, занимавший самую последнюю ступеньку в миропорядке Арнольфа. Все увидели его огромную массивную голову, взъерошенные усы, огненно-рыжие кудри, спускавшиеся до могучих плеч, двойной подбородок и накрахмаленную манишку в вырезе фрака, на которой болтался золотой орден «Кремля» с рубинами.
21
— Слова, которые я хотел бы взять за основу своей проповеди, — тихо начал епископ Мозер, заметно шепелявя и явно чувствуя себя неуютно на кафедре, а посему переминаясь с ноги на ногу, — слова, с которыми я хотел бы сегодня обратиться к нашей любезной пастве, почтившей своим присутствием это торжество, взяты из семьдесят первого псалма, псалма о Соломоне, где сказано: «Благословен Господь Бог, Бог Израилев, один творящий чудеса!» Сейчас, — продолжал епископ, — мне предстоит соединить узами брака двух людей, которые стали дороги и близки не только мне, но и всем собравшимся сегодня в часовне святой Элоизы. Поначалу несколько слов о невесте. — Тут епископ Мозер слегка запнулся. — С большой нежностью возлюбили ее все здесь присутствующие, ибо она дарила всем нам, собравшимся здесь, столько ласки и любви… — На этом месте епископ ударился в поэзию. — Столько прекрасных блаженных ощущений… Словом, столько незабываемых минут, что мы никогда не устанем ее благодарить. — Епископ вытер пот со лба.
Потом он со вздохом облегчения перешел к жениху, сказав, что жених человек достойный и благородный и вся та любовь, которую его невеста так щедро расточала, по праву достанется ему одному, доброму патриоту, ведь всего за несколько дней он сумел привлечь к себе внимание страны. Выходец из низов, он стал генеральным директором, членом всемирного совета пресвитерианских церквей, почетным доктором медицинских наук и почетным дипломатом США. И хотя неоспоримо, что все, что предпринимает смертный, все, чего он добивается, все его чины и звания преходящи, все это суть тлен и прах, ничто пред лицом Всевышнего, карьера жениха доказывает, что здесь налицо великая благодать. (При этих словах Фаркс демонстративно откашлялся.) Но это отнюдь не благодать, каковая исходит от человека. (Теперь откашлялся Пти-Пейзан.) Это благодать, исходящая от Господа Бога, как учит нас Священное писание. Не человеческие милости возвысили Архилохоса, а милость Творца. Правда, Бог выражает свою волю посредством людей, используя для высших целей даже человеческие слабости и человеческие несовершенства, но один Бог всему причиной.
Так глаголил епископ Мозер, и, по мере того как он переходил от частного к общему, по мере того как удалялся от исходной точки своих рассуждений, то есть от невесты и жениха, и устремлялся к высшим материям, к божественному, его голос становился все звучнее, все громогласнее; епископ набрасывал картину миропорядка, который по сути своей является совершенным и мудрым, ибо в конечном счете веление Всевышнего оборачивает все во благо.
Но вот епископ кончил проповедь, сошел с кафедры и совершил обряд бракосочетания. Жених и невеста шепнули «да». И вот уже Архилохос стоит под руку с прелестной новобрачной, огромные черные глаза которой сияют от счастья.
Но тут вдруг у грека словно пелена с глаз упала, и он начал медленно оглядывать торжественное сборище, толпу, через которую ему надо было прошествовать: он увидел важного президента, господ и дам, осыпанных орденами и брильянтами, самых богатых, влиятельных и знаменитых людей в стране, увидел взъерошенную рыжую шевелюру Фаркса, его скривившееся в злобной гримасе лицо и иронические взгляды, которые Фаркс на него бросал, услышал первые такты свадебного марша Мендельсона, ибо как раз в эту минуту заиграл небольшой визгливый орган над хорами. Да, достигнув апогея счастья, Архилохос все увидел и все понял, хотя народ на улице еще не расходился и завидовал ему. Но Арнольф побледнел и зашатался, лицо его взмокло от пота.
— Я женился на куртизанке! — в отчаянии крикнул он, точно смертельно раненный зверь, вырвал руку из руки своей перепуганной жены, которая с развевающейся фатой бежала за ним до самых врат часовни, и выскочил на улицу, где толпа встретила его смехом и улюлюканьем; увидев, что жених появился один, люди тут же смекнули, в чем дело. У чахлых кипарисов Архилохос на секунду приостановил свой бег, ибо с ужасом осознал, какая несметная толпа собралась у церкви. Но потом он стремглав промчался мимо кареты президента, мимо вереницы «роллс-ройсов» и «бьюиков» и, петляя, побежал по улице Эмиля Каппелера. Время от времени то один, то другой пытался преградить ему путь, и Арнольф чувствовал себя загнанным зверем, по следу которого идут собаки.
— Да здравствует заслуженный рогоносец нашего города!
— Долой!
— Сорвите с него фрак!
Вслед ему неслись пронзительные свистки, брань, в него бросали камни, уличные сорванцы припустились за ним, норовя подставить ножку, он падал и снова бежал, а потом заскочил в подъезд какого-то дома, где ютилась беднота, и спрятался под лестницей, заполз в самый темный угол и закрыл голову руками, ибо ему казалось, что над ним, грохоча сапожищами, несется людская лавина. Но время шло, и преследователи рассеялись, потеряв надежду обнаружить свою жертву.
Много часов подряд просидел Арнольф, съежившись, под лестницей, ему было холодно, он тихонько всхлипывал, а в нетопленом парадном становилось все темнее и темнее.
Со всеми она спала, со всеми, с президентом, с Пассапом, с мэтром Дютуром, решительно со всеми, причитал он.
Гигантское здание миропорядка всей своей тяжестью обрушилось на него и погребло под своими обломками. Но потом он взял себя в руки, пошатываясь, прошел по чужому подъезду, упал, споткнувшись о велосипед, и выбрался на улицу. Была уже ночь. Крадучись, спустился он к реке по плохо освещенным, грязным переулкам, под мост, где ночевали оборванцы, обмотавшись газетами и охая во сне; почти невидимая в кромешном мраке, бродячая собака кинулась на него, с громким писком проносились крысы, вода, журча, накатила на берег, и Арнольф промочил себе ноги. Завыла пароходная сирена.
— Уже третий за эту неделю, — просипел кто-то из оборванцев. — Давай прыгай!
— Как бы не так, — хрипло ответил ему другой. — Вода слишком холодная.
(Смех.)
— Лезь в петлю! Лезь в петлю! — хором тявкали оборванцы. — Самое милое дело, самое милое дело!
Архилохос ушел от реки; бесцельно бродил он по Старому городу. Где-то вдали гнусавила Армия спасения; Арнольф очутился на улице Фюнебра, недалеко от жилища Пассапа, и ускорил шаги; много часов блуждал он по незнакомым улицам, проходил по кварталам особняков и по рабочим предместьям, где в домах орало радио и приверженцы Фаркса пели песни протеста в подозрительных кабаках; потом потянулись фабричные корпуса и домны, похожие в темноте на привидения; только в полночь Арнольф добрался до своего старого дома. Он не стал зажигать свет. Запер дверь каморки и прислонился к ней спиной. Он дрожал; фрак от О’Нейла-Паперера превратился в грязные лохмотья, цилиндр от Гошенбауэра он уже давно потерял. По-прежнему слышался шум спускаемой воды, а когда зажигались пыльные окошки на противоположной стене, из мрака комнаты выступали то простыня (которой был прикрыт старый выходной костюм Арнольфа), то железная койка, то стул, то колченогий стол с Библией, то портреты бывших столпов миропорядка, прикрепленные к обоям неопределенного цвета. Арнольф открыл окно, в нос ему ударила вонь, и шум воды в уборных стал слышнее. Тогда Архилохос начал один за другим срывать со стены портреты; он выбросил за окно в глубокий, темный колодец двора президента, епископа и американского посла, а за ними следом полетела и Библия. На стене осталась лишь фотография брата Биби и его деток. А потом Арнольф пробрался на чердак, где на длинных веревках смутно белело вывешенное для просушки белье; он отвязал одну из веревок, не обращая внимания на то, что простыни, принадлежавшие кому-то из жильцов, упали на пол. Потом ощупью нашел дорогу в свою каморку, поставил стол посредине комнаты, забрался на него и прикрепил веревку к крюку, на котором висела лампа. Крюк был прочный, и грек завязал петлю. Створка окна хлопнула, и ледяная струя воздуха обожгла лоб Арнольфа. Вот он уже просунул голову в петлю и хотел было спрыгнуть со стола, как вдруг дверь распахнулась. Щелкнул выключатель.
На пороге стоял Фаркс, он еще не снял фрака, в котором был на свадьбе, только набросил на плечи подбитое мехом пальто; широкое лицо его было бесстрастным и казалось огромным над рубиново-золотым орденом «Кремля», взъерошенные волосы зловеще пламенели. Фаркса сопровождали двое. Один из них — референт Пти-Пейзана — запер дверь на крючок, другой — детина исполинского роста в форменной куртке шофера такси — захлопнул окно и передвинул стул к двери, при этом не переставая жевать резинку. Архилохос все еще стоял на колченогом столе, просунув голову в петлю, призрачно освещенный светом лампы. Фаркс опустился на стул и скрестил руки. Референт сел на кровать. Все трое молчали. Теперь шум воды в уборных стал глуше. Анархист внимательно разглядывал грека.
— Ну что ж, господин Архилохос, — начал он после длинной паузы, — вы, собственно, должны были ожидать моего прихода.
— Вы тоже спали с Хлоей, — прошипел Архилохос, стоя на столе.
— А как же иначе, — подтвердил Фаркс, — ведь в этом, в сущности, и состояла профессия прекрасной дамы.
— Уходите!
Революционер не шевельнулся.
— От каждого ее любовника вы получили свадебный подарок, — продолжал он, — теперь очередь за мной. Лугинбюль, дай ему мой подарок.
Детина в шоферской куртке, не переставая жевать, подошел к столу и положил к самым ногам Арнольфа металлический предмет яйцеобразной формы.
— Что это за штука?
— Справедливость.
— Бомба?
Фаркс расхохотался.
— Угадали.
Архилохос вынул голову из петли, осторожно слез с колченогого стола и, поколебавшись немного, взял бомбу в руки. Она была холодная и блестящая.
— Что я должен с ней делать?
Старый бунтовщик медлил с ответом. Насупившись, он сидел неподвижно, положив огромные ручищи на раздвинутые колени.
— Вы хотели покончить с собой, — сказал он. — Почему?
Архилохос молчал.
— Существует две возможности справиться с этим миром, — отчеканил Фаркс медленно и сухо, — либо сдаться ему, либо изменить его.
— Молчите! — крикнул Архилохос.
— Как угодно, в таком случае вешайтесь.
— Говорите!
Фаркс опять захохотал.
— Дай мне сигарету, Шуберт, — обратился он к референту Пти-Пейзана.
Лугинбюль дал ему прикурить от массивной зажигалки грубой работы. Фаркс закурил, не спеша выпуская большие синеватые кольца дыма.
— Что же мне делать? — закричал Архилохос.
— Принять мое предложение.
— Зачем?
— Необходимо свергнуть строй, который сделал из вас дурака.
— Но это невозможно.
— Наоборот, легче легкого, — ответил Фаркс. — Убейте президента. Об остальном позабочусь я. — И он постучал пальцем по своему ордену «Кремля».
Архилохос пошатнулся.
— Осторожно, а то уроните бомбу, — предостерег его старый террорист, — она может разорваться.
— Я должен стать убийцей?
— А что в этом страшного? Шуберт покажет вам план здания.
Референт Пти-Пейзана подошел к столу и развернул лист бумаги.
— Вы заодно с Пти-Пейзаном! — закричал Архилохос в ужасе.
— Ерунда! — сказал Фаркс. — Референта я подкупил. Таких мальчиков можно купить задешево.
Деловито водя пальцем по бумаге, референт приступил к объяснениям. Вот план президентского дворца. Здесь стена, окружающая дворец с трех сторон. Фасад отделен от улицы железной оградой высотой в четыре метра. Высота стены два метра тридцать пять сантиметров. Слева от дворца — министерство экономики, справа — дворец папского нунция. В углу, который образует двор министерства экономики со стеной дворца, стоит лестница.
Архилохос поинтересовался, всегда ли она там стоит.
— Сегодня ночью она там будет, остальное вас не касается, — ответил референт. — Мы довезем вас на машине до набережной. Вы влезете на стену, подымете лестницу, спуститесь по ней в сад. И окажетесь в тени, отбрасываемой высокой елью. Вы спрячетесь за дерево и подождете, пока не пройдет стража. Потом вы обогнете дом и увидите маленькую дверь, к которой ведут несколько ступенек. Дверь будет заперта, вот ключ от этой двери.
— А что потом?
— Спальня президента — в бельэтаже. Вам придется пересечь главную лестницу и пройти по коридору в глубь здания. Бомбу бросьте на постель старика.
Референт замолчал.
— А что будет после того, как я брошу бомбу?
— Уйдете той же дорогой, — ответил референт. — Охрана кинется во дворец через главный вход, у вас останется достаточно времени, чтобы убежать через двор министерства экономики. Возле министерства вас будет ждать машина.
В каморке стало тихо и холодно. Не слышен был даже шум спускаемой воды. Брат Биби и его детки одиноко висели на грязных обоях.
— Ну-с, я слушаю вас, — нарушил молчание Фаркс. — Как вы относитесь к моему предложению?
— Не хочу! — закричал Архилохос, бледный, содрогаясь от ужаса. — Не хочу!
Старый бунтовщик уронил сигарету на пол, пол был весьма примитивный (плохо оструганные доски с темными кружочками на месте сучков); сигарета все еще дымилась.
— Так все говорят поначалу, — сказал Фаркс. — Будто мир можно переделать без убийств.
От крика Архилохоса в соседней комнате проснулась обитавшая там служанка и забарабанила в стену. Архилохос мысленно представил себе, как он проходит под руку с Хлоей сквозь замерзший город. На реке туман, видны только огни и большие темные силуэты судов. Он вспомнил, как с ним здоровались люди, проезжавшие на трамваях и в машинах: красивые, лощеные молодые люди; потом он представил себе свадебных гостей, раззолоченных, в россыпях брильянтов, в черных фраках и вечерних платьях; алые ордена, белые лица, освещенные золотистыми снопами света, в которых плясали пылинки. Вспомнил, как все они любезно улыбались ему и как это было подло, вспомнил и еще раз пережил жестокий миг своего внезапного прозрения и свой стыд; вспомнил, как он выбежал из часовни святой Элоизы под кипарисы, помедлил немного, а потом, петляя, помчался по улице Эмиля Каппелера сквозь орущую, гогочущую и улюлюкающую толпу; мысленно увидел на асфальте тени своих преследователей, которые с каждой секундой становились все огромней; вспомнил, как он упал на жесткую землю, окрасив ее своей кровью, опять почувствовал, как кулаки и камни, словно молоты, ударяли по нему, представил себе, как он лежит, дрожа, под лестницей в чужом подъезде, и услышал грохот сапожищ у себя над головой.
— Я согласен, — сказал он.
22
Фаркс и его спутники подвезли Архилохоса, решившего отомстить миру, в американской машине к набережной Тассиньи; оттуда было минут десять ходу до набережной де л’Эта (где находился президентский дворец). Четверть третьего ночи. Пустынная набережная, над собором святого Луки взошел лунный серп, при свете луны заблестели льдины на реке и обледеневший фонтан святой Цецилии со множеством причудливых завитушек и бород святых. Архилохос шел в тени, отбрасываемой дворцами и гостиницами, он миновал «Риц», у входа в который разгуливал окоченевший швейцар; больше он не встретил ни души, только машина Фаркса как бы невзначай несколько раз проехала по улице: это Фаркс следил за тем, чтобы Арнольф выполнил задание.
Потом машина остановилась около полицейского у здания министерства экономики, очевидно, шофер задал полицейскому какой-то пустяковый вопрос, чтобы Архилохос мог незаметно проскользнуть во двор. У стены стояла лестница. Арнольф нащупал в кармане своего старого, чиненого-перечиненого пальто, в которое успел облачиться дома, бомбу, влез по лестнице, подтянул ее наверх и, сидя верхом на узкой стене, спустил лестницу через ограду, а потом полез в парк. Он стоял на промерзшей траве в тени большой ели; все было так, как сказал референт.
Со стороны набережной ярко светили огни, где-то засигналила машина, может быть, это была машина Фаркса; лунный серп стоял теперь за дворцом президента — нелепым, слишком вычурным зданием в стиле барокко (изображенным во всех альбомах по искусству и воспетым всеми специалистами-искусствоведами). Рядом с лунным серпом сверкала большая звезда, а высоко над дворцом проплывали бортовые огни самолета. На замощенной дороге, огибавшей здание, раздались гулкие шаги. Архилохос прижался к стволу ели, спрятавшись под ее ветвями, которые спускались до самой земли. Арнольфа обдал запах хвои, иголки оцарапали его лицо. Печатая шаг, прошли два лейб-гвардейца; вначале были видны только их темные силуэты, потом при свете луны Архилохос различил ружья наперевес с примкнутыми штыками и белые развевающиеся плюмажи. Солдаты остановились у ели. Один из них раздвинул ружьем ветви; Арнольф затаил дыхание, ему казалось, что все кончено, и он уже приготовился бросить бомбу, но гвардейцы двинулись дальше, так и не заметив грека. Теперь стражники были с ног до головы облиты лунным светом; их золотые шлемы и латы на исторических мундирах сверкали. Потом стража завернула за угол дворца. Архилохос отошел от дерева и торопливо побежал к задней стене здания.
Здесь все также было ярко освещено луною. Арнольф увидел голые плакучие ивы и высокие ели, замерзший пруд и дворец папского нунция. Дверь он нашел сразу. Ключ подходил. Архилохос повернул его в замочной скважине, но дверь не отворилась. Очевидно, она была заперта изнутри на засов. Архилохос растерялся, каждую минуту стража могла появиться вновь. Арнольф вбежал на задний двор и поднял глаза. По обеим сторонам бокового входа возвышались обнаженные мраморные гиганты, очевидно, это были Кастор и Поллукс, на плечах которых покоился пузатый балкон (по расчетам Архилохоса, как раз за ним находилась спальня президента).
Арнольф тут же решительно начал взбираться на балкон. Он почувствовал прилив отчаянной храбрости, так ему хотелось бросить бомбу. Он вскарабкался по бедру гиганта, по его животу и груди, вцепился в мраморную бороду, обхватил рукой мраморное ухо, наконец выпрямился на голове колосса и влез на балкон. Увы. Все было напрасно. Дверь оказалась запертой, а бить стекла он не решался, так как вдали уже снова послышались шаги стражников. Арнольф бросился на холодные плиты балкона. Печатая шаг, как и в первый раз, лейб-гвардейцы прошли прямо под ним.
Двери балкона были окружены фигурами голых мужчин и женщин выше человеческого роста вперемежку с лошадиными головами, хорошо видными при свете луны; все эти персонажи, изображенные в самых причудливых позах, ожесточенно сражались, буквально рвали друг друга на части; еще лежа на балконе, Архилохос сообразил, что перед ним, по-видимому, битва амазонок; в самом пекле ее, где тела были налеплены особенно густо, зияло круглое отверстие — открытое окошко, и Архилохос очертя голову ринулся в мраморный мир богов; вокруг него теперь громоздились мощные груди и чресла. Дрожа от страха при мысли о том, что бомба в кармане его пальто вот-вот взорвется, он полз по героическим животам и неестественно изогнутым спинам; один раз он чуть было не сорвался, но в последнюю минуту ему удалось ухватиться за обнаженный меч какого-то воина, а потом он в страхе припал к рукам умирающей амазонки, на освещенном луной миловидном лице которой блуждала довольно-таки нежная улыбка; а в это время дворцовая стража в третий раз закончила обход и остановилась.
Архилохос увидел, как гвардейцы, стоя на ярко освещенном дворе, оглядывают стену дворца.
— Кто-то залез наверх, — сказал один из двух солдат после долгого высматривания.
— Где он? — спросил другой.
— Вон там.
— Глупости, это просто темная впадина между богами.
— Это вовсе не боги, а амазонки.
— Кто такие эти амазонки?
— Бабы с одной грудью.
— Но у этих же две.
— Скульптор просто позабыл, — решил первый гвардеец. — И все же там кто-то притаился. Сейчас я его сниму.
Он прицелился. Архилохос не шелохнулся.
— Хочешь всполошить весь дом своей дурацкой стрельбой? — запротестовал его товарищ.
— Но ведь там человек.
— Да нет же. Туда невозможно забраться.
— Пожалуй, ты прав.
— Вот видишь. Пошли.
Стражники, чеканя шаг, двинулись дальше; ружья они вскинули на плечо. Арнольф снова полез вверх, наконец он добрался до открытого окошка и с трудом протиснулся в него. Третий этаж, высокая голая комната — уборная, залитая лунным светом, который проникал через открытое окно. Архилохос устал как собака; карабкаясь по стене, он вывалялся в пыли и птичьем помете; но резкий переход из мраморного мира богов в тот мир, где он очутился теперь, несколько отрезвил его. Отдышавшись, Арнольф открыл дверь и вышел в просторную переднюю, по обе стороны которой тянулись залы, также освещенные луной; между колоннами в залах белели статуи; Архилохос с трудом различил пологую лестницу. Осторожно спустился по ней в бельэтаж и нашел коридор, о котором ему говорил референт Пти-Пейзана. Из высоких окон коридора была видна набережная, огни города ослепили Арнольфа, он испугался. Внизу в парке проходила смена караула — высокоторжественная церемония с отдаванием чести, щелканьем каблуков, стоянием во фрунт и прусским шагом.
Архилохос отошел от окна в темноту, прокрался на цыпочках в конец коридора к спальне президента и, держа в правой руке бомбу, тихонько приоткрыл дверь. Через высокую балконную дверь на противоположной стене пробивался неверный лунный свет — это была та самая дверь, перед которой он прежде стоял. Архилохос вошел в комнату, стараясь разглядеть очертания кровати, ведь он должен был бросить бомбу в спящего президента. Но в комнате не оказалось ни кровати, ни спящего президента. Вообще Архилохос не обнаружил здесь ничего, кроме корзины с посудой. Совершенная пустота. Все было не так, как ему описывали. Стало быть, и бунтовщики не всегда хорошо информированы. Сбитый с толку Архилохос снова вышел в коридор и начал упрямо разыскивать свою жертву. Все еще держа бомбу наготове, он поднялся сперва на третий этаж, потом на четвертый. Он шагал по роскошным гостиным и залам для приемов, по коридорам и конференц-залам, по маленьким салонам и служебным помещениям, где стояли зачехленные пишущие машинки; прошел по картинным галереям и по оружейной палате, где были выставлены старинные ружья, пушки, висели боевые знамена; наткнувшись на алебарду, он разорвал себе рукав.
Наконец, когда он поднялся на пятый этаж и начал ощупью пробираться вдоль мраморной стены, вдалеке показался свет. Очевидно, кто-то включил лампу. Собравшись с духом, Архилохос продолжил свой путь. Бомба придавала ему уверенности в своих силах. Вот он вошел в коридор. Усталость как рукой сняло. Он внимательно смотрел вперед — коридор упирался в какую-то дверь. Дверь была полуоткрыта. В комнате горел свет. Быстрым шагом по мягкому ковру направился Арнольф к этой двери и, подняв руку с бомбой, распахнул ее настежь… Перед ним стоял президент в шлафроке. Это было так неожиданно, что Арнольф быстро сунул бомбу в карман пальто.
23
— Извините, — пролепетал наш террорист.
— Вот вы где, оказывается, милый, любезный господин Архилохос! — радостно воскликнул президент и потряс руку ошеломленному греку. — Ждал вас весь вечер, а недавно выглянул случайно в окно и увидел, что вы перелезаете через стену. Прекрасная идея. Моя стража слишком дотошна. Эти молодцы ни за что не впустили бы вас. Но теперь вы, слава Богу, здесь, чему я несказанно рад. Каким образом вы попали в дом? Я как раз собирался послать вниз камердинера. Всего неделя, как я переселился на пятый этаж, здесь гораздо уютнее, чем внизу; правда, лифт не всегда работает.
— Боковой вход не был заперт, — забормотал Архилохос. — Он явно пропустил подходящий момент, к тому же объект покушения находился слишком близко от него.
— Все получилось на редкость удачно, — радовался президент, — мой камердинер Людвиг, древний старикашка… Я его зову Людовик… Кстати, у него гораздо более президентская внешность, чем у меня… Экспромтом соорудил легкий ужин.
— Что вы, — сказал Архилохос, покраснев до ушей. — Не буду вам мешать.
В ответ бородатый старый президент любезно уверил Арнольфа, что тот не может ему помешать.
— Люди моего возраста спят немного. Ноги никак не согреешь, ревматизм, заботы — личные и служебные… по линии президентства. Особенно при нынешней ситуации, когда государства то и дело разваливаются. Ночь тянется без конца в моем одиноком дворце, вот я и норовлю перекусить в неурочное время. Счастье еще, что в прошлом году здесь провели центральное отопление.
— В доме и впрямь очень тепло, — поддакнул Архилохос.
— Боже, что с вами? — удивился президент. — Вы ужасно испачкались. Людовик, почисти его как следует.
— Разрешите, — сказал камердинер, щеткой очищая Архилохоса от грязи и птичьего помета.
Архилохос не смел сопротивляться, хотя боялся, что от этой процедуры бомба у него в кармане взорвется; он был рад, когда камердинер помог ему снять пальто.
— Вы похожи на моего дворецкого на бульваре Сен-Пер, — невольно сказал он.
— Мой единокровный брат, — сообщил камердинер. — Моложе меня на двадцать лет.
— Я считаю, нам есть о чем всласть потолковать, — говорил президент, проводя своего убийцу по коридору, который был теперь ярко освещен.
Они вошли в маленькую комнату с окнами на набережную. На столике в эркере, покрытом скатертью белейшего и тончайшего полотна, горели свечи, стоял дорогой фарфор и хрустальные искрящиеся бокалы.
«Я задушу его, — упрямо подумал Архилохос, — это будет самое лучшее».
— Сядемте, дружочек, золотко мое, — сказал гостеприимный старый президент, нежно коснувшись руки Арнольфа. — Отсюда мы можем взглянуть на парк, если нам захочется; увидим лейб-гвардейцев с белыми плюмажами. Вот бы они удивились, если бы узнали, что ко мне кто-то забрался. Насчет лестницы вы прекрасно придумали. Я особенно радуюсь потому, что и мне иногда приходится перелезать через стену таким способом. И тоже среди ночи, как вам только что. Но это я говорю по секрету. И старый президент нет-нет да и прибегает к таким уловкам. И тут уж без лестницы не обойдешься. В жизни всякое случается. Вам, человеку чести, в этом можно признаться, но газетчикам такие вещи знать ни к чему. Людовик, налей нам шампанского.
— Большое спасибо, — сказал Архилохос, подумав про себя: «И все-таки я его убью».
— На ужин сегодня цыпленок, — радовался старикан. — Цыплята у нас с Людовиком не выходят из меню. В три ночи — цыпленок и шампанское. Правильное питание. Думаю, что, поработав верхолазом, вы нагуляли себе хороший аппетит.
— Неплохой, — чистосердечно признался Архилохос и вспомнил, как он карабкался по стене.
Камердинер прислуживал очень церемонно, хотя руки у него сильно дрожали, и это вызывало некоторые опасения.
— Не обращайте внимания на то, что у Людовика трясутся руки, — сказал хозяин. — Я у него уже шестой президент, он им всем прислуживал.
Арнольф протер очки салфеткой. Бомба намного удобнее, размышлял он. Он все еще не знал, как приступить к делу. Нельзя же сказать «извините» и схватить старика за горло. Кроме того, придется убить камердинера, иначе он вызовет стражу, а это сильно усложнит все предприятие.
Арнольф ел и пил: вначале — чтобы выиграть время и примениться к обстоятельствам, потом — просто потому, что ему это понравилось.
Добродушный старый господин был ему определенно симпатичен. Арнольфу казалось, что он беседует с родным дядюшкой, которому можно во всем признаться.
— Цыпленок удивительно нежный, — восхищался президент.
— Вы правы, — согласился Архилохос.
— Шампанское тоже неплохое.
— Никогда не думал, что это так вкусно, — признался Архилохос.
— Но давайте поболтаем, не надо скрытничать: поговорим о вашей чудесной Хлое. Ведь это из-за нее вы так разнервничались, — предположил старикан.
— Сегодня в часовне святой Элоизы я правда сильно понервничал, — сказал Архилохос. — Внезапно мне открылась истина.
— Мне тоже так показалось, — подтвердил президент.
— Когда я вас увидел в церкви при всех орденах, — продолжал Архилохос, — меня вдруг пронзила мысль, что вы явились на свадьбу только потому, что вы с Хлоей…
— Я внушал вам такое уважение? — спросил старик.
— Вы были моим кумиром. Я считал, что вы абсолютный трезвенник, — сказал Архилохос нерешительно.
— Выдумки газет, — проворчал президент, — правительство ведет борьбу с алкоголизмом, и меня по этому случаю всегда фотографируют со стаканом молока.
— Считают также, что вы придерживаетесь очень строгих моральных правил.
— Эти басни распространяют женские организации. Вы непьющий?
— Да, и вегетарианец тоже.
— Но ведь вы пьете шампанское и едите цыпленка?
— Я утратил свои идеалы.
— Как жаль.
— Люди — лицемеры.
— И Хлоя тоже?
— Вы ведь прекрасно знаете, кто такая Хлоя.
— Истина, — начал президент, положив на тарелку обглоданную куриную косточку и отодвинув подсвечник, который заслонял Архилохоса, — истина всегда несколько щекотлива, когда она выходит наружу, и это касается не только женщин, но и всех людей, а особенно государств. Мне иногда тоже хочется выбежать из президентского дворца, который я считаю уже с чисто архитектурной точки зрения безобразным, выбежать, как вы выбежали из часовни святой Элоизы. Но у меня, увы, не хватает смелости, единственное, на что я способен, — это тайком перелезать через стену. Не хочу никого защищать, — продолжал он, — меньше всего себя самого. Вообще это та область, о которой не принято говорить вслух, а если люди говорят о ней, то только ночью и с глазу на глаз. При всяком разговоре на эту тему не обойдешься без банальностей и нравоучений, а они здесь совершенно излишни. Людские добродетели, страсти и пороки так тесно связаны друг с другом, что там, где уместнее всего были бы уважение и любовь, рождаются презрение и ненависть. Поэтому, дружок, золотко мое, хочу вам сказать только одно: вы, пожалуй, единственный человек, кому я завидую, и, пожалуй, также единственный, за кого я боюсь. Мне приходилось делить Хлою со многими, — сказал он, помолчав минуту и откинувшись на спинку своего бидермайеровского кресла. Голос у него был ласковый. — Она была владычицей в царстве темных и примитивных инстинктов. Самая знаменитая в городе куртизанка. Не хочу ничего приукрашивать, да и годы не позволяют. Я благодарен ей за то, что она дарила мне свою любовь, ни об одном человеке я не вспоминаю с такой благодарностью. Но вот она отвернулась от всех и ушла к вам. Для вас это был большой праздник, для нас — торжественное прощание.
Старик президент умолк и мечтательно провел правой рукой по своей холеной бородке; камердинер наполнил бокалы шампанским, из парка доносились отрывистые слова команды и топот сапог лейб-гвардейцев. Архилохос тоже откинулся на спинку кресла, заглянул в окно сквозь раздвинутые портьеры и, увидев ожидающую его у министерства экономики машину Фаркса, с неприязнью вспомнил о бомбе в кармане своего пальто, о бомбе, совершенно бесполезной сейчас.
— Что же касается вас, дружок, золотко мое, — сказал президент после недолгого молчания, закуривая маленькую светлую сигару, которую ему подал камердинер (Архилохос тоже закурил), — то ваши бурные переживания мне совершенно понятны. Какой мужчина не счел бы себя оскорбленным, окажись он на вашем месте. Но ведь как раз эти естественные чувства надо, говорят, подавлять, так как из-за них и происходят самые большие безобразия. Помочь я не могу, да и никто вам не поможет. Будем надеяться, что вы примиритесь с фактами, которые не стоит отрицать, но которые покажутся вам мелкими и несущественными, если вы найдете в себе силы поверить в любовь Хлои. Чудо, которое свершилось с вами и с ней, возможно только благодаря любви: без любви это чистый фарс. Представьте себе, что вы идете глубокой ночью по узкому мостику над пропастью, точно так же, как магометане идут в свой магометанский рай, балансируя на острие меча. Сдается мне, что я где-то читал об этом… Однако возьмите еще кусочек цыпленка, — обратился он к своему несостоявшемуся убийце, — цыпленок восхитительный, а вкусная еда — утешение во всех случаях жизни.
Приятное тепло комнаты, мягкий свет свечей как бы убаюкивали Архилохоса. На стенах в тяжелых позолоченных рамах висели портреты важных, давным-давно усопших государственных деятелей и полководцев. Они задумчиво взирали на Арнольфа — далекие, канувшие в вечность. Архилохос ощутил неизведанный покой, непонятное умиротворение. И все это совершили не слова президента — слова звук пустой, — а его отеческий тон, его доброта и учтивость.
— Судьба осыпала вас милостями, — сказал старик. — А как трактовать причину этих милостей — ваше дело. Причина может быть двоякой: во-первых, любовь, если вы в нее верите, во-вторых, зло, если вы не верите в любовь. Любовь — чудо, единственное чудо, которое время от времени встречается на земле. Зло — вечный спутник человека. Праведник проклинает зло, мечтатель хочет его исправить, любящий его просто-напросто не замечает. Только любовь способна воспринимать милость судьбы такой, какая она есть. Знаю, что это самое трудное. Жизнь ужасна и бессмысленна. И только любящие вопреки всему могут верить в то, что и в ужасе, и в бессмыслице кроется какой-то смысл.
Президент умолк, и Архилохос впервые опять подумал о Хлое без отвращения и злобы.
24
Свечи догорели, президент подал Архилохосу пальто с бесполезной теперь бомбой и пошел провожать его к главному входу — лифт как раз не работал. По словам президента, ему не хотелось беспокоить Людовика; камердинер заснул, стоя позади президентского кресла, в исключительно строгой и корректной позе; престарелый президент утверждал, что это искусство, достойное всяческого уважения. И вот Архилохос и старикан зашагали по безлюдному дворцу, начали спускаться по широкой пологой лестнице; Архилохос успокоился, примирился с жизнью и опять всей душой рвался к Хлое; что касается президента, то он чувствовал себя теперь кем-то вроде экскурсовода: он зажигал свет то в одном, то в другом зале и давал соответствующие пояснения. Здесь он представительствует, говорил он, например, указывая на огромный помпезный зал, а здесь принимает отставку премьер-министров не реже двух раз в месяц; здесь, в этом интимном салоне, где висит почти совсем подлинный Рафаэль, он пил чай с английской королевой и ее августейшим супругом и чуть было не заснул, когда августейший супруг заговорил о флоте; ничто не наводит на него такую тоску, как военно-морские истории, только благодаря находчивости начальника протокольного отдела удалось предотвратить беду: в решающую минуту тот разбудил его и шепотом подсказал правильный флотский ответ. В остальном же эти англичане оказались довольно-таки милыми людьми.
А потом президент и Архилохос попрощались как два друга, которые поговорили по душам и пришли к доброму согласию. У главного входа старик еще раз с добродушной улыбкой помахал Архилохосу. Архилохос оглянулся. Дворец стоял на фоне холодного неба мрачный, как огромный вычурный комод. Луна скрылась. Стража отдала Арнольфу честь. Он вышел из сада и спустился на набережную де л’Эта, но потом сразу свернул в переулок Эттер, между дворцом папского нунция и швейцарской миссией, так как увидел, что навстречу ему от министерства экономики движется машина Фаркса. На улице Штеби перед баром Пфиффера он взял такси; с Фарксом он больше не хотел встречаться. Через парк к маленькому замку Арнольф пробежал бегом — ему не терпелось заключить в объятия Хлою. Вилла в стиле рококо была ярко освещена. Оттуда доносилось нестройное пьяное пение. Двери были распахнуты настежь. Дым сигар и трубочного табака желтым облаком повис в воздухе. Брат Биби и его детки завладели всем домом. Повсюду на диванах и под столами сидели, лежали и лопотали что-то пьяные друзья Биби — бандиты со всего города, закутавшиеся в сорванные портьеры; здесь собрались ворюги, педерасты и сутенеры, на кроватях визжали полураздетые девицы, в кухне, чавкая и рыгая, жрали и пили громилы — они сожрали и вылакали все, что было в чуланах и в винном погребе. В столовой Маттиас и Себастьян играли в хоккей деревянными протезами; в коридоре дядюшка-моряк и мамочка бросали в стенку ножи, а Жан-Кристоф и Жан-Даниэль перебрасывались его стеклянным глазом; Теофил и Готлиб, прижимая к груди шлюх, катались по перилам.
Охваченный мрачным предчувствием, Арнольф бросился на второй этаж, он пробежал мимо ренессансной кровати, где все еще метался в жару владелец картинной галереи Пролазьер, миновал будуар — из ванной доносилось мужское пение, плеск воды и пронзительный голос Магды-Марии, — ворвался в спальню Хлои: в кровати лежал брат Биби с любовницей (раздетой). Хлои нигде не было. Тщетно искал ее Арнольф, тщетно перерыл, пересмотрел, переворошил всю комнату.
— Где Хлоя?
— В чем дело, братец? — с упреком спросил Биби, посасывая сигару. — Не имей привычки входить в спальню без стука.
Больше Биби ничего не успел сказать. С его братом произошло чудесное превращение. Он вбежал на свою виллу с самыми возвышенными чувствами, преисполненный любви и нежности к Хлое, теперь эти чувства обратились в бешенство. Он вдруг понял, как глупо было содержать эту семью долгие годы; подумал, с какой наглостью она захватила его виллу; к тому же его мучил страх, что он по собственной вине потерял Хлою, — все это превратило Архилохоса в грозного мстителя. Он стал Аресом, древнегреческим богом войны, как это предсказал Пассап. Схватив проволочную скульптуру, он накинулся на брата Биби, расположившегося вместе с любовницей на его супружеском ложе. Биби, мирно посасывавший сигару, вскочил с диким криком, но, нокаутированный, заковылял к двери и тут же опять был сражен ударом в подбородок, а потом Арнольф схватил за волосы его любовницу, потащил ее в коридор и швырнул прямо на дядюшку-моряка, который как раз подоспел, привлеченный и предупрежденный криком Биби, — и дядюшка, и любовница с грохотом покатились по лестнице. Из всех дверей повыскакивали теперь домушники, сутенеры и прочая шваль; своих племянников — Теофила и Готлиба — Арнольф сбросил с винтовой лестницы; та же участь постигла Пролазьера, который полетел вниз вместе с кроватью под балдахином; Себастьяна и Маттиаса Арнольф избил, голую Магду-Марию и ее очередного поклонника (китайца) выкинул в окошко с разбитым стеклом; так же он расправился и с остальной шпаной. В воздухе со свистом пролетали протезы и ножки стульев, текла кровь; шлюхи разбегались кто куда, мамочка грохнулась в обморок, педерасты и фальшивомонетчики удирали, вобрав голову в плечи и визжа как крысы. Архилохос молотил кулаками, душил, царапал, раздавал зуботычины, валил с ног, разбивал черепа, походя изнасиловал какую-то девку, и все это под градом ударов — его дубасили протезами, кастетами, резиновыми дубинками; он падал и снова подымался, стряхивая с себя врагов; изо рта у него шла пена, весь он был в битом стекле; круглый стол он использовал как щит; вазы, стулья, картины, Жана-Кристофа и Жана-Даниэля — как метательные снаряды. С яростью он гнал бандитов из своего дома, неуклонно пробиваясь вперед, круша и уничтожая все на своем пути, осыпая подонков отборной руганью. И вот он остался один на вилле, где клочья штофных обоев развевались, будто флаги, где гулял ледяной ветер, рассеивая клубы табачного дыма; а потом он бросил в сад вослед этой хищной своре бомбу Фаркса, и взрыв осветил небо, на котором уже занялась утренняя заря.
Долго стоял Арнольф у входа в свой маленький разгромленный замок и глядел, как рассвет серебрил вязы и ели в парке. Порывы теплого ветра налетали на деревья, тормошили их, трясли. Началась оттепель. Лед на крышах растаял, вода потекла по водосточным трубам. Повсюду слышался стук капели. Сплошные облака проползали над крышами и садами — тяжелые, разбухшие от влаги. Заморосил дождь. Мимо Архилохоса, хромая, проследовал избитый, полуодетый Пролазьер, стуча зубами от озноба, и исчез в утренней мороси.
— Вы, как христианин… — крикнул он Архилохосу и скрылся за пеленой дождя.
Архилохос не обратил на Пролазьера внимания. Он пристально глядел вперед заплывшими глазами. Он весь был в кровоподтеках, его свадебный фрак давно уже превратился в лохмотья, подкладка вылезла наружу, очки он потерял.
Конец I
(За ним следует конец для публичных библиотек.)
25
Архилохос начал разыскивать Хлою.
— Боже мой, мсье Арнольф! — воскликнула Жоржетта, когда он вдруг появился перед стойкой и потребовал рюмку перно. — Боже мой, что с вами случилось?
— Не могу найти Хлою.
В закусочной было полно народу. Подавал Огюст. Архилохос выпил рюмку перно и заказал еще одну.
— А вы повсюду ее искали? — спросила мадам Билер.
— Повсюду: и у Пассапа, и у епископа.
— Не пропадет ваша Хлоя, — утешала его Жоржетта. — Женщины вообще никогда не пропадают, и часто они оказываются там, где их меньше всего ожидаешь.
Она налила ему третью рюмку перно.
— Наконец-то, — со вздохом облегчения сказал Огюст болельщикам. — Наконец-то он начал закладывать за воротник.
Архилохос не прекращал поисков. Он врывался в монастыри, частные пансионы, меблированные комнаты. Хлоя исчезла. Он бродил по опустевшей вилле, по голому парку, стоял под мокрыми деревьями. Только ветки шелестели, только тучи проносились над крышами. И внезапно его обуяла тоска по родине, жажда увидеть Грецию, ее красноватые скалы и темные рощи, увидеть Пелопоннес.
Не прошло и двух часов, как он оказался на борту парохода, а когда «Джульетта», оглашая воздух ревом сирены, поплыла в тумане, окутанная клубами дыма, который тянулся за ее трубой, в гавань примчалась машина с головорезами Фаркса, и несколько пуль просвистело в воздухе. Эти пули, предназначавшиеся террористу-ренегату Архилохосу, продырявили зелено-золотой государственный флаг, уныло полоскавшийся на ветру.
На «Джульетте» плыли мистер и миссис Уимэн; когда Арнольф как-то предстал перед ними, их лица выразили тревогу.
Средиземное море. Палуба, залитая солнцем. Шезлонги. Архилохос сказал:
— Я уже несколько раз имел честь беседовать с вами.
— Well, — пробурчал сквозь зубы мистер Уимэн.
Арнольф извинился и сказал, что произошло недоразумение.
— Yes, — заметил мистер Уимэн.
А потом Архилохос попросил разрешения участвовать в раскопках на его старой родине.
— Well, — ответил мистер Уимэн и захлопнул специальный журнал по археологии, а потом, набивая свою короткую трубку, еще раз добавил: — Yes.
Итак, он в Греции, разыскивает древности в окрестностях Пелопоннеса, в краю, ни в малейшей степени не соответствующем представлениям о родине, которые он себе создал. Он копает землю под лучами безжалостного солнца. Вокруг камни, змеи, скорпионы, а у самого горизонта несколько искривленных оливковых деревцов. Невысокие голые горы, высохшие источники, ни единого кустика. Над головой Арнольфа упрямо кружит коршун, его не отгонишь никакими силами.
Много недель подряд, обливаясь потом, Арнольф ковырял какой-то холмик, и в конце концов, когда он почти срыл его, показались полуобвалившиеся стены, засыпанные песком; песок раскалялся на солнце, залезал под ногти, от песка гноились глаза. Мистер Уимэн выразил надежду, что они откопали храм Зевса, миссис уверяла, что это капище Афродиты. Супруги спорили так громко, что их голоса были слышны за несколько миль. Рабочие-греки давно разбежались. В ушах Арнольфа стоял комариный писк, мошкара облепила его лицо, заползала ему в глаза. Наступили сумерки, где-то далеко раздался крик мула, протяжный и жалобный. Ночь была холодная. Архилохос лег в своей палатке около самого места раскопок, миссис и мистер Уимэн устроились на ночлег в десяти километрах, в главном городе этого захолустья — убогой дыре. Вокруг палатки летали ночные птицы и летучие мыши. Совсем недалеко завыл какой-то хищник, может быть, волк. А потом все опять стихло. Архилохос заснул. Под утро ему показалось, что он услышал чьи-то легкие шаги. Но он не стал открывать глаза. А когда красное раскаленное солнце, поднявшееся из-за никому не нужных голых отрогов, осветило его палатку, он встал. Еле волоча ноги, побрел к безлюдному месту раскопок, к развалинам. Было по-прежнему холодно. Высоко в небе опять кружил коршун. В развалинах тьма еще не рассеялась. У Архилохоса ныли все кости, но он принялся за работу, воткнул в землю лопату. Перед ним тянулся длинный песчаный бугорок, неясно вырисовывавшийся в полумраке. Арнольф осторожно орудовал археологической лопаткой и очень скоро наткнулся на какой-то предмет. В нем проснулось любопытство: кто это — богиня любви или Зевс? Интересно, кто из археологов прав — мистер Уимэн или миссис Уимэн? Обеими руками Архилохос начал сбрасывать песок и… откопал Хлою.
Почти не дыша смотрел он на свою возлюбленную.
— Хлоя, — крикнул он. — Хлоя, как ты сюда попала?
Она открыла глаза, но продолжала лежать на песке.
— Очень просто, — сказала она, — я поехала за тобой. Ведь у нас было два билета.
А потом Хлоя и Арнольф сидели на только что откопанных развалинах и разглядывали греческий ландшафт: невысокие голые горы, над которыми стояло пронзительное солнце, искривленные деревца на горизонте и какую-то белую полоску вдали — ближайший городок, окружной центр.
— Это — наша родина, — сказала она, — твоя и моя.
— Где же ты была? — спросил он. — Я искал тебя повсюду.
— Я была у Жоржетты. В ее комнатах над закусочной.
Вдалеке появились две точки, они быстро росли, это были мистер и миссис Уимэн.
А потом Хлоя произнесла речь о любви, почти совсем как некогда Диотима перед Сократом (речь эта оказалась не столь глубокомысленной, ибо Хлоя Салоники, дочь богатого греческого купца — теперь мы знаем и ее социальное происхождение, — была женщиной попроще и попрактичней).
— Вот видишь, — говорила она, а в это время ветер играл ее волосами, солнце подымалось все выше и англичане, восседавшие на своих мулах, подъезжали все ближе, — теперь ты знаешь, кем я была. Стало быть, между нами полная ясность. Мне надоело мое ремесло, это тяжелый хлеб, как и каждый честно заработанный хлеб. Печаль не оставляла меня. Я мечтала о любви, мне хотелось заботиться о ком-то, делить с другим не только радости, но и горе. И вот однажды, когда мою виллу окутал густой туман, беспросветно пасмурным зимним утром, я прочла в «Ле суар» объявление: грек ищет гречанку. И я тут же решила, что полюблю этого грека, только его, и никого больше. Я пришла к тебе в то воскресное утро ровно в десять с розой. Я не собиралась ничего скрывать и надела самое лучшее, что у меня было. Я хотела принять тебя таким, какой ты есть, но и ты должен был принять меня такой, какая я есть. Ты сидел за столиком робкий, беспомощный, от чашки с молоком шел пар, и ты протирал очки. Тут все и случилось: я тебя полюбила. Но ты думал, что я честная девушка, ты совершенно не знал жизни, и ты никак не мог догадаться, чем я занимаюсь, хотя Жоржетта и ее муж поняли все с первого взгляда. Но я не посмела разрушить твои иллюзии. Я боялась тебя потерять и этим только все испортила. Твоя любовь превратилась в фарс, а когда в часовне святой Элоизы ты узнал правду, рухнул весь твой миропорядок, и под его обломками погибла любовь. Хорошо, что так получилось. Ты не мог любить меня, не зная правды. И только любовь сильнее этой правды, которая грозила нас уничтожить. Твою слепую любовь надо было разрушить во имя любви зрячей, любви истинной.
26
Однако, прежде чем Хлоя и Архилохос смогли вернуться к себе домой, прошло довольно много времени. В стране началась великая смута. К кормилу правления пришел Фаркс с орденом «Кремля» под двойным подбородком. Ночное небо окрасилось в красный цвет. На улицах пестрели флаги, толпы людей скандировали: «Ami go home!»[27] Повсюду висели плакаты, гигантские портреты Ленина и еще не свергнутого русского премьера. Но Кремль был далеко, а доллары нужны позарез, да и Фаркса привлекала лишь идея личной власти. Он перекинулся в западный лагерь, вздернул на виселицу шефа тайной полиции (бывшего референта Пти-Пейзана) и начал достойно представительствовать в президентском дворце на набережной де л’Эта под неусыпным присмотром тех же лейб-гвардейцев в золотых шлемах с белыми плюмажами, которые охраняли его предшественников. Теперь он тщательно приглаживал свои рыжие волосы и подстригал усы. Режим смягчился, мировоззрение Фаркса стало умеренным, и в один прекрасный день на Пасху Фаркс посетил собор святого Луки. В стране опять установился буржуазный порядок. Но Хлоя и Архилохос никак не могли приспособиться к новой жизни. Довольно долго это им не удавалось. Наконец они открыли у себя на вилле домашний пансион. У них поселился Пассап, который был в опале (в области искусства Фаркс твердо стоял на позициях социалистического реализма); мэтр Дютур, карьера которого также оборвалась; смещенный с поста Эркюль Вагнер и его могучая супруга; низложенный президент, по-прежнему учтивый, взирающий на мир с философским спокойствием; и еще Пти-Пейзан (объединение с концерном резины и смазочных масел оказалось для него роковым); все они зажили личной жизнью. Словом, на вилле оказалось сборище банкротов. Не хватало только епископа — он вовремя переметнулся к новопресвитерианам предпоследних христиан. Постояльцы пили молоко, а по воскресеньям — перье, жили тихо, летом гуляли в парке — смирные, поглощенные житейскими заботами. Архилохосу было не по себе. Как-то раз он отправился в предместье, где брат Биби, мамочка, дядюшка-моряк и детки занялись садоводством; выволочка на вилле Хлои совершила чудо (Маттиас сдал экзамен на учителя, Магда-Мария — на воспитательницу в детском саду, младшие дети пошли работать на фабрику, а часть из них примкнула к Армии спасения). Но и у Биби Архилохос не смог долго пробыть. Мещанская обстановка, моряк, посасывающий трубочку, и мамочка с вязаньем на коленях навевали на него тоску, равно как и сам брат Биби, который теперь ходил вместо Архилохоса в часовню святой Элоизы. Четыре раза в неделю.
— Вы какой-то бледный, мсье Арнольф, — сказала Жоржетта, когда однажды он, как и встарь, появился у стойки в ее закусочной. (Над стойкой, уставленной бутылками с водкой и ликерами, висел теперь портрет Фаркса в рамке из эдельвейсов.) — У вас неприятности?
Она налила ему рюмку перно.
— Все теперь перешли на молоко, — пробормотал он, — и болельщики, и даже ваш муж.
— Что поделаешь, — сказал Огюст, потирая голые ноги, окутанные рыжеватым облачком; по-прежнему на нем была желтая майка. — Правительство проводит очередную кампанию по борьбе с алкоголизмом. И потом, я как-никак спортсмен.
Тут Архилохос увидел, что Жоржетта открывает бутылку перье. «И она тоже», — подумал он с горечью.
Но вот однажды, когда они с Хлоей лежали в кровати под балдахином с пурпурными занавесками, а в камине потрескивали поленья, Арнольф сказал:
— Нам живется совсем неплохо в нашем маленьком замке, и наши старенькие постояльцы всем довольны. Грех жаловаться, и все же от этой добродетели, которая нас окружает, просто нет сил. Иногда мне кажется, что я обратил весь мир в свою веру, а он обратил меня в свою. И в итоге получилось так на так, и, стало быть, все оказалось напрасно.
Хлоя приподнялась.
— Знаешь, я все время вспоминаю те развалины у нас на родине, — сказала она, — когда я закопалась в песок, чтобы сделать тебе сюрприз, и тихо лежала в полутьме, и смотрела на коршуна, который кружил над местом раскопок, тогда я вдруг почувствовала, что подо мною лежит какой-то твердый предмет, что-то каменное, наподобие двух больших выпуклостей.
— Богиня любви! — закричал Архилохос и вскочил с кровати. И Хлоя тоже встала.
— Надо всегда искать богиню любви. Нельзя прекращать поиски, — прошептала она, — иначе богиня нас оставит.
Они тихонько оделись и уложили чемодан. На следующий день часов в одиннадцать Софи долго и тщетно стучала в дверь спальни, а когда она вошла в комнату вместе с обеспокоенными постояльцами, то увидела, что комната пуста.
Конец II
Комментарии
В первый том вошли рассказы Дюрренматта, по своим жанровым приметам относящиеся по преимуществу к разновидности философской и парадоксально-обличительной «малой прозы», которую он интенсивно культивировал в начале и в конце своего творческого пути, а также повесть «Грек ищет гречанку», названная самим писателем «комедией в прозе». Понятие «рассказы» охватывает как очень короткие зарисовки раннего этапа, так и более развернутые повествовательные опусы 70–80-х гг., приближающиеся по своим жанровым характеристикам к новелле. Сам Дюрренматт называл новеллой только один рассказ — «Смити». Уже в первых прозаических опытах писателя возникают образы и мотивы, сопровождавшие его всю жизнь и получавшие разработку в других жанрах — романах, повестях, комедиях и радиопьесах.
Рождество
Самый первый текст, созданный молодым Дюрренматтом. Написан зимой 1942 г., впервые опубликован в сборнике «Город» (1952). Зарисовку можно рассматривать как злую пародию на благостные рождественские рассказы с неизменным счастливым концом, широко распространенные в западноевропейских литературах. Голодный прохожий находит лежащего на снегу младенца Иисуса с головой из марципана и откусывает эту голову. В этом трудно поддающемся истолкованию этюде «нет ничего, кроме пустоты, ужаса, неверия и нецеленаправленной ненависти» (Н. Павлова).
Палач
Написано зимой 1943 г., впервые опубликовано в сборнике рассказов «Город» (1952). Богоборческие мотивы, заявившие о себе в первом тексте, получают дальнейшее развитие. Сомнение пасторского сына в искупительной миссии Спасителя сменяется здесь яростным бунтом против ветхозаветного бога, жестокого и мстительного, своим обликом и делами напоминающего скорее дьявола. В этой зарисовке знакомый «фаустовский» мотив получает неожиданный парадоксальный поворот: человек заключает сделку с дьяволом, который на самом деле оказывается богом. Набросанная в сюрреалистических тонах картина напоминает кошмарный сон. Безысходность удела человеческого, обреченность человека на муки, пытки и смерть вызывает у молодого автора такой всплеск отчаяния, который может быть объяснен не только его индивидуальным мироощущением, но и плачевным состоянием Европы в разгар второй мировой войны.
Колбаса
Написано зимой 1943 г., впервые опубликовано в 1978 г.
Сын
Написано зимой 1943 г., впервые опубликовано в 1978 г. В этом рассказе о недобром отце, возжелавшем превратить сына в свое второе «я», бессловесное и покорное, критика усматривает автобиографические мотивы — бунт начинающего писателя против сковывавшего его творческие возможности отцовского авторитета. Позже этот мотив получил углубленную разработку в рассказе «Бунтовщик».
Старик
Написано в 1945 г., тогда же опубликовано в бернской газете «Бунд». Первая публикация Дюрренматта. Здесь тоже звучит свойственный молодому Дюрренматту богоборческий мотив: недаром молодая женщина, убивающая поработившего ее землю Старика, «почувствовала ту ненависть, которую люди питают подчас к Богу». Но многие конкретные детали — полчища танков, чужеземные солдаты, поработившие маленькую страну, подавленное сопротивление местных жителей, таинственный диктатор, повелевающий судьбами людей, — позволяют заключить, что Дюрренматт набросал гипотетическую картину оккупации Швейцарии армией фашистской Германии, чего на деле не произошло, но что, как известно, планировалось германским командованием. Однако исторические параллели достаточно условны, главное же — мысль о неистребимости зла, воплощенного не в Старике (его можно убить), а в образе черной собаки.
Образ Сизифа
Написано в 1945 г., впервые опубликовано в сборнике «Город» (1952). Демонический копиист-фальсификатор, разбогатевший благодаря ловкой подделке картины Босха, в конце концов терпит полный крах и гибнет в огне: из ничего что-нибудь путное возникнуть не может. При чтении рассказа напрашиваются параллели с «Портретом» Н. В. Гоголя, «Портретом Дориана Грея» Оскара Уайльда и некоторыми вещами Эдгара Аллана По. По своей стилистике рассказ резко отличается от первых произведений Дюрренматта с их короткими, экстатичными, как у экспрессионистов, фразами, действующими подобно удару кнута. У писателя появляется эпическое дыхание.
Директор театра
Написано в 1945 г., впервые опубликовано в сборнике «Город» (1952). Введя в сюжет мотив театрального действа, Дюрренматт попытался выразить свои представления о смысле и предназначении сценического искусства. Театр видится ему средством достижения безграничной власти над людьми, инструментом не только добра, но и зла. Опасения относительно злоупотребления властью искусства не случайно возникают у Дюрренматта именно в 1945 г.: после окончания второй мировой войны мир узнал подробности о злодеяниях нацистов, умело облекавших свои человеконенавистнические замыслы в яркие театральные одеяния и пробуждавших в массах кровожадные инстинкты. Здесь же впервые формулируется мысль о превращении трагедии в комедию, получившая позднее развитие в эссе «Проблемы театра» (1954).
Западня
Написано в 1946 г., впервые опубликовано в 1950 г. под названием «Нигилист», вошло в сборник «Город». Техника экспрессионистического видения апокалипсиса сочетается здесь с приемами сюрреалистически осязаемой подачи деталей. Человеческая история представляется молодому Дюрренматту бесконечным, непрекращающимся нисхождением в ад. В рассказе затрагивается проблема изначальной вины человека, более подробно разработанная примерно в то же время в радиопьесе «Двойник» (убийца сидит в каждом человеке); правда, мотив двойничества здесь не получает развития.
Пилат
Написано в 1946 г., впервые опубликовано в 1949 г., вошло в сборник «Город».
Город
Написано в 1947 г., впервые опубликовано в одноименном сборнике (1952). Видимо, этот фрагмент незаконченного романа потому и дал название всему сборнику, что в нем заключены практически все сквозные дюрренматтовские темы и образы — жертвы и палача, узника и надсмотрщика, города как лабиринта и тюрьмы и т. д. Манера изображения толпы, управляемой чьей-то злой волей, своей стилистикой напоминает экспрессионизм, а ощущение неуверенности рассказчика, его неспособность стать хозяином своей судьбы, найти свое место в городе сближают его с героями Ф. Кафки («Приговор», «Процесс», «Замок» и др.). Известно, что Дюрренматт в студенческие годы был усердным читателем Кафки, немецких экспрессионистов и французских экзистенциалистов. Несомненно, знал он и античную литературу и мифологию: три уродливые старухи, играющие в карты и обжирающиеся тортами, — это, скорее всего, мифологические парки, богини человеческой судьбы.
Сведения о состоянии печати в каменном веке
Написано и впервые опубликовано в 1949 г., позднее вошло в «Хрестоматию» произведений Дюрренматта (1978).
Собака
Написано в 1951 г., впервые опубликовано в сборнике рассказов «Город» (1952). В основе центрального образа лежит впечатление детства: в 1935 г. четырнадцатилетнего Фридриха жестоко покусала напуганная чем-то овчарка, которую он же и выгуливал. С тех пор у него на всю жизнь сохранилось недоверие к большим псам и страх перед ними. Собака в рассказе — воплощение зла, темной силы, всегда сопутствующей добру (сначала проповедник, затем девушка). Убив старика, собака рано или поздно уничтожит и девушку, ибо таков, по Дюрренматту, закон жизни: зло всегда торжествует над добром.
Туннель
Написано и опубликовано в сборнике «Город» в 1952 г. В 1978 г. в своей «Хрестоматии» Дюрренматт опубликовал переработанный вариант рассказа. В нашем издании рассказ приводится по первоначальному тексту. «Туннель», пожалуй, единственный рассказа Дюрренматта, в котором дан слегка шаржированный портрет автора в молодости.
Из записок охранника
Написано в 1952 г., впервые опубликовано в 1980 г. В рассказе (фрагменте романа) «Город», в рассказе «Из записок охранника» и в повести «Зимняя война в Тибете», представляющих собой части и варианты одного не доведенного до завершения произведения, встречаются текстуальные совпадения, что соответствует замыслу автора.
Остановка в небольшом городе
Написано в 1953 г., впервые опубликовано в 1980 г. Фрагмент ненаписанного романа. Глава «У парикмахера» печаталась в газете «Нойе цюрхер цайтунг» (21 апреля 1957 г.).
Мистер Ч. в отпуске
Написано в 1957 г., впервые опубликовано в 1978 г. Данный фрагмент — образец парадоксальной логики Дюрренматта. Мистер Ч. (т. е. чёрт) во время отпуска решает отдохнуть от своих обязанностей и заняться на земле исключительно добрыми делами. Но повсеместно насаждаемое добро, лишенное своего антипода, грозит миру крахом: отсутствие коррупции, проституции, мафиозных структур оборачивается развалом экономики. В результате, чтобы спасти ситуацию, мистеру Б. (Богу) приходится срочно отзывать мистера Ч. из отпуска.
Абу Ханифа и Анан бен Давид
Написано в 1975 г., во время поездки Дюрренматта в Израиль, неоднократно подвергалось переработке, впервые опубликовано в книге «Соответствия. Эссе об Израиле», в окончательном варианте вошло в «Хрестоматию» из произведений Дюрренматта (1978). В «Соответствиях» писатель попытался примирить межрелигиозные противоречия, показать взаимозависимость иудейской, христианской и мусульманской культур.
Смити
По свидетельству Дюрренматта, эту новеллу он написал в мае 1959 г., будучи в Нью-Йорке. Позднее в переработанном виде сюжет был использован в комедии «Сообщники». Впервые опубликовано в книге «Сообщники. В комплексе» (1976).
Смерть пифии
Впервые опубликовано в книге «Сообщники. В комплексе» в 1976 г. В рассказе Дюрренматт развивает на мифологическом материале уже намеченную в финале «Смити» мысль о вмешательстве случая в ход человеческой жизни, о влиянии на судьбу необъяснимых, иррациональных сил. Эдипа погубила не мстительность богов, а дурное настроение старой, усталой прорицательницы, которая и сама не верила собственным пророчествам.
Минотавр
Баллада «Минотавр», одно из самых совершенных произведений позднего Дюрренматта, впервые опубликована в 1985 г. отдельной книгой с иллюстрациями автора. В центре повествования и здесь оказываются темы и образы, волновавшие Дюрренматта на протяжении всей творческой жизни: лабиринт и неразумный, наивно-доверчивый человекозверь в нем, палач и жертва, суть и ее зеркальные отражения.
Грек ищет гречанку
(Grieche sucht Griechin)
Написано в 1955 г., впервые опубликовано в 1957 г.
В. Седельник
Содержание
В. Седельник. Парадоксы и предостережения Фридриха Дюрренматта
Рассказы
Рождество. Перевод С. Апта
Палач. Перевод С. Апта
Колбаса. Перевод С. Апта
Сын. Перевод С. Апта
Старик. Перевод С. Апта
Образ Сизифа. Перевод С. Апта
Директор театра. Перевод С. Апта
Западня. Перевод С. Апта
*Пилат. Перевод С. Белокриницкой
*Сведения о состоянии печати в каменном веке. Перевод Е. Фридлянд
*Собака. Перевод В. Сеферьянца
*Туннель. Перевод Е. Вильмонт
*Из записок охранника. Перевод В. Седельника
*Остановка в небольшом городке… Фрагмент. Перевод С. Фридлянд
*Мистер Ч. в отпуске. Фрагмент. Перевод Н. Федоровой
*Абу Ханифа и Анан бен Давид. Перевод С. Апта
*Смити. Перевод Г. Косарик
*Смерть пифии. Перевод Г. Косарик
*Минотавр. Перевод С. Белокриницкой
*Грек ищет гречанку. Комедия в прозе. Перевод Л. Черной
В. Седельник. Комментарии
Примечания
1
Босх Иероним (1460–1516) — голландский живописец, в творчестве которого причудливо сочетались точные наблюдения над средневековой действительностью с игрой раскованной фантазии. Наряду с другим нидерландским живописцем, Питером Брейгелем (между 1525 и 1530–1569), оказал сильное влияние не только на Дюрренматта-писателя, но и на Дюрренматта-рисовальщика.
(обратно)2
Симплон — перевал в Альпах, на юге Швейцарии, прорезаемый туннелем длиной 19,7 км.
(обратно)3
Корей — библейский персонаж, собравший вокруг себя две с половиной сотни сообщников и восставший против Моисея и его законов. В наказание за ослушание Бог уготовил им страшную смерть: «расселась земля под ними; и разверзла земля уста свои, и поглотила их и дома их, и всех людей Кореевых и все имущество; и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю» (Числа, 16, 31–33). В переработанном варианте упоминание о Корее вычеркнуто.
(обратно)4
Господь покинул нас, мы падаем и, значит, несемся ему навстречу. — В переработанном варианте эта фраза отсутствует.
(обратно)5
Площадь (франц.).
(обратно)6
Ходлер Фердинанд (1853—1918) — швейцарский художник, испытал влияние югендстиля и французского символизма, один из предшественников экспрессионизма в живописи.
(обратно)7
Бёклин Арнольд (1827–1901) — швейцарский художник, отличавшийся богатой фантазией и тягой к героическому пафосу. Его перегруженные аллегоричностью картины нередко «населены» мифологическими существами — кентаврами, нимфами, наядами и т. д.
(обратно)8
Калам Александр (1810–1864) — швейцарский художник, мастер романтической пейзажной живописи.
(обратно)9
Анкер Альберт (1831–1910) — швейцарский живописец, портретист и иллюстратор литературных произведений.
(обратно)10
Песталоцци Иоганн Генрих (1746–1826) — швейцарский педагог и писатель, основоположник теории трудового воспитания и развивающего обучения, основатель и руководитель воспитательных учреждений для детей бедняков, в том числе и в Ивердоне.
(обратно)11
...федеральных советников Эттера, Фельдмана и Птипьера. — Дюрренматт называет имена реальных исторических лиц. Двое из них — Филипп Эттер (1891–1977) и Макс Птипьер (р. 1899) по несколько раз занимали пост президента Швейцарской конфедерации, первый в 1939, 1942, 1947 и 1953 гг., второй соответственно в 1950, 1955 и 1960 гг.
(обратно)12
Винкельрид Арнольд фон — швейцарский народный герой, отличавшийся необыкновенной храбростью и павший в битве при Земпахе (1386).
(обратно)13
Келлер Готфрид (1819–1890) — швейцарский писатель-реалист, автор романа «Зеленый Генрих» (1855) и нескольких сборников новелл.
(обратно)14
«Огни рампы» (англ.).
(обратно)15
Сунна — поступки и высказывания пророка Мухаммеда, являющиеся руководством для каждого мусульманина в решении всех жизненных проблем, второй после Корана источник сведений о том, какое поведение угодно Аллаху.
(обратно)16
Хадис — рассказ о поступках и высказываниях Мухаммеда и его сподвижников.
(обратно)17
Аббасиды — династия арабских халифов в 750–1258 гг., потомков Аббаса, дяди пророка Мухаммеда.
(обратно)18
Аль-Мансур (Альмансор, ум. 1002) — правитель Кордобского халифата. Рассказывая о вековой вражде евреев и арабов, Дюрренматт не придерживается точной исторической периодизации.
(обратно)19
Абу Ханифа (ок. 699–767) — арабский богослов, известный своими выступлениями по вопросам мусульманского права, именем которого Дюрренматт называет героя своего рассказа.
(обратно)20
Коммунисты-маздакиты — приверженцы движения крестьян и городской бедноты в средневековом Иране, выступавшие за уничтожение социального неравенства.
(обратно)21
Посвящается Шарлотте. — Имеется в виду Шарлотта Керр, кинорежиссер, вторая жена Дюрренматта.
(обратно)22
Цвингли Ульрих (1484–1531) — деятель Реформации в Швейцарии, который, так же как и Лютер, вел борьбу с католицизмом. Последователи Цвингли примкнули к кальвинистской церкви.
(обратно)23
Ратуша (франц.).
(обратно)24
О Боже (франц.).
(обратно)25
Что вы (франц.).
(обратно)26
Большое спасибо! (англ.)
(обратно)27
Американцы, убирайтесь домой! (англ.)
(обратно)
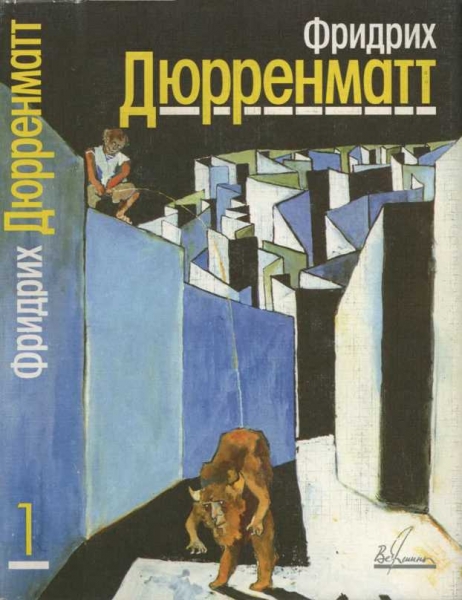

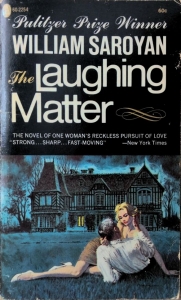


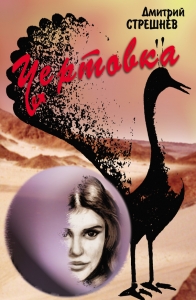



Комментарии к книге «Том 1. Рассказы и повесть», Фридрих Дюрренматт
Всего 0 комментариев