Леонид Леванович Беседь течёт в океан
О, вы, што будзеце ісці з дзяўчынай
Пад тымі ж клёнамі праз сотню год,
Ці зразумееце, што мы кахалі,
Што зніклі так, як знікніце і вы,
Што векавечны толькі край і далеч
І жоўты ліст на зелені травы…
Владимир КОРОТКЕВИЧЧтобы нашему роду —
Не было переводу.
А наши реки чтобы текли повеки.
Из народногоРОМАН
I
Хроника БЕЛТА и ТАСС. 1980 г.
9 сентября. Минск. Труженики колхоза имени Гастелло Минского района, претворяя в жизнь решения июньского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС и развернув социалистическое соревнование за достойную встречу ХХVI съезда КПСС, завершили уборку колосовых культур, намолотив с каждого гектара по 37,2 центнера.
13 сентября. Варшава. События последних недель, драматические для всего польского народа, со всей силой поставили на первый план проблемы идеологической борьбы, пишет газета «Жыццё Варшавы».
18 сентября. Свердловск. В Свердловской области находился кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров РСФСР М. С. Соломенцев. В поездке по районам его сопровождал первый секретарь Свердловского обкома Б. Н. Ельцин.
25 сентября. Минск. Вчера состоялось торжественное заседание, посвященное 60-летию комсомола Беларуси. С речью выступил товарищ П. М. Машеров.
В то утро Михаил Долгалев проснулся рано. Поднялся, сел на кровати, рядом тихо посапывала жена. Включил ночничок, стоявший на тумбочке возле кровати, взглянул на часы — стрелки показывали без четверти шесть. Вспомнил, что на работу ему ехать не надо, почувствовал, как ноет израненная нога, но к этой боли он давно притерпелся. А вот почему шея болит? Видимо, где-то прохватило сквозняком. Взял кульбу-кий, которая всегда ночью стояла на своем месте — между кроватью и тумбочкой, тихо, чтобы никого не разбудить, направился на кухню, напился воды, ее с вечера набирала на чай жена Люся.
Вернулся в спальню. Жена спала на животе, подогнув одну ногу. Другая, прямая, высунулась из-под одеяла и была видна аж выше колена, где она становилась толще, круглее. «Бабуля, а спит, как дитя», — улыбнулся сам себе. Долгалев снова посмотрел на жену, и вдруг ему сильно захотелось ее приласкать. На это в последнее время он отваживался нечасто, потому что случались осечки: ничего не поделаешь, не молод уже, да и жизнь не щадила. Выключил свет, лег, обнял жену, она проснулась.
— Который час уже?
— Еще рано. Шести нет.
Люся сладко потянулась, мягкой теплой рукой обняла мужа…
Потом они молча лежали, разгоряченные, Долгалев шумно дышал.
— Ну, вот видишь? Кинул пить водку — мужчиной стал, — счастливо улыбалась Люся и вдруг профессиональным тоном медика спросила: — Как ты себя чувствуешь?
— Нормально. Правда, что-то шея болит. Где-то продуло.
— А в каком месте болит?
— На стыке с позвоночником. Между лопатками. Будто клин сидит. Может, пошаруй троху.
Люся подняла выше широкую ночную рубаху в мелкие цветочки, села на спину мужу, теплыми коленками прижалась к его бокам, ласково и в то же время довольно сильно начала массировать шею, плечи.
— Ну как? Может, тяжело тебе?
— Нет, милая моя. Разве может быть тяжелым тело любимой жены?
— Хорошо. Терпи, казак. Я могу долго…
Фраза «могу долго» прозвучала как озорной упрек мужу.
— Ну что? Полегчало? Боль отпустила?
— Полегчало, но не совсем.
— Вечером спиртом натру.
— Я не о том. Разогрела ты меня. Если б помоложе был, еще бы попросил…
— Ничего. В другой раз. Не стоит петушиться, — Люся легла рядом.
— Хочу сегодня баньку истопить. Поможешь воды наносить? Остальное я сделаю сам. Может, Вася приедет. Попаримся.
— Помогу. Я до трех на работе. И сразу домой.
Долгалеву понравилось, что Люся охотно согласилась помочь принести воды, не упрекала, что он не может провести воду в баню, и массаж делала от души, и целовала горячо и нежно. Перед глазами предстала ее поза во сне, нога из-под одеяла… Выплыло из памяти далекое воспоминание, когда весной сорок третьего в военном госпитале города Сарапула он, израненный капитан-артиллерист, предложил руку и сердце молоденькой медсестре Люсе. Она сразу согласилась, хотя и понимала, что нога молодого капитана никогда не будет сгибаться и покружиться в вальсе с мужем ей не придется. И вот пролетело с той поры тридцать семь лет. Вырастили детей, дождались внуков. Все хорошо, но как быстро летит время!
Люся зашевелилась рядом, поднялась, зевнула.
— Пойду на кухню. Надо что-то готовить на завтрак. Может, блинов испечь?
— Ну, ежели заработал, буду есть со смаком. Твои блины люблю.
— Заработал, работничек мой милый, — Люся чмокнула мужа в небритую щеку. — Полежи еще. Торопиться некуда.
Долгалев повернулся к стене, радостный, счастливый, и нога перестала ныть, и шея успокоилась. Спать не хотелось, лежал, думал. Нелегкая судьба выпала на его долю, мог давно погибнуть. Сколько его ровесников полегло на войне! А он живет. Сколько должностей имел ответственных, и любой хомут — или председателя районной плановой комиссии, или первого секретаря райкома партии, — он тянул с полной отдачей, изо всех сил. Это не шутка: почти десять лет отбарабанил партийным лидером, судьба шестидесяти тысяч жителей района была на его плечах.
Вспомнились конфликты с Чепиковым, которого он, Долгалев, вывел в люди, усадил в кресло председателя райисполкома, а тот начал корчить из себя реформатора. Тогда после каждого заседания бюро Долгалеву хотелось напиться от обиды. Понемногу они притерлись, да и сам великий реформатор Никита Хрущев молча сошел со сцены. Потом Чепикова взяли в обком. С новым председателем конфликтов не было, про него вскоре стали поговаривать: без команды райкома в туалет не сходит.
И хотя заседания бюро теперь проходили спокойно, конфликты случались редко, Долгалев начал выпивать еще чаще. Немало слез выплакала Люся, не раз на нее замахивался кием, будучи подшофе, и Катька с Васей натерпелись. Можно сказать, спас его… нос. Постепенно он начал краснеть, сначала самый кончик, затем крылья ноздрей зарозовелись, а потом нос посинел, как слива. Долгалев с ужасом смотрел в зеркало, когда утром брился. Люся прятала от него водку, но в каждом колхозе угощали…
По району поползли слухи: первый секретарь совсем спился. Да и на лице это написано, стыдно ехать в область, в Минск. Он ловил на себе и язвительные, и сочувственные взгляды коллег из других районов, и начальство, особенно обкомовское, косилось. Дошло до него, что ввели в курс дела Машерова, мол, лидер партийной организации района позорит своим видом звание коммуниста. Машеров вроде сказал: «Своими делами он никого не позорит. Не трогайте его, пусть работает. Я сам хочу с ним поговорить».
Однажды утром, еще не было и восьми, настойчиво зазвонил телефон.
— Приветствую, Михаил Касьянович! Это Машеров. Как дела? Как житье-бытье?
— Ну, так, Петр Миронович, дела идут. Хотелось бы и лучше… Но не всегда получается.
Долгалев от неожиданности даже растерялся, но быстро овладел собой, рассказал про сенокос, о подготовке к жатве — за окном было начало июля.
— Как здоровье? Когда планируете отпуск?
— И здоровье могло лучше быть. Отпуск планирую на осень. Раньше, видимо, не получится.
— Вы смотрите, если есть необходимость поехать сейчас в санаторий, так надо ехать. Хочу к вам заглянуть. Пока не получается… Ну, крепитесь. До свидания!
Долгалев долго не решался положить трубку, словно надеялся услышать что-то еще, а в груди гулко тахкало сердце.
Он познакомился с Машеровым, когда тот был вторым секретарем ЦК. Как член ревизионной комиссии Долгалев присутствовал на всех пленумах, партийных активах, бывал и в кабинете Петра Мироновича. Говорили не только о хозяйственных и партийных делах, вспоминали и войну.
Через некоторое время после телефонного разговора пригласил Долгалева на беседу первый секретарь обкома: как живется, как работается, как здоровье? Спрашивал и довольно хмуро глядел в лицо собеседнику.
— Знаете что, не будем играть в кошки-мышки. Неважнецкие дела. Не думайте, что я большой пьяница. Другие берут на грудь побольше. Короче, устал я. Укатали сивку крутые горки. Ищите замену.
— Может, в санаторий съезди. Подлечись.
— Сдам дела, тогда и поеду. Подлечиться надо. Нога частенько ноет, как собаки ее рвут… А потом, есть у меня давняя мечта. Дороги хочу строить. Надоело бездорожье. Разбитые калюги, грязища, лужи… Машины буксуют, люди мучаются.
— Поддержим, — пообещал первый. — А пока работай. Береги здоровье.
Долгалев понимал, что советоваться первый будет не «тут», а в Минске. Через месяц собрали пленум райкома, первым секретарем избрали нового человека — заведующего отделом обкома. Но он долго не засиделся в Лобановке, через пару лет вернулся в Могилев.
И тогда в Лобановку приехал «ржавый тазик». Снова жизнь свела Долгалева с Валерием Рудаком, с тем самым комсомольским лидером, которого некогда он сплавил на учебу — не мог простить ему анонимную кляузу о комсомольской свадьбе Андрея Сахуты. После высшей партийной школы Рудак работал заместителем председателя райисполкома в одном из районов Могилевщины, затем председателем, и наконец, дорос до первого секретаря.
Долгалев после лечения в санатории, благодаря стараниям Люси, понемногу возвращался к трезвой жизни, и нос его постепенно приобретал естественный вид. Начальство слово сдержало: назначили его руководителем передвижной механизированной колонны: хочешь строить дороги — строй, даем зеленую улицу. И этот хомут он тянул исправно. Как любил он проехать по новой, блестяще-серой, ровной и гладкой асфальтированной дороге! Душа радовалась, сердце пело, новой работой Долгалев был доволен. Рудак к нему относился терпимо, если когда и критиковал ПМК, фамилию начальника не называл, донимал парторга.
Но годы подпирали, да и здоровье все чаще подводило: то ныла израненная нога, то давление подскакивало, то голова кружилась. Нынешней весной Долгалеву стукнуло шестьдесят, и он попросился, как говорится, на заслуженный отдых.
И вот пришел в райком, в тот кабинет, который был для него родным почти десять лет. Сел, осмотрелся, почувствовал, как сжалось сердце, в горле будто застрял ком. Столько дней, от темна до темна, провел он здесь. Сколько людей проходило здесь за день. Сколько исповедей выслушал он! Иногда заменял и попа, и прокурора, и отца, и учителя. А сколько перепалок случалось на заседаниях бюро! И не только с реформатором Чепиковым. Первый секретарь учил людей жить и сам учился, учился слушать каждого человека, уважать мнение каждого подчиненного.
Теперь за столом кабинета сидел другой, и стол был не тот, массивный, прямоугольный, под зеленым сукном, с тяжелым чернильным прибором под гранит, — а новый, полукруглый, с блестящей, как стекло, полировкой. И шкаф был новый, и телефонные аппараты другие. И запах был здесь иной: то ли духи, то ли пудра. Но за столом не женщина, а мордастый, здоровый мужик.
— Валерий Александрович, вы, конечно, видели на кузовах машин на заднем борту такую надпись: «Устал — на обочину!»
— Ну, видел, — ухмыльнулся Рудак, и его широкое лицо расплылось еще шире, серо-оловянные глаза под белесыми ресницами блеснули неприкрытой радостью. — Ну, и что из этого? Вы же не шофер.
— Устал я, старый конь, хочу свернуть в кусты. Хомут натирает шею.
— Что ж, я вас понимаю, Михаил Касьянович. Вы действительно заслужили право на отдых. Хотя мне, признаться, жаль вас отпускать.
«Хитрый, шельма. А сам давно замену подготовил. Ждал этого дня. Все-таки это он тогда накропал анонимку. Нутром чую…» — подумал Долгалев.
— Ежели какие возникнут вопросы, проблемы, заходите. Чем можем — поможем. В ПМК проведем собрание. Организуем все торжественно.
Пожали руки, обнялись на прощание. На крыльце Долгалев остановился, осмотрелся вокруг, словно навсегда прощался с этим желто-серым двухэтажным строением, что стоят почти в каждом сельском райцентре. Сердце гулко стучало в груди, в горле будто застрял ком, но в глубине души росло, поднималось неизведанное чувство свободы — он вольный казак, никакой не начальник — только над Люсей командир. Он вздохнул и, тяжело опираясь на кий, пошел по улице. И с каждым шагом росло чувство свободы и легкости — словно гора свалилась с плеч.
Мелькнула крамольная мысль: кто дал право Рудаку вершить судьбы людей? Кто его выбирал? Но некогда и его, Долгалева, выбирали таким же образом — на пленуме райкома. Вспомнился давний спор с Чепиковым: «Меня, председателя райисполкома, избирает народ, депутаты. А кто тебя? Кучка партийных функционеров», — горячился Чепиков. «А ты разве не знаешь, как выбираются депутаты? Разве есть выбор, альтернатива? Дороженький мой, если ты так будешь говорить еще кому, не усидишь в председательском кресле. И я не смогу выручить. Так же, как меня, выбирают и генсека. Усек, голова садовая?»
В последнее время Долгалев все чаще думал о жизни, вспоминал, как обещали коммунизм через двадцать лет. И он, тогда молодой партийный лидер, верил этим словам, хотя в глубине души — души мужицкого сына, человека от земли, и возникали сомнения: не мифическая ли это идея? Гнал сомнения прочь и делал то, что требовала партия.
Пошел в отставку Хрущев — самый говорливый в мире лидер, сошел со сцены, не сказав ни слова на прощание: не дали товарищи-соратники. Ему прощали всяческие фокусы, бестолковые, сумбурные реформы, но когда замахнулся на партию, располовинил ее на сельскую и городскую, подорвал ее руководящую роль — это ему не простили.
— Ты еще спишь? Блины уже готовы, — подала голос Люся и вернула его на грешную землю.
— Хорошо, встаю, — бодро, с радостью ответил он.
И эта тихая радость грела его почти весь день. После обеда Люся сообщила ему: звонил Вася, приехать не сможет, работы много. Димка приболел.
— Ну что они там? Одно дитя досмотреть не могут, — проворчал Долгалев.
Направился в дом, позвонил земляку Миколе Шандобыле, который сидел теперь в кресле председателя райисполкома (он, Долгалев, выводил Миколу в начальство), пригласил в баню.
— Ой, Касьянович, спасибо за приглашение. Трудновато выбраться. Хотя и суббота, а забот полон рот. Во сколько ты планируешь?
— Часиков в семь.
— Хорошо. Постараюсь подъехать.
— Вот не хочешь ты баньки на двоих, — озорно сверкнули глаза Люси. — Я ж и попарить могу…
— Моя дороженькая, ты классная массажистка. А парильщица так себе. Тут нужна мужская рука, и голова — тоже.
Была и еще причина пригласить гостя. После баньки Долгалев и чарочку себе позволял, лучше, когда было с кем, тогда Люся не ворчала. А еще хотелось поговорить с земляком-начальником. Как-то с Миколой они спорили про обещанный коммунизм. Тот отбоярился анекдотом: коммунизм — это как горизонт. Ты идешь, а он все отдаляется и отдаляется.
Потом Долгалев снова копошился то во дворе, то в бане. Сухие березовые дрова горели весело, ярко, пламя освещало небольшую, но очень аккуратную баньку. Глядя на огонь, вспомнил Люсины слова о бане на двоих. От, бабуся, еще озорница, подумал с теплотой о жене. И тут же другое чувство овладело им: случалось, на подпитии обижал Люсю, а она ж у него единственная женщина, как и он у нее. Хотя полностью в этом никто не может быть уверенным, но за много лет совместной жизни он убедился, что Люся-Долгалиха, как шутливо ее называли соседи, вела себя достойно, никто никогда не сказал о ней плохого слова. Да и он, имея молодых секретарш, подчиненных партийных женщин, не стремился к интимным отношениям с ними. А он знал, что выделывали его коллеги в соседних районах. Теперь пошла мода: каждый начальник кроме молодой секретарши в приемной, положенной ему штатным расписанием, имел и секретаря парткома, молодую коммунистку без комплексов. Приятно с ней поехать на пленум райкома или обкома, поужинать в гостинице, переночевать вместе. Да в любой день партайдама может задержаться на работе, если того пожелает шеф. И даже самый ревнивый муж не имеет права ее упрекнуть: работа такая. От нее часто зависит материальное благополучие семьи, ибо своим языком, задницей и «передком» она зарабатывает больше, чем дипломированный муж с руками и головой.
Долгалев иногда завидовал коллегам-гулякам, лежа на холодной гостиничной кровати, но находил и утешение: не всем так повезло с женой, как ему, потому что его Люся умеет все: и вкусный обед приготовить, и приласкать, и спину в баньке помассировать, и песню белорусскую исполнить, хотя родилась и училась под Ленинградом. От добра добра не ищут?
С годами Долгалев все больше убеждался: кто спал с многими женщинами, тот познал женщин, а кто живет в любви и согласии с одной, тот познал Любовь. И может считать себя счастливым человеком.
Подумал о Люсе, и тут же она появилась, позвала в дом: звонил Микола Шандобыла, сейчас будет звонить еще. «Снова что-то стряслось. Наверное, не сможет приехать», — с грустью подумал он. Только уселся в кресло, как зазвонил телефон.
— Михаил Касьянович, плохая, ужасная новость. Погиб Машеров… Автоавария…
Долгалев сидел у стола, сжимая в руке телефонную трубку, и качался из стороны в сторону, словно пьяный. Злость, жалость, обида, беспомощность и чувство непоправимости беды бушевали в душе, как расплавленная лава вулкана.
Баня для него утратила всякий интерес.
Хроника БЕЛТА и ТАСС, 1980 г.
4 октября. София. Вчера в столице Болгарии открылась Международная встреча на тему «Ленин и социальное развитие современного мира».
6 октября. Минск. Правительственная комиссия сообщает: гроб с телом Петра Мироновича Машерова будет установлен в Доме правительства. Похороны состоятся 8 октября в 16 часов на кладбище по Московскому шоссе.
16 октября. Тегеран. Военные сообщения свидетельствуют о том, что за последние двое суток бои между иранскими и иракскими войсками приобрели особенно жестокий характер.
28 октября. Гомель. Задачи областной партийной организации по выполнению решений октябрьского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС, указаний и выводов, высказанных в речи товарища Л. И. Брежнева, обсуждены на пленуме обкома партии.
II
День кончался. Андрей Сахута почувствовал, что очень устал, голова разболелась, аж покалывало в висках, во рту было сухо и горько. И ему так захотелось кинуть-ринуть все — кабинет с табличкой на двери: «Первый секретарь райкома», с мягким толстым ковром на паркете, с множеством телефонов на приставном столике, проститься с секретаршей и удрать в лес, вырваться, будто птица из клетки. И быть там одному, никого не слышать, не видеть.
Наверное, оттого такая усталость, что не был еще в отпуске. Летом и у него, и у Ады было столько забот на работе, что выбраться не удалось, а хотелось поехать вместе. Недавно Андрей взял путевки на озеро Нарочь в надежде, что удастся ухватить за хвост бабье лето, походить по грибы, надышаться осенним лесом.
Затрещал один из телефонов, он автоматически глянул на часы над входной дверью — короткая толстая стрелка приближалась к пяти, успел подумать, снимая трубку: сегодня не было ни одного приятного звонка.
— Сахута слушает!
— Внимательно он слушает или нет?
— Почему же нет? Абсолютно внимательно! Чтоб ты был здоров, Петро! Чтоб тебя кабеты любили! Я за день оглох от телефонов. Голова распухла. Ну, думаю, еще кто-то прорвался в конце дня.
— Хорошо, что застал тебя на месте. Хочу напомнить: завтра ждем, с женой, с детьми. Посидим по-семейному. Это ж черт знает что! Друзья детства живут в одном городе и видятся, по-нашему говоря: гады ў рады.
— Такова, братец, жизнь. Одни заботы и проблемы. Иногда жалею, как в том стихотворении: «І чаму не стаў я лесніком, лес мой, брат мой… Быў бы я тваім замком і тваёю брамай…»
— Как же не стал? Ты ж лесничий по диплому. Парадоксы жизни. Мой отец, лесник, так хотел, чтобы я пошел по его стопам. А меня потянуло в небо. Приземлился на телевидении. Зато тебя потянуло в лес.
— Да, но, к сожалению, я там долго не задержался. Послушай, что дальше в том стихотворении. Давай оторвемся от жизненной прозы. Так вот:
Ходзяць многія на твой парог Па вясну, па радасць, па маліну. Дрэва кожнае — маўклівы Бог, Што праклён прымае і малітву. «Пад арэшынай — любімай быць, Пад вярбінаю — ліць слёзы, Пад рабінаю — чужых любіць, Удавой застацца — лёс бярозы».И кончается так… Забыл. Сейчас вспомню. Ага, есть! Слушай:
Зноў дзяўчат з бярозамі сустрэў, — Паняслі пад вокны паўдубровы… Нехта ж з помстаю ідзе да дрэў І сячэ без літасці на дровы.— И как ты думаешь, чей это стих?
— Андрей, стыдно мне, но вынужден сдаться.
— Так вот, это наш земляк Алексей Пысин.
— Я думал, у него все про войну… К сожалению, на телевидении, кажется, нет ни одной записи его.
— А ты куда смотрел? Не мог сделать передачу про земляка?
— Я же не литдрама. У меня научно-популярная редакция.
— Ну вот. Если изменить крылатое выражение, то получится: Петро кивает на Ивана. Такие мы хозяева. Лес пилим на дрова. Хотя из него можно сделать столько дорогих вещей! Поэтов своих не любим, не читаем.
— К сожалению, твоя правда. Вот завтра это и обсудим.
— Хорошо, Петро. Извини, телефон. Какому-то начальнику приспичило услышать мой голос или дать втык…
А на другом конце Минска друг Петро Моховиков переключил свой телевизор на монитор, нашел студию, где записывалась передача по белорусской литературе — о творчестве Янки Мавра. Эта передача интересовала Петра — именно он предложил взять за основу повесть «ТВТ». Это произведение о Товариществе Воинственных Техников, которые подняли бунт против диктата домашних вещей, нравилось ему с детства.
Была и еще одна причина посмотреть передачу: ее записывала режиссер Лида Якубовская, высокая, стройная, синеглазая. Нет, про служебный роман Петро не думал, точнее — запретил себе всякую вольность с подчиненными женщинами. Успел поссориться с главным режиссером, а ему через год на пенсию, так, может, Лида и заменит. Вот она склонилась над ведущим передачи — лысоватым доцентом с короткой рыжеватой бородкой, что-то ему сказала, он сел удобнее, расправил плечи. Доцент посматривал на себя на боковом экране, поправил галстук, причесал и разгладил бородку. Актриса и актер, занятые в передаче, перечитывали свои тексты. Зрелище напоминало немое кино, потому как микрофоны были пока отключены. Петро смотрел на немой экран и вспоминал свой путь к этому кабинету с персональным телевизором-монитором…
С Андрейкой Сахутой он бегал в деревенскую школу, а потом их дороги разошлись: детвора из Кончанского Бока ходила в семилетку в Заречье, а малышня Шамовской стороны — в Белую Гору. После школы перед ними встал первый жизненный экзамен: куда податься дальше? Какую выбрать профессию?
Как-то шли они вечером после танцев. Петро в костюмчике, белый воротничок рубахи, в кармашке возле лацкана поблескивала металлическая дужка авторучки. Андрей завидовал ему, потому что об авторучке мог только мечтать. Отец Петра — лесник, имел пусть небольшую зарплату, а мужчины-колхозники, как и женщины, работали за трудодни-палочки. В конце года на них начисляли по двадцать-тридцать копеек. Вот тут и живи!
— Андрей, что ты будешь делать после школы? Куда лыжи навострил? — ломким баском спрашивал Петро.
— Еще не решил. Думаю. Отец советует в лесной техникум.
— И мне отец голову задурил. Иди, говорит, в лесной техникум. Будешь лесничим. Все в твоих руках. А меня тянет в небо. Хочу стать летчиком. Помнишь, еще была война, мы стояли на взгорке? На ледоход смотрели. Девчата весну гукали. И тут в небе появились самолеты. Наши, бомбардировщики. Я стоял, задрав голову. И про ледоход забыл.
Петрик Моховиков рос очень говорливым, общительным, соседи посмеивались: в мать удался, лесник Захар — на редкость молчаливый, а его супруга Гапка — отменная балаболка, причем шепелявила: выпал передний зуб, а говорила быстро, аж слюна брызгала изо рта.
— Значит, поедешь в Полоцк? В техникум?
— Не знаю. И хочется, и колется. А может, лучше пойти в восьмой класс? А после десяти сразу в институт, — по-взрослому рассуждал Андрей.
— А я думаю схитрить, — зашептал Петро, хотя они были на улице только вдвоем. — Чтоб война в хате кончилась… Ну, матка за меня, лишь бы дома остался и пошел в восьмой… Скажу отцу, что после десятилетки рвану в лесотехнический институт. А сам катану в военкомат, а потом в летное училище. Ну, если пройду комиссию. А если не пройду, тогда в лесной или в сельхозакадемию.
Андрей одобрил план друга. На этом простились. Силуэт друга растаял в темноте, а Петро еще долго стоял возле дома, слушал тишину, вглядывался в темную стену леса за Беседью. Вдруг из-за реки послышались резкие и громкие звуки: драп-драп, драп-драп! Это продирался сквозь росистую траву драч-коростель, властелин ночных лугов. А со стороны поля, из высокой, колосистой ржи, послышалась другая песня: пить-полоть, пить-полоть — подала голос перепелка.
И хоть был Петро разговорчивым, здесь у него не хватило бы слов, чтобы выразить свои чувства: всем юным существом он почувствовал великую любовь к родной деревне, к Беседи и знакомому с детства лесу. И крик драча, и песня перепелки звучали для него как наилучшая, прекрасная музыка. Если остаться дома, то всегда можно будет это слышать и видеть, но и хочется пожить в большом городе, тянет, словно магнит, небо. Вон оно какое: звездное, громадное, таинственное. Петру показалось, что он слышит какое-то отдаленное гудение, будто жужжит майский жук. Он прислушался, всмотрелся в небо и увидел пульсирующую точку — это летел самолет. Петро стоял и смотрел как зачарованный. Самолет пролетел над Беседью, над притихшей деревней: курс держал на восток, значит, на Москву. «И все-таки я буду летчиком!» — словно дал себе клятву Петро Моховиков.
И вот десятилетка позади. Лесник Захар не забыл обещание сына — поступить в лесотехнический институт. Теперь и мать была с ним заодно: лучше пусть сын работает в лесу, на земле, чем в небе. Но сын настоял на своем и стал курсантом Кировоградского училища военных летчиков. Через год приехал домой в красивой небесно-голубой форме, высокой фуражке с самолетиком-кокардой. У словоохотливой Гапки язык отнялся, как увидела сына-курсанта. Любовался сыном и отец.
— Хворма летчицкая хварсистая. Ето хвакт, — глубокомысленно отметил Захар Антипович. — Хотя и наша, лесная, тоже смотрится хорошо, — дал сыну понять, что и в форме лесничего он выглядел бы не хуже.
— Куды ты ўжо со своей хформой! — замахала руками Гапка. — Твоя хфома… Серая от пыли. Заносишь, дык не дамыться.
— От баба! Я ж не про ето кажу. Любую завэдзгай, так не будет иметь виду. А новая и моя блестела! Ого!
Петро слушал и снисходительно улыбался, он чувствовал себя победителем: добился своего, идет настойчиво к осуществлению мечты.
— Ти летал же ты, сынок? Ну, на етом, на ероплане? — интересовалась мать. — Ти страшно в небе?
— Нет, мама, самостоятельно еще не летал. Пока что учат, готовимся. Изучаем материальную часть. С парашютом прыгаем.
— А из какой материи ета часть? Паркаль, рубчик ти шовк?
— Ну, балаболка! — ухмыльнулся Захар. — Материальная часть… Ета ж, как у любом оружии, металл. Зялеззе, детали разные. А ты паркаль ды рубчик!
— Дуже ты знаешь! Сам же ни разу не летал на самолете. А парашют из материи? Так, сынок?
— Правда, из материи. — Обнял сын мать, прижал к груди. — Купол сделан из шелка. Из очень крепкого. Чтобы никакой ветер не порвал.
— Ну во, Захарка, слышал? Из материи! А ты кажашь, бытто я ничего не знаю и не понимаю. Эх, если ж бы мои сыночки, большенькие, вернулись с хронту. Мы б уже ихних деточек, внучат наших, годовали. И радовались бы каждый божий денечек, — вздохнула Гапка, вытерла рожком платка повлажневшие глаза.
Умолк и Захар. Почти из каждой хатыничской семьи война забрала свою страшную дань: мужа, брата или сына. Захар и Гапка не дождались двоих старших сыновей.
А через два года Петро приехал уже с золотыми лейтенантскими погонами. Привез матери красивый платок-гарус, отцу рубаху, белую с голубыми полосками. Гапка прижала платок к груди, и глаза ее затуманили слезы. Но это были слезы радости. А еще через два года Петро получил звание старшего лейтенанта, на золотых погонах появилась третья звездочка. Это особенно обрадовало лесника Захара.
— У нашего лесничего и то две звездочки в петлицах. Хотя у нас и не такие звания. Но ты, сынок, важнее, — улыбался довольный отец.
Лесник Захар Моховиков уже имел право на пенсию, но еще работал, ежедневно с одноствольной тулкой, довоенной, ходил в лес. Он гордился сыном и был рад, когда к нему пришли друзья Данила Баханьков и Андрей Сахута.
Парни наловили рыбы, сварили уху на берегу Беседи. Всю ночь просидели у костра, пели песни, вспоминали одноклассников. И получалось, что один Данила остался в родной деревне и был уже бригадиром. Андрей — комсомольский вожак района. Ту ночь с друзьями Петро не забудет никогда.
— Что-то ты долго холостякуешь, Петро. Не нашел еще присуху? — интересовался Андрей.
— А я тебе советую не торопиться. Жена — хомут на шее, — то ли серьезно, то ли шутя говорил Данила.
— Ага. Вы уже семьи имеете, жен обнимаете. А я все один. Раньше жил, как в той песне «Первым делом самолеты…». Теперь уже думаю иначе. Скоро женюсь. Приглашу на свадьбу. Приедете — не пожалеете. Свадьба будет на берегу Волги.
— Здорово! Я, кстати, Волги не видал еще, — признался Данила.
— Да и я тоже на Волге не был. Пиши, приглашай. Самолеты быстро летают. Приедем, — пообещал Андрей.
Рассказал Петро про свою невесту.
— Красивая, веселая. А какой будет женой, трудно сказать.
— Так, может, не торопись. Как сказал один философ: без женщин так же трудно обходиться, как и жить с ними, — рассуждал Андрей. — Конечно, решать тебе. А может, рискни…
Через полгода Петро женился. Друзья не подвели — приехали на свадьбу. Осмелились выбраться в далекую дорогу и Захар с Гапкой-Агафьей. Свадьба была не очень многолюдная, но шумная, веселая. Молодые летчики дружно пели, без устали танцевали, громко кричали «Горько!». Жених и невеста красивые, рослые, пара — залюбуешься. Казалось, все будет хорошо, молодым только жить и радоваться. Но через несколько месяцев Петро убедился, что ему не повезло. Как-то вернулся раньше обычного — молодая жена пьет вино с незнакомым парнем.
— Петя, это мой одноклассник. Приехал из соседнего города. Мы не виделись несколько лет.
Познакомились, выпили по бокалу вина. Проводили гостя на вокзал. Петра это событие насторожило, но постепенно он забыл о визите одноклассника. Однако стал примечать, что жена начала часто ворчать, раздражаться ни с того ни с сего, в постели лежала, как «лесная женщина». Это выражение он услышал в одной компании: лесная женщина та, которая лежит в постели, как бревно. Он тогда посмеялся вместе со всеми, а теперь почувствовал, что это такое.
Почти ежедневно из-за какой-нибудь мелочи возникали ссоры. Петро стал плохо спать, а после бессонной ночи болело сердце. Как-то встретил его возле дома прапорщик, с которым жили в одном подъезде. Прапорщик недавно вышел в отставку и пока не нашел работы на гражданке, потому свободного времени у него было много.
— Извини, товарищ старший лейтенант. Ты старший по званию, а я старше по годам. Что-то у тебя в семье, браток, неладно. Как ты на службу, так у жены гости. Это, конечно, не мое дело. Я просто уважаю тебя, как сына. Не бери до головы. Детей у вас нет, ежели что не сладится, найдешь другую.
Однажды Петро сказал жене, что заступает на дежурство, ночевать будет на службе — завтра полеты. Это случалось часто, военные летчики перед полетами ночуют в части: у них особый режим, особое питание. Поздним вечером он примчался на такси домой, вошел в квартиру — жена лежала в постели с мужчиной.
— Ах ты, стерва, — процедил он сквозь зубы, стукнул дверью и вернулся на службу.
До утра он так и не уснул. А потом были полеты. Петро выполнил всю программу, нормально приземлился, спустился с трапа на землю… и упал. Очнулся в госпитале. Начались анализы, исследования, комиссии, в конце концов, медики вынесли приговор: к службе в военной авиации непригоден.
После красивой, шумной, веселой свадьбы был тихий развод. На первый взгляд, все просто: ни алиментов, ни волокиты с разделом имущества, квартиру муж оставляет бывшей жене.
Но на сердце у Петра — открытая рана. И потянуло его домой, в Беларусь. Походил пару недель по лесу, погода была как по заказу: на дворе бабье лето, дни светлые, тихие, полно грибов в лесу. Воспрянул Петро душою и телом. И сердце успокоилось, давление нормализовалось. Родители ни в чем не упрекали, мать радовалась, что сын вернулся домой, отавы помог накосить, дров наготовили с отцом на всю зиму. Гапка вечерами перебирала в памяти всех деревенских девчат, а их осталось в Хатыничах совсем немного, выбирать было не из кого. Она уже собралась сходить в разведку в Заречье — нет ли там незамужней учительницы.
Но у сына были свои планы, и однажды вечером он сказал:
— Поеду в Горки в сельхозакадемию. Попробую поступить на агрономический факультет. Там экзамены осенью. Пару курсов окончу, переведусь на заочное. На стипендию прожить трудно. Ну, может, кусок сала когда подкинете.
— Шиночек, мой дорогой, — зашепелявила от волнения Гапка. — Все тебе будет. Дай же Божечка, чтоб тебе удалось… — старуха быстренько шуснула за порог и вернулась с запыленной бутылкой, заткнутой черной резиновой пробкой.
— Го, жоночка! Где ж ты зелье горькое прячешь? — заулыбался довольный Захар.
— От, зубы выскаляешь. Стыканы взял бы. Сидишь, как фон барон. Открывай, сынок.
Петро старался пить как можно меньше, чтобы не давать нагрузку сердцу, медики употреблять алкоголь запретили, но это был особый момент.
— Ну, сынок, дай Бог! Пусть тебе повезет. На земле-матухне оно смелее, — взволнованно молвил Захар. — А про сало, деньги… Не бядуй! Продадим телушку. Все тебе…
Сидели они, говорили. Мать пошла спать, отец и сын понемногу реализовали поллитровку. Спал Петро в ту ночь крепко, проснулся утром бодрым, будто заново на свет родился.
В академию он поступил, окончил два курса и перевелся на заочное отделение, но в Хатыничи не вернулся. Познакомился со студентом-заочником, который уже был на последнем курсе, работал под Минском председателем колхоза, а раньше служил офицером, он и уговорил Петра поехать к нему агрономом. Как-то летом, перед жатвой, прикатила съемочная группа телевидения. Председателя и главного агронома вызвали в район, пришлось Петру заниматься гостями. Он этого не ждал, не готовился, излишне не волновался, а сказал то, что знал о делах в колхозе, о лучших людях, признался, что это его первая жатва. Оператор снял несколько — механизаторов, главного инженера, комбайны на машинном дворе, колосистую зреющую ниву, — закончив работу, воскликнул:
— Отлично! Все получилось. Классная будет передача.
А режиссер Лида, симпатичная, синеглазая блондинка, даже чмокнула Петра в щечку — так ей понравились сюжет и молодой агроном. Редактор записал в блокнот нужные данные, и телевизионный рафик укатил в Минск. В назначенное время деревня прилипла к телевизору. Петро смотрел на себя, слушал свой голос и не узнавал его, и в то же время убедился, что говорит толково, все по делу, рассудительно, выглядит достойно. Председателю колхоза передача очень понравилась, к тому же, позвонил начальник райсельхозуправления: рад, что растут молодые кадры, что председателя можно выдвигать на повышение, — есть кому заменить.
Примерно через месяц позвонили из республиканской газеты, попросили написать статью «Раздумье после жатвы»: что получилось, что не удалось и почему.
— Пишите без спешки, побольше анализа. Пишите просто, как вы говорили с экрана. Здесь же можно поправить, перелопатить, если надо. Думаю, что у вас получится, — уговаривал журналист.
Петро начал было отказываться: надо писать контрольную работу для академии, времени нет.
— Статья вам зачтется. В академии читают нашу газету.
У Петра мелькнуло в голове: может, статью прочитает и та девушка-режиссер, снова приедет на съемки. Статью он написал. И телевидение действительно приехало, но через полгода, в начале весны. Председатель колхоза пошел на повышение, его кресло занял главный агроном. А на место главного назначили Петра.
— Мы снова к вам, — приветливо улыбалась Лида. — Запланировали о вас телеочерк.
— В газете вы дали раздумье после жатвы. А нам нужны чувства перед весенней посевной, — вступил в беседу редактор, пожилой, высокий, сутуловатый, в очках.
— Должен вам признаться, чувствую себя неловко. Работаю здесь недавно. Это первая весна в качестве главного.
— Так это же отлично! — прервал его редактор. — Раньше вы были просто агрономом. А теперь — главный. Чувство ответственности. Дисциплина. Все по технологии… Вы же бывший летчик. Так сказать, земля и небо. О, Лидуся, назовем очерк «Земное притяжение». И все без натяжки. Синее небо и синее поле льна. И синие васильки во ржи… Здорово!
— Васильки красивы, но это все же сорняк. Мы с ними боремся, — гнул свою линию Петро Моховиков.
Лида пристегнула Петру микрофончик на лацкан пиджака. Когда наклонилась над его лицом, он услышал тонкий запах духов, а когда коснулась волосами, его словно током обожгло. Лида, видимо, тоже это почувствовала, торопливо отошла в сторону, начала командовать:
— Камера! Сережа, общий план и переходи на крупняк.
Что такое «крупняк», Петро не понял, только мелькнула ассоциация со словом «кумпяк». И он краем глаза взглянул на джинсы, туго обтягивавшие ее ноги выше колен.
Снимали Петра в поле, в мастерской среди механизаторов, с девушками-льноводами. Скупо, неохотно говорил про агронома новый председатель. Ведущий буквально вытягивал из него по слову. После съемок гостей ждал обед в местной столовой. Председатель колхоза опрокинул пару чарок и поехал по своим делам, а Петру пришлось сидеть до конца, и эта миссия была приятной. Лида раскраснелась, а синие глаза тепло смотрели на него, соблазнительные уста лукаво улыбались. Редактор Владимир Павлович высказал сожаление, что в их редакции нет специалистов сельского хозяйства.
— Допустим, я — человек деревенский. С детства видел, что хлеб не растет на дереве, но кончал журфак. Самопасом изучал сельское хозяйство. Большинство наших кадров — горожане. Дети асфальта.
— Блатняки! Дети разных начальников, — уточнила Лида. — Вот нам бы в штат хотя бы одного агронома.
— Приглашайте. Я подумаю, — неожиданно для себя самого ляпнул Петро. — Вы про меня все знаете. Человек я вольный. Скоро кончаю академию.
— А что, это идея. Координаты ваши есть. Если появится вакансия, мы вам позвоним, — заверил редактор.
Телепередача вышла, а через несколько дней ее повторили.
— Петр Захарович, вы теперь наша знаменитость. Звезда телеэкрана, — ласково улыбалась бухгалтер, которая давно жила без мужа, старалась понравиться Петру, но не лежала у него к ней душа, и потому делал вид, что ничего не замечает и не понимает. А вот режиссера Лиду не забывал.
Как-то позвонил редактор Владимир Павлович, сказал, что телеочерк повесили на красную доску, как лучшую передачу, хвалили на студийной летучке, что вскоре у них может быть вакансия.
— Хорошо. Поживем — увидим, — коротко ответил Петро.
Ему не хотелось менять профессию, осваивать новое дело, совсем для него неизвестное, да и в город не рвался. Но тревожили напряженные отношения с новым председателем. После статьи в газете он проворчал: «Я три пятилетки здесь работаю. А ты и трех лет не отработал, но уже хвалишься на всю республику». — «Я не себя хвалю. А людей, которые у нас работают.
И достойны похвалы и доброго слова». Обещал председатель Петру выделить половину коттеджа, который строился, но как-то проговорился: «Может, пока подождешь, семейным негде жить».
Время шло, никто с телевидения не звонил и не приезжал. Да и поймать Петра было непросто — должность у него некабинетная. Как-то его позвали к телефону в бухгалтерию, он взял трубку и… не поверил ушам: звонила Лида.
— Петр Захарович, миленький, ищу вас по всем телефонам. Володя уже несколько раз звонил. Вакансия есть. Завтра у нас летучка в десять. Позвоните Владимиру Павловичу после девяти, он будет на месте. Ну, до встречи!
Через месяц Петро Моховиков получил солидное, толстенькое удостоверение сотрудника Белорусского телевидения. С помощью ЦК комсомола его поселили в рабочем общежитии. Жил в одной комнате с инженером-строителем. Теперь он виделся с Лидой почти каждый день, а Владимир Павлович, заведующий отделом сельского хозяйства, стал его непосредственным начальником. Постепенно Петро врастал в новый коллектив, осваивал новую профессию.
Однажды Петр и Лида вернулись из командировки, сдали пленку, аппаратуру, шли по берегу Свислочи. Был тихий, ласковый вечер.
— Мой уехал на Полесье. Фильм там снимает. А сын у бабушки, — будто между прочим сказала Лида.
— Так, может, зайдем ко мне? Сосед в отпуске.
— Ну, разве что на минутку, — нерешительно, сдержанно ответила Лида.
Но сдержанности хватило, пока Петро не закрыл на ключ дверь комнаты… После горячих объятий, усталые, они лежали на одной подушке. Лида нежно целовала Петра и тихо плакала сквозь слезы, все говорила и говорила. Петр слушал, не прерывал, понимал, что ей надо высказаться…
— Милый мой! Ну, почему мы раньше не встретились? Ты обжегся… Но ты недолго терпел и мучился. А я уже восемь лет терплю… Сначала мы жили хорошо. Мы же учились в одном институте. Лет пять все было по- людски. Он так Виталика любил, гулял с ним вечерами, в садик водил. Ну, случались командировки, съемки. Работа у него такая. Снял один фильм, другой. Начали хвалить. Он зачислил себя в гении. А следующий фильм не получился, положили на полку. А он свое: это козни моих врагов, завистников. Начал выпивать. Нашлась утешительница. Актрисуля, которая снималась в фильме. Начал мой исчезать. Три дня нет, неделю. Ни на работе, ни дома. Ну, на студии перед зарплатой появлялся. А какая зарплата, если в простое… А появится дома — злой, нервный, не говорит, а фыркает. Я виновата в его неудачах. Я говорю: давай разведемся, раз тебе плохо со мной. Он закатывает сцену. Ты что? Хочешь сына сделать сиротой при живом отце? А какой же ты отец, говорю я, ты его не одеваешь, не кормишь. Он тебя месяцами не видит. А он все равно свое: ты такая, сякая, хочешь разрушить семью. Вот он начнет снимать фильм, все наладится. Ну, кажется, начал новую картину. Но дома не появляется, даже когда сидит в Минске. Вот такая жизнь.
Почти год встречались Петр и Лида, то в общежитии, то у нее на квартире. И все украдкой, в спешке, на ходу. В редакции кое-кто знал об этом — любовь, как и кашель, не спрячешь. Петр чувствовал себя неудобно, переживал от раздвоенности, понимал, что их служебный роман, почти как и все подобные романы, не имеет перспективы. Надоело играть в прятки. И тут появилась другая женщина. Ева, которая жила в соседнем общежитии, одна растила сына. Надоела и жизнь в одной комнатке с чужим человеком. Все чаще он оставался ночевать у Евы. За ширмой спал пятилетний Костик — его отец погиб в автоаварии, когда малышу было два годика.
— Петя, бросай ты свое общежитие. Переходи ко мне. Расписываться пока не будем. С комендантом я договорюсь. Она моя подруга.
Так и решили. Когда Петро имел время, он забирал малыша из садика.
— Костик, твой папа пришел! — кричали дети.
Мальчуган поворачивал русоволосую, как подсолнух, голову, радостно улыбался и бежал навстречу «папе». Петро брал маленькую теплую ручку в свою ладонь и чувствовал, что этот маленький человечек становится ему все дороже. Росло и чувство к Еве. Однажды она встретила их возле дома, обняла обоих, поцеловала. И весь вечер была как никогда ласковая, поглядывала то на Костика, то на Петра. А когда малыш заснул, призналась:
— Забеременела я, Петя. Что будем делать?
— Так это же здорово! — воскликнул Петро. — Расписываемся. Подаю заявление на квартиру. Милая моя, не горюй! Все будет хорошо!
— Ой, Петя, долго нам ждать придется. Может, мне что-нибудь дадут раньше? Я же давно работаю в тресте. И на очереди давно.
Расписались, усыновил Петро Костика. Ева весь декретный отпуск стучалась в двери своих начальников: как жить семье из четырех человек в одной комнатке? И достучалась — вскоре после рождения дочурки Иринки семья получила двухкомнатную квартиру.
Петро почувствовал себя счастливым человеком: он отец, дорогим и родным не по крови стал и Костик, и все крепче любил Еву. Когда женился первый раз, ему казалось: очень влюбился, лучшей женщины нет на свете. Но постепенно, будто ночной костер, любовь слабела, остывала и совсем сошла на нет. Остались усталость и разочарование. Во время развода Петро ненавидел эту женщину, которая принесла ему столько огорчений, подрезала крылья, едва не сломала. Но он выстоял. С годами прошла и ненависть. Время — неутомимый целитель человеческих ран — сделало свое дело, остались только шрамы на сердце и в душе.
А с Евой все наоборот. Поначалу заходил к ней, потому что приглашала, было с ней хорошо в постели, горячо обнимала и целовала. Постепенно привыкал, познавал характер, а не только тело, а когда родилась дочь, Петро не мог понять, кого крепче любит — жену или свое, родное дитя. Но сердцем почувствовал — наконец, нашел свое счастье.
И на работе его уважали. Петро начал понимать телевидение изнутри, постигать его кухню, где «варились» передачи — записывались, монтировались, озвучивались и потом притягивали людей к голубому экрану. Первое время очень помогала Лида — она была и наставницей, и советчицей, да и перешел на телевидение благодаря ей. Иногда снилось Петру поле. Он идет по тропе во ржи, вокруг синие глаза васильков будто смотрят на него, громко поет перепел, потом он, главный агроном, отчитывает бригадира за слабую обработку химическими препаратами — сорняки надо уничтожать. А вот небо и самолеты в последнее время совсем не вспоминались — отболела, затянулась рана жизненными заботами, новыми радостями.
Как-то встретился с Лидой в коридоре — она перешла в научно-популярную редакцию, теперь виделись реже. Поздоровались, обнялись.
— Ну, как твоя дочурка?
— Растет. Часто плачет. Зубки режутся.
— Что ж, это обычное дело. Ну, крепись, — вроде бодрым тоном сказала Лида, но глаза ее были такие грустные, что у Петра сжалось все внутри — никогда в жизни он не видел таких пронзительно тоскливых глаз.
Вскоре случилось неожиданное событие: Лида стала подчиненной Петра. И вот он наблюдает по монитору, как записывает передачу режиссер Якубовская.
Доцент коротко сказал о творчестве Янки Мавра, камера показала полку книг писателя, потом замелькали кадры документальной ленты: Мавр в тельняшке, с бородой, с трубкой во рту — косил старик под флибустьера, мелькнула сценка из жизни морских пиратов. Разыгрывает ее писатель со своими друзьями. Затем школьники показали сценку из повести «ТВТ» — придумывали название своему кружку: Товарищество Воинственных Техников. А потом актер и актриса читали фрагменты из других произведений автора.
Передача высветила многогранность личности Янки Мавра, его неистребимый оптимизм, глубину и актуальность его творчества, особенно повести «ТВТ». Сам Петро, когда планировал передачу, как-то подсознательно, интуитивно чувствовал, а тут сразу осознал: это как раз то, что нужно именно теперь! Не пустые разговоры на бесконечных заседаниях, собраниях о научно-технической революции, а конкретное живое дело. Товарищество Воинственных Техников может спасти страну, а не товарищество воинствующих атеистов-разрушителей, коммунистов-двурушников.
«Надо поздравить Лиду с интересной передачей». Рука потянулась к телефону, и тут будто сработало невидимое реле: аппарат залился трелью. Петро снял трубку и услышал голос Евы.
— Ты не забыл, что у нас завтра гости? Будешь ехать домой, загляни в магазин. Купи пару пачек майонеза, пару батонов на бутерброды.
— Дуришь ты мне голову. Разве не знаешь, в конце дня ничего нет, — неожиданно резко сказал Петро.
— Ну, может, и так. Завтра утром купим. Возвращайся домой. Ждем.
В голосе Евы тоже послышалось раздражение, нетерпение, мол, чего ты сидишь, когда рабочий день кончился. Петро набрал номер студии, но Лиды там уже не было. Он вышел в коридор и увидел ее возле комнаты режиссеров, рядом с ней стоял доцент. Петро подошел, похвалил передачу. Увидел, как засветились от радости Лидины глаза.
С хорошим настроением Петро Моховиков отправился домой. Вечером позвонил Андрею Сахуте, чтобы продолжить прерванный разговор, и услышал от него ужасную весть — в автоаварии погиб Машеров. Приехать не сможет: очень много забот свалилось на него.
— Может, на похоронах увидимся. Позже позвоню. Вот такая, братец, жизнь. Был человек и нет его, — с грустью сказал Андрей.
ІІІ
После ужина Машеров закурил любимую сигарету фирмы «Филип Моррис», устроился у телевизора: начиналась программа «Время», которую он старался не пропускать. Иногда попадала в кадр Беларусь, и он, партийный лидер республики, должен знать, что показали и как показали, потому что это идет на весь Союз и даже за его пределы. Передачу «Время» очень придирчиво смотрели в Кремле, особенно многочисленные помощники генсека Брежнева. Сам он почти ничего не читал, не любил и телевизор, но шеф телевидения почти каждое утро звонил ему и угодливо спрашивал: «Леонид Ильич, хорошо ли мы вас вчера показали? Есть у вас замечания?» — «Нормально, — обычно скрипел в ответ Брежнев. — Замечаний нет. Желаю успехов», — хотя передачи и не смотрел. Его больше интересовали охота, быстрая езда на автомобиле, домино, фильмы про любовь или про зверьков — мог сидеть до глубокой ночи, потому как вставать рано привычки не имел.
Мелькали на телеэкране кадры. Вот он, дорогой Леонид Ильич, читает по бумажке, слова рождаются трудно — говорит, словно камни во рту ворочает. И такой дед-развалюха руководит громадной державой! Неудивительно, что мы топчемся на месте. Будто стреноженный конь, переставляет ноги генсек, и так же движется вперед могучее государство, с горечью и разочарованием подумал Машеров, и так захотелось выключить телевизор, но пересилил свое желание: а вдруг будет что про Беларусь, хотя бы чего «жареного» не показали — это не ко времени, его ждут в Москве большие дела.
Брежнев в тот вечер больше на экране не появлялся, но он словно стоял перед глазами Машерова: со шпаргалкой перед носом и пятью Золотыми Звездами на груди. Вспомнился факт: Брежнев только однажды, в 1971 году во Франции, рискнул выступить без бумажки, понимал, что французы очень ценят красноречие, если увидят его со шпаргалкой перед носом, сразу перестанут уважать. Генсек взялся зубрить, как школяр, написанную помощниками речь. Параллельно учил ее и переводчик. Выступая, Брежнев путался, пропускал слова, но молодой талантливый переводчик выучил речь лучше генсека, и французы ничего не заметили.
Промелькнули спортивные новости, прогноз синоптиков — прогноз он знал, потому как завтра поедет в колхоз. Дорога недалекая. Утром обещали дождь, но это ничего. Поедет во второй половине дня, когда распогодится. Но на душе было неспокойно, какое-то недоброе предчувствие, будто червяк яблоко, точило сердце… Он тяжело поднялся, высокий, сутуловатый, взял газеты с журнального столика, пошел в свой кабинет. Он иногда просил домочадцев: «Дайте мне часок тишины», — и тогда никто не входил к нему.
Он включил настольную лампу, полистал газеты, привычно выхватывая заголовки, начало и конец статей. Глаза устали за день от бумаг, от людей. И вообще, он чувствовал себя усталым, болела голова, и это неудивительно — столько мыслей кружилось в ней! И было над чем подумать! Забот у него и раньше хватало, а тут намечался такой поворот… Машеров выключил свет, снял очки, прилег на диван. Нет, спать он не собирался. Он ложился поздно, хотя, бывало, и сильно уставал: сидел, пока глаза не начинали слипаться, а если лечь раньше, то нападет бессонница, и тогда утром как побитый, а он должен быть всегда в форме. Бодрый, подтянутый, гладко выбритый. Таким его знают работники ЦК, таким его знает белорусский народ, все советские люди.
Сегодня заснуть будет трудно: думалось о телефонном разговоре с Председателем Совмина СССР Алексеем Косыгиным.
— Петр Миронович, такая ситуция… Долго я думал и решил подать в отставку. Пора, как говорится, на заслуженный отдых.
— Ну что вы, Алексей Николаевич? Без вас все покатится под откос. С вашим опытом, мудростью еще работать и работать.
— Дорогой Петр Миронович! Мне уже скоро семьдесят семь. Хватит. Представьте себе, в январе 39-го меня назначили наркомом текстильной промышленности. Мне тогда и тридцати пяти не было. Так вот, я уже сорок лет на государственной службе.
— Но Михаил Андреевич Суслов еще старше, а в отставку не собирается.
— Да, Михаил Андреевич на два года старше. Кстати, и вы, и мы с Сусловым — все трое февральские. Но вы еще молодой, Петр Миронович. Вас бы в Москву перетянуть надо.
Машеров знал: дни рождения Косыгина и Суслова совпадают — двадцать первое февраля, а у него — тринадцатого. Знал он и то, что именно Суслов люто ненавидит его, потому что считает первым претендентом на кресло главного идеолога. Понимал это и Косыгин, но сказал о другом:
— Быть идеологом — дело другое. А экономика любит конкретику. Людей надо обеспечить работой. Нужно, чтобы работали заводы. Был порядок в колхозах и совхозах. Чтобы человеку было что одеть, поесть, было где жить. Вы это все прекрасно понимаете. Имеете большой опыт, авторитет. Поэтому и буду вас рекомендовать.
— Но вы еще не закончили экономическую реформу.
— Реформа уже давно забуксовала, — вздохнул Косыгин. — И вы, наверное, догадываетесь почему. Короче говоря, заявление я подготовил. Двадцать первого октября пленум ЦК. Обсудим госплан и бюджет на будущий год. Есть мнение, что пора вас переводить в члены Политбюро. Ну, а двадцать третьего — сессия Верховного Совета. Я получу отставку, а вас буду рекомендовать на свое место. Советую соглашаться. Я уже говорил: у вас есть опыт, авторитет, мудрость. Вас любят в России. Во всех союзных республиках. С некоторыми членами Политбюро я переговорил. Есть полная поддержка. Конечно, не все… Сами понимаете. Думаю, все будет хорошо. Готовьтесь. И до встречи!
Машеров подержал трубку в руке, потом тихо положил ее на аппарат. Некоторое время сидел словно в оцепенении. Мысли стремительно кружились в голове. О переводе его в Москву он слышал не раз от Кирилла Мазурова. А тут сам Косыгин…
Раздумья прервал резкий звонок по ВЧ. На этот раз позвонил генсек:
— Как дела, Петр Миронович? Что-то вы опаздываете с уборкой? Уже октябрь. Со дня на день мороз может грянуть. Чтобы не повторилась прошлогодняя история. Чтобы ничего не померзло.
— Леонид Ильич, в прошом году мы все убрали своевременно. И урожай был нормальный. И картофель уродил, и свекла, и кукуруза.
— Но был же мороз недавно! — повысил тягучий, скрипучий голос генсек. — Когда много картофеля, свеклы померзло в Беларуси.
— Это было в семьдесят шестом году. Стихия, такие ранние заморозки бывают у нас раз в сто лет.
— Смотрите, чтобы стихия не повторилась. Чтобы веники весной не вязали, как тогда…
Опять уел. Сколько уже вытерпел он подковырок, ехидных смешков кремлевских дедов: доруководился Машеров, вениками коров кормит, будто козлов. Петр Миронович отбивался фактами, цифрами. Не стерпел и тут:
— Леонид Ильич, веники помогли спасти коров на Полесье. Вы же знаете, какая была весна. Ни капли дождя за три месяца. Если б не нарубили зеленых веток, неивестно, что было бы…
— Коров лучше кормить сеном, свеклой. Тогда будет и молоко, и мясо, — скрипел тягучий голос генсека. — Скоро пленум ЦК. Готовьте выступление. Конкретное, деловое. Ну, не вас этому учить. А насчет уборки… Мобилизуйте людей. Повышайте ответственность кадров. Сами выезжайте на места. Это важный политический момент. Ну, успехов! До свидания!
Странное чувство овладело Машеровым. Почему же этот ничего не сказал о переводе в Москву? Неужели не знает о желании Косыгина? Знает! Может, и о звонке Косыгина в Минск ему уже доложили. Хитрый жук. Петр Миронович давно убедился, как не любит его генсек. Не может смириться с тем, что Машеров получил Звезду Героя в войну, а он стал трижды Героем, когда дорвался до власти, через много лет после войны. Машеров не мог разгадать тайну: почему посредственный руководитель, старый, дряхлый, так долго держится на плаву? Значит, это кому-то выгодно? Еще в январе 1976 года кремлевские медики еле вернули его к жизни после клинической смерти. Почему же он не попросился на покой? Куда смотрело Политбюро? Там же есть разумные, принципиальные люди. И он, Машеров, уже четырнадцать лет заседает там, хотя и в качестве кандидата в члены.
Вспомнилось недавнее торжественное заседание, посвященное 60-летию комсомола Беларуси. От имени его участников Брежневу было отправлено «пламенное комсомольское приветствие». Вынужден был хвалить генсека и Машеров в своей речи. Молодежь слушала Петра Мироновича, затаив дыхание, он говорил с особым воодушевлением.
— В монолитном сплочении комсомольских рядов вокруг родной ленинской партии, под ее мудрым, испытанным руководством — вперед к победе коммунизма! — по-молодому звонко произнес Машеров заключительные слова своего выступления.
Гром овации всколыхнул зал. Казалось бы, за столько лет можно уже привыкнуть к таким торжественным моментам, но нет, Петр Миронович разволновался, ощутил в душе необыкновенный подъем. А еще почувствовал себя счастливым руководителем: хорошая молодежь растет в Беларуси. Достойная смена отцам. В этом есть и его заслуга.
А вот кремлевские деды не ценят. Причину понимал: боятся конкурента, и в члены Политбюро не переводят столько лет, чтобы не появился еще один претендент на высокую должность. С Федором Кулаковым расправились: он всегда имел свое мнение, смело его высказывал, и здорового мужика, никогда не болевшего, нашли мертвым в ванной комнате. Команду молодых, которая привела Брежнева к власти, он потом разогнал: кого дипломатом в далекую страну, кого преждевременно на пенсию. Петр Миронович много знал о кремлевских играх от Кирилла Мазурова, которого тоже отправили на пенсию, хотя он почти на десять лет моложе Брежнева, имеет опыт, здоровье и светлую голову. Где совесть у «верного ленинца»? Сам уже еле ходит, без шпаргалки двух слов не свяжет, почти три пятилетки сидит в Кремле в качестве пенсионера, а в отставку отправляет молодых.
Выплыл из памяти уже далекий октябрь 1964-го. Пленум ЦК КПСС. Машеров предчувствовал, что назревают серьезные события. Кое-что рассказал по секрету Мазуров:
— Хрущев с Микояном отдыхают. А тем временем готовится пленум ЦК. И он может быть последним для Никиты, — сказал Кирилл Трофимович, когда ходили по лесу. — Хрущев сделал много доброго, но в последнее время превратился в гастролера. То за границу летает, то по стране шастает. Сталина обгадил, а свой культ создал за неполные десять лет. А какой культ! Идеологи подсчитали, что за девять месяцев этого года его портрет печатался в центральных газетах сто сорок раз. Даже портреты Иосифа Виссарионовича публиковались реже. А эти бесконечные реформы!
— Партию располовинил. На сельскую и городскую поделил, — поддержал разговор Машеров. — А Насера, египтянина, сделал Героем Советского Союза. Меня это оскорбило до глубины души.
— Да все фронтовики плюются. Что хочет, то и воротит. Недавно ездил в скандинавские страны. Взял с собой детей, внуков. Всего двенадцать человек. И за денежки налогоплательщиков. Короче, я не думаю, что ты будешь голосовать за него. Беседа строго между нами. Сам понимаешь, если не удастся его спихнуть, полетят головы…
Мазуров тоже не все знал. Говорил с ним на подмосковной даче Николай Миронов, заведующий отделом административных органов, куратор армии, силовых структур, прокуратуры. Разговор был неконкретный: мол, как вам нравятся пертурбации Хрущева, бесконечные поездки. Мазуров признался, что не в восторге от таких методов руководства, и обещал поддержку. Миронов закончил беседу почти такими же словами: это строго между нами.
А потом был пленум ЦК. Высокий, костлявый Суслов нацепил очки и уткнулся в доклад, с которым побоялся выступить Брежнев. Машеров уже знал, что на расширенном заседании президиума ЦК первым секретарем рекомендовали избрать Брежнева, Председателем Совета Министров Косыгина, что Хрущев сначала отвергал всяческую критику, отметал упреки соратников. Но из двадцати двух присутствующих в защиту выступил один Микоян. Никита Сергеевич понял, что его песенка спета, и на пленуме не проронил ни слова.
После перечисления грехов Хрущева Суслов сказал: судя по настроению зала, пленум одобряет решение Президиума ЦК, и нет необходимости открывать прения. Тут же подхватился Брежнев и предложил голосовать. В зале поднялся лес рук. Против не было никого.
Машеров посматривал на низко склоненную лобастую голову Никиты Сергеевича и невольно подумал: в душе низвергнутого лидера бушует буря, разливается море обиды — многие, кого он выдвигал, выводил в люди, голосовали против. А еще подумалось: одним может утешиться Хрущев — он сделал страну настолько демократической, а власть цивилизованной, что простым голосованием, без танков и крови его лишили всех постов.
Это был по сути государственный переворот. Но вскоре случилось событие, которое сильно взволновало Машерова, и особенно Мазурова: в авиакатастрофе погибли Николай Миронов и маршал Бирюзов — они летели в Югославию на празднование годовщины освобождения от немцев. Миронов воевал в этой стране.
— Ключевая фигура заговора против Хрущева. Выдающийся организатор, обаятельный, талантливый человек. Его ожидала должность секретаря ЦК, куратора всех силовых структур, члена президиума. Трагическая смерть. Случайность, а может, диверсия? Ушел из жизни человек, который очень много знал, который конспиративно подготовил пленум и привел Брежнева к власти… — вздыхал Мазуров.
— Кажется, они с Брежневым вместе работали в Днепропетровске? — спросил Машеров.
— Да. Миронов был лучшим другом Брежнева… Госкомиссия признала, что виноваты летчики. Военные пилоты первый раз летели по этому маршруту, делали разворот и врезались в гору.
Сильно взволновала Машерова неожиданная смерть Кулакова. Он хорошо знал Федора Давыдовича, искренне уважал его за принципиальность, смелость, неистребимый оптимизм. В начале 1978-го в коридорах Кремля Петр Миронович услышал от Мазурова:
— Брежнева сплавляем на пенсию. Первым будет Федор Кулаков.
Машеров воспрянул духом. Наконец, Леонид Ильич, который только
делает вид, что управляет страной, уйдет в небытие. И вот, ночью семнадцатого июля 1978 года Федор Кулаков скоропостижно умирает от сердечной недостаточности. И что особенно поразило Машерова: на похоронах члена Политбюро не было ни Брежнева, ни Косыгина, ни Суслова, ни Черненко, в скупом некрологе, опубликованном не на первой, а на второй странице «Правды», говорилось о смерти не выдающегося, как писали о членах Политбюро, а видного деятеля.
На похоронах с трибуны Мавзолея выступил Михаил Горбачев. Партийные функционеры поняли: Михаил Сергеевич займет кресло Кулакова — единственное, на которое мог претендовать, быть куратором сельского хозяйства.
Машеров знал его давно. В 1961 году оба были делегатами ХХГУ съезда КПСС. Знал, что тянули за уши Горбачева в Москву со Ставропольщины Кулаков и особенно — земляк Андропов. Именно между его покровителями вспыхнула беспощадная борьба за кремлевский трон. И кто бы из этих двух «красных петухов» ни победил, Горбачев все равно бы остался на коне. Неожиданная, загадочная смерть Кулакова помогла Горбачеву больше, чем его покровительство при жизни. А он, Федор Кулаков, которого Хрущев снял с должности министра хлебопродуктов и отправил на высылку в Ставропольский край, учил комсомольского лидера края Горбачева понимать жизнь, разгадывать политические интриги, уметь организовать массы на выполнение поставленных задач. Кулаков это умел делать. Он был второй ключевой фигурой заговора против Хрущева. Осенью 1964-го Кулаков принимал московских заговорщиков в своих владениях — в Тебердинском заповеднике около знаменитого озера Манычь. Гости не бродили с ружьями и стреляли только пробками из бутылок шампанского, которое лилось рекой. Именно в этой заповедной тиши, под брызги шампанского да и пития покрепче, были окончательно разработаны все детали кремлевского переворота.
Брежнев не забыл поддержку Кулакова и перевел его в Москву. И опекал до определенного времени, терпел смелость и принципиальность, пока не почувствовал угрозу: младший соратник может столкнуть его с высокого кресла.
Но не мог тогда знать Машеров об одной уникальной, исторической встрече на станции Минеральные Воды.
Эта встреча состоялась 19 сентября 1978 года. Был теплый, светлый вечер, когда ослабла дневная жара. Хотя и начинался на Кавказе бархатный сезон, днем солнце еще припекало сильно. На небольшой железнодорожной станции Минеральные Воды остановился поезд специального назначения. Эта остановка появилась в программе маршрута перед самым отправлением поезда из Москвы. Литерный состав направлялся в столицу Азербайджана Баку и вез генсека Брежнева, его помощника Черненко. На перроне Минеральных Вод их встречали всемогущий шеф КГБ Юрий Андропов, который любил отдыхать вблизи родных мест в санатории «Красные Камни», и партийный лидер Ставропольского края Михаил Горбачев. Андропов любил тишину и одиночество, круглые сутки держал связь с Москвой. К нему частенько наведывался Горбачев.
Встречи добился Андропов. Высокий, широкоплечий, в очках на крупном, выразительном лице, он с неожиданной легкостью метнулся к вагону, как только остановился поезд.
О, жажда власти! Ты сильнее всех человеческих страстей и желаний. Сильнее любви к женщине, любви к отцу и матери.
Ты, неутолимая жажда власти, поднимала сыновью руку на отца родного, заставляла брата идти войной на своего кровного брата. Жажда власти заливала кровью страны и континенты. Жажда власти объединяла самых разных людей — двуногих хищников — в один мощный альянс. Они сваливали короля или царя, президента или генсека, а потом грызлись снова, но уже между собой. И так ведется из века в век. И будет, наверное, всегда, пока будет на земле человек.
Так вот, именно жажда власти подгоняла Андропова к вагону Брежнева. За ним, будто тень, следовал Горбачев. С подножки пружинисто соскочил начальник охраны, вслед за ним медленно, тяжело, будто мех костей, внутренностей и жира, спустил свое старческое тело генсек. Подал твердую, холодноватую руку Андропову, тот потянулся с объятиями, тогда и Леонид Ильич трижды подставил свое лицо для угодливых поцелуев. Только густые кустистые брови напоминали о былой мужской красоте этого посредственного, но хитрого и коварного царедворца. Вслед за Брежневым ступил на перрон еще один кремлевский дед — Константин Устинович Черненко. Он был в длинноватом светло-сером плаще. Такой же плащ держал на руках. Черненко тяжело дышал, словно загнанный конь, было удивительно, что этот немощный старец довольно ловко накинул на плечи Брежнева плащ. Неутолимая жажда власти добавила прыти и ему.
— Леонид Ильич, уже вечер. Чтоб не просквозило…
Потом Черненко так же трижды, но с большим жаром, расцеловался с Андроповым — к шефу КГБ он относился с уважением, смешанным с чувством страха.
— Леонид Ильич, вы же знаете Михаила Сергеевича? — Андропов подтолкнул вперед местного партийного лидера.
— Знаю Михаила Сергеевича. Приятно, что у нас есть молодые партийные вожаки, — проскрипел Брежнев, трижды облобызал Горбачева. — Сколько вам, Михаил Сергеевич?
— Да уже сорок семь.
— Нам бы, Костя, такие годы, а? — засмеялся Брежнев. — Жаль, что молодость быстро проходит. Мелькнет, и нет ее. И не вернешь назад… Ну, а вам, Михаил Сергеевич, самое время переходить в Москву. Думаю, что этот вопрос мы решим на ближайшем пленуме.
Черненко кивнул в знак поддержки, сказал хриплым голосом:
— Кстати, Михаил Сергеевич, вы родились в тридцать первом, а я в том году вступил в партию. Ты говоришь, Леонид Ильич, про молодость. Так и вся жизнь пролетает быстро. Оглянуться не успеешь. Одного деда в Сибири спросили… Он прожил девяносто. Значит, у него спросили: надоело ли ему жить? Дед кряхтя, медленно подошел к двери, отдышался, отворил ее и закрыл. «Вот и моя жизнь. Как отворил и затворил дверь…»
— Мудро, Константин Устинович, — проскрипел генсек, шумно вздохнул, словно конь над желобом. — Твоя правда. Жизнь пролетает, будто курьерский поезд. Не успеешь оглянуться, как уже последняя станция. И старуха с косой: слезай, приехали…
Андропов согласно кивал головой, Горбачев улыбался.
Особенность этой встречи в том, что на тихой железнодорожной станции в тот вечер встретились четыре человека, которым довелось руководить могучей державой. Руководить поочередно — один за другим. Последний, самый молодой из четырех, исполнил роль ее могильщика. История распорядилась, чтоб он стал первым и последним президентом СССР.
Встреча продолжалась недолго. Андропов рассказал, как отдыхает, что чувствует себя намного лучше. Горбачев коротко доложил о делах в Ставрополье, об урожае, о завершении уборки. Брежнев слушал невнимательно, осматривался по сторонам, потом глянул на Черненко:
— Ну что, Устинович, пожалуй, надо ехать. Дорога неблизкая.
— Да, Леонид Ильич, едем, — Черненко махнул рукой начальнику охраны, мол, погоняй.
Прощались без поцелуев. Поезд тихо, осторожно тронулся, начал набирать скорость. Андропов и Горбачев еще долго стояли. О чем думал каждый из них? Андропов был доволен встречей: он сделал еще один шаг к заветному кабинету на Старой площади, в команде секретарей ЦК появится свой человек — Михаил Горбачев.
Доволен был встречей и вожак ставропольских коммунистов — впервые он обнимался с самим Генсеком! Он один, почти из двухсот региональных партийных лидеров, имел такую честь. Очень взволновали его слова о переходе в Москву — сладко затрепетало сердце. Вот он, миг, когда сбывается давняя мечта: взойти на политический олимп. Предчувствия его сбылись: вскоре на очередном пленуме его избрали секретарем Центрального Комитета КПСС — он был самым молодым среди своих одиннадцати коллег. А через год стал самым молодым кандидатом в члены Политбюро.
Да, о встрече на станции Минеральные Воды Машеров не знал, но о подковерной борьбе за власть, которая кипела за спиной Брежнева, имел представление. И вот теперь он может оказаться в самом эпицентре кремлевского сражения за власть.
Память вырвала из прошлого день в начале 1978 года: Брежнев вручал ему Золотую Звезду Героя Социалистического Труда. Генсек, тяжело ворочая непослушным языком, читал по бумажке:
— Дорогой Петр Миронович! Примите от меня лично и от всех членов Политбюро поздравления…
Потом дрожащей рукой прикрепил Звезду Героя на лацкан пиджака, широко развел руки — мол, иди в мои объятия. И Машеров пошел…
А как иначе? Петр Миронович был взволнован и обрадован, он понимал, — это награда не от Брежнева и его соратников-дедов, это признание советским народом его заслуг. Он, сын репрессированного крестьянина Мирона Васильевича и замученной карателями за связь с партизанами крестьянки Дарьи Петровны, не закостенел от злобы и ненависти, а с доброжелательной, обаятельной улыбкой работает ради счастья людей. Он имел право так думать о себе.
Назавтра после обеда, а точнее — в четырнадцать тридцать пять от массивного, величавого здания ЦК Компартии Беларуси на улице Карла Маркса, отъехала белая милицейская «Волга», за ней грузно выкатилась черная «Чайка».
Петр Миронович Машеров отправился в свою последнюю поездку.
Она стала поездкой в вечность.
IV
Гроб с телом Машерова был установлен в Доме правительства. На всей просторной площади перед громадным зданием стояли люди. День выдался серый, туманный, временами налетал холодный мелкий дождь и сеялся будто сквозь мелкое сито. Тогда над скорбным людским морем, словно серые, темные грибы, вырастали зонты. И среди них не было пестрых, красных, которые любят женщины, — только черные, траурные. И лица людей хмурые, глаза — красные от слез.
Люди заполняли площадь с раннего утра, хотя прощание с Машеровым начиналось в десять часов. Петро Моховиков и Ева приехали к восьми, заняли очередь. Постояли с полчаса. Народ все прибывал, как прибывает вода на песчаный берег во время прилива.
— Долго нам придется стоять. Петя, может, я съезжу на работу? А ты побудешь здесь, — сказала Ева.
— Мне тоже надо на студию. Вы нам очередь подержите? — Петро успел перекинуться словом с людьми, что стояли впереди. Приметил, в чем одеты, видимо, муж и жена, он в черной шляпе, длинном темно-синем плаще с поясом, она в серо-голубом берете и сером пальто, за стеклами очков красные от слез глаза. Пара согласилась.
Взявшись за руки, чтобы не потеряться в толпе, Ева и Петро начали пробиваться на проспект, но движение было перекрыто. Правда, тех, кто шел с площади, пропускали.
— Вот выберемся отсюда, а назад не пустят, — тревожилась Ева.
— Пустят. Не люблю показывать редакционное удостоверение, но если понадобится, покажу. Пропустят.
Условились, что Петр позвонит через полтора часа, но его вызвали в дирекцию программ, потом были другие неотложные дела, и только во второй половине дня они снова приехали на площадь, нашли свою очередь.
Было уже около семи вечера, когда Петро и Ева вошли в зал. Сразу бросился в глаза огромный портрет Машерова в траурном обрамлении, гроб на высоком постаменте, плотно уставленный со всех сторон венками, обложенный букетами, казалось, что холодное, мертвое тело, как магнит, притягивает цветы. В воздухе пахло увядшими цветами, людским потом и тем особым духом, который всегда парит над усопшим, независимо от его положения при жизни. Это был запах небытия.
Хотелось задержаться, постоять, помолчать, но очередь напирала сзади, милиционеры вежливо подгоняли:
— Пожалуйста, не задерживайтесь. Очередь большая…
Петро молча склонил голову, когда поравнялись с гробом, глаза увлажнились. Петра поразили седые волосы Машерова — видел его неделю назад на экране, волосы были темные. А на лице будто застыла гримаса страшной боли и глубокой обиды: «За что?» На фоне черных траурных лент на венках светились мягким красно-желтым блеском две золотые геройские Звезды и семь орденов Ленина.
Назавтра на траурной церемонии земляки стояли рядом: Андрей Сахута, Петро Моховиков и Николай Артемович Шандобыла, председатель райисполкома из Лобановки. Площадь снова заполнили десятки тысяч притихших людей.
— Так что все-таки произошло на дороге? — полушепотом спросил Николай Шандобыла у Андрея.
— Трагическая случайность. А как все было, неизвестно. Создана государственная комиссия, — так же тихо ответил Андрей.
— Комиссии создаются всегда. Только никогда не пишут об их выводах. Да и что толку от их работы? Человека не вернешь, — шумно вздохнул грузный широколицый мужчина.
— Здесь и без комиссии все ясно. Угробили человека, — решительно сказала пожилая женщина, которую под руку держала светловолосая девушка, видимо, дочь, очень похожая на мать, только немного выше ростом и стройнее. — За ним давно охотились. Несколько лет назад… Ну, когда Сурганов погиб… И этот генерал-летчик… Когда ехали из Бреста…
— Генерал-лейтенант Беда, — подсказал Сахута.
— Вот, вот. Беда. Тогда поменялись в дороге машины. В первой должен был ехать Машеров. Его б уже тогда не стало… Это был звонок. Сигнал беды… Не уберегли Петра Мироновича. Мой отец партизанил с ним. Машеров, ну, когда в комсомоле работал, отец был жив, приезжал к нам.
— Не уберегли, говорите. Думаете, его охраняли, как нужно? — будто спрашивал толстяк у женщины, а потом повернулся к Николаю Шандобыле, поинтересовался, кто он и откуда. Николай назвал свой район, Андрея и Петра выдал за своих коллег. Разговор стал более доверительным. — Почему вдруг бронированный «ЗИЛ» отправили в ремонт? Машеровский автомобиль протаранил бы этот самосвал с картошкой и отбросил в кювет.
— Этот же самосвал имел наряд возить свеклу. И вдруг его загрузили картошкой и отправили на шоссе. Это все вопросы к новому шефу КГБ. Из Москвы недавно прислали нового председателя КГБ, тот сразу заменил начальника охраны Машерова. А теперь говорят: Машеров сам виноват, ремнями не пристегивался, своего водителя-пенсионера заменить отказался… И вот финал, — сквозь слезы сказала партизанская дочь.
Андрей заметил, что к словам женщины прислушивались все вокруг, невольно подумал, как много люди уже знают об аварии. Женщина достала из кармана платочек, взялась вытирать мокрые глаза. Тем временем на специально возведенной большой трибуне появились руководители республики.
— А кто из Москвы? — громко спросила дочь партизана.
— Вон Кирилл Мазуров, — ответил толстяк.
— Мазуров уже не начальник. Его съели и выплюнули, — категорично молвила женщина.
— Верно говорит дочь партизана, — шепнул Николай. — Ну, и кто будет говорить первым?
Андрей молчал, потому подал голос Петро.
— Может, Аксенов? А может, Бровиков? Второй секретарь.
— Наверное, кто-то из них. Скорее всего, Бровиков. В Москве работал в ЦК. Толковый мужик, — рассуждал Андрей.
— А кто есть из Политбюро? У вас глаза моложе, лучше видите, — повернулась к Андрею дочь партизана.
— Официально от ЦК Зимянин, — об этом Андрей услышал от первого секретаря райкома, когда виделся с ним утром.
— Михаил Васильевич — наш земляк. Кажется, в Могилеве институт кончал, — показал свою осведомленность Николай Шандобыла.
Между тем траурный митинг начался. Над площадью покатился хрипловатый голос, усиленный громкоговорителями.
— А кто открывает? Вроде голос Полякова, — вслушивалась женщина.
— Он. Иван Евтеевич, — подтвердил толстяк.
— А может, он будет первым? — шепнул Петро Николаю.
Тот ничего не успел ответить, как дочь партизана авторитетно сказала:
— Стар. Ему уже поздно. Под семьдесят подбирается. Мне вручал недавно грамоту Верховного Совета. Лицо у него… Я просто удивилась. Гладенькое, как яичко, ни одной морщинки. Вот умеет жить человек. Но первым он не будет. Ему уже только награды вручать…
— Почему? — резко повернулся к ней толстяк. — Моложе Брежнева на пять лет. Опыт имеет. Здоровьем Бог не обидел.
А с трибуны уже говорил Зимянин. Он был почти на голову ниже соседей, стоявших рядом, говорил о великой потере, о заслугах Машерова.
Затем слово дали Владимиру Бровикову.
— У всех нас большое, неизмеримое горе. Погиб Петр Миронович Машеров. Трагический случай оборвал жизнь великого, редкого по уму, таланту, душевному обаянию человека…
Последним получил слово Председатель Совета Министров Беларуси Александр Аксенов:
— Такие былинные люди, как Петр Миронович Машеров, не уходят навсегда. Они остаются в строю весомыми плодами своего труда… Мы склоняем свои головы перед прахом нашего бесконечно дорогого друга Петра Мироновича Машерова… Вечная и благодарная память тебе! Прощай, наш дорогой Петр Миронович!
…Андрей, Петро и Николай Артемович, промерзшие, изголодавшиеся, с тяжелым настроем приехали в Зеленый Луг. Ева ждала их, наварила картофеля, приготовила голубцы, разных салатов.
— Друзья мои, не усложняйте жизнь. Ни пить, ни есть не хочется, — вздохнул Андрей, видя, как хозяева накрывают на стол, Петро, как челнок, носит и носит тарелки из кухни.
— Помянуть усопшего надо. Это святое дело, — Петро наполнил чарки.
— Ну, пухом земля, — коротко выдохнул Николай Артемович.
Молча выпили стоя. Сидели, почти не закусывали.
— Андрей Матвеевич, Николай Артемович, вы обижаете хозяйку. Ешьте что-нибудь. Я старалась. А его уже не поднимешь. Жизнь продолжается, — Ева подкладывала на тарелки салат, голубцы, картофель. — Угощайтесь. Целый день голодные. Петя, наливай! Три чарки полагается. А мне каплю вина…
Мужчины пили, молча закусывали. Наслушались всего за день, надо обдумать услышанное и увиденное. Зато Ева не умолкала:
— На работе у нас говорят, что авария организованная. Ну, спланированная диверсия. Вы что-нибудь слышали там, на похоронах? — выспрашивала Ева. — Андрей, ну ты же возле высокого начальства ходишь. Какое твое мнение?
— Понимаешь, Ева, говорят много чего. А где правда? Где доказательства? — Андрей глянул на Петра, будто ждал доказательств от него, тележурналиста. — Подождем выводов госкомиссии. Задержан водитель самосвала, который вез картофель. Будет следствие. Кое-что прояснится.
— Мужчины, слишком серьезная у вас беседа. Петро, налей. Все стоит на столе, — сокрушалась Ева.
— Жена, не форсируй, — улыбнулся Петро. Он был доволен, что у него собрались земляки, интересные, видные люди. В душе гордился, что и он не последний человек на телевидении, имеет хорошую квартиру, гостеприимную жену, хорошую хозяйку.
— Теперь часто можно услышать: коммунизм — это как горизонт. Ты идешь, а он отдаляется и отдаляется, — начал Петро, но его перебил Николай:
— Так мы же не шли, а бежали. Догоняли Америку. Не догнали, махнули рукой. Как тот певень за курицей. Летел и думал: не догоню, так хоть согреюсь.
— Среди кремлевских пенсионеров есть и разумные люди. Косыгин — толковый мужик. Андрей, это правда, что Машерова планировали на его место? — спросил Николай.
— Ходили слухи. Дыма без огня не бывает. В обкоме мне об этом говорили. Видимо, действительно планировали. И вот чем кончилось, — тяжело вздохнул Андрей.
— А мне кажется, ничего революционного он бы не сделал. Во-первых, Брежнев и компания не дали бы. А во-вторых, Машеров сам — дитя этой системы. Она его родила, вознесла на высоту. Он отдал ей все что мог. Как ни крути, пенсионер уже.
— Не скажи, Микола. Он еще не старый был, — возразил Андрей. — Опыт, мудрость, человечность, авторитет — все у него было. Он бы мог еще много чего сделать…
— Вот своим авторитетом он поддержал дурацкую, вредную идею неперспективных деревень. Загубили все малые поселения. Разве может быть неперспективной хоть одна человеческая жизнь? А тут целые деревни забросили, — доносил свою обиду человек из глубинки.
К голосам мужчин все больше прислушивалась Ева, но сама в разговор не вступала. Ей казалось, гость Николай Артемович говорит правду.
Она была на его стороне.
— Не все зависело от него. Москва диктовала, — защищал своего кумира Андрей Сахута.
— Правильно, диктовала. Но Машеров любил подхватывать московские идеи раньше других. А разве не дурацкая идея слияния языков? Он подхватил ее с лету, — взволнованно начал Петро. — И вот результат. В столице Беларуси нет ни одной белорусской школы. А может, в твоем районе есть? Скажи, если так.
Сахута молча пил минеральную воду и не торопился с ответом, да и нечем ему было крыть. После короткой паузы Петро продолжал:
— А вот скажите мне, почему все пленумы, партактивы проводятся на русском языке? Ведь мы живем в Беларуси?
— Ну, рабочий язык партии — русский. Все к этому привыкли. У нас живут люди других национальностей. Так удобнее, — без тени сомнения в своей правоте ответил Сахута.
— Нет, Андрей, я с тобой не согласен. Кому удобнее? Инструктору ЦК КПСС или инспектору, как они там зовутся? Разным идеологическим проверяльщикам? Да, им удобнее. Но почему мы топчем все свое, родное? Почему не учимся у соседей — литовцев, украинцев? И сам Машеров не пользовался роднай мовай. Только на съездах писателей говорил по-белорусски. Читал написанное помощниками, — горячился Петро.
— Нет, братцы, это не только его вина. Не с него началось, — Николай Артемович отпил глоток из чарки, поморщился. — Как-то после баньки Долгалев рассказывал. Значит, вернулся из Минска Антон Прокопенко, он тогда был первым и ездил на пленум. Это было в июне пятьдесят третьего. И говорит: «Браткі, вучым родную мову. На пленуме даклад рабіў Зімянін па-беларуску. А яго прыслалі з Масквы. Значыць, такая ўстаноўка партыі». На пленуме райкома он выступает с докладом по-белорусски, выступающие тоже вспомнили родную мову, кто говорил правильно, кто на трасянцы. Наш учитель Мамута интересно выступил. А через месяц в Минске новый пленум. Тогда арестовали Берию, в Минске сняли его ставленника Цанаву. Вернулся домой Прокопенко и украдкой говорит Долгалеву: на этом пленуме все опять выступали на русском. Такая установка Москвы. Мол, Берия хотел поссорить советские республики. А какая может быть ссора, если каждый народ будет беречь свой язык, уважать историю?
— Тогда он будет народом, а не толпой, просто — населением, — подхватил Петро. — Я недавно прочитал письмо Якуба Коласа в ЦК партии. Перед смертью, в пятьдесят шестом году. Один историк дал почитать по секрету. Чего мы все боимся? Боимся любить Беларусь. Хотя, конечно, страх внушили давно. Якуб Колас пишет: в определенный период времени интеллигенты боялись «абазвацца па-беларуску», сразу могли пришить ярлык националиста.
— И пришивали! Еще сколько! — не утерпел Николай Шандобыла.
— Да, жуткое было время. Угробили больше ста писателей, ученых. Молодых, талантливых. В самом расцвете. И за что? За то, что любили Беларусь. Якуб Колас утверждал: если руководители заговорят по-белорусски, то и народ зауважает свой язык. В письме много других разумных предложений. Ответа он не получил.
Петро разволновался. Ева подошла, обняла его за плечи. Петру хотелось сказать и про телевидение, как трудно, неохотно учится оно работать на родном языке, но заметил, что Микола Шандобыла взглянул на часы: ждет звонка водителя, значит, не время начинать дискуссию. Но как раз Микола и подлил масла в огонь.
— Хотя о покойниках плохо не говорят, но должен признать: нахомутал Машеров немало. Возьмите мелиорацию. А гигантские животноводческие комплексы. Огромный вред природе! Никто этого не считал. И вред будет увеличиваться. Как снежный ком.
— Николай Артемович, не могу согласиться с этим. Мелиорация дала нам и хлеб, и мясо, и молоко. Как люди говорят: и чарку, и шкварку. Болота надо было осушать! — возразил Сахута.
— Да, надо, но не так. Не все без разбору. Некогда наши потомки оценят Машерова более объективно. Наливай, Петро, помянем еще раз.
— И все-таки у меня свое мнение. Конечно, не надо делать из Машерова икону. Но человек самоотверженно работал. Честно, добросовестно. Народ его любит. Мы это видели сегодня, — не мог успокоиться Сахута.
— Согласен. Вот и помянем еще раз. Пусть ему земля будет пухом…
Грузноватый Николай Шандобыла тяжело поднялся, встали Андрей и
Петро, стоя, не чокаясь, выпили. Над столом, будто огромный зонт, нависла гнетущая тишина.
Когда поженились, Ева не очень любила Петра. Понимала, он одинок, и она растит дитя одна. Видела его с Лидой. Однажды увидела на экране, сначала не узнала, но голос показался знакомым, присмотрелась — так это же человек из соседнего общежития, который с ней здоровается. Аккуратно причесан, модный галстук, говорил так складно, спокойно, смотрел с экрана открыто, ясно, будто видит Еву и говорит эти слова только ей. Очень впечатлила ее телепередача. При встрече она поздоровалась первой, сказала, что смотрела передачу, которая ей понравилась
— А когда еще можно будет увидеть вас на экране?
— Когда? Я вам скажу. Кстати, как вас зовут?
— Меня зовут Ева.
— Ого, первая женщина. Родоначальница человечества. Жаль, что я не Адам, а — Петро. Апостол Петр.
— Очень хорошее имя. Петр — это значит твердый или камень?
— Да, есть такое определение. А где же ваш сын?
— Отвезла к бабушке. На днях и сама туда поеду. А мужа нет. Погиб в автоаварии.
Ева приметила, как тень сочувствия мелькнула в его глазах, которые только что смотрели весело, озорно. И это движение души сказало ей больше слов сочувствия. И у нее зародилось желание познакомиться с Петром поближе.
— Извините за любопытство, почему вы живете в общежитии? Неужто телевидение не может обеспечить вас квартирой? На вас смотрит вся Беларусь. Ну, никак не верится. Неужели наша республика такая бедная?
— Видите ли, Ева, все не так просто. В первую очередь надо обеспечить семейных, с малыми детьми. А я вольный казак.
— Так и я вольная казачка. Если есть время и желание, может, зайдем ко мне? А то стоим на улице, как бездомные.
Петро спросил номер ее комнаты и пообещал через полчаса зайти.
И он пришел с шампанским, с цветами. С этого все и началось… Ева долго и осторожно, бережно растила росток новой любви. Первое время невольно сравнивала Петра со своим первым мужем, и это сравнение было не в пользу Петра. И только после рождения дочурки она увидела нового мужа другим человеком. И у нее проснулась любовь, которая затмила прежнее чувство. И эта любовь не слабела, а наоборот, крепла с каждым вместе прожитым годом. А когда Петра назначили главным редактором, она стала еще крепче любить и уважать его. Поначалу думала: неудавшийся летчик, неудачник-муж, которому изменяла жена, неудачник-агроном, малоизвестный журналист. А как почитала письма телезрителей после его передач, увидела, с какой страстью, ответственностью он относится к своей работе, убедилась: Петр нашел себя, создал новую семью, любит и Костика, и родную кровинку-дочурку.
Через полчаса Петро и Ева провожали своих гостей. Николай поцеловал Еве руку, но этого ему показалось мало — чмокнул в щечку.
— Большое вам спасибо. После такого дня… После ужасного события. У вас воспрянул духом. И наговорился с земляками, — он обнял Петра, трижды расцеловались. — Приезжайте в Хатыничи. Через месяц Иван Сыродоев празднует юбилей. Пятьдесят пять годков. Две пятерки. Дата красивая. Полсотню не отмечал. Тогда как раз умерла Вулька, его мать. А мне она была теща. Моя жена — Иванова сестра, — пояснил для Евы. — У него день рождения пятого ноября. Перенесем на шестое или седьмое. От его имени приглашаю вас, приезжайте с женами. Восьмого в Саковичах кирмаш. Ну, ярмарка. Дмитриев день. Вспомним детство. Медку душистого купите. На память о Беседи, о прибеседских цветущих лугах.
— Очень заманчиво. Давай съездим, Петя, — загорелась Ева.
— Да, действительно, заманчиво. Но, боюсь, не удастся, — вздохнул Сахута. — Демонстрация, торжества. Может, к восьмому и вырвусь. На кирмаш могу успеть.
— А мы будем планировать. Матка давно ждет. Одна теперь… Надо съездить, — решительно сказал Петр.
Гости и хозяева спустились на лифте вниз. «Волга» тихо урчала у подъезда, светились, будто алые маки, габаритные огни. Обнялись еще раз. Микола сел рядом с Андреем на заднее сиденье, и машина покатила в темноту ночи.
Петру хотелось побыть во дворе, подышать свежим воздухом, пожалел, что не набросил на плечи пальто. Ева потянула за руку:
— Пошли домой. Поздно уже, да и холодно. Можно простудиться.
Вдвоем они быстро убрали все со стола.
— Посуду ставь в раковину. Завтра помою. Уморилась за день. Хочется лечь.
А в постели Ева сразу потянулась к мужу. Начала нежно, осторожно целовать, словно на поцелуи и объятия покрепче у нее не было сил.
— Ты ж сказала, что уморилась. Будем спать, — отвернулся муж.
— Ай, Петя, жизнь такая короткая… Один Бог знает, что будет завтра. А милого целовать — это не камни таскать.
А за этими словами послышалось: вон какие люди гибнут, а мы пока живые, еще не старые, еще хочется ласки и нежности. Петро не мог это не почувствовать, да и нечасто в последнее время жена начинала ласки в постели. Он обнял Еву покрепче и начал целовать горячо, жадно, будто в последний раз.
V
В тот день Иван Сыродоев возвращался домой в хорошем расположении духа. Хотя на дворе был уже конец октября, днем еще было тепло: после дождей, туманов небо высветлилось, прояснилось, выглянуло низкое осеннее солнце.
В природе все мудро устроено: осенью всякая живность готовится к холодной зиме. Птицы, которым не прожить без комаров, мух, ягод и зеленой травы, улетают в теплые края — по-белорусски: у вырай. А те, что остаются, набираются сил, запасаются жирком. Так себя ведут лошади, коровы и особенно свиньи. И люди это знают издавна. Иван Сыродоев в этом убедился, когда заведовал фермой, а еще раньше ему говорила мать, малограмотная Вулька:
— Сынок, летом сколько ни давай кабану муки, сала на им не нарастеть. А увосень — и кабан поросен. Все есть, толстееть на глазах. Сало нарастаеть…
Готовится к зиме и человек, даже сам того не зная, не примечая и не думая о зиме. Просто больше хочется есть, подольше поспать.
Этой осенью Иван чувствовал себя как-то иначе, спокойно думал о своей жизни, не суетился и не волновался, когда вдруг звонило из района начальство. Первого секретаря райкома Рудака он не любил, хотя по привычке побаивался. В душе он рассуждал так: я председатель сельсовета, мой непосредственный начальник — председатель райисполкома, а он мой земляк, да еще и родич. И в председательское кресло усадил меня он, Николай Артемович Шандобыла. Значит, все нормалево, живи и радуйся.
Сильно взволновала Ивана смерть Машерова. Ни разу не пришлось встретиться с ним, но его выступления читал внимательно, любил послушать по радио и всегда думал: вот дает под хвост бюрократам, ворюгам, нерадивым начальникам. Разное говорили люди про обстоятельства смерти Машерова, Иван не сомневался: авария не случайная. Был человек, деятель, известный всему миру, и нет его… Вот и ему, Ивану, скоро пятьдесят пять. Две пятерки. Можно сказать, круглый отличник. Это еще немного, до пенсии целая пятилетка, но иногда наваливалась, как медведь, усталость, ночью болели ноги, особенно перед сменой фазы Луны, переменой погоды. Оно и не диво. Сколько походил Иван за свою жизнь! Когда началась война, все хозяйственные заботы легли на его неокрепшие плечи: косил, пахал землю, ночью пас коней.
Вспомнился летний день сорок третьего. Иван нагрузил большой воз сена, увязал его как следует, ехал домой. И тут его догнали партизаны: пятеро всадников. Молодой, усатый отматерил Ивана: почему не остановился сразу, когда скомандовали «Стой!», спросили, где живет полицай Воронин. Партизаны ранили тогда полицейского. Через несколько дней он пришел к Сыродоевым вместе со старостой, поставил Ивана к стене: «Ах ты, гад печеный! Навел на меня бандитов из леса…» И уже снял с плеч винтовку, но тут из хаты, словно квоктуха-наседка, вылетела Вулька — заслонила Ивана. Заступился и староста Куцай-Гарнец. Остался Иван жить, но спина болела долго: полицай сильно толкнул его, и он ударился об угол.
С Володькой Бравусовым, тем молодым усатым партизаном, будут вместе работать после войны в сельсовете: Иван — финансовым агентом, а Бравусов — участковым инспектором милиции. А через много лет станут сватами.
Все это будет потом. А осенью сорок третьего Ивана взяли на фронт. И ранения, и контузию — все изведал юноша. Выжил, руки-ноги целы — сам удивлялся, что остался жить. Столько людей полегло на его глазах, потому и не верилось, что жив-здоров. Вернулся домой, избы нет, есть нечего, одежды нет. Долго ходил Иван в солдатской шинельке и галифе, пока не выдали ему, финагенту Сыродоеву, форму, темно-зеленую, с петлицами, блестящими пуговицами, фуражкой с кокардой. Правда, Ольга любила его и крепко обнимала, не обращая внимания на залатанные на коленях галифе. Но любовь любовью, а она, Ольга, уже растила сына-байстрюка от Тимоха однорукого, тот после войны всех девчат в Хатыничах перещупал, всех, чьи кавалеры не вернулись с фронта. Да и старше его Ольга на два года. Мать очень невзлюбила сынову присуху, ворчала: сучка эта зачаровала сына. Пришлось Ивану пересилить свою грешную любовь, загнать поглубже в сердце и жениться на молодой дивчине Вале, племяннице председателя сельсовета Свидерского. Пожалуй, больше всех радовалась старая Вулька: сын взял в жены честную дивчину, а не подстилку чужую, и председатель сельсовета теперь станет родичем. Будет содействовать Ивану по службе. Так оно и вышло. Валентина оказалась такой ласковой, заботливой женой, аккуратной хозяйкой и нежной матерью детей, что тропу к Ольгиной избе Иван вскоре начисто забыл.
И вот уже тридцать лет прожил он с Валентиной. Она теперь заведует фермой, а раньше работала свинаркой, дояркой, телятницей. А теперь начали болеть руки, пальцы выкручивала болезнь.
Иван Сыродоев считал себя счастливым человеком. Выжил на такой кровавой войне. Любил Ольгу, и она любила его, но семью создал с Валентиной, и живут в любви и согласии, вырастили детей, дождались внуков. Сын Николай окончил машиностроительный институт, работает на заводе в Могилеве заместителем начальника цеха, хоть совсем еще молодой. Растет у него дочурка Анжела, недавно она пошла в первый класс, именно она присвоила Ивану Егоровичу почетное звание Дедушки. Какое приятное жизненное звание!
Радует деда Ивана и внук Володька, которого родила Катя три года назад. Катя довольно долго не выходила замуж, мать уже стала беспокоиться, иногда корила дочь:
— Дочушка, сычас войны нема. Хлопцев хватает… Ета ж вон Сахутова Марина осталась девкой-вековухой, так ее ж ухажор паклав голову на войне. А ты якога принца ждешь?
— Мама, я не могу выходить замуж лишь бы за кого. Лучше вековать в девках, чем жить с пьянтосом.
Катя окончила педучилище, работала в Хатыничах в начальных классах. Мужчин в школе два человека: директор Мамута да физрук, тоже давно женатый. Да и не было времени ходить на танцы: проверяла тетради, писала планы, контрольные работы — заочно училась на филфаке университета. И все ж дождалась Катя своего счастья. На августовской конференции педагогов познакомилась с Владимиром Бравусовым, сыном участкового милиционера. Ехали вместе домой. Владимир Владимирович работал завучем в Белогорской школе, перевели его сюда недавно, жених был уже зрелый: жизненный век приближался к тридцати годам.
После знакомства молодой Бравусов частенько седлал свой мотоцикл и катил в Хатыничи. Пять верст — неблизкая дорога, если шагать пешком, а на мотоцикле — не успеешь оглянуться, колеса уже стучат по бревнам моста через Шамовский ручей. Володька усаживал на заднее сиденье Катю и сразу на выгон, в поле. На горе Маяк они поворачивали в сторону Кондрашей — круглой болотины, заросшей орешником, лозовыми и ольховыми кустами. А еще были там заросли ежевики, крупные темно-шоколадные ягоды ее необыкновенно вкусные. Конечно, молодые смаковали там не только ежевику, потому что кончились эти поездки веселой свадьбой. Пожалуй, не меньше молодых радовались этому событию родители, особенно бывший финагент и бывший участковый — закадычные друзья. Когда Катя родила сына, она сказала отцу:
— Володя хочет назвать сына Вовой. Мол, пусть будет Владимир Владимирович. А я ему в ответ: а Иван Владимирович разве плохо? У него два дедушки: Иван и Владимир… Нахмурился и ничего не сказал.
— Пусть будет Вова. Если б дочь народилась, хвактически, твой голос решающий. Ну, а сын… Пусть отец решает. Не возражай. Сама предложи такой вариант. Зачем усложнять жизнь? Она и так сложная.
Кате понравился совет отца: она так и предложила мужу. Тот обнял ее, поцеловал. А молодая мама в душе поблагодарила отца, что не стал упрямиться, качать свои дедовские права.
А бывший финагент Сыродоев часто вспоминал своего прежнего начальника — председателя сельсовета Свидерского, его беспощадность и бескомпромиссность. Свидерский всегда стремился отрапортовать о выполнении плана поставок первым, выслужиться любой ценой. Как люди возненавидели его! После смерти Сталина перестали бояться и говорили в лицо. Ему грозил суд за рукоприкладство, начальство то ли не захотело, то ли побоялось защитить верного служаку. Доведенный до отчаяния, Свидерский зарубил топором жену, а сам повесился. Осталось шестеро детей — круглых сирот. «Ему исполнилось бы нынче семьдесят. Еще мог бы, хвактически, жить. Внучатам радоваться». Старшая дочь Свидерского Тоня жила в Партюковке в отцовской хате. Растила троих детей. Изредка летом приезжали другие дети Свидерского, но надолго никогда не задерживались: побудут два-три дня и покатили назад.
После снижения налогов, а потом и отмены их, остался Сыродоев без работы. Специального образования не имел — только семь классов, рядовым полеводом быть не захотел, да и отвык от работы — дома по хозяйству кое-что делал, а в поле надо вкалывать каждый день. Пошел на ферму подвозчиком кормов, одно лето был пастухом. А потом с помощью Долгалева назначили его заведующим фермой. Руководить ему понравилось. Правда, жена, работавшая дояркой, иногда упрекала за его начальнический тон.
— Дисциплинку надо держать. Дай вам волю, так голодные и недоенные будут коровы, — не соглашался он.
Но особенно ему понравилось быть председателем сельсовета: за надои, привесы никто не ругает, страховка, другие налоги невысокие, люди платили аккуратно, секретарь выписывала квитанции, выдавала справки, сама ставила печать, он только подписывал. Так и дожил Сыродоев до пятерочного юбилея. Отметить его хотелось на отлично, неизвестно, придется ли ему, бывшему фронтовику, праздновать круглые даты.
В деревне раньше дни рождения не отмечали, может, потому что семьи были большие, детей много, делать подарки, устраивать застолье было не за что. С детства он помнил два праздника — Великдень — Пасха и Радуница. Новый год почти не отмечали, елку не ставили, Октябрьские праздники семейными не были: их праздновали по команде сверху, особенно круглые даты — тридцатилетие, сорокалетие. Но недавний 60-летний юбилей революции отмечали в деревне без прежнего веселья, может, потому, что мало молодежи осталось в Хатыничах, а пьют сельчане в любой день, когда есть свое зелье или есть за что отовариться в магазине.
Иван Сыродоев ждал своего юбилея с особым волнением еще и потому, что земляк, председатель райисполкома Микола Шандобыла обещался быть не только сам, но и пригласил гостей из Минска — Андрея Сахуту и Петра Моховикова. Вот если приедут, будет почет и радость бывшему финагенту. Помнит их босоногими сопливыми мальчишками, Андрейке он привез коньки-снегурки из Германии. А теперь он большой начальник в Минске — руководит исполнительной властью одного из районов столицы. Это тебе не сельский совет, другой масштаб. А лесников Петька часто выступает с экрана телевизора, его видит вся Беларусь. Вот тебе и хатыничский парнишка!
Наконец, наступил знаменательный день. Если честно, то юбилей Иван перенес с пятого ноября на седьмое — выходной, праздничный день, а назавтра, восьмого, можно похмелиться, съездить на ярмарку-кирмаш в Саковичи. Зарезал Иван теленка, в колхозе выписал по себестоимости десять килограммов свинины. Валя сварила холодец, хатыньчане это блюдо ласково называют сцюдзень. Считается оно наилучшей закуской после рюмки водки.
Застолье получилось на славу, гостей полная хата. Юбиляр, взволнованный, раскрасневшийся, в новом костюме — темно-синем, в полоску, который делал его еще стройнее, выше ростом и моложе. Правда, русые кудри его заметно поредели, а на макушке просвечивала круглая плешь, которую Иван всячески маскировал: что поделаешь, как-никак уже дважды дед. Этим званием он очень гордился: не каждый дважды Герой так гордился своими звездами, как Иван внучатами. Понимал — это продолжение жизни.
Среди гостей выделялся Бравусов, хотя и был в гражданской одежде, без блестящих погон на плечах, но хатыньчане по-прежнему его побаивались, будто не могли поверить, что он уже не милицейский начальник, не имеет право составить акт, влепить штраф. Бравусовы приехали на «Москвиче», за рулем был сын Володька, законный зять Сыродоева, приехала Катя с малым сыном на руках, тоже Володей. Вообще, приехали сразу три Владимира: дед, сын и внук.
Чутким, хотя уже и немолодым ухом юбиляр прислушивался: не загудит ли машина — ждал гостей из района, а с ними, может, будет кто и из столицы. На дворе похолодало, в воздухе, словно белые мухи, кружились снежинки, но юбиляру было жарко, он частенько выглядывал на улицу, всматривался на дорогу с Шамовской стороны, но желанной машины не было. А гости тем временем глотали слюнки — таким аппетитным ароматом дышали колбасы, пальцем пханые, заманчиво подрагивал холодец, просилась в рот капуста с клюквой и тмином. Родичи собрались все, пришел председатель колхоза Данила Баханьков с женой. Можно б и начинать трапезу, но юбиляр команду не подавал.
— Что ты мучаешь людей? Пусть бы садились за стол. Приедут, так место найдется, — сердилась Валентина, но Иван не отступал.
— Целы будут. С голоду не умрут. Пять минут еще подождем, — и опять шагал на улицу. А за ним топал хромовыми сапогами со сбитыми каблуками сват Бравусов:
— Егорович, хвактически, можно начинать. Приглашал на два часа, а уже скоро три. Етот, как его?.. Кворум есть.
Пожалуй, под «етым кворумом» он имел в виду себя и своего сына — завуча школы и зятя юбиляра. Иван глянул на свои часы, будто не поверил словам Бравусова, убедился: стрелки показывали без четверти три.
— Пошли, Устинович. Будешь начинать. Опыт у тебя есть. Поруководи за столом, — сказал Иван, и это было не поручение, а просьба.
Бравусову это польстило, и он решительно взялся за дело, вместе с хозяйкой рассадил гостей, дал слово для поздравления председателю колхоза Даниле Баханькову. Тот не успел сказать и несколько слов, как на улице загудела машина. Сыродоев встрепенулся, но он сидел в центре стола, выбраться непросто, и все же, когда увидел на пороге земляка-начальника Миколу Шандобылу, а за ним односельчанина из Минска Петра Моховикова, ринулся им навстречу. За молодыми гостями неторопливо шел с кием Михаил Долгалев. Он нарочно сильнее хромал, чтобы показать всем: не заходит первым только потому, что медленно шагает.
Бравусов с Валентиной приставили дополнительные табуреты — надо было втиснуть четырех человек: Петро приехал с женой. Соседям пришлось потесниться, а Нина, Данилова жена, поднялась со своего места. Она увидела Петра и поняла, что ему захочется сесть с другом детства, потому что не виделись они давно. Хозяйка взялась ее уговаривать занять свое место, однако Нина отказалась:
— От, не переживай. Пусть гости дальние усаживаются. А мы свои, я во тут присяду. Не бойся, Егорович, мимо рта чарку не пронесу, — успокоила она и юбиляра.
А тот сердито глянул на Бравусова, мол, я ж говорил пять минут подождать. Наконец, и гости дорогие аккурат подъехали.
— Прошу налить чарки, — исполнял свою роль Бравусов. — Слово уже было дано Даниле Ахремовичу, нашему председателю. А после, хвактически, всем дадим сказать…
— Ты ж по вочереди давай. Ти кали кто руку падниметь, як у школе, — воткнула свои три грошики старая Параска, Данилова мать.
Она была очень довольна, что приехали начальники из района, из Минска, но первым будет говорить ее сын, безбатькович, которого она, малограмотная Параска, вырастила, выучила и теперь он самый главный в Хатыничах.
— Хорошо, тетка Параска. Хвактически, учтем вашу пропозицию, — козырнул ученым словцом тамада.
Микола подмигнул Петру: мотай на ус, какие наши земляки.
— Дорогой дядька Иван! Про тебя, про твою нелегкую и непростую жизнь можно говорить долго. Но я не буду ето делать. Потому что все мы тебя хорошо знаем. Помним, как пришел с фронта. Как долго ходил в шинельке, другой одежды не было. Как работал финагентом, работал честно, ни разу деньги не пропил, сумку не потерял. Потом заведовал фермой, вывел ее в передовые. Теперь возглавляешь советскую власть в нашей округе. Людей уважаешь, заботишься о них. И семьей, детьми, внуками можешь гордиться. И женой своей. Какая она хозяйка — этот стол говорит лучше всяких слов, — все снова жадно посмотрели на богатый стол, но терпеливо слушали: председатель колхоза — первый человек в деревне. — Короче говоря… — Данила и сам понял, чего ждут гости. — За твои пятьдесят пять, дорогой Иван Егорович. Ты сянни — круглый выдатник. Желаю прожить еще столько!
— Большое спасибо, Данила! Аж слезу выдавили твои слова. Твои пожелания. — начал юбиляр, но жена толкнула в бок: «Помолчи, дай людям хоть горло промочить».
Застолье загудело, зазвенели бокалы, рюмки. Голоса густели, зато бутылки и тарелки пустели, на отдельном столике росло количество подарков, конверты с деньгами. Ева вначале чувствовала себя скованно: вокруг незнакомые люди, тесно, шумно. А Петро словно расцвел, все тянулись чокнуться с ним:
— Петрок Захарович, ты наша знаменитость. Вся Беларусь на тебя смотрит. Дай Боже тебе здоровьечка, — слышались голоса со всех сторон.
Конечно, чокались и с Евой. Она пригубливала чарку и ставила на стол. Это заприметила хозяйка Валентина.
— Дорогая гостейка, что ета ты гребуешь нашей горелицей? Она ж приятная, мягкая. Выпейте с дороги. Так и закусь будет вкуснее. Давайте за знакомство…
— Все и так вкусно. Спасибо вам. Не обращайте на меня внимания. Хотя за знакомство можно выпить.
— Обязательно! — поддержал Петро. — А то юбиляр обидится.
— А почему мы одни? Наливайте все. Тогда разом с народом и мы, — весело ответила Ева.
Бравусов оценил ситуацию: значит, пришло время дать слово минскому гостю, районное начальство уже высказалось.
— Тише, людцы добрые! Наливайте стыканы. Сычас будет говорить наш земляк Петро Захарович. А то мы слышим и видим его в телевизоре. С экрана он, хвактически, говорит на всю Беларусь. А тут он скажеть тольки для нас. Кали ласка, Петро, даю табе слово, — объявил Бравусов.
Распаренный от волнения и водки, тамада уже снял пиджак и галстук, остался в голубой, изрядно полинявшей форменной рубашке, на плечах ее еще были заметны темные следы капитанских погон.
Петро поднялся с рюмкой в руке, обвел взглядом притихшее застолье, увидел, как насторожился Матвей Сахута: приставил ладонь козырьком к уху, надеясь что-то услышать о сыне, — в душе он очень жалел, что Андрей не приехал, и Катерина сидела грустная. Петро это понял, но повернулся к юбиляру:
— Дорогой дядька Иван! Ты не просто круглый отличник, как здесь уже говорили, ты великий жизнелюб, неутомимый труженик. Не поленился собрать нас. А тетка Валя столько всего наготовила…
— Так она ж не одна! И мы пособляли, — снова подала голос Параска.
— И вам спасибо, тетка Параска. Если б не позвал нас Иван Егорович, мы б и сидели, как кроты, в своих квартирах. А так и Николай Артемович отложил все дела… И Андрей Матвеевич Сахута очень хотел приехать. Но его недавно избрали первым секретарем райкома партии. У нас, в Минске. Не смог вырваться…
— О, какие у нас люди! — поднял вверх руку с вилкой, на которую нацепил колечко колбасы, Бравусов. — Во, кадры растуть! Хвактически, молодцы хатыньчане!
Тамара, его жена, до этого сидевшая молча, дернула мужа за рукав:
— Дос тебе болботать! Дай человеку сказать.
Но в защиту тамады выступил Микола Шандобыла:
— Он имеет право. При исполнении. Но давайте послушаем Петра Захаровича, — серьезно сказал он.
Все притихли, непривычная тишина повисла над столом.
— Дорогой Иван Егорович! Много пожеланий высказали тебе. Трудно что-нибудь добавить. Потому я присоединяюсь ко всему сказанному. Еще раз пожелаю крепкого здоровья. Чтобы счастливо жилося, чтобы в хате все велося. Чтобы в горохе были колосья, а в ячмене стручья…
Все дружно засмеялись, а Параска и здесь выдала свой комментарий:
— Ой, Петрок Захарович, ты пожелай етого всем нам. Всему колхозу. Чтоб у ячмени стручче попадалось, — прикрывая ладонью беззубый рот, не утихала Параска.
— Ну и последнее пожелание. Чтобы дед Иван не знал беды, а внуки — муки. Твое здоровье, Иван Егорович! — Петро одним духом осушил рюмку.
— Больше не пей, — тихо прошептала Ева. — А то сердце заболит.
Петро согласно кивнул, ласково обнял жену за плечи и поцеловал. Ева еще больше покраснела, застеснялась, но ей было приятно, она чувствовала, что это не показная ласка, а от души. Петро действительно любил Еву все крепче, он радовался, что она захотела поехать в его родную деревню.
Тем временем Костя Воронин растянул меха гармошки, сам именинник взял бубен-барабан, встряхнул его, бубен отозвался звоном всех своих прибамбасов. Женщины дружно сыпанули в танцы. И первой была Ксеня, гармонистова жена, красивая, стройная, ясноглазая. Она пригласила своего старшего брата Миколу. Петро залюбовался этой парой. Захотелось рассказать Еве, что Ксеня родилась летом сорок третьего, а осенью деревню сожгли отступавшие немцы, что этот русоволосый плечистый мужчина с гармошкой — сын полицейского. Был лучшим трактористом в колхозе, а теперь бригадир механизаторов.
Танец окончился. Микола, обняв Ксеню, подошел с ней к гармонисту.
— Костя, дай-ка вспомнить молодость. А ты со своей женой потанцуй.
Микола любил свою младшую сестру, переживал, что у нее нет детей.
— О, дорогой Артемович! Я никогда не забуду те вечеринки, когда ты играл в клубе, — воскликнул взволнованный Иван Сыродоев. — Сыграй-ка полечку. Валюша, иди сюда. Лучшей партнерши, чем жена, в Хатыничах нет.
Иван оглянулся, ища, кому бы передать бубен, и услышал голос Петра:
— Егорович, дай я попробую. Когда-то любил барабанить…
И вот они уселись рядом: председатель райисполкома и тележурналист — дети наполовину сожженной деревни, дети малограмотных родителей, дети Прибеседского края.
Микола пробежал пальцами сверху вниз, будто вспоминал, где какая клавиша-пуговица, на своем ли она месте. А Петро тряхнул бубном, и он залился звоном. Иван, именинник, и Валя ждали музыки. И вот послышались сначала робкие, тихие аккорды.
— Веселее, Артемович! — озорно крикнул Иван, лихо топнул, закружил партнершу.
Не усидел и большой любитель танцев Владимир Бравусов, но пригласил не жену, а Ксеню. Больше никто не рискнул выйти в круг, да и места было маловато, а полька требует простора для полета. Это не современная толкотня, когда на пятачке танцуют, точнее — толкутся, словно комары весенним вечером, парни и девчата.
Петро очень жалел, что нет Андрея. А если бы еще Павел, друг детства, приехал — был бы праздник для души. Под звон бубна его душа молодела, будто пела. Он радовался, что не сломался, когда комиссовали из армии, не сложил крылья, когда развалилась семья. Теперь все идет на лад. И в деревне он увидел несколько новых пятистенок — значит, Хатыничи молодеют.
Когда окончился танец, взволнованный, обрадованный Долгалев, который раньше мало говорил, громко крикнул:
— Молодцы, земляки! Дороженькие мои, умеете вы работать. Умеете и веселиться. Знаю, что и воровать умеете, — улыбнулся он. Потом тихим голосом подозвал к себе Миколу и Петра, решительно взялся за горлышко бутылки.
— Касьянович, извини, — отказался Микола. — Завтра ехать рано.
Петро поднял полную рюмку, но увидев настороженный взгляд Евы, чокнулся и только пригубил горького зелья. Долгалев не стал уговаривать пить до дна, ему хотелось поговорить с минским гостем.
— Если б ты знал, дороженький Петро Захарович, как я радовался, когда увидел тебя на экране! Ну, думаю, молодцы хатыньчане. Где их только нет!
Павел Радченко — полковник уже. Минувшим летом приезжал. Мы с ним виделись. Микола возглавляет советскую власть в районе. Андрей Сахута — первый секретарь райкома в Минске. Глядишь, и в ЦК будет. От, переживал я, браток, как Машеров погиб. Как это могло случиться? Куда охрана смотрела? Такого человека не уберегли! Пошла чутка, что в Москву его хотели забрать. Это правда?
— Такие разговоры были. Насколько это правда, не знаю. Думаю, он там был бы на месте.
— А то поставили премьером еще одного деда. Тихонову — семьдесят пять! Какой он руководитель правительства! Из него песок сыплется, — Долгалев понизил голос. — А Горбачев — выскочка комсомольский, уже член Политбюро. Машеров пятнадцать лет ходил в кандидатах. Брежнев боялся переводить его в члены. Чтобы не спихнул с кресла. Петра Мироновича в России люди любили. И на Кубе, и в Китае. И во всем мире… Не могу успокоиться до сих пор.
Петро почувствовал, как дрогнул голос собеседника, увидел, что тот готов заплакать, начал утешать:
— Такова судьба человека, Касьянович. Мог в партизанах погибнуть…
— Твоя правда, Петро, — вздохнул Долгалев. — И я мог бы уже давно загнуться… Давай допьем рюмки. И больше не будем. Пойду к сестре. Переночую. А завтра поедем на кирмаш. Ты не передумал?
К разговору прислушивалась Ева, услышав про кирмаш, кивнула, мол, не отказывайся.
— Поедем. Я там давно не был. А жена никогда не ездила в Саковичи.
Михаил Долгалев поблагодарил хозяев, еще раз поздравил юбиляра и,
тяжело опираясь на кий, шагнул за порог.
Петро и Ева шли по темной улице: на ночлег пригласила тетя. Светились окна изб — провели в Хатыничи электричество от линии высокого напряжения, а та электростанция, которую когда-то построили на Беседи, давно закрыта, вода размыла плотину, поржавевшую турбину отправили на металлолом. Петру хотелось рассказать Еве о той радости, когда вспыхнули в деревенских избах электрические лампочки, но чувства, эмоции переполняли его душу, и не было слов, чтобы выразить их. И потому он молча шагал, поддерживая под руку Еву. Голова кружилась от усталости, от застолья, от выпитого, услышанного и сказанного самим, но на душе было чувство умиротворения, гармонии, дышалось легко, как в детстве.
— Какая тишина! Ни машины, ни человека, — удивлялась Ева. — Но окна светятся. Значит, люди живут.
— Когда ехали, я увидел несколько новых домов. Хатыничи молодеют. Новая ферма. Есть магазин, клуб, библиотека. Школа-восьмилетка. А главное — Беседь. Криничная вода течет, как и тысячи лет назад. Завтра после кирмаша сходим на реку.
Ева не возражала, только крепче прижалась к мужу, которого все больше понимала, уважала и любила.
Дмитровская ярмарка-кирмаш удивила Еву голосистым, веселым, кипящим морем людей, разлившимся на широкой площади перед старым, запущенным, однако все равно величественным православным храмом. На углах высоких ворот выросли две березки, а сбоку блестела табличка: памятник архитектуры, охраняется государством.
Петро и Ева ходили отдельно от земляков-хатыньчан. Миколу встретили представители местной власти: коренастый, краснолицый председатель колхоза и высокий узкоплечий секретарь сельсовета — председатель был в отпуске. Повели с собой и Долгалева, уговаривали и Петра, но он отказался. К начальству прилипли, будто к магниту гвозди или металлическая стружка, и вот солидной толпой руководящая элита прошла через всю площадь до серого здания, над которым бился на ветру красно-зеленый флаг Беларуси.
Улицы, ведущие на площадь, были заставлены возами, на которых визжали в ящиках поросята, мычали привязанные к телегам коровы, телята, кукарекали на возах петухи, кудахтали куры. Ева впервые в жизни видела такой богатый деревенский кирмаш. Она сказала об этом мужу.
— Это что! Если бы ты побыла здесь на Илью! Второго августа. Тогда людей бывает намного больше. Музыка, песни, танцы. Машин полно. С Брянщины, с Черниговщины, с Гомельщины. А теперь уже холодно. День короткий, на дорогах — лужины, грязюка. Осенью — это кирмаш всякой живности. Тут самые дешевые поросята. Мой отец когда-то их покупал здесь. Обычно — двух, кабанчика и свиночку. Вдвоем лучше едят и растут.
Кроме живности много было яблок и меду. Яблоки, в основном, антоновские — крупные, восково-желтые, словно налитые невыразимо ароматным, приятным соком. Худощавый лысоватый дедок с каким-то просветленным лицом и ясными глазами продавал мед. Он намазывал ножом на клочок бумаги в школьную клетку — видимо, из внуковой тетради, — янтарный мед и каждому говорил:
— Людцы добрые, угощайтесь медком. Вкуснее, чем наш, саковичский медок, нигде в мире нет.
— Вот это реклама! — воскликнула Ева. — Давай попробуем.
Дедок с радостью подал на бумажке, словно на блюдце, ломтик золотисто-янтарного меда. Ева осторожно лизнула раз, потом еще:
— О, какая вкуснота! Петя, такого я никогда не пробовала…
Дедок от такой похвалы заулыбался на весь беззубый рот:
— Вот, если женщина разбирается, так сразу оценила…
Купили литровую банку меда, дедок поставил на весы, чтобы доказать: в банке кило четыреста граммов меда. Ева заплатила десять рублей — за два с половиной килограмма. Старик светился от радости.
Разговор слышали подвыпившие молодые парни. Старший из них, рослый, с рыжим чубом, взял бумажку с медом, лизнул, поморщился, ухмыльнулся:
— Дед, дужа дорогей твой мед. Дороже, чымся горелка. Дык жа меду сколько зъяси? Одну ложку. А горелки за десять рубликов — две поллитрухи. Можно разгуляться!
Продавец меда покраснел от обиды: как можно сравнивать его мед с вонючей горелкой?
— Идите отсюда, чтоб мои глаза вас не видели! Пьянтосы вы такие!
Подвыпившие люди попадались на каждом шагу, но песен никто не пел,
не слышно было музыки. И Петру стало грустно: водка превыше всего, и что же будет дальше? Они подходили уже к машине, когда увидели деда, который продавал корзины, самые разные: большие, пудовые, с такими удобно копать картофель, поменьше — ходить за грибами, еще меньше из разноцветной лозы. Малые корзинки понравились Еве. Захотела купить.
— Далеко везти, — пробовал отговорить ее Петро.
— Нет, надо взять. В ягоды ходить в самый раз.
Петро не стал спорить. Кирмаш гудел, где-то послышалась гармонь, но некоторые покупатели уже запрягали коней, аккуратно сгребали натресенное сено, укладывали его на воз, поправляли завязанные мешки, в которых жалобно визжали поросятки.
Вскоре вернулся Микола, вслед за ним ковылял Долгалев. Местной руководящей свиты уже не было. Михаил Касьянович раскрасневшийся, веселый, а Микола серьезный, хмурый, видимо, жалел, что приехал без водителя, не мог похмелиться: надо было думать о дороге домой.
— Ох, какую вы корзинку приобрели! И медку взяли. Мед в наших краях отменный. Раз корзинка есть, так и яиц надо купить. И курочку с певником заодно. Живности здесь полно, — весело говорил Михаил Касьянович.
Сели в машину. Долгалев устроился на переднем сиденье рядом с Миколой, но его так и тянуло на задушевный разговор, он повернулся всем корпусом к Петру и Еве.
— Расскажу вам анекдот про петуха. Слушайте, дороженькие. Значит, продает цыган певня. Кричит: «Хороший, жирный петушок, за пятнадцать рублей отдаю!» Подошли две дамочки, спрашивают: «А он курочек топчет?» — «Что вы? Он у меня культурный, антилегентный». — «Так на хрена он такой нужен?» — повернулись и ушли. Продавец понял, что к чему, давай кричать: «Продается петух! Отличный топтун! Куру топчет. Утку топчет. Гусыню топчет. Вчера овечку потоптал». Народ собрался. Голоса со всех сторон: «Что ж ты такого героя продаешь?» — «Понимаете, на жену посматривать стал…»
Все дружно засмеялись. И, пожалуй, громче всех Ева, такой соленый и в то же время вполне приличный анекдот она услышала впервые.
Никто тогда не мог и подумать, не мог увидеть даже в страшном сне, что через каких-то пять лет этот красивейший прибеседский край накроет черным, смертоносным крылом Чернобыль.
Хроника БЕЛТА и ТАСС, 1980 г.
4 ноября. Москва. Летчики-космонавты СССР Леонид Попов и Валерий Рюмин завершили самый продолжительный в истории человечества 185-суточный космический полет.
5 ноября. Нью-Йорк. На президентских выборах, которые прошли
4 ноября в США, победу одержал кандидат от республиканской партии Рональд Рейган.
18 ноября. Витебск. Здесь состоялось торжественное открытие бюста П. М. Машерову.
29 ноября. Токио. Ярким выступлением белорусских артистов в Токио закончились Дни Белорусской ССР в Японии.
VI
Уже месяц обживал Андрей Сахута кабинет первого секретаря райкома партии. Правда, сидеть в кабинете подолгу не приходилось. То отчетновыборные партконференции на заводах, то единый политический день, то вызывали в обком, а то и в ЦК. Да и началась его новая деятельность после собеседования в Центральном Комитете. Андрей очень волновался: кто знает, о чем может спросить Тихон Киселев, занявший кресло Машерова, — прислали из Москвы, точнее, вернули его назад в Минск. Сахута никогда не встречался с ним раньше. В горкоме успокоили: все уже решено, это просто визит к партийному лидеру для знакомства.
Андрею Сахуте приходилось бывать в строгом и красивом здании ЦК с множеством окон из цельных листов стекла, но порог кабинета первого секретаря еще не переступал.
Невольно вспомнил свой приезд из Лобановки в Минск на утверждение, как тогда называлось, к первому секретарю ЦК комсомола. Это было туманным осенним утром. На Центральной площади вокруг заплаты из свежей брусчатки толпились люди: здесь стоял памятник Сталину, за ночь его убрали, будто корова языком слизала. Андрей удивился, что все так хорошо помнится, хотя пролетело с тех пор почти двадцать лет.
Если вспоминать детально, подробно, то в жизни Андрея тогда случилось много событий: избрали первым секретарем райкома комсомола, сыграли с Адой свадьбу, стал отцом — родилась дочка. Потом была областная ступенька карьеры, затем высшая партийная школа, работа в Минске, сначала заместителем председателя райисполкома, потом руководителем целого района в центре столицы. И вот теперь он будет первым человеком в этом районе.
Андрей почувствовал приятное волнение в душе. Нет, он не был завзятым карьеристом. Он знал комсомольских петушков, быстро растущих, заносчивых — без фиги не до носа, циничных бабников, они активно «портили» красивых и наивных комсомольских активисток, добивались любви замужних секретарш, а которая не уступала, вынуждена была искать новую работу. Но и Андрей тоже успел изведать вкус власти, особенно на должности председателя райисполкома: и заместители, и заведующие отделами буквально смотрели ему в рот. А как старались понравиться подчиненные женщины! Был у него и короткий служебный роман: женщина, подчиненная, одна растила сына. Но не он добивался ее любви. Она сделала первый шаг: сын уехал в пионерский лагерь, Андреева семья жила на даче, женщина пригласила в гости…
И все же Андрею иногда хотелось оставить председательский кабинет с множеством телефонов и удрать в лес, ибо эти телефоны так часто приносили нерадостные вести, требовали неотложных решений, врывались в его жизнь, забирали от семьи, жены и детей. И даже в выходные дни он себе не принадлежал: вдруг где-то вспыхнет пожар, случится серьезная авария, подведет теплотрасса или канализация…
Собеседование было назначено на семнадцать часов. За пять минут до этого заместитель заведующего орготделом ЦК Семен Трофимович привел Сахуту в приемную первого секретаря.
— Заходите, Тихон Яковлевич вас ждет, — коротко сказала секретарь.
Семен Трофимович, коренастый, присадистый, серебристая грива седых
волос, глянул на Андрея, украдкой подмигнул, мол, не боись, сам подтянулся, кашлянул в кулак, открыл дверь и пропустил вперед Андрея. Слыша, как тахкает в груди сердце, Андрей ступил на мягкий толстый ковер огромного, ярко освещенного кабинета. Первое, что ему бросилось в глаза, — матовобелая лысина человека в черном костюме, белой рубахе и темном галстуке, сидевшего за большим столом.
— Добрый день, Тихон Яковлевич! — негромко сказал Сахута.
Он почувствовал, что во рту пересохло. Вслед за ним, немного в сторонке, топал Семен Трофимович.
— Здравствуйте, Андрей Матвеевич! — Киселев поднялся, скупо улыбнулся, подал мягкую прохладную руку. — Прошу, садитесь, — показал жестом на кресло возле приставного столика.
Много слышал Андрей о том, как с доброжелательной улыбкой встречал посетителей Машеров, всегда выходил из-за стола, мог и обнять по-дружески молодого товарища по партии. Здесь же были вежливая улыбка и холодное рукопожатие усталого человека. Плечистый, крупные черты лица, высокий лоб. Тихон Киселев словно был создан природой именно для такого кабинета.
Всем видом он показывал, что чувствует себя здесь уверенно, что именно его давно ожидало это кресло.
— Ну что, Андрей Матвеевич, будем работать? — то ли спросил, то ли утвердил Киселев, когда посетитель уселся.
По логике напрашивался вопрос-ответ: «А разве я до этого не работал?»
— Буду стараться оправдать доверие партии, — с волнением молвил Сахута.
— Я не буду говорить громких, пафосных слов, какие очень любил мой предшественник. — При этих словах Семен Трофимович кивнул седой гривой, угодливо улыбнулся, дескать, это правда. Выдавил скупую улыбку и Сахута. — Район вы знаете, людей — тоже. Значит, без раскачки, закатывайте рукава и за дело. Конечно, район имеет свои особенности. Тут и заводы, государственные учреждения, и театр. И Союз художников, и композиторы. Весь комплекс городской жизни. Есть и республиканские министерства. Надо совершенствовать стиль их работы. Избавляться от бюрократизма, повышать контроль за исполнением директив… Не забывать об укреплении дисциплины, — Тихон Яковлевич передохнул, глянул в окно, где тускло светились фонари. — Ну, а в центре внимания — заводские коллективы… Деятельность партийных комитетов. Через них вы можете влиять на массы… Все решают люди. Надо воспитывать деловитость, ответственность, научный подход. Вы понимаете ситуацию. Вскоре наш съезд. Потом съезд в Москве. Нужны и трудовые подарки, и ударная вахта. И все это должно быть не на бумаге, а на деле.
— Тихон Яковлевич, если позволите, один факт, — осторожным баском начал Семен Трофимович. — Летом 1976-го Леонид Ильич приехал вручать Звезду Героя нашему Минску… — Услышав имя генсека, Киселев широко, радостно заулыбался, даже посветлел лицом. — Так вот, в ресторане «Журавинка» готовился грандиозный банкет. Везде навели блеск. Комиссия делала осмотр. И видит — что такое? На всех блестящих тарелках серый тополиный пух. Возле ресторана огромный тополь, белый от пуха. Он в окна и летел. Что делать? Одни говорят: спилить, убрать. А тут рабочий день кончается. Спилить такое дерево — много забот. И тогда Андрей Матвеевич нашел выход. Посоветовал вызвать пожарную машину. Из брандспойта обмыли тополь, и весь пух как корова языком слизала…
— Находчивость никогда не вредит, — Киселев еще раз улыбнулся и круто повернул беседу в другое русло. — Как ваши семейные дела? Какие есть проблемы?
Андрей начал рассказывать о семье, но Тихон Яковлевич перебил, мол, я все знаю, спрашиваю ради приличия, чтоб показать: я не бюрократ, интересуюсь не только партийной деятельностью, но вникаю в обычные, человеческие дела.
Длилось собеседование около получаса. Наконец Киселев подал Сахуте широкую ладонь, которая говорила о его крестьянском происхождении, но была мягкая, холодноватая — давно не держала она ни топора, ни косы, ни других инструментов деревенского быта. В коридоре Семен Трофимович тихо, почти шепотом, будто и стен боялся, сказал:
— Умный, толковый, но злой человек. И тут уел Петра Мироновича. Не может простить, что он обскакал его. Киселев старше его на год. И в карьере шел впереди. Когда Мазурова взяли в Москву, Киселев как Председатель Совмина претендовал на кресло первого. На Бюро ЦК голоса поделились: половина за Машерова, половина за Киселева. Вот, братец, какая арифметика. — Они спускались по лестнице, застланной толстым ковром, с пятого на второй этаж, где был кабинет Семена Трофимовича. — Все решил один голос Василя Козлова. Он приболел, на заседании не был. Поехали к нему домой, объяснили ситуацию. Он сказал: я за Машерова.
В своем кабинете Семен Трофимович будто сбросил с плеч груз, встрепенулся, снял пиджак. Достал из сейфа начатую бутылку коньяка.
— Ну что, день кончился. Хотя, бывает, я сижу и до десяти. Кстати, Машеров тоже иногда сидел поздно. А Киселев в шесть ноль-ноль едет домой. Так что, по двенадцать капель? Иногда стоит. Для искристости. Чтоб глаза веселей смотрели на мир и людей. А тебе чтоб хорошо работалось, — Семен Трофимович перешел на «ты». — И чтобы здоровье не подводило. Когда здоров, так семь панов, а как занемог, так один Бог. Ну, будьмо!
… В кабинет тихо вошла секретарь, сказала, что водитель с машиной ждет внизу. Андрей глянул на часы, начал одеваться: запланировал на конец дня поездку по району.
Такие поездки он совершал обычно в пятницу в конце рабочего дня или в субботу. Сегодня Андрей Сахута приказал водителю ехать на окраину города, где строился новый микрорайон. Некоторые дома уже заселялись, ярко светились окна — занавески еще не успели повесить, окна, словно широко раскрытые глаза, всматривались вдаль. На автобусной остановке, еще не оборудованной крышей от дождя, стояли люди.
Вечная проблема — городской транспорт, подумал он, сочувствуя людям, стоявшим на ветру. Городские власти прежде всего заботятся, чтобы привезти на работу и с работы. А если надо в центр, в театр, в гости, на вокзал, придется постоять.
На последнем этаже нового дома работали строители. В лучах прожектора светилась стрела высотного крана, на конце стрелы, похожей на хобот громадного слона, будто плыл пакет строительных материалов. Ох, нелегкое дело возводить дома! А если заехать к ним? Начнут жаловаться, а то и пошлют подальше, чтобы не мешал работать, добывать свой трудный хлеб.
Проехали перекресток. К нему примыкала неширокая улица, давно застроенная частными домиками. Оттуда бежал ручей, дымился пар, как туман над рекой.
— Где-то прорвало трубу. Повернем на эту улицу, — сказал Сахута.
Метров за сто от перекрестка над люком копошились двое мужчин, третий стоял поодаль. Сахута вышел, поздоровался.
— Что случилось?
— Да вот, трубу прорвало, — неохотно ответил мужчина, стоявший поодаль.
Андрей назвал себя, человек оказался инженером управления коммунального хозяйства. Рабочие не обратили внимания на нового партийного лидера района.
— Хозяйство добито до ручки. В городе около пятнадцати километров старых труб. Ремонтируем в год метров четыреста-пятьсот.
— Выходит, нам понадобится тридцать лет, чтоб отремонтировать все?
— А за это время еще больше труб выйдет из строя. Гарантийный срок двадцать лет. Это бег на месте.
Андрей Сахута об этом знал. Канализационное хозяйство — его головная боль на должности председателя райисполкома.
— Где же выход? Что можно посоветовать?
— Одна наша служба не может справиться, — рассуждал инженер. — Надо подключать заводы, военных. Делать толокой, вместе. Вода и тепло нужны всем. Надо менять в год три, а то и четыре километра труб. Это в масштабах города. Тогда за пятилетку можно навести порядок.
По дороге назад не выходило из головы услышанное. Почему же городские руководители не бьют в колокола? Почему ждут катастрофы?
Машина катилась по широкой Парковой магистрали. Возле Дворца спорта, который вырос недавно, сверкала огнями новогодняя елка, через улицу поблескивали гирлянды-баннеры.
— Давай проедем по проспекту, — предложил Андрей водителю.
Праздничной иллюминации на Ленинском проспекте было еще больше, и машины шли потоком: «Жигули», «Волги», «Москвичи». Жизнь главной столичной улицы и вечером не затихала.
Настроение Сахуты улучшилось, на душе посветлело. Проспект, ярко освещенные дома, гирлянды-баннеры через улицу показались фантастической, сказочной просекой, которую обступают высокие, украшенные ели, пышные липы. Поймал себя на мысли, что плохо знает историю Минска, хотя и начал ей интересоваться, как только сел в кресло зампредседателя райисполкома. Ему, сельчанину, хотелось знать, как жил город сто, двести, триста лет тому назад. Каким он был тогда, что беспокоило его жителей? Как им жилось?
Хроника БЕЛТА и ТАСС, 1980 г.
5 декабря. Варшава. Газеты опубликовали призыв ЦК ПАРП к народу, в котором отмечается, что ПНР находится в фазе острого политического кризиса.
10 декабря. Минск. Состоялось собрание общественности города, посвященное Дню прав человека. С докладом выступил народный художник СССР Михаил Савицкий.
21 декабря. Гавана. Торжественное закрытие II съезда Компартии Кубы прошло на грандиозном всенародном митинге на площади Революции.
VII
Первые дни января выдались на удивление мягкими: два-три градуса мороз ночью, а днем около ноля. Петр Евдокимович Мамута по давней привычке утром первым делом смотрел за окно на термометр. В комнате еще было темно, щелкнул выключателем, нацепил очки, приблизился к окну — красный столбик ртути опустился ниже ноля и застыл на черте десять.
«Ага, спохватилась зима. Берется морозик. Еще всего будет…» — Он снял очки, сладко потянулся, в голове мелькнула приятная мысль: хорошее дело — каникулы, особенно зимние, ни косить, ни сено сушить. А на Коляды вообще время веселое — выпить да закусить, да жену перекатить, тем более, ночи длинные. Но вдруг он вспомнил, что сегодня должен выступать в клубе перед кинофильмом. И говорить надо о вреде религиозных обрядов, о том, что религия — опиум для народа.
В школу Петр Евдокимович шагал неторопливо, степенным пенсионерским шагом. Белый чистый снег мягко поскрипывал под валенками в галошах, в такой обувке можно ходить и в оттепель. В молодые годы он и зимой форсил в хромовых сапогах. Полинявший синий китель и такого же цвета галифе — это была его любимая форма. Районные руководители вместо валенок носили форсистые бурки, галифе и кители цвета хаки. Не брезговали такой формой и министры, и высокие партийные функционеры, вплоть до самого «отца всех народов».
В последние годы начали болеть ноги, даже в небольшой мороз мерзли пятки. Если бы не баня с березовым веником, не пчелы и медок, пожалуй, и ходить бы уже не мог, а так помалу топал. Икнулись, видимо, послевоенные годы, когда в холодном классе работал по две смены — учил детей-переростков. А на ногах не валенки, а старенькие хромовые сапоги, которые помогла ему справить Дарья Азарова, тогдашний секретарь райкома по идеологии. Мамута долго носил те сапоги, не раз добрым словом вспоминал Азарову, даже после того, как за грешную любовь с хатыничским председателем колхоза Макаром Казакевичем выперли ее из райкома, назначили директором школы. Нет уже Казакевича, «отшкандыбал» свой жизненный путь на одной ноге бывший фронтовик, на пенсии уже Дарья Азарова.
Мамута протопал по мосту через Кончанский ручей, который не замерзал даже в сильные морозы, и в это утро над журчащей криничной водой дымилось редкое облачко пара. Невольно подумалось: тридцать восемь лет с хвостиком работает он в Хатыничах — с первого ноября сорок третьего да плюс четыре года до войны. Пожалуй, надо закругляться. Займусь пчелами, ну, историю могу вести, а директорство надо оставлять. Замена есть — Люба Ровнягина справится.
Вскоре Петр Евдокимович был в своем катушку-кабинете. Разделся, провел ладонью по лысине, пригладил редкие волосы над ушами. В школе было тихо, только в учительской слышались голоса. Это его обрадовало: значит, подчиненные хорошо усвоили, что каникулы для учеников, а не для педагогов. Зашел, поздоровался. В учительской были завуч Любовь Дмитриевна Ровнягина, Анна Никитична, с которой начал работать в сорок третьем, учитель физкультуры, молодая преподавательница математики, приехавшая в Хатыничи минувшим летом, пионервожатая Мария, внучка однорукого Тимоха Емельянова.
— Петр Евдокимович, вы ж сянни выступаете. Кинщик спрашивал, сколько времени вы будете говорить? — сказала Мария.
— Сколько надо, столько и буду… Пусть не переживает. Хватит ему времени и на танцы, — улыбнулся Мамута.
— А какая тема у вас, Петр Евдокимович? — взглянула на него из-под очков Анна Никитична.
— Тема актуальная. Борьба с религией. Коляды же начинаются.
— Ой, так ето ж сянни Кутья! Надо итти варить…
— Ну, Анна Никитична, кутью ты можешь варить. Но не обязательно про ето всем говорить, — пожурил Мамута.
— Так тут же все свои. Издавна в Хатыничах праздновали Рождество. И люди про ето не забылись. Хотя и церкви у нас нет.
Признание учительницы, что будет варить кутью, Мамуту не удивило — его Татьяна тоже всегда готовит, — а слова «тут же все свои» были как медом по душе. Уже много лет школа жила дружной семьей.
— Мария Ивановна, принеси, пожалуйста, свежие газеты. Надо же готовиться к выступлению. А вы можете долго не сидеть. Я буду на месте. Ежели кто позвонит из района…
— Значит, отпускаете готовить кутью? — озорные карие глаза Анны Никитичны глянули из-под очков.
— Отпускаю. Но в клубе чтоб все были.
— Будем, Петр Евдокимович, — за всех ответила завуч Ровнягина.
С противоречивыми думами Мамута просматривал газеты в поисках статей об атеизме. Страницы пестрели крупными заголовками, призывающими заступить на трудовую вахту, готовить трудовые подарки съезду партии. Но по своей теме Петр Евдокимович ничего не находил. Даже в статье, адресованной организаторам единых политдней, про атеизм не было ни слова. Еще раз прочитал статью. Речь шла в ней о единстве партии и народа, о величественной программе коммунистического строительства.
«Величественная программа, — иронически улыбнулся в душе учитель. — Мы уже должны жить при коммунизме. Восемьдесят первый год начался. Больше двадцати лет прошло после обещаний, а до коммунизма, как до неба. Он будто отдаляется, как горизонт. Все величие на бумаге…»
«Скажу о новой пятилетке, о Космосе… Ну, и про колхозные дела. Про зимовку на фермах, что и в Коляды надо работать, а не только пить да гулять, — рассуждал Мамута, набрасывая тезисы. — Хоть я и не генсек, а в шпаргалку могу заглянуть. Уже не та память, как раньше».
Послышался стук в дверь, она тихо отворилась — на пороге стояла раскрасневшаяся, в расстегнутой плюшевке Нина Воронина. Узнать в ней былую школьницу-тихоню с ласточкиными веснушками, с тонкими косицами было невозможно. Нина была очень старательной ученицей, да и как иначе: днем и ночью помнила — она дочь полицейского, удравшего с немцами, его ненавидит вся деревня. А теперь Нина, располневшая, грудастая, дебелая женщина, жена председателя колхоза, мать троих детей, заведующая школьной столовой. Перед Новым годом комиссия из районо признала столовую Хатыничской восьмилетки одной из лучших в районе.
— Что, Нина Степановна, какие у тебя проблемы? Кутью пришла варить? — неожиданно для себя самого пошутил Мамута.
— А что? Я умею… Если правду сказать, то я приглашаю вас на обед. Женщины ждуть. Ну и просять вас…
— Какой обед? — не мог понять Мамута.
— Ну, как вам сказать… Была в магазине. Взяла поллитровку. И что-то потянуло меня в школу. Хотя и каникулы теперь. Дай, думаю, посмотрю, как холодильник работает? Может, отключился… И еще, Петр Евдокимович, письмо от батьки получила. С Аргентины. Ну, Ганна Микитовна кажеть… Ну, чтоб троху отметить. Все готово. Стол накрытый. Кали ласка, пойдем.
— Так что, будем отмечать? — Мамута от неожиданности не мог принять решение: как ему поступить, идти на неожиданный обед или нет.
Нина почувствовала сомнения директора и с еще большей настойчивостью уговаривала его:
— Петр Евдокимович, дороженький, за Коляды ж по капле надо взять. Сколько той жизни? Ну, мы ждем…
Нина робко повернулась, постояла у порога, медленно пошла по коридору, словно ждала Мамуту, чтобы вместе пойти в столовую, будто сомневалась, что он придет. Пообедать вместе — ее идея, и на то была еще одна причина, в которой она не призналась никому.
— Вот тебе и агитация, и пропаганда, — с грустью вздохнул Петр Евдокимович. Открыл шкаф, на его дверце изнутри крепилось небольшое зеркало. — Придется пить за здоровье бывшего полицая. И за Коляды. В жизни все куда сложнее, чем пишут в газетах. Вот так, братец. Хотя пенсионер ты молодой, а с виду уже старый хрыч.
Мамута разглядывал себя в зеркале: белая лысина, пепельно-серые волосы над ушами, усталые глаза, старческая, сморщенная шея, лишь острый кадык почти не изменился — настойчиво выпирал из-под воротника рубахи.
Права Нина: сколько той жизни! Так быстро летят дни, месяцы, годы. Почему не пообедать с коллегами? Почему не выпить рюмку за любимые народом Коляды? Недавно он читал рубаи Омара Хайяма, врезалось в память одно:
«Кто понял жизнь, тот больше не спешит. / Смакует каждый миг и наблюдает. / Как спит ребенок, молится старик, / Как дождь идет и как снежинка тает».
Торопиться домой ему не хотелось. На то имелась причина. Минувшей осенью он как-то поругался с Татьяной. Были осенние каникулы, Октябрьские праздники. Чтобы не сидеть дома с сердитой женой, решил поехать в Могилев, навестить старшую дочь Валю. Что взять на гостинец? Свежины не было, яблоки не уродили, потому взял побольше меда. Татьяна искоса поглядывала на его сборы, потом подняла сумку.
— Ну и нагрузил! Не донесешь. Валя сама обещается приехать.
— Когда это будет. Вот еду, так и отвезу медку. Чтоб внуки не болели.
— Может, в Минск лыжи навострил? — лицо Татьяны стало еще более злым.
— Чего я там не видел? Я к внукам еду. К Вале.
— А может, к минскому сыну-байстрюку? Думаешь, я не знаю? Я все знаю. И письмо от этой стервы у меня… Спрятала, молчала… Кобелюка…
Татьяна заплакала, стукнула дверью спальни. А Петр Евдокимович стоял, будто оглушенный обухом. Мысли путались в голове. Не может быть, чтобы она знала и столько лет молчала. Юзя давно замужем, письмо могла прислать лет двадцать тому назад. Ноги не держали, привалился к столу. Чувствовал, как шумит, пульсирует в висках кровь, как наливается свинцовой тяжестью затылок — поднимается давление. Оставаться дома совсем не хотелось. Нет, надо ехать! Дорога успокоит. До автобусной остановки у магазина кое-как сумку донесет, а там будет легче.
— Я поехал! — сказал громко, Татьяна не ответила.
Впервые за прожитые вместе сорок с лишним лет он выходил из дому с тяжелым сердцем, в ушах стояли упреки жены, в глубине души он злился на себя. Шел не оглядываясь, хотя был уверен, чувствовал спиною — Татьяна смотрит ему вслед.
До Могилева добрался без приключений. Валентина встретила. В дороге действительно успокоился, думал о семье, перед глазами будто стояло перекошенное от злости лицо жены, в ушах словно застряли обидные, сердитые слова о сыне, которого он давно не видел. И у него созрело желание встретиться с Юзей, увидеть сына — он помнил его школьником. Тогда Юзя не была еще замужем, охотно угощала Петра Евдокимовича, показывала сыновы пятерки, на прощание молвила сквозь слезы: «Твои дети уже взрослые. Приезжай. Будем жить вместе».
Оставить жену, детей, свою школу, деревню, которая стала родной, Мамута не смог. Постепенно забывалась Юзя. Лет через пять его направили в Минск на курсы повышения квалификации. Теперь вспомнил, как грустила Татьяна, как горячо обнимала и целовала ночью. Подумал тогда: неужели чувствует? А Татьяна, оказывается, все знала и ничего не сказала. Ну и собака ж я… Кобель самый настоящий… Но детей не бросил. Вырастил, выучил всех четверых. На крыло поставил. И Татьяну не обижал, никогда руки на нее не поднял. Хотя в последнее время ругаемся все чаще, и начинает из-за любой мелочи жена.
Чтобы не ехать к Юзе с пустыми руками, в кармане плаща припрятал поллитровую баночку меда, еще одну прикрыл рубахой в саквояже, а три литровые выставил на стол. Валентина обрадовалась гостинцу: у нее подрастали две дочурки, любительницы медку, да и сама, и муж любили сладкое. Через пару дней Мамута сказал, что надо ехать домой, каникулы кончаются, пчел надо утеплять на зиму. И Валя, и внучки уговаривали побыть еще, но Петр Евдокимович начал решительно собираться в дорогу.
— Переночую в райцентре. Микола Шандобыла приглашал. Он теперь начальник. Председатель райисполкома. Так что в Хатыничи не звони. Не тревожь маму. Вернусь домой, позвоню тебе, — сказал дочери, когда утром выходил из дому.
Вскоре он сел на минский автобус и часа через четыре был в столице. И вот знакомый дом в тихом переулке. К счастью, Юзя оказалась дома одна, муж на работе, обрадовалась, засуетилась…
Дверь без стука отворилась — на пороге стояла Анна Никитична:
— Петр Евдокимович, картопля стынеть. Мы давно ждем.
— Все, иду. Вот надумались вы…
— Ну так и хорошо, что надумались.
В небольшом светлом помещении столы были приставлены к стене, на них составлены табуреты, и только один стол, поближе к кухне, был накрыт. Дымилась теплым паром большая тарелка картофеля, на сковороде вкусно блестели жирком шкварки и жареная деревенская колбаса, соленые огурцы, грибы. И такой теплый, домашний, аппетитный дух шел от этой вкуснятины, что у Мамуты слюнки потекли.
— Ну, жанчинки! За таким столом можно сидеть до вечера. До первой звезды, — Петр Евдокимович потер застывшие руки. — Если б знатте, что будет питте, я бы тоже прихватил чего из дому.
— Если не хватит, позвоним Татьяне Ивановне. Чтоб принесла. А может, сейчас позвонить? Что она будет сидеть одна, — Анна Никитична вопросительно глянула на своего неизменного начальника.
— Ну, раз вам так хочется, пойду позвоню.
Петр Евдокимович вернулся в свой кабинет, позвонил жене, растолковал ситуацию, мол, не думал — не гадал, старшиниха, так звали сельчане Нину Воронину, наварила картофеля.
— Обедайте. Я что-то неважно себя чувствую. Лучше полежу дома, — глуховатым, тусклым голосом сказала Татьяна.
— Ну, смотри сама. Перекуси чего. Я скоро вернусь.
— Хорошо. Не торопись, — улышал в ответ.
Сидели они действительно долго. И поллитруха опустела, и закусь почти прикончили, а расходиться не хотелось. Нина, еще более раскрасневшаяся, взволнованно читала письмо отца из далекого зарубежья. После поздравлений с Новым годом, с Рождеством, пожеланий всем крепкого здоровья Степан Воронин писал: «…Дальше сопщаю, что я и моя семейка, благодаря Богу, здоровые. Недавно я стал дважды дедом. Народилась внучка Кэт, по-нашему — Катя. А старшему внуку Жоржику уже шесть лет… Тяжело и много пришлось мне тут работать, в Буэнос-Айресе. И посуду мыл, и официантом работал, и поваром. Теперь имею свою пульперию — столовку. Вместе с женой готовим блюда, сын Хуан — за официанта. Хуан — ета значит Иван, — во, видите, и там Иваны есть». — Нина сделала паузу, будто ей не хватало воздуха, читала дальше: «Блюда тут не такие, как у нас. Ну, есть суп-пучера, в нем брючка, батата — ета солодкая бульба, перец и тушеное мясо. Аргентинцы любят мясо, особливо жареное. Его тут называють — чураска… Часто вспоминаю Хатыничи, вас, мои дорогие», — голос Нины задрожал, она вытерла слезу.
— Тут отец пишеть, что ему часто снится наша деревня, Беседь…
Нина дрожащими руками засунула письмо отца в конверт, спрятала в карман плюшевки. Петр Евдокимович вспомнил, что ему надо сегодня выступать, поблагодарил женщин за угощение и простился.
«Ета ж Нина почти сорок лет не видела отца, — раздумывал Мамута по дороге домой. — Во пораскидала людей по всему свету война. Где та Аргентина! И там белорусы живут».
В глубине души он не чувствовал злости к бывшему полицейскому. А он, Воронин, грозился и его семью поставить к стенке, подозревая в связях с партизанами, — Мамута действительно был связным. После войны Прося, жена полицая, призналась Мамуте, что она уговорила мужа не трогать учителя, которого уважают люди.
Однако живучий, шельма, думал Мамута, и в Аргентине его черт не взял, укоренился, заимел семью, уже дважды дед. А у меня с Татьяной семеро внуков, с теплотой вспомнил жену, а еще в Минске растет внучка Алеся, о ней Татьяна, пожалуй, никогда не узнает. Великий ты грешник, Мамута, пожурил себя, и если есть Божий суд, придется держать ответ. Но что поделаешь? Жизнь — штука непростая. Трудно ходить у воды и не замочиться.
Нина сказала не все. В этот день в далекой Аргентине бывший полицай Степан Воронин отмечал юбилей: ему исполнилось шестьдесят пять лет. В письме он упоминал и об этом, и о том, что не надеялся дожить до такого возраста, стать дедом. Строки про юбилей Нина пропустила: знала, что отец и директор школы не были друзьями, слышала от матери об их натянутых отношениях. Да и муж Данила на днях неприятно удивил.
— Скоро у отца день рождения. Может, отметим по-семейному? Маму позову… — робко начала она.
— Нечего отмечать! — оборвал ее Данила. — И про письмо никому даже не заикайся. У меня и без тебя полно неприятностей. Не хватало еще, чтобы в райком потянули…
Вот потому и захотелось Нине устроить обед в школе. И каждую рюмку она поднимала за здоровье отца, которого так давно не видела и, пожалуй, не увидит никогда.
VIII
В последнее время Михаил Долгалев чувствовал cебя неважно, хотя водки почти не пил. Правда, под Новый год разговелся, а потом Коляды, гости приходили к ним, а то и они с Люсей выбирались с ответным визитом. Но Коляды отшумели. Люся спрятала спиртное, да ему и не хотелось пить: голова и без того была тяжелая, как безмен. Люся дважды в день измеряла давление, верхний показатель перевалил за двести, нижний достиг ста десяти. Таблетки адельфана слабо помогали, давала каптоприл под язык, сбивала на короткое время. А тут еще нога разболелась. Люся все чаще говорила: надо ехать в Минск, в лечкомиссию, надо подлечиться.
— Легко сказать — ехать в Минск. А на чем? Пусть немного потеплеет. А может, давай баньку вытопим? Попаримся. И хвороба отпустит, — говорил он.
— Ага, придумал. С таким давлением на полок и близко нельзя. Да и натопить теперь баню — вагон дров надо сжечь. Позвони Николаю Артемовичу. Пусть даст машину. Ты его в люди вывел. Да ездят же в Минск по разным делам. Заодно и тебя подкинули бы…
— Никто меня там не ждет, в лечкомиссии… Пройдет. Весна скоро.
Люся решила действовать самостоятельно. Подготовила выписку из медицинской карточки — она по-прежнему работала в районной больнице. Труднее оказалось поймать по телефону Николая Шандобылу. Секретарь отвечала одной фразой: уехал на район. И все ж однажды, в конце дня, Люся услышала в трубке знакомый голос.
— Слушаю вас, Людмила Семеновна. Какие проблемы? Что случилось? Как там Касьянович?
— Плохи наши дела. У Касьяновича очень высокое давление. И нога разболелась. Его надо в лечкомиссию. А то, боюсь, недотянет до весны. Может, от вас будет машина…
Внимательно слушал Шандобыла, не перебивал.
— На следующей неделе я планирую поехать в Минск. Я сейчас же позвоню главврачу лечкомиссии, разведаю, есть ли у них места. Завтра пленум райкома. Вот сижу, шлифую свое выступление. Разберусь с делами, как-нибудь вечерком обязательно заеду. А пока — привет Касьяновичу. Крепитесь. До встречи!
На этом Шандобыла простился.
Минувшим летом пошел слух, что Рудака забирают в область. Николай Шандобыла даже подумал, что должность первого могут предложить ему, но в душе были сомнения: пятьдесят два года для партийного лидера района много, если б лет на десять моложе…
Николай Шандобыла все чаще задумывался о своем будущем. Если Рудака не переведут в Могилев или Минск, то они будут сидеть здесь, как два паука в банке. Знают друг друга давно. Поначалу, когда Рудак вернулся в Лобановку, работали довольно дружно. Однако постепенно первый секретарь все больше тянул одеяло на себя, на каждом шагу стремился показать: он главный человек в районе, его слово — закон. Их отношения все больше обострялись, работать вместе становилось все сложнее.
Моя карьера, считай, закончилась, думал иногда Шандобыла, очень долго работал бригадиром, потом главным агрономом, учился заочно, избрали председателем колхоза. Районным начальником стал неожиданно: освободилась должность заместителя председателя исполкома, и Долгалев предложил его, потому что знал не только как опытного специалиста, но помнил комсомольскую свадьбу Андрея Сахуты, на которой Николай был сватом и свою роль исполнил с блеском. Знал Долгалев и его родителей. Заместителем Шандобыла ходил недолго: через три года избрали председателем райисполкома. И вот уже промелькнуло семь лет, как он сидит в этом кресле. А что дальше? Если б удалось теперь устроиться где-то в Могилеве или в Минске, было бы хорошо. А если Рудак пойдет на повышение, пришлют нового партийного лидера, его, Шандобылу, минимум год никуда не отпустят, пока новый кадр не освоится в районе. Но это все прожекты. Что предложит жизнь — неизвестно.
Он почти механически перечитывал текст своего выступления, изредка кое-что правил. Часто отрывал телефон. Позвонил Рудак:
— Артемович, я тут мучаюсь с докладом. А что если нам замахнуться на двадцать восемь центнеров с гектара по району? А то мы топчемся уже который год. Обещаемся взять двадцать пять…
— Так мы же не берем и двадцать пять. Ну, в Саковичах, в Хатыничах можно намолотить и тридцать. Такое бывало. А в совхозе «Заречье» на песочке больше двадцати не молотим. Так что слишком сильный замах…
— И все-таки надо рискнуть. Зима нормальная, снегу подкинуло. Может, озимая рожь даст урожай. Кстати, Машеров еще несколько лет назад ставил задачу: выйти на двадцать шесть — двадцать восемь центнеров с гектара по республике. И правильно делал. Так и будем действовать. Берем повышенные обязательства! — тоном, не терпящим возражений, закончил Рудак.
Твою мать, тихо выругался Шандобыла, он раструбит на всю Беларусь, а выполнять мне. Гонять специалистов из управления сельского хозяйства, выматывать жилы председателям колхозов, думать об удобрениях, семенах. И если сможем собрать урожай, в героях будет ходить Рудак. Инициатор! А не выполним обязательства — все шишки на председателя райисполкома. Не обеспечил выполнение… Не смог организовать, не мобилизовал людей на ударный труд.
Невольно вспомнился недавний визит ответственного сотрудника ЦК партии Семена Михнюка, с которым когда-то учились в сельхозакадемии. На прощанье минского гостя хорошо угостили в тихом домике в лесу над Беседью. И тогда развязался язык высокого партийного начальника.
— Как пришел в ЦК Киселев, так фамилию Машерова нельзя вспоминать. Не дай бог, услышит шеф! Он сразу бледнеет, руки дрожат. Вот тебе и партийные товарищи. А история давняя…
Гость рассказал, как выбирали Машерова, — об этом он в свое время поведал Андрею Сахуте, — но над Беседью он был смелее, и в этой истории появились новые детали: приехал проводить пленум Мазуров. По рекомендации Кремля собрал секретарей обкомов, они были за Машерова, а на бюро ЦК голоса поделились — фифти-фифти. И все решил голос героя-партизана Василя Козлова…
Киселев затаил обиду. Иногда она прорывалась в кругу друзей: «Он мастер покрасоваться на трибуне. Артистично выступать с пафосными речами. Мастер брать новые высокие рубежи. Все на словах. А нам ломай голову, где найти ресурсы, деньги. Министры на ушах стоят. Их подчиненные из кожи вон лезут. А он на очередном пленуме рапортует: решение партии претворили в жизнь. Он — герой…» Так продолжалось много лет, пока Тихона Киселева не перевели в Москву заместителем премьера. Потом пошли разговоры: Машеров едет в Кремль на место Косыгина, а Киселев вернется в Минск. Киселев вернулся, а Машерова нет.
Услышанное очень впечатлило Николая Шандобылу. Почти все, как у нас с Валерием Рудаком. Суровая и хитрая штуковина жизнь. Николай Артемович так задумался, что и про свою речь забыл.
Сколько партийных пленумов было на его веку! Кое-что сделано в районе, урожай потяжелел — это факт. В каждом колхозе и совхозе есть дипломированные агрономы, зоотехники, ветеринары, инженеры. В селах появились новые звонкие пятистенки, асфальтированные дороги. Это заслуга Долгалева, его передвижной механизированной колонны. А теперь жизнь выбросила его на обочину. Болеет, а машину попросить стесняется. А мне некогда позвонить, по-землячески спросить, как живет человек, бывший партийный вожак района, он же и меня в люди выводил. Эх, неблагодарные мы, товарищи коммунисты! Все на словах, с трибуны — мы друзья и единомышленники.
Телефонный звонок прервал размышления Шандобылы. У него аж сердце екнуло: в трубке послышался голос Долгалева. Разве не телепатия?
— Прости, Николай Артемович, что отрываю от дел. И еще извини, дороженький мой, настырную мою супругу…
— Михаил Касьянович, жена у вас — молодчина! Верный товарищ, подруга, соратница. Дай бог каждому. Извиняться надо мне, что я, гад полосатый, давно не был у вас. Завтра пленум райкома. Дня через три-четыре катанем в Минск. Дела есть разные, с Андреем Сахутой повидаемся. Звонил в лечкомиссию. Правда, главврача не было. Буду еще звонить, — соврал Шандобыла, звонить он только собирался. Но теперь дал себе слово обязательно дозвониться.
— Как тебе работается, Артемович? С первым ладишь?
— Стараюсь по мелочам не цепляться. А где надо — показываю зубы. Он это понимает, лишний раз на рожон не лезет. Опостылела, Касьянович, показуха. Вот сегодня позвонил. Давай замахнемся на двадцать восемь центнеров на круг по району. Как вам это нравится?
— Ну, это нереально. Но не возражай. Плетью обуха не перешибешь. «Тазик» должен греметь. Ну, если хорошее лето, так в некоторых колхозах может уродить. Тут, дороженький мой, бывает так. Кто весной не посеет вовремя, того могут турнуть с кресла. А кто слишком рано посеет и мало соберет, того только слегка покритикуют, мол, погода подвела. Так что соглашайся. Главное, береги здоровье. Он погремит высокими планами — могут взять на повышение. Сам будешь первым. А если пришлют нового, пока освоится, будет тебе в рот смотреть, — Долгалев помолчал. — Я иногда думаю… Если конь начинает спотыкаться, так его не бизуном надо хлестать, а голову ему поднять… Чтобы лучше дорогу видел. Может, в этом и есть смысл партийной работы. Если она вообще нужна. Вот, дороженький мой, какие крамольные думки лезут в голову от нечего делать.
— Это не крамола, Михаил Касьянович, а мудрость. Так что спасибо вам за совет.
Рабочий день председателя райисполкома продолжался.
Хроника БЕЛТА и ТАСС, 1981 г.
2 января. Гродно. Сто первый Новый год встретил житель деревни Цыгановка Зельвенского района Антон Жук. Секрет его долголетия: физический труд, свежий воздух, умеренное питание.
5 января. Чебоксары. Поставлен под промышленную нагрузку первый агрегат Чебоксарской ГЭС — завершающая ступень Волжского энергетического каскада.
13 января. Лондон. Несмотря на самый острый за всю послевоенную историю Великобритании экономический кризис, правительство тори не планирует изменение теперешнего курса.
21 января. Пинск. Гостеприимно раскрылась дверь нового здания Пинского педучилища имени А. С. Пушкина.
IX
Первый день Нового года Петро Моховиков, будто прикованный, просидел у телевизора. Пришлось завести будильник, чтобы не проспать начало передач. А все потому, что на его долю выпала «рядовка» — очередь быть обозревателем. И день не только новогодний, а и первый день самостоятельной программы Белорусского телевидения.
Вечером Петро недолго сидел за новогодним столом, да и дочурка приболела, кашляла, и у жены поднялась температура. Встреча Нового года не была радостной и праздничной.
Будильник затрещал, когда в комнате было еще темно, за окном в сером тумане барахталось, трудно рождалось зимнее утро. Петро нехотя поднялся, сделал короткую зарядку. Но холодный душ немного взбодрил, чашка крепкого кофе окончательно прогнала сон.
А через день разгорелся конфликт.
Петро Моховиков давно убедился, что должность главного редактора на телевидении напоминает вулкан: идешь утром на работу и не знаешь, что где вспыхнет, за какой недосмотр, за чью ошибку получишь нагоняй.
День начался как обычно. Во второй понедельник месяца всегда проводилась редакционная летучка. В самой большой комнате, где размещаются режиссеры, собирались все сотрудники. Здесь стояло несколько столов, зеркало-трюмо, чтобы наводить марафет перед записью передач, умывальник, несколько просиженных кресел.
Летучка прошла обычно, особо ярких передач не было, споров и конфликтов не возникло.
Круглые часы над дверью показывали начало второго — время идти в столовую. Обычно он приглашал кого-нибудь из подчиненных, чтобы пообедать за компанию, но дверь соседнего кабинета, где сидели его заместитель и ответственный секретарь, была заперта.
Перед буфетной стойкой, за которой хозяйничала Татьяна Семеновна, дебелая, пышногрудая дама, увенчанная, словно короной, белым кружевным накрахмаленным колпачком, привычной очереди не было.
— С Новым годом вас! С Рождеством! — поздравил Татьяну Петро и добавил: — Пусть сбудутся все ваши тайные желания.
— Спасибо! И вам желаю того же. Но чтобы все желания… Это уж слишком. Пусть что-то останется на будущее. А главное — здоровье. Тогда и желания будут. Остальное можно купить за деньги…
Глаза Татьяны хитро блеснули, румяные губы соблазнительно улыбнулись. Петро уловил подтекст в ее словах, невольно вспомнил, как минувшей осенью она то ли в шутку, то ли всерьез спросила:
— Вы давно были в Москве?
— Да уже давненько. А что?
— Хочу вот съездить. Ищу компаньона. Дорогу оплачиваю. И все остальное… — игриво-нахально улыбнулась, будто невзначай левой рукой поправила белый колпак: мол, смотри, какая я красивая.
— Надо подумать, — тоже улыбнулся Петро.
Но думать было некогда. Назавтра поехал на съемки, потом после планерки у председателя обедал с коллегами в Доме литератора, были и другие неотложные дела. В столовую попал через неделю. За буфетной стойкой увидел помощницу Татьяны, значит, не дождалась. «Может, и зря не согласился. Был бы интересный вояж», — мелькнула в голове грустно-озорная мысль.
Он сел за свободный стол, ел и чувствовал взгляд Татьяны. Может, и она сожалеет о несостоявшейся поездке в Москву. Вот и намекнула о «будущих желаниях»…
Возвратившись в кабинет, сразу включил монитор, чтобы посмотреть, как записывается передача для школьников. И тут резко затрещал телефон.
— Петр Захарович, — сердито спрашивал заместитель председателя, — почему вас не было на месте? Председатель вас искал. Он уехал в Совмин. Поручил мне передать… Новость неприятная. Вы принимали программу в Бресте? Ну, их выход на Минск?
— Да, я принимал, — ответил Петро и почувствовал, как лицо заливает жар, а сердце тревожно встрепенулось, как пойманная птица в клетке.
— Вы делали им замечания?
— Конечно, делал. Кое-что они учли. Но программа была уже готова.
— А сюжет о праздновании Коляд на Полесье вас не насторожил?
— У меня были сомнения. Я высказал их. Но меня убедили, что это давняя народная традиция. Сюжет оживил передачу.
— Ну, вот что… Теперь вам придется убедить в этом отдел пропаганды ЦК партии. Позвонили председателю. Сказали, что этот сюжет воспринимается как инструктаж для верующих. Это политическая близорукость. Что они там, в Бресте? Свихнулись? Ни хрена не разбираются. И вы… Короче, пишите объяснение. Завтра бумага должна быть у меня!
В трубке послышались гудки, короткие, резкие, противные. Петро смотрел на экран монитора, на студию, где, как в немом кино, двигались люди, а видел совсем другую картину.
В Брест Петро прилетел впервые. В аэропорту его встретили коллеги из местного телевидения, в гостинице хорошо поужинали, выпили по рюмке за встречу, за знакомство. А назавтра смотрели программу. Тогда каждая область готовила для Минска передачу — рапорт съезду партии. Брестскую программу открывал короткий видеофильм: Беловежская пуща, легендарная крепость, словно опоясанная голубыми лентами Буга и Мухавца, ухоженные поля местных колхозов — широкие и ровные, как стол. В фильм было вмонтировано выступление первого секретаря обкома партии.
Завершал программу концерт художественной самодеятельности. Был и сюжет о праздновании на Полесье Коляд. Петру сюжет понравился — живинка в довольно казенной программе, где было много трескотни о достижениях, о передовиках. А песни-колядки блеснули, как золотинка в сером песке. Концерт показался слабоватым, мало самобытных номеров. Об этом Петро деликатно сказал. Главный редактор студии вынужден был признать, что концерт не совсем удачный, но все уже смонтировано, времени для кардинальных перемен нет.
— Ну что ж, будем считать, что программа не хуже, чем в других областях, а в некоторых моментах даже лучше. — В чем конкретно, гость уточнять не стал, высказал мысль, что передача дает представление о Брестчине, о том, как люди работают и отдыхают.
Главный редактор повеселел, согласились с мнением гостя и представитель обкома, и симпатичная смуглянка из управления культуры.
— Есть предложение… Ну, по обычаю доброе дело надо замочить. Петр Захарович у нас первый раз. Я покажу ему крепость, Белую вежу. В два часа встретимся в пуще. В Каменюках. Там в ресторане пообедаем, продолжим обсуждение, — многозначительно улыбнулся главный редактор.
Все так и было. Осмотрели музей крепости. Экскурсовод, молоденькая, тоненькая выпускница местного пединститута, провела гостя по тихим залам музея. Очень впечатлила заснеженная Пуща. Громадные островерхие ели, разлапистые сосны, могучие дубы. А меж деревьев — гривастые зубры, ершистые дикие кабаны, в вольерах — олени, косули.
На дворе стоял мороз, потому особенно теплым, уютным, показался небольшой банкетный зал, стены его украшали оленьи шкуры, до блеска отполированные оленьи и лосиные рога. Длинный массивный стол, сверкающие лаком деревянные кресла. В вазе на столе дышала смолистым ароматом толстая ветка с еловыми шишками. В камине потрескивали, горели светлым пламенем осиновые поленья.
Конечно же, бросилась в глаза серебристая головка шампанского, оригинальной формы штоф «Беловежской». Были тосты за дружбу, за плодотворное сотрудничество. Закусывали колбасами из мяса дикого кабана, котлетами из лосятины, солеными грибами. Атмосфера стояла дружеская, теплая, сердечная.
На вокзале Петро целовался со всеми, кто провожал. В купе вагона хорошо выспался под мерный стук колес. Вернулся в Минск с чувством, что командировка удалась…
Это воспоминание мгновенно промелькнуло после звонка заместителя председателя, потребовавшего объяснительную записку. А что писать? Про котлеты из лосятины? За все в жизни приходится платить, тоскливо подумал Петро, глядя на чистый лист бумаги. С чего начать объяснительную?
Решил посоветоваться. Есть же люди более опытные. Взялся за телефон и через минуту услышал голос шефа редакции литературно-драматических программ Владимира Петровича Климчука. Высокий, плечистый, громкоголосый, он всегда смело отбивался, когда начинали критиковать передачи редакции.
— Петрович, нужен мудрый совет.
— На какую тему? Если о женщинах, то не по телефону. А за чаркой, так сказать, глаза в глаза. Что стряслось у тебя?
Петро Моховиков рассказал о своей беде. Коллега долго молчал, шумно дышал в трубку.
— Ну, вот что. Слушай меня внимательно. Первое, не переживай, за это с работы не снимают. Не ты передачу готовил и не твои подчиненные. А приемка — чистая формальность. Упирай на то, что не было времени перемонтировать. Но и ребят с областной студии не топи. Что-то возьми на себя, мол, первый раз принимал программу… Какая дурость! Наши предки из глубины веков… Издавна праздновали Коляды, а теперь не моги… И еще о записке. Пиши коротко, лишняя информация может обернуться против тебя. И вообще, любое объяснение на бумаге — это плохо. Написанное остается. Конечно, сочинить придется, но не торопись отдавать. Тяни до последнего.
Ты говоришь, голова болит. У меня тоже. Наверное, грипп подбирается. Мои архаровцы пишут передачу о театре. Вот гляжу по монитору. А то по чарке бы шандарахнули.
— Спасибо, дружище. Считай, что ты успокоил меня. А чарка будет!
Ни Петро, ни коллега-литератор не могли и подумать, что через десять лет Коляды-Рождество станут официальным всенародным праздником.
Домой Петро ехал в переполненном троллейбусе. То с одной стороны, то с другой слышался хриплый, простуженный кашель. Только бы не сел голос, тревожился Петро, тогда пропал. Он рассказал жене о своих неприятностях, о завтрашней записи передачи.
— Что-то не нравится мне цвет твоего лица. И глаза блестят. Может, температура? — Ева приложила ладонь к его лбу.
— Ничего, прорвемся, — он с благодарностью взял ладонь жены, нежно поцеловал.
Невольно мелькнуло в голове: какое счастье, что встретилась эта женщина! Если бы не пережил семейную драму, то, пожалуй, не смог бы оценить Еву. Не зря люди говорят: не познав горя, счастья не оценишь.
— Надо съесть пару зубчиков чеснока. Картошка варится. Сейчас подышишь. Это классная ингаляция, — заботливо суетилась Ева.
Она не любила, когда Петро выпивал даже одну рюмку водки, но на этот раз не возражала, и он позволил себе три — для профилактики.
Утром он проснулся бодрым, спал крепко, казалось, никакая хворь его не одолеет. Но пока добрался до студии, нос заложило, дышалось трудно.
Администратор передачи Юля, молоденькая ясноглазая девчушка, где-то отыскала краснозвездную коробочку вьетнамского бальзама. Петро помазал пазухи носа, потер переносицу. Уже в студии, сидя напротив собеседника — оба залитые морем света, — Петро поглядывал на себя на экране с тревогой. Волновался и ученый-аграрник. Они еще раз повторили основные тезисы, порядок вопросов уточнили.
— Главное, вы сильно не волнуйтесь. Это ж не прямой эфир. Если какой огрех, подчистим при монтаже, — успокаивал Петро гостя, а сам почувствовал, как гулко тахкает и его сердце в ожидании того момента, когда на табло вспыхнет: «Микрофон включен».
После записи передачи он обговорил с режиссером Лидой Якубовской, что можно сократить: надо уложиться в двадцать минут.
— Я неважно себя чувствую. На монтаже быть не смогу. Думаю, ты все сама сделаешь. Как передача? Не стыдно будет?
— Да нет, все по делу. Разговор толковый, проблемный. Монтаж несложный. Я все сделаю. Поезжай домой. Выпей аспирину и под одеяло. Да чаю с медком…
В грустных усталых глазах Лиды он увидел искреннее сочувствие, желание помочь. Лицо ее было бледное, болезненное.
— Ты тоже не болей. Крепись. Я всегда готов тебе помочь…
Дома Петро намазал горчицей ломоть хлеба, наверх положил нарезанный дольками лук, посыпал соль, перец и хлобыстнул полную чарку водки. Лег и сразу отключился. Спал часа три. Вставать не хотелось, ни читать, ни писать, ни смотреть телевизор не тянуло. Вечером позвонил своему заму Евгению Иосифовичу, поручил сходить завтра на планерку к шефу телевидения.
Весь следующий день Петро провел дома, лежал, читал и ждал звонка, — нет, не от своих подчиненных. Ему очень не хотелось услышать голосок секретаря заместителя председателя: «Петр Захарович, где ваша объяснительная записка? Шеф требует…»
Но секретарь не потревожила его, зато в конце дня позвонил Евгений, поинтересовался, как здоровье, рассказал, что было на заделе-планерке.
— Шеф метал икру, где твоя объяснительная? Ну, а завтра как? Может, сам пойдешь на задел к председателю?
Петро знал, что его зам побаивается ходить на планерки к председателю. На то были свои причины: однажды Евгений перебрал норму пития и сорвал передачу, получил партийный выговор, его хотели уволить, председатель крепко ругал наедине, но дал шанс, и Евгений держался.
— Давай встретимся в главном корпусе без четверти десять, — предложил Петро. — Отдашь мне программу на неделю. Мне уже лучше, но как будет утром, не знаю. На планерке хочу быть. Если сам не отобьешься, то навешают собак…
— Думаю, это правильная тактика, — охотно поддержал Петра заместитель. — Тогда до завтра! Набирайся сил!
Они были одного возраста, но после перехода Петра в эту редакцию отношения изменились. Евгений был подчеркнуто вежлив. В глубине души он затаил обиду на высшее руководство, что его не назначили главным. Способный, опытный, фотогеничный тележурналист, отличный организатор, он имел основания претендовать на эту должность, но тот срыв ему не простили. Вот поэтому он не любил ходить на планерки и с радостью поддержал тактику своего шефа — самому отбиваться на заделе.
Вечером Петро Моховиков смотрел свою передачу. И получил первое поздравление — конечно же, от жены:
— Мне понравилась передача. Поздравляю! Ты хорошо выглядел. Говорил складно, не путался, не заикался. И этот человек из министерства рассуждал убедительно. И на доброй белорусской мове.
— Ну, так это же самое главное, — улыбнулся Петро, чмокнул жену в щечку, хотя ему хотелось целовать ее долго и горячо.
Утром Петро чувствовал себя лучше, выпил чашку крепкого кофе и поехал в Дом радио, где находился кабинет председателя.
В актовом зале, узком, темноватом, Петро хотел сесть подальше, шел по проходу, и тут его остановила диктор Зинаида:
— Петр Захарович, садитесь. Здесь свободное место. С интересом смотрела вчера вашу передачу. Я об этом ничего не знала, хотя и родом из деревни. Так что поздравляю вас.
У Петра посветлело на душе. Эта женщина нравилась ему, любовался ею на экране, а тут повезло сидеть рядом, к тому же сама пригласила. Но будет вдвойне стыдно, если председатель пропесочит его за Коляды.
— Ну что, начнем? — председатель быстрым взглядом обвел зал. — Как мы сработали за неделю?
Петро сидел как на угольях: ждал, когда его поднимет председатель и устроит допрос — куда он смотрел, принимая программу брестчан, и будет распекать, как мальчишку. Председатель это умеет делать отлично. Тем временем началось обсуждение программы будущей недели. Председатель поднимал главных редакторов, они коротко докладывали о сути той или другой передачи.
Покритиковал передачу о зимовке на фермах, что сделана она по принципу тяп-ляп, журналистка долго говорила о грустных глазах коровы, а о надоях, сбалансированности рациона заметила вскользь.
— Такое впечатление, что она впервые попала на ферму и ее все удивляло. Это идет от незнания жизни, дела, от профессиональной неподготовленности. А вот вчера я посмотрел передачу научно-популярной редакции и порадовался. Вот где знание проблемы! Передача серьезная, динамичная, без тягомотины и болтовни. Прочитал человек статью в «Правде» о том, что плоскорез укрепил здоровье целины, изучил проблему, нашел единомышленника. Кстати, агроном из министерства отлично говорил по-белорусски.
— Слышите, Петро? Я же вам сказала, что передача хорошая, — Зинаида слегка дотронулась до его руки.
— Спасибо большое, — шепнул Петро и слушал шефа дальше: когда же он вспомнит Коляды?
— Мы часто сурово критикуем за накладки, ляпы технические и редакторские. И это правильно…
Ну, сейчас о Колядах, с грустью подумал Петро.
— Накладки и огрехи случаются не только у нас, — в голосе шефа послышались веселые нотки. — На днях «Правда» напечатала репортаж с кинофестиваля в Париже. Пишет об успехе фильма «Дикая охота короля Стаха». И такой ляп: сценарий написал польский литератор Владимир Короткевич. Наш Володя Короткевич — польский литератор. Он вчера со смехом рассказывал, как звонил ему правдист домой, просил извинить… Ну, что у кого еще? Будем закругляться.
Петро с облегчением вздохнул: о Колядах председатель ничего не сказал, не вспомнил о записке объяснительной. Значит, принял огонь на себя. Может, помогла отбиться ошибка в главной партийной газете. Настроение улучшилось, на душе посветлело, он почувствовал, что и грипп победил. Крепче сжал папку, в которой притаилась рожденная в творческих муках объяснительная записка.
— Так где твоя объяснительная? — толкнул Петра под бок Климчук.
— В моей папке. Все свое ношу с собой, как говорил один философ. А тебе спасибо за совет.
— Спасибо — это хорошо. Но рюмка водки — еще лучше.
— Будет, старина, будет. За Коляды выпьем. Обязательно, — весело ответил Петро Моховиков.
Хроника БЕЛТА и ТАСС, 1981 г.
4 февраля. Гомель. В деревне Глинище Хойникского района начали строительство музея народного писателя Беларуси Ивана Мележа.
10 февраля. Москва. В связи с 20-й годовщиной Движения Неприсоединения Л. И. Брежнев направил приветственное послание Фиделю Кастро Рус, который является теперь председателем Движения Неприсоединения.
14 февраля. Кабул. Создание Национального фронта в Демократической Республике Афганистан находит широкую поддержку афганского народа.
19 февраля. Минск. Досрочно выполнил свои обязательства в честь ХХVI съезда КПСС коллектив производственного объединения «Белоруськалий».
X
Андрей Сахута ехал после обеда в райком. Светло-голубая «Волга» уверенно катилась по широкой столичной улице, словно конь, хорошо знающий дорогу домой.
Вчера до поздней ночи Сахута читал книгу диссидента Александра Зиновьева «Зияющие высоты». Читал и злился, но не мог не понимать, что автор пишет правду, суровую правду, высмеивает показуху, глупость наших чиновников. Книга начала раздражать с предисловия. Автор пишет: рукопись была найдена на свалке, да не лишь бы какой. Сахута выписал эти строчки в блокнот: «Мусорная свалка играет в Ибанске совсем не ту роль, какую она играла в антагонистических обществах прошлого. Здесь это — одна из Великих строек социализма, и потому писать ее следовало бы с большой буквы — как Мусорная свалка». Ну и уел! Мусорная свалка — Великая стройка социализма… Дальше было еще мудренее: «Заведующий — высшее лицо в Ибанске, вождь Братии и глава государства. Братия — то, что в старину называли Партией. Заведующий формально считается первым среди равных в коллегиальном руководстве. Но по мере превращения в маразматика и пешку в руках фактически правящей банды становится единоличным диктатором». А сколько яда, сарказма в этих словах: «Жители Ибанска любовно называют Заведующего, как выяснится опять-таки впоследствии, Заибаном».
Сахута дважды подчеркнул последнее слово. Это же ругательство! Грязное, злое. А само название города! Разве не издевка: «Происхожение названия Ибанска историки объясняют различно. Одни производят его от того, что все граждане Ибанска имеют фамилию Ибанов. Другие истолковывают его так, что оно приобретает неприличное звучание». Конечно, какое же еще может быть звучание! Дурню понятно… Сахута обратил внимание на дату под вступлением: Ибанск. 1974 год… Это же семь лет на Западе книгу читают и смеются над нами, над нашей Братией, а мы, словно слепые щенята, лезем, карабкаемся на коммунистические «зияющие высоты».
Машин с каждым годом все больше. Заводы, фабрики, котельные дымят круглые сутки. Цивилизация сама себя губит. Атомных бомб наклепали столько, что можно взорвать всю планету и погубить все живое. Но и пешком горожане ходить не станут. Если живешь в Чижовке, а работаешь на заводе холодильников за двадцать верст, без автобуса не обойтись. А сколько дают смрадной гари грузовики, самосвалы! Бывает, на перекрестке газанет водитель, чтобы тронуться с места, и темно-сизое облако окутывает автомобиль.
Андрей Сахута все больше убеждался, что проблемы экологии выходят на первое место. И не только в городе, но и в деревне. И проблемы эти глобальные: и в Европе, и в Америке идут кислотные дожди, едкий смог накрыл смрадным покрывалом огромные мегаполисы — Лос-Анджелес, Токио, Мехико и много других городов. И Андрея снова потянуло в лес. Он ведь мог бы и теперь работать в лесничестве, сажал бы деревья, занимался благородным делом, а не пустопорожней трескотней. В душе возникло несогласие, внутренний голос запротестовал: нет, не только трепотней занимается райком партии, очень многое в жизни района зависит от его, Андрея Сахуты, деятельности, от его требовательности, твердости. О том, что люди могут обойтись без райкома партии, он думал редко. Думать так — все равно что рубить сук, на котором сидишь, и травить свою душу.
Раздумья Андрея прервал телефон. Секретаря он предупредил, что готовится к совету, чтобы ни с кем не соединяла. Значит, что-то важное. Снял трубку, услышал взволнованный женский голос.
— Андрей Матвеевич, это председатель профкома трикотажного объединения Лилия Ивановна Сидорович. Я была у вас пару недель назад.
— Помню, Лилия Ивановна. Что случилось?
— То же самое, что и раньше было. Директор пьян в стельку. Лежит под столом в кабинете. Приезжайте, сами убедитесь…
— Приедем. Будьте на месте.
Сахута вызвал третьего секретаря по идеологии Светлану Дубкову:
— Светлана Васильевна, возьмите кого из своих инструкторов, из промышленного отдела тоже пригласите. Скажите об этом заведующему отделом. Сам он должен быть на совете, который сейчас начнется. А вы поезжайте на трикотажную фабрику. Там Зайцев опять пьян, спит в кабинете под столом… Позвонила председатель профкома Сидорович. Я вам говорил о ее визите. Действуйте смело и настойчиво. Пора с этим кончать. Ежели что, звоните.
В мыслях мелькнуло воспоминание…
Недели две назад пришла к нему на прием молодая симпатичная женщина. Сначала говорила сбивчиво, сумбурно, понемногу успокоилась. Сахута слушал внимательно, деликатно задавал вопросы.
— К сожалению, я мало вас знаю. Расскажите о себе. Как к вам относится Зайцев?
Сахута знал Зайцева хорошо. Опытный хозяйственник, умелый организатор, но в последнее время начал выпивать. На него часто жаловались люди, на его грубость, невнимательность.
— Как? Сразу же, как я пришла к ним, стал за коленки лапать. Говорит: садись ближе, еще ближе, и давай лапать… У меня глаза на лоб. Я едва не дала ему по физиономии. И еще. Если что надо решить, к нему не пробиться. Все прут с утра. После двенадцати он уже лыка не вяжет…
Первый секретарь внимательно слушал посетительницу, наблюдал за ней. Лиля осмелела, видимо, по привычке подкатала рукава красной кофты, из-под которой виднелась аккуратная белая блузка. Руки у нее, довольно полные, сильные, руки бывшей спортсменки, были красивые. Сахута невольно залюбовался ими, даже мелькнула мысль: «Симпатичная кобета. Видимо, и коленки у нее соблазнительные. Не диво, что Зайцев потянулся погладить…»
— Он может позвонить начальнику цеха и сказать: «Слушай сюда. Там у тебя в третьем ряду справа… Блондинка такая симпатичная. Пришли ее ко мне». Как можно такое терпеть? Все понимают, он много сделал для фабрики. Строил корпуса, пионерский лагерь, профилакторий, квартиры. Дневал и ночевал на фабрике. Его ценили, орденами награждали, депутатом избирали. А теперь… Люди говорят, мол, не дали Героя, он и запил. Секретарь парткома его ставленница. Вернулась к нам после партшколы. Во всем ему потакает. Полгода работает и уже машину без очереди купила. На его выходки смотрит сквозь пальцы. А мне он заявляет: «Тебе, Лиля, придется искать работу. Я не потерплю, чтобы ты критиковала меня. Я здесь хозяин. Я жизнь положил на эту фабрику…» А еще… Даже говорить стыдно. Может напиться, стать на пороге кабинета и брюки спустить.
Выслушав исповедь женщины, Сахута предложил такой вариант: как только Зайцев напьется, чтобы сразу звонила в райком. И вот сигнал поступил.
В актовом зале, где собрался совет по научно-техническому прогрессу, у Андрея не выходило из головы: что там, на фабрике? Что делать с этим Зайцевым?
Члены совета уселись за длинным столом, Сахута как председатель во главе стола. В зале сидели руководители предприятий, секретари партийных организаций, профсоюзные и комсомольские лидеры.
— А кто есть с трикотажного объединения? — спросил Сахута.
Поднялся невысокий лысоватый человек, отрекомендовался, что он — заместитель директора.
— Приглашали ведь директора. А где же он?
— Директор немного приболел.
— А секретарь парткома тоже болеет?
— Этого я не знаю.
В зале заулыбались. Сахута не мог не заметить это. «Значит, люди знают о директоровой болезни. Надо решать», — подумал он, открыл заседание совета и первому дал слово председателю секции «Научная организация труда».
Как только разошлись члены совета, Сахута потянулся к внутренней связи, чтобы позвать Светлану Васильевну, — Зайцев с трикотажной фабрики не выходил из головы, но сдержал себя: стоп, братец, передохни, не вертись, как голый в крапиве. Он откинулся на спинку кресла, закрыл глаза… А какая теперь красота в лесу! Эх, если бы походить с ружьем! Как давно он не был на природе…
Он резко поднялся, посмотрел в зеркало: «Стареешь, братец. Что хотеть? Пятый десяток разменял». Причесался, пригладил волосы над залысинами, которые вклинивались в еще густой чуб. Светлана Васильевна заходит к нему всегда с легкой приветливой улыбкой, аккуратная, модная. Заигрывает, что ли? Семья у нее вроде нормальная, есть сын, муж, а вот же хочется нравиться. Но — не до служебных романов.
Невольно вспомнился земляк Михаил Долгалев, именно он выводил в люди. Недавно они виделись, когда Николай Шандобыла возил Долгалева в лечкомиссию. Потом Андрей Сахута ездил к нему. Подолгу беседовали. Врезались в память слова: «Дела наши дрянь. Кремлевские деды спят на ходу. А мы топчемся на месте. Тянемся, как собака за возом. Одно хорошо: страха у людей поменело. Вот и я могу сказать, что думаю».
Сахута уверенным, хозяйским шагом шел по коридору, застланному красной ковровой дорожкой, толкнул дверь кабинета Светланы Васильевны — закрыто. Вошел в приемную: Светлана Васильевна и секретарша о чем-то шептались. При его появлении беседа кончилась.
— Ну, как вы съездили? Заходите, рассказывайте.
— Все подтвердилось. Но секретарша у него… Овчарка лютая… Говорит, директора нет, не приезжал с обеда. Требую: откройте кабинет. А она свое: не имею права, не пущу… Я говорю: сейчас вызовем милицию. А она: можете вызывать, у меня нет ключа. Короче, нашелся ключ. Заходим в кабинет. Храпит под столом… Так набрался, что неприятно говорить… В штаны напустил. Надо решать…
— Готовьте вопрос на бюро. Дадим ему строгача. А там посмотрим, как он будет себя вести…
Андрей Сахута понимал, что у Зайцева найдутся адвокаты и в горкоме, и в отделе промышленности ЦК. Но и молчать о его проделках, о которых знают люди, нельзя. Об исключении из партии нечего и говорить. «Строгача» достаточно, чтобы снять с должности.
После ужина Сахута снова уселся с книгой Зиновьева. Чем больше читал, тем больше соглашался с автором.
— Ну и шельма! Как в сук влепил! — удивлялся и выписывал в блокнот: «Подобно тому, как все ибанские газеты похожи друг на друга и различаются только названиями, все ибанские стенгазеты похожи друг на друга и различаются только стенками, на которых они висят».
А саркастические частушки, довольно грубоватые, решил прочитать жене. Направился на кухню, где Ада мыла посуду.
— Вот, послушай, какие частушки:
Ты, подружка, твою мать, Пропоем страдание, Сперва было бытие, А потом сознание.Или:
У моей зазнобы в попе Сломалася клизма. Снова бродит по Европе Старый призрак изма.— Это он так про коммунизм? — расхохоталась Ада. — Но грубо. Примитивно. Дай и мне почитать книгу.
— Мне дал на три дня человек из обкома. Хочу Петру подсунуть. Ну, земляку с телевидения. Позвоню сегодня в обком, попрошу отсрочки. Скажу, некогда было дочитать.
— А что за человек автор?
— Профессор, доктор наук. Несколько лет назад, когда книга вышла за кордоном, его выслали на Запад. Посади в тюрьму или в психушку, за бугром поднимут тарарам. А он всю нашу идеологию положил на лопатки. Сталина, Хрущева обгадил. Вот послушай. — Ада села рядом, чтобы лучше слышать, потому что читал Андрей полушепотом: такие слова произносить вслух было боязно даже на своей кухне родной жене. — Сталин — это ХОЗЯИН, а Хрущев — ХРЯК. Значит, когда умер Хозяин… Дальше Зиновьев пишет: «А на горизонте Истории Ибанска уже маячила колоритная фигура Хряка. В одной руке фигура держала маленький кукурузный початок, не достигший молочновосковой степени зрелости, а другой показывала большой кукиш. Одна нога у фигуры была босая. Фигура громко икала и бормотала лозунги. НОНИШНОЕ ПАКАЛЕНИЕ, ТВОЮ МАТЬ, БУДЕТ ЖИТЬ ПРИ ПОЛНОМ ИЗМЕ…» — эти слова выделены крупным шрифтом. — Андрей показал жене страницу.
— Милый мой, это издевка над всем нашим жизненным укладом. А насчет хряка… Судить можно за оскорбление. Мы верили в коммунизм… Ну, не все, но большинство людей верило.
— Согласен. Но иногда я думаю: может, коммунизм — это утопия? Несбыточная мечта человечества. — Андрей помолчал, потом задумчиво добавил: — Вот я сегодня распинался, за научно-технический прогресс агитировал. А сам думаю: надо заинтересовать человека рублем. Тогда он сам будет искать, внедрять все новое, передовое.
— Значит, тогда надо и конкуренцию допустить. И рынок, и частную собственность. А это все элементы капитализма… Он давно уже гниет. Если верить марксистам.
— Есть у него и о высоком начальстве. Одну минутку. Я отметил карандашом. Прежние читатели тоже птичек наставили. Вот такой пассаж: «Если хотите знать, самую глубокую основу всех мерзостей образует не безнравственность средних или худших представителей рода человеческого, а ущербная нравственность его лучших представителей».
— Рыба гниет с головы. И есть это в любой стране. В любом обществе, не только у нас.
— Правильно мыслишь, моя милая. Но книга о нашем обществе. В первую очередь все касается нас. Есть тут и насчет права и оппозиции. Критика очень серьезная.
— Наши люди не прочитают книгу. Она недоступна для них. Ну что, я пойду спать. Ты еще будешь читать? Так иди в свой кабинет. Чего тебе сидеть на кухне? Включи лампу. Там удобней.
— Хорошо. Пойду. — Он поднялся. Обнял Аду, поцеловал. — А может, пойдем? Присплю тебя…
— Вот читай. Раз подгоняют. Что-то я устала за день.
Ада направилась в ванную, Андрей подался в свой кабинет. Читая дальше, наткнулся на небольшой раздел «Человек и научно-технический прогресс», прочел раз, другой. И не мог не согласиться с автором, что человеческое счастье не зависит от научно-технического прогресса. «Человек — это честь, совесть, стремление к свободе воли и выбора, к свободе перемещений, к свободе творчества».
Захотелось выписать и такие слова: «Человека гражданином делают не наука и техника, а искусство, нравственность, религия, идеология, постоянный опыт сопротивления. Не любое искусство, не любая идеология. И не всякая борьба за свое я». Последнее предложение Андрей подчеркнул дважды. И снова вспомнил Зайцева. Человек много трудился, горел на работе. Но так ли от души? Может, старался ради карьеры? Получал награды, полюбил власть над людьми. Мог вызвать в кабинет любую симпатичную женщину, пообещать ей лучшую работу, квартиру, премию и смело лапал за колени… И женщина отдавалась. Ради такой власти он карабкался вверх. А когда не дали Звезду Героя, человек будто сломался, запил, загулял на всю катушку.
В конце концов, автор не открывает Америки. Сахута и сам не раз думал, что цивилизация, научно-технический прогресс не делают человека счастливее, добрее. Умнее, хитрее — да, более коварным, изощренным в совершении преступлений. Андрей глянул на часы и ужаснулся — был второй час ночи, выключил свет, но чувствовал, что сразу не уснет. Посмотрел на улицу и удивился: так много светилось окон. Что делают люди? За каждым светлым окном человек, который не спит…
Торопливо проехало такси — занятое, зеленый огонек не горел, кто-то возвращался домой. Андрей тихо вошел в спальню. Ада спала, и он осторожно, чтобы ее не разбудить, лег рядом. Мелькнуло в голове, что и его завтра, уже сегодня, ждет много забот. А если б я не вышел на работу, подкралась крамольная мыслишка, что было бы? Совещание провел бы второй секретарь, некоторые встречи перенесли, но жизнь в районе не остановилась бы. Значит, я занимаюсь имитацией конкретного, живого дела. Вот, посадил дерево, оно вырастет. А протоколы заседаний, докладные, инструкции можно смело отправлять в макулатуру.
Ночью Андрею приснился странный сон. Вроде после субботника райкомовцы, другие люди отдыхали в городском сквере, сидели на лавочках и просто на траве. Дорожки сквера были посыпаны гравием. И вот Андрей взял небольшой камешек, бросил по дорожке низом, как некогда над Беседью: камешек подскакивает на воде, печет блины — так это называла ребятня. Кто больше напечет «блинов», чей камешек перелетит на другой берег, тот победил. На этот раз камешек полетел, подскакивая, и попал в лоб ребенку, которого отец вел за руку. Андрей даже увидел, как на детском лобике закраснелось пятно между бровей, словно пятнышко между глаз индийской киноактрисы. Сердце екнуло, он отвернулся в ожидании, что будет дальше. На душе было такое чувство, хоть сквозь землю провались. Мужчина тем временем приблизился.
— Ты что, свихнулся? Или пьян? — со злостью сказал он. Его лицо, смуглое, как у цыгана, перекошенное от ненависти, дышало злобой. А малыш был светловолосый, даже не плакал. — Твое счастье, что камешек не попал в глаз. Иначе я разделал бы тебя так, что ни одна больница не взяла бы.
Сидевшие на скамейках подчиненные все исчезли, как сквозь землю провалились.
Проснулся, услышал негромкие голоса — на кухне говорило радио. Выпил маленькими глотками стакан холодной воды, думал про неожиданный, бестолковый сон. Почему камешек попал в лоб ребенка? Когда его бросал, дорожка была безлюдной. Откуда появились отец с мальчиком? Вечная загадка снов.
В доме напротив светилось уже много окон, но Андрею хотелось еще немого полежать: время позволяло, да и лег поздно. Он вернулся в спальню, Ада проснулась, сладко потянулась, спросила, который час.
— Ты, видимо, поздно лег?
— Да не очень. В половине второго.
— Нечего поздно сидеть. Книга диссидента того не стоит. Как ты себя чувствуешь?
— Нормально. Только зарядку делать не хочется. Может, вместе?..
— Вместе лучше в кровати, — еще раз потянулась Ада.
Андрей вспомнил первые годы семейной жизни: сколько было объятий, горячих поцелуев, теперь занимались любовью довольно редко. И потому он охотно обнял жену.
— Где моя радость? — начал нежно целовать теплую грудь жены, еще тугую, соблазнительную, коричневатые соски, когда-то кормившие его детей, и он будто благодарил их за это.
В разгоряченном сознании мелькнула мысль: эта родная грудь ему дороже всяких «измов». Он все чаще думал, что для счастья человеку надо немного: хорошая жена, здоровые, умные дети, приличная квартира, а потом уже работа, профессия — средства кормить детей.
Но долго разлеживаться в постели времени не было, он понимал, что его ждут разные жизненные и партийные дела и что придется ему думать и про «измы». А еще уже в который раз он убедился: чем больше отдаешь в любви, тем сильнее наслаждение и радость, а лентяи не знают радости ни в работе, ни в любви.
Хроника БЕЛТА и ТАСС, 1981 г.
3 марта. Москва. Пленум ЦК КПСС, созванный ХХVI съездом Коммунистической партии Советского Союза, единодушно избрал товарища Брежнева Л. И. Генеральным секретарем ЦК КПСС.
7 марта. Минск. В столичном Доме литератора состоялся торжественный вечер, посвященный 85-летию Народного писателя Беларуси Кондрата Крапивы.
21 марта. Якутск. Закончено строительство шестисоткилометровой линии электропередач через реку Лена. ЛЭП соединила берега могучей реки.
22 марта. Полоцк. В отреставрированном Богоявленском соборе открылась картинная галерея.
XI
Ночью Петру приснился сон. Вроде он еще школьник, на дворе весенние каникулы. И вот они — четверо друзей: Андрейка, Данька, Павлик и Петрик, выправились на лодке в лес. А паводок в самой силе, от деревни до леса — море воды, лишь кое-где торчат рыжие шапки курганов. День солнечный, ветреный, водная зыбь блестит, словно рыбья чешуя. Петрик сидит в центре лодки-плоскодонки с веслом, закрепленным на правом борту в уключине, напротив Андрейка, он с нетерпением ждет, чтобы занять Петриково место, взяться за весло — парнишки гребли по очереди. На корме важно сидит Данька, тоже с веслом, он гребет и управляет лодкой. А впереди, на носу лодки, прилепился Павлик — он недавно уступил место Петрику и, разгоряченный, смотрит на красные свои ладони с пузырьками мозолей — так он старался грести.
Лодка приближалась к руслу Беседи. Течение здесь бурное, глубина большая.
— Греби сильнее! — кричит Данька. — А то снесет вниз.
Петрик загребает тяжелым веслом изо всех сил, чувствует, как руки наливаются свинцом, во рту пересохло, а лодку несет вниз могучее бурное течение.
— Данька, правь в старую Беседь! А то в Гомель занесет нас, — испуганно кричит Павлик.
Старое русло реки едва заметно по верхушкам кустов. И Данька, и Петрик яростно орудуют веслами. Наконец плоскодонка вклинивается среди ольшаника в старое русло. Павлик ухватился за верхушку куста, чтобы причалить лодку, она закачалась, вода ринулась через накренившийся борт.
— Не двигайтесь! — Данька ловко положил весло поперек, чтобы выровнять лодку. — Черпайте воду!
Андрейка черпал деревянным ковшиком, Данька своей кепкой, Петрик и Павлик просто ладонями. Постепенно мутно-бурая вода убывала. Ребята понемногу успокоились, понимая, что опасность миновала.
— Если б лодка перевернулась, мы бы пошли на дно. А тут глубина большая, — рассуждал Данька. — Нам повезло.
И тут Петро проснулся. В квартире было тихо, окна уже светлели. Во рту действительно пересохло, сходил на кухню, выпил воды. Было еще рано — без четверти пять. Немного полежал, убедился, что заснуть не удастся, и как только блеснуло солнце, побежал на зарядку.
Все последующие дни, чтобы ни делал, Петро нет-нет да и вспоминал сон. И ему очень хотелось поехать домой, увидеть весенний разлив реки, и особенно — ледоход. Эта картина врезалась в память навсегда: по Беседи плывут с шорохом и треском, наползая одна на другую, льдины. Бурное течение разворачивает их, снова сталкивает. Треск, шум и гул стоят над проснувшейся рекой.
В субботу, наблюдая по монитору за учебной передачей о творчестве поэтессы Цётки, ему захотелось записать свои впечатления.
Нынче в тишине кабинета он перечитал свои записи.
14 февраля. За окном февральская метель. Зима отважилась показать свой характер. А до этого было очень тепло… Как я жду субботу! В будние дни наваливается столько проблем… 11-го повезло попасть на вечер Мележа. Было много интересных выступлений. Основательный доклад сделал Алесь Адамович. Выступали москвичи: Сартаков, Залыгин, впервые видел и слушал известных русских литераторов. Эмоционально и глубоко сказал об уроках Мележа Геннадий Буравкин: не писать о том, что тебе недорого, любить литературу, а не себя в литературе. Заботиться о культуре народа. Все верно!
Да, Иван Мележ — крупный художник. Суровая, неумолимая судьба не позволила ему завершить свои замыслы. Как не позволила Максиму Горецкому и Михасю Чароту, Кузьме Чорному и Михасю Зарецкому и много кому еще. Единственный, кому больше повезло, — Якуб Колас, а из современных, видимо, наиболее полно реализовал свой талант мудрый Кондрат Крапива.
25 февраля. Среда. Вернулся из Риги. Какая интересная поездка! Столько встреч, знакомств. Наши телепрограммы не хуже других, правда, мы получили диплом третьей степени. И то хорошо. На прощание был банкет на высоком уровне — 24-м, последнем этаже гостиницы «Латвия». А какая панорама вечернего города! Море огней: огни на море — сторожевые корабли на рейде, огни в порту, на городских улицах. Минск — большой город, а такого высотного здания не имеет. Надо расти!
7 марта. Канун женского праздника. Искусственно придуманного, как и 23 февраля. Вот День матери — это праздник. По религии Великий пост, нельзя есть жирное, мясное, пить спиртное, а праздник провоцирует пьяные застолья. Не по-божески это! Женщин надо уважать каждый день. Да и цифра восьмерка — странная, двусмысленная. И так, и сяк поверни — все равно восьмерка. Значит, и женщину можно… Позавчера был на вечере Кондрата Крапивы. Пришел даже сам Киселев, первый секретарь Компартии Беларуси, а с ним вся троица: премьер Аксенов, пред. Президиума Верховного Совета Поляков и второй секретарь ЦК КПБ Бровиков. Вел вечер Нил Гилевич, и делал это достойно, с юмором. Про аксакала драматургии долго говорил Андрей Макаенок, а потом сказал: нам нужны новые театры, а то у нас всего три белорусскоязычные. Неужели Министерство культуры умеет считать только до трех? Вижу, вечер записывает телевидение, эти слова прошу не стирать… Высокое начальство переглянулось, заулыбалось, в зале грянули аплодисменты. Тут я полностью солидарен с Макаенком.
Сам юбиляр говорил сидя, но не заикался, не путался, иногда по-старчески сухо покашливал. И закончил: да наступнага юбілею! Молодчина! А ему 85! Недавно опубликовал отличные басни, возможно, написал их раньше, а теперь обнародовал. Нил Гилевич прав: после Крылова в славянской литературе это крупнейший баснописец и великий драматург.
25 апреля. Вчера нечаянно попал в Молодечненский район, в деревню Ракутевщина. И сажал там Максимов сад.
Ракутевщина — небольшая живописная деревня. В 1911 году в ней прожил несколько месяцев Максим Богданович — впервые в белорусской деревне, дышал целебным воздухом, слышал родной язык, — бледнолицый юноша двадцати лет! Он ходил здесь, видел эти окрестности.
«Калісьці летняюрабочаю парой Праз вёску я ішоў…» — так начинается небольшая поэма «У вёсцы» (В деревне). Как увидел малыша, тот испугался, заплакал, пополз к старшей сестре, как она его успокаивала, утирала слезки, что-то говорила, склоняясь, словно мать. «І помню, я на міг пахарашэў душою». В этой худенькой девчушке он увидел то высокое, что Рафаэль пытался выразить через лик Матери Божьей. Как просто и как здорово сказано! Что значит талант и чуткая душа, полная любви, милосердия и доброты.
И вот через семьдесят лет на кургане, у дороги, идущей из поселка Чисть в Красное, мы садили Максимов сад. Несколько лет назад, благодаря заботам молодечненских историков-краеведов Миколы Ермоловича и Геннадия Кохановского, на кургане установлен оригинальный мемориальный знак: высокий камень, острый, как свеча, а рядом другой, широкий, слоистый, на нем — металлическая пластина с надписью, что здесь жил Максим Богданович, и строфа из его стихотворения — эти же слова выбиты и на могиле поэта в Ялте: «хоць зернейкі мае…» и т. д.
День был солнечный, но ветер дышал холодом: накануне выпал снег, мела метель, какой за всю зиму не случалось. В Ракутевщине нас ждали, ямки выкопали, саженцы подготовили, школьники, будто разноцветные мурашки, облепили курган. Нил Гилевич сказал короткую речь. Голос его — сильный, громкий, и сам он — высокий, седоволосый, чуприну растрепал ветер, — стоял, как богатырь, на кургане. Дети слушали, разинув рты, глазенки блестели от интереса и волнения. А как они потом орудовали лопатами!
Нил Гилевич, Алесь Бачила, Женя Янищиц и Пятрусь Макаль посадили лиственницы, а мы с Климчуком и поэтом Хведарам — клен, сразу за камнем. Деревце вверху раздваивается, будет густое, курчавое. Пусть растет! Земля здесь песчаная, поэтому сыпали в ямки чернозем. Дети покрасневшими от холода руками смешивали чернозем с песком, сыпали смесь в ямки. И так уж старались! Думаю, этот день они запомнят навсегда.
На прощание учителя снова построили школьников, они громко, звонко кричали: «Да па-ба-чэння!» Жыве Беларусь! Якую гэтак моцна любіў Багдановіч: «Беларусь, Беларусь! Агнём імя тваё мне гарыць…»
В этом году в начале зимы исполняется девяносто лет со дня рождения Максима Богдановича. Еще мог бы жить. До этого времени нет в Минске памятника великому поэту, нет даже улицы. Оперный театр должен носить его имя, он и стоит недалеко от того места, где родился Максим. Жаль, что беспощадная, неумолимая судьба не дала раскрыться в полную силу его многогранному таланту.
Петро закрыл свой кондуит, собрался было иди в студию, и тут зазвонил телефон. Сегодня нерабочий день, начальства нет, может, Ева? Снял трубку, услышал глуховатый, взволнованный голос Лиды Якубовской:
— Петро, добрый день! Наконец я слышу тебя. А то все звоню, а тебя нет и нет. Узнал? Это Лида. Ты один? Можешь говорить?
Петро знал, что Лида в больнице. Почувствовал, что краснеет от стыда, — ни разу не навестил ее.
— Ну, как ты? Я один, можем говорить. Прости, я пока не смог навестить… Но я обязательно приеду. Как там тебя найти?
— Милый мой! Не надо меня искать. Слушай внимательно. У меня мало времени. Кто-то может зайти. Я могу звонить только в выходные дни, когда врача нет… Так вот, милый мой Петя. Я очень благодарна тебе… За все, за ласку, за теплоту… И хочу, чтобы ты запомнил меня красивой. Не такой, как сейчас. Я страшная стала, худющая. Болезнь никого не красит. Жизнь достала меня. Но уже недолго осталось… Так что, ради бога, не приходи сюда. А вот на похороны — приди. И купи букет белых роз. Моя душа эта почувствует… Буду тебе благодарна…
Последние слова Лида произнесла сквозь слезы.
— Лида, милая, я приеду. Неужели так, вдруг… Не может быть! Ты будешь жить… Что говорят врачи?
— Дорогой мой, к великому сожалению, все правда. Медицина уже бессильна… Христос воскрес, а я не могу. Ради бога, не приезжай сюда. Мне будет больно. На днях выписывают домой… Запомни те дни, когда мы встречались… Прощай, любимый… — Лида говорила с трудом, слезы душили ее. — Все. Кто-то идет. Целую крепко! Бывай! Береги себя, свою семью. Не поминай лихом…
В трубке послышались короткие гудки, словно стучало, пульсировало сердце Лиды. Светлый весенний день сразу померк в глазах Петра. Он обхватил голову руками, готов был завыть по-волчьи от беспомощности, от невозможности что-нибудь изменить…
Не знала полесская красавица Лида, которая прощалась с жизнью, не знал Петро, бывший военный летчик, бывший агроном, а теперь тележурналист, не знал никто на белом свете, что до страшной аварии на Чернобыльской атомной станции оставалось ровно пять лет.
Хроника БЕЛТА и ТАСС, 1981 г.
5 мая. Гомель. Фольклорно-театральный коллектив «Жалейка» показал спектакль «У Купальскую ноч», созданный по мотивам лирики Янки Купалы.
7 мая. Бухарест. Славными трудовыми успехами ознаменовали коммунисты и трудящиеся Румынии 60-летие Румынской коммунистической партии, которое отмечается 8 мая.
13 мая. Рим. Сегодня в Ватикане произошло покушение на папу Иоанна Павла II. Папа Римский получил ранение и доставлен в один из госпиталей столицы Италии. Преступник задержан.
XII
Каждый понедельник, после обеда, Андрей Сахута принимал посетителей по личным вопросам. Понедельник для него был действительно тяжелым днем: в половине девятого совещание в горкоме — главный партиец города давал накачку, озадачивал на целую неделю, конечно же, не обходилось без так называемых ЦУ. Затем в десять часов собирались секретари первичных парторганизаций района, директора заводов, руководители учреждений или их заместители — набивался полный актовый зал. Теперь уже давал накачку и ЦУ Андрей Сахута.
Потом к нему старались пробиться заведующие отделами: у каждого находились дела, которые можно было решить только после согласования с первым секретарем. Здесь партийная дисциплина не допускала послаблений. Андрей Сахута был убежден, что так и нужно, так и должно быть. Партийные комитеты должны работать с точностью часового механизма, показывать пример деловитости и организованности. И он делал все, чтобы так и было, точности, деловитости он требовал от своих подчиненных. И они не раз убеждались, что их первый не любит пустой болтовни, не терпит бюрократической волокиты.
Ровно в два часа он был в своем кабинете. Секретарь принесла список людей, записавшихся на прием. Было в нем семь фамилий. Бросилась в глаза знакомая фамилия — Осиновский, это новый директор трикотажной фабрики, назначенный на место Зайцева. Почему в день приема по личным вопросам? Это заинтриговало.
И вот прием начался. Вошли два человека: один высокий, русоволосый, второй — пониже, коренастый, смуглый, оба с обветренными загорелыми лицами. Это были начальник и парторг строительно-монтажного поезда. Суть просьбы: рабочие поезда трудятся далеко — в Клайпеде, Таллинне, других городах, живут там в вагончиках, ни поесть по-людски, ни помыться. Дома бывают редко, а тут еще подшефный колхоз.
— Раньше главным шефом над нашим колхозом было локомотивное депо. А мы помогали. То материалов подкинем, то строителей подошлем. Ну, при возможности, — говорил солидным басом начальник поезда. — А теперь нас хотят сделать головной организацией. Мы не потянем. Не по Сеньке шапка.
Парторг поддакивал, кивал головой, старался вставить и свои три гроша в рассказ начальника:
— Андрей Матвеевич, вся надежда на вас. Помогите.
— Понимаю ваше положение. Надо что-то придумать. Разберемся. Ну, а как живут ваши люди?
— Вы опередили нашу вторую просьбу, — смелее взял беседу в свои руки парторг.
Видимо, идя сюда, они договорились: ты докладываешь по первому вопросу, а я по второму.
— Не хватает вагончиков. Старые непригодны. Никаких условий…
— Что ж, будем решать эту проблему. Может, удастся подкинуть вам несколько новых вагончиков. А старые нужно переоборудовать. Обязательно утеплить. Материалы у вас есть. Мастера — тоже.
Сахута позвонил заведующему отделом райкома, куратору строительства, поручил взять на контроль строительно-монтажный поезд.
Как только вышли строители, порог кабинета осторожно переступили две женщины, вслед за ними топал и начальник милиции района. А дело было вот в чем: женщина получила кооперативную квартиру, когда муж служил в армии, в это время у нее родилось и дитя. Когда муж вернулся домой, начались ссоры, скандалы, жена подала на развод. Суд развел их и предложил разделить квартиру, жена не согласна: муж не помогал строить, не имеет права на квартиру. Она не пускает его домой, он угрожает расправой.
«Почему я должен этим заниматься? — тоскливо думал Сахута. — Что я, верховный судья? Есть решение суда. Выполняйте. Но, наверное, есть какая-то неточность в судовом постановлении. И что мне посоветовать? Они надеются на справедливое решение первого секретаря…»
Он терпеливо выслушал всех.
— Ну что ж, будем думать, как тут решить. Во-первых, к вам просьба, товарищ подполковник, поручите участковому, чтобы поговорил с бывшим мужем. Припугнул как следует. Какие могут быть угрозы? Есть закон. По закону будем и решать.
— Будет сделано! — быстренько ответил грузный седовласый офицер.
«Неужто ты сам не мог до этого додуматься? И до чего мы докатимся?
И во всем будет виноват райком», — настроение у Сахуты испортилось. Но вслух, обращаясь к парторгу, он сказал:
— Придите ко мне вместе с судьей. Захватит пусть материалы. Полистаем, подумаем, посоветуемся, какое решение принять. Чтобы все было справедливо…
Слово «справедливо» Сахута произносил часто. Понимал, что именно справедливого решения ждут от него люди, когда записываются на прием. Похожие проблемы он помогал решать, когда сидел в кресле председателя райисполкома. И мысли, что это не его дело — делить или не делить квартиру, тогда у него не возникало: он — власть, его выбрали депутаты, доверили ему. И он должен оправдывать доверие. А кто теперь его избрал? Пленум райкома, кучка партийных функционеров. И несколько передовых рабочих для приличия, чтобы показать связь партии с народом.
И вот он, Андрей Сахута, мечтавший стать лесником, имея диплом лесовода, сам того не желая, стал комсомольским лидером-пустозвоном. Затем руководил советской властью столичного района, а теперь имеет право влиять на решение суда, давать указания директору завода, которые противоречат законам экономики, и директор должен вытягивать руки по швам и выполнять его указания, ибо это линия партии. А еще более конкретная причина послушания в том, что его, директора, утверждали на должность в этом кабинете первого секретаря, значит, здесь могут и снять после обсуждения на бюро. И запишут: считать нецелесообразным дальнейшее… И сам министр не выручит бедного директора.
Наконец вошел Осиновский, высокий, подтянутый, курчавый. Сахута вышел из-за стола, подал руку, пригласил сесть. Внимательно взглянул на гостя, словно хотел понять, какая личная проблема привела его сюда. Наверное, Осиновский заметил это и сразу решил прояснить ситуацию:
— Хотя сегодня день приема по личным вопросам, у меня дело не совсем личное. Я пришел посоветоваться…
Чем дальше слушал нового директора Сахута, тем больше светлело его лицо и настроение улучшалось: не ошиблось бюро райкома, утвердив на должность директора трикотажного объединения этого человека. Он говорил о своих планах, о том, как повысить производительность труда, предложил завести свой фирменный магазин. Сахута пригласил заведующего отделом торговли, чтобы вместе обсудить проблему. Хорошая идея, но почему без райкома ее нельзя решить? — подумал Сахута.
— Андрей Матвеевич, а теперь позвольте высказать крамольную идею.
— Давайте. Может, она только кажется вам крамольной?
— Меня беспокоит вот что. Не моя область, но как члена партии меня это волнует. Парторг наш — ставленница бывшего директора.
— Может, я пойду? — поднялся заведующий отделом.
— Оставайся. Ты же работник райкома. Ну, мы внимательно слушаем, — подбодрил нового директора Сахута.
— На партийных собраниях сидят коммунисты, некогда работавшие на фабрике, — рассказывал он. — Они давно на пенсии, а на учете в этой организации. Старики говорят о внучатах, где что болит, про анализы мочи, в каких санаториях отдыхали. Потом зевают, дремлют, слушая ораторов. По- человечески их можно понять, они свое отработали, выполнение плана их не волнует. Так почему их не поставить на учет в парторганизациях при домоуправлении, по месту жительства?
Предложение не удивило Сахуту, он и сам не раз думал об этом. Знал, что сторонников сохранения такого положения много, начиная от престарелых членов Политбюро: надо соединять энергию молодых с опытом и мудростью пенсионеров, не выбрасывать ветеранов за борт, содействовать их активной партийной и жизненной позиции.
— Иван Кузьмич, мне ваше предложение нравится. Но все не так просто. Напишите в «Правду». Даже если не опубликуют, ваше письмо попадет в ЦК КПСС. Обязательно напишите. Считайте, это вам партийное поручение, — сказал Сахута.
— Хорошо. Напишу. Не зря говорят: инициатива наказуема…
— Выходит, что так, — улыбнулся Сахута.
Осиновский крепко пожал ему руку, вместе с заведующим отделом вышел из кабинета. Вскоре дверь отворилась — на пороге стоял новый посетитель. Разные причины, разные заботы и проблемы вели людей в райком партии. Всех Андрей Сахута внимательно слушал, каждому старался помочь, дать совет или говорил так:
— Мы изучим вопрос. Что в наших силах — сделаем. Вам дадим ответ.
Краем глаза Сахута поглядывал на часы: его ждало еще одно мероприятие — встреча с молодыми коммунистами, которым он должен вручить партийные билеты или кандидатские карточки.
В райкомовском зале собрались молодые партийцы. Много было в зале женщин, молодых, симпатичных. Это удивляло Сахуту: почему женщины, будущие матери, а некоторые уже имели семьи, идут в партию, неужели у них много свободного времени? Все чаще он ловил себя на мысли: большинство людей идут в партию не по идейным соображениям. Учительница понимает: завучем, а тем более директором, ей не быть, если не станет членом партии. Инженера не назначат начальником цеха, летчика — командиром экипажа без партбилета в кармане, «хлебной карточки», как зовут в народе красную партийную книжечку.
После чашечки крепкого кофе Сахута взбодрился, да и вид людей, ждущих от него добрых слов, пожеланий, возбуждал, как наркотик. Перед каждым выступлением он переживал подъем, волнение, как артист перед выходом на сцену.
Сначала Андрей Сахута вручал партийные билеты и кандидатские карточки молодым коммунистам, крепко пожимал руки мужчинам, деликатней — женщинам.
Он стал замечать, что многие директора заводов, руководители учреждений — здоровые мужики, охотно выдвигали на партийную работу женщин. И заводили служебные романы не с пигалицами-секретаршами, а с дородными матронами-парторгами. Она всегда имела право сказать мужу, если он у нее был, что заседала на партсобрании или на парткоме. А где и с кем она лежала, оставалось ее тайной.
Конечно же, говорил Сахута не об этом. Вдохновенно, пафосно рассказывал о грандиозных планах страны Советов на пятилетку, подчеркнул особенности нынешнего момента, остановился на задачах района. Говорил первый секретарь без шпаргалки, глядел в глаза молодым товарищам по партии. За много лет комсомольской, советской, а теперь и партийной работы Андрей Сахута усвоил одно: с какой бы речью, короткой или длинной, он ни выступал, его задача — убеждать.
Он приметил, что симпатичная девушка в железнодорожной форме, может, проводница или бригадир поезда, слушает и смотрит на него с улыбкой Джоконды. Он тоже взглянул на нее, увидел, как она слегка покраснела и опустила глаза. Наверное, она думала не о партийном билете, который только что получила, а представила себе, что едет с «первым» в отдельном купе до Москвы…
— Еще раз поздравляю вас, товарищи, с важным событием в вашей жизни. Здоровья вам, успехов во всех делах. Важно, чтобы каждый из вас честно, с душой работал на своем месте. Был гражданином, бойцом ленинской партии! Всего вам хорошего!
В ответ послышались громкие аплодисменты. Сахута чувствовал, что закончил речь, может, слишком пафосно, но он действительно считал себя бойцом партии, считал, что живет и работает, руководствуясь партийными принципами, моральным кодексом строителя коммунизма.
Недели через три позвонил Осиновский, с волнением сказал:
— Разыскал меня корреспондент «Правды» по Беларуси. Хочет познакомиться. Я сказал, что работаю недавно. А он свое: на днях приеду.
— Так чего ты испугался? Расскажешь о своих замыслах. О магазине…
Андрей успокоил нового директора, но только положил трубку, как
забренчала «вертушка», послышался хрипловатый голос партбосса:
— Ты чего это лезешь на рожон? Тебе что, делать нечего? Додумался: давать поручения писать в «Правду»! Нашел стенгазету! Боевой листок… Если корреспондент раскопает историю Зайцева и опозорит нас на весь Союз, ты, хрен моржовый, с треском вылетишь из райкома. Положишь партбилет. И пойдешь в лес. Рядовым лесничим. На большее можешь не рассчитывать!
— Пойду. Хоть завтра. С радостью.
— Не вякай! Я не закончил, — рявкнул бас. — Мне только что позвонил секретарь ЦК. Отматюгал, как школьника. За твою самодеятельность. И этот мудила Осиновский. Ветераны зевают на партсобраниях, мешают выполнять план. Плохому танцору и яйца мешают. Магазин ему подавай. Коммерсант нашелся. Объясни этому хрену моржовому: его задача давать продукцию. Качественную и недорогую. А государственная система торговли продаст. Ты разве не видел, какие очереди в магазинах? С неба свалился… Хрен моржовый и ты, и твои выдвиженцы…
Из трубки доносились короткие гудки. Андрей хотел швырнуть трубку, но спохватился: разве телефон виноват, что руководят хамы.
Ни районный партийный лидер Андрей Сахута, ни его грозный босс, ни боец идеологического телевизионного фронта коммунист Петро Моховиков не могли и в страшном сне увидеть, что через десять лет райкомов и ЦК не будет, а многомиллионная КПСС превратится в пустой звук, о ней станут говорить как о преступной организации, и миллионы честных коммунистов будут молчать, и станут их называть коммуняками. Зато бывший диссидент, автор «Зияющих высот» станет ярым защитником коммунизма. О Господи, неисповедимы пути Твои…
Тем временем спокойно текла Беседь, несла свою криничную дань далекому вечному океану. Река не обращала внимания на исторические пленумы и исторические съезды, на всякие «измы». Но ей приходилось выплевывать грязную жижу с ферм и комплексов, которые «посадили» на ее берегах твердолобые партийные функционеры.
До аварии на Чернобыльской атомной станции, которая засыплет зеленые берега Беседи смертоносными радионуклидами, оставалось пять лет.
Хроника БЕЛТА и ТАСС, 1981 г.
2 июня. Могилев. Пчеловоды Костюковичского лесхоза обязались к концу пятилетки увеличить количество пчелиных семей на лесных пасеках со ста пятидесяти до полутора тысяч.
11 июня. Буэнос-Айрес. Около 8 процентов всего трудоспособного населения Аргентины не имеют работы.
20 июня. Пинск. Больше 140 квартир со всем комплексом городских условий построено в новом совхозе «Парахонский», который вырос на мелиорированных землях Полесья.
29 июня. Найроби. Итогом первого года независимости Зимбабве стало укрепление в стране единства, равенства и демократии, заявил здесь премьер-министр республики Р. Мугабе.
XIII
После разговора с Лидой по телефону Петро ходил сам не свой: не видел ни солнца, ни весеннего цветения садов, не слышал пения птиц. Как же так? Все в природе пробуждается, а молодая красивая женщина умирает, и никто не может ей помочь? И что бы ни делал Петро, постоянно думал об этом. И рассказать о своих переживаниях не мог никому: о его связи с Лидой до женитьбы знали многие, но потом он глубоко запрятал свою грешную любовь. Он мог бы навестить Лиду и даже обязан — она сотрудница его редакции, но из головы не выходила ее просьба не приезжать, запомнить красивой, и обязательно прийти на похороны с букетом белых роз, хотя с такими цветами ходить на похороны не принято.
В своем дневнике Петро ничего не писал про Лиду. И здесь он не мог быть искренним и открытым, так и ходил с невысказанным горем. Он понимал, что его переживания не идут ни в какое сравнение с мучениями Лиды. Он погрустит-погрустит и будет жить дальше, а для нее все кончено.
Май приближался к своей середине, весна готовилась передать эстафету первому летнему месяцу. Как-то в субботу Петро раскрыл свой дневник. Нет, писать ничего не хотелось, не то настроение, просто листал, перечитывал прежние записи.
Ехал в троллейбусе. Сидел возле окна, сзади — бабушка с внуком. Вдруг слышу: «Почему дядя смотрит в мое окно? Пусть смотрит в свое». А мне, чтобы посмотреть в другое окно, нужно очень сильно наклониться вперед. Бабушка стала уговаривать внука — ему года четыре, — дескать, окно общее, и троллейбус для всех, но малыш не сдавался. «Окно мое!» — и больше ничего не признавал. Вот, собственник растет! Приватизация влияет на всех.
Вечером рассказал эту историю дома. Иринка и Костик смеялись. «И ты ему ничего не сказал?» — спросила Иринка. Я молчал, тогда Костик глубокомысленно изрек: «А что ему скажешь? Бабуля такой тарарам поднимет, что пожалеешь…» — «Ты прав, Костик», — согласился я. И увидел благодарный взгляд Евы, что не делю детей по крови. Я, в самом деле, редко думаю о том, что Костик — не мой сын. По воспитанию он мой, как и дочушка.
А она, кстати, удивила через несколько дней. Вечером поздно играла, смотрела мультики, а задачи по математике не решила. Утром взялась решать с помощью мамы и не пошла на первый урок — физкультуру. А потом говорит: «Папа, напиши классной записку, что я вчера болела. У меня была температура. Поэтому пропустила физкультуру». Я расспросил, как было дело, и сказал: «Нет, дочушка, я не могу писать неправду». Дочка надулась. Я собрался на работу, а она в школу. «Ну что, пошли?» — спрашиваю. Перевел ее через дорогу, школа уже совсем близко. «Папка, я побежала!» — весело сказала она, закинула за плечи косички и помчалась. «Ну и хитрюшка, — думал я, глядя вслед. — Какие мысли в этой головке с косичками?» Одно было ясно, что обиду не затаила, может, наоборот, больше будет гордиться отцом, который не хочет никого обманывать.
14 мая. Сегодня четверг. В конце дня потянуло описать вчерашнее партийное собрание. Рассматривалось персональное дело Игоря, бывшего корреспондента Всесоюзного телерадио. Фамилию его опускаю. Сначала парторг прочитал письмо жены Игоря в ЦК КПСС, в котором она писала: муж морально распущенный человек, еще в университете подделал подпись преподавателя и был исключен. Когда работал на Белорусском радио, всячески угождал гостям из Москвы: покупал шины для автомобилей, шапки зимние доставал. Назначили его собственным корреспондентом, так начал все выносить из дому на корпункт, даже кофеварку унес, денег мне не дает, о детях не заботится, партвзносы не доплачивает, пьет, гуляет, живет с любовницей.
После этого дали слово самому виновнику. Игорь — высокий, фотогеничный, тихим голосом начал говорить. «Громче! Не слышно!» — загудел зал. Игорь, не поднимая глаз, продолжил свою исповедь.
— Мне нелегко здесь стоять… Вы прослушали письмо. Я не буду его комментировать. Некоторые факты я признаю, но больше в нем неправды. Все началось после того, как мы получили квартиру. Четыре комнаты. И жена начала меня выживать. И написала вот эту кляузу. Неправда, что не заботился о детях. Сыну купил джинсы, пообещал свозить в Москву на Олимпиаду и свозил, дочке купил кофту. Я говорю сумбурно. Прошу извинить. Это от волнения. Это письмо — месть разозленной женщины. Мы два года уже не живем как супруги. Я не хочу на нее наговаривать. На суде отказался от квартиры, от раздела имущества. Все оставил ей… Я виноват… По-глупому как-то получилось. Свои ошибки понимаю, хочу их исправить…
За время выступления он ни разу не поднял глаз. А на телеэкране был такой уверенный, улыбчивый, говорливый! Посыпались вопросы: о подделанной подписи, о шинах и шапках. Он отвечал: ничего не покупал, подсказывал, где можно «достать». Послышались голоса: кто рекомендовал Р. в партию? Поднялся Владимир Климчук, все притихли, этого человека на телевидении хорошо знают и уважают.
— Я давно знаю Игоря. Энергичный, толковый человек. Здесь говорили, что он карьерист, любит покрасоваться на экране. Я не согласен с этим. Сделать карьеру журналисту трудно, потому что никто за тебя писать не будет. И если дурень — это сразу видно. Экран беспощадно высвечивает дурь каждого. А что любит покрасоваться… Так это можно сказать и про меня, про любого, кто выступает часто, чувствует себя уверенно, работает профессионально. Поэтому я и дал рекомендацию. Я не оправдываю его, но очень жаль… Человек молодой, талантливый. Если бы на его месте оказался матерый волк, то половину обвинений он бы отверг… Не могу не сказать о жене. Мы и ее знаем давно. Почему до этого молчала? А как развелись, начала топить, лить грязь. Я за то, чтобы объявить выговор, но не записывать…
Сразу поднялось несколько рук: люди просили слова. И первой его получила пожилая женщина с химической завивкой, режиссер музыкальной редакции:
— Не могу понять действия жены. Как можно на человека, которого любила, отца твоих детей, писать такое. Он все оставил… Она не имеет права на всю квартиру. Сколько женщин с двумя детьми живут в девушках, ютятся в однокомнатных квартирах, а она будет роскошествовать…
Собрание загудело, как потревоженный пчелиный улей. Некоторые предлагали отложить собрание, проект решения необъективный, кое-кто хотел на перекур, другие кричали: давайте голосовать, фактов хватает, все понятно. Председатель собрания совсем растерялся, ему что-то говорил шеф телевидения. Поднялся мой бывший начальник — руководитель сельхозредакции, решительно пошел к трибуне.
— Когда я слушал письмо, в голове была мысль: надо исключать из партии таких проходимцев. А теперь я не знаю, как голосовать… Жена тоже неправа. Чего она добивается? Все оставил ей… Но с другой стороны: подделал подпись, сына на служебной машине возил в Москву, недоплачивал партвзносы. Все-таки выговор надо записать. Я за проект партбюро.
Начали голосовать. Приняли проект партбюро. Тогда на трибуну поднялся Игорь.
— Уважаемые коллеги! Я хочу, чтобы вы поверили мне. Я не безнадежный человек. Ваше доверие я оправдаю, — теперь он смело смотрел в зал: партбилет в кармане остался.
По-моему, этот Игорь — порядочный прохиндей, ловкач и циник. Но и женушка его ягодка еще та. Но, может, и правильно, что не исключили. А то она хотела совсем затоптать. Зачем ей это? Ненависть?
Так это или не так, а телевизионные партийцы прозаседали полдня. А еще час ухлопал я на описание грязного дела. Вот такие наши дела.
Петро спрятал свой кондуит в ящик стола, взял дипломат, уже подошел к двери, как зазвонил телефон:
— Петро Захарович! Я вас ищу. Хорошо, что вы на месте. Это режиссер сельхозредакции. Подруга Лиды. Весть у меня совсем нехорошая, — сквозь слезы говорила женщина. Петро все понял, почувствовал, как похолодело под сердцем. — Умерла Лида. Сегодня. Похороны завтра…
— Может, что нужно? Чем могу помочь?
— Пока ничего. Приезжайте на кладбище. Автобус будет от старой студии в двенадцать часов. Она просила, чтобы никаких речей, никаких венков. Цветы можно…
Петро тихо положил трубку на рычаг. Вроде и ждал этой вести, знал, что финиш близко, внутренне готовился, но не думал, что так заноет сердце от боли, от беспомощности и тоски. Вспомнил последнее желание Лиды: приди на кладбище с букетом белых роз.
16 мая. Вчера похоронили Лиду. Сгорела как свеча… В завещании написала: гроб не открывать, никаких венков, никаких речей… Открытый протест против лицемерных сожалений. Грызли ее завистливые теледамы и в сельхозредакции, и в литдраме. Пятнадцать лет отдала телевидению, оно и доконало. И муж-выпивоха немало крови попортил… Остался сын, ему десять лет, по сути — круглый сирота. Отец на похороны не явился, вроде снимает фильм где-то далеко.
Просила Лида запомнить красивой. Высокая, с легкой, грациозной походкой; большие синие глаза, будто васильки во ржи, сияли на ее лице, которое обрамляли светло-русые волнистые волосы; ровные, белые, как чеснок, зубы. Истинно белорусская девушка-полешучка. Пожалуй, слишком красивая и чистая для нашей жизни, и особенно — для телевидения. Прожила тридцать семь. Могла бы жить еще столько и даже больше, если бы спохватилась раньше, не запустила болезнь. А может, ей не хотелось больше жить?
Руководила ритуальной церемонией режиссер из сельхозредакции, подруга Лиды. Парни с телецентра вытянули гроб из автобуса, установили на табуретки возле свежей могилы. Все молча смотрели на обитую черным крепом домовину, в которой навсегда нашло приют и вечный покой измученное тело молодой красивой женщины. Ярко светило солнце, пели птицы. Из кустарника, примыкавшего к ограде кладбища, донеслась звонкая соловьиная трель. И эта извечная песня показалась более звучной, чем прощальная, грустная мелодия оркестра.
К гробу подошла старшая сестра Лиды, тоже высокая, красивая, с моложавым лицом и седыми волосами.
— Сурова была к ней жизнь. Столь же сурово и ее завещание…
Больше никто не сказал ни слова. Взволнованно кусал тонкие губы секретарь парткома — узкоплечий, сутуловатый очкарик, блестела на солнце бритая голова директора программ, группкой стояли коллеги Лиды, впереди их худощавый, бледнолицый мальчик с мокрыми синими глазенками.
— Можно опускать? — нарушил молчание старший могильщик и посмотрел на сестру усопшей. Она молча кивнула.
В глухом молчании опустили гроб. Мы бросили по три горсти желтобурого песка. Затем взялись за лопаты могильщики, комья земли гулко застучали по крышке домовины. Быстро, слаженно орудовали лопатами могильщики, насыпали холмик, который устлали живыми цветами.
После похорон Лиды ходил Петро, как черная тень, ругал себя, что не встретился с ней в последнее время. Из головы не выходило: почему так жестоко обошлась с Лидой жизнь? Крутился в работе, как белка в колесе, а Лиду забыть не мог.
Пришло лето. Сотрудники просились в отпуска. Правда, был график, заранее составленный ответственным секретарем редакции вместе с профсоюзным лидером. Отпуск Петро запланировал на конец лета — начало осени, подал заявление на путевку в санаторий: иногда ныло сердце, или как он говорил врачам — клапаны стучат, давление повышенное.
Как-то после ужина он прилег на диване с газетой, вскоре Ева позвала к телефону. В трубке рокотал баритон Владимира Климчука:
— Старик, слушай сюда. Есть предложение. Поехали на Купалье. В Заславье. Мы передачу записываем. Через час отъезд. От старой студии. Поехали, не пожалеешь…
7 июля. Вчера неожиданно попал в Заславье на Купалье. Когда приехали, сразу бросилось в глаза множество милиционеров и дружинников. На древнем валу замчища, напротив церкви, в которой сейчас краеведческий музей, собралось много людей. Девчата с филфака Белгосуниверситета в венках из васильков и ромашек, в длинных полотняных платьях-сукнях пели народные песни. Здесь же делались значки: вырезались из толстой бумаги, будто экслибрисы, приготовленные заранее, зеленые и голубые гравюрки вставлялись в футлярчики. Такой значок с надписью: «Заслаўе, Купалле 81» — я получил из рук симпатичной светловолосой, с карими глазами девушки. Она сидела босиком на дерюжке, пела, как и все, и делала значки. Это оказалась Купалинка, потом у костра она водила хоровод в купальнике, убранном цветами, травой. И все это действо вершилось под дождем.
Дождь подпортил гуляние. Так хотелось всем, чтобы грозная туча с молниями прошла мимо. Но вскоре линул сильный дождь. Мы спрятались в машине, к нам присоединился историк Микола Ермолович. Интересный был разговор о нашей истории, я в душе благодарил дождь, он помог познакомиться с интересным человеком. После одиннадцати Купалье началось. Мощные армейские прожекторы высветили высокий вал. Вспыхнули костры, сначала небольшой на валу, девчата и парни запели под бубен купальские песни. Сам Купала Ян, красивый длинноволосый студент, и Купалинка, ясноглазая красавица в венке, водили хоровод. Горел, дымил, сыпал искрами громадный костер, парни размахивали горящими факелами-походнями, что-то кричал бородатый режиссер, бегал, как юла, суетился кинооператор.
Несмотря на дождь, древнее, языческое буйство охватило всех, когда зажгли главный, самый большой костер. Девчата из какого-то ансамбля под фонограмму пели, с криками, визгом носились вокруг костра.
Организаторы готовились серьезно, даже флаг особенный сделали и подняли его из окна церкви, на нем надпись та же, что и на значке. Украсили праздник всадники из Ратомки, приехало много художников, писателей, журналистов. Корреспондентка журнала «Советская женщина», высокая, тоненькая, как тростинка, пафосно восклицала: «Я хочу прославить ваше Купалье на 130 стран мира». Дай Боже услышанное увидеть.
Об этом шла речь на ночном застолье в Доме культуры. Напитков и закусок было мало, зато горячих тостов много: за нашу историю, за наши давние традиции, за родной язык. А когда поднялся высокий, красивый, темноусый художник-живописец Алексей и громко воскликнул: «Жыве Беларусь!», мы все в едином порыве встали и дружно, будто клятву, произнесли: «Жыве!»
Пожалуй, впервые я так эмоционально и с гордостью почувствовал себя белорусом.
XIV
— Петрок! Что-то пчелы разлетались? Посмотри, вон над яблоней кружат. Может, облет? А может, и рой! — крикнула из веранды Татьяна.
Мамута сразу насторожился, потому что облет пчелы совершают обычно во второй половине дня, а тут еще нет и двенадцати. Он взял ведро воды и березовый веник, заранее подготовленный на случай роя, подошел к ульям. Над зеленым домиком, на первый взгляд безладно, кружили пчелы. Из нижнего и верхнего летков на волю высыпали сотни новых пчелок, они поблескивали светлыми, молодыми, неизношенными крылышками и с первородной радостью взлетали вверх. Над пасекой звенел могучий гул.
Петр Евдокимович сразу определил: выходит рой. Побрызгал пчел, круживших над ульем, водой, словно освятил, благословил на вылет в новую жизнь. Он следил, где начнут пчелы садиться, собираться в клубок. Высоких деревьев, как и положено, на пасеке не было, на молодых яблонях и сливах можно снимать рой, подставив два табурета. Пчелы суетливо кружились над сливой и со всех сторон тянулись к ней, будто притягивало их магнитом.
— Ага, вот они где выбрали место, — Мамута увидел темный клубок пчел, который на глазах разбухал, воздух вокруг словно кипел от тысячи крылатых насекомых. — Очень хорошо. Не надо никуда лезть.
Рой был огромный, клуб тяжелел, ветви, на которых привились пчелы, сгибались все ниже. Дымарь был заранее подготовлен, заправлен сухими гнилушками — только поджечь. Круглая, легкая роевня тоже была готова к работе: обвязана белой холстиной, нужно только сделать щель — отодвинуть с одной стороны холстину и направить туда пчел. Однако на этот раз более подходящей оказалась роевня-сундучок, внутри нее имелись четыре рамки сотов-суши, дырочки для вентиляции, леток, который потом можно закрыть, а крышка и дно легко вынимаются. И эта роевня была готова.
Мамута взялся разжигать дымарь. Подошла Татьяна, увидела дымок и сразу все поняла.
— А где они сели?
— Ой, хорошо сели. На ветвях сливы. Никуда лезть не надо. Принеси, пожалуйста, табуретку.
— А ложка есть? Может, еще одну взять?
— Возьми. Не повредит.
Петр Евдокимович надел на голову сетку-маску, закрывающую лицо, взял сундучок-роевню, дымящийся дымарь и быстрым шагом направился на пасеку. На сливовом дереве тем временем образовалась огромная темная трепещущая груша. Петр Евдокимович присматривался, есть ли трутни. Их, толстых, важных, не было видно, значит, рой-первак, матка плодная, которая зимовала, самцы-трутни ей не нужны.
— Ну, молодчина! Такую армию собрала! Значит, силенку еще имеешь. Только бы собрать твоих деток всех, никого не прижать, не обидеть.
А тебе уже третий год. На добрый толк, надо менять. Ну, если с роем вылетела, значит, начнется твоя вторая молодость. Мамута любил говорить с пчелами, ему казалось, они все понимают, он мог даже погладить своих крылатых сборщиц нектара, а вот прижать невозможно — расплата будет мгновенная. Он знал, что перед выходом роя старая матка откладывает много яичек, очищается и облегчается, иначе она не сможет взлететь. Он обкурил роевой клуб дымком, дал знать пчелам: хозяин на месте, улей для них готов, не надо лететь на новую квартиру, которую подыскали пчелы-квартирьеры, а это может быть лесное дупло, старый улей-развалюха. Рой вел себя спокойно, гул ровный, в нем слышалась надежда на счастливую семейную жизнь в новом домике.
Роевые пчелы заправляются медом перед вылетом, ибо путь может растянуться на пять-семь километров, берут с собой воск, прополис, чтобы на новом месте быстро строить соты, матка отдохнет день-два и начнет свое святое дело — откладывать в соты яички. Мамута увидел пчелку с корзинками, полными желтой пыльцы: эта прямо из лесу или поля. На новом месте все понадобится.
Подошла Татьяна с табуреткой, в белом платке, завязанном под подбородком, сетку надевать не любит. Мамута и сам часто заглядывает в улья без маски. Но роевые пчелы могут рассердиться, а тогда успокоить их непросто.
Мамута поставил роевню на табурет, оказалось низковато, попросил Татьяну принести пару полен дров. Теперь край роевни доставал до пчел, Мамута обкурил еще разок, затем загреб полную ложку крылатых насекомых и высыпал в роевню, затем еще и еще. Вскоре пчелы сплели живую лестницу и по ней двинулись в новый дом, не подозревая, что жилье это временное, только до вечера. Но тут подул ветер, ветви колыхнулись, это не понравилось пчелам, они сердито загудели, одна пеканула пчеловода в руку. «От, дурничка! Я же не виноват, что ветер подул. Татьяна, держи ветви. Ветер поднимается. Покури сюда».
Татьяна, всегда помогавшая мужу в пчеловодческих делах, понимала его с полуслова. В последнее время она часто болела, и выручал ее мед, потому к пчелам она относилась с большой любовью.
— Ну, хорошо идут. Если б еще матку увидеть, как она зашла. Тогда можно быть спокойными. Я б пошла в огород. Лебеда душит морковку.
— Иди. Я справлюсь, — тихо ответил Мамута. Он придерживал ветви, чтобы ветер их не двигал и пчелы не сердились.
Настроение у него было приподнятое. Радовался, что рой не улетел, да такой большой. Если ему подставить рамку печатной червы, от была бы сильная семейка! Но где взять такую рамку? В домике, из которого вышел рой, нежелательно, семья и так ослаблена, в других ульях стоят надсатки-магазины, их нужно снять, чтобы достать из гнезда рамку червы, а это дело непростое. Решил посадить рой, понаблюдать за ним. Если через пару дней пчелы будут лететь в поле и возвращаться с обножкой-пыльцой, значит, матка взялась за работу, через месяц в семье будет много молодых пчел, к концу сезона они наносят меду для себя, еще дадут и хозяину полпуда, а то и больше.
Тем временем пчелы дружно шли в роевню, на ветвях оставалось мало. Их можно уже и оставить — они вернутся домой. Но вдруг среди них матка? Потому Мамута обкурил всех, стряхнул в роевню, закрывая крышку, прижал пчелку и тут же получил жало в палец.
— Ах ты, милая моя. Я же не видел тебя. Ну что ж, спасибо за поцелуй. Это пчеловоду на здоровье, — тихо молвил Мамута.
До конца дня он ходил в радостном настроении. Первый рой в этом сезоне приятно его взволновал, легко удалось снять, сидят пчелы тихо — значит, матка есть. Случалось, рои улетали. Минувшим летом вышел рой с молодой маткой, сел на самую верхушку яблони. Пока Мамута разжег дымарь, пока принес лестницу, пчелы поднялись и полетели в лес за Беседь. Он стоял и смотрел им вслед, готовый расплакаться от обиды: зимой две семьи погибли, а тут еще потеря. Если бы дома не был, не видел, а то ведь на глазах удрали. Да и Татьяна подлила масла в огонь:
— Ну и раззява ты, Петрочок. Упустил рой.
Ничего не ответил Мамута, душа и так плакала, укор жены — будто соль на свежую рану. Понемногу успокоился, утешил себя: это же хорошо, что где-то еще будут жить пчелы.
Мысли мыслями, но надо готовить домик для новой семьи. На пасеке стоял свободный улей: выставил с надеждой, что залетит чужой рой, — такое раньше случалось. На этот раз посадит своих пчел. Снял крышку, утепление — наволочку с мягким сеном, такое же утепление было и сбоку, с северной стороны. Рой даже летом надо утеплять, если не будет тридцать шесть градусов тепла, матка не начнет откладывать яички. Улей был чистый, правда, напротив одной рамки насыпались мелкие кусочки воска — значит, поработала восковая моль. Поднял рамку, увидел извилистую канавку, затянутую паутиной: по сотам прошел червяк-гусеница. Эту рамку надо удалить, останется пять, а это мало, рой большой, решил подставить еще две рамки вощины — пусть строят соты, роевые пчелы делают это быстро. Набрали воска перед вылетом, активно выделяют его. Других домашних работ мало: кормить, поить и согревать расплод не надо — только носи нектар и оттягивай соты. Нашлась для роя и медовая рамка.
Солнце уже низко висело над старой сосной в Березовом болоте, когда Мамута вынес из погреба тяжелый сундук-роевню. Тяжесть и тишина в роевне радовали хозяина: рой большой, матка на месте, если ее нет, пчелы сильно шумят, но особого кайфа для Мамуты сегодня не будет. И вот почему. Обычно он снимал рои в круглую роевню, затем под вечер Татьяна застилала белой скатертью щит напротив летка, на нижний край его Мамута клал на бок роевню, укреплял ее по бокам, чтобы не покатилась, открывал снизу холстину, обкуривал дымком, и пчелы искали путь в новый дом. Он брал их ложкой, высыпал у летка, пчелы растерянно осматривались и шли в улей. Постепенно они прокладывали тропу к летку, потом шли широкой лавиной.
— Идут, как Суворов через Альпы, — любил говорить учитель истории Петр Евдокимович Мамута.
Когда пчелы шли по скатерти, он почти всегда находил матку. Бывало, первой ее видела Татьяна и с радостью восклицала:
— Вот, смотри, какая королева! Идет вроде быстренько, но с каким достоинством! Кажется, сколько того насекомого, а такую армию народила, — удивлялась она.
Сегодня он пересаживал пчел один, скатерть не понадобилась. Он обкуривал дымком роевню, потом брал рамку с пчелами и ставил в улей, и таким образом одну за другой. Затем выдвинул дно роевни, гусиным крылом смахнул остальных пчел в улей. Новоселье закончилось.
Подошла Татьяна.
— Ну, что у тебя? Посадил уже?
— Все хорошо. Пчелки на месте. Надо нам посмотреть остальные семьи. Сорвать маточники. А то сыпанут рои, куда мы их денем? Да и семь домиков для нас хватит.
— Больше не нужно. Хотя бы этих досмотреть. Ты же любишь говорить: только сильные семьи дают мед.
— Это истина. Слабаков надо кормить. Да еще могут не перезимовать.
В последнее время они часто ссорились по разным пустякам, но в дела пчелярские Татьяна не вмешивалась, понимала — муж разбирается больше.
— Надо Юле позвонить. Пусть приедет. Вдвоем мы не справимся. А для нее будет практика.
Петр Евдокимович не возражал. Он вдруг почувствовал сильную усталость, но волна радости перекрыла ее: удачно посадил крупный рой, матка не потерялась. Будет крепкая семейка. Скоро зацветет липа, затем гречиха. Наносят пчелки меду и себе, и хозяину.
Темнело, когда Мамута подошел к домику, приложил ухо к задней стенке: услышал приглушенный звон, шорох крылышек, попискивание — это подавала голос матка: я здесь, все в порядке, домик хороший, будем в нем жить. В улье кипела работа: свита кормила матку молочком, самые нетерпеливые начали строить соты, делают это пчелы артельно, толокой, а не поодиночке. Строят все вместе, и никто не ошибется, линию не скривит. И никто их этому не учил. На седьмой-восьмой день молодые пчелы начинают выделять воск и становятся строителями и архитекторами. Много загадок в природе, но, пожалуй, больше всего в жизни пчелиной семьи.
Не только радость и душистый мед приносили пчелы Мамуте, но и много забот и огорчений. Несколько лет назад напал на пасеку клещ, из десяти семей после зимовки осталось три, у многих пчеловодов соседних деревень погибли все пчелы. Как бороться с клещом? Как сберечь крылатых сборщиц нектара? Химических препаратов не было. В районе посоветовали обкуривать полынью, сушеным корнем хрена, лист плотной бумаги смачивать растительным маслом, закладывать в леток, после обкуривания клещи будут падать вниз, прилипать к бумаге, утром эти листы сжигать.
Сушеная полынь нашлась, накопал хрена. Правда, самые толстые корни Татьяна реквизировала: скоро Пасха, дети, внуки приедут, а копченый кумпячок с хреном — превосходное угощение. Мамута не возражал, потому как сам любил холодец с хреном. Высушил тонкие корни, каждый вечер дымил в летки ульев. Три семьи вынянчил, летом только одна дала рой. Осенью дочь Юля привезла муравьиной кислоты, разъяснила, как с ней обходиться. Обработал, все пчелы перезимовали хорошо. Повеселел Мамута, через год пасека выросла в два раза.
Минувшая зима была легкая, весна выдалась теплая, рано зацвела ива, развесила пушистые котики — самое раннее медоносное растение. А потом земляника, черника, особенно дружно цвела брусника. Да и сады: вишни, сливы — стояли, словно облитые молоком. Затем вспыхнули бело-розовым цветом яблони. Пчелиные семьи быстро набирали силу. Когда в лесу зацвела малина — одно из самых медоносных растений, — Мамутовы пчелы могли работать в полную силу. Об этом говорил и весомый рой-первак, да и в надставки Мамута заглянул: есть медок, надо скоро брать.
В тот же вечер он позвонил Юле. Обрадовался, услышав:
— Если все будет хорошо, в субботу приедем.
— Ты позвони перед выездом. Мы с мамой начнем. А вы подъедете.
Так и договорились. И хотя нелегким выдался день: утром косил, потом разбивал покосы, затем снимал рой, заснуть Мамута долго не мог. Думал о своих детях. Он имел полное право гордиться ими. Валя, старшая дочь, окончила пединститут, работала в школе, заочно окончила аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию, теперь преподает в родном институте. Имеет двоих детей. Сын Юрка добился своего — стал военным летчиком, служит в приволжском городе, подполковник уже, растет у него сын-третьеклассник. Вера живет в Минске, врач-кардиолог, у нее двое детей, муж инженер. Живут дружно. Мамута охотно навещает их в столице.
Особенно гордился он младшей дочерью Юлей. Она окончила техникум, потом сельхозакадемию, помогает ему в пчеловодческих делах. Теперь она главный зоотехник колхоза «Парижская коммуна», это недалеко от райцентра. Юля чаще других наведывается в Хатыничи, муж ее — главный инженер сельхозуправления, сам ездит за рулем служебного газика. И у них тоже двое детей. Мамута с теплотой и радостью думал о своих семерых внуках. Но в глубине души он всегда помнил: в Минске растет восьмая внучка Алеся, дочь Петра, которого родила Юзя. Алесю Мамута видел один раз, когда она еще под стол пешком ходила. Бабушка Юзя запала ему в душу молодой, красивой, жаждущей любви и ласки, оно и понятно — изголодавшаяся вдова. Первый муж не вернулся с фронта, второй спился, попал под машину темным вечером. И опять она вдова…
Как-то Мамута поссорился с Татьяной, и она со злостью крикнула:
— Можешь ехать в Минск. К своей сучке…
Петр Евдокимович про свою грешную любовь к Юзе вспоминал редко, был уверен, что Татьяна ничего не знает. А она, оказывается, три десятилетия знала о его тайне и молчала. И вот теперь, на старости, ее прорвало. Она все чаще болеет, мучает гипертония, бывает, что не может наклониться. А надо же и корову доить, и огород полоть. Петрок старался больше помогать по хозяйству, особенно летней порой. То ли болезни, то ли возраст были причиной перемен в характере Татьяны, она все чаще ворчала, сердилась. И ссоры вспыхивали из-за любой мелочи.
Петр Евдокимович настроился отказаться от директорства. Он давно собирался написать заявление в районо, но духу не хватало, все откладывал. Однако этим летом надо решить окончательно, и сделать это в июне, чтобы к новому учебному году назначили нового директора. Он предложит на свое место Любу Ровнягину, Любовь Дмитриевну. Она теперь завуч, освоилась с этой должностью, институт окончила, знает людей, и ее все знают, и родом она из соседней деревни. Лучшей замены не найти, из Могилева, тем более — Минска никто в эту глушь не поедет.
Вот достанут мед, посоветуется с Юлей, с Иваном, зятем, вместе с ними поедет в райцентр. Откладывать дальше нет смысла, если каждый день об этом думать, сомневаться, колебаться, то можно свихнуться. Попросит, чтобы дали вести уроки истории, а не дадут, сильно жалеть не будет. Ему уже шестьдесят три, наработался, у него есть хозяйство, пасека — это любимое занятие. Есть к чему руки приложить.
А зимой можно и внучат навестить. Катануть в Могилев, потом в Минск. Татьяне скажет, что Юзя, минская присуха, давно замужем. Татьяна частенько ездит в Минск к дочери, а его всячески отговаривает. Дочь обижается на отца: почему не приезжаешь? Может, и она знает, что у нее есть брат по отцу?
Кажется, так просто написать короткое заявление: прошу освободить от занимаемой должности… в связи с выходом на пенсию… Всего пару строк, но рука не поднимается их начертать, глаза становятся влажными, сердце начинает болеть. Наконец Петр Евдокимович настрочил заяву, хотя и рука дрожала, повез в районо. Там никто не отговаривал, да и заведующего не было на месте — уехал в отпуск. Инспектор, молодая женщина, Мамута мало ее знал, спросила, кто может его заменить.
— Замену я подготовил. Это Ровнягина Любовь Дмитриевна. Завуч нашей школы, которую она кончала в свое время. Диплом пединститута имеет. Семья хорошая. Отец бригадиром в Вишнях работает. Правда, когда-то в чарку заглядывал, теперь завязал. Дочь перевоспитала.
— Наверное, лимит выбрал, — улыбнулась скептически бухгалтерша, сидевшая за соседним столом. — Фонд выбрал, потому и завязал. Перевоспитать пьяницу вряд ли можно. Правда, если сильно захочет…
— Может быть, вы и правы. Во всяком случае, Любови Дмитриевне это удалось. Она будет хорошим руководителем. Умеет ладить и с коллегами, и с родителями детей. Она всех знает, — убеждал Мамута инспектора. — А новый человек… Да и кто поедет в нашу глушь…
— Ну почему глушь? — не согласилась инспектор. — Из вашей школы столько известных людей вышло! Шандобыла Николай Артемович — ваш выпускник? Власть районная.
— Наш, — с гордостью ответил Мамута. — А в Могилеве, Минске наших сколько! Моховиков Петро вон по телевизору выступает. Главный редактор. Сахута Андрей — первый секретарь райкома партии в столице. Так что передайте заведующему мое заявление. Ну, и о моей кандидатке на должность директора скажите. И еще есть просьба. Разрешите мне вести уроки истории.
— Хорошо. Думаю, мы учтем ваше предложение. Удовлетворим и вашу просьбу, — заверила его инспектор.
«Наверное, она имеет влияние на заведующего. Раз так уверенно обещает», — подумал Мамута. А еще мелькнуло в голове: Было бы лучше, если б она сказала: «Что вы, Петр Евдокимович? Вы такой опытный руководитель. Поработайте еще». Ну, хотя бы для приличия поуговаривала. Я бы отказался, раз уже решил твердо, но было бы приятно. Да хоть бы спасибо сказала. А то — удовлетворим просьбу. Возможно, заведующий вел бы себя иначе. Хотя и он не так давно в районе, кадры знает слабо. А может, он не подпишет заявление? Мол, рано ты, Мамута, собрался в обоз. Ты еще нужен. Поживем — увидим.
Вышел из районо Петр Евдокимович с каким-то неизведанным раньше чувством: вроде можно вздохнуть с облегчением — не надо думать о ремонте школы, о заготовке дров, подбирать кадры, ездить в район на совещания, а с другой стороны, будто заноза, в голове засела мысль: ты уже никому не нужен, отработал свое, сиди на диване у телевизора. Уроки истории могут дать, а могут сказать: все, хватит, отдыхай, Мамута.
Почему-то всплыло в памяти воспоминание: поздней осенью сорок третьего проводилось первое совещание директоров школ в райкоме. Он опоздал, шел пешком по грязи двадцать километров в лаптях, другой обуви не было. Вошел в небольшой зал парткабинета, прошагал мокрыми лаптями до свободного места в первом ряду. Потом секретарь райкома Дарья Азарова попросила его остаться, расспросила о делах в деревне, помогла приобрести хромовые сапоги…
До автобуса оставалось еще больше двух часов, Петр Евдокимович неторопливо направился в сторону раймага, купить Татьяне гостинцев, потом перекусить в столовой, выехал из дома рано. Людей на улицах райцентра было мало. Местные жители почти все были знакомы между собой, приезжие сельчане тоже часто встречали здесь знакомых. Навстречу шла седая женщина с черной матерчатой сумкой, на которой был вышит большой красный цветок. Поравнялись, она остановилась, внимательно присмотрелась:
— Мамута? Это вы или я ошиблась?
— Я, Дарья Трофимовна, — узнал он в этой седой бабушке Азарову. — Как вы поживаете? Давно не виделись.
— Да пожалуй, лет десять. Столько уже я не работаю. А вы?
— Ой, не спрашивайте, Дарья Трофимовна. Вот отнес заявление в районо. Прошусь в отставку. Три года после пенсии отработал. Заботы директорские плешь проели. Уроки истории хочу вести. Если дадут. Между прочим, хотите — верьте, хотите — нет, но я только что вспоминал вас. Ну, то совещание в сорок третьем году. Когда я в лаптиках притопал…
— О, Петр Евдокимович, так и я это помню. Что было тогда, помню, как сейчас. А что вчера, того не помню. Вы, может, торопитесь куда? Я вас не задерживаю?
— Нет, у меня еще два часа до автобуса.
— Так, может, присядем в скверике? Поговорим.
Мамута понимал, что живется ей невесело и не всегда есть с кем перемолвиться словом. И он не ошибался. Живет Азарова одна. Сын в Могилеве. Летом приезжают внуки, иногда заходят бывшие выпускники — она двадцать лет отработала директором школы.
Петр Евдокимович внимательно слушал и никак не мог поверить, что эта седая, усохшая женщина в очках, со сморщенным, как печеное яблоко, лицом — та самая красавица, полногрудая женщина, с гладко причесанными темными волосами, в гимнастерке, туго перетянутой широким командирским ремнем. Тогда говорили, что в нее был влюблен первый секретарь райкома партии Акопян. Затем стали говорить, что у нее роман с Макаром Казакевичем, хатыничским председателем колхоза, что за это ее сняли с должности секретаря по идеологии и назначили директором школы, а Казакевичу, одноногому инвалиду-фронтовику, дали выговор. Выговор за любовь, мол, у тебя семья, жена, дети, а она, Азарова, хотя и одинокая вдова, не имеет права любить женатого.
— Неизвестно, сколько той жизни осталось. Хочу к вам в Хатыничи съездить. Поклониться могиле Макара Тарасовича, — тихо, глуховатым голосом сказала Азарова.
«Значит, правда, была у них любовь», — подумал Петр Евдокимович, а вслух сказал:
— Приезжайте. Ко мне зайдете в гости. Я недалеко живу. От магазина прямо по улице…
— Я помню. Некогда часто ездила по району. На выборы к вам приезжала. На собрания. На похоронах Свидерского была. Жуткая сцена. Никогда не забуду… Может, подговорю Долгалева. Он машину найдет, так и приедем. Наверное, у вас еще какие дела есть. Вы ж куда-то шли…
— Дарья Трофимовна, а знаете что? Я шел в столовую. Она теперь зовется рестораном. Давайте зайдем, перекусим. И поговорим. Деньги у меня есть. Я еще ваш должник. За хромовые сапоги. Вы тогда звонили во все колокола и помогли. Сапоги долго носились…
— А вот этого я не помню. Как вы в лаптиках протопали и мокрые следы тянулись по полу — это стоит в глазах. А про сапоги забылось. Считайте, что и не было, — смеялась Азарова. — Идемте. Деньги у меня тоже есть.
В тихом, почти пустом зале ресторана они хорошо пообедали, даже выпили бутылку вина. На прощание трижды поцеловались.
— Петр Евдокимович, дорогой мой, один вам совет. Не думайте, что после выхода на пенсию жизнь кончается. Это не так. Мне уже две шестерки с хвостиком. Было бы лучше иметь две пятерки… Ну да что поделаешь. Вот посидели, поговорили, я почувствовала, будто помолодела на пять лет. Будете в райцентре, заходите, пожалуйста, — она назвала адрес и телефон. Мамута все записал.
— Зайду. Обязательно. Медку привезу. Я ж пчеловод. Хромовые сапоги стоили дорого. Одной бутылкой вина не отбояришься, — улыбался он.
Дарья Трофимовна весело засмеялась, и у Мамуты настроение резко поменялось. Он был рад, что случайно встретил эту умную, красивую — она и в старости была красивой, — женщину, которая большую часть своего века прожила солдатскою вдовой, без громких слов можно сказать: всю жизнь отдала людям.
И еще подумалось: до чего же короток век человека! Расцвел ты или не расцвел, пожил с радостью или мучился, хочешь стареть или не хочешь, все равно умрешь. Проснулась обида на свою Татьяну, теперь она все чаще укоряет Юзей, мол, жил со мной, а думал о другой. Столько лет молчала, а теперь, на старости, допекает.
Через неделю, под вечер, Петр Евдокимович с голубой авоськой шагал полевой дорожкой. В сетке он нес литровую банку свежего меда — почти полтора килограмма. Нет, денег брать не станет, это гостинец Матвею Сахуте и его внукам.
Вспомнилось, как нес полный горшок меду Сахутам двадцать лет назад. Тогда Андрей Сахута, его любимый ученик, только женился, работал первым секретарем райкома комсомола, а теперь он в Минске, высокий партийный начальник. Учителю было приятно видеть на телеэкране Петра Моховикова. Где только нет выпускников Хатыничской восьмилетки! От Калининграда аж до самого Владивостока разлетелись птенцы деревенской школы. На добрый толк, было бы лучше, чтобы они работали на своей родине, ближе к своим родителям.
Тогда, двадцать лет назад, с высоких трибун обещали: нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Промелькнули два десятилетия, а коммунизма так и не видать. Жизнь немного улучшилась по сравнению с послевоенной голодухой, а порядка как не было, так и нет. Урожай стал более весомым, техники в колхозе хватает, удобрения есть, если бы еще бережливости побольше! Петр Евдокимович гордился, что в районной сводке по надоям молока и привесам мяса, по урожайности зерновых культур на первом месте колхоз «Парижская коммуна». Значит, главный зоотехник, его дочь Юлия, и главный агроном сельхозуправления, зять Иван, в шапку не спят.
Шагал Мамута легко, думалось и дышалось вольно. Недавно прошумел теплый летний дождь, высокая рожь, стеной стоявшая вдоль дорожки, дышала мягким, теплым хлебным духом — такой дух исходит из печи, когда там печется хлеб.
Темно-фиолетовая туча отплывала за Беседь, блеснуло солнце над Березовым болотом, а над рекой вспыхнула громадная дуга радуги. Выше была видна еще одна, но не такая выразительная. Мамута с детства любил смотреть на радугу. И название белорусское его радовало — вясёлка! А по-русски радуга, наверное, значит — радостная дуга. А его мать называла радугу Весялухай или Семицветиком. Вспомнил, как в детстве деревенская малышня называла радугу Цмоком, малым казалось, что радуга пьет, смокчет воду из реки.
Нет, что ни говори, радуга — это чудо природы. Вдруг вспыхнет после дождя на темном куполе неба настоящее чудо! А тут еще во ржи ударила перепелка: пить-подать, пить-подать. Эта извечная картина сильно впечатляла, радовала душу. Мамута даже остановился, чтобы полюбоваться. Похвалил себя, что пошел не по деревенской улице, а по этой дорожке. В резиновых сапогах можно смело топать по мокрой траве. Да и не стал бы он так на деревенской улице любоваться радугой, и перепелку там не услышал бы. Мудрый совет дала Азарова: жизнь не кончается после выхода на пенсию. Нет, она начинается, становится другой: меньше работы, меньше забот и обязательств.
Вскоре он подошел к выгону — неширокой песчаной дороге, которая вела из деревни в поле. Невольно посмотрел налево: там после войны стояло громадное, длиннющее гумно, и он летом тоже махал топором — помогал строить овин. Был там ток, конный привод-молотилка, сушильня. Позже молотили тракторным приводом, и ночью гудел трактор, слышались людские голоса. Даже ученики седьмого и восьмого классов охотно работали ночью — отвозили волокушей солому, которую тут же стоговали взрослые. Теперь на том месте зеленело сплошное поле ржи. Удивительно, как и не было здесь ничего! А прошло всего три десятилетия.
Некогда председатель колхоза Макар Казакевич — они ехали из райцентра, — показывал, где чей стоял хутор до революции, после реформы Столыпина. Стояли избы, сараи, цвели сады… И ничего не осталось, каменных фундаментов не делали, больших камней в Прибеседьи мало, цемента не было. Избы разобрали, колодцы засыпали, деревья выкорчевали. И все, будто корова языком слизала хутора. Мамута знал, что поле вдоль дорожки хатыньчане называют — наддатки: здесь давали дополнительные делянки после отмены крепостного права. Было это давно, исчезли те межи, а название живет, люди помнят, но скоро и это забудется. Вот тебе живая история. А сколько поколений людей сменили друг друга на этой земле! До войны археологи раскопали на высоком берегу Беседи древнюю стоянку, пожилой, седобородый ученый рассказал молодому учителю Мамуте: здесь поселились наши предки почти сто тысяч лет тому назад. Поймал себя на мысли: ему хочется и дальше вести уроки истории.
Мамута издали увидел велосипедиста, ехавшего по дороге. Сам он шагал по тропе с левой стороны выгона. Вскоре велосипедист догнал его. Это был председатель сельсовета Иван Егорович Сыродоев.
— Здорово, Петр Евдокимович! — Сыродоев слез с велосипеда.
Мамута спустился вниз на дорогу, чтобы поздороваться с местным начальником, с которым виделся довольно давно.
— До меня дошел слух… А может, это сплетни? Может, неправда? Ну, что вы подали в отставку.
— К сожалению, Егорович, это чистая правда. Укатали сивку крутые горки. Прошусь на обочину. Пора на отдых.
— Жаль, Петр Евдокимович. Вы еще мужик что надо. Могли бы еще поработать. Имея такой опыт, авторитет.
— Авторитет, как говорится, дело наживное. И Люба Ровнягина, если ее утвердят, будет на месте. А я хочу пожить спокойно. Пчелками заняться. Есть такая грустная шутка: человек нормально, беззаботно живет семь лет до школы и один после пенсии. Ну я, имея пенсию, прожил три года. Может, еще столько протопаю по земле.
— Ну что вы, Петр Евдокимович! Три года… Живите долго. Между прочим, читал в газетке: пчеляры живут долго. А куда ето вы собрались, если не секрет?
— Да какой тут секрет? К Матвею Сахуте. Обещал ему на гостинец медку. Вот и выбрался. Слушай, Егорович, приедь как-нибудь ко мне. Посидим, поговорим. Медком угостимся. Сколько той жизни…
— Ето правда, Евдокимович. Я вот все молодым себя считал. Помните, как финагентом работал? С темна до темна на ногах. Дайжа веломашины не было. Все пехотой. А уже дважды дед! — Сыродоев радостно улыбнулся.
Мамута приметил, как у глаз молодого деда веером сбежались тонкие борозденки морщин, виски уже посеребрила седина, но загорелое, обветренное лицо было еще моложавым и свежим. Вспомнил, как минувшей осенью отмечали его пятидесятипятилетие — промежуточный юбилей, так тогда кричал тамада Бравусов.
Подошли к дому Матвея Сахуты. Хозяин сидел на крыльце. Сыродоев поздоровался с ним издали, оседлал велосипед и покатил по улице. Мамута повернул к дому.
Хроника БЕЛТА и ТАСС, 1981 г.
3 июля. Тегеран. Иранский народ не должен забывать, что он находится в состоянии войны с Соединенными Штатами Америки, заявил лидер иранской революции Аятолла Хомейни.
12 июля. Могилев. Здесь начали выпускать механизированные подборщики льна, которые очень помогут сельчанам.
19 июля. Ленинград. По полярным водным маршрутам страны направилась научно-спортивная экспедиция «Полярная звезда».
28 июля. Аддис-Абеба. Только социалистическое общество, которое стоит на мощной экономической базе, способно обеспечить действительно демократические права трудящихся, заявил лидер Эфиопии Менгисту Хайле Мариам.
XV
Летним субботним утром Петро Моховиков ехал на телестудию. Целую неделю он воевал на курсах гражданской обороны. В начале каждого дня раздавали тетради с грифом «секретно», староста группы перед обедом собирал их, после обеда раздавал и в конце занятий снова собирал — этакая игра в секретность. Слушая полковников-преподавателей, Петро невольно думал: очень дорого стоит теперь оружие, содержание армии, но немалые средства забирает гражданская оборона — строительство убежищ, многоликий штат военных в штабах гражданской обороны.
Преподаватели настойчиво убеждали, что можно выжить после ядерного взрыва, иметь средства защиты и уметь ими пользоваться. Показывали детальные планы эвакуации, разные варианты спасения людей в так называемый особый период. Дай Бог, чтобы эти планы не понадобились, но мир все время висит на волоске. Угроза войны принуждает совершенствовать оружие, значит, развивать науку, технику. Страх и лень, видимо, всегда двигали прогресс.
Большой войны пока что не будет, у США своих проблем хватает, у немцев — тоже. Воинственная «Железная леди» Тэтчер ничего не сделает.
После всего увиденного и услышанного на занятиях Петра особенно радовало светлое, солнечное утро, веселое, беззаботное пение птиц. Радовала мысль: никуда не надо прятаться, не надо искать бомбоубежище, он едет на работу, без которой уже не представляет свою жизнь. В кабинете сразу включил монитор, поискал по студиям, нет ли записи передач. На экране была многоцветная сетка, только в одной студии, так называемой «стометровке», готовились к передаче «Новости», увидел заставку «Слово — поэзии» и незнакомого молодого поэта.
На столе лежала копия программы на следующую неделю, которую заявили его помощники: главный режиссер и ответственный секретарь, заместитель Евгений находился в отпуске. Передач они предложили немного, напротив одной помечено: запись в субботу.
Пока в студии было тихо, переключил телевизор на программу и попал на передачу «Сузор’е» (созвездие). Вел ее худощавый человек в очках, с длинными прямыми волосами. Мелькнули титры: художник Михась Романюк. Петро вспомнил, что минувшим летом он познакомился с Михасем на выставке во Дворце искусства, они говорили о передаче про изобразительное искусство в школе. Правда, идея не дошла до эфира. На той выставке Петро встретился со знаменитым живописцем Владимиром Стельмашонком, с которым был знаком. «А божечки, мы же давно не виделись!» — седобородый, с молодыми синими глазами, красивый человек крепко пожал руку. Сказал, что некоторым художникам, молодым, талантливым, объявили выговоры, хотят исключить из секретарей Союза художников. «Костьми лягу, а не дам ребят в обиду. Меня, как парторга, вызывали в высокий дом, мол, художники слишком увлеклись стариной и забыли о современности. А я говорю: надо подтягивать картины о современности до уровня работ на исторические темы».
Между тем на экране женщины из деревни Неглюбка Гомельской области в самобытных, самотканых ярких костюмах запели хороводную песню. Пожилая женщина, симпатичная, моложавая, начала рассказывать, что одевали перед праздниками. Ведущий задавал вопросы, выяснял, что значит каждый ромбик, крестик, петушок. Чувствовалось, что Михась глубоко знает народный костюм, любит этих мастеровитых женщин. А Петро вспомнил вышитые мамины рубахи, фартуки. Передача очень обрадовала, он по-хорошему позавидовал коллегам из литдрамы: передача заслуживает максимальной оценки — двадцать баллов, и он предложит ее на Красную доску.
Снова переключился на студию. Поэт читал стихи с пафосом, но часто путался, запинался, просил его извинить, вытирал платком блестящий от пота лоб. Петро посочувствовал и поэту, и тем, кто записывал передачу. Опять переключился на эфир. На экране показывали собрание в сельском клубе. С трибуны, обитой красной материей, выступал худощавый, лысый человек с полным ртом металлических зубов, которые блестели из-под рыжих усов, как гуси зимой из подпечья. Негромким голосом сказал:
— Совсем близко от нового поселка — деревня Величковичи. Жители этой деревни в революцию устанавливали здесь Советскую власть. В Отечественную войну с немцем воевали. Так я вот думаю: может, и поселку дать название Величковичи. Деревня вымирает. Такое мое предложение.
В зале послышались аплодисменты. Оратор важно, неторопливо сошел с трибуны. Тут же на сцену буквально взлетела девушка с короткой гривкой волос, в клетчатой кофте и громко начала читать по шпаргалке:
— В этом поселке жить нам, молодым. От имени своих подруг, молодых доярок, предлагаю назвать поселок Молодежным.
Громкие аплодисменты, словно кто-то сыпнул горох, затрещали в клубе. Девушка, будто сорока, быстро юркнула со сцены. На трибуну поднялся рослый парень:
— Я тракторист. Точнее — механизатор широкого профиля. И мои друзья — тоже широкого профиля. Мы будем жить в поселке. Предлагаю назвать его Интернациональным. Ну, можно — Ленинским.
— Что за цирк? Что за передача? — Петро нашел программу в газете. Там значилось: репортаж из совхоза «Прогресс», и назывался район, где этот «прогресс» находится. — От такого названия отказаться! Во, манкурты узколобые. Молодежный. Это чужое, небелорусское слово. Моладзевы! Но так не назовут, — злился Петро.
А в сельском клубе продолжалось мероприятие. Мысли Петра Моховикова словно подслушал директор местной школы и сказал: лучшее название для поселения — Величковичи. Но ему возразила молодая учительница: дети пишут это слово с ошибками. Так научи их писать правильно!
Тележурналистка, ведущая передачи, ликующим голосом возвестила: новый поселок будет называться «Прогресс»! Какая ужасная передача! Отказаться от прекрасного названия поселка. Мудрые предки придумали ее, чтобы возвысить Человека — Величковичи! А современные манкурты, готовые поднять руку на отца и мать, отказались. Отказались от своего, родного, с помощью белорусского телевидения. И такое собрание показали на всю Беларусь, мол, учитесь, берите пример! Позор! Надо выступить на студийной летучке или на заделе у председателя.
Какие контрасты на нашем телевидении. Успех передачи решает ведущий. Я повторяю это на каждой летучке в редакции. Грустно, что косноязычная ведущая с позорной «прогрессивной» передачей с голубого экрана входит в каждый дом, в каждую семью. Телевидение начинает властвовать над умами во всем мире. В Москве в прошлом году две Госпремии дали телеведущим — Каверзневу и Капице. Американцы избрали президентом Рейгана — посредственного киноактера, зато популярного телеведущего. Вот как!
Хроника БЕЛТА и ТАСС, 1981 г.
11 августа. Москва. Министр иностранных дел СССР А. Громыко направил письмо Генеральному секретарю ООН, в котором требует не допустить милитаризации космоса.
20 августа. Минск. Три дня находился в Белоруссии товарищ М. С. Горбачев. Он знакомился с проблемами воплощения Продовольственной программы. Вчера, 19 августа, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев отбыл в Москву.
26 августа. Ханой. Здесь состоялся массовый митинг протеста против развертывания в США производства нейтронного оружия.
XVI
В каждой окрестной деревне у Бравусова была присуха: вдовы, одинокие женщины, старые девы. Замужних женщин он не трогал, хотя некоторые посматривали на его блестящие погоны с явным интересом. Только одна была осечка: Марина Сахута отвергла его любовь. А она очень ему нравилась, еще холостяком хотел на ней жениться, однако получил от ворот поворот: ты — бабник и выпивоха.
Теперь, когда вспоминал Марину, в душе ругал ее: дурочка, так и проживет жизнь, не изведав мужской ласки. А была такая красивая! Она запала в душу навсегда с того дня, когда приехал в больницу сказать ей, что вечером подвезет с дежурства. Она вышла в белом халате, в ее глазах стояли слезы: в тот день утонул мальчишка, вернуть его к жизни не смогли. И эти синие глаза в слезах будто прострелили его сердце навылет. Но и в тот вечер Марина ему не далась, и они окончательно рассорились. Вскоре Бравусов женился — подкатилась Тамара, сказала, что беременная, а дитя родилось через год: обхитрила, взнуздала участкового малообразованная дивчина и с виду не красавица. И потому, когда услышал недавно от Марины возле Беседи, что он ей «наравіўся», аж заскрежетал зубами: почему и себя, и его лишила счастья и любви?
Хитрая штука жизнь, рассуждал Бравусов. Вот и Березовое болото, одинокая разлапистая сосна. И опять вспомнился тот незабываемый день, когда ехали арестовывать полицая Воронина. Могли же кокнуть и Просю, и двоих малых детей. Бравусов получил бы очередную медаль, а может, и орден за храбрость. А разве это храбрость? Какое счастье, что отговорили его. Прося однажды после горячих объятий призналась, что помнит, как он грозился поставить к стенке. Бравусов не дал ей договорить: ради Бога, не трави душу… Больше она никогда не вспоминала тот день. Вот и сегодня он заедет и договорится о встрече, вечером она будет жадно ласкать его, потому как давно не виделись. Прося еще в теле, а в последнее время расцвела: ее дочь замужем за председателем колхоза, уважаемым в районе человеком, и сын вышел в люди — бригадир механизаторов. Прося аккуратная, умелая, сама с хозяйством справляется, самогонку втайне гонит, но сама никогда не перебирает. И Воронин живуч, как собака, не пропал в Аргентине, семью заимел, в Хатыничи письма шлет. Где только нет белорусов? Разбросала война по всему свету.
Бравусов подъехал к повороту. Примерно в этом месте партизаны догнали в тот день парня, который вез сено, спросили, где живет Воронин, как проехать в Мамоновку. Парень ответил не сразу, испуганно оглядывался. Нетерпеливый Бравусов припугнул его винтовкой. А теперь этот парень — председатель сельсовета, дорогой сват Иван Егорович Сыродоев. А могли же сдуру и его кокнуть: ах, ты не хочешь показать, где живет полицай? Вот тебе! Пиф-паф! И никто бы не разбирался. Война. Кто не с нами, тот против…
Бравусов передернул вожжи, стеганул лошадь кнутом и вскоре остановился возле избы Проси. На улице не было ни души, но он по привычке воровато оглянулся по сторонам. Прося оказалась дома, обрадовалась, сказала, что вечером будет ждать.
— Драники будут? — ухмыльнулся Бравусов.
— Могу испечь. Со шкварками. Картошки нынче накопала много.
Довольный ответом Бравусов обнял Просю, крепко, как в молодые годы, поцеловал и направился за порог.
До Вишневки доехал быстро. Привязал коня за грушу-дичку, растущую у высоких глухих ворот. Навстречу вышел хозяин, высокий, сутулый, в старой, замасленной телогрейке, подал широкую мосластую ладонь. Бравусов перед выездом побрился, наодеколонился, потому сразу уловил смрадный запах от Круподерова. Его лицо, заросшее седой щетиной, слезливые глаза с красными веками — все говорило, что человек давно не мылся в бане.
— Я уже тебя дожидаю. Мешки привез? — хрипловатым голосом проскрипел Круподеров. — А то у меня дихвицит на тару.
— Привез. На возу. Нести? — Бравусов думал, что они посидят за столом, поговорят, как старые друзья.
— Неси. Насыплем. А тогды посидим. Перекусим, — Круподеров повернулся и потопал под навес.
Бравусов отметил, что хозяин еще больше усох, сгорбился, старческая шея, изрезанная морщинами-бороздами, торчала из воротника полинявшей клетчатой рубахи.
Под навесом, прикрытая соломой, возвышалась небольшая кучка мелкой картошки. Празднично одетому Бравусову не хотелось пачкать руки, блестящие хромовые сапоги, парадные галифе.
— Ну ты, братец, и выфрантился. Как на свиданне, — ухмыльнулся Круподеров, показав два крупных, как у лошади, желтых зуба.
— Я ж, хвактически, в люди выбрался. В Хатыничах к свату заезжал. Ты ж помнишь финагента Сыродоева? Он теперича председатель сельсовета, мой сват. Сын мой женился на его дочери. Да я и дома лохманы не ношу.
Круподерову не понравилась последняя фраза, поджал сухие, тонкие губы, начал молча набирать картошку в корзину. Бравусов держал мех, а хозяин насыпал. Молча насыпали два меха, завязали их.
— А может, еще насыплем? — глянул на Бравусова.
— Не, Павел Иванович, хватит. Своей мелочи хватает. И крупной накопали достаточно. Нынче, хвактически, благоприятный год.
И слово «мелочи» пришлось не по нутру Круподерову: намек, что он неважный хозяин и картошка у него мелкая.
Потом они обедали. На столе синела литровая банка мутноватой самогонки, стояли миска соленых огурцов, чугунок вареной картошки и сковорода яичницы. Тарелок в доме не было — их заменяли неглубокие алюминиевые миски. В одной из них желтело нарезанное сало. Круподеров разогрелся, снял телогрейку, теперь еще сильнее выпирали из-под рубахи худые, острые плечи. Это сразу бросилось в глаза гостю, потому что он помнил Круподерова могучим здоровяком, которого боялся весь район. От его кулаков трещали сельсоветские столы. В деревнях, куда он приезжал, сразу увеличивалась сдача молока, мяса, яиц, шерсти. Выбивать налоги и поставки он был большой мастер.
— Где ж твоя жена, Павел Иванович? — спросил гость.
— Катанула в Мугулев. К сыну. Внучата есть там. Ее сын, ее внуки, — вздохнул Круподеров.
— А твои дети далеко?
— Далеко. Сын в Донецке. Дочка в Караганде. Жена ж, первая, скурвилась. Ну, как меня упекли в тюрягу. Ждать она не захотела. Шахтер из соседней деревни завез ее в Донецк. Бабы есть бабы, Устинович, сам знаешь. После войны голодали люди. Я сам, бывало, корочкой хлеба да луковицей обедал. А семью обеспечивал. Вот она и отблагодарила. Твою мать, шкура барабанная, — на щетинистых щеках Круподерова тяжело шевельнулись желваки, судорожно сжался «железный» кулак искалеченной в детстве руки.
— Что ж ты хотел? Чтобы она десять лет, хвактически, постилась? Если привыкла до скоромного…
— Ну, пусть сама скурвилась. Так и детей против меня наштрополила. Сын уже знал, кто я есть. Ему тринадцать лет было. Ну, когда со мной беда случилась. Теперитька ему сорок пять. Как-то приезжал. А дочка и глаз не показывает. Ох, сволочная жизнь. Давай выпьем.
Налил самогонки в мутные стаканы.
— Давай за наших детей. Мой сын, тоже Володька, уже директор школы в Белой Горе. Ему тридцать пять. Совсем еще молодой. Жена его — дочка Сыродоева.
— Ты уже говорил про ета. Помню Сыродоева. Шустрый, верткий был финагент. Хорошо, давай за детей. Пусть и моим икнется.
Выпили, захрустели солеными огурцами.
— Как ты мог тогда погореть? Хвактичеки, опытный, матерый волк.
— Ат, по дурости. Кругликов подвел, собака. Да и я малость зарвался. У меня была большая власть в районе. Предрайисполкома был для меня не начальник. Только первый секретарь по партийной линии. Что ты! Едри твою вошь! Уполномоченный Наркомата СССР! В сорок четвертом в Минске еще были немцы, а я начал руководить в Лобановке. Контору строил в самом центре… У тебя, Устинович, сколько классов?
— Семилетка. Еще до войны окончил.
— А знаешь, сколько у меня?
— Ну, классов семь. Может, больше. Ты ж районный начальник.
— Ого, если бы семь или больше. Я бы в Минске был. А в Мугулеве так ета точно. Едри твою вошь! Учился я, братец, всего одну зиму. Окончил один класс…
— Как один? Почему? А дальше где учился?
— Дальше, Устинович, учила жизнь. Летом сломал руку. Сено топтал на возу. Отец подавал вилами. Лошадь дернула воз, я свалился — и правая рука под колесо. Только хрустнула… Четыре месяца в больнице. Летом пас овец. За семь пудов зерна. Отец сказал: заработаешь зерно — куплю чоботы. Хромовые. Овец отпас, семь пудов дали, на сапоги не хватило. Зиму просидел дома. Писать правой не мог, а левой не научился. Так и покатилось. Летом коровы, овцы, а зимой брындал по деревне, возле девчат отирался. Книжки читал. Стал секретарем комсомольской ячейки. Тут, у Вишневке. Пришел к учительнице: дайте мне справку, что я окончил четыре класса. А она: «Нет, Павличек, не имеем права». Надавала мне книг. Всю зиму читал. Весной сдал экзамены за начальную школу. А потом, как стал председателем сельсовета в Березовке, в анкетах начал писать: образование шесть классов. Напиши семь, так надо иметь аттестат. Выдвинули заместителем уполномоченного по заготовкам, послали в Мугулев на курсы партийно-советского актива. Сначала сидел там как мышь под веником. А потом осмотрелся, освоился, распетушился. Вопросы начал задавать. Получил свидетельство. Курсы етые потом выручали. Документ!
Бравусов слушал и не верил своим ушам: этот небритый, беззубый, опустившийся человек, мошенник и ворюга, был большим начальником. И он, Бравусов, боялся его, когда он приезжал в сельсовет.
— Суровое было время, Устинович. Суровые инструкции присылали прямо из Москвы. Давай молоко, мясо, яйца. Свиные шкуры, шерсть. Лупили семь шкур с мужика. Бедного, голого, голодного.
— Теперь ты жалеешь. А тогда, хвактически, издевался над людьми.
— А ты не издевался? Мало за самогонку людей посадил? Потюпу забыл? Тот сдуру затужил в тюрьме, подхватил туберкулез и загнулся через год. Дети сиротами остались. А на меня бочки катишь.
— Я не сажал. Студенцов заставил составить акт. Я жалел людей.
— Знаю, как ты жалел. Так что не оправдывайся. Мы с тобой — абое рябое. Не дай план — вытурят. Другого пришлют. А я в передовиках ходил. Бывало, Акопян, первый секретарь райкома партии, руку мне тянет: «Павел Иванович, душа любезный, будет план?» И что я скажу? «Будет, Сергей Хачатурович!» И план был. Премии получали. А Кругликов… Помнишь его?
— Почему нет? Помню, как облупленного знал.
— Умер, бедолага. Давай помянем Кругликова. Хоть я из-за него в тюрягу загремел. Хрен с ним… И моя жисть ни к черту. Век прожил, как мех сшил. А мех дырявый. Ну, будь здоров!
Выпили, не чокаясь. Бравусов почувствовал, что голова уже наливается горячей тяжестью, решил пить меньше: Прося ждет. Не хотелось здесь сидеть, пить вонючую самогонку, выслушивать слезливую исповедь тюремщика, мошенника и ворюги. Душа участкового инспектора милиции, бескомпромиссного борца с жуликами, ворами, самогонщиками, восставала против. Но на улице еще было светло, а заехать к Просе лучше в сумерках. Это обстоятельство привело к трагедии.
Бравусов вышел по нужде во двор, повернул за сарай в надежде найти туалет, но его не было, вспомнил, что хозяин ходит оправляться в сарай, чтобы навозу было больше. Пришлось спустить галифе под вишнями…
В голове настойчиво билась мысль: кто ж нами руководил? Подложил коню сена, глянул на часы, по привычке осмотрелся: нигде никого. Вошел в избу. Хозяин сидел за столом, стеклянная банка дополнена доверху. Бравусов это отметил, себе приказал: пить только для приличия, чтобы посидеть еще часок.
Круподеров налил левой рукой, как он говорил, стыканы, но поднять их не успели — у ворот замычала корова.
— Пойду загоню Рабеню. Она такая лярва… Удерет, тогда и с собакой не найдешь, — хозяин тяжело поднялся, потопал за порог. Бравусов использовал момент — вылил водку под печь, налил себе воды.
Круподеров вскоре вернулся. Раскрасневшееся скуластое лицо его налилось нездоровой багровостью — наверное, поднялось давление. Глаза с красными веками маслянисто блестели.
— Давай, Устинович, выпьем, — и шандарахнул полный стакан.
Бравусов выпил полстакана, с расчетом, чтобы хватило еще на один раз, а тогда можно ехать к Просе.
— А чего ты не допиваешь? Ты моложе, здоровее. А может, и правильно. Я уже устал пить, обрыдло жить. Пожалуй, свою цистерну выжлуктил. — Помолчал, пососал соленый огурец, помусолил беззубым ртом кусочек сала. — Какой гад етый Артем. Так рано пригнал коров. Рыкает на всю голову. Голодная. Я им тоже напасу! Выгоню на пару часов и д-д-омой, — заикаясь, ругал Круподеров соседа Артема.
— Ну, а почему тебе не напасти коров как следует? Показать соседям, как надо. Не заедайся с людьми, — правдолюбец Бравусов взялся поучать собеседника. — Я такой хвакт тебе расскажу. Был в Хатыничах староста Куцай-Гарнец. После немцев его посадили. Влепили тоже десятку. Вернулся. Так, бывало, едет по деревне, насадит полный воз детей. Конхветы им дает. И едет медленно, чтобы все видели, какой он добренький…
— Ты что, меня с полицаем сравниваешь? Ты сидишь в мой хате. Мою горелку пьешь. Ах ты, твою мать! — заревел Круподеров.
— Заткнись со своей вонючей горелкой! Чего ты раскричался? Я тебе хвакт привел.
— Ты меня с полицаем не равняй! Я — уполномоченный Наркомата СССР! А ты — мент. Говнюк!
— Я капитан милиции. Не позволю ворюге меня оскорблять, — подхватился Бравусов.
— Я районный начальник! Уполномоченный… И чтоб какой-то щенок издевался надо мной!
Левая рука Круподерова потянулась к ножу, но Бравусов опередил, сбросил нож на пол, тогда «железная рука» ухватила его за лацканы кителя. Бравусов перехватил, сильно сжал, заученным приемом завел за спину, что-то хрустнуло, Круподеров взвыл от боли, рванулся изо всех сил, стукнул участкового ногою в пах. Разъяренный Бравусов мертвой хваткой схватил за горло недавнего собеседника. Они сцепились, как два паука в стеклянной банке. Долго возились, хрипели. Наконец руки Круподерова ослабели, он как мешок осел на пол, пустил под себя лужу.
— Ах ты, подонок вонючий… Теперитька ты полностью намоченный, — зевая открытым ртом, как рыбина на песке, бормотал Бравусов. — Но он не дышит, хвактически…
Участковый смотрел на распластанное, длинное, бездыханное тело собутыльника, пьяные, открытые глаза которого уставились в закоптелый потолок. Бравусов плеснул воду из стакана в лицо Круподерова, взял левую руку, сжал в запястье — пульс не прослушивался.
«Что ж я наделал? Он же кончился…» — хмель мгновенно испарился из головы участкового, лихорадочно закрутились мысли в поисках выхода: как стемнеет, взвалить на воз и скинуть в реку. Начнут искать, если найдут… Эксперты установят, что задушен… Матвей Сахута знает, что он сюда ехал. Жена знает. Прося… Они не проболтаются. Закопать? Где? Снова будут искать.
В сарае громко замычала недоенная корова. Бравусов вздрогнул. Осторожно, как вор, вылез за ворота. Небо нахмурилось, вечер вступал в свои права. Начинался мелкий, холодный дождь. Это хорошо, подумал он, меньше свидетелей, под дождем меньше ходят люди по улице. Вдруг ему так захотелось удрать отсюда, сесть на воз, накрыться плащом с головой, чтобы не было видно лица, и помчаться к Просе. Нет, к Просе нельзя, скорее домой. Корова снова замычала. Словно кнутом хлестнуло Бравусова: надо искать выход. Вдруг вернется его жена, тогда пропал. Но Павел сказал, что жена приедет через три дня, только вчера уехала. А может, повесить его? Записку оставить. Сам себя… Под навесом, когда насыпали картофель, видел толстую веревку. Вернулся в хату. С ужасом глянул на распластанное тело, тронул за руку — она была уже холодная. Бросился искать ручку или карандаш. Написать своей не рискнул, тогда ее надо оставить на столе, а на ней будут отпечатки… Нашел огрызок химического карандаша, вырвал лист из пожелтевшей школьной тетради. Хотел смочить карандаш слюной, но спохватился: слюна — улика. Смочил водой, крупными кривыми буквами нацарапал: «Прощай жонка дети внуки. Жисть моя обрыдла. В моей смерти никого не винитя. Я сам себя доконал. Павел».
Принес веревку, нашел табуретку, нащупал толстый гвоздь в балке. Пока он вершил свою жуткую работу, за окном стемнело. Свет не включал, бросился убирать лишнюю посуду, оставил один стакан, одну вилку. Прикинул, что в банке много водки, обернул полотенцем банку, налил почти полный стакан, прошептал: «Прости, Павел. Я не хотел. Бог тому свидетель. Ты первый, хвактически, начал. Если б нож ухватил, мог бы прирезать меня. Сам виноват. Прости…»
Бравусов неумело перекрестился — впервые в жизни. Опрокинул одним духом стакан самогона, сполоснул стакан водой, поставил в буфет. Потом отступил к двери, в одной руке держа фуражку, в другой тряпку, которой затирал следы. Глаза боялся поднять, чтобы не видеть висельника… «Хорошо, что на улице дождь», — мелькнуло в затуманенной водкой голове. Уже отвязал коня, тогда спохватился: картофель в мехах стоит, надо забрать. Мешки оказались очень тяжелыми. Давно знал: мех мелкой картошки тяжелее, чем мех крупной, но не думал, что настолько. Страх подгонял, придавал сил. Вскинул мешки на воз, прикрыл сеном, дернул вожжи. Застоявшийся конь радостно фыркнул, охотно засеменил домой.
Мокрый, одубевший от холодного ветра — не согрела и чарка на посошок, он ввалился в хату. Тамара смотрела телевизор.
— Что ты так запозднился? Шастаешь ночами под дождем, — сердито сказала она.
— Вот не мог раньше вырваться. Ему ж там и поговорить не с кем. А в дороге гужи лопнули. Пока связал. Куда картошку? Намокла она.
— Поставь в сенях. Завтра обсушим.
Он вышел, но вскоре вернулся.
— Кажется, и пил мало. Может, съел что? Он консервы на стол выставил, сало старое. Боюсь, вытошнит… — Выпил кружку воды, привалился к столу. — Помоги картошку принести. Взялся за мех, так в спину стрельнуло.
Тамара неохотно накинула на плечи фуфайку, сунула ноги в галоши, подошла к нему.
— Фу, чем от тебя так разит? Как из бочки вонючей. Что ты там пил? И что ел? Не надо к нему ездить. Товарища нашел.
— Он меня нашел. А не я его.
В эти слова Бравусов вкладывал одному ему известный смысл.
Перенесли картофель. Тамара снова уселась у телевизора. Он поставил в сарай коня, дал ему воды, сена, похлопал по мокрому теплому загривку, словно благодарил, что коняка привез его домой. В голове был рой тревожных мыслей, в ушах будто застыло мычание коровы. Может, кто уже зашел в избу? Нет, вряд ли, раз свет не горит, никто не пойдет. Завтра найдут его. А что дальше? Приедет милиция… Тюрьмы он не боялся. Не жалел Круподерова. Даже мелькнула мысль: отплатил уполномоченному по заготовкам за людские страдания. И к себе жалости не было. Жизнь прожил. А вот детей жалко. Сыну будет стыдно. Все-таки — директор школы.
Во рту пересохло, жажда томила его. Вспомнил, что в предбаннике припрятана бутылка, причем не самогона, а магазинной водки. Нашел, бутылка была начата, жадно отпил глоток, еще. Почувствовал, как потеплело в груди. Затем глотнул еще и еще, пил, пока не осушил до дна. «Эх, если б теперь попариться в баньке. Смыть всю грязь…» Но сил на это не было, да и поздний осенний вечер на дворе. В металлической бочке, приваренной к печке, была вода, с облегчением вымыл руки, с радостью ополоснул лицо. Даже почистил зубы, что делал довольно редко, и как сноп завалился на кровать.
Всю ночь ему снились кошмарные сны. Проснулся с тяжелой головой. В хате еще было темно. И первая мысль: как там? Когда его найдут? Будут выгонять коров, его недоенная Рабеня начнет реветь, пастух или сосед Артем, которого Круподеров с такой злостью ругал, зайдет… Бравусов вспомнил, что ночью ему снилось, будто за ним гнался разъяренный громадный бык, громко мычала корова. Захотелось напиться воды, еле оторвал голову от подушки, а встать не смог: спину словно прострелила острая боль, попробовал повернуться, но и это ему не удалось, будто приковал его кто к кровати. Может, порушил спину, когда поднимал его вверх, мелькнула мысль, или как грузил картофель? Но разве мало он перетаскал тяжелых мехов? А может, простудился? Дождь, холод. Радикулит его особо не беспокоил. Только однажды, когда целый день зимой возил дрова, назавтра болела спина. Тамара натирала водкой, а потом он обнимал ее. И было им жарко, и боль в спине отступала перед извечной страстью. А теперь невозможно даже повернуться. Однако не эта боль беспокоила его. Радикулит пройдет. Тамара натрет спину, он полежит день-два и поздоровеет. А вот если упекут в тюрьму, то это надолго.
Заговорило радио — на кухне его не выключали, только звук делали тише. Услышал, что поднялась Тамара, позвал ее:
— Что-то не могу подняться. Будто шворен металлический в спине. Ни повернуться, ни согнуться.
— Ты ночью кричал, что-то говорил, стонал. Дос тебе пить. А то кончишься. Ляжешь спать, а утром не встанешь. Может, давай натру спину? Или грелку подложить?
— Хорошо. Давай грелку.
Вскоре Тамара принесла грелку, кое-как подсунула под крестец. Он почувствовал приятную мягкую теплоту, сказал:
— Тамара, ты вот что… Ну, не говори никому, что я ездил до Круподерова. После чарки он признался, хвактически, наворовал картофеля в колхозе. Я не хотел брать. Он кажет: нет, ета с моего огорода. А вчера ты никому не сказала, где я? Куда поехал?
— Нет, не говорила. Никто к нам не заходил. Все! Больше к нему — ни ногой. Нашел друга. Он вонючий, как тхорь.
— Хорошо. Больше не поеду, — охотно согласился Бравусов. — А радикулит… Если кто спросит, коня искал, промок. Простудился.
— Кому какое дело? Чего ты так боишься? Как спина? Полегчало?
— Малость отпустило. В голове гудит, будто на ней ячмень молотили. Налей мне граммов двадцать. Душу привязать и голову полечить.
Тамара молча вышла в сени. В голове Бравусова билась мысль не о выпивке: значит, знают только Сахута и Прося. Но кто у них будет спрашивать? В газете, пожалуй, не напишут про него. А если и напишут, то нескоро.
После чарки он успокоился, снова задремал.
Почти неделю пролежал Бравусов в кровати. Радикулит понемногу отпускал, Тамара растирала поясницу водкой, а в рот не давала ни грамма, и он не просил, хотя и очень хотелось. А в глазах будто стояла сцена: Круподеров одним духом выпивает полный стакан. Мог ли он подумать тогда, что это последний его «стыкан»?
Бравусов все ждал, прислушивался, не загудит ли возле дома машина. Известно какая — милицейский газик. Но никто не появлялся. Заходил сын, расспросил о здоровье, нужны ли какие лекарства, рассказал о школьных делах — никаких других новостей не было. Отец успокоился и сына успокоил: чувствует себя лучше, все нормалево, уже может встать, скоро будет ходить. Говорил он сидя, показывая этим, что действительно все у него хорошо. Сын долго не задержался: завтра утром нужно ехать в район на совещание.
Отца заинтересовала поездка сына: в райцентре могут говорить о событии в Вишневке, и потому он ждал сына с нетерпением. Возникло желание позвонить участковому, но сдержал себя, чтобы не вызвать подозрений, да и отношения с его сменщиком были натянутые: однажды сделал ему замечание, тот надулся как сыч, проворчал: «Я сам разберусь. Теперь не то время. Все меняется». Вечером Бравусов не удержался, позвонил сыну, спросил, как прошло совещание, какие новости в райцентре.
В ответ услышал:
— Ничего особенного, обычная говорильня, и новостей никаких нет. Как твое здоровье?
— Все нормалево. Топаю по хозяйству. Коня сегодня напоил, сена дал. Дров принес. Маме, хвактически, полегка, — бодро ответил отец.
Все действительно «нормалево»: прошло восемь дней, никто к Бравусову не приехал, о смерти Круподерова нигде ни звука. «Поверили записке. Закопали, как собаку. Некролога не было. Кто о нем будет писать? Вот тебе и большой начальник. Мошенник малограмотный и ворюга».
Бравусов окончательно успокоился. Ночью приласкал Тамару. Дня три назад признался, что болит в паху. «Покажи, что там? Может, килу нажил?» — хохотнула жена. Показать постеснялся, зато в ту ночь доказал, что он еще все может, отблагодарил жену за ласковое, заботливое растирание.
Утром тщательно побрился. Рассматривал себя в зеркале очень придирчиво, словно искал перемены в своем облике: как ни крути, он убийца, пусть не преднамеренный, он защищался. Но, «хвактически», отправил на тот свет человека, пусть нелюдского, но когда-то важного начальника. Вдруг увидел, что виски почти седые. Раньше нити седины в них пробивались редко.
Ну что ж, зима на пороге, рассуждал Бравусов, вот и присыпало инеем, но я еще молодой. Всего пятьдесят восемь. Мог давно погибнуть, а я живой. Наверное, суждено, на роду написано загубить человека. Солдата Рацеева взял на мушку во время атаки, опередил немецкий снаряд. Его тело, изуродованное взрывом, снилось часто, он просыпался в холодном поту. Просю не дали поставить к стенке… А Круподеров не снится. Сам виноват и его вонючий самогон. Одна Прося может подозревать. Матвей Сахута, может, и не знает, что Круподерова уже нет на свете. Стар, мало где бывает. Марине мог рассказать о встрече… Надо съездить в Хатыничи. Поговорить со сватом, внука повидать, насчет работы посоветоваться. Дома ничего не высидишь.
И еще мелькнуло в голове: надо заехать к Просе, она, бедная, так ждала его в тот вечер, драников напекла, показалось, что слышит вкусный, дразнящий аромат ее горячих блинов со шкварками, вспомнились и не менее горячие объятия и поцелуи. А если спросит, почему не приехал, скажу: перепил, запозднился, гужи лопнули, дождь пошел. Можно и еще что-нибудь придумать. Вдруг спохватился: Проси надо остерегаться, она помнит его, беспощадного, с далекого сорок третьего… И тут же успокоил себя: Прося никому не скажет, не проболтается.
Не мог знать тогда Владимир Бравусов, сколько душевных терзаний, какая расплата ждет его впереди.
XVII
Хроника БЕЛТА и ТАСС, 1981 г.
6 сентября. Ивацевичи, Брестская область. На животноводческой ферме колхоза «Россия» растут цветы 30 сортов. Каждый день расцветает около пяти видов.
10 сентября. Варшава. Съезд «Солидарности» в Гданьске — это, как заявляли его участники, смотр сил, готовящихся к борьбе за власть.
23 сентября. Вашингтон. Печать продолжает комментировать грандиозную манифестацию протеста американской общественности против политики администрации Р. Рейгана. Манифестация прошла в минувшую субботу в Вашингтоне.
25 сентября. Могилев. Новый сквер «Вилербан» заложен в центре Могилева. Деревья на Аллее дружбы здесь посадили члены делегации товарищества «Франция — СССР» и представители французского города-побратима Вилербана.
Эпилог
В тот год Дмитриев день пришелся на воскресенье. Правда, восьмого ноября в советское время был день праздничный, вроде продолжения праздника Октябрьской революции: как пристяжная лошадь в упряжке — коренник и пристяжная коняга. Седьмого проводились военные парады, демонстрации трудящихся. В местечке Саковичи восьмого ноября на Дмитрия и второго августа на Илью проводились ярмарки. Люди приезжали за сотни километров что-то продать или купить. Приезжали из соседней Брянщины, Гомельщины, из Черниговщины. Собиралось людей очень много. В тот день и погода способствовала, дороги сухие. Ехали купить-продать, на людей посмотреть и себя показать.
Матвей Сахута любил Дмитровский кирмаш с малых лет. На Илью народ собирался очень рано, торговля совершалась быстро, и разъезжались тоже рано — жатва в разгаре. А теперь торопиться некуда, главное — засветло вернуться домой, потому что день короток. На Дмитрия Сахута обычно покупал пару поросяток — кабанчика и свиночку.
На этот раз у него был особый настрой: приехал сын из Минска, возраст заставлял радоваться каждому дню, их становилось все меньше, как листков в календаре под конец года. Вместе с Андреем приехал и Петро Моховиков с женой. Старый Сахута пожалел, что не увидит свою невестку.
— А что ж ты Аду не привез?
— Ей немного нездоровится. Весной приедем всей семейкой.
Ответ сына успокоил Матвея Денисовича, он иногда думал: все ли ладится в семье сына? Андрей очень занят, совещания, заседания, а молодой, симпатичной женщине нужны внимание и любовь. И если муж не может это дать, она будет искать свое в другом месте. Матвей Сахута планировал поехать на ярмарку с Мариной на лошади. Это куда лучше, чем на машине: сидишь на мягком сене, застланном домотканою дерюжкой, на ногах валенки с галошами, поверх фуфайки суконный армяк с башлыком, шапка-ушанка на лысой голове. На возу удобнее доставить домой мех с поросятами, яблоки, мед, горшок или ведро, но с приездом сына ситуация поменялась.
— Батя, поедем с нами на кирмаш, — предложил сын. — И Марину можем взять. Гаишников здесь нет. Машина выдержит.
— А поросят куда денем? Они же могут подмочить твою репутацию, — улыбнулась Марина. — Долго будет аромат слышен. Поеду на грузовой. Данила обещал взять. Места там хватит.
За окном мелькнула чья-то тень.
— А вот и он. Легок на помине, — добавила Марина.
Дверь отворилась — на пороге стоял Данила Баханьков.
— День добрый в хату! С приездом, Андрей, — поздоровался он.
Друзья обнялись. Были они почти одного роста, плечистые, крепкие, только руки Данилы, широкие, обветренные, с толстыми пальцами, отличались от белых, городских, Андреевых. Сели за стол, на котором возвышалась стройная, как девушка, бутылка коньяка «Белый аист».
— Не все буслы улетели в теплые края. Один остался, — широко улыбнулся Данила, поднимая чарку золотистого ароматного зелья. — Ну, с праздником Октября! Дай Боже дожить до его столетия!
— Ну, ета правильно. Смотреть надо вперед. И дальше, и выше. Как в районке про ета пишут каждый день, — поднял свою чарку старый Сахута.
Андрей налил немножко маме и Марине.
— Ой, сынок мой дорогой. Мне капельку. Ета много. В голове шумит, как в котле. Кипит там нешто постоянно.
— У нее давление, Андрей. А ты налил столько, — подхватилась Марина, вечный хранитель здоровья родителей и соседей.
— Коньяк и пьют для того, чтобы нормализовать давление. Поднять настроение. Так что, мама, не боись, пей смело, — весело убеждал сын.
Выпили, закусили. Матвей Сахута решил сразу же прояснить ситуацию: поездка на ярмарку не выходила из головы.
— Ты же завтра едешь в Саковичи на кирмаш? — спросил он у Данилы.
— Едем. Ты с нами, Марина? Мой «газон» в ремонте. Но грузовик крыт брезентом. Со свинством в Андрееву карету не с руки.
— Почему? Можно. В багажник положим. Если и дадут малость аромату, пока доедем до Минска — выветрится, — не соглашался Андрей.
Матвей Сахута не любил долго сидеть за столом, не любил чаркованья и обильного угощения. Беседа тогда безладная, чаще всего пустая, а он во всем уважал порядок.
— Ну что, детки. Вы посидите, погомоните. А я пойду по хозяйству…
Андрей хорошо знал характер отца, потому не возражал, а Даниле захотелось задержать старика:
— Посиди, Денисович. Хозяйство у вас небольшое.
— Оно так. Хозяйство малое. Но курицу и ту надо накормить, напоить. Любая живность требует внимания, заботы.
…Еще затемно в Саковичи со всех сторон шли и ехали покупатели и продавцы, словно их притягивал магнит. Шли и просто любители потолкаться среди людей, выпить на копейку — повеселиться на рубль. Как весной отовсюду стремится вода в Беседь, так этим хмурым, холодным ноябрьским утром тянулся окрестный люд на ярмарку. Ехали на телегах, на грузовиках, крытых брезентом, на еще довольно редких «Москвичах» и «Запорожцах». А на «Волгах» ездило только начальство.
На шикарном автомобиле ехал и Матвей Сахута. И сидел впереди, рядом с водителем — так распорядился сын, а сам сел сзади, где устроились Петро и Ева. Матвей чувствовал небывалый прилив гордости: он едет на шикарной машине, которая возит по Минску его сына, высокого партийного начальника. Сын как-то сказал: в его районе около пятнадцати тысяч коммунистов, а это целая дивизия. Значит, его сын — партийный генерал. Когда ехали по Хатыничам, старик пожалел, что еще темно: мало кто увидит, как он едет на «Волге», будто представитель района. Выехали рано, потому что поросят разбирают быстро — самый ходовой товар на ярмарке.
— Помнишь, Петро, как в вашей хате отмечали праздник Октября? — спросил Андрей. — Жители нескольких домов собирались…
— Помню.
— Это был сорок девятый. Почему так помнится? Марина купила мне первые в жизни ботиночки. Они были зеленого цвета. А то ведь босиком бегали до снега. И в школу босиком ходили.
— В школу босиком? — с недоверием спросила Ева. — Неужто было?
— Было. Андрею повезло. А я и в четвертый класс ходил босиком. Хотя отец был лесником, денег не хватало.
— Дядька Матвей, вы помните, как в нашей хате отмечали Октябрьские праздники?
— О, давно тое было, — старик почесал за ухом, будто чтобы лучше слышать и вспоминать. — Вы с Андреем еще пацанами были.
— Я помню все, как сейчас, — оживился Петро. — Вы речь держали. Ждали председателя Макара Казакевича, а его нет и нет. Тогда дед Гылигор поднимается: «Дос дожидать. Сами с вусами. Я — старейший стахвановец, Мацвей Денисович — член правлення. Наливайте стыканы!» О, мы уже приехали!
Тем временем рассвело. Метров за сто от площади стояли подводы с выпряженными лошадьми, грузовые машины с открытыми задними бортами. Здесь уже шла бойкая торговля. Народ все прибывал. Возле возов мычали коровы, в ящиках визжали поросята.
— Может, здесь приткнемся? Возле этого «козлика», — предложил Матвей, когда остановились у обшарпанного газика.
— Батя, хочу тебе купить сапоги. Кирзовые или резиновые? А может, хромовые? Выбирай, — обнял отца Андрей.
— Нет, сынок. Не надо. У меня всякой обуви на три пятилетки.
— Маме, может, платок? А что Марине?
— Матери ты навозил столько платков, что куфар не закрывается. Моль ест. Купи что-нибудь жене, детям. А я хочу поросяток. И медку пару килограммов. И ты своим купи. У нас мед дешевей и смачней, чем в Минске.
Петро с Евой исчезли в толпе. Андрей пошел с отцом. Довольно просторная площадь была полна людей. Куда ни глянь — всюду продавали яблоки: восково-золотистые антоновки, краснобокие, как снегири, штрифели, душистые груши. С грузовиков продавались сапоги, пальто, куртки, костюмы. Андрея заинтересовала красивая кофта, белая, с оригинальным узором на груди.
— Откуда привезли? — спросил у продавщицы.
— С Брянщины. Из Новозыбкова. Кофта теплая.
— Но маркая, белая. Быстро пачкается, — с практическим, деревенским подходом оценил кофту отец.
Часам к десяти покупки были сделаны. Еве кофта понравилась, с ее благословения Андрей купил подарок для жены. Купили меда, в мешке трепыхалась пара поросяток. Эта покупка особенно обрадовала старого Матвея и Марину: есть прибыль в хозяйстве, будет сало и мясо.
Ярмарка достигла своего апогея. Все, кто хотел, отоварились, но расходиться было еще рано. К десяти часам Андрей отыскал книжный магазин — небольшой кирпичный домик, построенный, видимо, недавно. Толкнул дверь и оказался в небольшом зале. Полки вдоль стен были уставлены книгами, лежали они и на столах. Справа у входа за столиком сидел Долгалев. Он тяжело поднялся навстречу, обнял своего земляка и коллегу. Из дальнего угла зала шел Микола Шандобыла, грузный, краснолицый, гладко выбритый. Худощавый, подтянутый Андрей выглядел куда моложе местного руководителя советской власти.
— А Петро где? — спросил Микола.
— Сейчас подойдет. Он с женой, потому и опаздывает. Кто ходит один, тот никогда не опаздывает.
— Сейчас придут председатель сельсовета и руководитель колхоза. Они обещали угостить нас чаем. А вот и Петро. Наша телезвезда, — Шандобыла широко развел руки для объятий.
Обнялись. С Евой Долгалев расцеловался, похвалил ее, что не ленится приезжать на родину мужа, вспомнил, что виделись на юбилее Сыродоева.
— Касьянович, не удивляйтесь. Ева — моя лучшая половина.
— Где же твоя худшая половина?
— Худшая в отставке. Первая жена — пробная. Вторая — настоящая, — весело шутил Петро. И Ева улыбалась, как стюардесса с аэрофлотовского плаката.
— Что ж ты раньше об этом не сказал, дороженький мой? А то я с одной сорок лет мучаюсь, — хохотал Долгалев.
— Не скажи, Касьянович. Если б ты сильно мучился, то вряд ли выдержал бы. Твой характер я знаю. Да и Семеновну твою тоже. Я, мужики, думаю так: лучше менять любовниц, чем жен, — авторитетно заметил Николай Шандобыла.
— Не слушай его, Андрей Матвеевич, — замахал руками Долгалев. — Он намекает на секретарш. Советую их не трогать. Служебный роман для нашего брата — это бомба замедленного действия. Рано или поздно она взорвется. Лучше иметь подругу на стороне, так сказать, запасной аэродром.
— А что сказала бы ваша жена, услышав такое? — улыбалась Ева.
— Я могу ответить за Касьяновича. Знаете анекдот? — Шандобыла сделал паузу, понизил голос: — Вечер отдыха в заводском Доме культуры. Все с женами. Парторг со своей, профсоюзный лидер — тоже. Муж ее говорит: «Смотри, вон любовница директора завода, а вон та химическая блондинка — подруга главного инженера». — «Признайся, милый, а твоя которая?» — «Моя? Вот эта смуглянка в красной кофте». — «Наша самая красивая», — говорит жена.
…Разгорался светлый и довольно теплый день поздней осени. Из местечка по дорогам и тропам во все стороны расходились люди. Ехали грузовики с веселыми продавцами — замочили удачную торговлю.
Расползались подводы — лошади охотно бежали домой, крутили педали велосипедисты, некоторые кирмашевцы шагали пешком. По песчаной дороге на Хатыничи неторопливо катили две «Волги» — первая черная, вслед за ней белая, как ночь и день.
Николай Шандобыла, сидевший рядом с водителем своей служебной черной «Волги», был доволен, что ярмарка прошла отлично, без всяких ЧП — так доложил ему начальник милиции. Председатель сельсовета устроил хорошее угощение: были и чарка, и шкварка, и чай из самовара.
Михаил Долгалев радовался, что повидался со своими молодыми друзьями-односельчанами, побыл среди людей, аппетитно пообедал, пил только чай — твердо держался: завязал так завязал, или как он говорил: я свой лимит выбрал, фонды кончились. А еще радовался, что купил жене теплую, красивую кофту.
Ехали с ними председатель Белогорского сельсовета и голова хатыничского колхоза Данила Баханьков. Долгалев, хотя и был самый трезвый, всю дорогу веселил, рассказывал анекдоты, курьезные истории.
Андрей Сахута и супруги Моховиковы ехали вместе. Ева была от ярмарки в восторге.
— Такой богатый кирмаш. Вот тебе и далекая провинция. А сколько людей! Сколько всего! И товаров, и продуктов. Не думала, что увижу здесь такое зрелище.
Петро Моховиков был тоже очень рад, что удалось побывать на родине, благодарен другу, пригласившему его. Радость и гордость еще усиливались от восторгов Евы. Эта женщина действительно стала самым близким и дорогим человеком. И здесь, в машине, он чувствовал ее теплое колено, которым она прижималась к его ноге. Еву все уговаривали выпить чарку, чтобы согреться, и она рискнула, потому и задремала, положив голову на плечо мужа.
Машины остановились возле кладбища, как и было договорено. Андрей постоял над могилками своих братьев — Толика, Коли и Василя. Над могилками меньших братьев, умерших давно, после войны, стояли покрытые мхом деревянные кресты. А над могилой Василя возвышался памятник из белого камня, Андрей заказывал его в районе, сделали в Могилеве. Есть и медальон, на фотоснимке Василь в темном пиджаке, белой рубахе, под галстуком. Вспомнил, что брат не любил галстуков, называл их удавкой. Таким, молодым здоровяком, он запомнился Андрею. Обидно и горько, что так рано он ушел из жизни: будто самое сильное дерево, принявшее на себя удар жизненной бури.
Подошли Петро и Ева. Андрей рассказал, особенно для Евы, кто здесь похоронен, показал могилки братьев, бабушки и дедушки.
— Вон Долгалев стоит один. Давайте подойдем к нему, — предложил Андрей. — А там и могилки родителей Миколы близко. Отец его был бригадиром после войны. Один класс образования имел. А сын целым районом руководит.
— Я удивляюсь, какие люди вышли из вашей деревни. Из такой глуши, — не переставала восхищаться Ева.
Гордится своим мужем, подумал Андрей и пожалел, что рядом нет жены: она тоже может им гордиться.
Через полчаса собрались возле машин.
— Мужики, давайте посмотрим на Беседь. Но не здесь, а возле магазина, — предложил Петро. — Там высокий берег. Вид открывается необыкновенный. День сегодня светлый. Природа нам способствует.
Никто не возразил, и вскоре шестеро хатыничских мужчин и одна нездешняя женщина стояли на взгорье.
— И правда, лучшей картины не найдешь, — взволнованно сказал Долгалев. Он стоял, опираясь на кий, крутил головой то в одну, то в другую сторону. — Даже Бабина гора видна. И река. И лес, и луга.
Петро пошептался с Данилой и Евой, вслух сказал:
— Подождите пару минут. Мы сейчас вернемся.
Вдвоем с Данилой они направились в магазин. Вскоре вернулись с бутылкой шампанского и двумя гранеными стаканами.
— Думаю, что в таком прекрасном месте… В такой земляческой компании грех не выпить. Как говорят в народе: когда то было, когда еще будет. — Петро ловко откупорил бутылку, пробка выстрелила, взлетела вверх и покатилась с обрыва на песчаный берег. — Михаил Касьянович, символически можно и вам.
— Три года даже пива в рот не брал. А здесь не могу отказаться, — он держал стакан искрящегося мелкими пузырьками золотистого напитка. — Дороженькие мои земляки! Хочу пожелать, чтобы мы все жили долго. В радости и счастье. Берегите себя, свои семьи. Всем здоровья в каждый орган и деньжат в каждый карман, — Долгалев чокнулся с Евой и осушил стакан до дна.
— Ну, Касьянович, пожелание очень емкое. Надо заказать пиджак на восемь карманов. И еще один потайной, для заначки от жены, — хохотал Петро, передавая стакан Сыродоеву. — Держите, Иван Егорович, вы тоже фронтовик. Уважаемый у нас человек. Вам слово.
Бывший финагент снял картуз, ветер тут же взъерошил редкие седые волосы, начал взволнованно:
— Мне много чего хочется сказать. Да времени мало. Спасибо вам большое, Андрей Матвеевич и Петро Захарович, что приехали, сделали нам праздник. Спасибо Михаилу Касьяновичу и Николаю Артемовичу, что не забывают свой родной край. Так пусть же всем будет хорошо, тепло и уютно в нашем краю.
— Вы — поэт, Иван Егорович! — воскликнула Ева.
— Какой из меня поэт? Я человек деревенский, — смущенно улыбался бывший финагент.
— Ну что, моя очередь? — взял стакан Николай Шандобыла. — И мне бы хотелось о многом сказать. Встреча у нас действительно необычная. Спасибо вам, наши дорогие фронтовики. И нашим гостям столичным благодарность. Выпить бы надо за вас, но третий тост за женщин, за любовь. А любовь выше всего. Мир спасет любовь. Петро, если разрешишь, и вы, Ева, если не против, хочу выпить с вами на брудершафт.
— Разве я могу возражать? — развел руками Петро.
— И мне возражать не приходится, — широко улыбнулась Ева. Приблизилась к Николаю, завела руку со стаканом за его руку, выпила до дна и поцеловала автора тоста.
— Ну, Николай Артемович, молодчина! А я, старый хрыч, не догадался. Налей-ка мне, — отозвался Долгалев.
— Нет, не позволю. Я все-таки власть! — хохотал Шандобыла. — Петро, командуй парадом. Пусть Андрей скажет.
— У меня так много чувств. Но время подпирает. Дорогие мои, давайте выпьем за наших предков. За тех, которые жили давным-давно. И за тех, что спят под березками, могилкам которых мы только что поклонились. Светлая память им, — Андрей выпил не чокаясь.
Все притихли, задумались. Долгалев взволнованно промолвил:
— Андрей Матвеевич, дороженький, хорошо, что вспомнил.
Петро налил стакан Даниле. В его широкой сильной ладони даже граненый «маленковский» стакан казался маленьким и хрупким.
— Уже много чего было сказано. Пусть живет белорусская птица — аист! Пусть он не ленится и приносит в Прибеседье побольше детей!
— Данила, ты у меня с языка сорвал. И я хотел сказать про аиста и детей, — начал Петро. — Ну, кажется, обо всем сказали. Спасибо всем за праздник. За радость встречи на родной земле. Я пью за нас, мы того достойны.
— Ну вот, видишь. И кратко, и узловато сказал, — веско заметил Долгалев. — Ну а вам, дороженькая Ева, подводить итоги. Подвести черту. Мудро получилось. До коммунизма мы не дошли, а вот к матриархату, пожалуй, придем. Все человечество. Мужики столько нахомутали, наломали дров, так что женщинам придется долго разбирать завалы.
— Говорить про матриархат я не буду. Но с вами, Михаил Касьянович, полностью согласна. А мужчин я хочу похвалить. Так вот. Дорогие мужчины! Дорогие земляки моего Петра. Я славлю Мужчину, потому что Мужчина — это жизнетворное начало. Это — Космос, Небо и вся красота вокруг. И радость нисходит от вас. Мы, женщины, принимаем то, что вы даете. Если вы не ленитесь, то аист-батян не сачкует. Пусть же нашему роду не будет переводу. А наши реки пусть текут вовеки.
Все громко зааплодировали, Петро поцеловал раскрасневшуюся от волнения Еву, они чокнулись и допили вино.
…Через некоторое время восьмидесятые годы назовут застойными, даже — застольными. Но тогда об этом никто не знал, хотя и чувствовали, понимали, что дела идут через пень-колоду, пьют и похмеляются все: рабочие и колхозники, партийные и беспартийные, начальники и подчиненные, мужчины и женщины.
Не знала об этих людских заботах и тревогах Беседь. У нее не было застоя. Как и всегда, Река несла свою чистую, криничную воду в далекий вечный океан. Но Беседь ощущала, что люди, живущие на ее берегах, поступают бездумно: вырубают лес, строят животноводческие фермы. Река мелела, течение слабело. Русло затягивало ряской, водорослями, местами из воды выпирали лысые песчаные островки.
И все же Река надеялась, что люди поумнеют, будут беречь и ценить природу, будут заботиться о чистоте Воды. Будут учиться у нее — она, Вода, остается сама собой в любой емкости, в любом сосуде, что несвойственно многим людям в жизненной круговерти.
Течение реки и течение реки Времени нельзя остановить, повернуть вспять. О, его Величество Время! Тебя нельзя купить ни за какие деньги, нельзя одолжить. Правда, бывает, мы воруем чужое время и не всегда бережем свое. Если неудачно прошел день и человек ничего не сделал, он сетует: от, стер сегодня день, стер, как и не было.
Ты, неумолимое и беспощадное Время, все и всех ставишь на свое место. Цари и короли, миллионеры и миллиардеры были готовы пожертвовать своим богатством, чтобы приостановить или хотя бы замедлить течение жизненной реки, чтобы годы не летели так быстро. Мы стали свидетелями глобального соревнования коммунизма и капитализма. Длилось оно более семидесяти лет. «Выиграть время — значит, выиграть все», — убеждал товарищ Ленин. «Даешь пятилетку в четыре года!» — хрипло кричали большевистские комиссары. И народ давал! Женщины-солдатки в хатыничском колхозе «Пятилетку в четыре года» пахали землю на коровах, на своих усадьбах плуг тянули толокой.
И наконец, что такое человеческая жизнь? Из чего она складывается? Это — годы, месяцы, дни, часы и даже минуты. Значит, жизнь — это тоже Время. Счастье, любовь — все во времени.
Об этом думала Ева на берегу Беседи — родной реки своего мужа. Не знала она, как не знал тогда никто, что до аварии на Чернобыльской атомной станции оставалось четыре с половиной года.
До развала Советского Союза — десять лет и тридцать дней.
Перевод с белорусского автора.



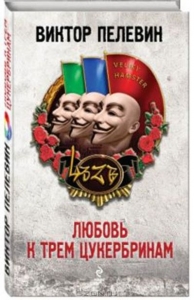






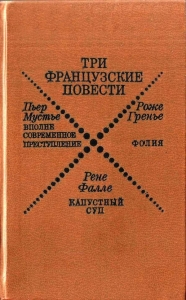
Комментарии к книге «Беседь течёт в океан[журнальный вариант]», Леонид Киреевич Леванович
Всего 0 комментариев