Максим Гуреев Покоритель орнамента
© Гуреев М. А., 2015
© Буркин В. А., иллюстрация на переплете, 2015
© Издание. Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015
Калугадва
Посвящается отцу
1. Комната
Женя проснулся оттого, что ему показалось – кто-то гладит его по лицу. Наверное, мама. Открыл глаза, но в комнате никого не было.
За стеной гости пели пьяными голосами. Выцветшими голосами. Старухи выли. Они не прекращали выть с тех пор, как вернулись с кладбища, – сначала от голода, потом от обиды, а теперь у них пучило животы.
Женя вышел в коридор – тут было темно, на ящике у двери спал отец Мелхиседек Павлов, его еще называли просто – отец Павлов, как отец Павел-Савл. Он развалил обросшие глиной гигантские кирзовые сапоги, ведь старательно же отслужил погребальный чин, совершенно вымок под дождем, замерз и проголодался изрядно – вот его теперь и сморило.
Гроб неровно вынесли из церкви и понесли через поле к погосту, ноги увязали в грязи, ветер раскачивал деревья, собаки дрались.
Женя наклонился, и поцеловал руку отцу Павлову, и погладил его по лицу, спящего, тот задергал головой, зарычал, но не проснулся, а вскоре так и вообще оказался на полу, подоткнув под себя лыжную палку, – столь умаялся за день, сколь смог. По долгу службы.
Дверь из залы открылась, мелькнула часть стола, гости. У окна сидела Фамарь в черной косынке. Женечка всегда знал старуху одинаково старой, поджимающей губы, и они у нее белели оттого. Рядом с ней сидел дед. Вернее сказать, истукан онемевшего деда, что не выпускал из рук мокрого полотенца, – интересно, однако, какое же у него было нынче сморщенное лицо, делавшее его похожим на больного плаксивого ребенка. Сидели еще какие-то родственники, древние подруги Фамари Никитичны, приживалки, затравленно озираясь по сторонам, ковырялись в салате из вареной свеклы и репы.
Женя присел на ведро, ведь все они тоже сидели в раме дверной коробки, сидели под портретом Лиды, перевязанным черной газовой лентой для волос.
В коридор вышел Серега, икнул.
– Вишь, как, малец-то, получилось, приказала мамка долго…
Его шатало.
Держась за стену, Серега добрался до туалета, потом вышел, дверь захлопнулась, перестав освещать Женю, отрезав тени.
Опять стало темно.
Женя на ощупь пробрался к комнате матери. Зашел. Тут вкусно пахло сырой затхлостью, обои вздулись и трещали, когда протапливали печь, зеркало задернуто сукном, а иначе и быть не могло, потому как лампу с налетом извести и клея вывернули, провода перемещались в поле стены, вдоль двери перемещались, а на потолке свет уличных фонарей рисовал ветки, раскачиваемые ветром. Женя подумал: осень, ежедневный дождь, волглые листья залепливают окно, жесть с крыши сарая улетела, скоро снег.
Теперь голоса звучали где-то очень далеко, и, может быть, впервые в доме сделалось тихо, и можно было спокойно смотреть туда, где существовала аллея, скамейки, зеленый дощатый забор без щелей, скелет кровати – пружинами в темноту, без полосатого, пахнущего мочой тюфяка, перепаханная кривая дорога, тянущаяся к краю леса, часть поля и рыжие песочные горы на глиняных разработках, обозреваемые по касательной к плоскости пыльного, покрытого мушиными трупами подоконника. А еще дальше – на огороде – огромная ржавая бочка из-под топлива, в которой обмывали мышей, раздавленных железной рамой на пружине.
Женя подошел к подоконнику, воображая его почти настоящим кладбищем, на котором и похоронили его мать. Ну, разумеется, разумеется, игрушечным – кресты из спичек, ограды из клееных коробков, свежая земля (из горшков для домашних растений), размятая пальцем, и резиновые трубы-кишки, из которых на кафельные столы льется вода. Старые маленькие старательные девочки погребали тут своих любимых голых куколок – целлулоидных, целомудренных, – обряжали их в дырявые войлочные подстилки и… в добрый путь!
Потом Женечка прилег на мамину кровать и вспомнил, как в конце лета ему приснился страшный сон и он, в слезах, прибежал сюда и лег рядом с мамой, а панцирная сетка – продавленная – свалила их в кучу. Стало жарко, но он уснул, улыбаясь.
Женя стал раскачиваться на кровати, ведь теперь это можно было делать совершенно безнаказанно и не бояться старых, расслоившихся пружин, что прорвут блин тюфяка и вопьются в бока и попу… По крайней мере, именно так ему всегда говорила мама: «Смотри, будешь раскачиваться на кровати, пружины вопьются тебе в бока и попу!»
Весело.
Кажется, еще утром Женечка сидел на лестнице, на старых деревянных ступенях, на мохнатых холмах, напоминающих волны, оставленных заколачивающими шаги-гвозди сапогами-волноломами, тут же в матового стекла колпаке была лампа-дежурка. Бабка суетилась, скоро должны были привезти гроб из морга или даже уже везли его.
За забором у Золотаревых завыла собака: сначала она скреблась когтями в заколоченную калитку черного хода на огород, потом, исходя слюной, пыталась ухватить зубами собственный ошейник – столь идиотское занятие, – вертелась, приседала, облепила толстый, как труба, хвост куриным пометом.
И завыла, как почувствовала.
Во двор въехал грузовик, стал разворачиваться, сдавая задом к крыльцу. Свора каких-то родственников, теток, паломников, татар, газокалильных ламп, керосиновых ламп, стариков-канониров из инвалидной роты в медвежьих шапках, манчьжурцев, дребезжащих на сквозняке старух, клеенчатых, залитых кровью фартуков, разносчиков кипятка, горюнов и землекопов облепила высокие борта, колеса и кабину. Жене показалось, что многие уже были пьяны. Они приглашали водилу зайти обогреться – начал накрапывать дождь, обещали угощение и выпивку. Даже дед что-то бесшумно вещал, перемешивая ватой губ в беззубой дырке рта.
Соседские мужики уже сидели в кузове и с уважением щупали черный ситец, которым был оббит гроб, тихонько переговаривались, потом закурили.
Фамарь Никитична держала Женю за руку. Вдруг водила, его, кажется, звали Голованом, заблажил дурным ржавым голосом кирного дебила:
– Ну, чео-о стали? Давай выгружай ее! Мне еще на лесопункт конец делать!
Женя вздрогнул. Как по команде бабки завыли, морща свои и без того маленькие лица, глазки копеечкой, куриные шеи, а мужики, покидав окурки, поволокли тяжесть по доскам кузова, перегружая гроб на подставленные для того плечи.
А потом был весь следующий день, расцвеченный жидким глиняным редколесьем поздней осени. Туман двигался вместе с низким небом. Пахло ледяным зубным настоем заиндевевших лежалых листьев.
Женя вышел со двора. Улица была завалена дровами, привезенными по случаю на лесовозе. Где-то за забором ревела бензопила, черной трухлявой корягой упиралась в небо вымороченная колокольня на Филиале, у соседей гудела паяльная лампа, тянуло бензином и вонючей щетиной – палили борова. В длинной дренажной канаве дрожал пуховый студень – здесь жили толстозадые прожорливые утки со своими костяными глотками.
Женя спустился к карьеру. У самой воды, на врытой в землю бочке сидел Леха Золотарев, трава была вытоптана совершенно.
Женечка представил себе, что на дебаркадере толпились люди и некто, столь малоразличимый из них, уронил в глубину мутной цементной воды суповой половник. Половник блеснул своим фальшивым серебром и исчез, зарылся в ил, а ведь его вполне можно было бы приспособить к ловле слизней в луже у водоразборной колонки или выкапыванию червей.
Леха ковырял матового цвета болячку на губе.
– Помочь? – усмехнулся Женя.
– Не-е, я сам, мне дома мать не разрешает ковырять, говорит, будет заражение крови – и все, помрешь… – Леха косил глаза, оттягивал губу, морщился.
– Паром ждешь?
– Ну! – Леха кивнул. – Тебе собака не нужна?
– Не-а, не нужна. – Женя отвернулся.
– Жаль, а то мать говорит – пусти ты ее в лесу или утопи где, старая, скотина, стала, воет, блажит, житья от нее нет.
Вообще-то, тут все действительно ждали парома, чтобы переправиться на тот берег, ведь многие из стоявших на дебаркадере работали в мастерских, ждали эту ржавую лоханку, в каких, как правило, с полей вывозят навозные кучи, реже – глину. По дренажным путям.
– Говорят, к тебе отец приехал? Женя вздрогнул.
– Злой, что ли?
– Не знаю, я с ним еще не разговаривал, он на похороны опоздал…
– А может, он даже и добрый? – Леха пожал плечами, в том смысле что он и сам сомневается.
– …а ты ее отрави!
– Кого отравить?
– Ну собаку свою и отрави, если старая стала, сам же говорил.
Леха уставился на Женю.
– Да жалко вроде.
– А утопить не жалко? – Женя усмехнулся. – Привязать к ошейнику камень и закинуть подальше в карьер, пускай поплавает. А она еще будет кричать: «Леша, Леша, спаси меня и сохрани!» Это так бабка моя говорит: «Спаси и сохрани». А потом и захлебнется, в общем, все как положено…
В водяных кустах запутались цветные пятна нефти, пошли волны. Кряхтя и отплевывая кипяток, к дебаркадеру подвалил паром, нарисовав в глазах лебедку, троса, длинные вытертые поручни, треснутое и заклеенное газетой стекло рубки. Кинули трап. На берег вышли приехавшие из мастерских и кирпичного завода. Кочегар делал неприличные жесты контролеру. Все вышли и стали подниматься на холм к поселку.
Женя встал.
– Ладно, пошли на Филиал костер жечь. Леха обернулся.
– Можно вообще-то. Удобрением, например. Оно у нас на чердаке припасено, а матери скажу, что костью поперхнулась.
– Зачем это?
– Как это зачем? Удобрения нигде нет, а нам еще гряды присыпать.
– Ну присыпай тогда.
Леха продолжал сидеть у воды.
– Ты идешь?
Такой толстый ушастый воротник пальто, спина зашита в нескольких местах, какие-то узоры шитья и прилипшая глина. Резиновые сапоги выглядывают из норы, откуда пахнет горячей капустой, извалянной в каше. Шапки почти не разобрать, ведь она хоронится. Может быть, шерстяная.
Скользко. Здесь мелководье.
Женя подошел и толкнул пальто в воду. Оно мгновенно набухло и превратилось в колокол.
– Ты чео-о, Жень, одурел совсем? – заорал Золотарев. – Давай вытаскивай меня, чео-о уставился?!
Потом допоздна жгли на Филиале костер и сушили одежду.
Ночью Женя проснулся оттого, что ему показалось, что кто-то гладит его по лицу, наверное, мама. Открыл глаза, но в комнате никого не было.
Были только слова отца Мелхиседека: «О славлю тебя, жена, что подвизаешься здесь в кущах непроходимых, вознесенных трезвением и страстей строительством, столь влекущими твою натуру – тоскующую, одинокую, романтическую, а порой и одноглазую…» Фамарь Никитична одобрительно кивала головой. Вдруг все переглянулись и улыбнулись. Во славу Божию. Во славу Божию.
Гости засмеялись: смотри, смотри – приехал-таки.
– Что же ты опоздал, братан? – Серега приподнялся из-за стола.
Женя хорошо услышал этот вопрос и сел на кровати. Кто приехал? Кто опоздал?
В комнате стало совершенно тихо, скорее непроницаемо для посторонних звуков – потолка было уже не различить, он растворился в вышине. Столь было странно и одновременно обыденно в этой сырой мгле вдруг услышать гудящий печной чугунной заслонкой голос бабки: «Женя, иди поздоровайся с отцом».
Потом Серегу поволокли из-за стола, он что-то кричал, выволокли на кухню, засунули в мойку головой и пустили воду.
Гости запели. Женя вышел в коридор: дед спал на скамейке у двери, Фамарь Никитична скрежетала зубами во сне. В зале.
Спустился по лестнице и вышел на улицу.
Женя подумал о том, что хорошо бы завтра пойти на карьер и посмотреть, как приходит паром, привозит работающих в мастерских и на цементном заводе. С собой на карьер можно взять и Леху Золотарева, а потом пойти на Филиал и пожечь костер.
Теперь с карьера доносился лай собак, ветер отсутствовал. Крыльцо, деревянная приступка, скользкие поручни и дорожка к воротам еще хранили воспоминания о Лиде разбросанными и уже почти ободранными еловыми ветками.
Через огород Женя пробрался к сараю – у входа горел свет.
Раньше здесь дед, как он говорил, «баловался с инструментом», потом сарай забросили, потекла крыша – жесть улетела, окно заткнули мешком из-под удобрения, пол погнил. Вообще-то, малоприятная местность, какая-то безлюдная, глухая и чрезмерно сырая. Теперь же, по бабкиному хотению – «Не пущу ирода в дочкину комнату, пусть, как пес, в сарае ночует», – здесь должен был спать отец – «Не пущу ирода в дочкину комнату, пусть, как пес, в сарае ночует, как живет, так пусть и ночует – под забором!»
И уже после этого разжились низкими скрипучими козлами, когда гроб стащили с грузовика, его поставили на эти низкие козлы, к земле расположив его тем самым, но исходил снизу холод, и даже лом не втыкался в смерзшийся песок, звенел, дудел, а еще разжились тюфяком, набитым соломой, дед приволок из кладовки старое одеяло.
Женя открыл дверь – тут было как в комнате: вкусно пахло сытой затхлостью, обои вздулись и трещали, когда протапливали печь, но ее никогда не топили здесь по причине ее отсутствия, зеркало, задернутое сукном, а иначе и быть не могло, ведь лампу с налетом извести и клея вывернули, полоска света с улицы проехала по отошедшим от пола и загнувшимся плинтусам, выхватила стол, обшитый картоном, – гвозди, скобы, проволока, висящее на ней чучело собаки, шкаф, раньше стоявший в комнате матери, ящик, на котором лежали вещи отца. Все столь знакомо…
За забором у Золотаревых, видно, проснулась собака, она загремела цепью в очке покосившейся конуры, зевнула, прилегла на ступеньку, шевеля своими острыми мохнатыми ушами.
Женя смотрел на отца.
Отец спал – он казался каким-то маленьким, укутанным, замерзшим. Женя воображал себе, как его отец завернулся в старое одеяло, как подогнул ноги, как сопел во сне, стонал, чесал заросшую щеку, как положил под голову свернутую дедову шинель.
«Зачем ты приехал? Зачем? Отвечай!» Вдруг стало душно. Отец завертелся на хрустящем тюфяке, Женя попятился к двери, наступив в темноте на банку из-под солидола. Банка с грохотом помчалась по непригнанным доскам пола.
Сквозняк.
«Кто тут?» – закричал спросонья отец. Этот крик из трубы в окружении зубов, в клоках желтой ваты в сравнении с погребальной урной или бетонной урной, выкрашенной нитрой, продолжал вертеться, продолжал вопрошать в темноту, ринулся, ринулся ведь по следам своих горячих слюней, сбегавших по узенькому желобку. Прикусил язык. Он завыл от боли.
Женя догадался: отец, наверное, испугался, подумал, что его пришли убивать среди ночи в чужом поселке, в сарае, где из щелей тянуло огородной дрянью перекопанной на зиму земли.
«Кто здесь?! Кто здесь?!» – ходящий и невидимый, смотрящий и дышащий кипятком. Женя захлопнул дверь, все погрузилось в темноту. Вот придет дед-дедушка, похожий на Николая Угодника с бородой, и побалуется с инструментом, с топориком например.
Отец стал метаться, стал проситься, стал греметь полностию погребенным в бочке, стал вопрошать, извиваясь и кривляясь отвратительно: «Кто ты? Кто ты? Чего тебе от меня надо?»
– Дед, дедушка, а дедушка! Не слышит, что ли? Приди сюда, завернувшись в простыню, примись сноровисто орудовать ножовкой, посыпая приступку желтыми опилками – «Вот сейчас несущие подрежем, а потом и само пойдет…»
– Открой дверь, слышь, открой! Кто тут?!
– Это же я, твой сын Женечка!
– Не знаю я никакого Женечку! Изыди, сатана!
Женя побежал по огороду. За спиной раздался треск рухнувших балок, хотя нет, сначала сарай зашатался, наружу полезли гвозди, и повалился набок. Отцовский голос, что исходил из недр, перешел на хрип. У Золотаревых за забором собака начала рваться с цепи, включили свет:
– Что у вас там происходит? Полпервого ночи! Совсем обалдели!
Вот и побаловались с инструментом, с каким-нибудь штангенциркулем степенным.
2. Собака
На следующее утро Леха вывел собаку со двора, с опаской косясь на окна первого этажа, где он жил с отцом, матерью и сестрой.
– Постой тут, – сунул Жене брезентовый поводок и исчез за дверью.
Женя посмотрел на собаку, на ее редкие слежавшиеся острова шерсти – старые, душные, что клочья драного ватного одеяла от татарина, на ее лысые бока, как вытоптанная трава в лесу, обнажавшие судорожное дыхание – отрывистое, от раза к разу – свист рваных мехов кузнечных, фотографических, фотографические щелчки, пронзительное фистульное сопение в трубу, дудение… Да, но довольно об этом.
Еще был мутный взгляд, казалось, она даже не замечала его – Женю, – уставившись куда-то перед собой.
А что было перед нею? – кусты, голые деревья, кряжи для распиловки – ну что еще? – улица, дома, наконец, были.
Собака утомленно зевнула, вероятно, после бессонной старческой ночи на сквозняке. Соблаговолила после подобной тошноты – ломило суставы, да и кормили не Бог весть как и чем: известковая скорлупа яиц и вода, картофельные очистки и изжога до умопомрачения, – соблаговолила-таки обратить внимание и на Женю. Понюхала воздух, окрест летающий, отвернулась.
Женя попытался погладить ее (то есть, то есть, может быть, даже и погладил бы ее), он присел перед острой слюнявой мордой, снабженной безразличными чешуйчатыми глазами, рука потянулась к мохнатым ушам, но почему-то (что же произошло?), Женя так и не понял почему, стал ощупывать мощный стальной карабин на ошейнике.
– Сильная вещь? А? Отец из части принес, таким парашюты цепляют. – Леха появился внезапно, правый карман его пальто оттопыривался.
Женя заметил выглядывавший оттуда целлофановый пакет с какой-то белой дрянью.
– Пошли.
Через огороды спустились в низину на зады квартала. Улица ушла вверх, изредка светясь глиной сквозь решетку черных ветвей деревьев. Голых. Собака медленно ковыляла, постоянно препираясь с натянувшимся в струну поводком, желая его укусить, столь ненавистен он был.
Остановились у поваленного дерева. Леха перемешал отраву с разваренными петушиными шкурками – красный гребешок, индюшачья бородка, утиные перепонки, кишки, комок желудка с приправой, сердце, цементная глотка – поставил жестяную банку на землю…
Фамарь Никитична рассказывала внуку Женечке, как совсем недавно повязывала белый клеенчатый передник и рубила голову петуху – пернатому обитателю двора – топором. Потом снимала клеенчатый, залитый кровью передник, а на поминках угощала всю свору гостей и родственников густым бездонным бульоном из огромной железной кастрюли, на дне которой мерцал ржавый половник.
Поставили банку на землю. И вот произошло то, что должно было свершиться тысячу раз, когда, еще будучи молодой визгливой сукой или кобелем (не столь важно!), она, эта собака, носилась по помойкам, выискивая съестное, так же (так же!) облизнулась, видимо, показалось мало, так же принялась обнюхивать жухлую траву… Леха отшвырнул пустую банку ногой.
…жухлую траву – ведь это была уже не трава на самом деле, а нечто, смутно напоминающее траву, некие таинственные бурые острые ленты, из тех, которыми заклеивают оголенные провода.
Провода, провода.
– Пошли домой. – Золотарев встал и поволок собаку обратно.
Она почему-то не упиралась, как прежде, но миролюбиво – нет! – умиротворенно потрусила за хозяином.
«Нечем ли подлечиться, любезный?»
Женя почувствовал, что готов ответить со спокойствием: «Отчего же нет?.. Есть… удобрением, например…» – с ужасом.
Потом Женя взял целлофановый пакет, оставшийся лежать на поваленном дереве, и сунул его в карман. Со спокойствием. Как дымящийся лед, как дымящийся уголь, как погружение и мгновенное, сиюминутное вознесение, рука как бы оказалась в воображаемой стороне от происходящего, в предположительном отдалении. В этой местности.
– Вот и все. Женя встал.
Леха с собакой поднялись на улицу и шли вдоль забора. Женя двинулся за ними. У дома Золотаревых остановились.
Женя наклонился к собаке. Собака смотрела на него, и он увидел свое отражение в ее глазах.
…Он – на кого же он похож? Вот, у него такие торчащие ладонями уши (его четыре руки), подобные древесным грибам – чагам.
Глазами Женя более походил на мать, все родственники это находили – «Когда на поминках они сели за стол, я вызвался им подать чаю, ведь чем еще, кроме чая, я мог привечать их – своих родственников».
Подбородок, надбровные дуги, песчаные холмы и высохшая пойма могли бы изобразить Женю в довольно невыгодном свете лампы-дежурки, если бы не впалые щеки – низинами в предгорьях, – Женя вдруг схватил себя пальцами за нос и стал истово вертеть его: «Расти вверх! Расти вниз! Горой в облаках! Кучей в пирогах! Яблоками печеными! Стаканами толчеными! Вот так! И вот так! А еще так!» Следовательно, в предгорьях птичьего клюва, следовательно, левая скула не имела ни малейшей возможности переговариваться с правой, к примеру, в редкую минуту одиночества, в некоем энергетическом порыве, движении ли.
Было что-то и от Фамари Никитичны: может быть, затылок, а может, и макушка – такая же, с низким трухлявым пнем, заросшим папоротником и цветистыми лишаями. (Забавное сравнение! Более того, когда нос – оставленный, отринутый, познавший пальцы, испытавший мучения, вкусивший насилия сполна, красный совершенно, потираемый благосклонно, почесываемый, более не привлекает внимания, Женя трогает собственную макушку и выдвигает подобное, довольно душное, чтобы не сказать, дышащее лесом, сравнение.)
Дед всегда обижался, приговаривая, бормоча: «Ну возьми хотя бы мою походку через шаг на второй, а через второй на сажень».
– Косая сажень в плечах! «До Москвы – две версты» – написано.
Женя ходил, устремив носки внутрь, отчего имел вечно сбитые под ус задники туфель. Ценное приобретение для загребания песка или земли, наращивая целые сугробы, с извечной легкостию исчезающие при наличии доброй воли: жестяной формочки, начищенного бузиной медного козырька или разросшегося, ветвистого, проведшего всю зиму в банке с водой березового веника. Веника проволочного, царапающего стекло, оставляющего за собой полосы-борозды.
В ту минуту худые ноги с острыми коленями щелкающе резали воздух кухни. Поиск чашек, поиск сахара, нахождение кипятка.
Женя вспомнил, что, когда он уготовлял на кухне горький чай для родственников, почувствовал на себе взгляд. Оглянулся. На буфете стояли фаянсовые игрушки: Онегин и Татьяна, Пушкин и Гоголь, Борис и Глеб, Герцен и Огарев…
– Долго еще чаю ждать? Что ты там делаешь, поганец?…Флор и Лавр, Минин и князь Пожарский. Еще прятались слипшиеся леденцы.
Женя ненавидел свое отражение в зеркале. В воображении он настаивал на пропорциях этих самых Минина и князя Пожарского (все же!): сидящий и совершенно облупившийся, но иной способен к сохранению зыбкой одежды из мела или снега, вернее, убранный изъеденным ситцем, стоит, воздев руку, стоит вровень с игрушечной петардой, начиненной соскобленной со спичек серой, что вот-вот взорвется и оторвет руку и ногу. Тому, кто сидит, – левую руку, а тому, кто стоит, – правую ногу и обожжет бровь и хвост… не в бровь, а в глаз… и в хвост, и в гриву, это, конечно, в случае наличия какого-нибудь устремляющегося за блохами зверя.
– …Давай быстрей, мне уже идти надо. – Леха нетерпеливо переминался с ноги на ногу.
Собака икнула, выпустив на всклоченную бороду желтые вспененные слюни.
Женя вздрогнул.
Калитка захлопнулась.
Когда уже совсем стемнело и по длине улиц зажгли фонари, Золотарев выволок окоченевшую собаку со двора и закопал за сушилкой в куче сбитого цемента. Наскоро, пока не смерзлось.
Смерзлось.
3. Отец
Вот и в наш город потянулись обозы с дровами и углем. Обозы выстраиваются где-то на извозных и дровяных слободах, на грузовых железнодорожных перегонах, разъездах и оттуда устремляются бесконечными грохочущими потоками. Значит – скоро будет тепло! Значит – снова придется ковырять ломом заиндевевшее очко в сортире! Но ничего, это даже и хорошо!
От извозчиков, тех же водителей, в стеганых ватниках, тулупах ли, пахнет табаком. Поднимается пар. Целое парное марево.
Женя с отцом пробираются сквозь эту шумную толпу однообразного цвета и звука: кто-то кашляет, но не закрывает рта руками, кто-то громко смеется, хохочет, тыкает пальцем, чешет ушанку-шапку, съехавшую на затылок, кто-то просто зевает, курит, сморкается в жестяную трубу соответственно трубно. Подвозят уголь в вагонах или тачках, подвозят и дрова на лесовозах.
Поодаль стоит тарантас цыган, и сам цыган, облаченный в валенки и изорванный собаками тулуп, греется, прислонившись к дымящемуся боку мохнатой лошади. В руках держит лопату для угля, чтобы, лязгая, загружать железный сварной короб.
Никто не обращает на Женю и его отца никакого внимания.
Они выбрались в поле и пошли, оставив за спиной церковь, пошли к лесу, где находился погост.
Женя краем глаза наблюдал за отцом, который, не вынимая рук из карманов пальто, торопился, пытался попасть на полосу мокрого, липкого снега, но постоянно ошибался и проваливался в канаву, полную гнилых листьев, ботвы и вонючей воды.
– Как же здесь гроб-то несли? – вопрошал сам у себя.
Наконец вошли в лес. В темноте пропитанных влагой стволов, местами подмерзших и даже обледеневших, начинали свое движение навстречу идущим низкие, гнутые, едва ли доходящие до метра, крашенные в синий цвет ограды из проволоки, ножек кроватей, слежавшихся пружин и ребристых прутов – ограды могил.
Ограды могил.
Дорожки занесло снегом, и потому приходилось придумывать новые пути через кусты, кучи дерна, гравия, спиленные деревья и хрустящий лед осыпавшихся могил.
А ведь снег усилился тогда – он опухшим, отяжелевшим, бесформенным, прокисшей комкастой кашей (Господи, каким же еще?), распаренным после неверного пудового бега, сумасшедшим неистово рвался в глаза, в рот, в уши, за воротник, свисая, и рушился, раскачивая волосы и ветки, искусственные цветы и подставленные руки. Все, абсолютно все приводил в движение.
Женя был здесь как в кладовой, где под потолком по разъезженным рельсам и трубам перемещались отсыревшие куклы с пластмассовыми масками улыбок. Тут же были лацканы, полы, воротники, пазухи и запазухи, разного рода облачения и так далее. Все это несметное, но вполне обозримое по длине ангара-ризницы воинство шевелилось. Женя почти чувствовал объятия их душных рукавов.
Это все рисовалось его воображению…
Отец остановился:
– Кажется, пришли?
– Пришли. – Женя принялся разгребать снег с могилы, затем достал печенье.
Вдруг в тишине однообразного шума падающего снега, в темноте белого, синего и черного отец начал говорить монотонно. (Ты чео-о? Пап? А? Ты чео-о?) Говорить хрипло, даже распевно – может быть, он был голосом прозы, почти беззвучным? Раскачивался почти беззвучным, закрывал глаза почти беззвучным, вторил дрожанием полой трубы шахты лифта почти беззвучным. У него начала расти борода из снега. Борода из волос… тоже начала расти. Женя почувствовал дурноту.
Отец сел на скамью, закурил, стал рассказывать. Вот что Женя услышал тогда:
– В райцентре мотовоз обычно стоял три минуты. Подходил неспешно, газовал, свистел, громыхал тамбурами и агрегатами сцепки, сообщал: «Филиал – Кирпичный завод – Лесопункт Айга – Тихонова пустынь – Калугаодин – Калугадва» – все это, стало быть, пройдено.
На платформу, прибранную плешивыми кустами, еще на ходу выпрыгивали пильщики, водители лесовозов, мотористы, охрана. Выбрасывали деревянные обшитые железом ящики с почтой. А за поручни уже тяжело цеплялись другие, волоча перетянутые ремнями мешки. Тут же нищие просили, скользя по коварному перронову льду (костыли, палки, клюки-крюки), кто быстрей получит воздушный поцелуй или кто верней распорядится собранной мелочью. Некоторые из этих нищих, разумеется, падали, истошно вопили, скорее всего по причине бессильной злобы.
Отец улыбнулся.
– Я успел тогда вскочить на подножку в самую последнюю минуту и закричал: «А ну, мужики, потеснись! Ехать-то всем надо!» В глубине тамбура послышались голоса: «Ну, ехай, ехай, солдатик!» и еще «О, сильные люди лезут!»
Мотовоз загудел утробно гудком, и мы тронулись.
Я оглянулся – Калугадва медленно поплыла назад…
Женя вообразил себе эту мерзкую картину отбытия-исхода: картину опоздавших на поезд, смеющихся, отупело-безразличных, пьяных, неизвестно откуда взявшихся бритых дебилов и нищих.
– Ну, поехали, слава Богу. – Отец встал со скамейки, прошелся вдоль могильной ограды, вернулся. – К Кирпичному заводу стало немного посвободней, и мне удалось пробраться в вагон. Тут было нестерпимо душно, а еще нарядчики с дальних лесоучастков – от станции два часа на вездеходе – столпились у совершенно распаявшейся печки-перекалки и курили. Пахло дымом и табаком. Окна запотели. Я подумал тогда, как все глупо, безнадежно и бессмысленно… Понимаешь меня?
Женя кивнул головой.
– …ведь, понимаешь, я хорошо знал, что никакого болота и даже самой незначительной, мало-мальски ощутимой сыростью топи здесь не было. Просто старые вырубки слишком медленно зарастали редкой голутвой и кустарником. А я все ждал, все надеялся, что наступит тот момент, когда шпалы, а за ними и рельсы, и наш вагон врежутся в мутную, густую киселем водорослей воду… и все, расталкивая друг друга, бросятся к аварийному люку в потолке, будут просить подсадить, больно ударяя по каше лиц каблуками коротеньких резиновых ботиков или кирзовых сапог.
Женя закрыл глаза.
– Тебе плохо? – Отец подошел к нему, наклонился.
– Не-е, нормально, просто тошнит.
– После Мастерских, где когда-то работал мой отец, твой дед, кстати сказать, Дмитрий Павлович, вагон опустел совершенно, и до леспромхоза мотовоз ехал почти пустой…
– У тебя был отец? – Женя открыл глаза.
– А как ты думал, обязательно… Ну вот, тогда я и сел на скамью в вагоне – такую, знаешь, плоскую, обитую дерматином или фанерой, сейчас не помню, дурного, резкого цвета. Сел рядом с Лидой. Рядом с твоей матерью.
– Да, да. – Женя улыбнулся.
– На ней было старообрядское пальто с вытертым мерлушковым воротником.
Лида.
Она напоминала мне мою мать, такую же слабую, раздраженную, вечно уставшую, что надорвалась после войны, когда работала на погрузке леса, ведь тогда мужчин совсем не было и женщинам приходилось ворочать огромные сосновые стволы, подтаскивать к подводам, обвязав мерзлым корабельным канатом-тягой.
Мы молчали, смотрели в окно, за которым двигался назад рваный лес, какие-то заброшенные бараки, вагоны на путях и на земле, в них жили люди, вереницы грузовиков и трелевочных машин на переездах. Потом я спросил у Лиды…
– Что ты спросил, – Женя выдернул свою руку из руки отца и отвернулся, – ну, что ты спросил?
– Я спросил, где она работает, и она, то есть твоя мать, ответила, что работает в конторе леспромхоза, сидит в бытовке, которая не отапливается зимой. Сначала она говорила как-то нехотя или делала вид, смешно путаясь в блеклой косынке, вырезанной из полосатого пледа с кистями и витыми колбасками – вязаными-перевязаными, колючими и безобразными, знаешь такие?
– Знаю, знаю…
– Поправляла волосы, но потом осмелела и даже показала неведомые списки и счета, сокрытые до времени в ее папке. Как ты себя чувствуешь?
– Нормально. – Женя улыбнулся. – Даже хорошо.
Ну, конечно, старообрядское пальто, ну, конечно! И принадлежало оно сначала Фамари Никитичне, его бабке, сухой, мрачной насельнице двухэтажного бревенчатого барака для бывших спецпереселенцев, или их охраны, или черт знает кого еще!
– Вот… а потом она сказала: «Меня Лидой зовут, а вас как зовут?» «А меня зовут…» – и я сказал свое имя. Женя, ты помнишь, как меня зовут, как зовут твоего отца?
– Пойдем домой.
– Конечно, конечно. – Отец засуетился, принялся отряхивать снег с рукавов, шапки. – Уже поздно.
Теперь Женечке даже начинала и нравиться эта игра.
«Как звали моего отца? Владимиром? Александром? Иоанном? Иовом? Сергеем? Максимом? Валерием-Уалерием? Завулоном? Андреем или Иаковом? Нет, нет и нет!» Столь необычно он продолжал описывать происходящее, уподобляясь ветру, дыму, рваному подряснику, свитку.
Закрывал глаза. Подходил к окну с видом во двор. Ласкал сам себя, забравшись в рукав. Столь необычно все это, столь необычно. Придумывал чахлую мерцающую службу, жидкий ладан, слабые, почти немощные голоса, красный дребезжащий огонь свечей. Вспомнил, как поцеловал руку отцу Мелхиседеку.
– Лида тогда впервые привела меня на окраину поселка, в храм, который больше напоминал катакомбы, сырой подвал с бетонным полом, где еще год назад могли бы стоять циркулярные пилы и электрические ступы для мела, извести и гравия. Здесь на стенах, укрытых домашними полотенцами, изукрашенных припасенными образками, сохранилась бело-красно-зеленая пелена и лица были разбиты уступчатыми ямами в штукатурке…
Женя увидел: только ладони лодочкой и ризы колоколом в одной плоскости. Все повернуты, все смотрят, вносят огромный восьмиконечный крест.
По углам – печи, черные пробки дымоходов, топки забиты красным кирпичом и опилками. А зимой снег ложится здесь на подоконники и остатки растрескавшихся рам, образуя целые седловины и холмики. Ведь Лида впервые привела его в церковь, что располагалась на окраине поселка, где вполне можно было задохнуться от ладана, от гула чавкающих губ, шагов нескончаемым круговоротом и окна были непрозрачны. Отец Павлов обращался ко всем.
«На полях иконы обозримы клейма-жития – Рождество, Крещение, обращение к горнему (например, дикие звери приносят пищу), кормление хлебами и насыщение хлебами, подвиги веры, мученическая кончина, страсти и чудеса у гроба. Замкнутый цикл – идея круга. А также ряды-чины – идея последовательности, последовательного предшествования. Святоотеческий, пророческий – „сбылось реченное через пророка…“, деисус, местный, Святые Врата, Евхаристия и, наконец, страшный пожар, неистовство огня – тябла выгибаются и с грохотом валятся на пол, проламывая его. Жар раздирает доски, и они раскалываются, уходя в темноту…»
Отец Мелхиседек выключает свет, и сразу наступает зимний вечер.
Отец усмехнулся:
– Сам-то я давно в церкви бывал, кажется, еще в детстве, у себя в городе. Все забыл или даже не знал толком. Понимаешь, совершенно как чужой, как в гостях, в которые не приглашали. Одним словом, заглянул по случаю.
Женя кивнул в ответ.
– …на скамьях стояли забытые чашки с хлебной мякотью. Свечи вдруг начинали громко хрустеть в наступившей тишине, дымить, валиться и набрасываться друг на друга. Потом открыли потайные двери и вынесли пластмассовые ведра и корзины. Оранжевый воск капал, мутнел и застывал молниеносно. Пластмассовые ведра и корзины наполняли пакетами, мусором, бумагой, в которую заворачивали рыбу. Пластмассовые ведра и корзины ставили у стен, ставили их, таких пузатых, а они, как назло, падали и катались по бетонному полу, нарушая благоговейную тишину храма. Потом… что было потом?…А-а, да, потом протирали стекла и становились видны огни и снег на улице. Пластмассовые ведра и корзины падают и катаются, катаются, рассыпая мусор по полу, и его вновь терпеливо собирают. Пахнет рыбой, что поджаривали на огне.
– Как это на огне? – Женя почесал нос. – Чего-то чешется…
– Очень просто – сначала поджаривают на огне на решетках или подвешивают за ребро над углями, чтобы запеклось, а потом колесуют, чтобы проветрилось…
– Как это?
– Вот лето наступит, поедем на рыбалку, тогда и покажу. – Отец улыбнулся.
Женя опять увидел перед собой: только ладони лодочкой в одной плоскости и ризы колоколом в одной плоскости, еще ступени, копья, черепа. «Все это напоминает Голгофу, Секирную гору», – сообщает отец Мелхиседек. Боже мой! Боже мой! Отец Мелхиседек уходит, поклонившись.
– Потом мы с Лидой вышли на улицу. Она рассказала мне, что довольно редко заходила сюда, в храм, не знала толком ни праздников, кроме Рождества и Пасхи, ни служб, ни постов, ни молитв, ни чинопоследования, хотя ее мать, Фамарь Никитична, тут помогала церковному старосте, и все ее знали, и даже сам батюшка ее несколько побаивался за громкий стальной голос, была ли она права или неправа… какая разница?
Потом мы пошли с твоей мамой гулять. В пути следовало бы свернуть в переулок, чтобы сократить долгую, только что схваченную морозом дорогу по неосвещенной улице, но Лида повела меня на карусели – какие карусели зимой!
– Я знаю, – подхватил Женя, – мы там с мамой потом часто бывали. Я не люблю карусели, меня на них укачивает и начинает тошнить. – Женя подошел к могиле.
Теперь могила Лиды была чиста. Чиста от снега и черна от ночи бесформенной кучей дерна. Женя расчистил ее полностью, встал, вынул из карманов припасенное угощение – ломкий песок прошлогоднего печенья к новогодней елке, укутанной ватой, цветной бумагой, – к новогодней елке, ко дню ангела, к утренней службе, к службе вечерней, к маленьким, к крохотным таким вспотевшим ладоням лодочкой, совершившим свое слепое, но верное путешествие во влажной темноте карманов куртки, перешитой из ветхой бабушкиной кацавейки. К ладоням пристал белый порошок, рассыпанный повсюду.
Это был не снег, потому как не таял.
Женя вспомнил, что забыл выбросить целлофановый пакет, и теперь он разорвался. Значит, отрава перемешалась с крошками печенья, которым он только что угощал маму…
– Ты что? – Отец наклонился к Жене. – Замерз? Ну, пойдем домой, уже поздно, нам бабушка чаю согреет.
Но ведь она мертвая и, стало быть, не так страшно, что покушала это угощение. Она уже умерла. А бабушка говорила, что у Бога все живы…
– Я не виноват, я совсем, совсем забыл…
– Что ты забыл? – проговорил отец пустым, бесцветным голосом. – Сынок, пойдем скорее домой, пойдем, прошу тебя.
– Нет! – Женя отскочил к покосившейся, почти целиком погребенной под снегом ограде. – Нет! Не пойду с тобой! В глушь, в дремучую темь – там лешие, упыри, бесы и покойники!
– Что ты говоришь такое?!
– Я здесь останусь, рядом с мамой!
«Круг могилки я хожу, хожу, круг я келейки хожу, хожу, круг я новенькия, круг да сосновенькия, все я старицу бужу: „Уж ты, старица, встань, ты, спасена душа, встань, уж к заутрене звонят. Люди сходятся, Богу молятся, все спасаются!“ Все я матушку бужу, все я матушку бужу: „Уж ты, матушка, встань, ты, спасена душа, встань!“
– Ты поди прочь, пономарь! Ты поди прочь, молодой. Уж я, право, не могу, вот те Бог, не могу: ручки-ножки болят, все суставчики мозжат.
Круг могилки я хожу, хожу, круг я келейки хожу, хожу, круг я новенькия, круг да сосновенькия, все я старицу бужу: „Уж ты, старица, встань, ты, спасена душа, встань, как у наших у ворот собирается народ все со скрипочками, с балалаечками“. Все я матушку бужу, все я матушку бужу.
– Ты постой-ка, пономарь! Подожди-ка, молодой! Уж и стать было мне, поплясать было мне, хоровод поводить с девушками, да лежу я в гробу – „круг я новенькия, круг да сосновенькия“ – с медными пятаками на глазах».
Под вечер Женя заболел…
4. Женя
Под вечер Женя заболел.
Начался жар, поднялась температура, мокрые, расползшиеся валенки, оставленные в коридоре, повторяли форму влажных мучнистых ног, луж, хлюпающих шагов.
Дед старался не топать, прохаживаясь в темноте, лишь изредка озаряемый сполохами красного света из открытой топки печи. Часы с шипением стершихся шестерен и вытянутых вслед за цепями пружин пробили половину десятого. Отмерили границу тишины.
С кухни потянуло запахом настоя, приготовлением которого занялась Фамарь Никитична. Она специально для того пошла на неотапливаемую веранду и долго выбирала среди развешанных веников по окнам, среди трав и кореньев.
Сквозь цветной полусон Женя слышал голоса, шелест твердых, накрахмаленных углов подушки, шелест спиц, треск вздувшихся обоев, шум ветра и подвластных ему ветвей, шаги где-то очень далеко, шепот сухих губ, советовавших, как способней следует полоскать воспаленное горло. Женя почувствовал отвратительную горечь толченного в ложке анальгина, очень боялся пошевелиться, чтобы не растревожить такое слабое, постоянно сменяющееся ознобом, мерцающее тепло здесь, в огромных мокрых простынях. Ведь бабушка уложила Женечку к себе в кровать, накрыв стеганым одеялом.
Лежал, лежал да и свалил сам себя в кучу…
Под утро он уснул, однако вскоре проснулся: комната была освещена зеленоватым дымом перламутрового, давно заброшенного и заросшего водоема. Комната была пуста, комната была, и он – Женя – был. «А если я умру, как мама, то меня не будет… Все станут меня искать, звать, кричать: Женя, Женя, где ты? А меня уже давно не будет, и они пребудут в неведении и слепоте».
Посреди комнаты стоял стол, чуть шевелились благодаря горячему печному духу прелые занавески, газовые занавески, и страшила, страшила стена своим зимним рельефом побелки, отколотой штукатуркой и пролежнями замаскированных кирпичей, схваченных глиной, вьюшек ли. Речь, разумеется, идет о печной стене…
Под столом прятался грузовичок, доверху набитый игрушками, пусть даже новогодними, покрывшимися пылью. Окаменели за отсутствием – «гордо реет» – мятые первомайские флажки, услужливо снабженные подтеками казеинового клея. Когда-то Женя приклеивал их к уступам мебели, воображая себе парад на Красной площади, что транслировали по радио, – фанерный ящик, обтянутый колючим суровьем, светящийся ограненным стеклом и керамическими клавишами настройки, – радиоточка.
По столу ползали муравьи, но медная платформа для кускового сахара – фарфоровые балерины, тряпичные клоуны, лысые мраморные пасхи Фаберже и бумажные гномы, – круглая, подобная карусели, в центре стола, круглого, вздрагивала и начинала вращение.
Все быстрее и быстрее…
Женя вдруг становился невольным свидетелем этой нечаянной игры, нечаянной радости, и диспетчер по каруселям Афанасьевич пускал Лиду покататься бесплатно. Хотя Фамарь Никитична и давала ей двадцать копеек медными пятаками на завтрак, на мороженое… на глаза.
Да, на глаза, на глаза!
Диспетчер по каруселям в парке, где играла музыка, пускал покататься бесплатно. И они катались бесплатно вместе с кусковым сахаром, хозяйственным мылом, тряпичными клоунами и грудастыми физкультурницами.
Здесь все казалось реально и предельно знакомо, хотелось только иного света. И он становился иным – голубоватым утром, свежим, морозным, с наледью у водоразборной колонки и лаем собак, переживших эту ночь.
Женя пошевелился. Пижама высохла, затвердела, прилепившись к телу, и было столь приятно изуверски медленно отрывать ее от этого тела, распространявшего запах масел, зверобоя, загипсовавшейся марли и водки, которыми его (Женечку) натирали давеча.
Женя, кажется, был в беспамятстве и ничего не помнил из этого.
…вот они вернулись с отцом с кладбища, тогда мокрый, тяжелый снег сменился дождем, вот молча сели за стол и стали ждать ужина. Потом Женя почувствовал головную боль – сначала несильную, но медленную, вязкую, напоминавшую мерный, однообразный звук внутри лба и бровей, будто там кто-то ползал на чердаке, заглядывая в слуховые окна, затыкая вытяжные короба из глубин низа пробками – тряпьем и мятой бумагой. Женя попытался встать, ноги не слушались, боль молниеносно усилилась, взорвалась, растекшись по рукам, губам, одежде. Женя вскрикнул. Отец обернулся. Он начал что-то говорить громко, даже, вероятно, кричать, а на лице у него была надета маска из плотной бумаги, которую он, судя по безуспешным попыткам, никак не мог снять.
Женя услышал совершенно чужой хриплый голос бабки: «…вот, пожалуйста, померили температуру – тридцать девять и пять! Додумался в такую погоду ребенка на кладбище таскать, ирод!»
Фамарь Никитична помогала Жене раздеваться, кричала деду: «Давай ставь чайник, чего-о уставился!»
Отца в тот вечер она к Женечке не пустила, и он остался сидеть в коридоре у открытой печной топки, сушил промокшее пальто и Женины валенки. Они курились.
Стало жарко.
Женя вспоминал лето, когда он рвал подорожники и обклеивал ими голые ноги и руки, рвал и цветы, восхищался их свежестью, терпким тошнотворным запахом, густым голубоватым духом сумрачных водорослей.
Женя помнил, как сюда, в тень кустов, мама всегда прятала банку с водой, забеленной молоком, и банка остывала здесь.
Лида укрепляла сорванные цветы на тарантасе, стоявшем во дворе. Лошади вздрагивали, становились добычей оводов, навозной духоты, прели, мечтали о пронзительном ветре.
Тарантас, который теперь более походил на большую корзину цветов, после полудня уезжал на дальние лесоучастки. По его сиденьям, фартукам и блестящим подлокотникам ползали жуки. Лесник готовил зеленые военные термосы с их курящимися внутренностями – с чаем ли, щами, кашей. Проверял ружье. Кучер-цыган смотрел на маму: она выходила на солнце, на солнечную сторону, и ветер слегка шевелил ее волосы.
Жила-была себе в этой местности, посреди старого парка с единственной аллеей, на берегу заболоченного дурно пахнущего пруда, вернее сказать, карьера (глинодобытчики постарались!), в комнате из парусины и веников зверобоя. Выходила на веранду, вдыхала этот самый зверобой, эти самые языческие благовония-услады, здесь еще пахло сырым луком, а на кухне всегда говорило радио.
Летом Женя любил ходить на Филиал один. Филиалом назывались окрестности поселка, где располагались кирпичный завод, лесобиржа и интернат. В это время интернатовских увозили на торфяные разработки за болото Чижкомох, и поэтому интернат пустовал.
Площадка перед бревенчатым зданием школы зарастала травой, куча угля за котельной покрывалась теплым дымящимся мхом, и можно было, вполне обезопасив себя, избегая вопросов и погони по пятам, забраться на самый верхний звон полуразрушенной колокольни. С высоты после узкой, темной лестницы – крутого, крюкастого лаза, низкого, невыносимо низкого, скребущегося в голову потолка Женя принимался за эту территорию мира, разлитого под летним солнцем.
Конечно, ослепляло с непривычки, хотя этой минуты следовало ожидать с неотвязностью, борясь с волнением, не подавая вида в том, но все же, все же эта минута наступала внезапно – болели глаза, ломило голову.
Женя видел лес до горизонта, поселок, мутную зелень карьера.
В продолжение тишины улицы пустовали, расчерченные песчаной пылью, поднятой вероятным метанием камней или путешествием велосипеда. Деревянные мостовые возлежали в тени деревьев. Единственным местом, где происходило хоть какое мало-мальски различимое с вышины движение, была станция УЖД – узкоколейной железной дороги: мотовоз дышал черной копотью солярки и двигался игрушечной спичечной коробкой.
Потом Женя пробирался вдоль кирпичной монастырской ограды, и колокольня оставалась за спиной на фоне синего июльского неба.
…наконец лесник уезжал на лесоучастки, и ворота закрывались.
Женя очнулся. Дед сидел рядом с его кроватью на стуле и дремал.
Было уже поздно, часов одиннадцать, когда в дверь постучали. Отец открыл. На лестнице стоял Леха Золотарев. Он говорил быстро – «но Женя заболел», – он постоянно оглядывался – «но Женя заболел», – он чесал нос – «но Женя заболел», – он переминался с ноги на ногу – «но Женя, говорю, заболел».
Женя почувствовал, что этот разговор, свидетелем которого он стал, теряет для него всякий смысл. Голоса сливались в какое-то однообразное гудение, вой.
– …а как же звали твою собаку?
– Мухтаром звали.
– Стеклом, говоришь, подавилась?
– Да, она, зараза такая, все по помойкам лазила, дрянь всякую жрала.
«Я не понимаю, что он говорит». – Женя попытался встать.
– А ты его не слушай, не слушай. – Прямо перед собой Женя увидел усатое лицо Фамари Никитичны.
Оглянулся, деда уже нигде не было, а была только она… конечно, ведь Фамарь Никитична родилась в этом старом двухэтажном деревянном бараке, разгороженном печными трубами и фанерными ширмами, прожила здесь всю жизнь и знала свое заветное, укромное место под лестницей, где неторопливо располагалась с собственными опушенными холмами двойного подбородка, снопообразным пепельным париком и растянутыми, в сравнении с древесными грибами, мочками ушей. Естественно, чтобы никто не видел. Не дай Бог! Она разматывала свой серебряный тюрбан, сыпала на пол потоки стекол, конфетти, елочных украшений, снимала клипсы, закусив ими полысевший и потому скользкий манжет старой плисовой шубки Элизабеты Шварцкопф… Нет! Она не вкушала всего этого, у нее наличествовал гастрит, и ее частенько подташнивало.
Бабка всегда вспоминала зиму в той лишь связи, что в холодное время года на веранде хранилась картошка в корзинах на фоне засыпанных снегом деревьев. Веранда, на которую вела дверь, прорубленная в конце сумрачного коридора, была пересвечена солнцем, дымившимся пылью и паутиной. Последние недели, когда уже не могла выходить на улицу, Лида неподвижно сидела здесь, завернувшись в одеяло. Было свежо. Прозрачно…
Потом Женя услышал, как хлопнула входная дверь. Некоторое время шаги разносились на лестнице. Стукнула калитка. Золотарев ушел.
Теперь воцарилась тишина, и только из комнаты доносился сиплый голос Фамари, она что-то пела Женечке, который заболел.
Колыбельную песенку пела:
Приходи к нам ночевать, Нашу Лидочку качать!Пела распевно, закрывала глаза, раскачивалась, казалась совершенно беззвучной. Мертвой:
Уж ты, котенька-коток, Я тебе, тому коту, За работу заплачу: Дам кувшин молока Да кусок пирога…5. Интернат
Столовая располагалась в бывшем братском корпусе монастыря. Первый этаж, лишенный перегородок, был переоборудован в зал и кухню с прилавком-раздачей, кафельными до половины стенами, электрическими плитами и жестяными закопченными вытяжками. Второй же этаж был превращен в склад, там стояли холодильники, а окна были снабжены решетками из арматуры.
Рассказывали, что года три назад интернатовские, воспользовавшись пожарной лестницей и выбив стекла, залезли сюда в поисках спирта. Кто-то пустил идиотский слух, что на нем работали холодильные установки, но, естественно, ничего не найдя, они разгромили продуктовые шкафы и разбили часть хранившейся здесь посуды. Тогда даже вызывали милицию на сине-зеленых с расшатанными рессорами УАЗах-буханках. Зачинщиков вскоре нашли и отправили в райцентр, после чего их больше никто не видел. Вся эта довольно неприятная история закончилась тем, что окна второго этажа забрали металлическими прутами, грубо и неумело сваренными между собой, а пожарную лестницу приковали цепью к здоровенному пню, оставшемуся после расчистки монастырского двора.
Стены столовки, прокрашенные синей масляной краской, сохраняли рельеф заложенных ниш, арок и разобранных контрфорсов. Потолок тут был необычайно низок и расходился к углам традиционными парусами, столь типичными для старых построек. В тех местах, где было возможно наибольшее напряжение, во время капитального ремонта воткнули бетонные сваи – ледяные колонны. Колонны – вечно влажные своей цементной подвальной сыростью. Столпы… В шесть часов утра зажигали свет на кухне и включали плиты прогреваться. Длинные острые тени от ножек перевернутых стульев, что ставили во время ночной уборки на столы, втыкались в окна и рукомойники – противорасположенные. Здесь, у рукомойников, всегда была натоптана грязь, потому что интернатовские никогда не выключали кранов за собой, как, впрочем, и редко мылись, приходя на завтрак заспанными, а в большинстве своем и неопохмелившимися. Мутило, конечно: запах хлорки, готовки, пара, горелых проводов.
Висел плакат «Соблюдай чистоту!» Висел себе и висел, пока его не сорвали со стены и не положили в лужу перед рукомойниками этаким шатким спревающим мостком.
Продукты из холодильников и шкафов всегда выдавали Серега или директор интерната Борис Платонович – из отставников.
Дежурный с трудом протискивал короба со строго размеренными порциями в узкий лаз, что вел на первый этаж. Спускался. Этот лаз остался еще с монастырских времен и вел раньше в трапезную церкви Святых Отцов Семи Вселенских Соборов, во время капитального ремонта уничтоженную. Тогда даже умудрились спрямить алтарь, выступавший из стены полукругом, превратив его в отхожее место, где водонапорные баки прятались высоко под потолком… прятались себе во влажной темноте и струпьях отошедшей штукатурки. Их почти не было видно, и едва ли вообще было возможным помышлять об их уединенном существовании, если бы не среднего диаметра расцарапанные гвоздями трубы, вьющиеся вкруг яслей змеями, и гул, вой желтоватого оттенка воды. Ржавой воды, вонючей воды, которую изредка выпускали, как безумного зверя, чтобы неминуемо наблюдать ее исчезновение в подтечных коричневых глубинах унитаза со стопами. Со стопами на дне… для получения удовольствия. Продукты два раза в неделю привозила вахтовая машина, идущая в сторону промзоны, а оттуда на лесобиржу. Там тоже работали столовки для кочегаров заводских печей и заготовителей.
Деревянные ящики с хлебом и консервами принимал сам Борис Платонович, все записывал в амбарную книгу, ругался с водителем, много курил, а иногда и помогал таскать ящики к продуктовым шкафам, если дежурный оказывался слабым или вида синюшного. В интернате многие болели…
Столовались тут и лесники, и водители лесовозов, свободные от смены. Они приходили часам к девяти утра, когда «синяки» – так они именовали интернатовских – уже уходили в классы или в мастерские. Брали с утра двойной суп, двойную кашу и два вторых. Запивали горячим чаем без сахара или просто огненным кипятком. Вообще-то, суп готовили только к обеду, но для них – людей уважаемых, неторопливых и бывалых – всегда находилось что-нибудь из вчерашних запасов – суточное.
Хлеб нарезали толщиной в два пальца. Работать хлеборезом было престижно и неутомительно. Ведь хлеборез приходил вместе со всеми на завтрак к восьми часам, ибо подготовил ломти загодя, и сидел он за одним столом с преподавателями. Опять же от нарядов на службу освобождался.
Так вот, лесники и водители лесовозов, как правило, садились у запотевших к тому времени окон – это дальше всего от грязных рукомойников, сдвигали столы, развешивали огромные тулупы и телогрейки на свободные от своей молчаливой компании стулья, некоторые не снимали шапок, а некоторые и снимали, разглаживали морщины лба, волосы. Причесывались.
В их тарелках плавали капуста, лук, поленца моркови и извечный, как будто его перекладывали из супа в суп, из порции в порцию, изрядный кусок сала. Скользкий, горячим жиром он бежал с ложки, за ним охотились. Как правило, он оставался последним в обмелевшей тарелке, которую в конце концов водитель лесовоза, лесник ли хищно опрокидывали себе в рот, вонзаясь желтыми от табака зубами в этот вязкий парафиновый ком. Угощались, одним словом.
Плиты были старые и потому разогревались медленно. Дежурные ставили чаны с водой на варку. Снимали стулья со столов, включали свет в зале, отпускали дверь от замка, которую, однако, до поры припирали деревянным брусом, специально для этой надобности заведенным. Ведь вся эта интернатская свора ломилась сюда до срока, стучалась в окна, расплющивала свои носы и губы по стеклам, вопила: «Давай открывай помойку! Жрать охота!»
В обязанности дежурных также входила ежемесячная проверка труб в бойлерной в подвале здания, ведь пар поднимался через вентиляционную тумбу вверх, намерзая грязными тиглями на железную решетку. Комьями.
Немалую опасность представляли оставшиеся здесь после ремонта циркулярные пилы и электрические ступы для мела, извести и гравия, что совершенно загромождали узкий проход. А также – неподъемный чугунный люк, еле освещаемый слабосильной лампой в матовом колпаке. Вдоль стен перемещались провода, горячая вода в трубах шумела, грела влажный воздух, на полу в беспорядке лежали мешки с углем и паклей.
«…а я все ждал, все надеялся, что наступит тот момент, когда шпалы, а за ними и рельсы, и наш вагон врежутся в мутную, густую киселем водорослей горячую воду… и все, расталкивая друг друга, бросятся к аварийному выходу в потолке, будут просить подсадить, больно ударяя других по лицу каблуками резиновых ботиков и кирзовых сапог», страшась затопления тамбуров, подвала, столовой и всего монастыря-интерната.
Жители поселка именовали интернат еще и Филиалом, подобием вольного поселения в виду казарм воинской части за бетонным формованным забором. Вновь прибывших тут селили в длинном двухэтажном корпусе, тянувшемся вдоль полуразвалившейся ограды из красного кирпича. Серега здесь работал военруком.
Серега здесь работал военруком, он вел гражданскую оборону (гроб) и энвэпэ. У него в классе висели плакаты по полной и неполной сборке-разборке автомата и пистолета, еще стояли столы, изрезанные заточенной ножовкой, а в несгораемом шкафу лежал единственный противогаз.
Одно время и Лида работала на Филиале воспитателем в младших классах, платили мало, но тогда другого выхода не было: Женя только что родился, и были нужны деньги.
Рассказывали, что как-то на ноябрьские праздники Серега достал из шкафа противогаз, напялил на себя это резиновое дерьмо и вышел на спортивную площадку перед школой. Площадка была разворочена тракторами, тогда возили дрова, но кое-где из-под грязи и колотого асфальта проглядывала белая известковая арматура разметки для строевой муштры.
Серега что-то бубнил тогда в газоотводную гофрированную трубу, пытался достать спички, но промахивался мимо карманов, хотел закурить, но не находил рта. Несколько раз упал, провалился в заполненные жижей борозды-колеи, гонял квадратными носками ботинок комья земли – футбол…
Лида насилу оттащила Серегу к колонке, стянула с него противогаз, который он успел благополучно заблевать внутри, и отмывала его бледное скользкое лицо. Серега тогда вдруг заплакал, а в циклопических размеров луже, рядом, совершало свое плавание мятое ведро из-под угля, из кочегарки украденное за ненадобностью.
Через несколько лет, уже на похоронах Лиды, Серега опять заплачет, запричитает: «Вишь, как, малец-то, получилось, приказала мамка долго…» – узнает в темноте коридора мальчика Женю.
Теперь все иначе…
Серега икнул. Почесал затылок. Закурил – до завтрака еще было время. Скоро построение.
«Дисциплина прежде всего для этих скотов, – сплюнул. Посмотрел на часы. – Ничего, ничего, есть еще время, есть…» Вспомнил, что вчера перед сном опять «увидел» родителей. Они давно умерли, они говорили ему: «Сереженька, Сереженька, тебе надо жениться, чтобы был дом, семья, а у нас будут внучки, наверное, они будут похожи на тебя. Ты помнишь, какой ты был маленький?»
Кажется, родился где-то в Средней Азии в русской семье, с трудом переносил жару, колыхавшую энцефалитные сетки, расставленные лохматые сети в ковчегах солончаков, марлевые пологи, растянутые по углам камнями. Потом был переезд в Крым к тетке, сестре матери, и медленное глиняное существование в глиняном хуторе – то ли Кзыл-Орда, то ли Кучук Янышар, то ли Гезель Дере, то есть под названием таким странным. В хуторе были кривые пыльные улицы и не было моря, до него было километров сорок по гравийной дороге.
– Стой! Ко мне! – Серега поправил шапку. – Фамилия?
– Вобликов.
Этот Вобликов – несуразный, худой, ушастый, с визгливым женским голосом, неловко волочащий безразмерные стоптанные ботинки. Серега увидел его выносящим чан с помоями из столовки. Скользко.
– Смирно… чан поставь… вольно, оправиться.
Вобликова не любили буквально все – в столовке кричали: «Вобла-сука, опять добавку зажал! Да это не вобла, черепа, какая же это вобла! Это петух вонючий! Самый что ни на есть петух! Зуб даю!»
Огрызаться было бесполезно и защиты ждать было неоткуда. Даже добродушная посудомойка баба Кланя, работавшая по найму, не упускала случая поддеть его. Придурковато улыбаясь, бормотала, тряся головой:
– Угости сигареткой, солдатик.
Эта Кланя жила где-то возле вокзала узкоколейной железной дороги. Однако приходила раньше всех, просыпаясь часа в три утра в неотапливаемой оштукатуренной пристройке к вагону с надписью «дефектоскоп», потому и кашляла, потому и отогревалась у плит и чанов с кипятком – «угости сигареткой, скотина».
– Не курю.
Вобликов брезгливо отворачивался, его мутило от запаха хлорки, а еще надо было выносить чан с помоями, а еще надо было подметать зал, а еще надо было отнести пустые ящики на двор и подняться за консервами на второй этаж, а еще со вчерашнего вечера плохо себя чувствовал, видно, простыл, когда снег убирали.
Да, наверное, точно так и получается: сначала мерз, затем разогрелся и даже вспотел, а потом целый час ждали на ветру грузовик, чтобы привязать огромный деревянный ковш и передвинуть снежную гору к ограде.
Пронизывающий ледяной ветер.
«Ну, зачем, зачем все это? Почему все так? Зачем я живу?»
– Значит, не угостишь даму сигареткой-то?!
– Я же говорю – не курю!
– Пожалел! Пожалел старой женщине даже бычка поганого! Падла! А у меня мужа и двух сынов на войне бонбой убило, понял ты? А у меня пенсия сорок рублев будет, и дрова не на что купить! Скотина! Самого маленького, малюсенького такого окурка, бычка обслюнявленного, и того старой женщине пожалел! Морда! – Она хватала Вобликова красными мокрыми руками, она тащила его в кладовку без окон, кричала: – Вот смотри! Видел? Видел?
Вобликов вырывался, ненавидел себя в тот момент, боялся быть застигнутым врасплох, как если бы он уединялся у зеркала, созерцая себя, страшился признания самому себе в том, что красные, вареные-перевареные мокрые руки посудомойки могут доставить ему неведомое удовольствие.
Из зала уже кричали: «Дежурный, где чай?»
В столовой всегда ели холодными мокрыми ложками, поданными на раздаче в тазу, хотя многие, в основном старшеклассники, доставали собственные приборы из карманов или из-за голенищ сапог (у кого они были). В этом случае ложки, как правило, были заточены вкруг – «Смотри рот не порежь!»
После завтрака проходили построение на плацу и развод в классы или мастерские.
Содержимое чана с надписью «отходы» двинулось в обратном направлении, снег залепил глаза. Серега размахнулся и пустил кулак куда-то в темноту, наудалую, потом еще и еще. Вобликов упал на асфальт, закрывая лицо руками, что-то кричал, корчился.
Чан перевернулся, и сразу же запахло какой-то дрянью.
– Что здесь происходит?
Серега обернулся, ему было жарко, шапка упала в снег, кулаки были окровавлены, пот заливал глаза.
– Я спрашиваю, что здесь происходит? – В дверях столовки стоял Борис Платонович, директор интерната.
– Да вот, дисциплину нарушает.
Рассказывали, что вчера на поминках Лиды Черножуковой Серегу откачивали под рукомойником и до общежития еле дотащили.
– Немедленно прекратите!
Борис Платонович постоял еще несколько минут в дверях, затем, почувствовав холод, быстро повернулся и вошел в натопленный коридор. Здесь он остановился и как бы улыбнулся сам себе… вспоминал весну, День Победы.
…в начале мая, когда просыхали подъездные пути и дороги освобождались от спускавшихся с холмов мутных потоков желтой жидкой глины, когда в лесу еще лежал снег, черный от сухой хвои и гнилой травы, когда болото Чижкомох по утрам курилось зеленым паром (может быть, и дымом) и всплывали оттаявшие черенки лопат, кирзовые бесформенные ботинки, грязно-оранжевые путейские спецовки, затопленные при торфяных разработках, и деревья падали с оглушительным треском, рвали телеграфные провода в сторону кирпичного завода, и паром открывал навигацию, хотя у берега в кустах еще плавали куски льда, и до лесоучастков можно было добраться уже не только на вездеходе, Борис Платонович приезжал в интернат на мотоцикле, на «Урале»…
Борис Платонович жил рядом с бывшим Сытным рынком.
Сытный рынок – это торговые ряды конца века с большими деревянными козырьками, каменными подоконниками и разбитыми колесами взвозами для продуктовых подвод.
Борис Платонович выкатывал свой мотоцикл из сарая, где тот стоял всю осень и зиму, и катил его по доскам к воротам. Хотя раньше, когда был молодой, катался на мотоцикле и зимой: надевал старое отцовское кожаное пальто, шерстяную кепку и очки.
Борис Платонович толкал мотоцикл. Толкал. Заводил мотор. Гудел, гудел. Глохло. Опять заводил.
Ему приходилось сначала ехать вдоль длинной штукатуренной стены, на которой еще сохранились стальные кольца и крюки-тяги. Потом мимо складов ящиков, потом по улице Плеханова, с нее на Красную переезжал, площадь Победы, Расстанная, затем срезал по Витебскому переулку мимо двухэтажных жилых бараков.
Борис Платонович выезжал на зады квартала и ехал в интернат, туда, где виднелась полуразрушенная колокольня, черной корягой торчавшая в небо.
Мимо двухэтажных бревенчатых бараков, разгороженных печными трубами и фанерными ширмами.
Когда еще Лида была маленькой девочкой, Фамарь Никитична часто говорила ей: «Не будешь меня слушаться, отдам Платонычу в интернат, где холодный подвал с мышами, вон, вон он на мотоцикле едет!» То же самое потом слышал и Женечка: «Не будешь меня слушаться… вон, вон он на мотоцикле едет!»
Женя смотрел тогда в окно веранды, что была пересвечена солнцем, дымившимся пылью и паутиной, и действительно там шел праздник Девятого мая, украшенный флагами, играла музыка. В тот день, по обыкновению, Афанасьевич впервые в сезоне запускал свежевыкрашенные карусели, и Борис Платонович пылил на мотоцикле по Витебскому переулку по направлению к интернату. Борис Платонович совсем не был страшным и совершенно не подходил на роль пугала. «Что ты там торчишь у окна, ну-ка немедленно отойди и займись делом!» – доносился с кухни крик бабки.
Женя не шевелился. У Бориса Платоновича на груди были медали.
Шел праздник Девятого мая: в воздухе разносился гул моторов, на аэродроме происходило наблюдение воздушного боя, разумеется, показательного, коего устроители, задрав головы, переговаривались, восхищались, спасая свои глаза сложенными козырьком ладонями.
– Ах, праздник Девятого мая, Девятого мая, что каждую весну, говорю, каждую весну наступает. Ведь, понимаешь, у нас другого-то праздника и нет.
– Это точно.
– Что наблюдаем, товарищи? – Борис Платонович глушит двигатель, слезает с мотоцикла, поправляет пиджак.
– Здравия желаем, Борис Платоныч, с праздничком! Вот, так сказать, воздушный бой обозреваем, наших, так сказать, соколов.
– Дело хорошее. – Борис Платонович задирает голову к небу и долго молчит.
К празднику приурочены крашеная бумага, фанерные щиты с надписями, газированная вода, пиво, чай, духовой оркестр.
– Есть попадание! – Борис Платонович как бы улыбается сам себе.
Самолет противника с воем проносится над самыми головами зрителей, оставляя за собой густой след дыма, качается, от него отваливаются какие-то куски. Потом он приподнимается, заходит над лесом и, нырнув за макушки деревьев, исчезает.
– Сейчас баки примутся. – Борис Платонович садится на мотоцикл и начинает заводить его.
Так оно и случается: раздается густой, гулкий взрыв, который окрашивает бледное мерцающее небо бурым вонючим дымом. Огненная струя поднимается все выше и выше…
Серега поднял шапку и отряхнул ее от снега. Борис Платонович уже ушел и закрыл за собой дверь. Вобликов все еще валялся на земле, выл, закрывал разбитое в кровь лицо.
– Встать! Два наряда на службу вне очереди!
Серега напялил шапку на голову, достал сигарету, закурил.
– Я сказал – встать!
Вобликов поволок чан за здание столовки, там находилась выгребная яма – затишье, пустынно, можно долго сидеть на сваленных тут досках, смотреть на дымящееся содержимое опорожненного чана и вытирать разбитое лицо рукавом грязной телогрейки.
Женя довольно хорошо знал Серегу – последний год он часто заходил к ним в дом, разговаривал с дедом, слушал радио, рассказывал об интернате, пил чай с матерью на кухне.
…Женя скорчился, поджал колени к подбородку, чтобы было не так холодно, не так страшно, чтобы все не так было. Отвернулся к стене и закрыл глаза, а Фамарь Никитична запирала Лиду в комнате, освещенной зеленоватым дымом перламутрового, давно заброшенного и заросшего ряской водоема, и, может быть, впервые в доме становилось тихо и можно было спокойно смотреть туда. А что «там»? Туда, где существовали аллея, скамейки, дощатый крашеный забор без щелей, кровать, спеленатая набивным одеялом, перепаханная кривая дорога к краю леса, часть поля и рыжие песочные горы на глиняных разработках, видимые по касательной к плоскости пыльного, покрытого мушиными трупами подоконника. А еще дальше, в воображении – существование целого кладбища, разумеется, игрушечного: кресты из спичек, ограды из клееных коробков, свежая земля, размятая пальцем, и резиновые трубы-кишки, из которых на кафельные столы льется горячая вода.
Старые маленькие старательные девочки хоронили тут своих любимых голых куколок – целлулоидных-целомудренных, обряжали их в дырявые войлочные подстилки, пеленали и… в добрый путь!
В добрый путь!
Женя смотрел на них…
Интернатовские встречали его усмешками, жевали спички, сплевывали, презрительно приговаривая:
– Ну, тебе сейчас будет.
Серега мутно-тупо наблюдал за строем:
– Равняйсь, смирно, к перекличке готовьсь!..
Интернатовские выходили из столовки после завтрака, ковырялись в зубах, закуривали, лениво переругивались. Горели фонари, но лиц-то не разглядеть.
– Ты где, пап, а?
– Какой я тебе «пап»?
Интернатовские дружно заржали, как-то по-свойски, по-домашнему, без должной угрюмости, притопывая по обледеневшему асфальту, пропуская поземку.
– Отставить!
– Это же я, твой сын, Женечка Черножуков!
– Не знаю я никакую Женечку, понял?
Как это было мучительно переносить, лучше бы его они всей своей кучей-сворой били, но не унижали смехом, молчанием ли, перенося срам слов и жестов в выразительность бесстыжих взглядов – от первого ко второму, от второго к третьему, а там и до указующего перста недалеко, или, как говорил дедушка Женечки: «Недалече… Да, недалече тут до лесопункта, верст пять будет».
«Благое молчание». Благое молчание?
Серега почесал ухо.
– Ну, чего-о уставился? – И улыбнулся: – Забоялся, штоль? Не боись, пацан. – И засвистел, и зашатался высохшим стеблем на пронзительном ветру.
Вообще-то в этих краях постоянно дуют ветры: летом – раскачивая сосны и поднимая песок, зимой – путаясь в снегу, блуждая в снегу, создавая заносы, сугробы, ледники, горы до небес.
И вдруг стало известно, ну, буквально всем стало известно, даже за пределами интерната, даже в мастерских и на кирпичном заводе, что Серега напал на дежурного, выносившего из столовки чан с помоями, на ушастого придурка Вобликова. Это наверняка была истерика, припадок в том смысле, что внезапно произошел, ведь раньше за ним такого не замечали, хотя выпивал, конечно, истерика морозного утра и сухих мглистых сумерек вечера, потому как не было сил больше терпеть эти скандалы, эти звуки – капель из крана, шепота, этого плача и нищеты, этих праздников и похорон, этого ада кромешного, в который попал, сам того не желая, этого сарая без крыши, этого нефтяного ежедневного чая, этих пьяных голосов за стеной, этого старушечьего воя…
Ведь они не прекращали выть с тех пор, как вернулись с кладбища, – сначала от голода, потом от обиды, а теперь у них пучило животы. Икота замучила.
6. Лида
Кажется, прекратились судороги.
Сумерки эмалевые, выцветшие миниатюры в летописи – заглавные буквицы, увитые виноградом и змеями, сухая кора и летний кинотеатр в поселке.
Женя проснулся, встал и почувствовал себя прозрачным, промытым совершенно, только что покинувшим серебряную купель и необычайно легким.
Женя воображал, что раскачивается на качелях с удовольствием, смотрит по сторонам, недоумевает: почему же эта буквица «П», увитая проволокой и плющом, столь напоминает лобное место? Голгофу? Например, каждое Божье утро просыпается, и каждое Божье утро – напоминание о Казни!
«Казань, Уфа, Ораниенбаум, Рай-Семеновское, Остафьево – „оставь его“, Пюхтицы, Иыхве – язык можно сломать во рту».
Во рту, а полный рот-то, набитый тополиной ватой, сахарной ватой. Из переполненного рта можно и кадить нагретым духом, песком, ветром, можно и просто дуть окрест, оставляя на стекле матовые пятна.
Женя воображал, что заново учится ходить, хотя постоянно ловил себя на том, что все же умеет это делать, противоестественно кривил стопы и коротил шаги. Нет, нет – умеет, однако, соразмерить свой шаг с пространством комнаты, кухни, коридора.
За неделю болезни, когда Фамарь Никитична не позволяла ему вставать с кровати, даже после того, как спала температура, Женя вдруг ощутил себя таким уютным, самодостаточным, необходимым самому себе в этой столь прихотливо свалявшейся норе из одеяла и множества разноцветных подушек.
Конечно, слабость еще давала о себе знать, особенно по утрам, когда дед приносил к кровати банный помятый тазик с водой для мытья, мыло в пластмассовой мыльнице-кувуклии и полотенце через плечо.
Дед садился на табуретку и терпеливо ждал благорасположения внука – как будто так было всегда! Да так было всегда! Так будет всегда!
После завтрака Женя разрешал себе несколько прогуляться по коридору до двери и обратно. До первой приятно-ноющей усталости.
Теперь встречи с отцом, проводившим отныне ночи в пустующей комнате на первом этаже – спать в сарае было уже невозможно, – стали даже занимать Женечку. Ведь он признавался себе в том, что ждет этих встреч – таких никудышных, таких никудышных.
Отец и сын молча сидели в коридоре у топки печи до тех пор, пока Фамарь, застигнув их в уединении, с криком не выгоняла внука обратно в залу, где «потеплей будет», со сквозняка. Отец только улыбался, мол, «что поделаешь, надо так надо», но получалось у него как-то грустно, беспомощно, прощание получалось грустно у него. Жене становилось обидно в ту минуту, он начинал злиться на отца: почему он молчит? Почему не отвечает бабке? Боится?
Уходил в комнату, ложился на кровать поверх одеяла, поворачивался лицом к стене, закрывал глаза, забавляясь томлением, собственной беспомощностью, слабостью, жалел себя, издавал какие-то бессмысленные звуки Азии, узких улочек и расставленных лохматых сетей в солончаках – заунывные песни, «папкины песни», потом закрывал глаза.
Потом открывал глаза – на противоположной стене висело радио. Это было трофейное радио, светящееся ограненным стеклом и керамическими клавишами настройки, фанерный ящик, обтянутый колючим суровьем, собственно мануфактура, маленький свечной завод со своими голосами и приводными ремнями, шитье крестом. Кажется, дед рассказывал Женечке, как нашел это радио в каком-то разрушенном доме в Кенигсберге, что дымился развороченной помойкой, и взял его себе, правда, пришлось немного потрудиться, в том смысле, что что-то там перепаял, провода заменил, стекло и медную сетку динамика зубным порошком начистил.
В комнате было тихо, словно в плену устоявшихся запахов лекарств и трав, веток и листьев, кореньев и ссохшихся, морщинистых плодов шиповника, что плавали в стакане с горячей водой. На полу лежали чешуйки ореховой скорлупы, прозрачные золотистые семена кедра, перепонки или маленькие еловые деревья – маленькие копии деревьев, которые с хрустом распрямлялись, высыхая. Еще фанерный ящик, стоявший на шкафу, окружали остро срезанные ветки терна и обожравшаяся трупным теплом и кирпичной непроточной водой прошлогодняя верба. Женя вспоминал Вербное воскресенье, о котором всегда напоминал фаянсовый мох на разбухших от сырости досках забора. Вкруг ящика-дома-обители-кельи-склепа-пустыни-гроба стояли черные башни просохших дров напоминанием средневекового города, по улицам которого можно было ходить, постоянно плутая, но нечувствительно, совершенно нечувствительно, отыскивать теряющиеся в темноте лестницы и двери, трогая медные вертушки звонков.
Женя трогал языком и губами горячие, вернее, дымившиеся красные ягоды шиповника, их можно было прокусывать, выискивая тягучий сок и самое мякоть.
Вечером Женя вышел немного погулять во двор.
«На свежий воздух» – Фамарь Никитична так говорила. Она долго одевала внука, кутала со всевозможным старанием: это, чтобы ноги не промокли, это, чтобы спина была в тепле, это, чтобы шею не надуло, а это, чтобы холодного воздуху не надышаться с непривычки.
Женя медленно спустился по лестнице, от которой уже успел отвыкнуть за время болезни. Она ему показалась чрезмерно узкой, а перила, лишенные привычной заботливости, выглядели со своим блеском в темноте заваленными и скрипучими, целым заваленным трещащим городом, тем же Кенигсбергом после войны, той же Калугойдва.
Скрипучие, светящиеся во мгле перила…
Женя вышел на улицу. С карьера доносился лай собак, ветер, как ни странно, отсутствовал. Крыльцо, деревянная приступка и дорожка к воротам хранили воспоминания. Воспоминания о Лиде – разбросанными и уже почти лысыми, ободранными еловыми ветками. Воспоминания и об отце Женечки с воем, с ветром, с духом, что скрипел, дудел, шумел, чтобы не сказать, разорялся в заброшенном дровяном сарае с проваленной крышей. Вот.
Вот этот огород, вот – вода, замерзшая в бочке, вот этот город-городок.
Было тихо.
Ведь сумерки только начинали спускаться с низкого неба. Да и небо было выкрашено полосами: пока крепкий матовый сердолик Коктебеля чешется о красное, белые паровые пути-линии на востоке грядут в клубах ладана и фиолетовый дым исходит слоистым треснутым халцедоном, а красное медленно угасает – гаснет, неотвратимо притом.
Итак, кровяное медленно угасает в базальтовой темноте гор, предгорий, холмов, горовосходных холмов, покрытых лесами, а в нашем случае – рваными тяжелыми облаками холода. Льда.
Значит, завтра будет морозно.
Значит, солнце будет погружаться в стекло снега, оставляя за собой вертикальный оранжевый столп углей.
Так вот, значит, завтра будет морозно, и карьерный паром, эта ржавая сварная лоханка, в каких, как правило, с полей свозят навозные кучи и глину по дренажным путям, еще крепче вмерзнет в грязный, щербатый лед у дебаркадера.
Значит, снова придется ковырять ломом заиндевевшее очко в сортире: «Но ничего, это даже хорошо!» – приговаривая.
Женя прошелся по огороду до сарая, вернулся. Показалось столь недостаточным даже для самой избыточной, болезненной, неврастенической мнительности его: «Ведь ты мучим различными думами, страхами, страстями, наконец… да и немного горчит на вкус, бок побаливает, пугает воспоминание о головной боли». Открыл калитку на улицу.
Женя открыл калитку на улицу. Фонари только что включили, и они неровно мерцали, разгораясь в полную силу.
Ранней весной, где-то в начале марта, Лида – мать Женечки – выбиралась в Калугудва.
Снег тогда становился мягким, рыхлым. Дул теплый ветер, бешено терзая серую мглу – сонную, устоявшуюся, прокисшую за долгие зимние месяцы. Кое-где уже проглядывала земля со своими помятыми, свалявшимися клочьями-волосами перегнившей травы, клонились кустарники долу, на деревьях находили свое последнее отдохновение улетевшие тряпки со старой чугунной фабрики «Зингер и Гершензон».
Март – в понимании отвратительной погоды, мокрого колючего снега и ветра-первоотца.
Март – нахождение последнего отдохновения: как хорошо тут! Как славно! Столь пустынно, сколь и одиноко!
Март – прелести известны, хорошо известны всякому.
Женя поцеловал руку отцу Мелхиседеку и погладил его по лицу – спящего, а он задергал головой, зарычал, но не проснулся.
Не просыпался и пастух, и стадо разбредалось в эти часы сна, пожирая молодые побеги клевера и травы-кислицы, ломая себя в волчьих ямах, погрязая в чаще леса, становясь легкой добычей одичавших собак.
Значительную опасность в начале марта представляла только что вскрывшаяся ото льда теплая река сточных вод, потоков, каналов, проток, которая разрывала мосты-лавы и заборы по берегам, подмывала и обрушивала целые песочные, земляные, глиняные уступы-города. Тут же – лодки, слепленные гудронной смолой, бревна сплавного леса, вырвавшиеся из мрачного, заброшенного централа-биржи в районе Высоковской Запани, полузатопленные лесовозы, трелевочные трактора, погрузчики, вросшие в прибрежный ил буксировочные тросы и ржавые цепи, что казались совершенно неподъемными.
Лида.
Она надевала старые дедовы военные ботинки поверх сапог, потому как сапоги промокали, и отправлялась на станцию.
В Калугедва Лида останавливалась у дальней родственницы со стороны матери – Анны Исаевны Лавровой. Анна Исаевна жила в центре города в коммунальной квартире одна, была глуха к тому же совершенно. Лида писала ей записки на огрызках бумаги, а Анна Исаевна сначала долго искала очки, потом долго пристраивала их на своем неподвижном, малоприметном, едва различимом в оконных зарослях алоэ, неведомом ей самой лице, по крайней мере ей казавшемся постоянно бледным. Затем медленно читала записку, не понимала букв, слов, смысла, кажется, тоже не понимала, молча кивала Лидии в ответ после всего этого, зажигала свет в прихожей. Проходило минут двадцать, если не полчаса.
Вообще-то, Анна Исаевна ждала гостинцев, а Лида говорила ей очень громко, хотя прекрасно понимала про себя, что старуха все равно ничего не слышит, хоть ты ором ори, хоть ты шепотом шепчи:
– Вот тут вам мама гостинцы прислала!
– Перестаньте орать! – раздраженно доносилось из-за стены.
– Гос-тин-цы!
Анна Исаевна опять кивала головой, кажется, она это делала безотносительно к происходящему, просто трясла головой, прикрученной телефонными проводами к острым, выпирающим ключицам, принимала дары и прижимала их к груди.
Потом проходили в маленькую комнату-купе. Здесь было слышно, как за стеной соседи купают ребенка в корыте. Ребенок плакал.
Анна Исаевна смотрела на Лиду, но узнавала в ней почему-то Нину Ниловну, умершую от голода во время войны, бабу Катю – монашку из Тихоновой пустыни, Фамарь Никитичну из лесопоселка: как же тебя зовут на самом деле?
– Ольгой? Марией? Варварой? Анной? Светланой? Анкилиной? Бавкиндой? Евдокией? Елеусой? Параскевой?
– Нет, нет и нет!
– Запамятовала.
В окне маленькой комнаты-купе был изображен клуб вагоноремонтного завода с деревянными стволами колонн, гипсовыми вазами при входе и двухскатной жестяной крышей.
Вот и Анна Исаевна тоже была изображена тут как уже довольно пожилая женщина, состарившаяся и увядшая «юбилейной» отекшей свечой, свечой «тощой», которой неоднократно и безо всякого разбора пользовались неизвестные, крикливые, постоянно переезжающие с места на место со всем своим скарбом шкафов и ящиков, пропахшие кислой капустой и табаком соседи – то ли Быковы, то ли Зверьковы, – в ванной комнате. К примеру, разогревали воду в газовой колонке, пускали пар, размачивали закостеневшие губки и пемзу-камень, взрывали пеной дегтярное удушливое мыло в руках. Окно под потолком запотевало.
– Слышь, бабка, потри спину!
– Да она же глухая.
– Шучу, шучу…
Потом Анна Исаевна, стало быть, «юбилейная» свеча, возвращалась к себе такой мучнистой, с совершенно пересохшей кожей, доставала из комода-поставца глубоко и далеко запрятанный гостинчик и вкушала его степенно.
– С легким паром, тетя Аня, – говорила Лида и улыбалась.
– Поди, поди… – шептали залепленные крошками губы: открывались и закрывались, отворялись и затворялись.
Лида снимала дедовы ботинки, вослед им – сапоги, пальто, косынку и ложилась немного передохнуть с дороги на специально для нее установленную раскладушку у самого окна и труб парового отопления.
После обеда, который, как правило, состоял из жидкого непрозрачного супа и слегка подсохшего черного хлеба в придачу, после обеда, проходившего за отдельным, покрытым клетчатой клеенкой столом в просторной слабо освещенной кухне, ведь окна были наполовину заставлены банками и кастрюлями, Лида шла в город за покупками, за спичками, за газетами, за впечатлениями. Ей так хотелось сходить в клуб вагоноремонтного завода на фильм, ну хотя бы на дневной сеанс.
В неоднократно крашенном коричневой краской деревянном кивоте, что был прибит к стволам колонн рядом с гипсовыми вазами при входе под двухскатной жестяной крышей, канцелярскими кнопками был приколот лист ватмана. Густой парафиновой гуашью на нем были выведены название фильма, сеансы, а в скобках таинственное сокращение «АРЕ» – арэ, арэ, – что это?
– Арабская Республика Египет! – рявкнул билетер, только что прополоскавший свой рот с зубами этим странным сокращением. – Арабская Республика Египет, понятно? А сама-то ты из каких будешь? А? Из мещан аль поповского сословия, может, ты из батраков или фабричных, так их здесь не уважают… Да, так что шла бы ты отсюдова, красавица, а то, сама знаешь, нынче-то как народ лютует, все больше балует по дорогам и хуторам, хотя и у нас, бывает, случается оказия какая, не без этого, не без этого, опять же снасильничать могут, стервецы! И на что, спрашивается, милиция, всякие там начальники разные?.. Бог им судия, Бог им судия…
«Ишь, ходют здесь всякие разные нищие! Прочь отсюдова, падла!» – звучит вслед. Голос закашлялся, потом, кажется, почесали голову железной линейкой для отрывания билетов, и окно кассы закрылось.
Потом Лида шла на колхозный рынок через площадь, и на площади уже стояли грузовики с прицепами, подводы, среди которых можно было разглядеть изукрашенный тарантас цыган, – шла торговля ворованным картофелем. Тут же в колясках мотоциклов под брезентом прятались банки с соленьями, капуста, прошлогодние, перележалые овощи не вызывали интереса. В окнах домов, а колхозный рынок окружали старые довоенные постройки в ряд, соединенные одним невероятной длины забором, стояли пустые бутылки на подоконниках или на самодельных полках в междуоконном пространстве, герань, алоэ, жасмин источали соль из только что политого и удобренного чернозема, занавески прятали цветастые безвкусные интерьеры, где включали пластмассовые паникадила под низким потолком и заунывно читали канон на сон грядущий. Во дворах, как правило, загроможденных дровяными сараями и вросшими в землю яслями, наблюдались колонии почтовых ящиков – целые поселения, предусмотрительно снабженные шиферными навесами.
Эти цветы собраны в Гефсиманском саду и не имеют цены, против ваших кастрюль, против вашего хозяйственного мыла, натертого на свекольной терке, и прочего рыночного барахла. Они пропускают свет, идущий из окна, что напротив двери. А над дверью, между прочим, четыре счетчика электричества! Четверо соседей: Быковы, Зверьковы, какие-то татары из-под Казани и глухая пенсионерка Лаврова. Одиноко проживающая. Эти цветы мне достались от моей прабабки. Я ничего не имею против ваших цветов и тем более вашей бабушки… Прабабушки! Друг мой! Прабабушки! Прабабушка, княжна Мальчикова, генерал Растопчин – шелестят. Цветы, цветы шелестят на сквозняке, целлофаново шелестят на сквозняке! При чем тут прабабушка вместе с генералом и княжной? Кстати, княжной или княгиней?
Лида возвращалась к Анне Исаевне, и Анна Исаевна собирала раскладушку, ставила ее в коридор: «Может, еще погостишь денек-другой?» «Нет, мне ехать пора». В городе вдруг становилось пустынно с вечным библейским ветром, сухими листьями, ветвями, с заунывным гортанным пением среди мертвых каменных разработок и этим небом-потолком, разрисованным весьма незамысловато бабушкой Фамарью Никитичной – как бы в обличье горнего града Русалима.
– Почему так тихо, мама? – спрашивает Лида.
– Почему так тихо, бабушка? – спрашивает Женя.
– Да потому, что вечер наступил, чуть дыханье различимо – не колышется ли мох? – и дым стелется по воде, и крестопоклонная неделя на исходе, а там и до недели ваий недалеко…
– Мама, я себя плохо чувствую, у меня болит вот тут – внизу живота, – говорит Лида, заходит во двор, где стоят качели буквой «П».
Лида проходит вдоль стены и садится на скамью возле вытоптанной детской песочницы.
– …но ты не волнуйся, я сейчас посижу немного и пойду дальше.
– Да что уж там, сиди себе на здоровье.
…напряженно послушать руку, приложенную эндоскопом, а во дворе, куда приходят ночевать сумерки из долины реки Оки, ничего не будет слышно, кроме как – судорожное дыхание, отрывистое, от раза к разу – свист рваных мехов, кузнечных, фотографических ли, фотографические щелчки, пронзительно-фистульное сопение в трубу. Дудение.
– Но ты не волнуйся, я сейчас посижу немного, отдохну и пойду дальше, тем более что и Анна Исаевна – «юбилейная» свеча, наверное, уже заждалась меня к прощальному чаю на дорожку, ведь здесь, в Калугедва, я живу три дня, не более, и в пятницу вечером уезжаю домой в лесопоселок.
Лида оглянулась: двор, куда она вошла, был скорее всего традиционен в своей похожести на другие дворы, как будто тут жил один и тот же угрюмый человек-сатана-архангел Сатанаил, чтобы по утрам выйти на порог, проверить ясли, чтобы «среднего диаметра расцарапанные трубы вились вкруг яслей змеями», поклониться им, потом задать лопатой кашу из картофельных очистков и яичной скорлупы на корм, вынести ведро из-под рукомойника, проорать своей вареной глоткой в пустоту серого снега, домов, голых де ревьев, улиц: «Ну, чего-о орешь-то, оглумел совсем?» – потом захлопнуть дверь со всей силой, так что посыпется штукатурка с дверной коробки, запереться на щеколду… и все.
Вот и все.
У соседнего дома ходили какие-то люди, разговаривали, курили, мигая сигаретными огоньками, смеялись даже, смеялись как-то необычно хрипло, надрывно, как в последний раз смеются – на себя глядючи, раскрывали широко рты и закатывали глаза, раскачивались и запрокидывали головы от удовольствия. Из их ртов исходил жар – теперь Лида все видела как бы в тумане.
– Может быть, это действительно досужие вымыслы и у меня ничего не болит… Женечка – такой же мнительный мальчик: весь в меня. Весь в меня. Я уже скучаю по нему. Я не видела его три дня. Я вспоминаю, как мне было страшно, томительно и скучно, когда меня, еще девочку, мама привела в церковь, и там было темно, а какие-то старухи, вероятно, из прихода, подвизавшиеся здесь, раздевали статую, что стояла в нише. Сначала я подумала, что это человек, и очень испугалась, что его раздевают прямо в храме. Но это была статуя, слава Богу. Это был Никодим. Это был он, к тому моменту совершенно голый, ссохшийся потрескавшимся деревом, склонивший голову в шитом прозрачном куколе. Никодим плакал.
Фамарь Никитична припадала к его тоненьким косолапым ножкам и лобызала их.
– Мама, почему он плачет? – спрашивала Лидочка.
– Потому как ему больно и горестно, – отвечала Фамарь Никитична.
– Горестно – почему?
– За грехи наши горестно, за ослушание и непослушание, а еще за гордость нашу…
– И холодно еще… наверно… – добавляла Лидочка.
– Ну да, холодно, не жарко…
– Иди сюда, пташка Божия, иди, я тебя обниму, – говорила Лиде одна из своры старух, замотанная в черный шерстяной платок.
– Не хочу!
– Иди, не бойсь!
– Нет! Не пойду в глушь, в страшную темь – там лешие, упыри, бесы и покойники, я здесь останусь, около мамы!
«Все я матушку бужу: уж ты, матушка, встань, ты – спасена душа – встань, уж к вечеренке звонят. Люди сходятся. Богу молятся. Все спасаются!»
Женя открыл калитку на улицу.
Фонари только что включили, и они неровно мерцали, разгораясь в полную силу.
Было пустынно с беспорядочно летающим мокрым снегом. Дорога поднималась на холм черной бездонной скважиной. Жене показалось, что по дороге кто-то идет в сторону лесопоселка. Это было странно, потому что в это время на станции УЖД не могло быть поездов да и попутные машины с лесоучастков, на лесоучастки ли отсутствовали.
– Откуда он мог взяться? – Женя остановился у калитки. Меж тем, выйдя в свет фонарей, человек остановился – теперь его можно было разглядеть: на нем было короткое пальто старого фасона, на ногах сапоги, поверх которых были напялены военные ботинки, на голове – лысая шерстяная шапка, из-под которой выглядывал платок.
– Боже мой, кто это? – Женечка попятился к дому. Вдруг человек обернулся.
– Постой, сынок, оглянись, сынок, проводи меня вослед за собой, возьми меня за руку бережно, не бойся, и введи в ту комнату на первом этаже, где оставили свои вещи уехавшие навсегда жильцы…
Женя вспоминал: электрическая сгоревшая плитка, укутанная травой синей изоляции, крашеные камыши, сухие цветы на подоконнике, опять крашеные камыши, что же еще там было?
– …Женя, сынок, ведь ты помнишь, что уже перед самой осенью я перестала принимать лекарства и лежала, отвернувшись к стене.
– Да, я помню, ты еще плакала…
– Мать, твоя бабушка, все еще чего-то хотела от меня, предлагала поесть, но я отказывалась, потому что не могла есть. Понимаешь, совсем не могла – от-ка-зы-ва-лась. Да, еще вот что… Женя, ты обязательно разбуди меня и попроси не храпеть, когда я забудусь, только обязательно, слышишь, обязательно…
– Мама, не храпи.
– Правильно, молодец – «все я матушку бужу, бужу…» Жене теперь стало невыносимо стыдно, что тогда он следил, наблюдал за собой, как вор, и тайно боялся заразиться от мамы, заболеть так же и умереть – «ведь я еще совсем маленький».
– Пойди сюда, сынок, не бойся, я не заразная.
Женя не помнил, как очутился в доме, на лестнице, в коридоре, у окна. За окном падал медленный, тяжелый снег, улицы было уже почти не разобрать, горели фонари, освещая бревенчатые фасады домов. Здесь никого не было.
Пустынно…
7. Калугадва
Когда дед засыпал, не раздеваясь, не снимал и ботинок.
Когда Анна Исаевна Лаврова засыпала на своей высокой кровати, снабженной картонными ящиками и обклеенной бумажными образками, Лида выбиралась из своего брезентового гнезда раскладушки, специально для нее установленной, вставала, вопрошала сама себя:
– А помнишь ли ты эту станцию, на которой, собственно, и происходило все это? – А что «это»? – Ну, как… у котлов грелись какие-то женщины, некоторые из них даже разделись совсем и отпаривали въевшуюся в кожу копоть. Вот так. Вот как… И был ли тут хоть самый ничтожный город-городок, в котором жили путевые обходчики, лесорубы, диспетчеры, истопники и их дети, катающиеся зимой в снегу, а летом купающиеся в карьере? Конечно, были!
Лида улыбалась: станция, вокзал, полустанок, платформа Спасс, заброшенная лесобиржа, перегон, прогон для скота, река, карьер, дорога через топь, гора, сосновый лес на горе, деревянная церковь в лесу, кладбище и тому подобное – все это было видно из окна. Из окна пристанционного буфета. Уборщица мыла пол. Ведро, что оно волокла за собой, тошнило грязной водой, налитой через край. В кафельных внутренностях предбанника курили. До мотовоза Калугадва – паровая станция Калужской заставы – Тихонова пустынь оставалось еще больше часа.
Лида поднялась в зал ожидания, где на кривых продавленных скамейках спали старики и женщины. Удивительно, но все они, завернувшиеся в тряпки и прикрывавшие головы сумками, шевелили пальцами рук. Ног. Они хотели забыться, как забывался прежде маленький мальчик Женечка: носился по комнатам и коридору, кричал, расстегивал тугой ворот фланелевой рубашки, а Лида ловила его, запускала руку за шиворот и, определив, что чрезмерно разгорячился, усаживала рядом с собой поостыть малость…
Так вот, они хотели забыться или отведать густого жирного кефиру, они помышляли, что когда откроют свои маленькие заспанные глаза, то уже будут на другой станции: Филиал – Промзона – Мастерские – Кирпичный завод. Все они клали под головы завернутые во влажную марлю кусочки черного хлеба, чтобы потом хором и отвечать: «А вдруг во сне кушать захочется?»
Потом на вышках включили прожектора, и металлический голос по громкоговорителю что-то там объявлял. Мотовоз дернулся. Лида столкнулась со стеклом, за которым неспешно поплыла назад платформа. На платформе стоял и курил отец Жени. Стало быть, она увидела его в последний раз, а он и не заметил ее. Нет, нет, не заметил. Ее.
Лиду похоронили на седьмом участке – это уже за церковью, ближе к оврагу. Действительно, ведь был же седьмой участок, который можно было узнать по большому высохшему дереву с нарисованной на нем цифрой «7». Участок с серебряным куполом и дуплом на высоте затопленных часовен. Участок с невысоким кирпичным забором на высоте подбородка, если встать на носки буксующих, проскальзывающих сапог. Потом и овраг.
Еще можно воспользоваться в этих краях свежей штыковой лопатой с наждачным желтым черенком. Лопату эту необходимо прятать, только лишь строго зная место – под навесом, возле кирпичного крепкого-крепкого дома сторожа, – и сохранять в тайне это место. Место упокоения лопаты.
Вообще-то это грибные места, и седьмой участок не составляет исключения: даже терпкие весенние запахи (когда все раскисает, потому что отпускает самую малость) обнаруживают картофельную гниль и предстоящие ягоды, резиновую гарь и дыхание Предстоящих, разбросанные по талому снегу груши-дички, яблоки, более земляного происхождения, и сушеные белые грибы. Летом и осенью чистка грибов традиционно удручает.
Чтобы украсить стол, необходимо пройтись взглядом по целлофановым покровам, аккуратно прибитым гвоздями, железным высоким саням и врытым в грунт стульям седьмого участка. Все тут, ничуть не тронутое тлением, если, конечно, недопитый чай с дождем и снегом, песком и куриным пометом, покусанный птицами хлеб и консервная свобода, то есть после консервного заточения и темноты, не вызывают отвращения. Отчего же? Отчего же? Не вызывают…
Итак, до поры не стоит подглядывать за снедью, столь расторопно подаваемой, преподаваемой, предуготовляемой! Следует отвернуться к окну, или к двери, или к шкафу с наклеенной на нем географической картой материков. Невозможно даже утруждать себя просьбами, мольбами, потому как внезапное великолепие убранного стола стоит того. Стоит ведра яблок, кастрюли куриного бульона, натертой в миску свеклы.
Фамарь Никитична накрывала на стол.
– Вот уже целых девять дней минуло. Даже и не заметила, как они прошли, пролетели. Лидушке, наверное, сейчас хорошо… тепленько, она все жаловалась, что мерзла, и спокойно… Это я, я во всем виновата!
– В чем, бабушка, виновата?
– А ну ступай отсель, ишь, умник какой!
– Я не умник.
– Не дерзи, не смей дерзить старшим!
Женя подумал о том, что все нынче повторяется: и морозное утро, и мглистые сумерки, и кухонные скандалы, и капающая из крана вода, и шепот, и плач, и нищета, и пьяные голоса за стеной, и старушечий вой, и нефтяной ежедневный чай – и так до бесконечности.
Раньше к семейному столу собирались родственники, которых Женя толком-то и не знал. Нина Ниловна, например, которая всегда приходила в тяжеленном рукастом пальто из грубой шинельной ткани и в полосатой вязаной шапочке-сольвейг. Потом еще баба Катя. Кажется, она была монашкой из Тихоновой пустыни (тоже с седьмого участка, кстати сказать) – маленькая высохшая старушка, забранная в черное, с блестящими костяными четками, к которым был привязан кусочек хлеба. Баба Катя приходилась Фамари троюродной сестрой. Уже после того, как разогнали монастырь, она еще долго жила в бывшей, несколько переоборудованной под жилье бане на задах лесникова дома. Летом и осенью ходила собирать синий мох на дальние заброшенные лесозаготовки, бывало, что приходилось ночевать в старых, полусгнивших зимовьях на болоте. Там ее довольно часто встречали сборщики клюквы из райцентра. Когда баба Катя видела незнакомых людей, как, впрочем, и знакомых, особенно в последние годы, то ложилась на землю лицом в траву и так покоилась в полном безмолвии, разве что шептала молитву, дожидаясь, пока незнакомые, внезапные встречные не уйдут в совершеннейшем смятении. Потрясении чувств. Руки она расставляла крестообразно.
В семьдесят пятом году баба Катя умерла.
Женя дождался, пока гости уселись за стол, и вышел из комнаты в коридор. Здесь было пустынно, хотя дверь из залы вполне могла бы открыться, по воле сквозняка, например, и тогда бы мелькнула часть стола. У окна сидела Фамарь Никитична в черной косынке, Женечка всегда знал ее одинаково старой, поджимавшей губы, и они у нее белели оттого. Дальше – истукан онемевшего деда, который не выпускал из рук мокрого носового платка, – интересно, какое у него было теперь лицо – сморщенное, плачущего ребенка. Еще сидели какие-то родственники, ветхие, старинные подруги Фамари, приживалки. Они, затравленно озираясь по сторонам, ковырялись в салате из вареной свеклы и репы.
Все, все – под портретом Лиды, перевязанным черной газовой лентой для волос.
Потом дверь захлопнулась бы, перестав освещать Женю, отрезав тени.
Все повторялось. Миновал срок. Была уже настоящая зима – с наледями, ветром, однообразием быстро стынущей пищи. И было так приятно думать об этом повторении, ощущать его. Впрочем, отдавая себе отчет в том, что нечто должно и измениться. Медленно проживать каждую последующую минуту, чувствовать: вот гости пробуют голоса, прокашливаются, переругиваются.
Женя вышел на улицу. Было уже темно. Пока пришли с утренней службы, пока все собрались, пока печь протопили до трещащей сухим клеем духоты, пока на стол накрыли… так и потемнело. Даже не заметили.
В соседнем доме на первом этаже у Золотаревых включили свет. Наверху хлопнула дверь, по ступеням вниз загремели шаги. Женя рванулся к сараю на огороде и только успел заскочить за угол, как на крыльцо вышел отец.
– Жень, ты где? – спросил он в темноту двора.
Отцу было жарко тогда: он закатал рукава рубашки, его слегка шатало. Не дождавшись ответа, он прислонился к дверному косяку, стал искать спички, но промахивался мимо карманов, хотел закурить, но не находил рта, приговаривал еле слышно: «Поди, поди…» Казалось, что предмет его путешествия уже забыт безвозвратно. Ну, так просто вышел покурить, подышать свежим ночным воздухом, справить нужду, поодиночествовать, чтобы гудеть себе под нос с усмешкой: «Приходи к нам ночевать, нашу Лидочку качать… ну, ну…»
Потом отец спустился с крыльца, зашел за черную башню дров, то есть высохших серебряных дров – «с серебряным дуплом на высоте затопленных часовен», – на ходу расстегивая штаны.
Женя смотрел на обшитый тесом фронтон дома, на бревенчатую стену торца, на крыльцо, на дверь, пока отец вновь не появился тут на фоне плоской крашенной водяной краской декорации. Появился и, как бы вспоминая, прокричал:
– Жень, пойдем домой, где ты там прячешься?.. Я завтра утром уезжаю!
Потом и за столом отец сказал то же:
– Я завтра утром уезжаю…
– Может, останешься еще на недельку? – проговорил дед.
– Заткнись, старый, совсем одурел!..
Вот дед, когда его уволили из райотдела милиции, работал на станции УЖД сторожем, охранял склад с путейским и дворницким инвентарем через ночь на третью. Заходил в пустые темные вагоны, что стояли в отстойнике, присаживался у окна, разворачивал истрепанный бумажный пакет с ужином, который перед уходом на смену ему готовила дочь Лида.
Дед ел хлеб, выискивал по изломанным путям несколько микроскопических колец выращенного на веранде в затянувшейся плесенью стеклянной банке лука-севка, откусывал немного вареной колбасы, на хлорный запах которой прибегала неизвестно откуда взявшаяся собака. Похоже, лесникова. Вечно голодная, но добрая. Ну, что, нужно было угощать: собака ложилась на оббитую дерматином скамейку и тщательно кушала. С благодарностью. Шевелила ушами и головой.
Потом дед приступал к жестяному ящичку из-под леденцов, что сохранял еще какой-то штампованный орнамент и полустершееся название фабрики, кажется, Бабаева. Дед открывал крышку-люк, сюда, в сладкую темноту, Фамарь Никитична снаряжала немного соленых грибов. А тем временем собака вставала, клала морду на колени деда и ждала новой порции вареной колбасы или в крайнем случае просто черного хлеба…
Он любил вспоминать войну, потому как у него больше ничего не осталось с тех пор. Он рассказывал внуку Жене, как в сорок пятом году они играли в футбол на большом выстриженном газоне перед литовской резиденцией Тышкевичей где-то под Клайпедой. Гоняли тяжелый тряпичный мяч, перетянутый телефонным кабелем, коего пуки были разбросаны повсюду в связи со взрывом местной телефонной станции. Играли ребята из роты минометчиков, проспиртовавшиеся санитары, раненый летчик, у него была прострелена рука, автоматчики из полковой разведки, а на воротах стояли долговязые бритые наголо курсанты из спецдивизии НКВД.
По возвращении с фронта дед и жил тут, в двухэтажном бревенчатом бараке на втором этаже, с Фамарью Никитичной и дочкой Лидой.
Вечерами после работы любил побаловаться с инструментом в сарае, который стоял на огороде. Запускал точильный камень, примерялся к стамескам, напильникам, разводил ключом ножовку, вырезывал топорище, приспосабливая по руке острейшим сапожным ножом, включал электроплитку, чтобы растопить канифоль, припой, свинец, пластмассу, ставил топор у двери…
Когда Женя вернулся в дом, то гости уже раскачивались вместе со скамейками, взятыми у соседей, перемещали тарелки по залитой вином и жиром клеенке. Было слышно, как кто-то встал, опрокинул пустые бутылки, отставленные к стене, и бутылки загремели, помчались-покатились по непригнанным доскам пола. Гости неожиданно запели, как если бы пели немые, размахивая руками, показывая так свою песню, которую сами они не слышат.
Фамарь Никитична вдруг подхватила пронзительно громко: «Эх, вы, туры да туры, малы деточки!» Она пела о том, что еще один день прошел, много забот принес и унес и в храм Божий сходила, и пироги испекла, и Лиду не забыла помянуть, а за поминовение усопших – аж десять «рублев» или пятнадцать, белье после Женьки стирала, а дед совсем старый стал, глупый – «Ну, что, ну, что ты, отец, плачешь? Спой со всеми, спляши на потеху людям, выпей вина, заешь луком… Нет, ничего не понимает!»
– Помирать скоро нам, отец. Слышь, чего говорю?
– А?
– Помирать-то по чину!
– Чево?
– Дурень…
Серегу выволокли в коридор и потащили к умывальнику.
– Вишь, пацан, как вышло, приказала мамка долго…
На следующее утро отец уехал, и почему-то сразу Женя вспомнил, как его зовут – Павлом, только теперь сказать об этом было некому.
Эпилог
С того дня теперь уже прошло много лет.
Но все равно, как в дымящемся пылью и вонючим дыханием поселковом синематографе, где в кожух радиатора заливают воду на предмет охлаждения, а на простыне…
…На простыне миновала осень, нарисованная со стуком дождя в разбухшие рамы окон веранды. Миновало и лето, запечатленное с заросшим высокой травой полотном узкой колеи до лесобиржи.
Запах сгоревшей пузырящейся пленки и закрытое на зиму окно кассы.
Каких-нибудь десять, пятнадцать лет, и все исчезло куда-то, как и не было ничего, существуя лишь в далекой, едва различимой памяти сновидений. Ведь многие перебрались тогда в Калугуодин, потому как глиняные разработки и кирпичный завод закрыли. Интернат перевели, кажется, в район Белевской колонии, а совершенно нищий приход угас, и до заброшенных лесопунктов было уже не добраться.
Это память сновидений – высохших цветов по подоконникам и заколоченных дверей. Откуда-то из глубины по оборванным проводам (телеграфным?) могут передаваться сообщения, гудки, треск в эфире, сигналы маневровых тепловозов, неразборчивые команды по громкоговорителю: «Вот, вот ты, оказывается, какой сентиментальный, вспоминающий свое детство, существовавшее только летом. Но это тебе ошибочно казалось, потому что оно существовало и потом… после лета. А летом… разумеется, разумеется, в прохладной тишине старого дровяного сарая, в тенистых подвалах кустов с их голубоватым духом сумрачных зарослей, вариант – водорослей, где прячется банка с водой, забеленная молоком».
А нынче?
В лесопоселке осталось только несколько жилых домов около Сытного рынка и путейские мастерские, двухэтажные же бараки на Плеханова и в Витебском переулке, около карьера и в заречье, пустовали, некоторые из них уже горели.
Заречьем местные жители именовали плешивый пологий холм за оврагом. Вернее сказать, даже не заречье, а завражье, где вечер всегда наступал много раньше благодаря низко идущим тучам, скрывающим свет, и старым, раскоряченным ветлам, рвущим своими сухими ветвями эти низко идущие тучи, вскрывающие снег. Были еще и мешки с цементом, и горы песка, и горящая на фоне неба пакля…
Небо.
Удивительно, но в эти края почти никто не приезжал из прежних обитателей, в том смысле что – «А чего-о там приезжать, нам и своих помоек хватает», притом что многие из них родились тут, прожили всю жизнь, похоронили на этом смиренном кладбище через поле к лесу… на глине через сосны… на досках через ворота и низкий завалившийся забор… на этом погосте похоронили своих родственников где-то в районе шестого, седьмого участков.
С трудом и неохотно вспоминали они свою жизнь в лесопоселке, путали события во времени, годы рождения и смерти, имена соседей, номера почтовых ящиков.
– Это Калугадва? – спрашивают путешественники и новоселы.
Место придумок геликоптеров и ракетопланов – из пушки, и на луну собирался все, собирался и никак не мог собраться, место воздушных парадов, место нахождения воздухоплавательной станции.
– Да, это Калугадва, а это старенький Циолковский. Старик смотрел вниз на землю из-под густых, тяжелых, скалистых, каменных, снежных вершин, то есть бровей.
На стенах с отслоившимися обоями висят фотографические изображения: «Гуляющие на набережной реки Оки. Духовой оркестр пожарной команды города Калуги».
«Красные струганые наличники. С кремля к подолу по улицам неслись потоки воды после дождя. На бору торговали гильзами и творогом».
«На вражке лотошники собирались – верба, искусственные цветы, аптечные склянки, рваная бумага. У ворот жили воротники».
Что еще? «Записан в поминальнике за здравие и за упокой под именем епископа Евгения священномученика или преподобного Павла Прусиадского – 7 марта по старому стилю».
Пахнет прелыми листьями, тряпьем, сыростью. В заброшенном сарае на одичавшем огороде возможно было обнаружить какие-то старые вещи – кастрюли, велосипедные рамы, ржавые, страшные напильники, игрушки…
– Так это же Женьки Черножукова! С бабкой тут жил!
– Не пожил, не пожил…
– То есть как это – «не пожил»?
– Не-е, ну, в том смысле, что жил тут, конечно, с матерью, бабкой и дедом вот в этом бараке на втором этаже. Потом у него умерла мать, кажется, осенью умерла. Она до того все время болела, мучилась, мучилась… Хотя еще летом выходила на крыльцо, на солнце, и ветер слегка шевелил ее волосы. Ее звали Лидой. На похоронах собралось много народу – гости, соседи, родственники.
– Вроде у Женьки был еще отец? Почему ты о нем ничего не говоришь?
– Да, был… Павел из Калугиодин. Он не приехал на похороны, говорил, что опоздал, понимаешь, приехал только на следующий день или к вечеру, не помню точно, винился, просил отвести его на могилу Лиды. Он ведь тогда впервые увидел своего сына. Так они и жили вместе девять дней.
– А что Женя?
– Ничего… Ведь прожил всю жизнь без отца, и бабка Фамарь Никитична воспитала его в постоянном страхе. «Что такое постоянство?» – довольно часто вопрошают меня паломники в этой связи. «Да и хотя бы привычка к однообразию». Женя был частью этой медленной жизни, вернее, не жизни, а бытования, тягучего бытования, рассуждать о цвете которого я бы не взялся. Итак, вообрази себе однообразный вой или гул, внезапно потрясаемый трубным ударом вечевого колокола. Смерть матери, внезапный приезд отца, похороны, бесконечные бессонные ночи в пустой комнате на пустой кровати в плену пустых, уверяю тебя, совершенно пустых кошмаров. Например, ему могла являться мать и заученным жестом умершей нежности гладить сына по лицу, по глазам. Женя узнавал этот жест – плакал, мучился, получая в ужасе удовольствие от прикосновения. Потом отец уехал. А они с Лешкой Золотаревым полезли на колокольню на Филиале. Забрались на самый верхний звон… На колокольне все перила проржавели и были кое-где прикручены проволокой, пол прогнил, а по углам висели грязные наледи бутылочным стеклом: тигли. Ночью шел снег, а днем светило солнце, и было как зимой с мутными наварившимися языками льда, пробравшимися сквозь железную ограду и окаменевшими тут. Вот он и сорвался.
– Сорвался или бросился?
– Не знаю… На похороны приехал Павел.
«Женечка, а Женечка, но все равно твоя голова обнажена! И лучше б с неба, с горы, с тучки златоверхой, с последнего звона монастырской колокольни на эту грешную голову лилась холодная вода! А потом выйди в январский ветер, кусая шершавый снег-наст – бьет промозглая дрожь, поклонись, как должно, и тут же у стены, обшитой тесом, сиди, замирай, подвизайся, одиночествуй, катаясь ладонью по мокрым дымящимся волосам, натертым лампадным маслом, так что задохнуться можно от уми ления, жалости, смирения и собственной ничтожности…»
И Жени не стало. Еще совсем недавно он был тут: «А если я умру, как мама, то меня не будет. Все станут меня искать, звать, кричать: Женя, ты где? А меня уже давно не будет, и они стяжают неведение и слепоту».
Вспоминалось: можно было, вполне обезопасив себя, избегая вопросов и погони по пятам, забраться на самый верхний звон полуразрушенной колокольни. С высоты после узкой темной лестницы – крутого крюкастого лаза – низкого, невыносимо низкого, скребущегося в голову потолка Женя принимался за эту территорию мира, разлитого под солнцем. Конечно, ослепляло с непривычки, хотя этой минуты и следовало ожидать с неотвязностью, борясь с волнением, не подавая вида в том, но все же эта минута наступала внезапно – болели глаза, ломило голову.
Женя видел изумрудный лес до горизонта, поселок, мутную зелень карьера. В продолжение тишины улицы пустовали, расчерченные песчаной пылью, поднятой вероятным метанием камней или путешествием велосипеда. Деревянные мостовые возлежали в тени деревьев.
Единственное, где происходило хоть какое мало-мальски различимое с вышины движение, так это была станция УЖД – мотовоз дышал черной копотью солярки, трогался, уезжал, подобный спичечной коробке.
Женя вспоминал, как отец говорил ему, что летом они обязательно пойдут на рыбалку – смешно, а теперь лес, уводящий к горизонту, поселок, холмы, поросшие кустарником, мутная зелень карьера. Бараки…
И шагнул.
На следующий день Павел уехал, и больше его никто никогда не видел. В поселке через три года начались расселения, еще что-то там началось, вывозили лес, шпалы, рельсы, погрузчики и трелевочные машины разрывали кривые улицы. Кинотеатр горел. Паром потопили, но это уже неинтересно…
Тайнозритель
Часть 1. Феофания
После отъезда больницы в изоляторе осталась одна Феофания.
Она даже не встала с кровати, когда растрепанные няньки плясали на провислых, облепленных ватой сетях-сетках, перед тем как вынести скатанные горчичного цвета матрасы. Вынести приговор – оттиснутый фиолетовой краской больничный номер – «ИС. ХС». Феофания лежала, отвернувшись к стене, водила пальцем по губам, волосам, одеялу, потрескавшейся краске труб и горячим, урчащим кипятком батареям. И выносили-таки приговор – «Пусти! Ну пусти во двор! А во дворе-то и рыла злые кореньица! Одевайся! Ишь, забоялась идти! Забоялась!» – потом устраивали маскарад с хождением ряженых, каждением предстоящих, пением величальных песен и гимнов под Вифлеемской звездой, взрывали петарды, лицедействовали, уподоблялись всадникам, наездникам, стреляющим лыжникам, королевской чете, облаченной в сияющие тяжелые ризы – богатые и роскошные, баловались с бенгальскими огнями, а потом пировали на славу.
Когда в преддверии блокады больница должна была эвакуироваться куда-то за Урал, в помещение лесной школы для больных инфекционными болезнями, тогда и забыли о девочке, не замечали ее, хотя, конечно, знали, что она болеет, напоминая о себе лишь упорным нежеланием ни с кем разговаривать. Ее как будто бы уже и не было, она лишь безмолвно примеряла у себя в закутке старые бусы – червивые орешки – вот смотри, чего у меня есть, – оборачивала ими шею и тонкие прозрачные руки, словно из алебастра, любовалась, нравилась сама себе, заплетала волосы, лениво слушала голоса приглашавших в гости: «Какая хорошая девочка! А у меня мальчик есть, у него ножки болят, но вы подружитесь. Он такой умный, он тебя в шашки научит играть!» – «Нет! Не хочу!» – «Фу, какая противная злюка…»
Многие уже думали, что Феофания останется в больничном изоляторе навсегда, как однажды (после эвакуации больницы прошло уже больше месяца) в замазанное белой краской окно регистратуры постучали. Так как всю предыдущую ночь пили в процедурной, то открывать двинулись с нежеланием, руганью и отрыжкой, мол, кого это еще черт принес в такую рань, долго гремели ключами, лишенные чудесного дара попадания в замочную скважину с первого, как, впрочем, и со второго раза, кряхтя, протирали половой тряпкой поручни, оглядывались воровато, посмеивались.
Регистратура располагалась в одноэтажном деревянном флигеле, соединенном со зданием больницы длинным застекленным коридором-верандой. Так как крыша здесь протекала, то начиная с осени регистратуру закрывали до лета, то есть флигель закрывали в том смысле, что переводили регистратуру в отапливаемое каменное помещение. Теперь же, когда детей увезли отсюда на предмет опустошения-опустошения, куч-куч, сухарей-сухарей, коридор вообще забили. Внутренний двор больницы выглядел запущенным унылым стариком, который только что убежал от няньки, пришедшей побрить его вялые щеки. Он, видите ли, более чем нетерпелив, когда она медленно размешивает пальцем в алюминиевой миске жидкую пену зубного порошка и казеинового клея, и потому, сопливо морщась, сползает с кресла, после чего, воспользовавшись открытой по недогляду дверью, топочет, сопит, расперев рот, прячется в предгорьях бойлерной, где и обосновывается вдыхать парной цемент кирпичного горла. «Спас, спас-таки, щеки свои… – приговаривает —…сохранил, сохранил-таки щеки мои для подушки, для прачечной синьки и языка».
В замазанное белой краской окно регистратуры постучали.
Кто-то пожаловал.
По такому случаю пришлось отдирать доски от двери и окон, пробираться мимо отсыревших шкафов, завалившихся непроходимыми кущами вешалок и шевелящихся под порывами сквозняка грязных бинтов, что были приспособлены для дыр и щелей: изжеваны и съедены ими. Принудили к тому – о, убожество!
На скамейке перед входом сидела женщина.
Глубокая осень.
Вязаные рейтузы. Так как на открывание регистратуры ушло довольно времени, то женщина и замерзла, измяв совершенно приготовленное прошение на имя доктора Межакова, ведь слухи о том, что после эвакуации в больнице осталась одна Феофания, достигли островов и дальнего паромного гарнизона. Осталась одна девочка.
Наконец дверь распахнулась, обрушив на скользкие, рыбные, отсыревшие ступени приступки шелуху прошлогодней краски.
Вот именно через этот коридор детей, заботливо снабженных брезентовыми вещмешками, выводили знакомиться с добрыми самаритянами, потом усаживали на оббитые дерматином низкие топчаны, прежде чем выписать. Дети, разумеется, перешептывались, а новые, улыбающиеся по такому случаю родственники пытались заглянуть в маленькое оконце ординаторской, что-то выкрикивали, манипулировали, при помощи пальцев представляли направление движения и те целлулоидные части тела, которые, по их мнению, магически указывали на истинность родительского выбора. «Сбылось реченное через пророка! – восклицали, – мой отрок! мой рог спасения! моя отроковица! моя непорочная дева!» – чтобы по ночам любоваться детским безмятежным сном и в великой тайне приникать губами к крохотным пяточкам, выбившимся из-под одеяла взыгравшего младенца…
– Да, лучше и не скажешь… – Межаков развел руками, указуя на свои пахнущие аптекой владения.
У доктора оказался разный профиль, ведь у него был сломан нос – как бы вывернут к уху, – и женщине, забегавшей то по правую, то по левую его руку, казалось, что она разговаривает с разными людьми, вернее, слушает разных людей. Подобно тому, как два брата – Симон, называемый Петром, и Андрей – не слышат, не видят и не внемлют друг другу.
От быстрой ходьбы ногам в вязаных рейтузах стало жарко, да и сами рейтузы съехали вниз, собравшись вокруг колен безобразными вытянутыми древесными грибами-чагами. Сочниками.
Сочиво приготовили.
– А вы знаете, почему ее зовут Феофания?
– Нет.
– И еще вы должны знать, что…
– Да, мне известно об этом, девочка больна.
– Все это продлится не более двух месяцев, не более! Уверяю вас!
Межаков внезапно остановился и, наклонившись к женщине, принялся вертеть головой:
– Действительно, действительно, вообразите себе моего старшего братца, этакого великовозрастного лоботряса, выгнанного из ремесленного училища по причине часто случавшихся с ним припадков – сказывалась старая бомбовая контузия. Так вот, он с изуверским увлечением любил пытать меня на кухне, в частности запирал в тесной вонючей мойке и пускал горячую воду. Здесь, в темноте ужасающей духоты, где старый, опутанный резиновыми гофрированными шлангами и кишками музыкальный ларь превращался в газовую камеру-душегубку. Я – единый глас вопиющего, мне ведь больше ничего не оставалось (или что же мне оставалось делать), превращался в вой, треск граммофона, я колотил ногами и руками в деревянные стены, плакал, надрывно кричал, а он, мой брат то есть, приникал своими карминовыми губами к узкой светящейся щели и чревовещал: «Я – твой душегубец лютый по имени Берендий!» Мучил меня. После чего он начинал истерично смеяться. Однажды, вообразив себя умершим после подобного рода страстей, я сладостно подглядывал за своим братом, как он плакал надо мной, напуганный столь внезапным исходом своего неистовства, но, когда обнаружил, что все это розыгрыш, обычная шутка, столь комичная, столь, казалось бы, естественная, а на его помутившийся взгляд – противоестественная, он принялся избивать меня… – Межаков постучал себя пальцем по развороченной, просевшей вглубь черепа переносице, – вот полюбуйтесь! сломал мне тогда нос! пожалуйста! если хотите, можете даже потрогать, только не обожгитесь, так горячо, так горячо, зимой я даже грею тут руки.
Женщина видела разный профиль с разных сторон, как потемневшие от времени портреты естествоиспытателей, авиаторов, ботаников, целая скорбная галерея Доу, погружающаяся во мрак, который пересиливал свет. Картины висели вдоль стен. Картины пахли канифолью и воском. Приходилось зажигать электричество и держать сломанный выключатель. Картины выглядели экзотикой в этих краях. В кущах зацветал виноград. Сладкий виноград. Кислый виноград.
– А вот мы и пришли, – Межаков открыл дверь в небольшой сводчатый зал, в дальнем углу которого возле окна стояла кровать. На кровати кто-то лежал.
– «На кровати кто-то лежал», – проговорила женщина.
– «А кафельная печная колонна что-то мне напоминает, – вторил эхом доктор. – Ну что же, что же она мне напоминает?.. может быть, здание городской управы или присутственных мест? может быть… может быть…»
Существо, разглядеть которое в отражениях и тенях уличных фонарей (невечерний свет, нездешний свет), в царстве скошенных к полу подоконников не было никакой возможности, зашевелилось, задвигало кровать, высыпая на пол панцирную продавленную мережь – ловчую, и одеяло при этом ожило и дохнуло черным бездонным балком на городище.
Стоял лес в воде.
Стоит лес в воде.
Межаков подводит женщину к окну: через вытоптанный сквер с видом на четырнадцатый и сорок первый годы, на цементный элеватор, кстати, довольно-таки нелепое ампирное сооружение эпохи губернского строительства, эпохи Костромы, на академию, на бетонный музей, на игрушечный больничный двор, разгороженный мокнущими под дождем воздухами. Прямо – невысокий кирпичный забор – брандмауэр и кладбище игрушечных скамеек, гипсовых вазонов и ног статуй. Ног.
– А вы знаете, почему ее зовут Феофания? – доктор садится на выступающий из-под матраса металлический рельс кровати.
– Нет, не знаю.
– В старых книгах Феофанией называется откровение, новое откровение, благовествование, как будет угодно, неизреченная истина, то, чего не может быть, то, чего нет на самом деле. Это имя возникло как-то само собой, его никто не давал ей, но и она сама не приносила его начертанным в ковчежце обещанием. Обещанием родительскому обещанию, завету, ведь она даже не знала своих родителей, вернее сказать, она утверждала, что их у нее не было. Верно я говорю? – Межаков замер, указуя женщине со всеми гримасами рта и красными от фотографического света глазами, что сейчас должно слушать тишину, как вариант – треск затвердевших настом простыней. И действительно, из-под одеяла послышался звук, чем-то напоминающий шелест соприкасающихся под водой скользких, круглых камней.
Потом продолжил:
– Ее привезли сюда два года назад из вечности, той, что за алтарем, за жертвенником, за дверью, из безвременья, оттуда, где густой бесконечный снег засыпает окна первого этажа и их приходится откапывать каждое утро, оттуда, где будильник прячут под кроватью в белой эмалированной утке, чтобы громче звонил, но не тарахтел, не хрипел своими судорогами проржавевших внутренностей, оттуда, где на перекладины гигантских неподъемных крестов набивают гвозди для спасения святынь от испражняющихся на них птиц.
Доктор встал и принялся расхаживать по залу:
– Естественно, сразу по приезде последовало приглашение в прозекторскую, морг у нас тогда располагался в бывшей больничной церкви. Для этой надобности Феофанию необходимо было раздеть и водрузить этаким стеариновым сооружением, иначе говоря, куклой на железную двухэтажную телегу или сани, сейчас уже не помню. Путь предстоял долгий, и потому запрягали со всем отпущенным Богом старанием. Кучер-татарин ходил вокруг лошади и, казалось, не знал, что делать с многочисленным извозчичьим инструментарием. Он неумело или нехотя, что, впрочем, одно и то же, вязал кожаные ремешки, заплетал, подхватывал металлические кольца и крюки оказавшейся по случаю под рукой проволокой, что-то шептал себе под нос, наверное, молился, а когда дело было закончено, обнаружил у себя в карманах еще несколько соединительных колец, чего быть никак не могло при снаряжении паломничества в больничную церковь. Однако это скучно… Все закурили…
В морге выяснилось, что Феофания жива, жива для кафельного царства с его пронзительным, располагающим к бодрствованию холодом…
Нет, не так!
Процессия двигалась к бывшей больничной церкви через опустевший от осени сад. Кое-где тлели кучи собранных хаотично листьев, пахло дымом и преющей в преддверии снега корой. Некоторые деревья стояли в воде. Павильоны были уже заколочены на зиму, но при этом разорены не в меньшей степени, подвергнуты и поруганию, и разграблению. За санями, оставлявшими на окаменевшем песке аллеи черную единообразную борозду, шествовали санитары в накинутых на плечи шинелях – фронт лишний раз напоминал о своем неминуемом приближении. Межаков несколько отстал, занятый разглядыванием черного воспаляющегося нутра одной из дренажных канав, недостатка в которых старый запущенный сад не испытывал – подобные заросшие травой и кустарником трещины бесшумно пробирались окрест, возникая при этом в самых неожиданных местах – «вот! извольте!» Казалось, что канифолевая, неподвластная горнему воздуху вода умирает.
– Господин доктор, просим не отставать!
За деревьями показалось серое кирпичное здание прозекторской, в окнах которой горел свет. Пришлось еще довольно долго ехать вдоль невысокой церковной ограды, предвкушая при этом богатый архиерейский въезд в покосившиеся, вросшие в болотную топь ворота с гипсовыми облупившимися навершиями.
Карабкаясь по длинному дощатому взвозу, лошадь втащила сани в верхний притвор морга. Лифт не работал и теперь был переоборудован в ризницу. Татарин здесь снял шапку и надел ее на лицо – из жестяных заборников нестерпимо тянуло разделочной и хлоркой. Санитары, к тому времени побросавшие свои шинели у входа, где способно было в перерывах между сменами спать вповалку – сопеть, переворачиваться во сне, разевать рот, – забрались на второй этаж железной телеги или саней, сейчас это уже стерлось в памяти, и, отталкивая друг друга, откинули войлочное покрывало.
Женщина наклонилась над кроватью и откинула одеяло.
Ослепленная Феофания выглядела растерянной, застигнутой врасплох. Казалось, что она пряталась в ожидании воображения, того, что должно было нарисовать ее портрет – маленькая больная девочка в ситцевом платьице, перехваченном красным поясом-лентой, девочка украшает себя бусами, неизвестно откуда взявшимися, такими червивыми орешками-камешками, испещренными черными змейками арабской вязи, и на лиловом фоне шевелящейся листвы, и на багровом фоне украшенного строгановским шитьем тяжелого парчового занавеса девочка не кажется заплаканной и тем более несчастной, ведь только что ее угостили яблоком и дали подержать маленького флегматичного зверька, с возмутительным безразличием взирающего на окружающий его мир, лучше б ей, в самом деле, дали подержать вертлявую, вечно живую птичку, заодно бы и спасли ее от толстого, улыбающегося соседского кота Арефы.
Феофания нахмурилась и, уцепившись за край одеяла, резко натянула его до самых глаз. Женщина улыбнулась в ответ, но вдруг лицо ее начало изменяться, принимая непредвиденные очертания, в том смысле, что она ожидала некоего испуга, провидела его, осознавала неминуемым: под кроватью затарахтел будильник. Девочка вновь скрылась под одеялом, а старая механическая машинка все еще хрипела своими проржавевшими внутренностями и медленно выезжала по деревянному крашеному полу в белой эмалированной утке, куда ее помещали для усиления звука. Выезжала, минуя никелированные ножки кровати с разнообразными фигурами – волютами ионического и коринфского ордера.
– Опять! – Межаков подбежал к двери и, распахнув ее, закричал наудалую в коридор: – Я же просил!
Женщина, как зачарованная, наблюдала за дребезжащей агонией пожелтевшего от времени циферблата, окаменевший взгляд ее застыл, изнемог, не сумев выпутаться из черных расслоившихся стрелок, показывавших половину десятого утра.
Нездешний свет. Невечерний свет.
Все было закончено, когда прибежавшие перепуганные няньки унесли утку и ее умершее содержимое. Феофания вновь выглянула из-под одеяла.
– Вот вы пишете в своем прошении… цитирую, – доктор достал из кармана халата измятую бумагу и, развернув ее, начал читать: – «…Здесь на острове, у скалы, в полуразвалившемся дымнике с земляным полом и нашли двух человек, нагих и голодных, ноги их почти совершенно сгнили, и потому не могли они передвигаться, только ползком и то до двери… вода подступала кругом…»
– О каком острове вы говорите? Нам это будет интересно.
– В детстве я жила с родителями на острове недалеко от устья Токшинского, – женщина наклонилась к девочке и погладила ее по голове, – меня зовут Верой Елагиной, а тебя как?
– Не знаю, – Феофания опять нахмурилась и отвернулась к окну.
– Отчим работал бакенщиком при Устьинском лесозаводе, – продолжала Вера. – В его обязанности входило расставлять и проверять габаритные огни при подходе из озера в Токшу. Здесь было много самых разнообразных проток, обмелевших водоразборных каналов, вырытых заключенными, и глухих бездонных плесов. К тому же торфяники коварно манили к себе непроходимыми газовыми топями. Еще до нас тут случилось несколько аварий, когда буксиры, заблудившись в тумане, – ведь здесь постоянно висит низкий цементный туман, – затаскивали целые горы сплавного леса, проделав при этом достаточно долгий путь с верховьев Порозовицы и от пристани Антоний, в непроходимые болотные кущи, блуждали, заунывно гудели (надрывно гудели), пытались развернуться, но неизбежно бывали раздавлены собственным страшным грузом. (Влекомый течением и инерцией гигантского веса сплав забивал все внутренности, его тошнило на берег, он переворачивался, опрокидывался, с грохотом и ревом обезумевшего в западне зверя набрасывался на плавающие, мохнатые водорослями препятствия, выдирал их из земли, вздымал к небу, обнаруживая при этом латаное-перелатаное днище буксира, облепленное турой и ракушками.)
На небольшом каменном острове, скорее даже уступе, о котором только что было прочитано в прошении, и находился дом бакенщика. Моего отчима.
Так как караваны проходили, как правило, рано утром, чтобы на лесозаводе сразу стать под разгрузку, отчим не спал всю ночь, гремел около железных шкафов, где хранился бензин и промасленные цепи для бензомоторных пил, и затемно уходил на «казанке» проверять красные и зеленые посты. Домой возвращался только к обеду…
– …В полуразвалившийся дымник с земляным полом, куда подступала вода, угрожая все затопить, не так ли? – Межаков расхаживал по палате, заложив руки за спину. – По-моему, это что-то из Соловецкого Патерика? Мой дед, ныне покойный, царствие ему небесное, служил на Кемском приходе, Дионисий Межаков, не слышали? Царь мхов – мхов государь? Нет?
– Все-таки как же тебя зовут? Анастасией? Юлианией? Екатериной? А?
– Не скажу, – девочка хитро улыбнулась.
– Не скажешь?
– Не скажу, – и показала язык.
– Ну и пожалуйста, – Вера притворилась обиженной и загудела сложенными наподобие духовых орудий-сопелей губами, изображая буксир: «У-у-у-у». – А потом отчим заболел и его пришлось отправить на материк, на острове мы остались вдвоем с мамой. Каждое утро я должна была ездить на лесозавод за продуктами, а заодно и проверять бакены.
– Да, ужасный климат, – доктор развел руками.
– Потом простудилась, кажется, в марте. Со мной что-то происходило, я не могла понять, что именно: этот сатанинский жар и обжигающий холод вошли в меня, мне казалось, что я умираю и воскресаю одновременно, изнемогаю и одиночествую в одном лице. Однако вскоре все прошло, хотя воспоминание о пережитом – бред любовного очарования, неведомое доселе половодье, овладевающее низинами и прокисшими одичавшими огородами, медленная мертвая боль – изредка посещало и пугало меня. Спустя несколько лет, когда мы переехали в город, я узнала, что не смогу иметь детей…
– Да, к сожалению, – Межаков аккуратно сложил прошение и положил его в нагрудный карман.
Отворачивался к стене. Скреб затылок. Покашливал.
– Ты будешь моей дочкой Верой, Надеждой и Любовью! А я буду твоей мамой – Феофанией! Хорошо? – девочка села на кровати, сложив тонкие руки-веточки, когда ветер шумит и шумит в вышине, поверх одеяла.
Она нарушила эту тягостную паузу по неизреченному завету, дарованному ей тогда Богом в больничной церкви, когда придурковатые санитары забрались на второй этаж железного катафалка, отталкивали друг друга, претендуя на первенство, откинули войлочное покрывало и проговорили в изумлении: «Она жива! она жива! она смотрит на нас! она дышит нами!»
– А девочка-то светозарная, – пропел доктор со смирением и поклонился низко, и заплакал, и засопел.
– А девочка-то светозарная, – пропела Вера и встала перед Феофанией на колени. Колени заболели.
К полудню все было улажено, притом что много времени заняло последнее путешествие по тайникам и прощание со старинами: кафельными ли, подземными. Например, хождение в ванную комнату, что помещалась в подвале. Раньше, до эвакуации больницы, здесь проходили терапевтические омовения, для проведения которых употреблялось немало угля и дров с заднего зачумленного двора-отстойника, дабы изгонять, хотя бы на время, неистребимую каменную сырость затопленных казематов.
Прежде чем наполнить огромный фаянсовый сосуд кипятком, его уснащали тщательно простиранной в каустике марлей. В тусклом маленьком предбаннике, бетонный пол которого заточала деревянная струганая решетка, няньки помогали раздеваться и, аккуратно развесив в фанерных шкафах совершенно одинаковый клевер больничных пижам, вели детей в ванную, где к тому времени было изрядно натоплено и парно. Под потолком ярко горели электрические лампы, свет которых плыл в подземном тумане, и потому становилось весело! Даже как летом весело становилось. Дети галдели, трогали друг друга, щипались небольно, смеялись, ретиво залезали в теплую курящуюся горчицей воду. После чего из маленькой, расположенной напротив дверцы-люка появлялся Межаков, на нем была светлая, вкусно пахнущая еловым утюгом рубашка и легкие парусиновые штаны. В руках он держал ушастую плоскодонную миску, наполненную небольшими кусками мыла и пучками речных папоротников, перекрученных в маленькие мохнатые мочала.
– Итак, начнем! – провозглашал доктор. Ответом ему было бурное изъявление восторга и снопы брызг. Межаков ставил миску на деревянную скамью, закатывал рукава и задавал свой традиционный в подобных случаях вопрос:
– Кто первый?
Феофания всегда была последней, пряталась и таилась в стекленеющем городе мыльной пены до неба, надеясь, что о ней забудут, сама терла себе щеки старательно, не доверяла (не доверяла ведь!) чанам с холодной, льдистой водой на случай внезапного охлаждения, в смысле – преображения.
Любопытные няньки приоткрывали дверь из предбанника и, захлебнувшись в пару, пытались подглядывать за происходящим, показывали пальцами, оборачивали косынками рты и, в конце концов, переполненные впечатлениями, утомленные, притом что приходилось значительно пихаться, борясь за место у двери, разбредались по каморкам, удрученные своей непричастностью к детскому счастью, приговаривая: «А зато мы здоровенькие», «им весело, но нам прочней». Потом долго шли по коридорам и засыпали где попало: на полу, на подоконниках, на стульях.
Свет выключили, и он погас.
Капает вода из крана.
Паркет трещит – рассохся.
Трубы извиваются вкруг яслей и закутов.
Вера проснулась в коридоре на банкетке. Ноги затекли. Со стен на нее смотрели тусклые, потемневшие от времени портреты кисти Доу. И сам Доу – сухой, строгий старик в вельветовом жакете гулко кашлял где-то под лестницей.
Вере приснились ворота прозекторской, через которые происходил Великий Вход. Кирпичный свод с облупленной штукатуркой конца века поглощал людей, которые, сообразуясь с чинами, в великом волнении проходили и возвращались вспять, как бы символизируя неизреченный и предвечный характер чинопоследования – «узки врата очищения», в смысле ощущения невыносимой легкости и сладости.
Невыносимо узки врата.
Некоторые из участников события падали на землю и закрывали глаза руками.
– Как же тебе могут присниться ворота прозекторской, если ты их ни разу не видела? А? Так не бывает, – чья-то неведомая рука опустилась на плечо Веры.
– Конечно, так не бывает, – соглашалась Вера, не смея обернуться, – хотя мне страшно тебя слышать.
Вдруг один из Константинопольских архиереев, что совершал этот самый Великий Вход и служил на возвышении, именуемом Горним Местом, обернулся к хрипящей в изнеможении толпе и запел звонким детским голосом про то, как отворяй-ка, матушка, ворота да привечай гостей разлюбезных, что с бубнами и гуслями, гимнами и звездицами грядут!
Глас Первый – в крайней ажитации.
Глас Вторый – в крайней ажитации.
Глас Третий – в изрядной ажитации.
Глас Четвертый – в исступлении.
Глас Пятый и Шестый – неумолчно.
Глас Седьмый – «Выходила матушка, выносила книгу Евангелие, да копала она книгу во сыру землю, рыла злые кореньица».
Глас Осьмый – «Открывай ворота, видели звезду!»
– Сейчас, сейчас отопру, – отвечала матушка откуда-то из железной колодезной глубины, ударяя посохом в ржавое, привязанное проволокой к церковному потолку било, – сейчас, сейчас…
Паникадило – «паникандило».
Вера села на банкетку.
С больничного двора доносились удары. Кажется, ворочали разнообразный корявый горбыль, как неструганый зловещий хрящ.
– А мы вас потеряли, – Межаков улыбнулся, – а вы вот, оказывается, где задремали. У нас тут действительно погоды хоть относительно и сухие, но тяжелые, присутствует в воздухе некий гнет, однако не буду его называть мистическим или потусторонним. Вероятно, это просто с непривычки.
– Вероятно…
– Дорога, опять же, тяжелая, – засоглашался доктор.
– А что это там у вас во дворе? – Вера почувствовала тяжелый, негнущийся затылок, полный прибрежных валунов, рук еще не существовало, ноги уже пропускали жидкость, но не были, до поры, способны к движению.
– Да так, сторож балуется.
Феофания с любопытством заглядывала в распахнутую дверь регистратуры – тление недвижной осени пьянило. Конечно, и отрицать это было бы заблуждением, раньше детей ежедневно выводили гулять в парк, где в деревянных, наскоро сколоченных ящиках прятались мраморные боги, и скамейки лежали в беспорядке, как неотвратимый результат скоротечного, плохо организованного расстрела. Сухие листья шелестели жестяными обрезками. Так же и во внутреннем дворе лудильной мастерской Андрея Захаровича Серполетти, что на Литейном.
Однообразный маршрут, проложенный в этой местности, изнурял: сначала по прямой, словно выверенной с линейкой аллее до больничной церкви, затем направо до заколоченных дач сельхозтехникума и оттуда вдоль абсолютно заросшей «эрмитажной канавки» обратно.
«Но теперь все долженствует быть иначе, потому как вот именно этого „обратно“ и не существовало», – говорила себе девочка.
Это девочка себе говорит, сама с собой разговаривает чуть слышно.
Ничего не слышно.
Немота луной заглядывает в рот, из которого, как из канализационного люка зимой, валит пар.
Длинные острые тени вытягиваются вдоль домов, улиц, набережных, после наводнения заваленных мусором, этими пузырящимися, пахнущими целлулоидом, сгоревшими внутренностями кинопленки (при отсутствии звука, само собой, при отсутствии звука…). Мерцает черный, потухший, опустевший сад – при отсутствии лодочной станции, аттракционов, чайного дебаркадера, все улавливающих в свои ржавые объятия алебастровых хороводов… при наличии гудящей трансформаторной будки за окном.
Окно открыто.
Сумерки не решаются войти.
Чтение «Лавсаика» погружает в прострацию, что во многом усиливает головную боль.
Зрение меркнет, потому и предметов очертания неверны.
Из глубины парка доносится голос: «Алексей Николаевич, а Алексей Николаевич! Ау! Где вы? Алексей Николаевич, ну где же вы?»
Трансформаторная будка напоминает громоздкий кузов-реликварий запрестольный, что наконец разверзает свои изукрашенные йодом створки северных писем – «достойно есть», «новгородцы идут», «пленение колокола».
К окну подходит старик и заглядывает в него, потом снимает шапку, мнет ее, покашливает.
– Я – больничный сторож, – говорит, – сторож больничный, Сворогбог.
Сообщает. Он смотрит в темную цементную пустоту будки, что может даже и чревовещать руинами свечного царства, старыми, пожелтевшими от времени «за здравие» и «за упокой», как вариант, частицами мощей благоуханных.
– Я вот тут орудовал с инструментом на угольном дворе, – сторож переминается с ноги на ногу и опускает глаза. – Крест сочинял, а потом и гвозди набивал на перекладины, все как положено, чтобы птицы не гадили. Большой крест получился, на нем можно даже плавать по озеру в тихую погоду, ни за что не потонет. И потом вот еще что: мне тут говорят, грозя наказанием: «Ты бы лучше крышу починил, горе-мастер, протекает, да и потолок рухнул… опять же дрова неплохо бы заготовить, уголь-то ведь вышел». А зачем чинить, спрашивается, все равно не сегодня завтра больницу закроют. Вот сегодня последнюю девочку забрали. Я ведь как? На германском воевал, даже награды имеются, потом – ранение, два месяца лежал в полевом госпитале, все никак не могли вывезти, я уж думал, что ноги напрочь сгниют, мог только ползать, потом санитарный эшелон разбомбили, когда до Петрограда оставались сутки пути, так и лежал в котельной на станции Нейг… – Старик перестает кашлять, надевает шапку, поворачивается и уходит от окна. Через некоторое время он вновь появляется, волоча на спине огромный деревянный крест, перекладины которого густо усеяны гвоздями, чем напоминают щетки-власяницы. – Вот, хотел показать, – говорит сторож, потом прислоняет крест к трансформаторной будке и, достав из-за пояса топор, начинает неторопливо тесать им это деревянное циклопическое сооружение. Наступает полная неподвижная тишина, которая есть откровение, есть время невлаемое, недвижимое, есть безвременье, есть час последний предуготованный.
Сворогбог приговаривает неразборчиво, улыбается каким-то своим мыслям, с удовольствием трогает терпко пахнущее скользкое дерево креста, опять снимает шапку и вытирает ею лоб:
– А иногда топориком я и протезы подправляю, ноги-то растут, слава Богу, потихоньку, скоро опять сапоги надену, я их припас да и в шпалах схоронил до поры… Вот, – старик кланяется окну, и оно закрывается.
Окно закрыто.
Сумерки не решаются войти и стоят при Святых вратах кустодией.
Девочку провожали санитары и няньки. Они разместились амфитеатром на ступенях и, уподобившись молчаливым тайнозрителям, что способны лишь к созерцанию, но не более того, снимали с себя белые медицинские халаты и раздували их дыханием, изображая банно-прачечный день и сдачу шевелящегося белья в стирку. Веяло крахмалом.
Межаков тоже прощался. Он стоял у окна, ощущал ледяной глянец крашеных-перекрашеных рам, что никогда не открывали. Когда Вера и Феофания уже почти скрылись из виду, он неожиданно принялся что-то кричать и размахивать руками, но голос его, столь слабый, не известный никому, скудный, а ныне – так и вообще несуществующий, полностью терялся в грохоте стучавших молотков: веранду регистратуры вновь заколачивали на зиму, на войну, навсегда.
…бесполезно, бесполезно…
Врач пытался взглянуть на себя со стороны в отражениях стекол, пока не заколотили совсем «как старца Иону во чреве или как Фирса-среброкудрого, обладателя арамейской бороды, заросших щетиной шишек и мятого морщинистого затылка», – это Межаков так говорил, пока его не погрузили в пыльный мрак тишины.
«А про меня-то и забыли, забыли, как же так?»
Врач снова и снова пытался взглянуть на себя со стороны в отражениях стекол, но ведь это были два разных человека, заторможенно потиравших сломанный вдавленный нос, бывший скорее низиной, чем Голгофой. При этом один Межаков говорил, почти шептал: «Ну вот и все. До свидания. А зовут-то меня Алексеем Николаевичем». Но другой Межаков тоже говорил, тоже почти шептал-плакал: «Ну вот и все. До свидания. А зовут-то меня… впрочем, это уже не так важно…»
По окончании проводов канонарх еще долго стоял на ступенях веранды, дирижировал сам себе и пел, побиваемый хлопающими на ветру халатами и простынями:
Ой поедем мы, поедем! Перейдем мы, братцы, горы крутые.
Доберемся мы до царства басурманского.
Завоюем мы царство Сибирское, где наискось летел мокрый тяжелый снег.
Часть 2. Стрельна
Феофания сидела у окна жестяного пузатого автобуса и смотрела, как рядом по почти затерявшимся, укрывшимся в высокой жухлой траве путям ехал трамвай. К дребезжащему, только что извлеченному из ремонта вагону, окна которого были замазаны краской, была прицеплена платформа. Платформа моталась из стороны в сторону, очевидно, намереваясь оторваться и отправиться в самостоятельное одинокое путешествие по бескрайнему, заросшему низкой болотной растительностью пустырю. Девочке было интересно задавать безответный вопрос, когда же, наконец, трамвай уйдет в сторону, остановится, наткнувшись на непереведенные загодя стрелки, или безнадежно отстанет, мучимый куриной слепотой, обязательно наступающей под вечер. «Я ничего не вижу! Я ничего не вижу!» Однако этого не происходило, что порядком раздражало Феофанию. Но постепенно девочка угрелась (водитель включил гудящую пластмассовым вентилятором печку, и окна запотели), и ей стало даже приятно наблюдать за этими бегущими вровень с ней красными огнями. Она воображала себе, что теперь на платформе могли бы сидеть серьезные, сосредоточенные мальчики в одинаковых мотоциклетных шлемах, сияющих в движущихся огнях, а также в кожаных крагах с подшитыми к ним байковыми рукавицами, в коротких, перешитых из стеганых кацавеек пальтишках и безразмерных резиновых ботах, в которых невыносимо мерзли ноги зимой. Зимой. Мальчики ехали на войну. Вернее сказать, их везли на войну.
Война представлялась Феофании затянувшейся, ни в чем не знающей меры игрой «в соблюдение укрытия», когда было дозволительно прятаться даже в старых, наполовину ушедших в землю рубленых складах, которые напоминали серые низкие вагоны фронтовых эшелонов с красочными картушами номеров, назначений, грузов. Такая игра, такое времяпрепровождение.
Мальчики салютовали Феофании, держась за шатающиеся, ржавые поручни платформы, при этом они маршировали на месте, приставляли правую и левую ногу, чтобы не сказать – приволакивали, старательно выворачивали шеи, чертя подбородками в движущемся мимо воздухе невообразимые траектории, откликались и перекликались. Одним словом, совершали самые разнообразные перестроения, сообразуясь с командами, что доносились из грохочущего вагона, к которому была прицеплена платформа. Мальчики-новобранцы знали о приближающемся фронте, об окопной войне, минометных обстрелах, первых газовых атаках, о позициях противника тоже знали. Эти свои знания они, скорее всего, черпали из циркуляров и донесений, громогласным чтением которых занимался высокий худой лейтенант в фуражке, надвинутой на самые глаза и безнадежно повисшей на торчащих в разные стороны ушах. Тиглях. Лейтенант выходил из вагона и проверял, на все ли пуговицы застегнуты его воображаемые подопечные.
Наверное, мальчиков обдувал промозглый болотный ветер или пороховая, виснущая в воздухе гарь, потому и следовало тщательно блюсти свои легкие и прочие дыхательные инструменты.
– Вера, им холодно? Правда? – Девочка потянула за руку сидевшую рядом с ней на узком автобусном сиденье женщину. Уронив голову на грудь, Вера спала, ее косынка съехала на плечи и уже с этой, безусловно, меньшей высоты неотвратимо струилась вниз, завязая в сложенных на животе руках.
Руки сложены крестом.
По ее лицу плыли красные, полосатые отражения фонарей, отбивкой которым служили стальные ажурные столбы с пуками проводов и затвердевшими испражнениями керамических изоляционных пробок. Все это было как в кино (Феофания знала, что это такое: к ним в больницу несколько раз приезжала кинопередвижка), когда исцарапанный пыльный свет путешествует по несвежей простыне, используемой в качестве экрана. В данном случае – по губам, щекам и волосам Веры текли струи красного путейского света, просто трамвай включил слюдяные квадратные лампады габаритов. Ведь это была иллюзия, что гипотетических пассажиров трамвайной платформы должны были убить на войне, на фронте должны были застрелить, в плену, в плену должны были расстрелять, и девочка понимала неправду. Она прикасалась к спящей Вере, она трогала желтые, окостеневшие в предсмертной судороге трупы, залитые кровью, которым перед казнью завязывали глаза тряпками: офицер командовал «отбой», и солдаты перезаряжали ружья, расходились…
Увечное мучительное ожидание.
Увечное ожидание.
Увечное – вот и век миновал…
– Девочка, хочешь посмотреть? – один из пассажиров автобуса, всю дорогу напевавший «Желтые листья», вдруг обернулся и протянул Феофании маленький театральный бинокль, украшенный перламутром. – Бери! Бери! Не бойсь!
Обе миниатюрные подзорные трубы, навечно скованные друг с другом никелированными кронштейнами, были лишены стекол, но при этом довольно старательно залеплены сельповским пластовым мармеладом, который со временем затвердел и принял очертания обычного пластилина. Здесь еще предстояла неумолчная, кропотливая работа: проковырять спичкой маленькие сквозные отверстия.
Феофания поднесла бинокль к глазам – трамвай несся по ночной пустыне, звенел на стыках падающей колокольней к ранней Литургии, но на платформе почему-то уже никого не было.
Платформа была пуста.
И глаза заболели под тяжестью многопудовых век.
Глаза раздавили.
Девочка очнулась. Автобус стоял.
С улицы доносились голоса и гул заведенных двигателей. В ослепительном свете включенных фар бесшумно перемещались невидимые апокалипсические всадники.
– Вот и конную милицию нагнали, – сумрачно резюмировал водитель автобуса, – пропускной пункт «Стрельна». Это надолго.
Феофания посмотрела в окно: трамвая нигде не было, и только оживший в тепле мармелад вытекал на пол из перламутровых глазниц бинокля.
В Стрельне находилась тюрьма и ружейные мастерские. Очевидно, в связи с этим город считался режимным, и в предчувствии надвигавшегося фронта при въезде и выезде были установлены пропускные пункты, кордоны. Ситуацию осложнило еще и то обстоятельство, что неделю назад в тюрьме случился побег с убийством двух охранников и угоном грузовика. Вся округа была обложена, но никаких результатов это не дало.
Дверь открылась, и в автобус поднялись двое военных из дорожного патруля.
– Попрошу включить свет.
– Да аккумулятор сел, – пробурчал водитель и, пощелкав какими-то переключателями, отвернулся к окну, – приехали…
В руках патрульных мгновенно вспыхнули ручные фонари, казалось, что они ждали именно этого ответа, как будто бы это был некий тайный пароль, тайный договор между ними и угрюмым водителем. Узкие лучи яркого батареечного света пустились в свое хаотическое паломничество по жестяным недрам, тупикам, линиям и проходным дворам фанерного кладбища мишеней. Военные даже приседали на корточки, чтобы заглянуть под сиденья. Все происходило в полнейшем молчании. Вера, в испуге прижавшая девочку к себе, вероятно, впервые видела военных из дорожного патруля, скрипящих портупеями, яловыми высокими сапогами и расстегнутой на всякий случай кобурой, ползающих на корточках по грязному, проложенному резиновым ковриком полу, напряженно сопящих, подглядывающих в лица остолбеневших, онемевших пассажиров.
Вдруг – это походило на далекий приближающийся топот тысяч ног, заунывный вой горящих геенских свалок – Феофания испытала страх. Внутри нее что-то изогнулось – «Вера, Надежда, Любовь и мать их Феофания» – вспыхнуло огнем неугасимым и воткнулось в спину (вот сюда! вот сюда! вот сюда!), сковав затылок, горло, заложив уши клокастой мартовской ватой…
«А мраморный март-то, да и оттепель пахнет арбузами».
Бусы посыпались из рукавов, карманов и священных сосудов, барабаня по картонному днищу кузова, автобуса ли, свинячьего пересушенного бубна – дождем. Дождь должен пролиться в пустыне, где соляные копи хранят ангельское белоснежье.
– Бусы, бусы, мои бусы! – закричала девочка и начала медленно сползать с сиденья на пол, а тишайший, «началозлобный» зверь-пепел уже покрестил ее огнем, вывернув наизнанку, уже очистил ее цементной водой из своей чавкающей водоразборной помпы.
Только нитка, болтающаяся на шее и запястьях, осталась, но и она сейчас утонет в горячих пенящихся водах, бурных порожистых водах, слюнях ли.
Остроконечные завершения ручных фонарей заметались по лицам людей.
– Всем оставаться на местах! Не двигаться! – завопил один из патрульных и попятился к открытой двери.
Двери.
Вера полезла под сиденье на пол. Феофанию невозможно было поднять, оторвать от пола, казалось, что она была многотонным, расколовшимся от падения колоколом, из ее открытого рта еще доносились угасающие, отдаленные, неестественные хрипы-раскаты грома-громовержца.
– Сейчас, сейчас, – бормотала женщина, уперевшись ногой в металлический приваренный к потолку и порожку-солее поручень, пыталась перевернуть стеклянную девочку, – сейчас, сейчас, радость моя!
– Да тут ребенку плохо, – вдруг заговорили-запричитали все в один голос, – у нее, наверное, корчи приключились, ей бы сейчас в руки хорошо палки вложить, чтобы себя ногтями не поцарапала.
– Лебедев, Филиппов, сюда с носилками! – уже командовал военный, что стоял у двери, другой же вновь оказался на корточках и помогал Вере поднять Феофанию. Фонарь мешал.
– Подержите фонарь. Вот так.
Пассажиры вставали, разминали затекшие члены, нагибались в светящееся подземелье, вздыхали, будучи смятенными, удрученными. Плакали.
– А я ведь ей биноклик давал поиграть, – бормотал в растерянности мужчина, сидевший сразу за водителем, – а оно вот как вышло, маленький такой биноклик, театральный, украшенный перламутром, из ракушек выковыренным, это еще биноклик моей бабушки, а ей он достался от ее мамы, стало быть, старинный биноклик, я ведь его помню с детства, ну конечно, он был уже без стекол, весь вымазан сладостями, там разным воском или пластилином, сейчас не помню, но для игры, я повторяю, для детской забавы он был более чем пригоден, особенно славно было смотреть в него на движущиеся за окном красные мигающие огоньки, кстати, в детстве на Новый год мы всегда украшали комнату мигающими электрическими гирляндами, самодельными, само собой, – то погаснут, то зажгутся, – что столь ненавязчиво располагали ко сну, и вот… кто бы мог подумать, кто бы мог подумать… – умилился он в завершение.
Через узкий автобусный проход между сиденьями передавали носилки, на которых, как на одре, лежала укрытая одеялом Феофания, как на столе, подобная отпрыску помраченного рода, во тьме неведения пребывающего.
На столе, сделанном из дерева акации и сокрытом в Святилище подле завесы, закрывающей Святая Святых, лежали двенадцать хлебов по числу колен Израилевых. Хлебы были не квасные, но пресные, они полагались один на другой в двух рядах, по шести в каждом, и при них для каждого ряда курился фимиам. Хлебы, взятые со стола Предложения по истечении недели, принадлежали священникам, которые должны были вкушать их только в святом месте. Стол Предложения имел различные устроения в Скинии, а потом и в храмах – Первом и Втором.
Рядом с автобусом стоял железный автофургон, выкрашенный в защитные цвета, кормовые двери были распахнуты. Военные помогли поставить носилки внутрь. Слабосильная лампа-дежурка освещала здесь гулкие металлические внутренности и низкие деревянные скамейки, на одной из которых сидел, видимо, санитар в накинутом поверх шинели медицинском халате. Скамейки были привинчены к стенам и полу.
Военные помогли Вере подняться в фургон и, передав вослед узел с вещами, захлопнули двери.
– Куда едем? – санитар достал папиросу и теперь неторопливо обстукивал ее об истрепавшийся картонный манжет.
– На Маньчжурию. Знаете?
– Мы все знаем. – Он усмехнулся, затем открыл маленький слуховой люк, который Вера сначала не заметила, и прокричал водителю: – Давай на Маньчжурию!
Деловито закурил. Складывал уши, а потом вновь распрямлял их, потом вновь складывал, видимо ради удовольствия, или вспоминал лето, густые заросли по берегам бездонных, душных плесов.
Фургон дернулся и медленно пополз, выруливая с обочины на дорогу. Лампочка под потолком замигала и погасла. «Неизбежность Феофании, неизбежность нового откровения – откровенного странничества», – шептала Вера.
Ехали. Ехали. Странствовали.
Часть 3. Наводнение
Утро.
Вера старается не шуметь, но девочка уже проснулась, она улыбается, она теперь чувствует себя хорошо. Вера поправляет одеяло, которым укрыта девочка, борется с ситцевым пологом, что неустойчив чрезвычайно и подвластен разного рода дуновениям и неосторожностям, потом опускается на колени и ползает по полу, собирая рассыпанные бусы, «испещренные черными змейками арабской вязи». Спертый воздух в вертепе дает о себе знать, и для сокрушения духоты можно использовать фанерные дворницкие лопаты в качестве рипид. Они во дворе стоят под навесом или уже спрятаны в сарае. Вернее второе (спрятаны в сарае), и это хуже, потому как добыть их сейчас не представляется никакой возможности – твердь несокрушима, ключ сокровенен и неведом.
– В нашем городе довольно часто приключаются наводнения, где-то в ноябре, когда с залива начинают дуть старые петровские меха, – говорит Вера, надувает щеки, дудит, показывая, как должны дуть эти самые лохматые, потрескавшиеся меха, крутит головой, после чего мысленно продолжает свое повествование:
«Вода прибывает и стучится в гранит набережных украденным сплавом или оторванными от дебаркадеров баржами (баржи в нашем городе водят на шестах по каналам). Ураган поднимается только на третий день, и гидропланы летают, по крайней мере имеют такую возможность, до наивысшего воздушного возмущения, указывая на тонущих перевозчиков, погрузившихся по самые стремена в воду всадников и хаотично плывущих животных, скорее, влекомых по течению, ведь они добровольно покинули свои места заточения и сна. В квартирах становится сыро и тревожно, особенно первые этажи оказываются подверженными неминуемому затоплению с открывающимися створками плавающих по водостокам кивориев, приглашающих заглянуть в свои восковые внутренности и посмотреть, посмотреть, как здесь отклеиваются картинки. Ветер пробует трубы. Парадные превращаются в темные, курящиеся кухнями и дровами колодцы. К сведению: припасенный уголь имеет свойство окрашивать воду, еще уголь горек на вкус, а уголь, рассыпанный на прокаленном металлическом противне, чадит. На этом противне дети раскладывают мидии, выловленные во время затопления в подвалах, и кушают их, бросая в жаровню ломтики шоколадного ладана.
Первый день столпотворения завершается циклопическим ураганом, что сносит не привинченные к бульвару скамейки и фонари, а вода предпочитает (до поры) земляные берега, каменные низины и оставленные без присмотра деревянные клети стеклодувных мастерских Зачатьевского сорока, что недалеко от психиатрической клиники Виллие. По узким мостовым, застланным путиловской плитой, мутная вонючая жижа гонит эти причудливые сооружения-города, трещащие наудалую своими зубами-крошевом. Деревянные клети оставляют за собой горы битого стекла.
И это есть первый день.
Во второй день короеды прокладывают в повисающих обоях свои пути вверх, а вечером возможно пробраться мимо выдернутых с корнем деревьев на предмет гипотетической просушки белья на штормовом ветру, рвущем в клочья какие-то флаги. Матросы привязывают себя канатами за пояс, чтобы не стать добычей прибывших с залива гигантских жуков-плавунцов, и расхаживают по прилегающим к проспекту улицам, предупреждая заторы тяжелого вездеходного транспорта, амфибий. Другие же, к примеру, заняты закручиванием различных аварийных вентилей, оставляя после себя таблицы с надписью «проверено». Владельцы доходных домов обозревают стихию со смотровых площадок крыш.
Ветер пробует жесть крыш.
На третий день утонул мой муж Александр Сергеевич Елагин. Он проснулся в парадном, когда вода с ревом язычника, врывающегося в катакомбы-мартирии, выломала дверь и, ловко орудуя кусками почерневшего льда, разнесла металлические перила, подобные тем, на которых развешивают в целях просушки полосатые больничные тюфяки.
Пил, разумеется, Александр Сергеевич.
Елагин бросился по ступеням вверх, но окно, ведшее во внутренний двор, внезапно распахнулось, вытошнив на скользкую кафельную площадку зловонное содержимое разорванного мусоропровода.
Куски стекол еще плясали по ниспадающим, или восходящим, или еще Бог знает каким камням-ступеням.
Напрыгавшись и набегавшись вдоволь, Елагин начал горланить песни, ведь откуда-то сверху доносилась музыка, просто кричать от переполнившей его свободы – во сне привиделись угощения из вареных овощей – и вдруг запел петухом (идиот!) ку-ка-ре-ку! Захлопал руками, как крыльями, – ку-ка-ре-ку! Порыв дудящего в голосники сквозняка зачерпнул его, он закашлялся, потом засмеялся, и ледяная вода схлестнула все, что оставалось здесь, а вплывшие в парадное доски, всадники, погребальные урны и ноги коней сомкнулись, погрузив своего избранника во тьму».
Феофания ходила по комнатам и заглядывала в открытые двери.
В доме напротив женщины мыли окна. Вдруг Феофания услышала:
– Меня зовут Вера, мне тридцать три года, я происхожу из колена Маркианова, Авиевой чреды, дома Владимира, что родил Александра, Алексея и Петра-Круглеца, из Улеймы – первый, с Мирожи – второй, со Снетной горы – третий. Каждый из них знал свое и взял свое и отдал свое… Мы переселились в город с мамой, когда умер отчим.
Я умею петь, но не умею читать по губам. Отныне вдовствую, мой муж утонул тому десять лет. Мама! Мама, сегодня я привела вам внучку. Девочка, восстань и иди!
Восстает утро.
Ведь утром в черном дворе лег белый снег. Было тепло, но пасмурно. Улицы вздрогнули и вытянулись, будучи заключенными в четырех больничных мерцающих стенах. Умерли. Несколько погребенных подо льдом лакированных авто с оцепеневшими за рулем водителями. Водосточные решетки. Тротуары. На дымящихся пустырях и мигающих светофорами перекрестках за ночь выросли косматые, разнообразной формы и величины сугробы. На лестнице еще горел электрический свет, хотя уже рассвело. В ящиках, привязанных к окнам, шевелились мыши и птицы – проснулись, зевали, шелестели смерзшимися ресницами.
Пахнет керосином – бидоны разверсты.
К электричкам выходят первые пассажиры. Ранний поезд подают с опозданием, и в прокаленном на ветру тамбуре с потолка свисают клоки грязного заветренного снега.
Утро. Обнявшись, перешептываясь, заглядывая в ладони друг друга, как в берестяные ямы и земляные кузова, они называются сестрами и совершенно нечувствительно тискают друг друга: игрушечная мать и приемная дочь, старшая сестра и младшая сестра, Вера в силе и духе Феофании и больная девочка в образе Феофании, женщины, женщины не слабые, не одинокие, не изнемогающие, не заплаканные, не медленные, не молящиеся, не мироносицы, не произносящие и слова, а сильные, ликующие, улыбающиеся, поющие псалмы женщины.
Вера и Феофания таятся в окнах редкого мокрого снега. Смотрят на вытоптанный сквер, на тысяча девятьсот четырнадцатый год, на тысяча девятьсот сорок первый год, на цементный элеватор, кстати сказать, довольно-таки нелепое ампирное сооружение эпохи губернского строительства, на Академию художеств, на бетонный музей, разгороженный подрамниками, холстами из галерей, строительными бытовками и свинцовым забором.
Таятся женщины в воображении.
Таились женщины в воображении.
Таились безымянные сестры в освещенной электричеством квартире, а так как темнело рано – в три часа уже наступали паровые бессловесные сумерки, – то приходилось включать желтую настольную лампу. И тут же: на мраморном постаменте – веет, веет пермагоровским хладом отеческих гробов, на бронзовых ступеньках портика, на матового стекла искусанных «небесах», на потолке, сохранившем следы бельевых веревок и керамических пробок для лохматой обвисшей проводки, чтобы освещать Богоматерь, наступает Азия. Ханаанская ли Азия? Сирийская ли? Грязная или, напротив, выбеленная бесконечными окостеневшими солончаками до горизонта, а за горизонтом, как того и следует ожидать, возвышаются глиняные сооружения арамейских кладбищ – города мертвых и печные трубы совершенно обезлюдевших к зиме соляных заводов-варниц, нареченных синайскими паломниками «чумными могильниками». Узкие, насквозь продуваемые стеклянным ветром линии заключены в рукотворные ущелья песчаника, известняка. Дырявые, осыпающиеся стены, само собой, заколочены или заткнуты заизвестковавшимся испражнениями тряпьем.
Энцефалит.
Оспа.
Губы пересохли.
И вот мать и дочь идут по этим улицам, взявшись за руки. Минуют полузаваленные песком и камнями часовни – провалившиеся внутрь своды позволяют без особого труда оценивать и ржавые переплетения тяг. Вера и Феофания, безусловно, напуганы уходящими в гулкие недра подземелья черными сырыми ходами, однако, прижимаясь друг к другу, продвигаются внутрь по скользким ступеням, содрогаясь от сладостного предвкушения неведомого кошмара. На уровне заклеенных старыми газетами духовых окон, иначе говоря – отдушин, проплывают сколоченные из железнодорожных шпал геодезические вышки.
«Сестры» не выявляют своего одиночества, но более склонны к независимости. И вот вырастает костяной холм на спине как следствие неудачного падения с лестничной площадки.
Наконец они минуют и залы бетонного музея живописи – здесь сохранилось довольно мебели, укрытой серой, разглаженной камнями по углам парусиной. Гнетами.
После переезда с острова в город Вера с матерью полтора года жили в общежитии при мебельной фабрике. А так как никакого отношения к этой фабрике они не имели, то в конце концов их выгнали, а хромого крикливого коменданта, у которого они снимали душный, непроветриваемый угол, отгороженный в каптерке на втором этаже, и за который, кстати сказать, платили не малые по тем временам деньги, по слухам, даже арестовали.
Так получилось, что именно тогда, когда Веру выселяли из общежития, мать, до того времени молчавшая, теперь ежевечерне затевала скандалы, кричала, требовала отвезти ее обратно на остров, даже устраивала драки на кухне, но бывала неоднократно бита молчаливыми, пропахшими пиловочной мукой грузчицами из фанерного цеха. Вера плакала, умоляла ее успокоиться, а у двери каптерки собирались любопытствующие, это были, по большей части, косолапые, придурковатого вида карлицы, которых нанимали из расположенного через квартал интерната для уборки помещений. Мать сбрасывала одеяло на пол и, забравшись с ногами в постель, чревовещала, как ей казалось:
– Ты мне не дочь! Убирайся вон! Вон, падла! Ведь ты специально привезла меня сюда, ведь я вижу, вижу, как ты прячешься по углам, как ночью подглядываешь за мной, потому как хочешь меня убить, отравить!
Подобного рода истерики, как правило, заканчивались судорогами, Вера бежала вниз на вахту и вызывала «скорую». «Скорая» приезжала, но, выяснив, что старуха и ее дочь не прописаны ни в городе, ни в общежитии, врачи долго не решались что-либо предпринять, а случалось, что и поговаривали о милиции. Вера обнимала пахнущий крахмалом медицинский халат, говорила, что они завтра уже отсюда уедут, шептала, поправляла волосы, мучительно краснея, передавала санитару мятую влажную бумажку и просила помочь.
За стеной играло радио.
Однажды, после очередного «чревовещания», мать забрали в санчасть все той же мебельной фабрики.
К тому времени Вере удалось устроиться работать на почту в пригороде, в районе станции Наволочная, куда она ежедневно ездила на электричке, а ночевать возвращалась в город, в санчасть, так как другого места просто не было, а общежитие мебельной фабрики заселяли новой годичной вахтой, заселяли со строгостию, сообразуясь с пропиской и направлениями с мест.
Однако впоследствии все происходило довольно скучно и однообразно, и промчавшийся месяц даже не напомнил о себе, как будто его и не было, и до него тоже ничего не было, и никого не было. Вера уезжала рано утром, а возвращалась в город затемно, кажется, что все так и должно было происходить до бесконечности: горы писем и бандеролей, что лежали на почтовом дворе, укрытые брезентом, вечная сортировка, которая кончится, вероятно, только с последним сияющим днем мира, маленькая столовая в низеньком полуподвальном помещении, едва освещенном, вечерняя пустота электричек и узкая, спрятанная под лестницей на второй этаж кровать. Вера падала и засыпала, а в пять часов утра уборщицы здесь включали свет, гремели ведрами, будили ее до появления фельдшеров. Мать дозволялось посещать только по воскресеньям. В одно из таких воскресений мать исчезла, стало быть, это было не воскресение, а успение, исчезла тихо, так никого и не узнав, что-то бормоча себе под нос или со спокойствием ровного старческого сна. Умерла, улыбаясь каким-то своим мыслям, коридорам, дверям назад, вратам, пустым улицам, детству, выкрашенному охрой, снегу летящему, песку летящему, ветру.
На календаре как раз было первое мая, и где-то за стеной опять играло радио.
Врачи не говорили слов, были погружены в себя, словно дали обет молчания, а няньки сидели во дворе на металлических откидных креслах, некогда стоявших в фабричном клубе, и курили.
К лету совершенно неожиданно Веру прописали в городе, а от узла связи Наволочная – Воздухоплавательный парк даже дали комнату в коммунальной квартире на Маньчжурии. Тогда шло уплотнение.
Во дворе на деревьях сидят птицы. Деревья прорастают, шевеля корнями в темноте, протыкая ветками окна, раскачивая не открывавшиеся с зимы балконы. Нестерпимо пахнет горьким испущенным соком, вытекающим из прободенной коры. Недвижные заизвестковавшиеся стволы протыкают баграми и пиками стражники в лице околотошных, пожарников, восседающих на рогатых мотоциклах, в лице архистратигов и милиционеров. Спрятавшись от душного городского солнца в тени лиловой неподвижной листвы и образовав два полухория, они кричат, намереваясь напугать птиц, угрожают им, размахивая булавами кулаков.
Спрятав головы под крылья и неестественно вывернув косматые, с торчащими черными перьями шеи, птицы спят.
Неустанно.
Неустанно со стволами. День проходит неустанно.
Из старинных безразмерных кошниц, извлекаемых из таинственного подполья, на свет Божий является разного рода пыточный инструментарий, огромная двуручная пила и точильный камень-громовержец, изрыгающий снопы ослепительных горячих брызг.
«Сейчас повалим», – провозглашают стражники и, поплевав на ладони, принимаются за работу.
Тогда, два года назад, в такое же суматошное, грохочущее праздниками и пихающимися в небе монгольфьерами утро, Вера вошла в сумрачное прохладное парадное серого семиэтажного доходного дома на Маньчжурии, что раньше принадлежал какому-то военному инженеру – то ли Визе, то ли Мекк, кажется, из немцев.
Здесь было тихо и степенно. С улицы доносились далекие, капающие с готических сводов голоса. Солнце слепило, но не раздражало, оставляя на измятых гипсовыми причудами стенах и потолке углы и сопряжения крыш, расположенных напротив домов. Парадную лестницу от черного хода отделяла отчасти декорированная витражами стеклянная стена.
Вера восходила, в смысле совершала восхождение, и все двигалось мимо, открывая новые, невиданные доселе тайны: мореные балки козырьков, чугунные рельсы перил, тяжелый пол жертвенника, вымощенный путиловской плитой, медные рукояти, поручни и кружки звонков.
И вот пятидесятилетний плаксивого вида инвалид в мальчиковом френче-лапсердаке, видимо сын последних владельцев бездонной, с мраморными подоконниками подводной квартиры, открывал дверь, из которой освобожденный сквозняк вырывал хлопья ваты, ватина, воскрешал папирус протертой дерматиновой обшивки – «Вонмем ныне!» – кажется, так?
Ковыляя впереди и приглашая вослед за собой, инвалид провел Веру через длинный захламленный коридор – место упокоения призрачной прислуги, гыкающих в своей немоте помощников, огнедышащих извозчиков и влажных уборщиков в пахучих резиновых рукавицах. Открыл дверь.
– Ваша комната. – Закашлялся, спрятавшись за кулак, попытался избежать носового кровотечения. – Извольте, – прибавил, кажется, в смятении, – у вас так мало вещей, так мало…
Вера села на стул под огромной застекленной фотографией в потрескавшихся берегах багета…
– Я, видите ли, инвалид детства, страдаю разного рода душевными недугами, опять же что-то с легкими, но не туберкулез, не туберкулез, так что можете не волноваться. Врачи говорят – астма – но что они знают, эти врачи, вы меня, надеюсь, понимаете? Я так думаю, что это все наш коварный климат. Тут, видите ли, совершенно непонятно, в том смысле, что они мне говорят: «Бывайте чаще на воздухе», но зимой и особенно после наводнений на улице я буквально задыхаюсь, буквально, а еще эти пожары. Как вы думаете, будет война?
Вера неопределенно пожала плечами.
– Да вот и я тоже не уверен, по радио передают, что нет, вроде не должна, но… – тут Немец сложил ладони рупором и приставил их ко рту —…но Испания-то в огне. Кстати, вы знаете, что такое пассакалья?
– Нет, – Вера осматривала отведенную ей комнату: комната стояла в воде, кругом плавала некая античная посуда.
– Это скорбный испанский танец, у меня, знаете ли, мама, слава Богу, музицировала, но потом рояль пришлось продать – «Август Форстер» – что делать, что делать. Его провожали с почестями, завернутым в пергамент, ноты потом выкидывали из окон, своего рода анданте, когда сонатный цикл замедляется и течет неспешно, далеко слышны раскаты грома, водружают огромный сосновый крест, на перекладины которого набиты гвозди, и разрозненные нотные листы клавира опускаются на землю. Осень. На этой фотографии, под которой вы сидите, изображены моя мать и бабушка, – инвалид указал на кафельное пожелтевшее изображение под стеклом, – вот.
Вера встала и увидела мать и дочь, что смотрели на нее, – они держались за руки, они держались за руки всегда: и когда стояли на берегу залива, и когда прогуливались в старом спящем парке, и когда сидели на скамейке на набережной или в бульваре, и когда шли по улицам, линиям мимо часовен, соляных заводов-варниц, мимо арамейских и лютеранских кладбищ, мимо Академии художеств и бетонного музея, разгороженного подрамниками, холстами из галерей, строительными бытовками и свинцовым забором.
За алтарной преградой – кающиеся.
В притворе – оглашенные.
Вне музея – таинство.
Зрит.
Вера закрыла глаза: теперь все это кажется так далеко и неправдоподобно – висящий на гвозде френч-лапсердачок, валяющееся на полу детское духовое ружье с отпиленным прикладом, продавленная раскладушка и сосущий во сне палец пятидесятилетний плаксивый мальчик-инвалид.
Мурлыкать умеет и сопеть, когда кровь приливает к голове.
Инвалида звали Немцем.
Часть 4. Посещение музея
Немец запомнил то последнее посещение музея, перед самой войной. Огромный античный монстр, наполовину погруженный в тенистые заросли осеннего сада, где на монотонно скисающих газонах дозволительно было играть в крокет лишь в непосредственной близости от императорских оранжерей и лодочного павильона. Музеум неспешно накатывал на мощенную булыжником площадь свои кирпичные колонны коринфского ордера, рассыпавшиеся базальтовыми ступенями к ногам. Немцу казалось, что мама ведет его сюда, чтобы принести в жертву растрепанным мраморным истуканам. В жертву – такую бесполезную, абсолютно однообразную, страдающую малокровием и эпилепсией, способную залить слюнями и мочой чарующий Пергамский алтарь.
Они поднимались на второй этаж. Преодолевая туман и густую осязаемую влагу, привнесенную сюда в мятых цинковых ведрах рабочими подвалов с застывающего неподалеку канала, слабый сумеречный свет трогал зачехленную мебель. Мама разрешала Францу или Иоганну Гутенбергу «побегать тихонько» – непостижимая Феофания. «Побегать тихонько» здесь, где агнец сам придумывал себе имена: имя буквы – Иоганн Гутенберг, имя ночи – Альбрехт Альтдорфер, играл в горбатого, изукрашенного водяными красками Веласкеса или Гюбера Робера с его руинами забытых средиземноморских цивилизаций. Это мама всегда так говорила: «Ты можешь побегать тихонько, но только смотри не шали», а сама направлялась в зал передвижников.
Здесь практически отсутствовавшую мебель с успехом заменяли многочисленные картины и мольберты, которые можно было передвигать, двигать, ронять, уронять, поднимать и опускать, совершать наклоны и махи руками, ногами ни в меньшей степени не возбранялось совершать эти самые махи, вновь передвигать, издавая максимум всевозможного шума. Когда зажигали горние паникадила, люстры и медные бра в газовых чехлах, становилось возможным вглядываться в потрескавшуюся от времени и сырости настенную живопись: самые разнообразные бородатые портреты с руками, среднерусские пейзажи, будь то миниатюрный жемчуг «пахитонова» или трубы холстов, приставляемые к губам для извлечения соответствующего воя, туманные, вернее сказать, дымные ночи Куинджи и кровавые, разлагающиеся натюрморты в стиле Снайдерса. Немец видел картину: охотники, добывающие при помощи австрийских обкусанных штыков свои обильные агонизирующие трофеи, и мальчики в тяжелых фламандских треухах, распяливающие на деревянном станке урода, правда, пропоротого, пропоротого загодя. Из импровизированной раны на пол вываливается целая куча сырых слипшихся опилок, и потому необходимо идти за ведром. Затем мальчики валят чучело на пол и при помощи подвернувшейся по случаю «общепитовской» тарелки, что обычно подставляют под цветочные горшки, собирают разбросанные в беспорядке внутренности и засыпают их в курящиеся недра, чем-то напоминающие тайники дровяного сарая на задах ловчего двора. Охотники приветствуют и празднуют, готовятся к следующему гону. После чего один из них забирается на поверженного таким жалким образом урода с ногами и утаптывает образовавшийся, хрустящий опилками мохнатый горб. Провозглашает: «Кюрие елейсон!», «Исполай деспота!», «Достойно есть!»
Антресоли музея заполняли мучнистые, мучимые извечной астмой хористы, известные по выступлениям в Мраморном дворце и Эрмитажном театре. Известь, бумазея, белила скрывали подтеки потолка – тут было уже совсем близко – подтеки на лицах. Некоторые из музыкантов, настраивавших свои инструменты (здесь, в тесноте конх и парусов), довольно-таки виртуозно орудовали всякого рода клапанами, колками и янтарной канифолью.
Слушатели «сезонов» отсутствовали.
Немец, будучи столь внезапно погруженным в настроение одиночества и вседозволенности, еще какое-то время стоял в нерешительности. «Нет, так не бывает!» – ведь он уже приготовился плакать и просить, просить рабочих, просто умолять раешников-смотрителей не отводить его куда-то в район дворницкой или на зады гардероба – местность «заозерская», – куда набрасывали побитые осенними заморозками листья и яблоки из сада и оранжерей. «Нет, нет, так не бывает!», когда бы некто отвел-таки руку приготовившегося к жертвоприношению, и угощал бы его потом, и привечал бы его, и ублажал бы нестройной музыкой, и умывал бы ноги, и застегивал бы сандалии.
Немец подходил к окну. Бесспорно, поднебесные потолки и сдобная терракота, затаившаяся в корытцах экзотических кивориев ниш, со всей значительностью гудели невесть откуда взявшимися сквозняками, разносили, не без натуги духовных орудий, всякий ничтожный звук: будь то шаги или треск горького навощенного паркета. Немец даже вздрогнул, когда за мамой захлопнулись огромные дубовые, инкрустированные пасхальными звездами, двухстворчатые двери-ворота.
Немец подходил к окну…
Немец подошел к окну: в глубине Михайловского сада, преодолевая анфиладу деревьев, комнат, заболоченных низин (благо город стоит на топях) павильонов, деревянных вольеров для почтовых голубей, потуреченных славян в лице болгар, боснийцев с тем же успехом, обрусевших совершенно корейцев и ингерманландцев, возносились замшелые мраморные изваяния, разглядеть подробности которых, в связи с надвигавшимся с залива туманом, становилось с каждой минутой все более затруднительно.
Несколько солдат сгребали опавшие листья в кучу. Солдаты лениво переговаривались.
По-другому: предчувствием военных действий несколько солдат, несколько угрюмых спивающихся саперов (у них даже было прозвище «землеройки»), сгребали граблями в огромную, кадящую прелыми бинтами, желатином и аптечным фронтом кучу ветки, опавшие листья, скошенную почерневшую траву. Солдаты лениво переговаривались, однако закурить или, к примеру, разорвать бумажную упаковку нюхательного табаку, дабы ублажить горячие глубины поднятых воротников, не решались.
Немец вспомнил, что, когда он был еще совсем маленьким и они с мамой и отцом жили в гарнизоне где-то под Псковом на торфяниках, точно такие же солдаты, правда вооруженные палками, ходили ночами по пустым, освещенным газовыми фонарями улицам, охраняя ночные смены от собак. Тогда лютовали своры и с первыми зимними сумерками давали о себе знать прерывающимся каркающим лаем, что разносился над всем низкорослым, проваливающимся в топь, клубящимся цинковыми тучами до самого горизонта редколесьем.
«Нехорошее это место, я бы сказал, плохое какое-то, тут даже летом, в том смысле, что световой день долгий и рабочие на торфозавод приезжают, все равно что-то томит, ну настораживает, пугает как бы, и лес шумит по-особенному, не то чтобы зловеще, нет, а просто воет, как если бы толстенная промасленная струна металлического троса, каким стягивают вязанки пиловочника на лесобиржах, издавала бы глухой волчий вой, гул, сотрясая воздух. Тревожно, в общем, да еще эти собаки. Я же говорил: нехорошее это место, плохое какое-то…»
Посещение музея всегда было чрезвычайно кропотливой церемонией разоблачений, переоблачений и облачений. Например, когда речь заходила об Этрурии и окрестностях старого Рима, мама Немца торжественно назначала хитоны, шитую вязь и пахнущие прачечным крахмалом свитки. Отец же более любил Византию и уж на крайний случай восточные темы Верещагина, где кустодия при вратах или скачущие конногвардейцы под крики «ура», «виват», «виктория», «за веру, царя и отечество», «с нами Бог» и прочая и прочая.
Удалые.
Фуражки и папахи с ремешками под подбородок.
Благо Конюшенное ведомство располагалось рядом, проступало сквозь опустевший сад своими распластанными по набережной Мойки сооружениями.
Сквозь сад дымный. Надвратный храм Воскресения.
Через два месяца после объявления войны музей закрыли.
* * *
– Вот, девочку привезла, – Вера попыталась улыбнуться.
– Хорошая девочка… она спит? – Немец осторожно прикоснулся к одеялу, в которое была завернута Феофания.
– Хорошая девочка, хорошая… она просто не шевелится, корчи, знаете ли, приключились, но врачи говорят, что это пройдет, видите, она уже открывает глаза и смотрит на всех нас, не узнает, но это естественно, откуда же она нас может знать? Вот посмотри, деточка, это – Павел Карлович, а я – Вера, твоя мама. Ты меня узнаешь? Смотрите, смотрите – узнает, уже узнает, а ведь мы познакомились совсем недавно! Все будет хорошо, да? Все будет хорошо! Сейчас мы помоемся, переоденемся в чистенькое, будем угощаться, а потом и спать.
Феофания пытается что-то сказать. Ничего не понятно: гул ветра или вой.
– Вы не могли бы сходить за кипятком для Феофании? – Вера протягивает Немцу плоскую армейскую флягу, оставшуюся еще с войны. – Опять керосин кончился, а мне ее купать перед сном.
Пауза.
Немец ждал трамвая на насыпи.
И вот Немец ждет трамвая на насыпи, потом бежит вослед, скользит, но сохраняет равновесие, догоняет проворно, вступает в тамбур-притвор, садится у окна на обитое вагонкой скользкое железное сиденье. За окном падает медленный тяжелый снег, подобно тому как завершали бы свое падение хлопья мерзлого песка, ваты, горячего сахару, армейского ватина, обломки механизмов и Бог знает чего еще. Скамейки и турникеты уже почти неразличимы, погребены в сумерках черных деревьев, кажущихся декорацией: такими далекими, отстраненными, оцепеневшими.
Одинаковые. Аллеи.
Мокрый, блестящий редкими уличными фонарями асфальт имеет возможность источать густой известковый пар, что вырывается из-под канализационных люков, в стыки и щели которых годами забивались трава, листья, проволочные цветы, бумага и стекло.
И вот наступила остановка. Через вытоптанный сквер Немец вышел на «маклина», затем миновал низкий, едва заметный в движущейся вниз темноте мост.
Смотрел на чугунные перила, на медные рукояти дверей парадных, на подземные бойлерные, на туманный желтый свет в окнах кухонь, где к Новому году писали пальцами на запотевших стеклах – «тысяча девятьсот четырнадцать» или «тысяча девятьсот сорок один», на бесконечные, теряющиеся где-то в районе залива линии – вот опять хлопнула далеко металлическая дверь лифта, и свет погас.
Сам не зная как (Немец завязывал глаза шарфом, дабы ходить в темноте), он очутился в глухом внутреннем дворе Академии художеств, снег здесь не рушился вниз, но неколебимо висел в воздухе.
Кипятильный бак располагался на проспекте рядом с деревянным павильоном водопойки, каменные, вариант – чугунные, раковины которой были теперь превращены в мусорные урны, обнаруживая гниение. Растоптанный возле крана уголь предупреждал скольжение, и топка была закрыта. При помощи рукавицы, чтобы не обжечься, Немец повернул вентиль, запахло паром, накипью и далекими призрачными угощениями – трапезой с «многоразличными яствами», капустой ли – подставил флягу, по дну которой забарабанила тонкая вихляющая струя кипятка.
Немец огляделся, он даже прошелся вглубь, вдоль череды деревьев с их алюминиевыми ветвями (снег валил не переставая, скорее, он даже усилился), затем вернулся, затем ходил по разнообразным путям, наваленным гробам соловецких раскорчеванных шпал и пологим холмам путейского гравия. Рассказывали, что, когда горел «шанхай», его Сова поджег, стоял такой неимоверный треск шифера, будто бы стреляли из автоматов очередями в ночное небо.
«Испугались?» – не то слово!
Стало быть, опять облава, конвой из портовой комендатуры на грузовиках, бешеные, рвущиеся с цепи овчарки, и полы будут вскрывать. Но когда узнали, в чем дело, естественно, дали отбой и со спокойным сердцем вывалили на улицу смотреть на мечущееся в морозном воздухе зарево и расчерчивающие горизонт крыш и шпилей брызги осветительных ракет. Все это напоминало похороны «Костромы»: Пылающее Дерево, казалось, опрокинуло кручу, выплевывая из обуглившейся сердцевины струи воздушных углей, зашаталось и со страшным треском и шипением рухнуло в воду, источая в ночное небо густой кислый дым, запечатлевая низкие берега, замшелые камни, песчаные уступы и рыб расплавленной кипящей смолой. Потом, само собой, приехали пожарные, пытались потушить адское пламя, разматывали кишки рифленых шлангов из прорезиненного брезента, ставили водоразборные, выкрашенные красной краской колонны, но все это оказалось совершенно бесполезным занятием, потому что (и этого все ожидали) взорвался старый деревянный гараж, где хранился бензин, и «шанхай» выгорел почти целиком.
Автомобильные фары осветили Богоматерь.
Шаги.
Голоса.
Энцефалит.
Оспа.
Опять шаги – «Глас осьмый». Ближе.
Немец бросился бежать, когда совсем рядом послышалось сдавленное дыхание и топот сапог. Гигантский кипятильный бак, как доисторическое животное, пронесся мимо в темноту своими размытыми паром очертаниями. Свет прожектора пересек тротуар и застыл на месте, вздрагивая в такт гулким кашляющим хлопкам глохнущего двигателя.
– Уйдет! – истерично завопил кто-то из конвоя, скинул с себя шинель и, передернув затвор пистолета, принялся целиться с двух рук, однако наткнулся на движущуюся снежную мглу. – А-а! Черт!
…Оторви латунные пуговицы! Укройся рукавами! Укройся с головой! Удавись на колючем воротнике! Это у него припадок! Это у нее припадок! Позови! Позови меня! Да нет, не меня, а угрюмых санитаров! Во зеленом бору рыла злые кореньица! Санитары едут на старой, пропахшей рыбой вахтовой машине! Мигают огоньки! Сыпала я злые кореньица в зелено вино! Семь санитаров! Семь! Семь санитаров! Семь! Поешь снегу! Провались под лед! Утонул добрый молодец во Москве-реке, Смородине! Умри, замри, воскресни! Растопчи шинель! Собаку-то переехали! Старика задавили! В нашем городе довольно-таки часто приключаются наводнения! Укройся рукавами на глаза! Не видь! Не видь! Усни! Кому говорю! Усни! Спи! Кому говорю! Спи! Милиционеры едут на мотоциклах! Они бросили голову в Волгу-матушку реку! Взыграй ребеночком! Феофания, взыграй, девочка, взыграй! Укуси его за ножки! За пяточки! Взойди на дерево – ну там, разные ветви, кущи, дебри – иначе говоря, лиловые листья! Позови! Позови меня! Да не меня… Семь санитаров! Семь всадников грядут: из тумана выезжают, с высокой горы съезжают! Семь! Семь мучеников Кизических!
Немец услышал это. Он что-то кричал в ответ, бежал – разрывал себя, бросал себя – не чувствуя ног, превратившись в сплошной паровозный грохот страшных механизмов внутри головы, поскользнулся на водосточной решетке, упал и вылетел по обледенелому парапету из светового столпа прожектора, привинченного к коляске мотоцикла.
– Ремни на пол! Лицом к стене! – орал конвойный. Он перемещался вдоль бараков, где в выстуженных тамбурах выламывали стены, а собак спускали с брезентовых поводков и забрасывали в выбитые окна перегороженных ширмами фанерных купе.
Теперь Немец увидел, как, замыкая линию со стороны набережной, гулко перегазовывая, из подворотни медленно выехал грузовик комендатуры. Запахло резиной и бесформенной промасленной фуфайкой, распяленной на радиаторе, может быть, это было даже и войлочное одеяло, или матрас, найденный где-нибудь на задах автобазы, где возлежат кузова и кабины поливальных машин.
В нишах. В пещерах. В алтарях. В кивориях.
Немец успел зацепиться за чугунный турникет и буквально втянул себя в полутемное кафельное парадное. В ту же минуту автоматная очередь, ударившая из высокого укрытого тентом кузова, на куски разнесла деревянную, обитую дерматином дверь, наполнив каменную гортань запахом прелой щепы и летающими на сквозняке клоками свалявшейся ваты и пухового армейского ватина, из разодранного заточения выбравшихся.
Конвойные балуются…
* * *
Музей.
Мама возвращалась из зала передвижников и находила своего сына в слезах, сидящим на полу. Посещение музея заканчивалось столь неудачно, притом что отец – человек военный и строгий – не любил соплей в подобных случаях, он произносил одну и ту же фразу: «Ты же мужчина, будущий солдат» и после этого замолкал надолго.
На другой день отец, отверзнув наконец свои уста, добавлял, но уже без прежнего учительства, скорее утомленно, по инерции: «Больше, друг мой, ты в музей не пойдешь, если не умеешь себя вести как подобает…»
Мама молчала и гладила сына по голове. Однако, как известно, через некоторое время объявили войну и музей вообще закрыли, так что слова отца (его запрет-прещение) стали в известной степени пророческими.
Часть 5. Параклит
В путешествие к Параклиту отправились весной, где-то в начале апреля. Зимой с Феофанией случилось еще несколько припадков болезни, и соседи по этажу, выходцы из боровских старообрядцев, переехавшие сюда год назад, спасаясь от разора и грабежей, посоветовали отвезти девочку на источники в пещеры Параклита.
На почте Вера, разумеется, не сказала, куда собирается, просто взяла отпуск за свой счет, притом что довольно долго упрашивала отпустить ее, а отпускать не хотели, мол, почты много идет, работать некому, но, в конце концов, с превеликим нежеланием подписали прошение. «Только на неделю, и чтобы в следующий понедельник – как штык!» – сказал чиновник, провожавший Веру до дверей конторы отделения связи – сургучного царства, где звонят телефоны, а за стеной стучат телеграфные машины.
Раньше было так: когда Вера уезжала на работу, с Феофанией оставался Немец. Сначала он боялся ее. Девочка по большей части молчала или разговаривала сама с собой вполголоса, на вопросы отвечала неохотно, постоянно нарушая тишину добровольного заточения однообразными сухими покашливаниями, к тому моменту она значительно похудела и плохо выглядела. Немцу казалось, что он видит перед собой закутанную в набивное одеяло женщину, волосы которой растрепаны, а пересохшие губы шепчут какие-то неведомые имена – имена осени и дождя, имена ветра и пара, имена ночи и дня, имена натужного дыхания легких.
Так и день проходил незаметно. С утра к Немцу приходили ученики. «Здравствуйте, Павел Карлович», – говорили они. Раньше Немец преподавал в островной школе, но школу закрыли по причине ремонта и затопления цокольного этажа грунтовыми водами, учеников перевели в здание бывшего ремесленного училища неподалеку от причала, и он был вынужден давать уроки немецкого языка на дому.
Учеников было двое: высокий худой мальчик по фамилии Лукин и плотный, бритый под полубокс гимназист Арефьев. Занятия тянулись до обеда. Павел Карлович рассаживал мальчиков за круглым столом, укрытым плотной шерстяной скатертью, видимо, перешитой из гигантского платка с кистями. Здесь же стояла маленькая походная чернильница и примкнутые к мельхиоровому лафету перья.
Надлежало спрягать глаголы «отвлекать» и «происходить». Лукин, тщательно разгладив тетрадочные листы, с сопением приступал к делу, Арефьев же, напротив, тупо чесал колючий рогатый затылок и, поочередно приподнимая ягодицы от табуретки, на которой сидел, нарочито тужился, чтобы пукнуть, что, кстати сказать, ему и удавалось без особого труда. Тогда Немец скорбно произносил, усматривая в этом некий ритуал: «Александр, выйдите в туалет, пожалуйста». Этого-то Арефьеву и было нужно, он вставал и, изображая тоску от предстоящих колик в темнице, выходил в коридор. Однако Павел Карлович слышал, как мальчик крался мимо шкафов и прочих архаических сооружений, специально не включая свет, затем приоткрывал дверь в соседнюю комнату, чтобы подсмотреть за Феофанией, набирал полный рот воды из-под крана, смешно таращил глаза, страшась захлебнуться, и наконец извергал потоки на пол и свою гимназическую форму. Девочка улыбалась и пряталась под одеяло.
Задание так и оставалось невыполненным.
Потом Павел Карлович провожал учеников до двери и говорил, что непременно сообщит родителям об их успеваемости. Арефьев садился на пол, обувался, мычал, скрывал следы разочарования, потом выходил на лестничную площадку и там раскланивался. Но Лукин еще долго топтался около вешалки, на улице было промозгло, и он изучал висевшую на деревянных лакированных плечиках офицерскую шинель с высоко подвернутыми валяными рукавами и войлочным, прошитым вручную воротником: «Тепло, должно быть!»
Приходилось ждать.
Приходилось восхищаться.
Мальчики пробирались в шахту черного хода и, устроившись у ребристых горячих колонн парового отопления, закуривали.
После обеда Немец выводил Феофанию во двор. Ему тоже прогулки были необходимы.
Сначала Феофания плакала и отказывалась гулять с неизвестным стариком, так ей казалось – «стариком», но со временем неожиданно покорно позволила себя кутать в платки и облачать в длинный тулупчик, сооруженный из старой, вывернутой наизнанку цигейковой кошницы для муки.
Сквозь стеклянный потолок светило прозрачное мраморное небо марта.
Павел Карлович и девочка выходили на улицу и медленно шли в сторону Шкиперских проток к Смоленскому кладбищу по уложенным каменщиками гранитным плитам мостовой. В полдень становилось достаточно тепло, и с крома к подолу устремлялись потоки талой воды, потому как грязный снег трещал и проваливался в блестящие на солнце решетки городского подземелья. Каналы, потоки, плесы, ручьи и местночтимые источники, именуемые «тучей», низины и высохшие со времен прошлогоднего паводка поймы, брошенные лавы и курящиеся горьким паром свалки старых чугунных колонок, что стояли когда-то на месте водоразборных скважин. Видно.
И уже вечером, перед тем как укладывать девочку спать, Вера спрашивала: «Где же вы сегодня гуляли?» – «У Ксении», – отвечала Феофания.
На станцию Параклит приехали затемно. Когда все вышли из вагонов, свет выключили, и мотовоз поволок состав в депо.
Дорога шла через лес.
Спустившись с платформы, женщины оказались под мостом, в продуваемом насквозь бетонном килике с обколотыми и закопченными горевшими здесь покрышками краями. Высокая железнодорожная насыпь прятала свет фонарей, гудела сложенными неподалеку кабинами путевых кранов и рельсоукладчиков, кадила цементными воронками, в которых, как правило, варили луковую шелуху для раскраски пасхальных яиц.
Летом отсюда до поселка было километров пять пешком мимо складов торфозавода и бывших ямских изб, теперь наполовину расселенных и заколоченных, а наполовину занятых приблудными цыганами. Густая лиловая трава медленно шевелилась под ногами, лениво перетекая из оврага в овраг, прячась в непроходимых проволочных зарослях орешника и замшелых пятнистых валунах Дышащего моря. В этой душной парной глубине-теснине трещащих цикад и гула шмелей слабый ветер с горовосходных холмов стекленел в небе.
В небе.
С обрыва вниз валились плешивые, выцветающие картоном пригорки, разбегались и, становясь в низине, в заросшей пойме реки незаметными, проваливались в зеркальной трещине воды.
С горы вниз катали и вагонетки с торфоразработок, их туда затаскивали по обычаю на Светлый Праздник. Ката ли – сезонные рабочие из поселка – разувались, оставляя ботинки и сапоги у подножия горы, ходили некоторое время по апрельской студеной грязи босиком, дабы привыкнуть, а затем с криками, смысл которых разобрать было невозможно (подбадривали, подзадоривали себя), впрягались в вагонетку и волокли ее наверх. Затащив же на размытый гребень горы и нагрузив ее, чисто символически опять же, по обычаю – крашеными пасхальными яйцами, сталкивали вниз. Катали бежали рядом, по крайней мере, старались это делать, скользили, размахивали руками, смеялись, загадывали желания, пытались ухватиться за ржавые, торчащие жабрами поручни, обжигались, страшились низины, до которой было еще очень далеко, а железные колеса только и набирали грохочущую скорость – «Весело, ой, весело мне!» – и все тут!
Вот все это пространство, обозримое с вышины насыпанных куч песка, мусора, гравия и земляных городищ, которое заполнял гул далеких громовых раскатов, или это гремели-чревовещали желтые поля-ванны с кряжистыми ветлами, увешанными римскими крестами и фибулами, цатами и венцами, империей и бармами, или это сыпался, барабаня по крыше, жемчуг для глаз, для стеклянных глаз, для глазниц их – говорю: для серебряных спиц дождя.
В равнине подбрасывали тяжелый заточенный кол и ждали, пока он упадет и воткнется в землю, а потом бежали, кто быстрей схватит его и прокричит: «Христос Воскресе!» Мычали (судороги, судороги), угощались яйцами, скорлупу складывали в карманы и за подкладку – корм пригодится, – а ногам становилось даже жарко и обуваться не хотелось.
Женщины вышли на дорогу, по обочине которой стояло несколько тракторов для прокладки зимника. Раз в неделю трактора ходили через лес друг за другом чередой, разваливая снег в разные стороны устроенными наподобие волноломов ножами. Горы. Теперь снег почернел, а колеи, оставленные гусеницами, превратились в нескончаемые, заполненные талой водой дренажные канавы. На станции Вере сказали, что по зимнику до скита ближе, потому как не надо заходить в поселок и делать при этом изрядный крюк. Бараки должны были остаться справа за перелеском и, скорее всего, о них можно будет узнать по лаю собак.
До скита вместе с Верой и Феофанией собрались было идти еще женщины, приехавшие на этом же мотовозе, они тоже спустились с платформы вниз под мост, тоже узнавали у местных, как тут пройти способней, даже соблюдали известную строгость и подтягивали заплечные мешки, по преимуществу солдатские брезентовки, тоже вышли на путь, но, увидев черную стену леса, к которой через поле уходила разрытая тракторами дорога, решили идти на следующий день. «И вам советуем, – говорили они. – Пойдем завтра все вместе, а сегодня на вокзале переночуем». – «Нет, – Вера брала Феофанию за руку, – нам сейчас нужно идти, чтобы хотя бы к окончанию службы поспеть. Тут недалеко. Мы пойдем. Да?» – Вера смотрела на Феофанию. Та боязливо кивала головой в ответ.
В лесу кто-то жил.
В равнине подбрасывали тяжелый заточенный кол к небу.
В лесу кто-то жил, выглядывал из-за стволов, покусывал кору деревьев, оставляя на ней мокрые, сочившиеся сочивом следы. Коливо приготовили и покушали его, и стало сладко на губах. С ячменем. С солью. Ветер производил шум, приподнимал косынки, заглядывал туда, видел черные водоросли-взвесь. Вера поправила косынку Феофании, чтобы, не дай Бог, не продуло. По поваленным вдоль колеи гниющим бревнам-валежинам расхаживали птицы, наклоняли головы и прятали их под крыльями, где грели горячие клювы-камеи. Они, наверное, знали о своей добыче, в смысле жертве, предуготованной для страшных кафельных недр препараторской, где включают свет и выключают свет, включают свет и выключают свет.
Остановились перекусить.
Положила луку.
Расстелила набивной коврик, оставшийся еще от мамы, что всегда брала с собой, здесь же образок «Узорешительница», камешки-грузила и нательные крестики.
Вера часто вспоминала, как в детстве на Пасху женщины рассаживались по берегам реки, окунали в ледяную мчащуюся воду изукрашенные, набивные ветошью коврики, точно такие же, какой сейчас был у нее, – половики, покрова воздуха, полотенца, пелены. Затем расстегивали кацавейки и юбки, снимали платки и, запрокинув головы так, чтобы не мешали волосы, не путались во рту кислицей-травой, льном ли (вот и покушала, вот и покушала), начинали петь. Пели долго, забывая слова, вспоминая слова и путаясь в однообразном мотиве-посохе. Полосе. Ораре.
Вера, тогда еще маленькая девочка, ходила между ними, но ее не замечали, потому что многие даже закрывали глаза ладонями или, предположительно, не видели ничего вокруг, прятали глаза под чешуйчатой пленкой насекомых, рептилий, как, впрочем, и превращались в недвижные, блестящие на солнце панцири насекомых, рептилий.
Потом приходили рыбаки, очевидно, шли проверять ранние верши, плетенные из топляка морды, окликали женщин: «Пора! Пора!» Тогда все оживало, и даже слышался смех. Женщины вставали, отряхивали одежду и уходили в поселок, оставляя на берегу сушиться ядовитое шитье платков и полотенец. И это уже поднимавшийся к вечеру ветер мог сорвать покрывала, понести их и бросить в воду, где они мгновенно набухли бы корой и поплыли вниз по течению, имея, впрочем, возможность обрядить камни и древний затопленный сплав.
Ночью, согласно народным поверьям, было принято ходить по дну вдоль берега в белых холщовых балахонах и с распущенными волосами, освещая себе путь фонарями. Девочки очень боялись этого выбора, но и томились по нему, и Вера даже помнила, как одна из них утонула, провалившись в невидимую под черной водой яму-нору. А в норе жил сом. Рассказывали, что он взял себе таким образом невесту, приняв ее белое облачение за освещающее подземелье разлившееся молоко. Он – блуждающий в бесконечных улицах днищ, причалов и дебаркадеров, заросших грибами, ртами ракушек со слизью, само собой, и дымящимися мхами (сказывалась близость севера). Потом несчастную избранницу князя пытались найти, чтобы впоследствии предать всем подобающим языческим почестям, но – тщетно.
С тех пор Вера страшилась заглядывать в воду.
– Нам еще далеко идти? Я устала, – Феофания дергала Веру за рукав. Женщина вздрогнула:
– Да нет, уже совсем рядом. Вот и бараки миновали, там собаки лаяли.
– Это не собаки, а лисы, – поправила девочка, – ну хорошо, идем дальше.
Действительно, успели к окончанию вечерней службы. Вера сама толком не знала, почему надо успеть к окончанию вечерней службы, но ей так посоветовали, чтобы кого-нибудь застать и попросить помочь с устройством в гостинице, ведь утренники были еще холодными, а порой даже выпадал снег и ночевать во дворе на скамьях было невозможно.
Из открытых дверей пахло дымом, в притворе никого не было. На деревянных ящиках, приспособленных под ленивое торжище и обернутых газетами, лежали листки с оттисками молитв и дешевые, с загнутыми краями, образки Николая Угодника. Из маленького глухого окна было видно, как фонарщики забирались на столбы и тушили слюдяные коробки, погружая аллею, ведущую к источнику, в темноту. На поясах фонарщиков поблескивали металлические, начищенные песком колпаки-гасилки. Так и ученики-непослушники, прогуливающие классы, взбирались зимой на деревья прямо в коньках, прикрученных сыромятными шнурами к валенкам или коротким тяжелым сапогам.
Довольно долго никто не выходил, и Вере с девочкой пришлось подождать попечительства, организованного для приезжающих на источники паломников. Феофания даже присела на маленькую печную скамеечку у входа, неизвестно откуда здесь взявшуюся, и задремала.
Мальчики во дворе пронесли дрова. Несколько раз стукнула колодезная крышка, и мятое, перепутанное цепью и проводами ведро ушло в скважину.
Попечителем оказался странник с бородой и усами. Он вышел из дверей и поклонился девочке и женщине, затем кому-то погрозил во дворе в темноту, затем улыбнулся и поздоровался. На попечителе был надет высокий, наглухо застегнутый до самого подбородка сукман, перепоясанный тонким наборным ремешком-змейкой, напоминавшим уздечку, украшенную гнутыми медными ритонами и монгольскими божками.
Вера торопливо-сбивчиво, не слыша себя, рассказала о причине своего приезда – «нашего приезда» – она указала на Феофанию. Старик-странник, в конце концов он казался стариком, внимательно слушал и кивал головой в ответ. Мимо пронесли маленький колокол, и попечитель, обратив на это внимание Веры и Феофании, заговорил: «Дело в том, что на время службы несколько колоколов, и этот в том числе, который вы имеете возможность видеть перед собой, по имени Коприй Печерский – за его южнорусское, лаврское происхождение, – приносят в храм таким образом, а именно: продев в проушины обтесанный и тщательно высушенный сосновый кол. За неимением места мы храним колокол в подвале общежития».
Процессия вышла на улицу и, миновав несколько дровяных сараев, где мальчики-послушники укрепляли прошлогодние черные поленницы, двинулась через аллею к общежитию. Вера держала Феофанию за руку. Впереди шел старик-странник и объяснял: «Вы не волнуйтесь, он сейчас не зазвонит, потому что язык хранится в алтаре в храме, но и там спрятан под замком в особом заветном кивории. Все дело в том, что его туда сослал отец наместник».
– Сослал? – Вера не поняла, что значит «сослал колокол». Теперь странник погрозил колоколу и проговорил:
– Потому как прекословил голосом, вот отец наместник и лишил его языка, сослал Коприя Печерского в подземелье.
Феофания упала, видимо, зацепившись в темноте за корень, их здесь было много – корней, что прятались в хвое, втыкались в глину. Однако встала сама, Вера даже не успела ей помочь. Отец-попечитель осведомился об усталости, о ботинках, о горьком воздухе смолы, о перевязанном бумажной веревкой узле с мешковиной, холстом, дарами ли, о болях, о корчах, часто ли приключаются, о больнице (не доверял), иногда и о войне, в которую не верил, в том смысле, что не мог предположить подобного, о дороге, о станциях при дороге, о городе, последний раз он там бывал лет десять назад, о пище, само собой, разговор получился о луке (Вера обрадовалась), траве-кислице и пасхальных яйцах, о глине, о цементе, о босых стопах, любят ли тепло, о камнях-следовиках, встречающихся на Токшинских топях, о суровье и балахонах из суровья – власяницах, об имени, о том, соблюдает ли мясоед, сыропустную неделю и строгости, о молитвах, о кипятке, о керосине, об угле, дровах и запахе ладана, о Смоленской Иконе Божией Матери Зосимовой пустыни в поселке Арсаки Александровского района Владимирской епархии, о чудотворениях, о кованых окладах, гвоздях и разваренной пресной пшенице, которую прежде должно было сутки размачивать в воде, – тошнило, о сахарной жженке – тошнило, о кирпичной или железной печке и ребристой колонне парового отопления. Феофания знала ответы на все вопросы, воображала себе разговор со странником-попечителем там, где так сладко начинала болеть голова. На горе.
– Пришли! – хором провозгласили послушники, несшие колокол, и добавили: – Пойдем укроем его в подвале.
– С Богом! С Богом! – засоглашался старик с бородой и усами, затем, обернувшись к Вере и девочке, пригласил жестом. – А нам с вами наверх.
Скитское общежитие находилось в странной архитектуры двухэтажном каменном здании, к парадной двери которого вела необъяснимых размеров циклопическая лестница из «Луксора», прятавшаяся в узком коридоре оштукатуренных, местами обколовшихся, а местами расслоившихся коростой перил. Раньше здесь находилась церковь Льва Катанского, которую закрыли, переоборудовав сначала в спортивный зал, затем – в котельную и наконец – в угольный склад, ведь нынешний вид общежития только и благовествовал, только и дудел в трубы незамурованных дымоходов зимой и осенью: по ночам – по ночам, по дням – по дням.
Днями.
Ловили рыбу и речных животных в пруду.
Под водой наступали тихие сумерки.
А Феофания забралась внутрь колокола и, повиснув на стальном кольце наподобие языка, раскачивалась, ударялась коленями в медные стены. Гудело.
Гудела. Глухо.
На следующее утро было солнечно. Из-за туч осветило местность: бесконечная равнина, увитое ночным инеем редколесье пойм и развевающиеся на ветру ленты сохнущей и вновь исчезающей земли, ленты бинтов и мантий, в которых путается тучегонитель, размахивающий своей кипарисовой рипидой, вертеп-клавесин святой Цецилии звучит далеко и прозрачно.
Вера проснулась от яркого солнечного света, который заливал зал в общежитии, куда ее с девочкой поселил старик-попечитель. Вот и вставать пора.
На источнике собрался народ. Это был крестьянский праздник по лунному календарю – урожая, начала весны, трех братьев-царей Каспара, Мельхиора и Бальтазара или что-то в этом духе. В год тринадцати лун можно было ожидать большего, как то: освящения воды, предсказаний и толкований многословных пророчеств, которые, закрыв влажные мигающие глаза, выпевали с амвонов серебряные старцы, совершали знамения, орошая при этом из широких шитых золотом поручей стены и дома ветхих молелен мелким жемчугом, гранатовым камнем, бирюзой ли. Называли себя Макарием Египетским, Антонием Великим, Нилом Кавасилой в одном лице.
В трех лицах.
Испугавшись то ли предстоящего события, то ли просто говорливой разноцветной толпы, Феофания заплакала. Однако тотчас же к ней наклонились взрослые крестьяне и паломники и принялись успокаивать, а дети, коих здесь собралось предостаточно, улыбались, показывали пальцами на смешную, выпятившую нижнюю губу плаксу, но и давали подержать красивые мохнатые веточки пепельной вербы. Вскоре появились священники, среди которых Вера узнала отца-попечителя, притом что нынче он был без бороды и усов, видимо, сняв и оставив их в келии, но то, что это был он, а не кто иной из немногочисленной братии скита Параклита, у Веры не было никаких сомнений.
Провозгласили Великий Вход и подношение кропила-иссопа. Мужчины сняли шапки, заговорили полусловами, словами наоборот, словами-смыслами, словами-началами, замолчали разом, примостившись на пуках прошлогодней лежалой травы для свершения поклонов. Сначала запел молодой ангел в чине воина, охраняющего врата, а потом и все женщины подхватили тонкими визгливыми голосами, образовав нестройный хор.
Кропило оказалось сухими шелестящими зарослями, из которых выглядывали звери и птицы, собиравшие насекомых у себя в крыльях и поедавшие их, внушительно тряся при этом тяжелыми зобами речных сборщиков. Баскаками были. Монгольцами. Окунание производило в зарослях должный переполох и возмущение. Что само по себе напоминало наводнение или проливной тропический дождь в кущах, выяснить направление которого нет никакой возможности. Послушники вывели к источнику трех мальчиков, скорее всего и символизировавших Каспара, Мельхиора и Бальтазара, и окропили трех славных избранников из медного потира, который вынес и воздвиг у себя поверх куколя Никодим. Затем мальчики-цари стали ходить между людей, и все им подавали милостыню, а они кланялись и надевали черные шапочки-скуфейки, полные денег, на голову.
Странник-попечитель, заметив в толпе Веру и Феофанию, поманил их к себе, словно бы помнил о них всю ночь, строго соблюдая молитвенное правило, зная полунощницу.
Знал полунощницу.
Девочке вздумалось поиграть с ним, потому что все мальчики, которых она помнила по больнице, «ходили под себя» и пытались скрывать это от врачей и нянек, мучительно тужились, надували щеки, краснели, правда, безуспешно. Она присела на землю и принялась разворачивать цветные фантики, прежде изуродованные ногтями, лиловую пачкающуюся фольгу, которой и натирала потолок, нёбо то есть, пластмассовые пуговицы воровала из животов больничных подушек, трогала роднички на голове, топча заросли лопухов, усматривая в этом тайный грех. Феофания не дожидалась осени, когда заросли сами высохнут и опадут, открыв эти самые роднички, полные ракушек, выточенных из них пуговиц и лежалых перьев.
Никодим поклонился пришедшим. И ему поклонились в ответ.
Сложил руки на груди крестом. И все сложили руки на груди крестом. Вот так.
Увидел:
Судный день. Родительскую субботу. Брак в Кане Галилейской. Сосуды, полные мира. Горы, спрятанные в лесу. Скалы и цепляющихся за сланцевые ступени колючих кустарников. Василия Андреича Жуковского, изображенного на гравюре с развевающимися волосами и покусывающим перо, щекочущим пером ноздри, а из носа идет кровь, он запрокидывает голову и старается не дышать. А в небе – облака, этакий взгляд на Академию художеств. Увидел воинство послушников, вооруженных слюдяными мерцающими фонарями. Венец с кованого оклада. Гвозди. Белый холщовый балахон до пят с приклеенными к нему воском пергаментными крыльями. Воск. Власяницу. Пещеру, где находится Богоматерь. Свисающую с керамических пробок проводку под потолком, чтобы освещать Богоматерь, от дизельной электростанции. Богоматерь Всех скорбящих Радость. Узорешительницу. Богоматерь Тихвинскую.
– Мне казалось, что я знаю, что мне нужно делать, – Феофания теперь превращалась из девочки в старую женщину и говорила Вере, – я узнавала лица и воскрешала в памяти, узнавала ведь, что когда-то раньше это уже со мной происходило. Наверное, когда моя мама заворачивала меня в простыни и пускала плыть по реке, вниз по течению. Рядом тонули тяжелые сочные стебли травы и листья, а я плыла мимо. Мне было столь удивительно и тепло, и высоко. Когда же наступал вечер, то мама втыкала в подушку зажженные свечи, и подушка тоже плыла, освещая в тумане неподвижные, поросшие камышами и осокой берега. Вот и теперь, когда я раздеваюсь и остаюсь в одном лишь куколе, меня опускают в источник: темный бездонный студенец, где бревна связаны толстой ржавой проволокой.
Источник был каменным, выдолбленным в раковине подвалом.
– Почему ты молчишь, – зашептала девочка, – почему ты не отвечаешь, ты на меня сердишься, да, ну не сердись, ну пожалуйста, ну скажи, что уже и не сердишься, ведь ты меня любишь, правда, сильно-сильно, больше всех на свете любишь, а я тебе на подносе принесу сладкого винограду.
Вера.
Железные, перепутанные водорослями черпаки выбрасывали на жестяной поднос рыб и ящериц; из трубы лилась вода; с островов на дно уходили поручни для сбора мидий; у берега лежали камни; довольно часто по ночам жгли старые лодки перевозчиков и лесничих; на горах уступами рос лес, по преимуществу сосны, которые свисали, проделывая в глине ходы корнями, ветер дымил песком, чешуей и желтыми иглами лиственниц; мидии раскрывались.
Феофания заговорила:
– Вечерние сумерки приходили ко мне с зелеными прозрачными облаками. Я пряталась от мамы за сараем и подглядывала за ним, как он дышал, и заросли крапивы дышали, а старая ржавая велосипедная рама дудела. Потом мама меня звала, она бродила по участку, заодно снимая с веревки отсыревшее тяжелое белье, опрокидывала ведро с водой или летающими семенами, шишками для самовара, для утюга. Далеко включали свет. С реки доносились гудки редких в ту пору буксиров. Наконец мама находила меня, а я залезала на невысокую корявую яблоню, потом слезала и шла в дом. В коридоре сидел отец, он парил ноги в тазу с горчицей, у него был хронический тонзиллит, он подворачивал штаны до колен и, кряхтя «как столетний дед» (это мама так говорила), садился на короткий дубовый канун, приспособленный для колки щепы на растопку, а другой столетний дед – тайнозритель – устраивался на мягком бугре, ноги засовывал в муравейник и ел пирог, пахнущий алтарем.
Дверь закрывалась, и все звуки исчезали.
Мне казалось, что за окном кто-то ходил, но это не ходил, а летал дух лесной Сворогбог. Как «творогбог», мама разминала творог в миске, посыпала его сахаром и заставляла меня есть, «чтобы были зубы крепкие». Столетний дед обжег себе язык и нёбо чаем и теперь молчал, потому как онемел с тех пор, или притворялся, что онемел, Бог его знает. На лестнице на второй этаж спала собака, свесив свою ушастую морду с перил, ей снились дохлые птицы, сваленные в кучу в пустом, крытом замшелым шифером гараже. Потом меня отправляли спать, а отец, наконец благополучно завершив свою процедуру, выходил на крыльцо и выплескивал остывшую горчицу мимо выгребной ямы в кусты. Кусты вздрагивали, нагибались и распрямлялись, как во время дождя. Но это был не дождь.
– Дождь ночью будет, – говорил отец, вешал таз на гвоздь сушиться под дырявым навесом и закуривал: – Дождь, говорю, будет, слышишь?
– Слышу, слышу, – отвечала мама.
– Белье бы надо забрать, – задумчиво освещал себя отец красной вонючей спичкой. Терракотовой.
– Да забрала уже, – мама закрывала дверь на кухню и тушила в коридоре свет.
– Правильно, – отвечал глиняный (к тому моменту) отец и исчезал в темноте, становился различимым лишь по точке тлеющей папиросы.
А я уже спала, Боже мой, Боже мой, мне так казалось: я вижу египетский каток, залитый во дворе. Каток выложен черными и белыми мраморными плитами, по которым передвигаются огромные деревянные шахматные фигуры-истуканы. Они сухие, видимо. Они падают и раскалываются.
Столетний дед вынимал из муравейника красные опухшие ноги и посмеивался, смотря на них. Затем вытирал рот, вернее, стряхивал веткой с губ крошки, оставшиеся после пирога. Я любила столетнего деда, сама не знаю почему. А разве, когда кого-нибудь любишь, надо знать – почему… Каждое утро он вытирал мне лицо колючей озерной губкой, тщательно промокнув ее прежде в талой воде и отжав со старанием. Так начиналось каждое воображаемое утро. Я рождалась. Я рождалась заново, и мне было «сладенько», и всем было так же.
Ночью я, стало быть, умирала.
Днем я слонялась по двору или подглядывала за отцом, как он собирался на работу, а снаряжался он, надо сказать, до самого обеда. Сначала – сапоги, и потом долго топал ими по полу, подгоняя по крепкой узловатой стопе-мумии, спеленутой старым вафельным полотенцем. Хоронил в гробнице. После – перепоясывался долгим шерстяным кушаком, чтобы поясницу не надуло, дабы лежать на иранском ковре и курить кишечник кальяна, дымить как двигатель. Затем – брезентовая куртка, рукавицы и портупея, сохранившаяся еще со времен войны. И наконец – теплый войлочный шлем, который мама помогала отцу подвязывать под подбородком и даже перекручивала тесьму несколько раз вокруг шеи для надежности. Вокруг ствола дерева. Я наблюдала.
Отец работал самокатчиком, то ли керосинщиком, эдаким продавцом бензина и сбитня, то ли богатырем (царем?), я сейчас уже не помню точно.
И уходил. «Пошел я», – говорил. И уходил.
У забора росли деревья и кусты.
На улице складывали лодки перед просмолкой.
Ставни хлопали на ветру.
Перед дождем парило.
Мама снимала с веревки белье во дворе и смотрела в небо.
Иногда, когда работы было мало или вообще не было, отец возвращался домой рано. Он смешно возвещал с порога: «Вот пришел я, мать. Принимай гостей». – «Вижу, что пришел», – отвечал откуда-то голос.
Она.
Я садилась на корточки посреди пустой комнаты и думала, что я недевочка. «А ты и не девочка, а мальчишка-сорванец», – говорил столетний дед, он подставлял табуретку и путешествовал по буфету в поисках остатков пирога. Однако тарелка, где надлежало быть пирогу, оказывалась пуста. Пирог пахнет алтарем, и это известно. Только крошки, доски и мучные дюны во власти, в безраздельной власти сквозняка.
Столетний дед сердился, что про него опять забыли, крестился в темный и потому невидимый угол, покашливал нарочито. Спрашивал свою бороду – есть ли чем поживиться на ночь глядя, а борода и отвечала – у приходского священника есть чем поживиться, например закваской к пресному хлебу или там солеными сухарями на зиму, на черный день ли…
Я сидела на полу и знала наверняка, что я недевочка. Тогда кто же? Я себя трогала, и мне от этого становилось даже приятно, но и страшно, потому что я не знала, как об этом сказать маме.
– Э-эх, – это столетний дед вздохнул.
– Пойду, пойду к священнику кутить чем Бог послал. – Старик надевал бабушкину шубу с оторванными рукавами, мял картуз, пятился к двери. – Благодарствуем, благодарствуем, студено нынче.
Он зимой подпирал снаружи ворота поленьями, чтобы жар не выходил, да и кто чужой не влез, а утром отворял ворота. Слыл воротником.
Зимой наметало много снегу, и воду возили на санях, потому что грузовики застревали у райцентра и дальше не могли проехать.
«Зимой у нас случился пожар».
Зимой в поселке случился пожар.
Мама зажгла конфорку, поставила вариться белье и пошла спать.
И это уже потом на санях подвозили железные бочки с водой, неумело стаскивали их на снег, волокли и опрокидывали в животы пылающих балок. Перекрытия рушились, выдыхая в небо снопами искр, огня, пороха, обрывками тлеющей марли и комьями ваты. Рассказывали, что удалось спасти только девочку, которую здесь же во дворе, заполненном испуганно снующими людьми, поливали водой из чанов, совершенно забыв при этом, что на улице зима и копоть, растрескавшаяся от жара, стекленела на январском ветру. Потом девочка проболела до самого лета, периодически погружаясь в состояние близкое к помешательству. Она причитала, плакала, самодельно молилась какому-то столетнему деду, шептала, что ей очень жарко в пустыне Ханаанской, земле – грязной, вариант, напротив, выбеленной бесконечными окостеневшими солончаками до горизонта, а за горизонтом, как того и следует ожидать, возвышаются сооружения арамейских кладбищ – городов мертвых и печные трубы совершенно обезлюдевших к зиме соляных заводов-варниц, нареченных синайскими паломниками «чумными могильниками».
Девочка жаловалась, что ее нестерпимо томит душный гул пылающих геенских свалок, треск просоленного белья и эти узкие, насквозь продуваемые стеклянным ветром линии, что заключены в рукотворные ущелья песчаника, известняка или мела, а окна и собачьи лазы, проделанные в бесконечных дырявых стенах, само собой, заколочены или заткнуты заизвестковавшимся испражнениями тряпьем.
Оспа.
«Глас осьмый».
Феофания сбрасывала одеяло на пол, ее тогда на время взяли к себе соседи, звала маму и умоляла ее поливать водой, ведь губы, губы пересохли.
В середине лета девочку были вынуждены отдать в детскую больницу-интернат, где ее состояние ухудшилось. Вскоре началась война, мучения, страсти, а в преддверии блокады больница должна была эвакуироваться куда-то за Урал в помещение лесной школы для больных инфекционными болезнями, больше места не нашлось.
От источника шел пар, и странник-попечитель помог Вере завернуть Феофанию в белую простыню, однако во время всенощной при пении «Хвалите имя Господне» она начала кричать и биться и наконец выбежала из храма. Но наутро все же пришла на раннюю Литургию. При пении Херувимской она впала в исступление, даже неистовство, какой-то незнакомой женщине укусила до крови палец, после чего с криком выбежала из Пречистого Дома, но ее поймали и привели в пещерный храм, где пребывала чудотворная икона. Ей налили в ложечку масла из лампады с чудотворной иконы, но она перекусила серебряную ложку пополам. Девочку подвели к самой чудотворной иконе, но она откусила от нее кусок серебряной кованой ризы, между большим и указательным перстами иконы. После этого она впала в полное бесчувствие и лежала как бы без памяти.
Через несколько дней Вера увезла Феофанию домой.
Часть 6. Тайнозритель
Когда Феофания уехала с Верой на источник и ее не было в городе, Немец воображал себе девочку, что она вернется уже совсем взрослая и не допустит его, Павла Карловича, к себе, брезгливо морщась, изнемогая от его старческого духа. А дух-то ветхого поведения, от которого откалывались и рассыпались по саду ученики, залезали на деревья, ловили птиц, красили их в желтую охру или куриную слепоту, презрительно именовали его Немцем, а из стены дома напротив высовывалась чугунная рука-крюк и держала паникадило, всюду открывались двери и на воздух выходили глинобородые священнослужители, иудеи, плакальщики, мальчики ассирийцы или эфиопцы с неподъемными жестяными рипидами, боги в деревянных плащах, римские стратиги и архистратиги, которые древками секир выгоняли нубийских каменосечцев, запряженных в белоснежные куски мрамора. А песчаник крошился, потопляя шествие в густой желтой пыли.
На лошадях ехали всадники по полю, и высокую траву раздвигал ветер, что спускался с горосходных холмов. У лошадей глаза были закрыты кожаными лентами. На курганах росли сухие деревья. Небо было зеленым. Всадники спускались к реке и пили воду из реки и поили лошадей. Деревья трещали, и в них можно было укрыться от дождя; здесь и укрывались старицы, сушили в дыму пелены, мантии и подрясники. Город стоял на горах, потому его называли «горним» городом. Всадники подъезжали к городу. Они складывали в деревья различные дары князей – кресты и фибулы, цаты и венцы, империю и бармы, аксамиты и золото, палицы и посохи. Старицы выходили из деревьев и кланялись им. В дуплах некоторых деревьев горели костры, а вокруг сидели нищие, странные люди и грелись. Лошади вздрагивали и могли понести под черную тучу в дальнем лесу за рекой – там шел дождь. С высоких крутых берегов кусты падали в воду, повисали на молочных жилах корней, и из них выбирались змеи, страшась потопа. Плыли рыбы, ящерицы. Лошадям с глаз снимали кожаные пояса, и они мгновенно слепли от матового дневного света. «Чего же ты боишься, братец?» – спрашивал высокий бритый наголо всадник и доставал саблю из ножен. «Да всего и боюсь», – отвечал ему воротник и звонил в колокол Хризотом, Златоуст то есть. «А ты не бойсь, не бойсь…» На горовосходных холмах Иоанна Дамаскина стояли поклонные кресты. На Голгофе стоят кресты. На Горнем Месте стоят кресты, оттуда видно далеко. Видно, как за рекой в лесу идет дождь, а от рваной тучи отваливаются куски черной ваты и падают в высокую острую траву. Может быть даже, это и снег, и поле каменеет, в смысле покрывается камнями, напоминая пустынную местность Моав. В низинах собирается туман и укрывает дымящиеся горы угля, оставшиеся от сгоревших дотла деревьев. Старицы плачут.
Всадники въезжают в город…
На следующий день вернулись Вера и Феофания. «Мама-Вера, отвези меня обратно в интернат, – просила девочка. – Мне здесь очень плохо. Я уже ничего не помню, я уже все забыла». – «А тебе, детка, ничего и не надо помнить», – Вера грела Феофанию горячим воспаленным дыханием, целовала ее, покусывала за тонкие неподвижные пальцы. Какая же у нее, право, непохожая, невидимая, нерождаемая, неодинаковая, неисповедимая, невечерняя, вечная жизнь. Потом Вера доставала из шкафа маленькое ситцевое платье и говорила: «Вот смотри, девочка моя, это платье мне сшила моя мама очень давно».
– Какая мама? Чья мама?
– Ну моя же и мама! Нет тут ничего удивительного, когда я еще была девочкой и училась, кажется, дай Бог памяти, в третьем классе. А теперь вот ты будешь носить – тебе нравится?
– Нет.
– Почему? Посмотри повнимательнее, ведь оно с лентами и бусами, цветами и кружевами, ягодами и листьями. Когда ты его наденешь, так сразу и выздоровеешь.
– Нет.
– Что «нет»?
– Не выздоровлю…
– А вот и выздоровеешь!
– Не выздоровлю, потому что не надену никогда – оно с мертвого, а я сама скоро умру, я знаю, знаю, мне ребята в интернате говорили. Они говорили: «Вот тебя не берут в эвакуацию, не везут, значит, ты скоро умрешь, потому что зачем же тебя везти, если ты и так умрешь, лучше уж здесь, чем там, ведь там холодно, и прежде чем копать землю, ее надо отогревать разложенными из шпал кострами. Вот». Так и говорили, и смеялись. Они глупые.
– Не смей! – Вера бросала платье на пол. – Не смей! Ну хочешь, я сейчас буду представлять стражника, завернутого в проросшую еловыми ветвями плащ-палатку, кирасира в стальном шлеме или наездника, благовествующего, что эшелон разбомбили по пути совершенно, и все погибли, и деревья сварились в кипятке, исшедшем из разорванного взрывом котла паровоза. Хочешь? Хочешь, я так скажу?
– Нет, не хочу.
– Что же мне сделать для тебя? Я буду повторять твое имя – Феофания, Феофания – как молитву, прося у него, у имени, прощения и спасения, богохульствуя и содрогаясь притом. Я пойду на кухню и отрублю себе полуостров между большим и указательным пальцами. Я разломаю икону, оставшуюся от матери, найду бумажные образки, я-то уж знаю, где их прячет Павел Карлович в тайнике за буфетом, и разорву их, нет, лучше сожгу. Буду бежать по набережной, душить себя косынкой (может быть, это ветер меня привечает?), кричать, что я ненавижу Бога, просто ненавижу, что он умер, понимаешь, «сдох», забыв о тебе, а обо мне-то он и не помнил никогда. Потом упаду, потому как внутрь меня провалится камень и раздавит все мои внутренности.
Камень наказания.
Выслушав рассказ Веры о поездке на источник Параклит, участковый врач, заходивший в последнее время довольно часто по собственному почину, просто так, зная, что его ждут, как исповедника, и в нем нуждаются, как в колодце, сообщил:
– В высшей степени рекомендую почитать «Древо – полезные советы», «Аптеку духовную», «О добрых друзьях двенадцати», опять же «Лавсаик, или Повествование о житии святых и блаженных отец наших».
Феофания испуганно следила за доктором. Он заглядывал в реликварий, укутывал жертвенники тулупами, отворял двери, а обнаружив в одной из комнат Немца, изумился несказанно: «А это еще кто у нас такой?» Вера засуетилась, потому что внезапный визит отвлек Павла Карловича от чтения, запричитала всяческие возможные извинения и поволокла врача на кухню. Тут она усадила его за стол, он же, закурив, сообщил Нечто, но женщина не расслышала его, из комнаты донесся голос девочки: «Мама, мама – Вера, Надежда, Любовь, увези меня отсюда, мне здесь очень плохо. Я хочу ехать по полю, а потом по лесу. И еще вот! Я вспомнила!» Вера вздрогнула:
– Что ты вспомнила?
– В лесу кто-то жил, выглядывал из-за стволов, покусывал кору деревьев, оставляя на ней мокрые, сочившиеся сочивом следы. Коливо приготовили, покушали его, и стало сладко на губах. С ячменем. С солью. По поваленным вдоль колеи гниющим бревнам-валежинам расхаживали птицы, наклоняли головы и прятали их под крыльями, грели горячие клювы-камеи. Они наверное знали о своей добыче, в смысле жертве, предуготованной для страшных недр препараторской, разделочной, ямы, земляной тюрьмы для хранения хлорки, бывшей больничной церкви, переоборудованной в морг, где включают свет и выключают, включают и выключают.
– Так кто же в лесу-то жил?
– Тайнозритель и жил.
– Кто?
– Тогда вечером я долго не хотела ложиться спать, капризничала, и отец наказал меня, закрыв на ключ в небольшой, пустовавшей в то время комнате соседей.
– Зачем, зачем, ответь, ты это вспоминаешь? – спрашивала Вера. – Ведь все это давно прошло, а может быть, ты даже это и выдумала себе.
– Так вот, отец постучал напоследок в стену кулаком и прокричал, чтобы я слышала: «Вот смотри, мать, какая у нас дочь непослушная! Ты стараешься, выбиваешься из сил, стираешь на нее (я услышала, как мама поставила на плиту вариться чан с бельем), а она, негодная девчонка, изволит, видишь ли, свой нрав показывать! Пускай в темной комнате посидит! Будет знать, как отца с матерью не слушать!» И мне вдруг стало обидно и томительно гордо оттого, что я теперь совершенно одна, как будто родители бросили меня, отказались от меня и заточили меня в темницу, что само по себе медленно-медленно. Я подумала, что сейчас усну, а когда проснусь в тихое солнечное утро, все будет по-другому. Усну, чтобы они простили меня, а я – их, да, да, я – их, ведь это так важно, в смысле полностью забыла бы это представление в пустой темной комнате, полностью покаялась. Что здесь было? Тени деревьев и кустов шевелились на потолке, путешествовали по потолку, а по стенам ползала саранча. Потом мне приснился столетний дед. Он заглядывал в окно и, постукивая сухим стеариновым пальцем в стекло, говорил:
– Я – столетний дед. Ты узнала меня?
– Да, я помню тебя.
– Ты не боишься меня?
– Нет, не боюсь, потому что ты добрый, у тебя глаза добрые, а в бороде водятся муравьи. Почему ты стоишь на улице и не заходишь в дом?
– Потому что я босой, – улыбался в ответ столетний дед.
– Скажи, это ты живешь в лесу? (Феофания снимает туфли и босиком подходит к окну.)
– Я.
– Ты живой?
– Да. И ты будешь всегда живой, не бойся ничего. – Старик кланялся и уходил через длинный, мощенный путиловской плитой мраморный курзал в поле, и шел по полю.
А потом произошло то, о чем теперь вспоминают в поселке. Девочка проснулась от страшного грохота, наверное, так гремят чугунные колонны в аду, и весь дом был ад, где во время пожара рушились балки перекрытий, пол кадил густым ватным дымом, доски трещали.
Девочка слышала голоса, вернее, страшные крики ослепления лютым овчаром по имени Берендий. Это кричала мама, это кричала Богородица, а студеный ветер разносил ее стоны по округе, ее было слышно даже у паромной переправы и дальнего гарнизона. Стражники выходили в ночь, слушали звон льда и говорили, что «Она взалкала». Отец так и не проснулся. Однако девочку удалось спасти. Ее вынесли завернутой в тлеющее одеяло, а потом поливали водой из чанов, совершенно забыв притом, что на улице зима, а она шептала: «Я пролилась как вода, и все кости мои рассыпались».
Часть 7. Цветение
Вот все и кончилось.
Когда возвращал ись со Смоленского кладбища, Павел Карлович попросил подождать его, а сам побежал смотреть, дают ли теперь на линиях кипяток, но вернулся расстроенным, развел руками: «Нет, не дают».
Раньше за водой приезжали на санях пожарники: по снегу, по песку ли, по берегу. Поливальщики и уборщики с островных дач и доходных домов, напротив, приходили пешком. При помощи ручных канистр они наполняли водопойки с их каменными – вариант – чугунными раковинами.
Подходили мохнатые низкорослые лошади-тяжеловозы.
– Однажды, когда мы гуляли с Феофанией в районе шкиперских проток, мы встретили блаженную Ксению, столь неожиданно, столь неожиданно, – проговорил Павел Карлович, – и Феофания сразу узнала ее, такую маленькую беззубую девочку в мужском платье, что жила в серебряном дупле, на скамье перед которым спали уставшие странники. Они приходили сюда, на Смоленское кладбище, собирались вокруг часовни, а страшный город с его мертвыми таился за деревьями и выл. Тогда, к слову сказать, кладбище было уже разорено и в усыпальницах ночью жгли костры, пользуя рваные газеты и фанерные ящики для временного жилья. Признаюсь, я ожидал увидеть в глубине реликвария старицу, но Феофания дернула меня за руку и засмеялась: «Да нет же, вот она какая, только беззубая, чтобы нельзя было ими скрежетать во сне от боли и пугать добрых-добрых!» – «Ах вот оно что! Как, однако, все просто!» Вера кивнула в ответ:
– Прошу вас, не надо больше ничего говорить мне о ней, я ведь даже и не жила все это время, а болела ею, тем, как она дышит, как не узнает меня или делает вид, что не узнает, как закрывает глаза, как спит, как днем бредит, а ночью слушает звук луны, как умирает невыносимо долго. И вот теперь все кончилось. Помните, как она говорила, что после пожара у нее не стало родителей, в том смысле, что их и не было никогда, ведь так могут говорить только маленькие блаженные дети, – Вера остановилась, – впрочем, вы не знали этого, у меня уже все перепуталось в голове, просто не могли знать, потому как разговор об этом происходил в больнице, откуда я забирала Феофанию.
– Да, к сожалению…
– Ну зачем, зачем, скажите на милость, мне ваше сожаление, ваше сочувствие, будь оно проклято, ваши рассказы о ней, видите ли, как вы гуляли, как встретили какую-то умалишенную нищенку, зачем? зачем все это мне теперь, потому что Феофании, теперь я это понимаю наверняка, и не было вообще!
– Прошу вас! Прошу вас, успокойтесь! – говорил Павел Карлович, кусал губы, топтался на месте, пытался гладить Веру по волосам.
– Конечно! Конечно ее не было, – женщина даже улыбнулась собственному предположению, – и почему именно Феофания? Вы знаете?
– Нет, – растерялся Немец, – не знаю.
– В старых книгах это называется откровением, новым откровением, понимаете, благовествованием, как будет угодно, неизреченной истиной, тем, чего не может быть, и имя это возникло как-то само собой, его никто не давал ей, но и сама она не приносила его начертанным в ковчежце обещанием. Обещанием родительскому обещанию, завету, ведь она даже не знала своих родителей, вернее, она утверждала, что их у нее не было. Какое же все это, однако, вранье! Вранье! Боже мой! Боже мой, где же я слышала эти слова? Где?
– Прошу вас, пойдемте домой, вам надо отдохнуть, прошу вас, пожалуйста.
В конце апреля Вера уволилась с почты, потому что должна была сидеть с девочкой. Феофания в то время почти не вставала. Припадки прекратились, вероятно, в этом следовало усматривать благотворное влияние источника, однако по ночам девочка совершенно перестала спать, плакала, говорила, что внутри нее кто-то поселился и ест ее, и ей поэтому нестерпимо больно. Хотя нет, не больно, но томительно, тошно, однообразно, медленно-медленно. День кажется таким медленным, когда пасмурные сумерки прячутся в окне за толстым шитым крестами занавесом. Полдень ничем не отличается от полнолуния, половина рассвета уподобливается половине угасания, меж тем благодатная ночь приносит далекие шумы железнодорожных переездов, редкие гудки маневровых тепловозов, раскаты грома, как копошащихся под полом змей, которые нападают на мышей и поедают их.
Теперь Феофания разговаривала только сама с собой, это походило на просветленный бред, потому как, по ее словам, она многое вспомнила – особенно про пожар, про огонь, про ад, про духоту, но не про родителей, изредка позволяла себе даже веселье, которого Вера боялась больше всего, бессмысленного веселья, потустороннего веселья, напоминающего языческие похороны Костромы или купание в источнике. Вера отворачивалась или закрывала лицо полотенцем. Девочка ударяла в ладоши и крутила головой, видимо, ей становилось легче на время.
Последние две недели – чернением по серебру сияние. Тогда участковый врач смахнул со стола лекарства и ушел, а Павел Карлович расстелил простыню на полу и разложил на ней траву – сушиться. Стало тихо, и только сумрачный город с его мертвыми думами таился. Таился. Выл.
– Хорошо, пойдемте домой, – Вера закрыла лицо ладонями.
Потом они долго шли по набережной.
Долго шли молча с речениями, о которых не решались говорить вслух:
«Какой ужасный город сегодня. Я совсем не узнаю его. Это, наверное, совсем другой город и другие улицы, и река другая. Я даже не знаю, люблю ли я его. Скорее всего, ненавижу, как можно ненавидеть всякого свидетеля твоей беспомощности и ничтожности, немого свидетеля. Лучше бы он смеялся, кричал и тыкал в меня пальцами-гвоздями, приговаривая, с трудом переведя дух после сатанинского хохота, – „вот ты опять одна! и нет у тебя никакой дочки!“. Но он молчит, и кажется, что он даже умер, этот город, чтобы лежать растоптанным гниющим бревенчатым настилом, проложенным через болото, вытянувшись в последней судороге, чтобы не дышать полностию, смотреть в небо (сегодня, как ни странно, солнечный день) и сооружать из себя пустые кирпичные цеха заброшенного торфозавода. Трубы. Земляной пол. Лестницы».
Около моста сели в трамвай, шедший на круг. Вагон трясло неимоверно и выворачивало на поворотах. Вера прислонилась лбом к холодному стеклу окна и смотрела в воду каналов под собой. Провода были проложены через черные сырые ущелья домов, а стальные бляхи на стволах орудий водоразборных колонн и газокалильных фонарей повествовали о существующем маршруте в вагонное депо. На остановках в трамвай садились какие-то люди, и Вера вспомнила, как прежде, когда они с мамой только переехали в город, она любила наблюдать пассажиров и воображать себе их житие. Она думала про них, ей была неведомо приятна эта чужая жизнь, которой, в сущности, и не существовало, кроме как в ее, Верином, воображении. Она одна знала здесь все, она могла мысленно преследовать своего избранника, говорить ему страшные слова, уподобляясь всезнающему волхву. В ту пору город состоял для нее из фигур мечтаний, фигур фантазий, фигур неслышной речи – шепота. Вера шептала, прикасаясь губами к уху, к пальцам ли, минуя их решетку: «Наверное, это и есть блаженство, когда я знаю все про тебя. Нет, нет, не говори, что я знаю не все, я знаю, прозреваю даже то, сподоблена такому знанию, которое тебе неведомо. Как хорошо! Как хорошо! Как легко мне!»
Теперь все было иначе. Немец сидел на краю деревянной скамьи и дремал. Он уронил голову на грудь, а на стыках, когда вагон бросало из стороны в сторону, Павла Карловича опрокидывало, и Вере, она сама не понимала почему, становилось противно смотреть на это бездыханное, колышущееся по воле рычагов тело. Немец побледнел, видимо, его укачало в пути и теперь тошнило.
На остановке около морской церкви в вагон вошли военные: сразу же запахло табаком, дегтярным мылом, которое продавали в низкой фанерной будке при входе в бани гвардейского экипажа, и крепкими, как бадьи для угля, кирзовыми сапогами, натертыми самоваренным гуталином. Трамвай дернуло в очередной раз, и фуражка Немца оказалась на полу, притом что Павел Карлович сразу же очнулся и принялся беспомощно, очевидно, оставаясь в забытьи, трогать себя, обнаруживая смятенным и опухшим ото сна. Военные заулыбались и отвернулись, возвращаясь к прерванной беседе. Вера смотрела – за окном город то исчезал, то громоздился над нефтяными бездонными плесами проток, вдоль путей были свалены шпалы. Все двигалось назад.
Проезжали через площадь. Здесь стояли военные грузовики и тяжелые санитарные подводы перед отправкой на фронт. Вдоль деревянных, обмазанных маслом лафетов прогуливались офицеры, курили, вытирали носовыми платками с вышитым в углу вензелем «ИС.ХС.» скошенные затылки. Тут же, расставив треногу своего деревянного ящика и укрывшись черным фланелевым сукном, полковой капеллан фотографировал сияющих золотом канониров на фоне колес, полевых кухонь, разносчиков сена, припрятанных ко всякому случаю рельсов и конских хвостов на медных, начищенных бузиной касках кирасиров.
Павел Карлович забрался под сиденье и обнаружил там свою фуражку. «Вот забылся в нечаянности», – проговорил он со смущением.
Нечаянная Радость.
Нечаянное узнавание (только в другом направлении движения), когда трамвай, разворачиваясь на кругу, шел через весь город на острова к заливу.
Раньше школа находилась в старом запущенном парке – через несколько лет ее закроют по причине ремонта и затопления цокольного этажа, а учеников переведут в здание бывшего ремесленного училища неподалеку от причала. Занятия в островной школе начинались в половине девятого утра. Павел Карлович шел пешком через парк от автобусной остановки, здоровался по пути с рыбаками, сидевшими на гранитных ступенях, уходивших в воду, погружавшихся. Лудах.
Перед началом уроков в школьном дворе происходило построение, перекличка, а затем – развод на занятия. Опоздавших и отсутствующих без уважительной причины, разумеется, разыскивали дежурные и приводили к коменданту, сидевшему в отдельном, крашенном зеленой краской кирпичном гараже, где и наказывали суточной работой на мазуте и дровах.
Павел Карлович не любил учеников, потому что боялся их. Они нехотя приходили на его уроки, развешивали синие, потершиеся на локтях кителя на спинках стульев, снимали сапоги или ботинки, перепутанные рваной упряжью шнуровки, долго надрывно кашляли, многие из них страдали легкими, доставали из ременной перевязи засаленные растрепанные учебники, названия которых и прочесть-то было невозможно, и погружались в хриплый сон.
По привычке Немец начинал урок с чтения правил и канона на утро и на повечерие. Часы. Ученики должны были повторять за ним хором. Павел Карлович смотрел поверх очков на склоненные перед ним бритые головы, чутко слушал ноты или «соли», как здесь было принято говорить, рисовал на пузырящейся от сырости доске горовосходный холм и отмечал мелом голоса – Вонифатия, Петра, архистратига Михаила, Евода, Каиафы, Иосафа и Иосафата, Ирода, Ермы, Эльпидифора, Авды, Иова, Евстафия, Савватия, Кирика, Афанасия, Кирилла, Коприя, Пахомия, Зоровавеля, Фотия, Пимена – имена старцев-праотцов и пророков…
Немец прохаживался по классу и, остановившись около одного из учеников, произносил:
– Извольте проспрягать глаголы «происходить» и «отвлекать».
Хор тут же замолкал, и губы начинали перешептываться, шелестя запекшимися болячками. Ученик, комкая огрызок тетрадочного листка, на котором карандашом было написано задание, обреченно вставал и медленно выходил на деревянный пол – Голгофу, ступал босиком; засовывал мизинец или большой палец в щель между досками, показывал всем фиолетово-синие ладони, в том смысле, что тратил, тратил-таки чернильную личину, мог даже и ковыряться пальцем в носу, извлекая желтые мутные тигли, но это уж слишком!
– Мы слушаем вас, – с плохо скрываемым раздражением говорил Павел Карлович, – ну же!
– «Происходу», – предполагал ученик, правда, более чем неуверенно, и забывался, и отворачивался к окну, за которым качались старые деревья парка. В классе раздавался смех – «Господи помилуй! Происходу! Происходу! Господи помилуй!» – Павел Карлович, притворив правое ухо указательным пальцем, пробовал ноту, требовал, чтобы хор проделал то же самое. Затем подходил к доске с нарисованным на ней горовосходным холмом святого Иоанна Дамаскина и жирно знаменовал голос «Ездра», так что мел крошился снегом на пол.
– Ездра! Ездра! А не Дионисий и не Антоний!!!
– Происхожу! Происхожу! А не происходу, не происходу! – повторял хор. В данном случае было даже дозволительно благовествовать крышками столов, за отсутствием малых звонниц.
– Вы слышите меня?! – кричал Павел Карлович в самодельную жестяную воронку, вставленную в ухо ученику. Ученик плакал и размазывал слезы по лицу грязным кулаком.
– Да он у нас глухой! Ничего не слышит! – подсказывали откуда-то с задних рядов.
– Прошу садиться, – Немец вытирал мокрой тряпкой руки. Ученик вынимал мизинец или большой палец ноги из щели между досками пола и, сгорбившись совершенно, возвращался на место. По дороге между рядами столов его хватали за штаны, щипали, обзывали дураком, а в отставленные под скамейкой ботинки уже успевали написать или засунуть обмочившегося со страху слепого мохнатого зверя с когтями.
Когда после уроков Немец проходил под деревьями, то ученики, сидевшие на них, кидали в него отломанными ветками. И ветер бесчинствовал в вышине. Это был старый сад на окраине города рядом с конечной автобусной остановкой и водолазной станцией, где в железных, сваренных из автомобильных кузовов ящиках коптили рыбу. Ученики здесь ловили птиц, по преимуществу воробьев, перекрашивали их в желтый цвет, загодя заклеив пластырем черные подвижные капли глазков, чтобы не замазать краской по неосторожности. Убивали, а потом несли продавать эту дохлятину на вокзал цыганам или подбрасывали в открытые форточки окон первого этажа. Ученики смеялись. Несколько ветвей упало на фуражку и плечи Павла Карловича, а остальные ветви падали, разоряя копны собранных листьев и скошенного клевера.
Уроки заканчивались, и наступали сумерки, и наступал туман с залива.
Глухой мальчик сидел во дворе школы на срубленном кусте благоухающего винограда и, казалось, дремал, чтобы успокоиться перед пением гимна Богородице.
Значит – время петь гимн Богородице.
Движением руки Павел Карлович поднимал класс, а сам восходил на кафедру. «Замри», – говорили друг другу ученики, «Умри», – говорили друг другу одни, «Воскресни», – говорили другие. Школьный сторож, завернутый в одеяло архиерей, зажигал слюдяной фонарь перед образом Богородицы. Ученики вздыхали, наполняясь благовониями. Канонарх затаивался, вкушая древний хасмонейский гортанный клекот.
Это левит.
Это левит в пустыне.
Трамвай остановился. Вера, взяв Павла Карловича за руку, вывела его из вагона на остановку. После дождя здесь всегда пахнет рекой, и весной Маньчжурия зацветает. Маньчжурия – это старый район города, застроенный огромными доходными домами, необъяснимо перетекающими друг в друга воздушными путями кирпичного орнамента вислых бесцветных кружев. Разновысоких кружев, порой и чугунных кружев. Тут соты проходных дворов и деревянных ворот со стражниками, а из окон высыпают ведра с песком и пеплом.
Квартал оказался оцеплен. Въезд на улицу был перегорожен двумя армейскими грузовиками, видимо, шла очередная облава. Веру и Павла Карловича обогнал тяжелый милицейский мотоцикл, в коляске которого конвойный в перехваченной под подбородком фуражке держал огромную торпедоподобную овчарку с красной дымящейся паром пастью. Мотоцикл свернул в проулок. По мостовой прохаживался регулировщик, облаченный в кожаную броню, притоптывал, ежеминутно поправлял целлулоидный шлем, может быть, даже и был кривошеим, потому как рисовал подбородком неправильные окружности. Это горло, а это позвоночник. Увидев идущих ему навстречу Веру и Немца, он заулыбался, проверил натяжение портупеи, в которую был спеленут, и, загородив огромных размеров черно-белыми полосатыми крагами путь, пробасил: «Туда нельзя».
– Как это нельзя? – Павел Карлович выступил вперед, он, кажется, теперь очнулся от своих дум и тошнотворного забытья, – мы там живем!
– Нельзя! Не велено пускать, – регулировщик перестал улыбаться и составил сапоги вместе, – вот заарестуем, тогда и будет можно, а пока нельзя!
– Кого?
– Чего – кого?
– Кого заарестуете-то?
– Кого, кого… Кого надо, вам знать не надо.
– Понимаете, – не унимался Немец, – вот эта женщина, – он указал на Веру, – сегодня похоронила свою дочь!
– Ну-у…
– Что «ну»?!
– Зачем?! Зачем вы все это говорите! Оставьте меня в покое! – проговорила Вера.
– Молчите! Прошу вас, молчите! – Павел Карлович даже сокрыл женщину, но подглядел, что она при этом делает: отвернулась и закрыла лицо платком.
– …Так вот, у этой женщины сегодня умерла дочь, правда, приемная дочь, приемная дочь, но все же, и мы ходили хоронить ее на Смоленское кладбище. Понимаете вы или нет? А теперь ей нужно попасть домой, она себя очень плохо чувствует, тем более что сейчас, скорее всего, пойдет дождь или снег, взгляните на небо! Взгляните! Взгляните, молодой человек!
Регулировщик опустил глаза долу и чистил ногти одной руки ногтями другой. Кожаные мертвые перчатки он воткнул за голенища сапог.
– Боже мой! Боже мой! Вы слышите меня? Вы понимаете меня? – Немец пытался заглянуть в лицо регулировщику.
– Не понимаю я ничего.
– Но что же нам делать?
– Не велено.
– Ведь скоро ночь, и где, скажите на милость, где прикажете нам ночевать? А? Может быть, здесь на улице или под мостом?
– Под мостом, под мостом, нашли гитлера с хвостом, – регулировщик перестал чистить ногти и почесал ими подбородок.
– Какого еще гитлера?
– С хвостом!
Павел Карлович схватил регулировщика за толстые ноги и принялся тащить его на себя, притом что регулировщик нисколько не сопротивлялся, а лишь лениво или нехотя отбрыкивался и просил оставить его в покое. Немцу даже удалось сдвинуть это египетское сооружение с места, подобно тому как оживляют базальтовую стопудовую плиту-мастабу. И вот она, то есть плита – дверь в загробное царство, потусторонний иллюзорный мир сна, вздрагивает и, скрежеща по изъеденным кислотой рельсам, съезжает, приглашая в свои внутренности, говорит: «Иди и смотри!»
Регулировщик тоже схватил Павла Карловича за ноги. Мыча, они боролись посреди пустой улицы. Через некоторое время неизвестно откуда – ведь все здесь так напоминало исихастирион или покоище – появились люди и, собравшись в разноцветную молчаливую толпу, наблюдали за борцами. Некто мог даже и предполагать, давая советы, к примеру – «ты его за голову бери» или «души, так верней будет». Средневековое уличное действо-напоминание, мистерию нарушил выехавший из проулка милицейский мотоцикл с коляской, набитой собачьей шерстью и длинными хвостами опричников. Круто развернувшись и нарисовав на асфальте черные резиновые пути, толстый безухий прапорщик из конвоя привстал в седле и заорал на всю улицу:
– Слышь, Белов, ты чего это тут делаешь, давай поехали!
Оттолкнув от себя в сторону еле живого Немца, регулировщик степенно встал, оправил перекрученную форму и, отдышавшись полностью, ответил:
– Да вот, пускать не велено, так и не пускаю.
При виде мотоцикла и понимая, что представление прекратилось, люди стали нехотя расходиться.
– Да черт с ними! Поехали! – прапорщик крутнул головой так, что фуражка съехала вниз и повисла на резиновых воронках, закрепленных пластырем на месте ушных раковин – бензином сожгло на облаве.
– А эти как же? – регулировщик указал на Веру и корчившегося на мостовой Павла Карловича.
– Ну что ты привязался? Хочешь, пристрелим их?! – прапорщик захохотал и похлопал себя по висевшей на поясе кобуре, расстегнутой на всякий случай.
– Не-е, не надо, – Белов взгромоздился на мотоцикл, – но только вы здесь стойте и дальше не ходите! Понятно? – он погрозил Вере пальцем. Вера не видела его. Она не видела ничего.
– Не понятно! Не понятно! – вдруг закричал Немец и попытался встать. Однако мотоцикл уже уехал в проулок. На улице стало тихо и пустынно.
На Маньчжурии всегда первым зацветает жасмин – воскресающий небесный клевер-дух.
Благоуханный.
Сутки на Маньчжурии наполняются благовониями цветения, и оно даже кажется страшным, неотвратимым, приносящим гибель от удушья. Работницы из корзинных мастерских, живущие в ткацких трущобах, где в воде плавают коконы, пряжа и развалившиеся прелые бочки без ободов, выводят своих детей – напуганных дрожащих зверьков – на улицу. Здесь они смотрят на предзакатное небо, улыбаются, раскрывая рты, и едят жасмин, оборачивая губами протравленные ацетоном зубы. По реке, символизируя тихий прохладный вечер, проходят паровые катера, на некоторых еще не успели убрать полосатые тенты, а баржи, тяжело груженные затянутыми брезентом позвоночниками и конскими хребтами, ведут на шестах вдоль пологих, укрепленных мешками с песком берегов. Матросы приветствуют женщин и их детей, а женщины кланяются матросам. Речной путь лежит в непосредственной близости от психиатрической клиники Виллие, в окнах которой горит яркий электрический свет, и стеклодувных мастерских с Обводного канала. Некоторые матросы фантазируют, что все дальше и дальше будут расходиться берега реки, оставляя в неподвижной вечерней дымке рабочие поселки, лесозаводы и лесобиржи, вереницы катеров, буксиров, барж и лодок у причалов, гигантские штабеля бревен, соловецких шпал, стеллажи пиловочника, сплавной лес и каменных косматых зверей, загадочно умерших на ступенях адмиралтейской верфи.
Вера помогла Немцу встать.
Миновав проулок, противоположный выход которого был перегорожен грузовиками с сидевшими в них вооруженными солдатами, Павел Карлович и Вера прошли через коричневатый полутемный курзал, где почтовые ящики прятались в каменных мешках стен. Поднялись на пятый этаж. Дверь на кухню оказалась открыта…
За столом сидела Феофания…
На ней было надето маленькое ситцевое платье с лентами и цветами, кружевами и бусами – червивыми орешками арабской вязи, платье с мертвого. Девочка обернулась к вошедшим…
Эпилог
За открытым дверным проемом послышался гул заведенных двигателей, потянуло костром. В свете включенных автомобильных фар длинные острые тени привалились к гнутым оторванным карнизам – патруль перекрыл подворотню и черный ход.
Светало.
Снег перестал, и в морозном утреннем воздухе возможно было обозревать пейзаж до горизонта с охотниками, увлеченно преследующими своих собак, идущих по следу, оставленному на снегу или пене прибоя. Залив испускал пар в небо, а небо исторгало из своих пучин замерзших птиц, которые падали на черный от выброшенных во время шторма водорослей песок. По берегам кое-где горели костры.
Неожиданно с проспекта выезжает грузовик комендатуры, гулко перегазовывая, разворачивается и начинает движение навстречу Немцу.
Вот ему удается свернуть в длинный сумрачный проходной двор, как раз в тот момент, когда длинная автоматная очередь из кабины грузовика раздирает сырую штукатурку и висящую на одной петле дверь-плиту. Немец слышит за спиной топот сапог и крики: «Гони его к реке!»
Все, он не может больше бежать, начинает задыхаться, падает, пытается руками заткнуть рот, из которого вдруг совершенно неожиданно начинает хлестать кровь, ведь с ним раньше такого никогда не было. Он корчится, превратившись целиком в стучащий в голове грохот, пытается заглянуть за водосточную решетку, где, как ему кажется, кто-то притаился и подсматривает за ним, за его нестерпимыми мучениями. Затылок наливается свинцом и загромождается камнями, плоскими, прибрежными валунами. Представляется, что внутри уже кто-то ест его, жрет его, отрывая куски и бросая их паровозным топкам на съедение, жрет, весь перепачканный копотью вровень с кирпичными трубами солеварен и арамейских могильников. Река разливается, и ее невозможно остановить липкими от теплой крови руками, остается только цепляться за металлические пруты, чтобы не захлебнуться. Наводнение? Потоп? Вдруг яркая вспышка электрического разряда осеняет его, втыкаясь в позвоночник раскаленным металлическим прутом, и намертво приколачивает к асфальту. Убедившись, что жертвоприношение окончено, некто неведомый и невидимый, пусть даже и тайнозритель, погружается в глубину, отпрянув от окна водосточного люка с другой стороны.
Боже мой, Боже мой, просто ходил за кипятком для больной девочки.
Теперь солдаты берут труп за ноги и через проходной двор волокут его к реке, оставляя за собой горячий дымящийся след, приговаривая вполголоса: «А наш-то сегодня лютует, стрелял, яко зверь». Огромная торпедоподобная овчарка, привязанная к милицейскому мотоциклу, начинает рваться на толстом, натянувшемся в струну брезентовом поводке.
Солдаты запихивают тело в рваный мешок с песком и бросают в воду.
* * *
Феофания обернулась к Вере:
– Мы ведь с тобой что сестрички, которые лежат вместе, обнявшись, в яслях, сучат ножками, вздымая сено, взыгрываясь (лучше и не скажешь), улыбаются бессмысленно, наблюдая, как ветер колышет марлевый больничный полог, даже сердятся порой, норовят укусить друг друга, правда, беззлобно, а так, инстинктивно – почесать десны и слабые зубки, не тая обиды при этом совершенно, а добрая Богоматерь наклоняется над ними, грозит пальцем и говорит строго: «А ну, сорванцы, не баловаться!» Потом один за одним над яслями склоняются мохнатые снежные головы, покалывая нас своими длинными густыми бородами и бормоча при этом: «Деткам сладкое нельзя, им полезнее кисленькое или, в крайнем случае, пресное».
И Вера поняла, что мать и дочь всегда держались за руки: и когда стояли на берегу залива, и когда прогуливались в старом спящем парке, и когда сидели на скамейке на набережной или в бульваре, и когда обнимались, и когда шли по улицам, линиям мимо часовен, мимо лютеранского кладбища, мимо Академии художеств и бетонного музея, разгороженного подрамниками и холстами из галерей.
За стеной – кающиеся. Ученики с замиранием сердца смотрят на мертвого учителя, которого бросают в воду: «Ездра, Ездра, а не…»
В притворе – оглашенные.
В алтаре – верные.
Он зрит тайно.
Покоритель орнамента Роман
Егору посвящаю
1.
Он громко сморкается в носовой платок.
Мое искаженное гримас ой лицо отражается в покрытой черным лаком рогатой глубинной мине, что выставлена на гранитном постаменте перед входом в Евпаторийский краеведческий музей.
Я смотрю на себя и не узнаю себя.
Он стоит перед могильной оградой, сооруженной из старых панцирных кроватей, и рассказывает о похороненных тут жене и грудном ребенке, убитых при обстреле города системой залпового огня «град». Голос его дрожит, но он рассказывает, выдавливает из себя страшные слова.
Слова-знаки, слова-символы, слова-объекты.
Я всматриваюсь в свое отражение, открываю рот, высовываю язык, касаюсь им нижней губы и не узнаю себя. Ну что же, мне остается лишь предположить, что я вижу маску какого-то неизвестного науке рогатого чудища.
Она собирает вещи, разбросанные по комнате, расставляет стулья вдоль стен, на одной из которых висит ковер.
Я помню себя в возрасте шести-семи лет ходящим по ковру босиком. Тогда я воображал себя покорителем орнамента, исполненного в восточном, предельно витиеватом стиле.
Он продолжает рассказывать о том, как все было, когда город был под огнем.
А было все так: ночью город начали обстреливать со стороны перевала. Люди выбегали из своих домов, и их тут же накрывало осколками. Повезло тем, у кого вход в подвал находился с необстреливаемой стороны. В подвалах спаслась большая часть жителей города.
А он не стал прятаться тогда, а так и остался сидеть на земле перед домом рядом с убитой женой.
Под утро обстрел закончился, и затишье, длившееся не более десяти – пятнадцати минут, показалось вечностью. Потом пошли танки.
Он услышал, как предрассветная мгла наполняется ревом включенных двигателей.
Он увидел всадников Апокалипсиса, которых никогда не видел раньше.
Она выключает свет.
Теперь узоров ковра и не разглядеть вовсе – лишь редкие отблески автомобильных фар с улицы выхватывают отдельные детали орнамента.
Вот они:
Листья папоротника и алоэ. Навершия посохов. Бунчуки. Павлиньи хвосты. Зрячие ладони. Верблюды вниз головой. Арабская вязь. Оранжевые цветы. Плетенные из бересты восьмиконечные кресты. Рыбы вверх плавниками. Горящие свечи. Кубки для вина.
Красное виноградное вино.
Он задрожал всем телом и стал кричать на танки что было мочи. Из его рта вылетала слюна, из глаз катились слезы. Ему даже казалось, что некоторые из всадников Апокалипсиса обращали на него внимание, но ничего, кроме безразличной усмешки, он, столь ничтожный, столь жалкий, перепачканный глиной и пороховой гарью, в драных обносках, у них не вызывал.
Всадники недоумевали: «Он что? Вызывает нас на поединок, на бой ли, жалкий смерд?»
Она включает телевизор и смотрит в него.
Там передают новости. Ее внимание почему-то привлекает сюжет о безногом инвалиде, который на сделанной из трехколесного велосипеда коляске доехал от Мурманска, где живет, до Медвежьегорска. На вопрос корреспондента, зачем он это сделал, инвалид ответил, что посвятил этот пробег своему деду – врачу-психиатру Серафиму Филипповичу Молодцову, который пропал без вести в медвежьегорских лагерях в 37-м году.
Кстати, я тоже довольно часто вспоминаю своего деда Бенедикта Самойловича Полонского. Особенно тому споспешествует черно-белая фотография, сделанная моим отцом в 1979 году и хранимая мной в электронном виде.
На этой фотографии я изображен держащим в руках журнал «Америка».
Дело в том, что дед был подписан на этот самый журнал, что по тем временам было делом в высшей степени экстраординарным. Так вот, именно тот самый номер «Америки», который я держу в руках на фотографии, и был мне подарен дедом во время моей болезни ветряной оспой.
Другое дело, как могло получиться, что, уже будучи восьмиклассником, я подцепил эту болезнь, которой, как правило, болеют в детсадовском возрасте.
Хотя признаюсь, в то время я постоянно грыз ногти, и, следовательно, инфекция имела дополнительные возможности проникнуть в мой организм и поразить его. Так оно, видимо, и произошло.
Боже мой, с каким отвращением я взирал на свои, мной же изуродованные, в смысле обкусанные, ногти, сокрушался, всем своим существом ощущал, что где-то тут, в этих, столь напоминающих сланцевые разломы сооружениях таится болезнь.
Зачем-то, совершенно непонятно зачем, поливал руки попеременно горячей и холодной водой, надеясь таким образом смыть микробов в дудящий канализационными выхлопами сток рукомойника на предмет их утопления там.
Да-да, тех самых микробов, которых на плакатах, висящих в детской поликлинике, почему-то всегда изображали с выпученными глазами, как будто бы они испытывали недостаток в йоде и страдали от базедовой болезни.
Таращились-таращились на спеленутого марлей врача, разглядывали свое отражение в его столь напоминающих экран телевизора очках в пластмассовой оправе или в круглом зеркале, прикрепленном на его же голове при помощи резинового ремешка.
Она выключает телевизор и открывает холодильник. Совершенно непонятно почему, но на глаза ей попадается именно склянка бриллиантовой зелени, раствора для наружного применения.
Он нарисовал у себя на груди зеленкой крест и попросил одного из всадников Апокалипсиса убить его, выстрелить именно в этот, похожий на пороховую татуировку, крест.
Он был полностью уверен, что крест защитит его от пули.
Один из всадников выставил вперед указательный палец так, как это делают дети, когда играют в войнушку, и сказал: «Пуф!»
Я рассматриваю подаренный мне дедом журнал «Америка», на обложке которого изображен астронавт, делающий первые шаги на Луне. Особенно меня поражает его скафандр, в нем, как в широкоугольной линзе, одновременно отражаются черное бездонное небо, лунный грунт, американский флаг, пристроченный к рукаву, и даже обернутые специальной фольгой ботинки астронавта. Если не видеть всей фотографии целиком, то можно предположить, что он завернут в эту специальную фольгу с ног до головы.
Вполне возможно…
Когда я болел ветряной оспой, то был весь, буквально с ног до головы, вымазан зеленкой.
Она закрывает холодильник.
Он отходит от могильной ограды, присаживается на выкрашенный зеленой краской деревянный ящик из-под реактивных снарядов залпового огня, закуривает.
Молчит.
Все! Рассказывать больше не о чем.
«Пуф!» – и жизнь остановилась.
Оборвалась.
Точнее сказать, потеряла всяческий смысл, превратилась в одно, бесконечной длины воспоминание, в горькое, смертельно обидное осознание того, что ничего нельзя вернуть, – иначе говоря, повернуть вспять. Понимание этого является очень важным, смыслообразующим, полностью подрывающим основы сиюминутного, суетного бытования глубинным.
На глубинных минах подорвалось немало транспортных конвоев, шедших по Норвежскому и Баренцеву морям в Мурманск.
Мое лицо отражается в покрытой черным лаком рогатой глубинной мине, что выставлена на гранитном постаменте перед входом в Евпаторийский краеведческий музей.
Еще здесь стоят тяжелые корабельные орудия, гигантских размеров якоря, а на специальных, для той надобности сооруженных лафетах разложены торпеды разного калибра, разных систем и ходовых характеристик.
Сказав «Пуф!», всадник смеется, подносит указательный палец к губам, уже сложенным фистулой, и дует на него. Так всегда делают герои американских вестернов, как бы остужая разгоряченный продолжительной стрельбой ствол своего револьвера.
Во что облачены всадники Апокалипсиса?
Всадники Апокалипсиса облачены в кольчуги, кожаные, доходящие до локтей краги с металлическими шипами, высокие войлочные сапоги и обшитые собольим мехом треухи.
Она выходит на московскую улицу, и в лицо ей ударяет свежий морозный воздух конца декабря. Впрочем, такая погода в наших краях с некоторых пор является редкостью. Все более преобладает осенняя сырость вперемешку с густым и вязким, как пищевая вата, туманом, что выползает из низин, подворотен ли, крадется, веет-веет.
Вынесенный на фасад дома лифт живописно уплывает в мерцающую в отблесках наледей темноту ночи.
И где-то там, в горних сферах, в небесах, лифт исчезает.
Он уверен, что его жена и годовалый ребенок сейчас уже находятся на небесах, потому что именно на небеса отправляются все праведники, принявшие мученическую смерть. А еще, что с этим надо просто смириться и верить в бессмертие души назло «последнему врагу».
Но что есть «последний враг»?
«Последним врагом» Ориген Александрийский называет смерть, а коль скоро ее не будет, то не будет и никакой печали, не будет ничего враждебного там, где нет врага.
Потом лифт, сколь бы мы его ни наделяли сверхъестественными способностями, конечно, спускается с небес на землю, на первый этаж, другое дело, что довольно часто западают кнопки второго и пятого этажей.
На улице в лицо ей ударяет ледяной ветер.
К ночи, как известно, мороз всегда усиливается.
Отблески фонарей выхватывают из темноты бесформенные куски льда с вмерзшим в них нехитрым дворницким инструментарием.
Поймать машину сейчас дело весьма и весьма непростое.
В детстве меня очень сильно укачивало в машине. Теперь-то я понимаю, сколько хлопот я доставлял своим родителям, да, впрочем, и не только им, этой особенностью своего организма. Порой мне даже казалось, что он, мой организм, живет какой-то своей отдельной жизнью, и вот именно в тот момент, когда происходило трагическое несовпадение внутреннего и внешнего его бытования, между ними приключалась война.
Он давно привык к войне.
Он сидит на ступеньках переделанного под бытовку автобуса «Икарус» и ждет ее, ведь эта тишина остается таковой лишь до поры, до первой автоматной очереди, до первого разрыва фугаса, заложенного на причудливом изгибе горной дороги, до первого минометного обстрела.
Вообще-то в бытовке, читай: в автобусе, к жизни все приспособлено весьма сносно.
Тут есть газовая плита на одном баллоне, рукомойник, сооруженный из пластиковой канистры, печка-перекалка и даже телевизор. Конечно, с электричеством тут бывают перебои, да и телевизионная антенна больше напоминает вырванный взрывом из земли кусок искореженной арматуры, но федеральные каналы ловить все-таки можно.
Вот, например, он недавно смотрел репортаж об одном безногом инвалиде из Мурманска, который собственноручно сделал из детского трехколесного велосипеда коляску и на ней доехал до Петрозаводска. На вопрос корреспондента, зачем он это сделал, инвалид ответил, что отправился в такой дальний и небезопасный путь, чтобы подарить библиотеке исторического факультета Петрозаводского госуниверситета свои дневники, которые он начал вести еще в 1979 году, когда попал служить в Афганистан в чине рядового мотострелкового взвода.
Потом было первое ранение, эвакуация в госпиталь в Душанбе, невыносимо яркий, буквально выжигающий глаза белый свет приемного покоя, белая палата, белые шторы, белые, со следами мушиных колоний, потолки, белый кафель, белые, развевающиеся на горячем ветру простыни, а еще белый с желтоватым отливом пластмассовый, напоминающий одиннадцатиэтажное панельное здание трехпрограммный громкоговоритель «Маяк-202».
Треск в эфире.
Далекие, едва различимые крики сослуживцев, запертых в ущелье под шквальным огнем из тяжелых станковых пулеметов.
Голоса.
Когда он просыпается у себя в автобусе по ночам, то часто слышит голоса. Ему кажется, что его зовут убитые праведники. Они просят о помощи, но чем он может помочь им?
И ему ничего не остается, как встать с кровати, подойти к рукомойнику и умыть лицо теплой, приторно пахнущей пластиком водой.
Она едет в машине. Мимо проносятся светящиеся буквы рекламы.
А ведь когда-то все было именно так: она заполняла специальный формуляр, куда вносила свою фамилию, имя и отчество, затем следовало название книги, автор и самое главное – шифр, состоявший из непонятной непосвященному комбинации цифр и букв.
Казалось, что внутренне она сопротивлялась предстоящему чтению букв-букв.
В машине тепло.
В комнате тепло.
В белой больничной палате тепло.
А в «Икарусе» даже жарко.
Особенно летом.
Горячий ветер гонит с городища песчаную метель, трубно гудит в платинового отлива ковыле, пригибая его к самой земле, поднимает с обложенных досками могил высохшие цветы и выцветшие ленты, платки.
Согласно местному обычаю, женщины привязывают к могильным оградам свои платки в знак того, что никогда не забудут покойного и будут хранить ему верность до последних своих дней.
Дни сменяют друг друга, пересыпаясь песком из одного тигля в другой.
Я воображаю себя покорителем орнамента. Всех этих листьев папоротника, посохов с навершиями в виде дикириев и трикириев, павлиньих хвостов, бунчуков, зрячих ладоней, верблюдов вниз головой и их погонщиков, оранжевых цветов, арабской вязи, плетенных из бересты наперсных крестов, рыб вверх плавниками и рыб с глазами, рипид, украшенных золотом, курдючных овец, символов святости, сияющих на солнце, как велосипедные спицы, да балканских украшений в виде восьмиконечных рождественских звездиц.
И это уже потом искусные мастера перенесут все описанные выше фигуры на разверстку ткацкого станка, будут денно и нощно священнодействовать с бесконечной длины шерстяными нитями, колдовать, как колдуны, над красителями, чтобы впоследствии безбольно продать свой ковер-власяницу в магазине «Ядран», что находится в Теплом Стане.
Сюда от метро «Юго-Западная» ходят троллейбусы и маршрутки.
На остановке собирается толпа, гудит, как пчелиный улей, все толкаются локтями, смеются, кашляют, вдыхают морозный воздух, топчутся на месте.
У собаки есть локти.
Тропарево.
Церковь Архистратига Михаила в Тропареве.
Рядом место, указанное праведным Нафанаилом для строительства водосвятной часовни, где небо ртутью шевелится в глубине невыносимо пахнущего прелой древесиной колодца.
Архистратиг Михаил облачен в украшенную бармами кольчугу, доходящие до локтей кожаные краги с металлическими шипами и высокие, шитые серебряной нитью войлочные сапоги. Голова его обнажена, и лишь длинные волосы его подобраны красной лентой.
Всадники приноравливаются к седлам, встают на стременах, пытаются заглянуть за горизонт, прикладывая для той надобности ладони к глазам наподобие козырька.
Она читает: «Он повелел посадить их на коней, на вьючные седла, спиной к голове коня, чтобы смотрели они на запад, в уготованный для них огонь, одежду же их повелел надеть задом наперед, а на головы им повелел надеть заостренные берестяные шлемы, будто бесовские, бунчуки же на шлемах были из мочала, венцы – из соломы вперемешку с сеном, на шлеме была надпись чернилами: „Вот сатанинское войско“. И приказал их водить по городу и всем встречным приказал плевать на них и говорить громко: „Это враги Божии!“ После же повелел сжечь шлемы, бывшие у них на го ловах. Так поступал он, чтобы устрашить нечестивых, чтобы всем показать зрелище, исполненное ужаса и страха».
Он исполнялся ужаса и страха.
Ему казалось, что из каждой подворотни, из каждого разрушенного бомбежкой дома его выцеливает снайпер, неспешно делает поправку на визире, со знанием дела задерживает дыхание и плавно нажимает на спусковой крючок.
«Пуф!»
Из нарисованного на груди зеленкой креста тут же с фистульным звуком вырывается горячий воздух.
И еще раз – «Пуф!»
Он падает и лежит неподвижно какое-то время.
Светлое время суток.
Темное время суток.
Полностью согревшись в машине, она засыпает.
Шум в эфире и едва различимые далекие голоса, музыка и отдаленно напоминающие разрывы авиационных бомб помехи волнообразно вплывают в ее сознание в качестве абсолютно немыслимых в здравом рассудке макабрических видений. Вот они:
Девочка с лицом старухи.
Нетрезвый беззубый мужик без рук.
Глухой продавец самсы.
Беременная женщина с иссиня-черными синяками под глазами.
Улыбающийся старик с зататуированной лысиной.
Толстый мальчик, закрывающий лицо ладонями.
Да и лица шофера тоже не разглядеть.
Он напевает себе что-то под нос, раскачивает головой в разные стороны, даже посмеивается, потому что у него хорошее настроение.
Вообще-то, когда я получил от деда в подарок журнал с американским астронавтом на обложке, я уже выздоравливал и у меня действительно было хорошее настроение.
Весеннее настроение. Мартовское солнце заглядывало в комнату, наполняя ее каким-то особенным теплом, а еще высвечивало под потолком матового стекла гэдээровскую люстру в виде гигантской тарелки для фруктов. НЛО.
Болячки отсыхают и отваливаются, оставляя после себя небольшие, едва различимые углубления.
Уже спустя годы, когда я совершал путешествия по Северу, то довольно часто встречал такие углубления, доверху наполненные черной, нефтяного отлива болотной водой.
Эти путешествия, хотя точнее было бы их назвать хождениями, заслуживают особого рассказа, повествования ли об окрестностях Вологды, Великого Устюга, Мезени, Онеги и Медвежьегорска.
Однажды именно здесь, недалеко от Пертоминска, я впервые увидел всадников, которые ехали по болоту, строго сообразуясь с расставленными вехами.
Всадники Апокалипсиса ехали в полном и сосредоточенном молчании.
Впрочем, мне показалось, что они заметили меня, но никоим образом этого не обнаружили, разве что на их лицах отобразились в высшей степени безразличные усмешки, вызванные искренним непониманием того, как в этой дикой заболоченной местности, именуемой Чижкомох, вообще мог появиться живой человек. Уж не видение ли он, не призрак ли?
Мысленно я ответил им: «Конечно же нет!»
Другое дело, что мои слова так и остались неуслышанными, потому что всадники не умели различать мысли на расстоянии, почитая всякую мысль за блажь, а расстояние за вымысел.
Вот разве что один из всадников, почему-то одетый в телогрейку с золотыми армейскими пуговицами, узнав, куда я иду, только и повел плечами: «Не ходи туда, там опять раба Божия убили».
Умение различать харизмы злых демонов и добропобедных ангелов – даруется каждому по сердечному усердию его.
Она читает: «Сердце мудрых – в доме плача, а сердце глупых – в доме веселия».
Она выходит из машины на пронизывающий ветер и чувствует, что не может дышать. Она дрожит всем телом, задыхается, судорожно открывает рот, а из глаз ее катятся слезы, которые, впрочем, тут же и замерзают на щеках.
Щеки, как известно, могут быть разными – лежащими на плечах, к примеру, венозными и оттого пунцовыми, как хорошо проваренная свекла, впалыми, досконально прочерчивающими линию верхней челюсти, а также нависающими этакими уступами, а еще щеки могут быть абсолютно гладко выбритыми, лоснящимися, источающими приятный аромат дорогих духов, изрядно знающими прикосновение губ, фланели, бархата, хлопкового носового платка или высокого мехового воротника, защищающего от порывов пронизывающего декабрьского ветра.
Ветер гуляет на железнодорожной платформе где-то в районе Голицына.
Шамордино. Никола Ленивец. Орудьево. Спас. Острожье. Сикеотово. Зосимова пустынь. Подмоклово. Акатово горо дище. Катуар. Краснознаменск. Вознесенское. Кушерека. Калуга-2.
Река символизирует вечность. Потоки, обнаруживающие себя лишь присутствием извивающихся водорослей, приходят ниоткуда и уходят в никуда. Водоросли, как полозы.
Некоторые змеи проплывают мимо и теряются в водоворотах, проваливаются без остатка в бездонные воронки.
Изредка можно видеть и проплывающих мимо рыб, которые смотрят по бокам, потому что глаза расположены у них по бокам.
Он падает на кровать на правый бок, уперевшись взглядом в стену, и лежит так, абсолютно неподвижно, вспоминая все детали происшедшего – взрыв, крики, грохот стрельбы.
Однако со временем события все более и более обретают мифологические черты, а самое страшное и даже дикое забывается, зарубцовывается последующими наслоениями, порой, увы, имеющими к произошедшему самое отдаленное отношение. В подобных случаях всегда предельно важно запоминать детали, а также отчетливо отличать явь от забытья, от полусна.
По стене ползают муравьи.
Откуда они здесь?
Он встает с кровати и выходит из автобуса, захлопывая за собой дверь.
В воздухе еще какое-то время продолжает висеть песчаная пыль, принесенная сквозняком с городища, где горячий ветер трубно гудит в платинового отлива ковыле, стелет его по земле, поднимает с обложенных досками могил высохшие цветы и выцветшие погребальные ленты.
Ритуал печального кортежа всегда соблюдается со строгостью, ведь тут у каждого свое место, свои слова, которые следует произносить снова и снова, когда с фронта привозят гробы с убитыми новобранцами, недавними десятиклассниками.
Десятиклассники курят во дворе школы.
Еще они пьют вино в раздевалке, громко смеются, сплевывают на кафельный пол, матерятся, пытаются неумело обнимать десятиклассниц, рассказывают, как им кажется, смешные анекдоты.
И вот теперь они – мертвые.
Их нет, и чудом уцелевший водитель по фамилии Плиев, который вез их на линию фронта в рейсовом автобусе по объездной Зарской дороге, рассказывает, как они попали в засаду, и их – безоружных пацанов – расстреляли из автоматов.
Плиев прячет глаза, потому что он остался жив, а их уже нет.
Все ждут от него покаяния, и тогда он встает на колени и начинает молиться.
Его хриплый, срывающийся голос едва различим, он слабо дребезжит, что чайная ложка во время размешивания сахара внутри кружки с толстыми, покрытыми растительным орнаментом стенками.
Толстые стенки заглушают звук.
Толстые стены родовых башен сложены из огромных, специально подогнанных друг к другу камней.
На деревянных лавках, сколоченных из свежеструганых досок, сидят те, кто составляет род. Их лиц уже не разобрать, они затерты песком, изъедены солью, увиты диким плющом, проросли шипами сухостоя.
Они облупились.
Они могут делать лишь так: «тррруу-тррруу», тем самым полностью уподобливаясь цикадам, что живут у них в волосах.
Женщины принимаются таскать Плиева за жидкие, всклокоченные волосы, причитая: «Умри, шакал, умри!» Но он не умирает, потому что Господь до поры не подает ему смерть.
Поезд уже подан.
Она медленно добредает до своего вагона. Какое-то время медлит, прежде чем окунуться в пахнущую углем темноту, боится даже посмотреть туда, где полосатые матрасы свисают с верхних полок, но в конце концов все-таки делает шаг в тамбур, переступая узкую бездонную щель между платформой и рифленым стальным козырьком приступки.
Поезд тут же и трогается, начинает скрипеть, рычать, дышать тяжело и неритмично, переваливаться из стороны в сторону на стыках, качаться, разумеется, а еще перепоясываться лентами пристанционных огней, что крестообразно расчерчивают пол и потолок, руки и занавески на окнах, вспыхивают и мгновенно угасают в дверном зеркале.
Она стоит в дверном проеме.
Она рассматривает свое отражение в зеркале.
Видит себя стоящей в бесконечной длины коридоре, едва озаряемом сполохами светофорных огней. Здесь, в полумраке, пытается нащупать выключатель, но из этой затеи ничего не выходит.
Стало быть, так и придется стоять почти в полной темноте, всматриваться в свое отражение в зеркале и не узнавать себя.
Это совсем не то лицо, которое она знала раньше, – абсолютно чужое, сосредоточенное, с острыми морщинами вдоль поджатых, выражающих постоянное раздражение губ. Что могло произойти с ним за столь короткий срок? Ведь еще совсем недавно она казалась себе улыбчивой и даже смешливой. Более того, она выглядела значительно моложе своих лет, и когда открывала свой истинный возраст, то вызывала искреннее удивление и даже зависть окружающих.
Нет, она настойчиво продолжает верить в то, что ни в чем не виновата ни перед собой, ни перед другими, что сейчас, находясь в этом вагоне поезда, с трудом переваливающегося на стрелках и стыках, поступает правильно. Совершенно правильно!
Однако ее губы начинают дрожать, прыгать, выписывать немыслимые кульбиты, и слезы почему-то не выдавливаются из глаз. Более того, глаза остаются при этом абсолютно сухими, они даже горят от этой сухости, от этого испепеляющего зноя ярости.
В чем же дело?
Она идет к проводнице и просит ее включить кондиционер, потому что сейчас умрет от духоты. Проводница в ответ только разводит руками.
И тогда она начинает кричать на проводницу. Из ее рта вылетает слюна, а из глаз вдруг начинают идти слезы. Это целый поток, целое наводнение из слез, истинный водопад, сквозь который уже не разглядеть ни вагона, ни полок, на которых притаились перепуганные пассажиры, ни проводницы, которая тоже что-то кричит ей в ответ, но голоса ее тоже уже не разобрать.
Апокалиптические всадники останавливаются.
Откуда-то из глубины молнией расколотого надвое ущелья до их слуха доносится истошный женский крик.
Всадник, едущий впереди, поднимает правую руку, и все замирают на месте, даже перестают дышать на время.
Будучи многократно усиленным, вопль заполняет скальные горловины, столь напоминающие разверстые рты, заросшие непроходимым кустарником низины, проточенные горными потоками щели, подобные глубоким, застарелым пролежням. Всадник опускает правую руку, снимает с седла медный, оплетенный кожаными ремешками рог, подносит его к губам и начинает трубить в него.
От пронзительного воя кожа трескается на лице его, а кровь начинает заливать рот и глаза, но всадник продолжает трубить.
Вид его страшен, и все другие всадники опускают глаза долу, чтобы неумолчно повторять слова: «Велик Бог! Велик Бог!»
Лица в ладонях – они затерты песком, изъедены солью, увиты диким плющом, изрыты оспой, покрыты болячками, проросли шипами сухостоя, они потрескались и облупились и теперь более напоминают рассохшуюся поверхность выжженного солнцем солончака, что теряется за горизонтом.
Болячки отсыхают и отваливаются, оставляя после себя небольшие, едва различимые углубления.
А ведь я прекрасно помню, как в детстве отковыривал себе эти самые высохшие болячки, оставшиеся после ветрянки, то есть те болячки, которые не отвалились самостоятельно. Они падали на пол, на придвинутое к стене кресло из гэдэ эровского гарнитура, на подоконник, на котором стояло высохшее алоэ, на ковер. И их тут же начинали обнюхивать бородатые верблюды, лошади, рыбы с плавниками на спине и на животе, остроухие собаки. Даже пытались их попробовать на вкус, но ничего у них из этой затеи не выходило, конечно, потому что все они были вытканы на ковре и оста вались всего лишь частью орнамента, хотя и имели воз можность таиться в зарослях дикого винограда, в листьях папоротника, где спали змеи, в высокой, доходящей чуть ли не до пояса траве, в кущах пунцовой крапивы ли.
Сначала он идет по городищу, где горячий ветер трубно гудит в платинового отлива ковыле, стелет его по земле, поднимает с обложенных досками могил высохшие цветы и выцветшие погребальные ленты. Затем он спускается в долину, откуда уже видны полуразрушенные постройки молокозавода, расположенного на северной окраине города, а отсюда до шоссе не более трех километров по прямой. Однако дорога петляет, приходится долго обходить заросшие густым кустарником овраги, перебираться через каменистый, перерезанный перекатами поток, восходить на изъеденные дождями глиняные уступы, наконец, протискиваться через ощетинившуюся ржавой арматурой дыру в бетонном заборе и плутать по бывшей заводской территории, где стояла танковая часть.
Наконец он выходит к автобусной остановке.
Здесь, под навесом, наскоро сооруженным из колотого шифера и мятых дорожных знаков, уже собралась толпа, она гудит, как пчелиный улей, все толкаются локтями, смеются, кашляют, вдыхают сухой, пропитанный пряными запахами разнотравья горный воздух, топчутся на месте, ждут рейсового автобуса.
И только теперь он начинает понимать, что тот автобус, в котором он живет сейчас рядом с городским кладбищем на городище, тоже когда-то был рейсовым, тоже совершал бесчисленное количество ездок через перевал и Рокский тоннель, тоже бывал переполнен, ломался постоянно, и тогда приходилось высаживать пассажиров, доставать из багажного отделения завернутый в промасленный бушлат домкрат, чтобы снимать передние колеса и пробираться к заглохшему двигателю.
Увидел себя водителем этого автобуса – страдающим одышкой, обладающим желтыми от употребления дешевого табака зубами, глухо и надрывно кашляющим, вспоминающим, как служил в стройбате под Рязанью, как там каждый день дрался с «дедами», как ему сломали нос и отбили почки, а после демобилизации вернулся домой и пошел работать на городскую автобазу водителем автобуса.
Вот и решил сейчас ехать по окружной Зарской дороге, потому что пробираться через город было опасно. Выехали рано, часов в пять утра. Миновали элеватор, точнее сказать, то, что от него осталось после обстрела «градами», рабочие бараки, железнодорожный переезд, за которым старая армейская бетонка уходила резко вправо, в горы, – отсюда начинался объезд. Включил дальний свет, и голубоватая туманная дымка тут же наполнилась переливающимися, разнонаправленными, выписывающими на лобовом стекле немыслимые узоры потоками. Автобус как бы погрузился под воду, где мимо наполовину зашторенных окон проплывали водоросли.
Наконец всадник перестает трубить и отводит рог от запекшихся, более теперь напоминающих обугленные поленья губ.
Наступает тишина, которая, впрочем, длится недолго, потому что откуда-то из глубины ущелья до слуха начинает доноситься монотонный звук включенного двигателя. Звук то отдаляется, то вновь надвигается, то проваливается, то восходит, петляя вслед за проложенной незадолго до начала войны дорогой, отражаясь от ее разбитого колесами тяжелой техники бетонного покрытия.
Всадники Апокалипсиса выстраиваются в ряд, достают мечи из ножен, поднимают их над головами, ждут приближения «войска сатанинского».
Сказано: «И сели они на коней, на вьючные седла, спиной к голове коня, чтобы смотрели они на запад, в уготованный для них огонь, одежду же они надели задом наперед, а на головах у них были заостренные берестяные шлемы, будто бесовские, бунчуки же на шлемах были из мочала, венцы – из соломы вперемешку с сеном, а на шлеме было начертано чернилами: „Вот сатанинское войско“. И водили их по городу, и все встречные должны были плевать на них и говорить громко: „Это враги Божии!“ После же шлемы, бывшие у них на головах, были сожжены для устрашения нечестивых, дабы всем показать зрелище, исполненное ужаса и страха».
Наконец предрассветную мглу протыкает свет автомобильных фар, а надрывный рев двигателя рейсового автобуса, переполненного пассажирами, врывается внутрь головы, внутрь обшитого собольим мехом треуха, внутрь пластмассового, столь напоминающего одиннадцатиэтажное панельное здание трехпрограммного громкоговорителя «Маяк-202».
Далекие, едва различимые в эфире крики призывников, запертых под шквальным огнем в ущелье на объездной Зарской дороге.
Она лежит на верхней полке с открытыми глазами.
Она не может спать.
Она вспоминает, как подходила к телевизору, который стоял на кухне, и смотрела в него.
С противоположной стороны экрана на нее смотрел диктор, который пытался заглянуть в ее глаза, буквально вымучивал ее своим сверлящим взглядом, а она в ответ только бессмысленно пялилась на его гладко выбритый подбородок, напомаженные губы и хлопья пудры, свисающие с узких арийских щек.
Потом начинались новости.
Ее внимание привлекал репортаж об одном безногом инвалиде из Мурманска, который собственноручно сделал из детского трехколесного велосипеда коляску и на ней доехал до Петрозаводска.
На вопрос корреспондента, зачем он это сделал, инвалид ответил, что отправился в такой дальний и небезопасный путь, чтобы подарить библиотеке исторического факультета Петрозаводского госуниверситета имени О. В. Куусинена свои дневники, которые он начал вести еще во время первой чеченской войны в 1994 году, куда попал в чине рядового мотострелкового взвода.
Она теребит край простыни, на котором с превеликим трудом можно разобрать штампованный орнамент, изрядно потраченный в ходе частых стирок.
Восьмиконечные звезды, шитые золотом поясные палицы, ликторские топоры, используемые путевыми обходчиками для простукивания рельсовых стыков, разнокалиберные бусы, цветы бессмертника, сложенные из формованного, желтоватого оттенка, сахара родовые башни и покосившиеся, прилепившиеся по краям каменистых склонов постройки безымянного горного селения.
Краем простыни она вытирает пересохшие от крика губы.
Смотрит на свое отражение в окне.
За окном проплывают едва выступающие из морозной мглы стальные клепаные башни высоковольтных линий, прожекторные мачты, кирпичные, крытые шифером постройки без окон да заваленные снегом колонии бетонных шпал.
В свою очередь, с той стороны забрызганного вагонного стекла на нее, внутрь пятого купе, смотрит смертельно усталое, сосредоточенное, абсолютно чужое, с острыми морщинами вдоль поджатых, выражающих постоянное раздражение губ лицо.
Мое лицо отражается в покрытой черным лаком рогатой глубинной мине, что выставлена на гранитном постаменте перед входом в Евпаторийский краеведческий музей.
Я воображаю себя колядующим и надеваю на лицо маску какого-то неизвестного науке рогатого чудища.
Я смотрю на себя и, кажется, начинаю узнавать.
2.
В Евпатории мы жили рядом с бывшей дачей купцов-караимов Юхима, Аарона и Моисея Гелеловичей, переданной в 1921 году городскому краеведческому музею, большую часть экспозиции которого составляли извлеченные со дна солончака Сасык военные реликвии осени 43-го года.
Под стеклом – пробитые осколками каски, ржавые штыки-ножи, саперные лопатки, деревянные, полусгнившие в соляном месиве винтовочные приклады, залитые кровью партийные билеты и даже черепа, укутанные в парчовые, замысловатого плетения тюрбаны.
А еще тут наличествовали пожелтевшие от времени фотографии, на которых были изображены улыбающиеся солдаты, бредущие по гнилой пустыне лимана. Скорее всего, они улыбались, потому что на тот момент, когда фронтовой фотограф делал именно этот снимок, они были еще живы.
Да, в этом хлюпающем, гудящем на промозглом ветру затишье было что-то от прежней, навсегда забытой мирной жизни, возврата к которой не будет никогда. Будут только стоящие вдоль дороги грязные, оборванные дети и придурковато улыбающиеся старики, пахнущие ржавой водой рукомойники и сваленные в кучу затвердевшие от крови и гноя бинты. А еще будет нескончаемый скрежет затворов и дребезжание стреляных гильз, в припадке бьющихся о мраморный пол турецких бань.
И это уже потом, когда фотограф переведет кадр и приготовится сделать еще один снимок для полковой многотиражки, откуда-то из низких, насквозь провонявших сопревшими водорослями облаков раздастся пронзительный свист падающих с неба мин.
Всякий раз я подолгу стоял именно перед этим висящим в межоконном пространстве снимком – только всплеск коричневатого оттенка черной грязи, впрочем, может ли она быть какой-либо иной на черно-белой выцветшей фотокарточке, только засвеченные квадраты перфорации и смазанный, исцарапанный обрывок лица с открытым ртом.
Чтобы не закладывало уши?
Чтобы выкрикнуть слова проклятья?
Чтобы выдохнуть или, напротив, чтобы вдохнуть?
Никто не знает ответов на эти вопросы.
Даже мудрецы, облаченные в синие, перепоясанные золотыми шнурами лапсердаки и меховые шапки, мудрецы, держащие в правой руке плод граната, а в левой свиток Завета, не знают.
Теплый ветер трогает музейные занавески и доносит с улицы мерный гул толпы, которая движется мимо бывшей дачи Юхима, Аарона и Моисея Гелеловичей, перед мавританским входом в которую стоят две корабельные мортиры, гигантских размеров якоря, а на специальных, для той надобности сооруженных лафетах разложены торпеды разного калибра и рогатые глубинные мины.
Этот эпизод повторялся от раза к разу, потому как музей я посещал довольно часто, причем делал это специально незадолго до его закрытия, чтобы оказаться в довольно сумрачных и слабо освещенных залах в полном одиночестве.
Расцарапанное грейферным механизмом лицо с распахнутым ртом смотрело куда-то мимо меня, может быть, на потолок, вдогонку отлетающей душе, на сохранившиеся в форме орнамента каббалистические символы, на закопченную лепнину, на тусклую, напоминающую кузнецовское фарфоровое блюдо для холодца люстру.
Более того, я достоверно знал, что эта фотография, находящаяся в самой неприметной части экспозиции, таит в себе некий особый смысл, что она, будучи снятой во время осенних событий 43-го года, каким-то непостижимым образом вызывает в моей голове монотонное тягучее звучание. И тогда мне ничего не оставалось делать, как тоже широко открывать рот и выпускать это звучание из своей головы, теперь уже более походившей на духовой инструмент.
Вполне возможно, что кто-то из проходивших по улице пешеходов, из тех, что стремились к морю на набережную, замечал стоявшего у музейного окна ребенка с открытым ртом, но, само собой, не придавал этому странному обстоятельству никакого значения.
Они шли по Симферопольской улице, наслаждаясь терпким запахом лимана Сасык, также именуемого и Гнилым лиманом, они миновали мечеть и турецкие бани, они оставляли по правую руку евпаторийский краеведческий музей и наконец выходили на набережную имени Горького.
Я все это видел, стоя у окна.
Видел Генерала Топтыгина и Царя царствующих, спешившегося всадника и продавца мидий, дервишей, идущих совершать намаз в пятничную мечеть Джума-Джами, и безногого инвалида, собирающего милостыню на паперти храма пророка Илии. Инвалид сидел на самодельной, сооруженной из детского трехколесного велосипеда коляске и, казалось, дремал. Более того, периодически он начинал храпеть, свесив на плечо голову и раскрыв при этом свой беззубый рот пещерой, катакомбами ли.
Затем, оставаясь добровольно, повторяю: абсолютно добровольно обремененным духовым орудием в виде такого же разверстого, как у инвалида, рта, я безропотно и бесстрашно обходил зал за залом, наполняя каждый из них той мелодией, которую слышал неотступно.
Своеобразно кадил-кадил, доходил подобным образом до костяных оттенков и потому напоминавшей окаменевший ледник мраморной лестницы, над которой висела огромных размеров карта Крыма.
Смотрительницы музея рассказывали, что раньше на этом месте висели портреты купцов Гелеловичей – статных, чернобородых, подстриженных под машинку, в единообразных длиннополых утепленного сукна сюртуках.
Спускаясь по лестнице, я чувствовал их тяжелые взгляды у себя за спиной, да и Крым нависал надо мной обтрепавшимся по углам холстом, трещал, как мартовский наст, а, стало быть, звучание мелодии постепенно пропадало.
Исчезало.
Наступала тишина, которую тут же, впрочем, и нарушали евпаторийские трамваи, что выплывали из одуряюще пахнущей кипарисами темноты.
Один за одним, грохоча немилосердно, раскачиваясь на рельсовых стыках, мигая фонарями, высекая снопы бенгальских огней из контактного провода, озаряя тем самым увитые плющом стены домов и пустую улицу.
Я переходил пустую улицу и медленно брел вдоль нестройной колоннады абрикосовых деревьев.
«Абрикотели», как называли абрикосы у нас во дворе, валялись везде, некоторые из них уже были подавлены, но большинство имело вполне съедобный вид.
Тут же наклонялся, подбирал их с земли, извлекал косточку, которую впоследствии следовало бы высушить на солнце и при помощи скальпеля выскрести сердцевину. Тогда, если не ошибаюсь, из абрикосовых косточек делали бусы.
Наконец, абрикосами можно было кидаться. Особым успехом в данном случае пользовались перезрелые, сочащиеся коричневатой слизью плоды, которые при попадании взрывались, оставляя на одежде или теле противника хаотические нагромождения мякоти. Внутренности.
Они же – проникающие ранения, они же смертельные раны, они же стигматы, они же язвы, получив которые, сообразуясь с правилами игры, было необходимо упасть на землю и захрипеть, одновременно пуская слюни и закатывая глаза, изобразить тем самым агонию и неминуемую кончину наиболее достоверно.
На некоторых проходивших к морю отдыхающих это производило, честно говоря, тяжелое впечатление.
Итак, абрикосовая аллея заканчивалась ровно перед входом в наш двор.
Тут я останавливался и еще раз смотрел на музей, находил глазами те самые два окна на втором этаже, в простенке между которыми висела фотография с исцарапанным обрывком лица и коричневатым пятном взрыва, больше напоминавшего грязевой фонтан.
Недоумевал.
И это уже много позже, когда сам увлекся фотографией, я выдвинул предположение, памятуя о той странной евпаторийской карточке, что, вполне возможно, это было просто пятно проявителя на неумело промытой перед фиксажем пленке.
Обычное пятно в разводах и царапинах, пятно, которое приняло столь странную форму, сообразуясь с тем, что может нарисовать воображение зрителя.
Или тайнозрителя.
Юхим Гелелович степенно расправляет густую черную бороду, имеющую название «Моисеевой брады», прокашливается и начинает громко читать:
«Под облаком с серповидной луной, служащей подножием Богоматери, семь ступеней со стоящими на них ветхозаветными тайнозрителями воплощения Премудрости – праотцами и пророками: царь Давид с Ковчегом Завета, Аарон с жезлом, Моисей со скрижалью, Исаия со свитком, Иеремия с жезлом, Иезекииль с затворенными вратами, Даниил с Горой Нерукосечной. На каждой из ступеней надписи: вера, надежда, любовь, чистота, смирение, благость, слава. На семи столпах начертаны изображения из Апокалипсиса и их разъяс нение как даров Духа Святаго согласно пророку Исаие: книга за семью печатями – дар премудрости, семисвещник – дар разума, „камень единый с семью очесами“ – дар совета, семь труб иерихонских – дар крепости, десница с семью звездами – дар ведения, семь фиал золотых, полных фимиама, – дар благочестия, семь молний – дар страха Божия».
Чтение закончено, и я стою в парадном, в свете закопченной, висящей под самым потолком электрической лампочки перед дверью квартиры, которую мы снимали в доме рядом с краеведческим музеем.
Нашими соседями по лестничной площадке были Никулины. Они занимали точно такую же квартиру, как и мы, но их окна выходили во внутренний двор, посреди которого находился фонтан, заросший кустами акации, что вываливалась из обколотой мраморной чаши и напоминала пену, которая всякий раз образовывается при схождении водяных потоков. Можно было даже вообразить себе, как погружаешься в эту истошную кипень, как захлебываешься стиральным порошком, задыхаешься, падаешь без сил с доверху забитым белыми цветами ртом.
Безногий инвалид на церковной паперти закрывал рот и тут же переставал храпеть.
Я подношу руку к кнопке звонка, вдавливаю ее в пластмассовый нарост в виде древесного гриба-чаги и слышу, как нашу квартиру оглашает дребезжание электрического зуммера.
Я уже почти готов объяснить свое опоздание на ужин.
Почти осознал свое недавнее звуковое потрясение, пережитое на бывшей даче караимов Гелеловичей.
И меня уже почти не тошнит после очередного поедания немытых и частью, как выясняется, неспелых «абрикотелей».
Дверь открывается, и в лицо ударяет дурманящий запах жареной картошки вперемешку с грохотом включенного на полную телевизора.
Я цепенею и сам не знаю почему начинаю вполголоса подпевать так напоминающей рев циркулярной пилы мелодии композитора Свиридова, под которую на черно-белом выпученном экране телевизора появляется заставка программы «Время».
Здесь диктор никогда не улыбается, она пытается заглянуть в мои глаза, буквально вымучивает меня своим сверлящим взглядом, а я как-то срамно горожусь в ответ и бессмысленно пялюсь на ее напомаженные губы и хлопья пудры, свисающие с узких арийских щек.
В кадре появляется заслуженный чабан на фоне уходящего за горизонт стада овец. Чабан что-то говорит корреспонденту, размахивает руками, может быть, даже и кричит, но я не могу разобрать его слов.
Будучи многократно усиленным, его вопль заполняет скальные горловины, так напоминающие разверстые рты, заросшие непроходимым кустарником низины, проточенные горными потоками щели, подобные глубоким, застарелым пролежням. Чабан снимает с пояса медный, оплетенный кожаными ремешками рог, подносит его к губам и начинает трубить в него.
От пронзительного воя кожа трескается на лице его, а кровь начинает заливать рот и глаза его, но заслуженный чабан продолжает трубить.
Таким неожиданным образом он хочет доказать молодому корреспонденту из Москвы, что Бог существует.
Однако корреспондент зевает, и я зеваю вслед за ним, потому что смертельно устал и хочу спать.
Над моей кроватью, стоящей в выгороженном алькове с круглым, почти наполовину залепленным голубиным пометом окном и настенными часами марки «Янтарь», висит портрет дочери хозяйки квартиры. Всякий раз, когда я забираюсь под одеяло, я стараюсь не смотреть на него.
Почему?
Да потому, что я знаю, что этого человека уже нет на свете, что она умерла в совсем еще юном возрасте и я ее уже пережил. Осознание последнего повергает меня в панику, еще большую, чем та, которую я испытываю всякий раз перед звучащей фотографией в краеведческом музее.
Попытка понять, почему все происходит именно так, ни к чему не приводит. Я ворочаюсь с боку на бок, изнемогаю от желания спать и одновременно от невозможности сделать это именно теперь, потому что внутреннее возбуждение нарастает. Последнее, на что я способен именно сейчас, так это выбраться из-под одеяла и посмотреть на портрет девочки еще раз.
Посмотреть спокойно, не отводя глаз, прогоняя дурные мысли.
Нет, ее лицо, что и понятно, абсолютно ничего не выражает, она смотрит куда-то в темноту алькова.
Она боялась появления врачей, но когда в конце концов они приехали, было уже поздно. Она умерла.
Это все неизбежность того, что должно произойти вне зависимости от нашего разумения, наших беспомощных попыток что-либо понять и упорядочить, потому что все в руках Божиих.
Я вновь забираюсь под одеяло, где воображаю себе эти руки.
Так, с мыслью о них, я засыпаю.
Голуби спят на жестяном карнизе.
Продавец мидий спит на пляже, укрывшись брезентовым мешком из-под рыболовных снастей.
Дервиши спят под деревом, растущим во дворе текке.
Генерал Топтыгин спит за столом во время ночного дежурства в военкомате, куда приходил ставиться на учет мой отец, находившийся в то время в звании майора. Всякий раз, когда мы приезжали в Евпаторию или в какой-либо другой город, он был обязан это делать, потому что в случае начала вой ны он должен был немедленно прибыть к месту сбора всад ников Апокалипсиса.
Всадник спит на деревянном топчане.
Лошади спят стоя.
Плоды граната, лежащие на серебряном подносе, уснули.
Безногий инвалид продолжает спать на паперти храма во имя огненного восхождения святого пророка Илии.
Восхождение предрассветных сполохов на море напоминает северное сияние.
Каждое сияющее Божее утро две женщины носили на специальных носилках парализованную девочку в грязелечебницу, расположенную на набережной недалеко от военного санатория. Видимо, нести приходилось из старой части города, потому что они довольно часто отдыхали, говорили: «Перекур», – ставили носилки на асфальт, разминали затекшие руки, вытирали платками пот с лица. Одна из таких остановок происходила, как правило, около нашего дома, в тени абрикосовой аллеи.
Гранатовая аллея.
Кипарисовая аллея.
Аллея героев-подводников на городском кладбище.
Так вот, дома я говорил, что иду на море, но на самом деле я прятался за деревьями и наблюдал за парализованной девочкой, накрытой простыней, по которой ползали кузнечики.
Трудно сказать, зачем я это делал. Пустое любопытство? Такое объяснение виделось мне слишком банальным, примитивным, глупым виделось. Тем более что в Евпатории тогда было достаточно несчастных больных детей, моих сверстников, которых привозили сюда в специальный санаторий на лечение, а к чужой, как, впрочем, и к своей боли привыкаешь достаточно быстро, совершенно почитая ее обыденной, а порой даже и желанной.
Может быть, всматриваясь в это бледное, исполосованное дырявой абрикосовой тенью лицо, наталкиваясь на абсолютно безразличный ко всему взгляд, я стараюсь ничего не забыть. Ведь это очень важно – ничего не забыть, все помнить в мельчайших деталях, подробностях, в единственно правильной последовательности извлекать из глубин подсознания точные эпизоды, из которых и состоит бытование. Разумеется, воссозданное в ретроспективе, более чем субъективно.
Когда скисший абрикос попадает в цель, надо говорить: «Пуф!»
«Пуф!» – и жизнь остановилась.
Точнее сказать, потеряла всяческий смысл, превратилась в одно, бесконечной длины воспоминание, в горькое, смертельно обидное осознание того, что ничего нельзя вернуть, повернуть вспять, иначе говоря. Хотя понимание этого является очень важным, глубинным, смыслообразующим, полностью подрывающим основы сиюминутного, суетного бытования.
Все это я пойму много позже, а сейчас девочка неожиданно поворачивается ко мне и закрывает глаза.
Женщины улыбаются.
Женщины улыбнулись и проговорили: «Кончай перекур». После чего они подняли носилки и побрели дальше, а я, стараясь остаться незамеченным, последовал за этой процессией.
Так мы дошли до грязелечебницы.
Всю дорогу она так и пролежала с закрытыми глазами, и даже могло показаться, что она уснула, убаюканная равномерным покачиванием носилок. По крайней мере, со мной, думаю, произошло бы то же самое.
Более того, меня, скорее всего, еще бы и укачало, ведь в детстве меня очень сильно укачивало. Теперь-то я понимаю, сколько хлопот я доставлял своим родителям, да, впрочем, и не только им, этой особенностью своего организма. Порой мне даже казалось, что он, мой организм, живет какой-то своей отдельной, недоступной моему пониманию жизнью.
И вот именно в тот момент, когда происходило трагическое несовпадение внутреннего и внешнего бытования, когда в катакомбах наступала тишина, а на поверхности рвались мины, сыпались, как град, из низких, насквозь провонявших сопревшими водорослями и дохлой рыбой облаков, приключалась война.
Местность приятной войны, когда невидимая брань с самим собой заканчивается победой над самим собой.
Например, двор грязелечебницы, где уже стояла очередь из ожидающих процедуру, вполне мог быть местностью приятной войны.
Здесь носилки ставили на специальный деревянный помост, огороженный фанерной ширмой. Затем за ширму заходили медсестры и снимали с парализованной девочки простыню.
Я отворачивался, хотя ничего бы и не увидел, но все равно отворачивался. Делал это инстинктивно, как инстинктивно всякий раз отводил глаза от портрета дочери хозяйки квартиры, что висел ровно над моей кроватью рядом с круглым, как иллюминатор, окном, безбожно засиженным голубями.
Потом шел к морю.
Место на пляже занимали с раннего утра.
Точнее сказать, загодя договаривались с продавцом мидий татарином Рамилем, который ночевал на пляже, чтобы он накрывал своим брезентовым мешком из-под рыболовных снастей лежак рядом с самой водой, что он и делал. Видимо, за эту услугу ему платили какие-то деньги.
Из мидий, рапанов, белесоватых разводов просоленной рыбы и заизвестковавшейся воблы в тени земляничного дерева Рамиль выкладывал целый орнамент.
Моисей Гелелович степенно расправляет усы и черную бороду с проседью, имеющую название «Виктор Эммануил», прокашливается и начинает громко читать:
«Листья папоротника – суть мудрости и смирения.
Навершия посохов в виде дикириев и трикириев – символ иерархической преемственности.
Бунчуки и павлиньи хвосты – знак воинской доблести.
Зрячие ладони – суть тайновидения.
Верблюды вниз головой и их погонщики символизируют неотвратимость начертанного на скрижалях.
Оранжевые цветы – знак началозлобного демона.
Плод граната священен, потому как содержит 613 зерен, количество которых равно числу заповедей Торы.
Плетенные из бересты восьмиконечные наперсные кресты обозначают праведность и кротость.
Рыбы вверх плавниками и рыбы с глазами – суть молитвенного собрания.
Горящие свечи и кубки для вина символизируют трапезу избранных.
Рипиды, украшенные золотом, – дар владычного достоинства.
Курдючные овцы выпасаемы добрым пастырем, трубящим в медный, оплетенный кожаными ремешками рог, прообразуют смирение.
Сияющие на солнце велосипедные спицы есть символы святости.
А балканские украшения в виде рождественских звездиц восходят к имени императора Александра I, посетившего Большую и Малую евпаторийские кенассы в 1825 году».
Чтение закончено, и я стою по пояс в воде.
Процедура закончена, и парализованную девочку вытирают вафельными полотенцами, перекладывают на носилки, накрывают белой простыней.
Яркий, буквально выжигающий глаза белый свет приемного покоя, белая палата, белые шторы, белые, со следами мушиных колоний потолки, белый кафель, а по белому с желтоватым отливом пластмассовому, напоминающему одиннадцатиэтажное панельное здание трехпрограммному громкоговорителю «Маяк-202» передают программу «В рабочий полдень».
И вдруг девочка открывает глаза и громко спрашивает: «Где он?»
«Кто он?» – недоумевают медсестры и женщины, которые каждый сияющий Божий день носят ее через весь город сюда, в грязелечебницу, на носилках.
«Тот, который был под абрикосовым деревом!»
«Под каким абрикосовым деревом?» – паника нарастает, потому что они не понимают, что девочка спрашивает обо мне. Еще бы! Откуда они могут знать о том, что я всякий раз мысленно сопровождал процессию, примерял на себя ангельские крылья, выступая этаким хранителем, но при этом оставался незамеченным.
Девочка неожиданно встает на носилках и указывает в сторону завешенного белыми, развевающимися на сквозняке шторами окна, где, по ее разумению, растет то самое абрикосовое или гранатовое дерево, под которым притаился добрый фавн.
Подобные случаи исцеления составляли, что и понятно, исключение из общих правил, а потому вполне могли быть сочтены за чудо. Весть о выздоровлении парализованной девочки, вставшей и сумевшей ходить сразу после процедуры грязелечения, тут же облетела весь город.
Отплыв от берега на достаточное расстояние, я перевернулся на спину и стал смотреть в небо. Полуденное солнце входило в толщу воды, образовывая вертикальные, извивающиеся водорослями сполохи. А водоросли напоминали полозов, что приходили ниоткуда и уходили в никуда. Сначала пугался, потому что некоторые насекомые и змеи проплывали совсем близко, но вскоре они терялись в водоворотах, проваливались без остатка в бездонные воронки, были уносимы течениями, которые, как известно, символизируют вечность.
Страх проходил.
Мерцающее сияние угасало в глубине.
Северное сияние.
Сияние огненного восхождения пророка Илии на небо.
За обедом только и было разговоров, что о чудесном исцелении парализованной девочки.
Я молчал и неотрывно глядел в тарелку с супом, в которой неуклюже ворочалась ложка, сама по себе ворочалась, вылавливала капустные листья, перья вареного лука, натыкалась на опухшую от варки картошку и куски мяса. Говорить не хотелось совсем и слушать не хотелось никого. Разве что разрозненные отрывки фраз доносились до моего слуха, но они ровным счетом ничего не значили. Я просто не давал себе труда думать о том, о чем шла оживленная беседа за столом, я думал о другом.
О чем?
О том, что, закрыв глаза, лежа на носилках в тени абрикосовых деревьев рядом с нашим домом, парализованная, а теперь уже и не парализованная девочка каким-то немыслимым образом увидела меня. Почувствовала мое незаметное, как мне ошибочно тогда казалось, присутствие.
Может быть, в этом и был дар тайнозрения воплощения Премудрости, о котором в «Нравственных главизнах» читал Юхим Гелелович, сидя под облаком с серповидной луной в зарослях можжевельника.
Дар, заключавшийся в умении, закрывая глаза, видеть оборотную сторону луны, вечно погруженную во тьму, в способности разбирать символы и знаки, цифры и буквы.
Чтение «Нравственных главизн» происходило во внутреннем дворике краеведческого музея, где на специальных лафетах были расставлены глубинные мины, авиабомбы, торпедные аппараты и разного калибра якоря. Все здесь располагало к уединению, самодисциплине, особенно непроходимые заросли можжевельника, посаженные еще прежними владельцами дачи.
Юхим прятался в самые недра этой чащобы, так что уже было и не разобрать, где его «Моисеева брада», а где можжевеловый лапник, источающий освежающее благоухание. Заунывное перечисление праотцов и пророков, ступеней и даров навевало скуку, погружало в апатию.
Ложка несколько раз ударилась о дно пустой тарелки.
Костяные скрипучие удары послужили мне своеобразным знаком к пробуждению, к выходу из оцепенения.
Поблагодарил.
Вышел из-за стола, пробрался в комнату родителей, взял лежавший здесь на подоконнике фотоаппарат и спустился с ним во двор.
На мраморном парапете фонтана, того самого, что доверху был заполнен цветущими кустами акации, вспенен ими, как это бывает, когда засыпаешь в кипяток стиральный порошок «Лотос», сидели братья Никулины – Егор и Максим.
Другой вариант – двор был абсолютно пуст, и братьев Никулиных я заметил только в аллее абрикосовых деревьев, где они сидели на земле и подбирали плоды. Сначала они не обратили на меня никакого внимания, но когда это наконец произошло, то кинулись за мной с просьбами взять с собой к морю. Одним словом, Никулины увязались за мной.
Всю дорогу они что-то кричали, перебивая друг друга, смеялись. Егор даже пару раз упал, превратив содержимое своих карманов в вязкую абрикосовую кашу, что Максим тут же и прокомментировал, видимо, со знанием дела: «Ну тебя мать убьет, – а помолчав, добавил: – И правильно сделает».
Младший брат гордится своим старшим братом, уважает и боится его.
Младший брат таит обиду на старшего брата, припоминает ему все причиненные им унижения и обиды.
Старший брат защищает младшего брата.
Старший брат подвергает младшего брата суровому наказанию.
Младший брат дерзит старшему брату:
– Неа, не убьет, я матери скажу, что это ты меня толкнул!
– Ну тогда я тебя убью! – звучит в ответ. «Братоубийство – это великий грех», – говорит Аарон Гелелович, который слышит этот разговор, сидя в ветвях земляничного дерева этаким бородатым фавном в лапсердаке и широкополой шляпе.
Как он там мог оказаться? Скорее всего, воспользовался услужливо поднесенной учениками лестницей, которую впоследствии попросил убрать, чтобы не возникало соблазнов вновь спуститься на землю.
Аарон Гелелович степенно расправлял бороду, имеющую название пророческой, откашливался и начинал громко читать:
«Изначально могла быть ночь, лишенная света дня, и я, блуждающий в этой тьме, лишенный света дня.
Второй раз мог быть день, лишенный тайн ночи, белый и прозрачный, и я, блуждающий тут, освещенный солнцем, ослепленный и лишенный тайн ночи.
Третий раз мог быть великий ветер и потрясение земной тверди, и я, ужасающийся сему.
Четвертый раз могло быть вселенское наводнение, исхождение океанов и морей, безумство рек и озер, неистовство небесной влаги, и я, помышляющий о смерти, лишенный всяческой надежды.
Пятый раз могло быть великое спокойствие всех атмосфер, и материй, и веществ, и я, благодарящий за сие.
Шестой раз могла быть засуха и оскудение почв, и я, помышляющий о смерти, кроткий и смиренный, лишенный всякой надежды на спасение.
И наконец, седьмой раз могли раскрыться окна и двери, впустив при этом дыхание всех стихий, и я воскресал, потрясенный увиденным».
Когда чтение заканчивалось, Аарон всякий раз окидывал Евпаторию отеческим взором и подавал ей свое благословение – гнилому солончаку и краеведческому музею, детскому санаторию и игровым автоматам на набережной имени Горького, кинотеатру «Ракета» и грязелечебнице, пятничной мечети Джума-Джами и турецким баням, городскому военкомату и Генералу Топтыгину.
А еще татарину Рамилю подавал свое благословение, что здесь же, в тени земляничного дерева, выкладывал целый орнамент из мидий, рапанов, из просоленной, в белесоватых разводах рыбы и заизвестковавшейся воблы.
Я подносил фотоаппарат к глазам и в видоискатель наблюдал за Рамилем.
Он снимал с себя нейлоновые тренировочные штаны, вытянутые на коленях, затягивал каждую брючину специально для того припасенной бечевкой и приступал к сбору бутылок, складывая их в свои тренировочные штаны.
Когда же работа была закончена и штаны уже сами могли стоять, будучи прислоненными к выкрашенной синей масляной краской металлической стене раздевалки или к сложенным штабелем деревянным топчанам, Рамиль по-турецки поджимал под себя ноги, присаживался рядом и закуривал.
Все, кто проходил в ту минуту мимо, вполне могли подумать, что перед ними сидит безногий инвалид, а рядом с ним стоят его механические конечности, впрочем, могущие принадлежать в большей степени какому-нибудь толстожопому продавцу арбузов или дынь с местного, прилепившегося к шоссе на Симферополь рынка. А если это так, то, скорее всего, инвалид станет, потрясая обрубками своих конечностей, гнусаво выпрашивать милостыню, пусть самую ничтожную и вымученную.
И ты, остановленный его горячечным взглядом, будешь вынужден, обливаясь потом, проваливаться в бездонную глубину карманов своих шортов, якобы не обнаруживать там кошелька, а если и обнаруживать, то находить его совершенно пустым.
Говорить при этом: «Слава тебе Боже, что он совершенно пуст!»
Однако как только Рамиль заканчивал курить и бодро вставал, думы о его неполноценности тут же улетучивались, и становилось как-то нестерпимо стыдно за все эти предположения. За этот чертов якобы пустой кошелек!
Но в то же время тебя не могла не посетить и радость, что этому псевдоинвалиду все-таки не придется брезгливо отказывать или делать вид, что вообще не заметил его, потому что он на самом деле никакой не инвалид, а очень даже здоровый, крепкий на вид крымский татарин, высушенный евпаторийским солнцем.
Затем Рамиль взваливал свои здоровенные штаны себе на плечи и брел к автостанции сдавать собранную на пляже стеклотару.
В этот момент я и делал кадр, понимая, что именно сейчас, на моих глазах, произошло очередное чудесное исцеление, в том смысле, что безногий инвалид вставал на собственных ногах, но запасные ноги при этом забирал с собой.
На всякий случай, надо думать, забирал.
Затем я взводил новый кадр и уже просил Никулиных попозировать мне на фоне моря.
Они, разумеется, с радостью соглашались. Делали невыносимо серьезные лица, тыкали друг в друга пальцами, как бы указывая, где Егор, а где Максим, ставили друг другу рожки.
Открывали свои имена.
Девочка назвала свое имя.
Поликсена. Фатима. Елизавета. Альверина. Мария. Аглая. Лидия. Эсфирь. Виктория. Фамарь. Александра. Иулиания. Татьяна. Изабелла. Анна. Аминат. Анастасия. Серафима. Руфина. Иман. Софья. Юдифь. Нина. Глафира. Вера. Надежда. Любовь.
Вот братья Никулины стоят, обнявшись, у каменного парапета.
Вот они же зашли по пояс в море.
Вот Егор положил на голову водоросли и стал похож на Берендея.
Берендей вымазался в лечебной грязи.
Так как я снимал на черно-белую пленку со светочувствительностью в 64 единицы, то на ярком солнце надо было выставлять выдержку 250, а диафрагму – 8 или даже 11. Именно при таком сочетании показателей получалась наиболее удачная по яркости и контрасту картинка. Впрочем, говоря о фотографировании, никогда нельзя быть до конца уверенным в том, что окончательный результат будет именно таким, какой ты задумал, и что снимок в полной мере будет соответствовать оригиналу. Видимо, в этом и есть загадка фотографического изображения – в его способности жить самостоятельной жизнью, фиксировать некую иную реальность. Чтобы усилить эффект подобной потусторонности, я иногда специально выставлял на камере совершенно несочетаемые показатели диафрагмы и выдержки, специально сматывал пленку назад и экспонировал уже единожды проэкспонированный кадр, тем самым накладывая одно изображение на другое, но при этом не зная, как именно произошло данное наложение.
Так, например, из головы Егора, укутанной мохнатыми, резко пахнущими йодом водорослями, могла появиться выжженная солнцем набережная или земляничное дерево с сидящим в его ветвях Аароном Гелеловичем, а из здоровенных штанов, которые на себе тащил Рамиль, – корабельные мортиры перед входом в краеведческий музей.
С одной стороны, сочетание несочетаемого вызывало удивление, а порой даже и страх, но с другой – разглядывание подобных снимков было занятием необычайно привлекательным, возбуждавшим воображение.
Оно восходило к поиску и обнаружению каким-то непостижимым образом в моей голове тягучего и монотонного звучания, когда мне ничего не оставалось делать, как только широко открывать рот и выпускать это звучание из своей головы, теперь уже более походившей на духовой инструмент.
Орудие.
Аппарат.
Фотографический аппарат, которым я снимал, был подарен моим дедом моему отцу и формально мне не принадлежал. Более того, эту изначальную непринадлежность камеры нашей семье подчеркивала сделанная на ней гравировка, из которой следовало, что фотоаппарат «Киев-4» был вручен за заслуги некоему генерал-лейтенанту Радус-Зеньковичу в 1966 году, то есть в год моего рождения. Скорее всего, дед, увлекавшийся фото– и киноаппаратурой, приобрел его в комиссионном магазине на Новинском бульваре в Москве. Покупка эта была совсем не случайной. В то время киевские фотокамеры считались лучшими, потому как производились на заводе «Арсенал», оборудование которого, принадлежавшее знаменитой немецкой фирме «Цейс», было перевезено в СССР в 45-м году из Германии в качестве репараций.
Стало быть, там, внутри светонепроницаемой коробки, свершалось нечто, имевшее отношение к смещению времени и даже к его остановке.
Как на том снимке, что висел в бывшей даче Гелеловичей, – «только всплеск коричневатого оттенка черной грязи, впрочем, может она быть какой-либо иной на черно-белой выцветшей фотокарточке, только засвеченные квадраты перфорации и смазанный, исцарапанный грейфером обрывок лица с широко открытыми, исполненными нечеловеческого ужаса глазами».
Честно говоря, я недоумевал, ведь тогда, когда носилки с парализованной девочкой стояли в тени абрикосовых деревьев рядом с нашим домом, она закрыла глаза. Стало быть, я не мог видеть ее глаз, но почему же я знаю, какие они были у нее – большие, печальные, доверху наполненные черным, нефтяного отлива квасным суслом, которое продается в продуктовом магазине рядом с трамвайной остановкой?
Нет, я не находил ответа на этот вопрос, как ни старался. Хотя, может быть, во всем были виноваты эти дураки Никулины, которые постоянно орали и мешали мне сосредоточиться, запомнить все мельчайшие подробности моего состояния на тот момент. И даже фотографирование, которое, откровенно говоря, увлекало меня больше как средство, как возможность запечатлевать эти самые подробности, не помогало. Соответственно, я довольно тупо «щелкал» карточку за карточкой и перематывал пленку, изредка посматривая на счетчик кадров.
Всего 36.
После съемок на пляже мы отправились к грязелечебнице.
Здесь всегда прохладно, пахнет водорослями, йодом и накрахмаленными вафельными полотенцами, здесь никого нет, а на носилках, на которых еще несколько часов назад сюда принесли парализованную девочку, сидит медсестра и курит.
Увидев нас, она начинает улыбаться, разводит руками, говорит:
– Все, нет ее, сама ушла! Опоздали!
Опоздание в данном случае следует рассматривать как вариант разочарования и отчаяния, как печальный опыт несовпадения во времени и пространстве.
– А как это произошло? – только и могу я выдавить из себя.
Нет, по-другому:
– Расскажите, пожалуйста, а как это произошло, – наконец проговорил я.
– После окончания процедуры мы, как всегда, вытерли девочку полотенцами, переложили на носилки, вот на эти, – медсестра похлопала ладонью по носилкам, на которых сидела, – и накрыли простыней. Уже хотели было уходить, как вдруг она приподнялась на носилках и громко спросила: «Где он?» Мы, конечно, не поняли, о ком она говорит. «Да тот, который был под абрикосовым деревом!» Так и сказала: «Тот, который был под абрикосовым деревом». После чего она неожиданно села на носилках и указала на окно!
Егор Никулин подошел к окну и заглянул в него, попытался примерить на себя ангельские крылья, выступить этаким хранителем абрикосового или гранатового дерева, под которым притаился добрый фавн.
– Нет, не это окно, другое, – медсестра указала вглубь процедурной, – вон то!
Окно как вариант видоискателя в фотоаппарате, а следовательно, как вариант будущего снимка, хотя, и тут следует повториться, нет никакой уверенности в том, что это будет именно то изображение, которое в данный момент можно разглядеть за белыми, развевающимися на сквозняке шторами.
Например, исцелившаяся девочка на фоне грязелечебницы.
Девочка в тенистой абрикосовой аллее с закрытыми глазами.
Девочка называет свое имя.
Женщины, которые ежедневно носили носилки с парализованной девочкой на процедуры, теперь стоят у входа в гастроном, где они купили бутылку красного вина, чтобы отметить чудо, свидетелями которого они стали.
Медсестра сидит за столом в регистратуре и заполняет медицинскую карту.
Крупно снята надпись – «История болезни».
Братья Никулины и девочка сидят на мраморном, местами обколотом парапете фонтана у нас во дворе.
Братья Никулины учат девочку кататься на велосипеде. Процесс, при котором надо набраться терпения и научиться ждать.
Ожидание также является и неотъемлемой частью фотографического процесса. Например, уже после того как отснята пленка, проходит достаточно много времени до появления самого фотоснимка, ведь речь в данном случае идет о проявке и печати, процессах, устанавливающих свой особый ритм, к которому необходимо привыкнуть, с которым надо смириться, переведя часы на несколько делений назад.
Я залез на кровать и перевел стрелки часов марки «Янтарь» на несколько делений вперед.
На несколько лет вперед.
И это уже спустя годы, когда я буду разбирать старые фотографии, в одной из стопок я обнаружу портрет девочки семи лет. Она будет испуганно смотреть в объектив фотоаппарата, а губы ее при этом будут плотно сжаты.
Впрочем, эта напряженная пауза продлится недолго, потому что, как только я нажму на спуск камеры, во двор вбегут две раскрасневшиеся от вина женщины и девочку куда-то уведут. Все произойдет так быстро, что ни я, ни братья Никулины так и не поймут, а была ли она на самом деле.
Здесь я лукавлю – конечно, она была, потому что сохранилось ее фотографическое изображение.
3.
Из аэропорта «Беслан» до Цхинвала дорога заняла пять часов.
Везти через перевал подрядился неразговорчивый дагестанец по имени Магомет на старой, насквозь пропахшей дешевым куревом и масляным прогаром «Волге».
Почти всю дорогу до Рокского тоннеля в машине звучало радио, но ничего, кроме треска в эфире, каких-то надрывных голосов и невыносимо тягучей, монотонной музыки, я разобрать не мог. Начинала нестерпимо болеть голова. Когда же наконец въехали в тоннель, то все внезапно стихло.
Салон машины тут же наполнился пронизывающей подвальной сыростью, а мерцающий свет фар принялся, как мне показалось, из последних сил разгребать горчичного оттенка туман, что надвигался на мятый капот «Волги», принимая обличия каких-то неведомых подземных обитателей.
Обитатели, сидящие на деревянных лавках, сколоченных из свежеструганых досок, и делающие: «тррруу-тррруу», чем полностью уподобляются цикадам, которые спрятались у них в волосах, и составляют род.
Род Алагата.
Род Бората.
Род Ахсартагката.
Их лиц не разобрать, потому что они затерты песком, изъедены солью, увиты диким виноградом, проросли шипами терна и плющом.
Удивительно, но, оказавшись высоко в горах, я, по сути, оказался в преисподней, не испытав при этом ни страха, ни удивления, скорее, разочарование той обыденностью, которая здесь царила.
Все было предельно узнаваемо: разбитая танками и тяжелой техникой бетонка, свисающие с потолка оборванные провода, подслеповатые электрические лампы в грязных отражателях-мисках да трубный гул тоннельного ветра, столь напоминавший промозглый сквозняк в московском метро при вхождении поезда на станцию.
В Москве Магомет был дважды. Первый раз, когда его с группой призывников из Махачкалы перебрасывали к месту службы в Рязань, где он провел два года в стройбате, где каждый день дрался с «дедами», где ему сломали нос и отбили почки, где он переболел воспалением легких.
И второй раз оказался в Москве, когда возвращался домой после демобилизации. Здесь он запомнил только Казанский вокзал, здание аэропорта «Домодедово», перед которым на бетонном постаменте стоял самолет Ил-18, а еще почему-то запомнил забегаловку рядом с Комсомольской площадью, где давали беляши и чай из титана.
Я хорошо знаю эти места и могу предположить, что это кафе находилось в подвале на углу Каланчевки и Красноворотского переулка, рядом с магазином «Охотник», сквозь давно немытые окна которого на прохожих и по сей день дико пялятся чучела кабана, зайца и выкрашенного гуашью тетерева по прозвищу Берендей.
Сквозь туман.
Сквозь болотные испарения.
Сквозь заросли сухостоя.
Сквозь таящуюся где-то в глубине души тревогу.
Сквозь воспоминания.
Сквозь пелену дождя.
По другую сторону перевала шел дождь.
Спустившись в долину и проехав километров пять, пришлось съехать на обочину, пропуская колонну танков, шедшую навстречу.
Было так странно наблюдать за этими проплывавшими мимо всадниками Апокалипсиса через заливаемое дождем лобовое стекло «Волги». Изображение плыло, двоилось, исчезало, а потом вновь возникало, как это бывает в кинотеатре во время сеанса, когда горит и рвется целлулоид, когда на экране вдруг становится видно, как грейферный механизм пробирается вдоль пленочной перфорации, а зрители начинают при этом истошно кричать, вопить, хлопать откидными креслами, заглушая фонограмму, более теперь напоминающую звучание хаоса.
Сказано: «Хаос есть категория космогонии, первичное состояние Вселенной, бесформенная совокупность материи и пространства, земного и небесного».
Нет, небо не предвещает ничего хорошего!
Низкая свинцовая облачность прячет обкусанные оттепелью снежные языки – разбросанные по склонам листья папоротника, алоэ ли, курится внутри каменных горловин, как будто в них варится мелко нарезанное мясо, дышит, пузырится. А еще двигает грозовой фронт вслед за уходящей за перевал танковой колонной.
Это и есть фронт, к которому Магомет привык за последние годы. Ведь всякий раз, когда он сидел на ступеньках переделанного под бытовку автобуса «Икарус», в котором он жил, и слушал тишину, то прекрасно понимал, что она остается таковой лишь до поры.
До первой автоматной очереди, например.
До первого разрыва фугаса, заложенного на причудливом изгибе горной дороги.
До первой минометной атаки, во время которой нужно обязательно открывать рот.
Чтобы не закладывало уши?
Чтобы успеть выкрикнуть слова проклятья?
Чтобы выдохнуть или, напротив, чтобы вдохнуть?
Ответов на эти вопросы не знает никто. Даже мудрецы, живущие высоко в горах и употребляющие в пищу листья кориандра, мамалыгу и настой шиповника.
Мудрецы, как родовые башни, что построены из огромных, специально подогнанных друг к другу камней, стоят вдоль дороги, по которой мы едем с Магометом. Они пристально смотрят нам вслед, прикрывая глаза сложенными наподобие козырька ладонями.
А еще вдоль дороги стоят зенитные орудия, предназначенные для обстрела снежных лавин. Их стволы, развернутые в сторону гор, зачехлены, заперты брезентовыми клобуками с вышитыми на них красными звездами.
Запертые уста молчат.
«Благое молчание» есть изображение Спасителя в виде Ангела Великого Совета в образе юноши с крыльями за спиной, в белом облачении, именуемом – далматика, с руками, сложенными крестообразно, над головой же юноши расположен восьмиконечный нимб Господа Саваофа, который обозначает божественность Творца-Вседержителя и одновременно мрак непостижимости Божества.
Я говорю: «Святой Матфей, а святой Матфей, сделай так, чтобы раскрыли кровлю дома песчаного, и там была бы глиняная комната-келья, обклеенная старыми пожелтевшими газетами, с окнами, завешенными горчичного цвета шторами. Потом бы там еще была бы чугунная плита, напоминающая ковчег или канун, а на трех вбитых в стену гнутых гвоздях висели бы портреты трех царей, трех волхвов – Каспара, Мельхиора и Бальтазара.
Святой Матфей, а святой Матфей, сделай так, чтобы Харитон смог говорить».
Магомет закурил и неожиданно заговорил:
– Когда приедем, надо будет обязательно в парикмахерскую сходить.
Помыслилось – неожиданный поворот!
В детстве походы в парикмахерскую всегда были в нашей семье особым ритуалом. Тут следует начать с того, что ни в какую парикмахерскую я, разумеется, идти не хотел. Выяснение отношений, переходившее, как правило, в перепалку, затягивалось, но в любом случае заканчивалось тем, чем и должно было закончиться, – меня заводили в резко пахнущий одеколоном и накрахмаленным до фанерного состояния бельем зал, паркетный пол которого был усыпан чужими волосами. Сажали в кресло на специально подложенную на никелированные поручни доску и заворачивали в хрустящую простыню, по краям которой с превеликим трудом можно было разобрать штампованный орнамент, изрядно потраченный в ходе частых варок и стирок.
Таким образом, я был спеленут совершенно, пленен, и потому мне ничего не оставалось, как смотреть на себя в зер кало.
Смотреть и видеть в нем шестилетнего человека, на глаза которого навернулись слезы, ведь машинка для стрижки волос давно затупилась, а бритва, используемая для подбривания висков и затылка, выглядела так устрашающе.
Потрескивала сухим лапником в огне.
Скрежетала.
Паркет скрежетал под ногами парикмахера Розы Ильиничны Тагер, которая сначала сгребала щеткой чужие волосы в кучу у рукомойника, где они под действием сквозняка шевелились, как живые, затем мыла в этом же рукомойнике руки и только потом приступала к моей голове.
Моя голова не была круглая.
Скорее вытянутая у полюсов, что, безусловно, требовало от Розы Ильиничны особого мастерства и терпения. Электрическая машинка для стрижки в ее руках выписы вала немыслимые траектории вокруг моих ушей, затылка, вгрызалась в завихрения макушки, выщипывала волосы на висках. Откровенно говоря, я был готов разрыдаться, но из последних сил сдерживал себя, чтобы наконец услышать поощрительное: «Терпи, ты же будущий солдат», и я терпел.
Бог терпел и нам велел!
Однако на этом мои мучения не заканчивались. Когда процедура была завершена и Роза Ильинична сбрасывала с меня простыню, орошая паркет только что отстриженными моими волосами, ровно в ту же минуту я начинал чувствовать, как холодная, липкая, колючая масса проваливается за воротник и начинает свое движение по моей спине.
От этого становилось невыносимо тоскливо.
Почему? Да потому, что я был вынужден признаться, в первую очередь себе признаться, в собственной беспомощности, в неспособности что-либо изменить в данном случае. Мне оставалось лишь ждать, пока эта лавина из мельчайших обрезков волос не застынет где-нибудь между лопатками и не похоронит окончательно возможность в ярости почесать эту низину, именуемую по латыни dorsum.
Низина реки Большая Лиахва скрыта туманом, таким, какой он бывает после дождя – клокастый, густой, дышащий испарениями и горечью гниющего от сырости кустарника, что тянется вдоль дороги.
Дорога змеится, изобилует неожиданными поворотами.
Перед глазами проносятся разрушенные дома, заселенные теперь лишь зарослями дикого винограда, ощетинившиеся ржавой арматурой бетонные ограждения, наскоро сооруженные из колотого шифера и мятых дорожных знаков автобусные остановки да слившиеся в бесконечной длины киноленту воображаемые лица тех, кто стоит около этой змеящейся дороги и машет проезжающему автомобилю.
Женщины в рейтузах.
Старики в фуражках.
Дети в резиновых сапогах.
Снова женщины в рейтузах, вытянутых на коленях.
Мужчины в спортивных костюмах.
– Приехали, – Магомет кивнул головой в сторону пролетевшего перед лобовым стеклом «Волги» указателя «Цхинвал».
Цхинвал – это земля грабов, которые во время цветения наполняют улицы терпким запахом хмеля, раскачиваются на ветру, шумят, грозно нависают над одноэтажными постройками, даже заглядывают в открытые окна, барабанят ветвями по жестяным карнизам, и может сложиться впечатление, что идет дождь.
Дождь выбивает на серой цементной пыли замысловатый орнамент, который напоминает заглавные буквицы из средневекового манускрипта.
Например, такие буквицы:
Петр залез верхом на Павла и катается на нем, совершенно уподобившись всаднику.
Борис таскает Глеба за волосы. Глеб плачет. Борис смеется.
Иаков Зеведеев и Иоанн называют себя братьями. «Мы есть братья от отца нашего Зеведея, который починяет сети-мережи», – говорят они.
Флор держит в руках маленькую птицу и гладит ее. Живую.
Лавр держит в руках рыбу.
Ангел-Арх играет на музыкальном инструменте и поет: «Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились».
Видно, что у него закатились глаза.
Голова у меня идет кругом.
К горлу подступает тошнота, в чем, скорее всего, следует винить запах хмеля.
Конечно, никакого дождя и быть не могло, потому что грозовые тучи уже давно ушли за перевал, следовательно, создателями орнамента, скорее всего, являются ползающие в пыли насекомые.
Я иду через городской парк Цхинвала с бетонной чашей высохшего фонтана посредине. Следует заметить, что высох шие фонтаны почему-то преследуют меня.
Эта чаша до краев наполнена колотым кафелем, напоминающим выбитые зубы.
Миную несколько заколоченных домов, в цокольном этаже одного из которых почему-то размещается магазин «Канцелярские товары», сворачиваю в проулок и останавливаюсь рядом с калиткой, сваренной из ребристых металлических листов.
Подношу руку к кнопке звонка, вдавливаю ее в пластмассовый нарост в виде человеческого уха и слышу, как двор тут же оглашает дребезжание электрического зуммера.
В детстве меня будил звонок в дверь, и случалось это довольно часто.
Например, я спал или засыпал, что сейчас уже не столь важно, становясь при этом полностью добычей пронзительных, всверливающихся в голову звуков, будь то удары в стену нашего соседа Рашида Салаховича Рахматуллина, который вел нескончаемый ремонт в своей трехкомнатной квартире, грохот проходящего по окружной дороге товарняка или, наконец, звонок в дверь.
Открытая дверь.
Сон с открытыми глазами вещ, а потому и болезнен, ведь на смену естественной темноте сомкнутых век приходит временное помутнение рассудка, именуемое быстрым движением глаз. Тремором.
Но вот насколько оно временное? И может ли оно – помутнение, оцепенение ли рассудка – вообще быть временным?
Речь в данном случае может идти, стало быть, о лицедействе, о возможности таиться, примерять всевозможные личины, маски, но едва ли при всем старании пациента, даже при его в определенном смысле драматическом таланте, возможно укрыться от проницательного взгляда врача-психиатра!
Серафима Филипповича Молодцова или Федора Арсеньевича Усольцева, того самого, что пользовал в своей клинике в Петровском парке слепнущего художника Врубеля.
Впервые Михаил Александрович оказался тут в 1904 году в тяжелом состоянии, четверым санитарам с трудом удалось справиться с ним, однако после соответствующих процедур он довольно быстро уснул и проспал целых двенадцать часов.
Читаю у Александра Александровича Блока: «Я никогда не встречал Михаила Александровича Врубеля и почти не слыхал рассказов о нем. И жизнь его, и болезнь, и смерть почти закрыты для меня – почти так же закрыты, как и для будущих поколений. Нить жизни Врубеля мы потеряли не тогда, когда он сошел с ума, но гораздо раньше, когда он создавал мечту всей своей жизни – Демона».
Откуда я мог это знать?
Начиная с восьмого класса школы я посещал «клуб юных искусствоведов» при Музее изобразительных искусств имени Пушкина, а посему обладал изрядной информацией о русских и европейских живописцах. Информация о Врубеле была из этого ряда.
Итак, я надавил на кнопку звонка, и двор тут же огласило дребезжание электрического зуммера.
Вот дверь, в которую может позвонить каждый: миротворцы в голубых касках, беженцы из Горийского района, редкие обитатели еврейского квартала, журналисты из Москвы, рабочие-кабардинцы, дервиши, спешившиеся всадники в островерхих войлочных шапках.
Дверь открыла невысокого роста женщина с подвижным улыбчивым лицом.
Сейчас передо мной – близко посаженные живые глаза, впалые, болезненного оттенка щеки, плоский, наполовину скрываемый темными волосами лоб, без особых предисловий переходящий в курпулентный мясистый нос, наконец, хорошие зубы, что выдавала постоянная улыбка-гримаса.
Передо мной!
Впрочем, это лицо вполне подходило под разряд тех лиц, на которых постоянно запечатлевалась улыбка, бывшая более частью общей мимики, нежели следствием постоянного и оттого пугающего желания улыбаться.
Есть такие лица, есть!
Бодрость.
Жизнелюбие.
Витальность.
И тут же:
Лживость.
Отсутствие всяческой сколько-нибудь приемлемой мысли.
Идиотизм.
Нависание лба горным уступом, грозовой тучей ли.
Изготовление разного рода гримас.
Смена масок.
Кривляние.
Лицедейство.
Строю догадки по поводу имени хозяйки дома: Елена. Евгения. Екатерина. Кладония. Клавдия. Ясира. Лидия. Бавкида. Аминат. Белла. Аглая. Ирина. Виктория. Елизавета. Энергия. Фатима. Харитина. Шадия. Поликсена. Альверина. Мария. Эсфирь. Виктория. Фамарь. Александра. Иулиания. Татьяна. Изабелла. Анна. Анастасия. Серафима. Руфина. Иман. Софья. Юдифь. Нина. Глафира. Вера. Надежда. Любовь.
После некоторой, надо заметить, весьма мучительной паузы, когда женские имена следовали друг за другом вовсе и не по алфавиту, но согласно хаотическим траекториям обрывков воспоминаний, снов ли, над входом наконец загорается надпись: «Тетя Лена».
Значит, ее зовут Лена.
Я назвал свое имя.
Произошел обмен именами.
На следующий день, как и обещал, Магомет пошел стричься.
Парикмахерская, расположенная на углу Сталина и Московской, представляла собой деревянную застекленную будку с шиферной крышей. Здесь, в крохотном помещении, было только самое необходимое для работы: зеркало, обитое вытертым дерматином кресло, полка для ножниц и бритв, а также висящая под низким, почти лежащим на голове потолком электрическая лампа без абажура.
Голова Магомета не была круглая. Она имела форму исполосованной рытвинами старой перезрелой тыквы, которую убирают на зиму под кровать, чтобы долгими январскими вечерами отрезать от нее куски и варить из этих кусков кашу на молоке.
Я вижу, как ярко-желтого цвета кашу перемешивают деревянной кичигой, поднимающей со дна закопченного тагана пузыри, которые, выходя на поверхность гудящей от жара болотистой массы, лопаются, формируя неглубокие кратеры в форме потиров для причастия.
Но кашу можно и есть, размазывая ее по дну тарелки, облизываться, давиться кипятком, обжигаться, захлебываться паром.
Тыква лежит под кроватью.
На кровати же, отвернувшись к стене, спит безногий инвалид, а рядом с кроватью стоит его коляска, сооруженная из детского трехколесного велосипеда. Инвалиду снится, что он едет по дороге и солнце играет в спицах колес.
Эти бликующие спицы символизируют святость. При попадании в них гравия они начинают щелкать, как ножницы.
Ножницы щелкают в самой непосредственной близости от ушей, затылка, от височных пазух Магомета, и ему только и остается что зевать, проглатывать ли слюну, чтобы металлический лязг, проникая внутрь головы по евстахиевой трубе, становился более отчетливым.
Парикмахер Павел Ваганович что-то неразборчиво напевает себе под нос, улыбается, а волосы устилают белую простыню, в которую завернут Магомет, застеленный линолеумом пол, подлокотники кресла, покрывают также деревянный, выкрашенный белой краской подоконник.
Я представляю себя стоящим по другую сторону окна, расплющивающим нос и губы по стеклу, отчего оно и запотевает. По крайней мере, я любил так делать в детстве, и когда убирал рот от стекла, то был вынужден наблюдать, как матовое пятно испарений мгновенно исчезает.
Замечая меня, Магомет улыбается, но тут же его рот забивается обрезками волос, он начинает кашлять, дергаться в кресле, и парикмахер совершенно нечаянно режет его, точнее сказать, оставляет бритвой у него на щеке глубокий порез. Стрижку приходится немедленно прекратить, дабы попытаться остановить кровь, Павел Ваганович поливает рану водой из пластиковой бутылки, бинтует изуродованную щеку застиранным вафельным полотенцем, причитает, вероятно, даже и молится, выглядя при этом совершенно испуганным, ведь в его многолетней практике такого никогда не приключалось.
Ну вот и какого черта, спрашивается, Мага вздумал мне улыбаться?
Неужели пятичасовая поездка через горный перевал, во время которой, кстати, он не сказал почти ни слова, а об улыбке и вообще говорить не следует, так расположила его ко мне. Трудно сказать!
И что же в таком случае остается делать мне, ведь, по сути, все это произошло из-за меня.
Я говорю себе: мне остается лишь наблюдать за происходящим из-за стекла, сочувствовать, сострадать, биться в стекло. А еще – заламывать руки, потому что дверь в парикмахерскую, в эту деревянную застекленную будку с шиферной крышей, закрыта изнутри на металлическую задвижку из тех, что совершенно закрашены масляной краской, и открыть их нет никакой возможности, разве что отбить молотком или расковырять плоскогубцами.
Ветер раскачивает деревья, и они наклоняются, бьются ветками в окна, повисают на проводах, которыми разлинованы опустевшие во время непогоды улицы.
Дождь начинает барабанить по железному козырьку.
Этот грохот нарастает и довольно быстро переходит в непрерывный гул внутри водяной пыли, а мутные глинистые потоки уже прокладывают вдоль тротуара извилистые, выложенные по краям битым асфальтом и песком горловины.
Потоки, каждый из которых еще совсем недавно можно было легко перешагнуть, теперь напоминают горные реки, на пенистых перекатах которых очень часто всплывают до неузнаваемости изуродованные тела. Безымянные тела!
Их закапывают тут же рядом, в безымянных могилах, или просто заваливают валунами, потому что порой пробиться сквозь окаменевший, располосованный узловатыми корнями грунт не представляется никакой возможности.
Лопаты оставляют на выжженной солнцем глине неглубокие порезы.
Наконец Павел Ваганович остановил кровотечение и завязал порезанную щеку Магомета весьма чистым, пахнущим хвойным мылом носовым платком.
Лопаты оставляют на выжженной солнцем глине ломаные царапины.
На расцарапанном фотографическом отпечатке со следами орнамента в виде рваной по краям перфорации изображены вооруженные люди. Они потрясают автоматами, видимо, что-то кричат, а еще смеются, потому что только сейчас они обстреляли шедший в ущелье автобус. Они наблюдали из засады, как под градом пуль посыпались стекла, а занавески словно взорвались, побурели от крови, замотали замершие в немом крике рты. Потом они наблюдали, как из кабины выпрыгнул водитель и побежал от автобуса. Он падал, прятался в придорожных кустах, потом вновь бежал и вновь падал, и попасть в него более чем с двух сотен метров было очень проблематично, когда же это расстояние увеличилось, то стрельбу пришлось прекратить.
Всадники Апокалипсиса спешиваются, вытирают вспотевшие лица.
Они почти не могут говорить.
Они стараются перевести дыхание.
Они захлебываются слюной.
Они пытаются прокашляться.
Они трогают распоротую очередями обшивку автобуса.
Они и их перепуганные лошади заглядывают в салон, усыпанный осколками стекла, заваленный рваной одеждой, кусками дерматина, а занавески уже окоченели, и потому они не могут развеваться на промозглом сквозняке.
Тогда один из всадников достает фотоаппарат и делает несколько снимков на память. Стало быть, там, внутри светонепроницаемой коробки, тут же свершается нечто, имеющее отношение к смещению времени и даже к его остановке, потому что памятование есть не что иное, как торможение времени, его запечатлевание хотя бы умозрительно в самодельных, с разной степенью таланта созданных снимках. Потом эти снимки можно рассматривать или же, напротив, прятать в книжном шкафу между книг, чтобы со временем просто забыть об их существовании.
На первом снимке изображен Архистратиг Михаил, который облачен в украшенную бармами кольчугу, доходящие до локтей кожаные краги с металлическими шипами и высокие, шитые серебряной нитью войлочные сапоги. Голова Архистратига обнажена, а длинные волосы его подобраны красной лентой.
Второй снимок сделан на Ленинградском вокзале. Фигура женщины, входящей в вагон, совершенно смазана, и потому нет никакой возможности увидеть ее лицо.
И наконец, на третьем расцарапанном фотографическом отпечатке со следами орнамента в виде рваной по краям перфорации изображены вооруженные люди. Они неотрывно смотрят в объектив фотоаппарата, а на их изможденных лицах написана смертельная усталость.
Вспотевшие волосы прилипли к перепачканным пороховой гарью лбам, гимнастерки в соляных разводах, зашнурованные проволокой кирзовые ботинки, выжженное солнцем небо, а на заднем плане одиннадцатиэтажное, изрешеченное шрапнелью панельное здание, так напоминающее трехпрограммный громкоговоритель «Маяк-202».
По радио передают прогноз погоды, согласно которому выясняется, что грозовой фронт уходит за перевал, за выложенные из огромных ледниковых валунов сторожевые башни, а это значит, что дождь постепенно стихнет и можно будет идти домой.
Всадник прячет фотоаппарат в колчан со стрелами.
Фронтовой репортер прячет фотоаппарат в планшет с картами.
Я достаю фотоаппарат из рюкзака, чтобы снять отражения пустых улиц Цхинвала в продолговатых лужах, края которых обкусаны автомобильными покрышками. Впоследствии меня будут обвинять в том, что на моих фотографиях почти нет людей, что город производит впечатление мертвого. Но это не так.
Например, водитель автобуса падал в придорожную траву и так лежал с закатившимися глазами, с раскрытым ртом, а откуда-то из глубины, из курящихся пороховой гарью недр его, изредка доносилось хриплое, булькающее дыхание.
Значит, его не убили.
Значит, он жив.
Всадники Апокалипсиса смотрели на этот город, будучи совершенно уверенными в том, что он уже не жилец на этом свете, что он обречен, что после их огненных стрел, после гнева небесного, что изливался из низких рваных облаков, выжить уже невозможно.
А рваные облака напоминали куски грязной клокастой ваты, которые выбивались из-под расчерченного примитивным узором дерматина. Им была обита входная дверь.
В таких случаях, когда заходишь с улицы, необходимо плотно прикрывать за собой дверь, дабы не выпускать тепло из довольно просторной, заставленной шкафами комнаты.
В шкафах хранились различные музейные экспонаты.
Навершия посохов. Бунчуки. Плетенные из бересты восьмиконечные кресты. Кольчуги с серебряными нагрудниками. Обшитые собольим мехом треухи. Рождественские маски в виде каких-то неизвестных науке рогатых чудищ с высунутыми красными языками. Войлочные остроконечные шлемы. Гладкоствольные кремневые ружья, украшенные арабским орнаментом. Старинные фотоаппараты, предназначенные для съемок еще на стеклянные фотографические пластины.
Тетя Лена стоит посреди комнаты и держит на подносе осетинский пирог фыджин, как неопознанный летающий объект – НЛО.
На пироге, натертом сливочным маслом, проступает надпись: «Сердце мудрых – в доме плача, а сердце глупых – в доме веселия».
В доме веселия слушают радио, выпивают, на кухне здесь жарят курицу и чистят картошку, а еще курят в туалете, на батарее парового отопления сушат носки, громко разговаривают по телефону.
Орут.
Телевизор орет.
В новостях показывают военные действия где-то на Кавказе – расстрелянный рейсовый автобус, убитые солдаты лежат вдоль дороги, по которой идут танки. Из выхлопных коробов в серое мглистое небо вырываются столбы черной клокастой гари.
Голос диктора вырывается из перекрученного синей изолентой динамика.
А ведь диктор никогда не улыбается, никогда! Она настойчиво пытается заглянуть в мои глаза, буквально вымучивает меня своим сверлящим взглядом, буровит, щурится, поводит выщипанными и оттого жидкими бровями, а я как-то срамно горожусь в ответ и бессмысленно пялюсь на ее напомаженные губы и хлопья пудры, свисающие с узких арийских щек.
В доме же плача все по-другому.
Здесь совсем тихо, и может показаться, что тут никого нет. Однако это заблуждение, ибо грешникам свойственно заблуждаться.
Другое дело, что далеко не каждый грешник может признаться в этом, всякий раз изыскивая возможности оправдать собственные беззакония, переложить вину на других или обвинить в произошедшем обстоятельства.
В таких случаях до лжно умозрительно разложить все «за» и «против» на весах горнего правосудия и безропотно дожидаться окончательного вердикта неумолимой стрелки, которая должна склониться в ту или иную сторону или же, напротив, замереть в полуденном положении, так и не найдя возможности вынести окончательный приговор.
Да, так бывает!
Но что же тогда остается делать грешнику, великому грешнику?
Ему остается лишь лежать на ковре лицом вниз и всматриваться в окружающие его орнаменты – в эти тканые цветы и звезды, в этих диковинных зверей, вчитываться в слова, состоящие из неведомых букв, и прислушиваться к собственному сердцу, которое теперь именуется «сердце мудрых».
Итак, фыджин уже лежит на столе, и Лена при помощи длинного кухонного ножа, более напоминающего штык, режет его. Из расселины, образовавшейся между словами «сердце» и «глупых», к потолку начинает подниматься пар, и комната тут же наполняется сладковатым запахом сдобы вперемешку с плавленым сыром с зеленью.
После войны Лена осталась в доме одна. Сын с семьей уехал жить в Ставрополь, а дочь уже давно перебралась в Москву, где работала в каком-то иностранном фонде. Дети звали Лену с собой, но она отказалась, потому что не могла оставить дом, стены которого хранили следы осколков и пуль, а подвал превратился в реликварий, где таились вопли спасавшихся здесь от бомбежки.
Этот дом был как высохший на горячем ветру старик, лица которого не разобрать, потому что оно затерто песком, изъедено солью, увито диким виноградом, оно проросло шипами терна и плющом.
Лена развела руками:
– Ну как такого можно оставить одного? Он же умрет без меня!
Действительно, как можно было оставить капризного старика, ведь он грозно шевелил мохнатыми седыми бровями, нарочито громко сморкался в носовой платок, который потом аккуратно складывал и прятал в нагрудном кармане стираной-перестираной старого образца гимнастерки.
Воевал, разумеется, мысленно.
Стрелял по противнику из укрытия, перезаряжал пистолет-пулемет системы Шпагина, был ранен в ногу, матерился от боли, спасал умирающего товарища, которого впоследствии вылечили, обвинили в дезертирстве и расстреляли, получал медаль «За отвагу», пил спирт, чтобы не сдохнуть со страху, снова был ранен, но теперь уже в голову, долго лежал в госпитале, мечтал о худенькой медсестре по имени Катя, даже пытался ухаживать за ней, но тщетно, вновь оказывался на передовой, вновь стрелял по противнику из укрытия, а потом переходил в контрнаступление, вытирал пороховую гарь со лба, улыбался, смеялся, радовался, что удалось выжить, был неоднократно награжден.
В этом доме я прожил три дня.
Точнее сказать, один день, ведь дни приезда и отъезда не в счет.
Сначала я пошел на городище, где горячий ветер трубно гудел в платинового отлива ковыле, стеля его по земле, поднимал с обложенных досками могил высохшие цветы и выцветшие погребальные ленты. Затем спустился в долину, откуда уже были видны полуразрушенные постройки молокозавода, расположенного на северной окраине города, а отсюда и до шоссе было не более трех километров по прямой. Однако тут дорога начинала петлять, и надо было долго обходить заросшие густым кустарником овраги, перебираться через каменистый, перерезанный перекатами поток, восходить на изъеденные дождями глиняные уступы, наконец, протискиваться через ощетинившуюся ржавой арматурой дыру в бетонном заборе и плутать по бывшей заводской территории, где во время войны стояла танковая часть.
Наконец я вышел к автобусной остановке.
Здесь, под навесом, наскоро сооруженным из колотого шифера и мятых дорожных знаков, уже стояли люди.
Девочка с лицом старухи?
Нетрезвый беззубый мужик без рук?
Беременная женщина с иссиня-черными синяками под глазами?
Улыбающийся старик с зататуированной лысиной?
Толстый мальчик, закрывающий лицо ладонями?
Нет!
Хотя впоследствии, рассматривая фотографии, сделанные на той остановке, я видел именно девочку с лицом старухи, именно нетрезвого беззубого мужика без рук, беременную женщину с иссиня-черными синяками под глазами, идиотически улыбающегося старика с зататуированный лысиной и толстого мальчика, который почему-то в самый неподходящий момент взял да и закрыл лицо ладонями.
Так вот, здесь, под навесом, были совсем другие люди – они смеялись, толкались локтями, вдыхали сухой, пропитанный пряными запахами разнотравья горный воздух, громко кашляли, курили, топтались на месте в ожидании рейсового автобуса. По идее, он уже должен был подойти, но, видимо, где-то застрял на перевале.
Сначала все смутились, когда я достал фотоаппарат, но довольно быстро привыкли и перестали обращать на меня внимание, даже позволяли подходить к себе совсем близко, совершенно не стеснялись, не позировали, а вели себя абсолютно раскованно. Можно было предположить, что в какой-то момент я просто стал невидим для них или же, напротив, до такой степени стал частью их существования, что никак не мог нарушить раз и навсегда установленного течения событий.
Так и течение горного потока, внутри которого отражаются изуродованные камнепадом деревья, неизменно, постоянно и вечно.
Кажется, что так было всегда в этой местности – и эти склоненные над самой водой телеграфные столбы, и эти покрытые проволочным кустарником уступы, и это уродство, с которым приходится мириться, потому что если уродство наблюдать постоянно, то оно таковым уже и не кажется.
Более того, сознание начинает воспринимать ущербность как норму, возвеличивает недуг, мифологизирует его, и лишь сделанная в первые минуты фотография становится, по сути, единственным свидетелем истинного положения вещей.
Таким образом, можно утверждать, что девочка с лицом старухи, нетрезвый беззубый мужик-инвалид, беременная женщина с бледным, желтушного оттенка лицом, улыбающийся старик в надвинутой на самые глаза папахе и толстый мальчик, закрывающий лицо ладонями, все-таки были на той остановке, но их образы обрели в реальности совершенно иные очертания, как бы примерили на себя услужливо предоставленные воображением маски.
Вполне возможно, что они представляли себя хотя бы и колядующими, напяливающими на лица маски каких-то неизвестных науке рогатых чудищ, птиц с огромными, устрашающе загнутыми клювами или же сонных задыхающихся рыб.
И вот когда автобус с получасовым опозданием наконец прибыл, все эти женщины в рейтузах, старики в фуражках, чумазые дети в резиновых сапогах, снова женщины в рейтузах, вытянутых на коленях, мужчины в спортивных костюмах и девушки-студентки, что стояли на остановке, принялись, активно работая локтями, пробираться в салон.
У собаки есть локти.
Я видел, как пассажиры рассаживались вдоль окон, радовались, что автобус все-таки пришел, что-то кричали, но голоса их тонули в реве двигателя и шуме ветра, который гнал с перевала клубы пыли вперемешку с сухой травой и мелкими острыми камнями.
Когда автобус уехал, собака так и осталась лежать на остановке, она тяжело вздыхала и шевелила пушистыми, как елочный лапник, ресницами.
Вечером за ужином Лена рассказала мне, как год назад точно такой же рейсовый автобус попал в засаду на объездной Зарской дороге. Всех пассажиров, а это в основном были старшеклассники, расстреляли в упор из автоматов, спастись тогда удалось только водителю. Когда машина съехала на обочину, он выпрыгнул через выбитое лобовое стекло и побежал. Он падал, прятался в придорожных кустах, потом вновь бежал и вновь падал, кричал что-то, захлебываясь в собственном зверином вопле и слезах отчаяния. Попасть в него более чем с двух сотен метров было все трудней и трудней, а когда же это расстояние увеличилось еще, то стрельбу пришлось прекратить.
Спустя несколько дней он вернулся в город, где все ждали от него покаяния, потому что он остался жив, а мальчики, которых он вез, погибли. И тогда он вставал на колени посреди привокзальной площади и начинал вымаливать прощение.
Так, бормоча себе под нос какие-то ведомые только ему молитвы и заклинания, он простоял несколько дней, и, когда за ним приехала «скорая», его хриплый голос был уже едва различим, он слабо дребезжал, что чайная ложка во время размешивания сахара внутри кружки с толстыми, покрытыми растительным орнаментом стенками.
Водитель оказался родным братом Лены Плиевой.
К чаю Лена подала три пирога с ягодами, курагой и корицей, что по осетинской традиции символизировало три начала – солнце, воду и землю.
Солнце в виде вызолоченного, разбрызгивающего по кухне кипящее масло циферблата настенных часов марки «Янтарь».
Вода в виде яблочного вина, которое освящает на праздник Преображения Господня, также именуемый и Яблочным Спасом, настоятель местной Георгиевской церкви протоиерей Александр Берндт.
Земля в виде пластмассового глобуса с заставки программы «Время».
Я хорошо помнил, как этот пластмассовый глобус, обклеенный бумагой, вылетал, вращаясь, откуда-то из глубины выпученного наподобие широкоугольной линзы экрана телевизора, описывал дугу и зависал над головой диктора, как нимб.
Святой Акакий.
Святая Варвара.
Святой Вит.
Святой Власий Севастийский.
Святой Георгий Победоносец.
Святой Дионисий Парижский.
Святой Евстафий.
Святая Екатерина Александрийская.
Святой Кириак.
Святая Маргарита Антиохийская.
Святой Пантелеймон.
Святой Христофор.
Святой Эгидий.
Святой Эразм.
Всего – четырнадцать святых помощников.
Святой диктор исполняет пляску святого Вита: пускается вприсядку, кричит что-то неразборчиво, размахивает руками, падает в изнеможении, и его уносят вовремя подоспевшие санитары из сюжета об областной больнице в Дмитровском районе Московской области, которую, согласно местному преданию, в 1899 году посетил Антон Павлович Чехов.
В другом телевизионном сюжете говорится об удивительном событии, имевшем место произойти в одной из евпаторийских грязелечебниц. После очередного сеанса пелотерапии парализованная девочка самостоятельно встала с носилок и ушла домой на собственных ногах.
– Расскажите, пожалуйста, а как это произошло? – спрашивает корреспондент, обращаясь к одной из медсестер.
– Даже сама не знаю, – отвечает высокая, с лицом, напоминающим густо натертую сливочным маслом лепешку, медсестра. – После окончания процедуры мы, как всегда, обернули ее полотенцами и переложили на носилки. Так положено после процедуры. Уже хотели было уходить, как вдруг она приподнялась на носилках и попросила распеленать ее, потому что хочет встать.
Однако в эту минуту экран телевизора внезапно гаснет, исходит белой, проваливающейся в глубину тьмы кромешной вспышкой-иглой.
Так часто случается в городе столетних грабов, которые во время цветения наполняют улицы терпким запахом хмеля, раскачиваются на ветру, шумят, грозно нависают над одно этажными постройками, заглядывают в открытые окна, барабанят ветвями по жестяным карнизам, рвут провода.
– Опять до утра электричества не будет, – говорит Лена и зажигает керосиновую лампу.
И сразу же вся комната погружается в полумрак. Теперь узоров ковра не разглядеть вовсе – лишь редкие отблески автомобильных фар с улицы выхватывают отдельные детали орнамента, наполняют движением стоящие в матовой глубине буфета фаянсовые фигурки животных – кабана, зай ца, медведя, тигра и тетерева по прозвищу Берендей, у которого близко посаженные, выпученные от истошного крика глаза подведены сурьмой.
Подкрашивание глаз на ночь сурьмой улучшает зрение, способствует росту ресниц, удаляет глазные выделения, а также останавливает воспаление век.
4.
В Ленинград на Московский вокзал поезд прибывает в шесть часов утра.
Свернутые наподобие мясных рулетов матрасы уже лежат на вторых полках.
В тамбуре, задыхаясь в клубах дыма, кашляет мужик.
Проводница выгребает из топки водогрея золу, чертыхается, трет глаза, моргает, пересыпает золу в ведро, дергает ручку туалета.
Заперто изнутри.
Возвращается в купе, где на столе заваривается чай. Пытается выловить заварочный пакетик, но он всякий раз срывается с ложки и падает обратно в стакан. Плавает там.
Вспоминает, что вчера, когда выезжали из Москвы, с молодой женщиной из пятого купе случилась истерика, что она исторгла из себя целый поток, целое наводнение из слов, слез, истинный водопад, сквозь него уже было не разглядеть ни вагона, ни полок, на которых тогда притаились перепуганные пассажиры, а теперь вот лежат свернутые уже наподобие бисквитных рулетов матрасы.
Да, об этом теперь неприятно думать.
Проводница встает, чтобы выйти из купе, но останавливается в дверном проеме, потому как ловит на себе свой же собственный взгляд, отраженный в зеркале, – насмешливый, презрительный, уничижающий, высокомерный, порочный, надменный, абсолютно чужой взгляд. Ровно такой, какой был у вчерашней женщины до того момента, пока она не потребовала включить кондиционер, потому что, как она сказала, может умереть от духоты.
Проводница вновь возвращается в купе, садится к столу и пробует пить чай, но тут же обжигает себе нёбо и язык кипятком.
Стонет.
Корчится от боли.
Закрывает рот ладонями, но от этого становится еще хуже.
Тогда стремительно выходит в тамбур, где, слава Богу, никого нет, и впивается губами и языком в заиндевевшее стекло, чтобы ощутить холод вперемешку с запахом угля, курева и креозота, кусает одеревеневшими зубами хрустящий иней. Все это делается для того, чтобы через какое-то время наступило облегчение, чтобы боль ушла в ведомые лишь ей кущи.
И оно, облегчение, наступает, и боль уходит в эти самые кущи, в углубления, доверху наполненные черной, нефтяного отлива болотной водой, в которой отражается высокое зимнее небо.
Думает: «Хорошо, что все-таки сейчас зима, а не лето, ведь летом окна вагона раскаляются и прикоснуться к ним нет никакой возможности не то чтобы губами – руками невозможно прикоснуться».
В этот момент вагон влетает на стрелку, и проводница ударяется лбом о стекло, оставляя на инее отпечаток прилипших ко лбу волос. По этому отпечатку можно судить о характере повреждений головы, полученных давно, еще в школьные годы, когда на физкультуре упала с брусьев на деревянный пол и потеряла сознание.
Поезд начинает скрипеть, рычать, дышать тяжело и неритмично, переваливаться из стороны в сторону на стыках, разумеется, качаться, а еще перепоясываться лентами пристанционных огней, что крестообразно расчерчивают пол и потолок, вспыхивают и мгновенно угасают в дверном зеркале.
Проводница выходит из тамбура, дергает ручку туалета.
Заперто изнутри.
Тогда она начинает стучать в дверь и требовать, чтобы немедленно выходили, потому что уже Ленинград, санитарная зона, и все туалеты должны быть давно закрыты.
Краем занавески вытирает пересохшие губы, убирает со лба волосы.
Вновь дергает ручку, кричит, что позовет милицию и начальника поезда.
В результате же достает из кармана столь напоминающую гребень для вычесывания колтунов связку служебных ключей и открывает дверь.
И тут же в глаза ударял невыносимо яркий, буквально выжигающий белый свет приемного покоя, белая палата, белые шторы, белые, со следами мушиных колоний потолки, белый кафель, белые простыни, белый, с желтоватым отливом, пластмассовый, напоминающий одиннадцатиэтажное панельное здание трехпрограммный громкоговоритель «Маяк-202», из которого доносился истошный женский крик. Тот самый, что, будучи многократно усиленным, заполнял скальные горловины, похожие на разверстые рты, заросшие непроходимым кустарником низины и проточенные горными потоками щели – глубокие, застарелые пролежни. Тогда всадник опускал правую руку, снимал с седла медный, оплетенный кожаными ремешками рог, подносил его к губам и начинал трубить в него.
Подобным же образом и начальник поезда подносил к губам свисток и подавал сигнал к остановке поезда.
Тут же начинали скрипеть колеса, от резкого торможения на пол со вторых полок летели матрасы, рулетами завернутые в лаваш, а за окнами замедляли свой бег бетонные столбы, прожекторные мачты, трансформаторные будки и красного кирпича фабричные постройки в районе Обводного канала.
На вокзале выяснилось, что ночью женщина из пятого купе попыталась покончить с собой.
Она закрылась в туалете и выпила упаковку нитразепама.
Инсомния!
Да, страдала бессонницей. Например, могла проснуться в три часа ночи, сесть на кровати, завернувшись с головой в одеяло, и так просидеть до самого рассвета.
В такие минуты, а точнее сказать, долгие часы, ей даже казалось, что она спит, что ее посещают сновидения, которые на самом деле сновидениями и не были вовсе, но лишь мечтаниями, визиями сумеречного положения души, уже давно находившейся между сном и явью, но ни к одному из этих состояний до конца не принадлежавшей.
И тогда любой посторонний звук, будь то удар железной двери лифта в парадном или вой автомобильной сирены на улице, мог вывести ее из полной прострации, в которой она пребывала, или же, напротив, погрузить в еще более глубокий лимб.
Прерывистость, преждевременность, мерцающие смыслы на грани здравого рассудка.
Верно замечено, что тончайшую грань между здоровьем и нездоровьем, бодрствованием и болезнью совершенно невозможно постичь разумом, но лишь опытом, проживанием всех уровней и кругов, обретением навыка истинных страданий.
Но тут же возникает вопрос: а что значит «истинное страдание»?
Это умение терпеть боль, не столь физическую, сколь душевную. Более того, это дар находить в себе силы превозмогать ее, уповая в первую очередь на то, что она непременно пройдет, утихнет, потому как ей на смену придет другая, может быть, еще более невыносимая.
Да, практикум в данном случае несложен, но как много дней и сил уходит на его постижение. А еще важно понять, зачем все это нужно, ради чего ты на это идешь и, как следствие, кто есть ты.
Она очень часто задавала себе этот вопрос и даже пыталась ответить на него.
Например, так ответить: родилась в Ленинграде, закончила филологический факультет университета, пыталась писать диссертацию по «Просветителю» Иосифа Волоцкого и «Божественной комедии» Данте, уехала в Москву, где прожила восемнадцать лет, вышла замуж, родила ребенка.
Пауза.
И вот теперь возвращается в Ленинград одна, потому что так и не поняла, чем для нее стал этот так называемый московский период жизни. Уверена, что ничем!
Наконец, она выпила таблетку снотворного и без сил рухнула на нижнюю полку. Еще какое-то время ее веки дрожали под натиском блуждающих, мечущихся в кромешной темноте зрачков, но это довольно быстро прошло, и она уснула, провалилась в мраморный, в форме чаши для причастия, фонтан, доверху заполненный цветущими кустами акации.
Она наблюдает за происходящим с собой со стороны.
Я наблюдаю за ней со стороны и вмещаю в нее все события и страдания, описанные в этом тексте.
Почему я это делаю?
Потому что эти восемнадцать лет мы прожили вместе.
Вот ее, полностью парализованную, раздевают медсестры, заворачивают в белую простыню и укладывают на носилки. Затем эти носилки через тенистую абрикосовую аллею грязелечебницы выносят во двор, где ставят на специальный деревянный помост, огороженный фанерной ширмой.
Здесь медсестры снимают с нее простыню и перекладывают в чугунную ванну, доверху заполненную лечебной грязью. Погружают ее в это резко пахнущее водорослями, торфом и речным илом, вперемешку с дохлой рыбой, месиво.
Она хочет закричать от страха, потому что ей кажется, что таким образом ее хотят замуровать, превратить в огромный безразмерный кусок речной глины.
Кусок пирога, на котором еще можно разобрать оттиснутые слова из Екклесиаста: «Сердце мудрых – в доме плача, а сердце глупых – в доме веселия».
Она даже открывает рот, но тут же одна из медсестер, с лицом, напоминающим густо натертую сливочным маслом лепешку, бросает на ее лицо лепешку же лечебной грязи со дна солончака Сасык, что тянется вдоль железнодорожного полотна на перегоне от станции Саки до станции Евпатория. И все мгновенно меркнет, погружается в темноту, из самой глубины которой доносится только булькающий звук серо водородного источника, исходящего перламутровыми пузырями.
Она открыла глаза и увидела, что лежит, завернувшись с головой в одеяло, а за окном уже давно наступил день.
Встала.
Вышла из купе, прошла по раскачивающемуся коридору, зашла в туалет и закрыла за собой дверь.
Наклонилась над рукомойником.
Пустила воду, чтобы не слышать, как сейчас в очередной раз будет клясться себе, что больше никогда не станет принимать снотворное, потому что лучше изнемогать от полуобморока-полуяви, чем быть утопленной во время процедуры в чугунной ванне грязелечебницы. А ведь это и есть выбор, который ошибочно считают проявлением полной свободы. Почему ошибочно? Да потому что смятение и раздвоенность уже есть реализация несвободы, которая проявляется в прерывистости и преждевременности, в мерцающих смыслах на грани здравого рассудка, а в конечном итоге приводит к сумеречному помрачению сознания, к лимбу.
Она прекрасно помнила, как, еще учась в университете, спускалась в читальный зал, заполняла требование-формуляр, куда вносила свою фамилию, имя и отчество, затем следовало название книги, автор и самое главное – шифр, состоявший из непонятной непосвященному комбинации цифр и букв.
Казалось, что внутренне она сопротивлялась предстоящему чтению букв-букв, но ничего уже нельзя было изменить.
И вот книгу приносили. Она садилась за стол, включала лампу, читала вслух: La Divina Commedia Dante Alighieri.
В переводе с латыни limbus обозначает край, рубеж, место пребывания не попавших в рай душ, не являющееся при этом ни адом, ни чистилищем. Впрочем, в «Божественной комедии» Данте определил лимб как первый круг ада, где вместе с некрещеными младенцами пребывают добродетельные нехристиане. Именно сюда на лифте и спускался Спаситель, дабы ободрить страдальцев, сделавших свой выбор, но при этом осознавших его ошибочность.
Потом лифт, конечно, вновь уходил в небеса, и его приходилось долго ждать в насквозь продуваемом парадном. Опять же довольно часто в лифте западали кнопки второго и пятого этажей. Она знала об этом и поэтому, чтобы не терять времени, спускалась по лестнице пешком. Выходила на улицу, и в лицо ей тотчас же ударял ледяной ветер конца декабря.
На какое-то очень короткое время становилось легче, и нужно было успеть поймать машину, пока в голове снова не начнет орать телевизор: новости, прогноз погоды, реклама, репортаж с места событий, сериал, трансляция финала чемпионата мира по хоккею, снова реклама, праздничный концерт в телестудии Останкино, еще один выпуск новостей, документальный фильм.
И уже потом, когда ехала по ночному городу и смотрела в окно такси, то была абсолютно уверена в том, что все-таки смотрит этот самый орущий телевизор. Например, телеканал «Культура» смотрит, по которому показывали документальный фильм про художника Врубеля, из него она узнавала, что в 1904–1905 годах Михаил Александрович содержался в клинике для душевнобольных доктора Усольцева, что располагалась в Петровском парке, то есть как раз рядом с тем местом, где она жила в Москве. На Соколе.
Останавливались.
Она с трудом выбиралась из машины на пронизывающий ветер и чувствовала, что не может дышать. Дрожала всем телом, задыхалась, судорожно открывала рот, а из глаз ее катились слезы, которые, впрочем, тут же и замерзали на щеках. Подходила к воротам больницы, дергала ручку сваренной из металлических лоскутов калитки, спрятанной в глубине низкого каменного алькова, слышала доносившийся из привратницкой звук включенного телевизора, стучала, изо всех сил дергала ручку еще раз, но калитка была заперта изнутри.
А сводчатый-то потолок алькова напоминанием склепа лежал на самой ее голове, усиливая тем самым ор болельщиков и осипший от постоянного крика голос телекомментатора – в финале чемпионата мира по хоккею наши проигрывали чехам со счетом 2:3.
Перебои с электричеством, переключение тумблеров, гудение трансформаторной будки, падение напряжения в сети и как следствие – остановка работы счетчика.
Считала до десяти, успокаивала себя таким образом, говорила, что сейчас все должно пройти, а если не пройдет, то она будет вынуждена принять снотворное.
И это уже звучало как угроза.
Угроза самой себе в первую очередь, потому что данное перед рукомойником слово никогда больше не использовать нитразепам в качестве успокаивающего будет нарушено, и она, соответственно, обманет себя еще раз.
По мысли Святых Отцов церкви, обман есть добровольное отдание своих самых сокровенных помыслов началозлобному искусителю, который, как известно, таится в мелочах, в частностях, в неприметных на первый взгляд деталях ор намента, в кущах, и оттого кажется привлекательным и абсолютно нестрашным. Изначальная человеческая греховность и несовершенство, умозрительное собеседование с демонами приводят к желанию бросить начатое, потому как новые образы, новый орнамент неизбежно вытесняют старые, кажутся более яркими, более правдивыми. Впрочем, новое понимание истины тоже оказывается недолговечным, а иллюзия вечного поиска, вечной неуспокоенности приводит в результате к лимбу, к помрачению рассудка, к ужасному в своей сути осознанию того, что покорить орнамент невозможно в принципе.
Действительно, как можно постичь то, что возникает ниоткуда и уходит в никуда? Таким образом, вопрос опытного постижения уступает место уверению или сердечной чистоте, о которой сказано, что она возвещает блаженство.
Финальный свисток рефери возвестил, что наши все-таки проиграли чехам и заняли второе место.
Начальник поезда поднес к губам свисток и подал сигнал к остановке поезда, а на платформу уже въезжала машина «скорой помощи» со включенной сиреной.
Впервые в Ленинград мы приехали вместе с отцом в феврале 1987 года.
Тогда я и не мог догадываться, что у меня будет связано с этим городом.
От Московского вокзала до Ждановской набережной, где находилось военное общежитие, добирались на троллейбусе.
Шел снег.
Дерматиновые сиденья тогда напоминали окаменевшие в морозильнике целлофановые пакеты с говяжьим фаршем, в котором при помощи вилки можно было проковырять дырку и заглянуть в нее. В дырку.
За обметанными инеем окнами троллейбуса проплывали кадры расцарапанной грейфером кинохроники: Дворцовая площадь в непроглядном стылом мареве, медленно бредущие вдоль трамвайных путей, замотанные в платки пешеходы, мужик, спящий на остановке «Хоккейный стадион СКА», и если вообразить себе, что это блокадные кадры, то вполне допустимо, что мужик уже мертв, что он замерз. Но правдой это не является, потому как мужик громко храпит, даже улыбается во сне, ведь ему снится финал чемпионата мира по хоккею 1986 года в Москве, в котором мы выиграли у шведов со счетом 3:2.
Весь следующий день мы с отцом без особой цели бродили по городу, посещали книжные магазины, в забегаловке на пересечении Дзержинского и канала Грибоедова пили кофе из никелированного титана, несколько раз переходили Неву и даже видели, как из-под обледеневшей опоры Дворцового моста баграми вытаскивали утопленника. Здесь, перевешиваясь через ограду, украшенную литым орнаментом в виде пятиконечных звезд, зеваки обсуждали, как такое вообще могло случиться в центре города и что теперь будут делать с этим утопленником, чьи неестественно вывернутые ступни уже облизывало перевернутое отражение навершия Кунсткамеры.
Где-то, не помню, где именно, я читал, что река символизирует вечность. Потоки, обнаруживающие себя лишь присутствием извивающихся водорослей, приходят ниоткуда и уходят в никуда.
Водоросли, как полозы.
Некоторые змеи проплывают мимо и теряются в водоворотах, проваливаются без остатка в бездонных воронках.
Изредка можно видеть и проплывающих мимо рыб, которые смотрят на утопленника и припоминают, что раньше под облепленными мидиями опорами моста можно было наблюдать безвольно перемещавшиеся по воле течения тела, напоминавшие стволы деревьев. А торчавшие в разные стороны окоченевшие руки напоминали ветви.
Рыбы хорошо помнили и блокаду, когда они подплывали к светящимся в ледяном потолке дырам, через которые ведрами и мятыми бидонами, кастрюлями и кружками, мисками и ночными горшками горожане вычерпывали ледяную невскую воду.
Рыбы щурились от мутного дневного света, который проникал в стылый мрак через проруби, также именуемые иорданями, пускали пузыри, лениво веяли плавниками, ощущая во всем теле смертельную усталость.
Рыбам было очень много лет, ведь они всегда помнили себя только старыми, беззубыми, с проплешинами в красно-кирпичного оттенка чешуе. Иногда им приходилось переворачиваться вверх брюхом и делать таким образом вид, что они испустили дух. Или это было кратковременное помрачение рассудка, сиюминутный пароксизм, потому что годичные кольца вокруг их глаз все проступали и проступали, и не было им конца. Более того, некоторые рыбы были покрыты этим однообразным орнаментом с головы до хвоста и напоминали сохнущее на ветру белье, особенно когда попадали в потоки неверного, проникающего под воду солнечного света.
В ту февральскую поездку солнце появилось только один раз, когда на третий день нашего пребывания в Ленинграде мы поехали в Царское Село.
Огромный, оцепеневший в морозной мгле парк уступами спускался к Большому пруду, на котором, как раз напротив Камероновой галереи, был расчищен каток. Тогда солнце выбралось из косматых облаков совершенно неожиданно, осветило Чесменскую колонну, павильон «Грот» и девочку на фигурных коньках и в цигейковой шубе.
Я увидел, как девочка от неожиданности даже закрыла глаза руками, но при этом она продолжала скользить по льду, пока наконец не выехала на снег и не упала в сугроб.
А в гардеробе военного общежития, где мы жили с отцом, цигейковые ушанки были сложены в несколько рядов и напоминали пасхальные куличи.
Цигейковая шуба тут же стала невыносимо смешно барахтаться, пытаясь выбраться из сугроба, вместе с ней девочка тоже замахала рукавами с подшитыми налокотниками, но, видимо, уже более от страха, потому что зловеще-багровое солнце исчезло так же внезапно, как и появилось, вновь погрузив все пространство Большого пруда и Камеронову галерею в февральский сумрак второй половины дня.
Я хорошо запомнил, как в этот момент, когда, согласно евангельскому сюжету, сквозь небесную прогалину Святой Дух нисходит на апостолов в виде ослепляющего разряда газокалильной лампы, отец почему-то сказал:
– Именно в такой зимний день в 1837 году на дуэли был смертельно ранен Пушкин.
И тут же, буквально незамедлительно, я вообразил, как Александр Сергеевич брел по рыхлому мокрому снегу в районе Черной речки, как он полностью промочил себе ноги, как выводил зеленкой у себя на лбу крест-апотропей в надежде, что пуля не попадет ему именно в лоб и не обезобразит его лица, как выставлял вперед указательный палец правой руки, долго целился и громко говорил: «Пуф!», как это делают дети, когда играют в войнушку.
После чего Пушкин подносил указательный палец к губам, уже сложенным фистулой, и дул на него. Подобным образом всегда поступают герои американских вестернов, как бы остужая разгоряченный во время продолжительной стрельбы ствол своего револьвера.
Спрашивал секундантов: «Попал?»
«Попал, попал», – усмехаясь, отвечал ему Жорж Шарль Дантес, стоявший на расчищенной от снега площадке и державший в руках кавалерийский картуз, доверху наполненный спелыми вишнями. Угощаясь ягодами, он выплевывал косточки, которые почти долетали на Александра Сергеевича, падали на мокрый подтаявший снег, оставляя на нем красные кровяные разводы.
Пушкин вновь спрашивал секундантов: «Попал?», но они, не говоря ни единого слова, уже заворачивали его в безразмерную романовскую шубу и несли к саням. Он умирал, потому что пуля вошла ему в живот, а вовсе не в лоб, чего он боялся больше всего, он и предположить не мог, что крест надо было рисовать именно на животе, из которого тогда с фистульным звуком «пуф» не вырвался бы горячий воздух.
Из небесной иордани вырвалось солнце.
Из открытого рта Дантеса вырвалась вишневая косточка.
Из включенного телевизора вырвались вопли трансляции хоккейного матча.
Из проруби выбралась окоченевшая рука утопленника.
Наконец девочка в цигейковой шубе выбралась из сугроба, стряхнула с себя снег, подъехала к подножию Камероновой галереи, села на вмерзшую в лед скамейку и начала расшнуровывать коньки.
– А что было потом?
– А потом Пушкина привезли на Мойку, где он и скончался спустя два дня. Не желая устраивать столпотворение в городе, царь распорядился тайно перевезти гроб с телом поэта в Святогорский монастырь, где он и был предан земле, а на его могиле было поставлено мраморное надгробие работы братьев Пермагоровых.
Воистину, на вопрос: «А что было потом?» – я бы ответил себе совсем по-другому.
Например, так: «Именно в тот момент, когда пуля попала ему в грудь и он упал, над перевалом разразилась страшная гроза. Низкая свинцовая облачность выплевывала шквальные ливневые заряды, погружая изъеденные ветром уступы и каменные горловины в непроглядную дождевую мглу, которая двигалась вдоль покрытых грязным снегом хребтов, распадков, курилась в них, варилась мелко нарезанным мясом, дышала и пузырилась. Никому даже в голову не пришло накрыть его хотя бы обычной солдатской шинелью, и потоки дождя довольно быстро смыли у него с груди кровь и неумело нарисованный зеленкой крест-апотропей. Секунданты же и сам Николай Соломонович Мартынов бросились к подножью Машука в надежде укрыться от ливня в устроенной здесь галерее для отдыхающих».
На самом же деле я, конечно, прекрасно знал, что было с Пушкиным, когда его, тяжелораненого, привезли в дом на Мойку. Этот вопрос я задал отцу, скорее чтобы уже для себя сформулировать второе «потом». То есть заранее подготавливал возможность совместить несовместимое на первый взгляд: смертельное ранение Пушкина и убийство Лермонтова, самоубийство Радищева и страдания Гоголя, безумие Врубеля и delirium tremens Мусоргского, самоубийство Гаршина и угасание Блока. Однако при этом я был абсолютно уверен в том, что несовместимость и несовпадение таковыми кажутся лишь на первый взгляд, который, как известно, может быть весьма поверхностным и более чем ошибочным. Этот самый первый взгляд имеет возможность лишь выхватить экстерьер, даже не оценить, не проанализировать, а именно обрисовать, визировать, архивировать его для создания предварительной картины. И лишь потом воображение начинает работу по составлению кадров, наполняя самый несущественный, жалкий по своей сути эпизод глубиной и многообразием смыслов. Так, в частности, происходит, когда подолгу рассматриваешь старые фотографические отпечатки или совмещаешь негативы, каждый из которых становится своеобразным фоном, если угодно, декорацией к последующему.
Следующим этапом становится постепенное заполнение объекта умозрительного созерцания красками, полутонами. Негатив неизбежно превращается в тонированный позитив, в слайд, который при помощи весьма нехитрого устройства можно проецировать на белую простыню, что висит на стене в комнате с зашторенными окнами. И это тоже очень символично, ведь воссозданное изображение и реальное изображение в окне совершенно разнятся, потому что они существуют отдельно друг от друга. Как отдельно существуют обыденный ход событий и ход событий вымышленный.
Например, в галерее у подножия Машука от дождя мог укрыться Лермонтов, а несчастный Мартынов с простреленной грудью так и остался бы лежать под дождем. Кто-то накрыл его солдатской шинелью, а по неестественно вывернутым ступням его стекали потоки желтой глины.
Мы поднялись с отцом на дебаркадер Камероновой галереи и тут же ощутили себя стоящими на перроне, к которому медленно подходил московский поезд. Здесь уже столпились встречающие, кто-то бежал вдоль вагонов, что-то кричал, размахивал руками, из динамиков доносилась музыка, что смешивалась с воем сирены машины «скорой помощи», стоявшей в самом начале платформы.
Таким образом получалось, что происходившее здесь и сейчас тоже было «потом», спустя десятилетия после дуэли, произошедшей на Черной речке в 1837 году, или спустя годы после нашего посещения Ленинграда в 1987 году.
В Ленинград поезд прибывает в шесть часов утра.
Настенные часы марки «Янтарь».
Уставшие после ночного дежурства санитары.
Начальник поезда поправляет фуражку, съехавшую ему на затылок.
Изо рта вырывается глухой хрип.
Некоторые из встречающих через спины проводников пытаются рассмотреть, кого же это несут на носилках к машине «скорой помощи». Но ничего разглядеть не удается: толкотня, крики, изо всех ртов вырывается пар, кроваво-красные вишневые косточки, языки, ругань, светает.
И она вновь наблюдает за происходящим с собой со стороны.
Вот ее, полностью парализованную, укладывают на носилки и выносят из вагона, предварительно завернув в белую простыню. Скорее всего, именно благодаря этой простыне и нет никакой возможности судить о ее состоянии. Жива ли она? Отошла ли в сумрачное царство мертвых? А может быть, оказавшись на полпути из одного состояния в другое, она пребывает в лимбе, где время тянется очень медленно, где минута равна десятилетиям, а час – векам, где все движения размыты и совершенно подобны галлюцинациям, то есть полнейшему осязанию несуществующих или же иллюзорных предметов.
Тревога.
Страх.
Речевое возбуждение.
Толкотня и крики на платформе усиливаются.
Что есть иллюзорные предметы?
Хотя бы и детали орнамента, украшающего простыню, в которую она завернута: листья магнолии, индийский огурец, побеги папоротника, виноград, лавр, дубовый лист, плоды граната, кипень акации, алоэ в форме зазубренной сабли, навершия посохов, павлиньи хвосты, зрячие ладони, верблюды вниз головой, арабская вязь, горящие свечи, кубки для вина, рыбы вверх плавниками.
К слову сказать, последний элемент орнамента имеет глубокий мистический смысл, символизируя бесконечный характер бытования, бессмертие человеческой души, которая сравнима с плывущей по воле течений рыбой, что может переворачиваться плавниками вверх. Тем самым с дерзновением отрицается изначальный Божественный план, как бы подвергается сомнению сама мысль о возможности спасения вопреки многовековым усилиям «последнего врага».
Но что есть «последний враг»?
«Последним врагом» Святые Отцы церкви называют смерть, а коль скоро ее не будет, то и не будет никакой печали, не будет ничего враждебного там, где нет врага.
Из больницы ее выпустили в начале марта.
Она подходила к воротам больницы, открывала сваренную из металлических лоскутов калитку, спрятанную в глубине низкого каменного алькова проходной, слышала доносившийся из привратницкой звук включенного телевизора. Затем выходила на набережную Пряжки и долго неотрывно смотрела на медленно проплывающие сквозь перевернутые отражения домов на противоположном берегу куски грязного льда.
Куски льда, как разрозненные обрывки воспоминаний, как обрывки киноленты или липкой ленты для сбора мух, которую летом на даче подвешивали посреди веранды.
Эту же ленту приходилось использовать и в качестве изоляции электропроводки все на той же веранде.
Веранду напоминала телефонная будка, которая стояла у больничных ворот.
Здесь же машина, к лобовому стеклу которой синей изолентой была прилеплена надпись: «В ремонт».
Ремонтировали Банный мост.
По банным дням под присмотром санитарки ее водили в душевую, расположенную в подвале главного корпуса. И здесь, в кафельном царстве, навечно провонявшем хлоркой, она раздевалась и вставала под струю кипятка, терла мылом лицо, скользила по решетке липкого деревянного настила.
За железной решеткой ограды моста проплывали куски грязного льда.
Потом она переходила Пряжку и читала надпись на мемориальной доске: «В этом доме жил с 6 августа 1912 года и умер 7 августа 1921 года Александр Блок».
Теперь больничная красного кирпича часовня была уже на противоположном берегу, и ее перевернутое отражение облизывало неестественно вывернутые ступни сидевшего у самой воды старика.
Старик кутался в шинель, кашлял, чесал подбородок, трогал пальцами ног ледяную воду, делал это настойчиво, чтобы обжечься, чтобы вздрогнуть, закричать и ожить.
Чем он занимался, когда оживал?
Ловил сооруженным из металлического прута удилом рыбу, которая подплывала к наживке в виде слепленного из хлебного мякиша шарика или извлеченного из междуоконного пространства высохшего жука и долго смотрела на нее. Размышляла, предвкушала, как сейчас будет трапезовать.
А еще рыба хорошо помнила блокаду, когда она подплывала к светящимся в ледяном потолке дырам, через которые ведрами и мятыми бидонами, ночными горшками и мисками горожане вычерпывали ледяную воду.
Старик ставил миску на стол и вываливал в нее пойманную рыбу. Кухня тут же наполнялась запахом донного ила, водорослей, сопревших дубовых свай, забитых вдоль набережной для укрепления береговой линии.
Затем старик доставал из буфета нож и начинал чистить рыбу, выбрасывая внутренности в ведро, которое он выдвигал ногой из закута, образованного рукомойником с одной стороны и холодильником с другой.
Пузырящаяся маслом сковорода напоминала заполненный до краев беснующейся толпой римский амфитеатр, в который на съедение хищникам выпускали христианских первомучеников, извалянных в опилках.
Так и куски рыбы, извалянные в муке, попадают в самое пекло, тут же при этом покрываясь золотистой коркой и полностью при этом уподобливаясь обернутым фольгой египетским мумиям.
Хрустят, переливаются, источают густой перламутровый жир, который, остудив, старик впоследствии будет использовать для натирания двурогой бороды, имеющей название «Моисеевой».
Видит себя этаким ассирийцем.
Из ведра выглядывают внутренности, избежавшие страшной участи быть брошенными на сковороду. Эти внутренности следует накрывать газетой, извлеченной из почтового ящика, прибитого к входной двери.
Она стоит у входной двери и долго не решается нажать кнопку звонка.
Наконец все-таки принимает решение и утопливает пластмассовый цилиндр внутрь целлулоидного уха, но ничего не происходит. Абсолютно ничего не происходит!
Она звонит еще раз, и вновь – тишина.
Значит, звонок не работает и придется вновь стучать в обшитое драным дерматином поле двери. Удары будут проваливаться в пожелтевшую от времени, как старая фотографическая бумага, вату, в грозовые заряды клокастых облаков цвета мокрого песка, будут гудеть-гудеть стальным рельсом и уходить в никуда.
Наконец, закончив жарку рыбы, старик все-таки услышал удары, доносившиеся из прихожей, включил свет, долго возился с замком и открыл дверь.
Она вошла на кухню и увидела настоящего ассирийца, с двурогой бороды которого, петляя, на пол стекал янтарный рыбий жир.
Двери домов снимали с петель и использовали в качестве столов, на которых раскладывали угощения из рыбы. Причем делали это согласно установленным правилам, выкладывая из золотистых, обжаренных по краям, обернутых фольгой египетских мумий сложный орнамент.
Орнамент следует понимать как некий символ системного повторения и единообразия первосмыслов: рождество, житие и смерть на кресте.
Мальтийские кресты.
Восьмиконечные кресты.
Фибулы.
Россыпь упаковок нитразепама.
Источники в виде пальмовых кущей.
Мавританская вязь.
Нанизанные на леску куриные боги.
Сухофрукты-сухофрукты.
Формованный хлеб.
Именно такой формованный хлеб подавали в больничной столовой. Здесь, в довольно просторном, более напоминавшем спортзал помещении, над раздачей висели электрические часы «Янтарь», внутри которых, как в ковчеге-мощевике, дрожал вызолоченный зрачок маятника. И ей всегда казалось, что он пристально наблюдает за тем, как она подносит ложку ко рту, или за тем, как она выпивает назначенное ей лекарство. Это было своего рода недреманное око, которое на ночь переносили в больничную красного кирпича часовню, где хранили под замком до утра в специально устроенной для той надобности деревянной кувуклии.
Она говорила себе: «Постоянно быть под наблюдением. Постоянно ощущать на себе чей-то взгляд, испытывая при этом тревогу, крайнее напряжение, нервное возбуждение, усталость наконец».
Но стоит ли так опасаться Божественного присутствия?
Разумеется, нет, но при полной уверенности, что это именно Божественное присутствие, а не какое иное. Например, не присутствие началозлобного и лукавого демона, что, виртуозно меняя личины, то выступает в образе кроткого агнца, то примеривает маску глинобородого пастыря, то являет собой аллегорию смиренномудрия.
Такой уверенности, что и понятно, не было. Ее не могло быть в принципе, потому что даром тайнозрения обладали избранные, имевшие возможность говорить: «Я постоянно пребываю под Божественным наблюдением. Постоянно ощущаю на себе Его взгляд, испытывая при этом сладчайшую тревогу, называя себя рабом Божиим».
Меж тем в столовую входили санитары, выстраивались вдоль стен и начинали неритмично хлопать в ладоши. Это означало, что принятие пищи завершено и начинается развод по палатам. Пользуясь кратковременной неразберихой и замешательством, она сгребала непринятые лекарства в карман больничного халата, таилась, хотя прекрасно понимала, что недреманное око, висящее над раздачей, все видело и осуждало ее.
После ужина старик ушел к себе в комнату и включил радио. Перед сном он всегда слушал выпуск «Ленинградских новостей».
В Ленинграде она так и не ожила, ехала сюда именно за этим, тайно надеясь, что изменения все-таки наступят.
Нет, не наступили!
После месяца, проведенного в больнице, все осталось по-прежнему, и ледяная вода Невы сомкнулась над головой, все погрузив в непроглядную темень, населенную ленивыми, неповоротливыми рыбами.
Стала ходить в библиотеку, что располагалась в одном из спальных районов. Утром ждала на остановке автобус и потом долго ехала через весь город к подножию огромного одиннадцатиэтажного панельного здания. Спускалась в читальный зал, заполняла требование-формуляр, куда вносила свою фамилию, имя и отчество, затем следовало название книги, автор и самое главное – шифр, состоявший из непонятной непосвященному комбинации цифр и букв. Казалось, что внутренне она сопротивлялась предстоящему чтению букв-букв, но ничего уже нельзя было изменить.
И вот книгу приносили. Она садилась за стол, включала лампу и начинала читать вслух:
«Он повелел посадить их на коней, на вьючные седла, спиной к голове коня, чтобы смотрели они на запад, в уготованный для них огонь, одежду же их повелел надеть задом наперед, а на головы повелел надеть им заостренные берестяные шлемы, будто бесовские, бунчуки же на шлемах были из мочала, венцы – из соломы вперемешку с сеном, на шлеме была надпись чернилами: „Вот сатанинское войско“. И приказал их водить по городу и всем встречным приказал плевать на них и говорить громко: „Это враги Божии!“ После же повелел сжечь шлемы, бывшие у них на головах. Так поступал он, чтобы устрашить нечестивых, чтобы всем показать зрелище, исполненное ужаса и страха».
Делала пометки в тексте – «заостренные берестяные шлемы», «бунчуки из мочала», «венцы», «враги Божии», «зрелище, исполненное ужаса и страха». Более же находила в подчеркнутом не смысл, но состояние, какую-то лишь ей слышимую музыку, что звучала внутри, но исторгнуть ее из себя не было никакой возможности. И это тяготило, сдавливало грудь, вызывало прерывистое дыхание, сердцебиение вызывало, а также нестерпимый грохот крови внутри головы. Как долго это могло продолжаться? Достаточно долго, чтобы почувствовать страх оттого, что ничего другого, кроме этой чудовищной по своей сути какофонии, больше никогда услышать не придется. Следовательно, музыка так и останется похороненной где-то в глубине, в норе, на одной из станций метро или в яме, выкопанной на заднем дворе.
Впоследствии к этой музыке были написаны слова.
Слова-знаки, слова-символы, слова-объекты.
Вот они: «Изначально могла быть ночь, лишенная света дня, и я, блуждающая в этой тьме, лишенная света дня.
Затем мог быть день, лишенный тайн ночи, белый и прозрачный, и я, находящаяся тут, освещенная солнцем, ослепленная и лишенная тайн ночи.
Третий раз мог быть великий ветер и потрясение земной тверди, и я, ужасающаяся сему.
Четвертый раз могло быть вселенское наводнение, исхождение океанов и морей, безумство рек и озер, неистовство небесной влаги, и я, помышляющая о смерти, лишенная всяческой надежды.
Пятый раз могло быть великое спокойствие всех атмосфер, и материй, и веществ, и я, благодарящая Его за сие.
Шестой раз могла быть засуха и оскудение почв, и я, призывающая ангела-хранителя, кроткая и смиренная, лишенная всякой надежды на спасение.
И наконец, седьмой раз могли раскрыться окна и двери, впустив при этом дыхание всех стихий, и я воскресала, потрясенная увиденным».
Когда всадники Апокалипсиса заканчивали пение, они надевали на головы войлочные шлемы, закуривали, негромко переговаривались между собой, а еще пристально всматривались за горизонт, из которого напоминанием огромного замшелого валуна вырастала Медвежья гора, покрытая, как болячками после ветряной оспы, островками кособокого полярного редколесья.
5.
Да, болячки отсыхают и отваливаются, оставляя после себя небольшие, едва различимые углубления.
Уже много позже, когда я совершал путешествия, то довольно часто встречал такие углубления, доверху наполненные черной болотной водой.
Путешествие первое.
Железнодорожная ветка Обозерская – Вонгуда – Мурманск, проложенная в 1938–1941 годах заключенными Онеглага, тянется до горизонта сквозь топь, мерно покачивающуюся высохшими, заизвестковавшимися стволами.
Сизая, пахнущая креозотом насыпь, – единственный и бесконечный в этой местности каменный бархан, покрывшийся плесенью и заросший прелыми лишаями.
Раньше на протяжении всей трассы на участке Обозерская – Беломорск располагались лагерные пункты. Вернее сказать, это была целая система лагпунктов для зэков, строивших эту железнодорожную ветку. Тут был идеальный расчет: на каждые десять километров дороги – контрольный пункт, а на каждый метр железнодорожного полотна – по одному заключенному с лопатой или киркой. Было известно, что параллельно железнодорожной линии вели и автодорогу, ныне почти полностью заброшенную.
От станции Порог-Вонгуда до Онеги был проложен тупиковый отворот. Тоже, разумеется, заключенными. Вдоль этого отрезка пути лагерные пункты располагались на 11-м километре, на Каменной Горе, в урочище Пивка и в Кировском поселке, напротив гидролизного завода.
Теперь здесь ничего нет, все съедено сыростью, сгнило и ушло в вонючие пузырящиеся болотные недра – няши.
Вот горячий июльский ветер несет шелестящую гарь мертвой сосновой коры, что похожа на рыбью чешую. Под ногами чавкает живая трясина, из глубины которой поднимается удушливый сероводородный смрад.
Гуляет.
Гудит.
Гудят провода, намотанные на керамические пробки изоляции. Комары ли, мошка?
Миновав поворот на грузовой разъезд-тупик Анда-Кирпичная, поезд уходит на северо-запад, к Летнему берегу Онежской губы, на Мурманск и Ворзогоры.
Историю так называемого Ворзогорского восстания 1918 года хранит лишь Лазаревский погост в Онеге, где среди немногих сохранившихся надгробий на себя обращает внимание проржавевшая сварная пирамида с погнутой пятиконечной звездой наверху, покосившаяся, опутанная колючим проволочным кустарником.
Летом 18-го года из-за опасения высадки союзного десанта в Ворзогорах был выставлен пост охраны и наблюдения за береговой линией.
Прибывших из Онеги красноармейцев встретили недружелюбно, никто не хотел пускать их на ночлег. Для наблюдательного же пункта красноармейцы выбрали колокольню ворзогорского Введенского храма, но народ воспротивился этому. Чтобы избежать конфликта и кровопролития, настоятель храма Афанасий Сибирцев отправился в Онегу для выяснения обстоятельств этого дела, но был там арестован. Это известие, что и понятно, было встречено в Ворзогорах с гневом, и местные жители разоружили пост красноармейцев. В стихийно возникшей перестрелке, ставшей, надо полагать, результатом неразберихи и внезапно наступивших сумерек, один красноармеец был убит, а другой ранен в ногу. Вскоре прибывшая из Онеги подмога успокоила ворзогорских бунтовщиков при помощи пулеметов, а раненого бойца немедленно доставили в Онегу, где ему была ампутирована нога.
На следующий день нога, пролежавшая всю ночь в леднике больничного морга, была завернута в красное знамя и с почестями предана земле недалеко от алтарной части Лазаревской церкви. Тогда на траурный митинг собрались немногочисленные красноармейцы, рекрутированные по большей части из фабричных рабочих Шенкурска и Архангельска, а также любопытствующие жители окрестных бараков, числом не более десяти, в массе своей нетрезвые и недовольные новой властью.
Через несколько дней на могиле ноги была поставлена сварная пирамида с пятиконечной звездой наверху.
С Дерягиным мы познакомились во время хождения на Кондостров, что располагался в горловине Онежской губы при выходе в Белое море. Раньше на острове был Никольский скит, приписанный к Соловецкому монастырю, но в 20-х годах скит закрыли и передали его в распоряжение расстрельной команды Соловецкого лагеря особого назначения.
Теперь тут пусто.
Место мрачное, и рыбаки, выходящие за сельдью в Восточно-Соловецкую салму на сейнерах или «моторах», предпочитают здесь не швартоваться, разве что попав в шторм. Иногда сюда заходит пароход «Шебалин», следующий курсом Лямца – Онега.
В хорошую погоду Кондостров видно с материка, с мыса Глубокого.
В Онеге Дерягин работал на гидролизном и жил при нем же в общежитии – двухэтажном здании красного кирпича с замшелой шиферной крышей, деревянным рассохшимся и оттого скрипучим крыльцом, а длинные коридоры здесь были до половины выкрашены коричневой краской.
Под потолком круглые сутки горели лампы без абажура.
Батареи парового отопления урчали кипятком.
Уборные дышали хлоркой.
После того как все шесть соседей Дерягина по комнате друг за другом сели – воровали заводской спирт, – его выселили, и он был вынужден снимать угол в поселке Шалга, что рядом с гидролизным.
Строительство завода для производства спирта из древесной щепы и кормовых дрожжей было начато в Онеге еще в 1939 году, но с войной приостановлено и возобновлено лишь осенью 1945 года, а в сентябре 1954 года завод выдал первый спирт.
В Шалге Дерягин жил недалеко от железнодорожного разъезда на Покровское, где в 30-х годах заключенные разрабатывали каменоломни.
Как известно, каменоломни были и на Кий-острове. В те же 30-е в поселке Шалга, расположенном на живописной круче, с которой в ясную погоду был хорошо виден Кийостров и даже Ворзогоры, устроили традиционный для того времени парк культуры и отдыха для рабочих гидролизного завода и лесопильно-деревообрабатывающего комбината № 31–32. Здесь поставили павильоны, беседки, а также выстроили знаменитую на всем Онежском побережье лестницу на Шалгу – более двухсот ступеней.
Много позже такую же лестницу я увидел на Соловках, на Секирной горе.
Сейчас на Шалге все разрушено.
Парк заброшен, павильоны сгнили и рассыпались. На месте лестницы – оползень и гигантский овраг, появившиеся в результате забора песка прямо из-под горы для строительства железной дороги в каменоломни Покровского карьера.
Однако Дерягин любил гулять именно здесь. Подолгу сидел у самого обрыва, курил, всматривался за горизонт.
В Онеге у него жила мать, но приезжать к ней или жить у нее – дом стоял рядом с Лазаревским погостом – он не любил. А если и приезжал, то спешил уехать к себе на Шалгу до темноты. На заводе говорили, что он боялся чего-то. И это уже потом, когда работал связистом на линии Кянда – Нижмозеро, рассказал нехотя, отворачиваясь, покашливая, что на кладбище за церковью была похоронена нога красноармейца. И это было невыносимо…
Однажды, когда в доме матери отмечали сороковины по убитому брату, Дерягин, будучи в изрядном подпитии, все-таки решился пробраться на погост и отыскать проржавевшую пирамиду с пятиконечной звездой наверху.
Заводской спиртопровод, протянутый к загрузочным танкам-цистернам, с середины 90-х начали охранять с автоматами. Это была крайняя мера, потому что двойной кожух умельцы рассверливали и, вставив специальную разборную воронку, по внешнему контуру пускали грязную техническую воду, чтобы сливать чистый спирт. Раньше охрана здесь состояла из местных – заводских вохровцев, с которыми всегда можно было договориться. Теперь же спиртопровод охранял архангельский ОМОН.
Сверлить, как правило, ходили ночью, что и понятно. Брату Дерягина просто не повезло. Когда работа была уже почти закончена, по периметру спиртопровода совершенно неожиданно врубили прожектора.
Не надо было ему бежать, но он побежал по деревянному настилу вдоль кожуха, оступился и упал. Может быть, его хотели просто попугать, но оказалось, что в него разрядили целый магазин.
Когда Дерягин все-таки отыскал могилу, где была похоронена нога красноармейца, он тоже оступился, упал и тут же уснул мертвецки в кустах, ибо было тихо, довольно приятно, да и ветер отсутствовал в этой местности.
Люди, живущие на острове, знают наверняка, что у этой местности есть свой предел, свой берег, своя круча, сидя на которой можно воображать себе, что ты идешь по воде, достигаешь линии морского горизонта и даже переступаешь ее.
И вот они долго идут по морю на «Шебалине», спят на деревянных лавках, мерзнут, чувствуют недомогание, с удивлением и страхом обнаруживают, что не могут пошевелить онемевшими ногами, страдают от галлюцинаций, почитая их за видения, в которых все столь иллюзорно, печалуются, глотают кипяток из алюминиевых кружек, обжигаются, пока наконец на немыслимом отдалении не появляется плоский, утыканный полярным редколесьем берег. Однако им он не кажется таковым, но, напротив, горовосходным холмом, Голгофой, Гаваффой до неба, стеной кажется, отделяющей их бытие от небытия, ведь находясь на воде, ты как бы и не существуешь, потому как все здесь вершится по воле лесного царя Берендея.
И вот, когда у людей наконец наступает смертельная усталость от ожидания суши, лесной царь Берендей повелевает расступиться водам и явиться деревянному, обложенному лысыми автомобильными покрышками причалу.
Море расступается, и кособокий, устроенный на дубовых сваях-городнях пирс вырастает из дождевой мглы напоминанием спасительного ковчега, населенного разнообразными животными, которые всякий раз выходят из своих укрытий и кланяются вновь прибывшим на остров.
А еще на причале есть забегаловка, где подают беляши и горячий чай из титана.
Я хорошо запомнил полуподвальную забегаловку на углу Каланчевки и Красноворотского переулка с такими же беляшами и пропахшим известковой накипью чаем. Там еще рядом был магазин «Охотник», сквозь давно немытые окна которого на прохожих дико пялились чучела кабана, зайца, лисы, ондатры, волка и выкрашенного гуашью тетерева по прозвищу Берендей. Рассказывали, что этого тетерева-рекордсмена еще в середине 80-х привезли из охотхозяйства Завидово, чтобы передать в павильон «Птицеводство» на ВДНХ, но выяснилось, что у Берендея, так птицу почему-то называли завидовские лесники, нестандартный окрас, и его отбраковали.
Берендей обиделся, разумеется. Перестал токовать, но лишь издавал странный звук: «тррруу-трруу».
Потом долго не знали, что с ним делать, чем кормить, пока наконец Берендей не подавился двухкопеечной монетой и из него не сделали чучело, которое постоянно приходилось подкрашивать гуашью, так оно выцветало на витрине магазина.
Мимо витрины проходили люди, и их ноги отражались в мокром асфальте, напоминая при этом кривое танцующее редколесье, которым был покрыт остров.
Мимо окна забегаловки на причале тоже проходили люди. Это были вновь прибывшие на остров, они спускались с пристани по деревянным сходням, скользили, хватались за поручни, чертыхались и под дождем шли в поселок.
В видоискатель фотоаппарата попадали расплывчатые очертания монастыря, расчерченного летящими наискосок каплями дождя.
В запотевшем иллюминаторе «Шебалина» появлялось красное, со страшно вращающимися глазами лицо капитана по фамилии Павлов.
Из его рта шел пар.
Павлов запихивал в рот беляш и запивал его кофейным напитком.
Другой же беляш он заворачивал в газету и прятал в карман куртки.
Вытирал пот со лба, щерился.
На подоконнике забегаловки стоял трехпрограммный громкоговоритель «Маяк-202». Продавщица беляшей слушала прогноз погоды и думала, что если на острове зарядили дожди, то это надолго, недели на полторы, пока окончательно не смоет с раскачивающихся под порывами ветра ветвей пожухлую, резко пахнущую горечью листву и она не покроет пепельного цвета ледниковые валуны, не заклеит их полностью. Потом же, когда дожди перестанут, можно будет выйти во двор и здесь на веревке развесить сушиться белье, что будет хлопать на ветру по ночам, не давая тем самым спать.
Хлопки, как выстрелы расстрельной команды на Кондострове, как раскаты далекого грома, как глухие удары волн о дебаркадер.
Может быть, именно по этой причине сон на острове оказывался значительно более тягостным, нежели на материке, и как следствие – более чутким, более подверженным разного рода примышлениям. При этом из него не так-то просто было выбраться, находясь одновременно и на поверхности, и под толщей воды, той самой, что гулко и однообразно билась о дубовые сваи причала и дебаркадер.
Сон как будто наливает ноги и затылок свинцом, придавливает к деревянному свежевыкрашенному полу, кровати ли, свивает из разрозненных воспоминаний сеть, ячейки которой составляют целую колонию, целый витраж из цветных слайдов.
На просвет же пленка оказывалась листовой слюдой, которую раньше в монастыре применяли вместо стекол на окнах, а также в выносных фонарях, которые использовали во время Крестного хода к Святому озеру.
Впервые на Соловках я оказался в июле 1997 года. Тогда меня поселили в бывшем святительском корпусе, где в 20-х годах находилась так называемая шестая лагерная сторожевая рота, состоявшая в основном из инвалидов и престарелых священников, которые охраняли почту, вещевые и продовольственные склады. Рассказывали, что среди насельников роты был безногий монах, благообразный, обстриженный под бобрик старик, в прошлом врач-психиатр Серафим Молодцов, его перевели на остров из Петроминского лагеря на Унских Рогах. Серафим жил рядом с каптеркой под лестницей, так как сам подниматься по ступеням он не мог, а всякий раз его затаскивать наверх, чтобы потом спускать вниз, было некому. Кто-то из заключенных соорудил для него из найденного на помойке детского трехколесного велосипеда коляску, на которой Молодцов довольно ловко перемещался по монастырскому двору, а впоследствии даже и развозил по поселку корреспонденцию и местную прессу.
Однако летом 29-го года Молодцова неожиданно этапировали в штрафизолятор на Секирной горе.
О том, почему это произошло, оставалось лишь строить догадки.
Согласно одной из них причиной этого этапа стали события, связанные с посещением острова Максимом Горьким, которого привезли на Соловки, дабы показать ему, как НКВД перевоспитывает местных заключенных.
«Буревестник пролетарской революции» был задумчив и сумрачен, он прекрасно понимал, какая работа была проведена лагерным начальством перед его приездом, и потому старался не смотреть туда, куда ему не советовали смотреть. Часть заключенных тогда перевели на дальние командировки, часть заперли в монастырских корпусах и бараках и запретили подходить к окнам. Молодцова же закрыли в каптерке, но он каким-то образом выбрался и, когда Алексей Максимович проходил мимо шестой роты, неожиданно выкатился перед ним и запел:
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою.Подбежавшие охранники тут же повалили Молодцова на землю, но Горький оттолкнул их, наклонился к Серафиму и допел молитву до конца:
Благословенна Ты в женах, И благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Аминь.Закашлялся, из глаз его полились слезы, присел на угодливо поднесенный стул, сгорбился, извлек из кармана пиджака носовой платок и принялся вытирать им лицо.
Не разглядеть лиц охранников под лакированным целлулоидом козырьков.
Не разглядеть и лиц заключенных, потому что им приказали отвернуться и не смотреть, как «буревестник» плачет.
В наступившей тишине разносятся только рокочущие перекаты горловых спазмов и невнятное, отчасти бредовое старческое бормотание.
А ведь всего-то и хотел рассказать Молодцов Алексею Максимовичу, как отморозил себе обе ноги, проведя весь день на погрузке леса в Унской топи, как их отнял лагерный врач по фамилии Смышляев, как потом чуть не умер от заражения крови, но выкарабкался, выжил и после расформирования Пертоминских лагерей был переведен на Соловки. Потом еще хотел рассказать, что сейчас на специально сооруженной из детского трехколесного велосипеда коляске развозит по поселку почту. Но ничего этого не рассказал, не успел, потому как в уста его вошла молитва, что бывает довольно часто с блаженными, юродивыми Христа ради, и это уже не он запел «Богородице Дево, радуйся». Нет, не он! Совсем не он!
– А кто же тогда? – Горький нахмурился и задвигал усами, как у Фридриха Ницше.
– Не ведаю, ей-богу, не ведаю!
– Врешь, поповская твоя морда! Врешь! Но ты у меня заговоришь, сволочь! – Следователь встал из-за стола, неспешно подошел к безногому, придурковато улыбнулся, сгреб со стола чернильницу и со всей силы ударил ею ему в лицо.
Весь перемазался чернилами Алексей Максимович, когда записал в блокноте: «Особенно хорошо видишь весь остров с горы Секирной – огромный пласт густой зелени, и в нее вставлены синеватые зеркала маленьких озер; таких зеркал несколько сот, в их спокойно застывшей прозрачной воде отражены деревья вершинами вниз, а вокруг распростерлось и дышит серое море».
Убрал блокнот в карман пиджака, где в глубокой, пропахшей табаком норе уже лежал насквозь вымокший носовой платок.
Сразу после отъезда Горького Серафима Молодцова перевели в штрафизолятор на Секирной горе, откуда он уже не вернулся. Ходили слухи, что там надзиратели затащили его на верхний марш стометровой лестницы и столкнули вниз. Просто им хотелось похохотать, понаблюдать за тем, как он будет падать, выписывая при этом немыслимые кульбиты, столь напоминающие изуверский орнамент с известного лубочного изображения расправы воеводы Ивана Мещеринова над участниками Соловецкого восстания 1668–1676 годов.
Старцев подвешивают на крюке за ребра.
Старцев погружают в чан с кипящей смолой.
Старцам отрывают бороды.
Старцев топят в морской пучине.
Старцев подвешивают за ноги головой вниз.
Старцев отдают на съедение диким зверям.
Старцев секут палашами.
Старцев заряжают в пушку и стреляют ими в сторону города Кемь.
Старцев сталкивают на санях-волокушах с высокой горы, именуемой Гаваффой до самого неба, Голгофой ли, что, кажется, отделяет их небытие от мучительного бытия, потому как все здесь вершится по воле лесного царя Берендея.
Царя Ирода!
Оставшихся старцев всадники Апокалипсиса грузят в автобусы с зарешеченными окнами и через кирпзавод, лесобиржу, озеро Крестовое вывозят на северную оконечность острова, на мыс Зимний, где и приводят приговор в исполнение.
Горький долго смотрел на исчезающий в вечерней дымке остров, и, уже когда миновали Кузова, он снова расплакался: «Упокой, Господи, души убиенных раб Твоих со святыми Твоими!»
По другой версии Серафим Молодцов пропал без вести в медвежьегорских лагерях в 37-м году.
Путешествие второе.
Миновали Сикеотово. Рейсовые автобусы традиционно переполнены, забиты тюками шумных пассажиров – цыган. На заднем сиденье блатные с филиала играют в карты, хохочут, курят в открытое, забрызганное грязью окно, культурно угощаются портвейном. Старухи из расположенных по трассе деревень плаксиво просят закрыть окно – холодно, дует.
В Перемышле, на полпути к Козельску, остановка. Цыгане выгружаются минут двадцать. Их тут, в Калужской области, достаточно: в Медыни, в Кондрово, в Малоярославце.
Например, в Малом возле железнодорожного вокзала находится знаменитый цыганский «шанхай» – огромный, черный от сырости барак с гудящим на ветру выгоревшим чердаком. Рядом, под перекошенными шиферными навесами, небольшой рынок.
Автобусная станция.
Кафе-стекляшка «Север».
Горчичного цвета гостиница скрыта косматыми, древними, кажется, умершими еще в прошлом веке деревьями. Где-то здесь останавливался Гоголь – но это уже на почтовой станции, что ближе к Никольскому монастырю.
Тогда Николай Васильевич страдал сильнейшим насморком, собирал полевые цветы и украшал ими тарантас. Никогда не расставался с разбухшим наподобие древесной чаги портфелем с рукописями.
Малоярославецкий голова Василий Львович Приоров заботливо умилялся:
– Может быть, Николай Васильевич, я понесу ваш портфель?
Гоголь вздрагивал:
– Что вы! Помилуйте-с! Это же мои рукописи!
Когда наконец автобус выехал из Перемышля, выяснилось, что один тюк цыгане все-таки забыли под задним сиденьем. Водитель в сердцах предложил «выкинуть эту заразу», но, закурив, передумал.
Улыбнулся: «Слава Богу, что ничего не украли». Глянул на приклеенные изолентой рядом со спортивными вымпелами бумажные образки над лобовым стеклом.
Включил радио.
В автобусе остались дремавшие всю дорогу военные, «челноки», на перекладных добиравшиеся до Сухиничей, блатные да поселковые мужики, вышедшие в Каменке, на отвороте к Шамординскому монастырю.
Проехали Нижние Прыски.
Вскоре показалась и пустынь.
От моста через Жиздру сюда еще два километра пешком через лес.
Здесь совсем тихо. Огни Козельска, оставшегося на противоположном берегу, изредка протыкают неподвижную темноту-мглу.
К Оптиной пустыни идут женщины, одна из которых ведет за руку мальчика лет восьми. Вдруг он вырывается и убегает в лес.
– Почувствовал, почувствовал, что подходим. Уже совсем рядом! – говорят паломницы.
После вечерней службы отец Мелхиседек определил на ночлег в угловой башне стены. Уже под утро старик, спавший на полу возле прислоненных к стене святых врат иконостаса, шумно проснулся и закричал, что «горит». Промучился всю ночь и теперь вот «горит изнутри». С трудом дотерпел до утра и, получив благословение, отправился к источнику, что располагался недалеко от пустыни, в пойме Жиздры. Здесь, в глубине огромного, рубленного в лапу дубового сруба, неподвижно стояло глинистое небо середины ноября. Вода казалась густо-красной, даже бурой.
Она не пропускала свет до самого дна, которое представлялось илистым и льдистым от бьющих в многочисленных рваных оврагах поймы ключей.
Старик разделся и по деревянной лестнице-сходу зашел в воду по пояс. Видимо, жжение прошло, потому что старик неожиданно улыбнулся, затем закрыл глаза, зажал пальцами нос и с головой погрузился в медный плес – прямоугольное небо. Вода вздрогнула и сокрыла ожившие подобно водорослям волосы на голове старика.
Вода символизирует вечность. Потоки, обнаруживающие себя лишь присутствием извивающихся водорослей, приходят ниоткуда и уходят в никуда. Водоросли, как полозы, как змеи.
Некоторые змеи проплывают мимо и теряются в водоворотах, проваливаются без остатка в бездонные воронки.
Изредка можно видеть и проплывающих мимо рыб, которые смотрят на старика с закатившимися глазами.
Поздние сумерки. Медленно падает мокрый, тяжелый снег.
Огни Козельска, как, впрочем, и пу стыни, почти неразличимы. Рабочие на берегу Жиздры жгут костры, отогревают промерзшие трактора: завтра утром будут растаскивать понтонный мост.
На противоположном берегу у самой воды сидят женщины, те самые, что приехали в монастырь вчера, тихо смеются. Разговаривают вполголоса, вспоминают ночь, проведенную в монастырской гостинице, радуются тому, что их благословили пойти на ночную службу в Иоанно-Предтеченский скит, где будет служить скитоначальник, схиигумен Илий.
К Оптиной пустыни Николай Васильевич подъехал затемно, вышел из тарантаса, подошел к монастырским воротам, лег на землю лицом вниз и развел руки в разные стороны, прообразовав тем самым крест.
– Бог с вами, Николай Васильевич, Бог с вами, поднимайтесь немедленно! Земля уже стылая, по ночам у нас заморозки! Вы можете простудиться и умереть!
Однако он лежит абсолютно неподвижно, и кажется, что не слышит обращенных к нему слов, потому как сосредоточенно прислушивается лишь к тому, как в него входит обжигающий холод. Находит это занятие вполне душеполезным, доводящим до судорог, до обострения болезни, до полной неспособности быть буйным хотя бы и в помыслах.
– Поднимай его! – кричат подоспевшие послушники.
Они пытаются перевернуть Николая Васильевича, оторвать от земли, но из этой затеи ничего не выходит ровным счетом. Гоголь же лишь стонет и, еле ворочая ссохшимися губами, молит: «Оставьте меня ради Бога! Дайте мне спокойно умереть!»
Наконец его с великим трудом поднимают и несут на источник, расположенный в пойме Жиздры. Здесь вода оказывается густо-красной, даже бурой. Она не пропускает свет до самого дна, полностью илистого и льдистого от бьющих в многочисленных рваных оврагах поймы ключей-полозов.
Николая Васильевича раздевают и погружают в эту воду, и тут же волосы на его голове, до той поры мертвые, полностью повторяющие неровности головы и выпуклости лба, густо натертые лампадным маслом и оттого слипшиеся, оживают, становятся похожими на извивающиеся водоросли.
В святом источнике нет никакой живности, и поэтому нет никакого повода для страха, что пиявки будут забираться в открытый рот, а сонные рыбы будут бессмысленно пялиться на человека с закатившимися глазами.
На следующий день Гоголь чувствовал себя уже значительно лучше, он даже вышел к всенощной, где отец наместник благословил его взойти на солею.
Тут Николай Васильевич находил себя ветхозаветным пророком, стоящим на горовосходном холме, на Голгофе, у подножия которой толпились всадники Апокалипсиса, или же на острове, затерянном где-нибудь в Восточно-Соловецкой салме.
Повернувшись лицом к молящимся, пророк возглашал:
«Под облаком с серповидной луной, служащей подножием Богоматери, семь ступеней со стоящими на них ветхозаветными тайнозрителями воплощения Премудрости – праотцами и пророками: царь Давид с Ковчегом Завета, Аарон с жезлом, Моисей со скрижалью, Исаия со свитком, Иеремия с жезлом, Иезекииль с затворенными вратами, Даниил с Горой Нерукосечной. На каждой из ступеней надписи: вера, надежда, любовь, чистота, смирение, благость, слава. На семи столпах начертаны изображения из Апокалипсиса и их разъяснение как даров Духа Святаго согласно пророку Исаие: книга за семью печатями – дар премудрости, семисвещник – дар разума, „камень единый с семью очесами“ – дар совета, семь труб иерихонских – дар крепости, десница с семью звездами – дар ведения, семь фиал золотых, полных фимиама, – дар благочестия, семь молний – дар страха Божия».
И сразу наступала тишина, внутри которой можно было различить лишь гыканье придурковато улыбающегося мальчика, привезенного в монастырь паломницами. Он крутит головой, сворачивает собственные уши в форме Cantharellus cibarius, пытается достать языком кончик носа, но безуспешно, периодически садится на корточки и трогает пол руками, закрывает глаза и воображает себе, что уже спит, видит сны, потом вдруг просыпается и опять видит перед собой стоящего на солее пророка.
Пророк грозит ему пальцем:
– Отныне нарекаю тебя Симплициссимус! Ты есть символ зависти, зловония, бедствия и началозлобного демона! Повелеваю посадить тебя на коня, на вьючное седло, спиной к голове коня, чтобы смотрел ты на запад, в уготованный для тебя огонь, одежду же твою повелеваю надеть задом наперед, а на голову повелеваю надеть заостренный берестяной шлем, будто бесовский, бунчук же на шлеме должен быть из мочала, венцы – из соломы вперемешку с сеном, а на шлеме надпись чернилами: «Он из войска сатанинского». Приказываю водить тебя по городу и всем встречным повелеваю плевать на тебя и говорить громко: «Это враг Божий!» После же надлежит сжечь шлем с головы твоей, дабы устрашить нечестивых, явить всем зрелище, исполненное ужаса и страха.
Какое-то время мальчик стоит в полном недоумении, улыбка медленно сходит с его лица, глаза его округляются, стекленеют, и вдруг он начинает голосить нечеловеческим голосом. На него тут же набрасываются паломницы, пытаются заткнуть ему рот и связать руки полотенцем, в которое обычно заворачивают просфоры, хватают его за ноги, бьют по щекам в надежде угомонить. Но сделать это совсем непросто. Мальчик катается по полу, извивается подобно змею, хватает паломниц за волосы, пытается укусить, переворачивается на живот и пытается уползти по-пластунски от своих мучителей. Уползает все-таки и прячется под чаном со святой водой.
Пророк отворачивается.
Николай Васильевич отвернулся от зеркала, из глубины которого, как из рубленного в лапу дубового сруба источника, на него смотрел абсолютно незнакомый ему, всплывший с самого дна человек, воображавший себя Гоголем.
Я воображал себя колядующим и надевал на лицо маску какого-то неизвестного науке рогатого чудища. Чудище открывало рот, высовывало красный язык, пытаясь дотянуться им до подбородка.
Я воображал себя покорителем орнамента. Всех этих листьев папоротника, посохов с навершиями в виде дикириев и трикириев, павлиньих хвостов, бунчуков, зрячих ладоней, верблюдов вниз головой и их погонщиков, оранжевых цветов, арабской вязи, плетенных из бересты наперсных крестов, рыб вверх плавниками и рыб с глазами, рипид, украшенных золотом, курдючных овец, велосипедных спиц, сияющих на солнце, как символ святости, да балканских украшений в виде восьмиконечных рождественских звездиц.
Я воображал себя покидающим Соловецкий остров с группой паломников, которые стояли на корме парохода, напряженно всматривались в неотвратимо уходившие за линию горизонта постройки монастыря и негромко переговаривались, будучи совершенно уверенными в том, что больше никогда не окажутся в этих местах. Впрочем, вернее было бы сказать, что возможность посетить остров им, скорее всего, еще представится, и не раз, но это будут уже совсем другие люди, потому что время изменит их.
Они будут выглядеть много старше.
Они будут думать о том, что уже были здесь прежде, будут извлекать из памяти воспоминания об этом месте, которых, что и понятно, не могло быть раньше.
А еще они будут ощущать себя частью островного пространства, то есть находить себя оторванными от остального мира, оставленными и забытыми здесь – в водах Дышащего моря посреди Восточно-Соловецкой салмы, в царстве царя Берендея, владевшего бескрайними просторами от Выговской волости до Петрозаводска, от мыса Канин Нос до Мурманска.
В Москву мурманский поезд прибывал к семи часам утра.
Я стоял в коридоре перед окном, и по моему лицу проплывали отблески пристанционных фонарей. Я видел низкий асфальтовый перрон, красного кирпича здание вагонного депо и привокзальные киоски, еще закрытые в это время и столь напоминающие разноцветные картонные коробки, сваленные в кучу и, кажется, приготовленные к всесожжению на задах магазина «Диета».
Все реже и реже грохоча на стыках, вагон постепенно замедлял движение, вздрагивал и наконец замирал.
Еще какое-то время я стоял неподвижно, затем поднимал стоящую на полу сумку и шел к выходу вдоль шеренги закрытых дверей. Представлял себе, как пассажиры прячут головы под подушки, заворачивают простынями скрюченные ноги, стонут во сне, ворочаются с боку на бок, не хотят выходить из вагона и просят вернуть их обратно в Мурманск.
– Ну и черт с ними, с уродами! – доносится вечно простуженный и оттого хриплый голос проводницы, которая уже стоит на перроне, курит, икает от холода и кутается в кобальтового цвета шинель.
Миновав здание вокзала, я вышел на площадь. Здесь было абсолютно пустынно, лишь несколько дворников уныло гнали по асфальту мятые обрывки газет, пустые бутылки да целлофановые пакеты.
А ветер подхватывал эти целлофановые пакеты и уносил их в сторону Краснопрудной и Сокольников.
На кругу работали поливальные машины, что напоминало заливку катка, рядом с которым вполне могла бы стоять девочка на фигурных коньках и в цигейковой шубе.
Грузчики спали на скованных между собой железных телегах, подложив под головы перепутанную в виде колтунов ветошь: «Вот ведь, тоже стонут во сне, тоже ворочаются с боку на бок, тоже не хотят просыпаться, злодеи! А еще заглядывают внутрь собственных снов, но ничего, кроме чемоданов и спеленутых скотчем брезентовых тюков, не видят».
Оказавшись на углу Каланчевки и Красноворотского переулка, я увидел магазин «Охотник», сквозь давно немытые окна которого на меня дико пялились чучела кабана, зайца, лисы, ондатры, волка и выкрашенного гуашью тетерева по прозвищу Берендей.
Вспомнил, что неоднократно бывал в этих краях и даже заходил в полуподвальную забегаловку, где торговали беляшами и кофейным напитком. Сидел на подоконнике, запихивал в рот горячие сдобные комья, запивал их кипятком, слушал висевшее над раздачей радио, из недр которого оловянным голосом вещал диктор.
Воображал, разумеется, себе этого диктора, который, судя по заунывным интонациям, никогда не улыбался, истязал меня своей сверлящей дикцией. Мне же ничего не оставалось делать, как затыкать уши и бессмысленно разглядывать его напомаженные губы, хлопья пудры, узкие арийские скулы, а еще – подслеповатую лампу дневного света, прилавок, обитый линолеумом, пластмассовые, обкусанные по краям подносы, дремлющую на табуретке тетку-кассира и ее мохнатые щеки, выставленного в соседнем окне тетерева по прозвищу Берендей, пустой стакан из-под кофейного напитка, на стенках которого в форме гипсовой лепнины затвердели сахарные разводы, титан с кипятком, так напоминавший чан со святой водой.
Я вышел из забегаловки на Каланчевку, подождал, пока проедут поливальные машины, и пошел в сторону Красных Ворот.
А ведь тогда, в Оптиной пустыни, одержимый мальчик сначала катался по полу, извивался подобно змею, хватал паломниц за волосы, даже кусал пытавшихся прикоснуться к нему, переворачивался на живот, но в конце концов уползал по-пластунски под чан со святой водой.
Прятался там.
Таился до поры.
Был совершенно уверен в том, что здесь его никто не найдет, наливал себе из титана кипяток и пил его, обжигаясь, давясь, на глазах его выступали слезы, надеялся, что таким образом может произойти чудо и он исцелится. Однако чуда не происходило. При помощи швабры его все-таки вытаскивали из-под чана со святой водой, связывали и выносили вон из храма.
6.
В ночь с 18 на 19 августа 1820 года Александр Пушкин, вый дя на палубу брига «Мингрелия», на котором он совершал путешествие из Феодосии в Гурзуф, в свете луны увидел выступавшие из воды каменные ворота, известные в этих краях как Золотые ворота потухшего вулкана Карадаг. Мрачные очертания звероподобного вулкана, что нависал над палубой, повергли Александра Сергеевича в смятение.
Резкий отток крови от головы.
Внезапное остывание конечностей, приводящее порой даже и к судорогам.
Сухой истерический кашель.
Мучительный страх быть обнаруженным именно в такие минуты полнейшего помутнения рассудка.
Беспомощная попытка бегства от самого себя путем закрывания ладонями лица.
И, как следствие, погружение в рукотворную темноту, что по своей сути ничем не отличается от кромешной темноты крымской ночи, внутри которой можно совершенно обмануться и уснуть с открытыми глазами.
Это есть сон с открытыми глазами, или лагофтальм, именуемый также «заячий глаз».
Тремор век, приводящий к ритмическим вспышкам, нарушению бинокулярного зрения и скачкам изображения.
Витраж из цветных слайдов, которые лучше рассматривать на просвет.
Быстро сменяющие друг друга видения, как рисунки, процарапанные на целлулоиде, и оттого почти совсем нечитаемые, но лишь имеющие косвенное отношение к происходящему. Так, кстати, довольно часто бывает при наблюдении разрозненных сновидений, когда лишь некое подспудное знание, вернее сказать, осознание того, что все это совершается лишь в воображении, а не на самом деле, позволяет выстроить более или менее связное повествование.
Итак, поэту помыслилось, что это и есть обитель начало-злобного демона, которого много позже именно на фоне Золотых ворот он и нарисовал на полях черновика к первой главе «Евгения Онегина».
Однако тут же Александр Сергеевич закашлялся и попросил подать ему воды.
Смятение отступило.
Впоследствии же Пушкин не раз мысленно собеседовал с этим образом, столь неожиданно явившимся ему августовской ночью 1820 года. Находил это общение по-фаустовски вдохновляющим, но одновременно изнурительным и доводящим до смертельной усталости.
Муки.
Впервые в Коктебель мы приехали в 1974 году и поселились на улице Десантников, в доме бабы Ули, что располагался на задах столовой «Левада».
Каждое утро здесь начиналось с запуска холодильной установки, которую в целях экономии электричества отключали на ночь. Весь дом тут же и просыпался, потому что спать при таком грохоте не представлялось никакой возможности. Впрочем, мой отец утверждал, что это хорошо и даже полезно в своем роде, потому что чем раньше окажешься на море, тем больше вероятность того, что тебе удастся занять место у самой воды.
Тогда мы ходили на общий пляж, где по утрам довольно часто заставали сторожа со спасательной станции по фамилии Карадагов.
Карадагов снимал с себя нейлоновые тренировочные штаны, вытянутые на коленях, завязывал каждую брючину внизу специально для того припасенной бечевкой и приступал к сбору бутылок, складывая их в свои тренировочные штаны. Он неспешно брел по полупустому пляжу, что-то бормотал себе под нос, может быть, даже и пел, раскачивался из стороны в сторону, а еще улыбался медленно выплывавшему из-за гряды Кучук Янышар красному солнцу.
Сколько раз он встречал рассвет здесь – на полупустом каменистом пляже? Сотни раз!
Тысячи раз!
Но почему-то никогда он не переставал удивляться этому красному солнцу, выверенному перемещению теней вдоль киловых гор, выползающим на прибой кособоким крабам, а также полнейшему отсутствию движения воздушной среды.
Да, ему было все знакомо. Вполне возможно, что он даже выучил этот орнамент наизусть, запомнил до мелочей все самые неприметные для непосвященного детали, например, выложенную галькой на песке надпись: «Сердце мудрых – в доме плача, а сердце глупых – в доме веселия». Однако всякий раз он с волнением обнаруживал в навсегда заведенном порядке изменения, столь же неприметные, сколь и неизбежные.
Посвященный.
Был посвященным.
Я заплывал далеко от берега и тоже чувствовал себя посвященным.
Переворачивался на спину и смотрел в небо, а красное солнце входило в толщу воды, образовывая вертикальные, извивающиеся водорослями сполохи. Их мерцающее сияние еще долго угасало в глубине.
Когда же работа по сбору бутылок была закончена и штаны уже сами могли стоять, будучи прислоненными к выкрашенной синей масляной краской металлической стене раздевалки, Карадагов присаживался рядом и закуривал, приветствовал редких в этот час отдыхающих.
Затем он взваливал свои здоровенные штаны себе на плечи и так брел к автостанции сдавать собранную на пляже стеклотару.
Я сейчас думаю о том, что сюжет с собиранием бутылок в штаны, именно в штаны, а не в мешок, к примеру, или в ящик, уже был в моем повествовании. Тогда это происходило в Евпатории. Стало быть, повторяющееся событие в полной мере могло быть логической закономерностью, смысловым орнаментом, потому как в первом случае, скорее всего, оно не было исчерпано без остатка и требовало логического продолжения, увлекая за собой цепь очередных и неизбежных событий.
Итак, пункт приема стеклотары располагался рядом с автостанцией, на задах колхозного рынка. Тут на сооруженных из деревянных ящиков прилавках вперемешку с барахлом, извлеченным из шкафов и выставленным на продажу, – старыми ластами, масками для подводного плавания, неработающими фотоаппаратами, надувными матрасами и солнцезащитными очками, были разложены фрукты – персики, груши, дыни, гранаты.
Говорю: плод граната священен, потому как содержит 613 зерен, количество которых равно числу заповедей Торы.
Однако продавец фруктов не знал этого, поэтому он разрезал гранат перочинным ножом пополам и выдавливал его содержимое себе в рот. Сок стекал по его подбородку, капал на грудь, и могло показаться, что продавец фруктов залит кровью, будто бы он получил пулевое ранение в шею или порезался этим самым перочинным ножом. Другое дело, что при таком положении вещей продавец фруктов должен был корчиться от боли, невыносимо страдать и призывать на помощь, но ничего этого он не делал. Более того, он улыбался, видимо находя происходящее с ним весьма приятным, разве что терпкий гранатовый сок мог вызвать судорогу мышцы, опускающей нижнюю губу, приведя таким образом к временной потере дара речи. И продавцу фруктов ничего не оставалось в таком случае, как только мычать и смешно трясти головой, всячески показывая тем самым собравшимся покупателям, что подобное недоразумение, происшедшее с ним, носило временный характер.
Он бросал разрезанный пополам гранат на землю, топтал его, вытирал лицо и грудь майкой, которую потом весьма неловко напяливал на себя.
Карадагов тоже напяливал на себя опустевшие тренировочные штаны, пересчитывал вырученные от сдачи бутылок деньги и шел покупать вино, которое продавали в розлив рядом со столовой «Волна».
В эту столовую мы ходили обедать. К часу дня тут, на вытоптанной, пыльной площадке размером с теннисный корт, выстраивалась колоссальная очередь из отдыхающих. Они стояли на самом солнцепеке, пихались, ругались, норовили занимать столы, тупо пялились на горы грязной посуды, проплывавшей на ленте транспортера, пытаясь таким образом хоть как-то убить невыносимое время в ожидании салата из свежей капусты, жидкого огнедышащего борща, котлет, многослойно перебинтованных скользкими, более напоминающими угрей макаронами, и компота из сухофруктов. Впервые такие транспортеры появились в общепите в середине 70-х, и говорили, что их разработали где-то на военном заводе, чтобы ускорить уборку грязной посуды и облегчить работу посудомоек.
А посудомойки ворочали разваренными в кипятке руками мыльную пену, давились сухим истерическим кашлем, сиюминутно испытывали резкий отток крови от головы и внезапное остывание конечностей, приводящее порой даже и к судорогам, икали, захлебывались в густом слоистом пару.
Периодически транспортер тоже захлебывался и останавливался, и все вздрагивали, потому что вздрагивала и замирала грязная посуда, создавая при этом совершенно немыслимые повторы и чередования элементов орнамента в виде тарелок, граненых стаканов, вилок и более напоминавших египетские бронзовые зеркала ложек.
Впрочем, пауза бывала недолгой.
В полной тишине, нарушить которую не могло ни напряженное сопение очереди, ни гул холодильной установки на задах столовой, ни, наконец, треск кассового аппарата, откуда-то из глубины кухни раздавался долгожданный щелчок рубильника, и ритуал печального кортежа тут же оживал, продолжая утаскивать в парные столовские недра горы недоеденных котлет и надкусанных кусков серого ноздреватого хлеба.
Я сидел за столом лицом к раздаче, над которой висел плакат с изображенным на нем караваем, более почему-то походившим на пасхальный кулич, и надписью «Хлеба к обеду в меру бери, хлеб драгоценность, им не сори!».
Читал: «Х-ле-ба-к-обе-ду-в-ме-ру-бе-ри-х-леб-дра-го-цен-ность-и-м-не-со-ри».
Смешно-смешно.
Потом я наблюдал, как повара в белых застиранных передниках выстраивались вдоль стен столовой и начинали неритмично хлопать в ладоши. Это означало, что принятие пищи завершено и пора расходиться по домам. Грохот отодвигаемых стульев вперемешку со скрежетом подносов по металлическим направляющим мгновенно и без остатка заполнял все застекленное пространство, превращая его в огромный аквариум под названием «Волна», в котором лениво перемещались полусонные объевшиеся салатом и макаронами рыбы. Пользуясь кратковременной неразберихой и замешательством, я сгребал недоеденные куски хлеба в пляжную сумку, где лежали мокрые плавки, ласты и полотенце, таился при этом чрезмерно, хотя прекрасно понимал, что пасхальный кулич, висящий над раздачей, все видел и осуждал меня.
Но за что?
Думаю, за то, что я без разбора сваливал хлебный мякиш в кучу с пляжным инвентарем, превратив тем самым сумку из мешковины с отпечатанным на ней по трафарету портретом Демиса Руссоса в «вертеп разбойников». Впечатление от содеянного также усиливала черная масляная краска, которая, растекшись и засохнув самым немыслимым образом, превращала бороду певца в непроходимый можжевеловый лес, а брови – в заросли жасмина.
Карадагов сидел в тени можжевелового дерева рядом со столовой, ел хлеб и запивал его вином.
Он вполне мог напоминать разбойника, который добывал деньги на выпивку вовсе не сбором бутылок на пляже, но воровством и даже разбоем. Например, пользуясь темными крымскими ночами, он нападал на отдыхающих, возвращавшихся по литфондовскому парку домой после последнего сеанса в летнем кинотеатре, угрожал кухонным ножом, отбирал кошельки и золотые украшения.
Впрочем, продолжалось это недолго.
Однажды в числе атакованных им оказались известные фигуристы, олимпийские чемпионы Людмила Пахомова и Александр Горшков, которые отдыхали в доме творчества писателей. Узнав своих кумиров, Карадагов раскаялся совершенно, выронил нож, более того, он попытался вернуть великим спортсменам все награбленное за эту ночь.
Благоразумный разбойник.
Безумный разбойник.
Благоразумие первого заключалось в его полнейшем раскаянии и уверении в искупительном характере сопригвождения перед лицом страданий, переносимых Спасителем.
Безумие же второго было следствием его жестокосердия, неверия в Воскресение, что также именуется Пасхою. А еще было результатом нестерпимой боли, которую ему причиняли римские легионеры, специальными молотками-шутейниками переламывавшие ему голени.
Можно ли было осуждать его за это безумие, ставшее следствием страданий, повлекших за собой помутнение рассудка?
Всякий раз я отвечал себе – нет, нельзя осуждать безумного за его же безумие, вне зависимости от того, следствием чего стало его помутнение рассудка.
Безумный разбойник кричал, изрыгал хулу на Господа, сквернословил, корчился под забиваемыми в стопы и запястья гвоздями, возводил очи горе.
Горная река Когайонон вытекала с северной оконечности Карадага, змеилась вдоль трассы Судак – Феодосия, пробиралась сквозь распадки Тепсеня, уходила в бетонное русло, проложенное через парк дома творчества, и впадала в море рядом с прокатом лодок и водных велосипедов.
Карадагов спал на раскладушке в тени можжевелового дерева рядом со столовой «Волна». Ему снился исполинского сложения бородатый босой человек, завернутый в сооруженный из давно вышедшей из употребления простыни хитон.
Сухой, горячий, обжигающий лицо ветер шевелил седые волосы человека, столь напоминавшие заросли кустарника на городище, гнал песчаную метель, трубно гудел в платинового отлива ковыле, пригибая его к самой земле, поднимал с обложенных досками могил высохшие цветы и выцветшие ленты, платки.
В этом косматом богатыре Карадагов тут же и узнавал старожила здешних мест Максимилиана Александровича Волошина, кланялся ему, приглашал в раскидистую тень можжевелового дерева и предлагал угоститься теплым массандровским портвейном. Максимилиан Александрович с улыбкой, которая, впрочем, никогда и не сходила с его лица, смотрел на Карадагова, видимо пытаясь вспомнить, откуда он мог знать этого человека, складывал ладонь козырьком над глазами, дабы не быть ослепленным полуденным солнцем, миролюбиво покачивал своей львиной головой, произнося при этом: «Не откажусь, не откажусь».
Итак, они располагались на земле, разложив на устланной клеенкой раскладушке посильные угощения – брынзу, лаваш, чеснок, зеленый лук, соль в спичечном коробке, фрукты. Карадагов извлекал из карманов своих тренировочных штанов два граненых стакана, тщательно протирал их краем майки и разливал красный крымский портвейн со вкусом недоваренной свеклы, карамели и перебродившего винограда.
Как известно, во сне события развиваются вопреки существующим законам времени, и посему Карадагову казалось, что Максимилиан Александрович бесконечно долго опорожнял содержимое своего стакана, то есть при помощи бесчисленного количества глухих, более напоминавших щелкающие звуки пульса глотков. Мыслилось, что за это время можно было выпить уже не одну бутылку, но ничего не менялось, и стакан по-прежнему казался почти непочатым. Может быть, все дело было в усах Волошина и его бороде, которые препятствовали проникновению портвейна, впитывали его подобно губке, распускали гирлянды непрозрачного янтаря или сердолика на перекатах седых, вымоченных в соляном растворе волос, припорошенных зубным порошком «Жемчуг».
Затем приходилось закусывать соленой, с вкраплениями каких-то горных трав брынзой, перемотанной стрелами зеленого лука.
Стрелы пронзали.
Копья римских легионеров пронзали благоразумного и безумного разбойников.
Максимилиан Александрович наконец допивал свой стакан и с полнейшим удовольствием ощущал, как теплый перебродивший сахар разливался по всему его огромному телу, соделывая оное слабым, податливым, как бы сотворенным из растопленного воска или распаренного на батарее парового отопления пластилина.
Если еще совсем недавно время тянулось невыносимо медленно, и вообще могло показаться, что оно остановилось, то теперь события не успевали сменять друг друга, накладывались, создавая совершенно абсурдные, не подвластные пониманию ситуации, целый калейдоскоп ситуаций – пересвеченных, исцарапанных слайдов. Например, Карадагов, завернувшись в клеенку, на которой еще совсем недавно была разложена закуска к портвейну, ложился на раскладушку и засыпал.
Наряд милиции пытался затолкать в машину с зарешеченными окнами Максимилиана Александровича, который громко декламировал собственные стихи, размахивал руками, даже пытался петь. Нет, он не помещался в машину, и тогда специально для него подгоняли автобус.
Отдыхающие с любопытством наблюдали за происходящим, смеялись, вытирали пляжными полотенцами свои щеки, к которым присохли макароны.
Тень медленно перемещалась вокруг можжевелового дерева, открывая солнцу разбросанные по земле фрукты.
Лента транспортера резко трогалась с места, и наваленная на ней посуда с грохотом валилась на бетонный пол.
Портвейн заполнял бетонное русло, проложенное через парк дома творчества, бурлил, пенился и впадал в море рядом с домом, в котором с 1907 по 1932 год жил поэт Максимилиан Волошин.
А стихи Максимилиана Александровича звучали все глуше и глуше, тогда как голоса римских легионеров, избивавших обезумевшего от боли разбойника, становились все громче и громче.
Грохотали.
В машине с зарешеченными окнами было нестерпимо жарко.
За окном проносились прилепившиеся вдоль дороги татарские дома, заросли акации, сложенные из ракушечника невысокие ограды, виноградники, крытые ржавым железом автобусные остановки, киоски «Союзпечати» и телефонные будки, колоннады телеграфных столбов и можжевеловых деревьев, стоявших на границе света и тени.
Быстрое движение границы света и тени напоминает бегущий по сухостою огонь.
Пленка застревает в кинопроекторе и начинает гореть, заполняя проекционную комнату удушливым дымом.
Жара становилась нестерпимой, и Карадагов просыпался. Оказывалось, что тень уже давно ушла и он лежал под палящим полуденным солнцем.
На вытоптанной, размером с теннисный корт площадке перед «Волной» уже никого не было.
Карадагов собирал разбросанные по земле фрукты и брел домой.
Максимилиана Александровича же тем временем отвозили в Феодосию, где после установления личности отпускали. Даже предлагали проводить до остановки рейсового автобуса, но он отказывался и возвращался домой пешком. Поступал именно так специально, чтобы вновь и вновь вспомнить годы юности, когда он учился в феодосийской гимназии. Когда точно так же, возвращаясь в Коктебель, пересекал Енишарские горы, встречая на своем пути странников, дервишей, вооруженных всадников, завернутых в войлочные бурки плакальщиц, святых помощников, геодезистов, которые колдовали над теодолитом, точнее сказать, устанавливали оптическую трубу, а также вращали вырезанный из плексигласа угломерный круг, который называли лимбом.
В переводе с латыни limbus означает край, рубеж, место пребывания не попавших в рай душ, не являющееся при этом ни адом, ни чистилищем. Впрочем, в своей «Божественной комедии» Данте определил лимб как первый круг ада, где вместе с некрещеными младенцами пребывают добродетельные нехристиане. Именно сюда и спускался Спаситель, дабы ободрить страдальцев, сделавших свой выбор, но при этом осознавших его ошибочность.
Также лимбом является повторение одного сна внутри другого сна при полной невозможности обнаружить его начало и конец. И уже не представляется возможным выйти из него без какого-либо внешнего воздействия. Без пробуждения через падение, например. Но это станет лишь прерыванием второго сна и никак не сможет избавить от опасности вновь оказаться внутри первого круга.
Максимилиан Александрович доставал из холщовой сумки, висевшей у него на плече, фотографический аппарат и спрашивал у геодезистов разрешения снять их. Они, конечно же, давали свое согласие, интересовались, как им лучше встать, и Волошин выстраивал их в кадре соответствующим образом, непременно размещая по центру теодолит с плексигласовым лимбом. Затем просил геодезистов замереть на какое-то мгновение, в последний раз проверял в рамочном видоискателе точность композиции, а также правильность установок диафрагмы и экспозиции. Наконец, задерживал дыхание и нажимал на спуск затвора.
В этот момент и происходила остановка времени.
Хотя точнее было бы ее назвать зацикливанием времени, повторением одного и того же эпизода, выпадением из раз и навсегда заведенного порядка вещей, когда на смену одному событию приходит другое. И тогда ожидание становится единственной возможностью понять смысл этой смены цифр, происходящей по григорианскому летоисчислению, цифр, которые не слышат, не видят и не внемлют друг другу. Они молчат, полнейшим образом отлагая знаки, как до лжно отлагать попечение о мире, но не отвергать его.
После завершения съемки геодезисты благодарили Максимилиана Александровича, просили непременно показать им фотографию и, получив полнейшие заверения в том, что так оно и будет, возвращались к своему теодолиту.
Дома Волошин приступал к проявке пленки.
Для той надобности он уединялся в ванной комнате, расположенной на первом этаже дома рядом с кухней, составлял растворы проявителя и фиксажа, заправлял в пластмассовый бачок пленку, зажигал красную лампу, погружая тем самым неуютное кафельное пространство ванной комнаты в переливающийся бордовыми, пурпурными, малиновыми сполохами туман, включал проточную воду и приступал к священнодействию.
Но тут же, буквально сразу, в дверь ванной комнаты начинала стучать его матушка Елена Оттобальдовна и просить сына сейчас же выключить кран, потому что режим экономии воды никто не отменял. Она так и говорила:
– Макс, немедленно выключи воду, нам нечем будет вымыть руки перед ужином, режим экономии воды никто не отменял!
– Сейчас, мама, сейчас, – сдавленно звучало в ответ.
– Не сейчас, а сейчас же! Я не уйду, пока ты не сделаешь это, – голос Елены Оттобальдовны становился стальным, именно так она всякий раз разговаривала со своим великовозрастным сыном, когда предъявляла ему тот или иной ультиматум. Например: «Я не уйду из мастерской, пока ты не закончишь свой автопортрет». Или: «Я не перестану исполнять четвертый прелюд Шопена, пока ты окончательно не выяснишь свои отношения с Марго». И наконец: «Макс, я требую от тебя объяснений по поводу твоих новых друзей, которыми наводнен мой дом, в противном случае я утоплюсь».
И Максимилиану Александровичу ничего не оставалось, как выключать воду, одновременно раскручивая намотанную на спираль пленку внутри проявочного бачка.
– Мама, я выключил воду! Но она мне понадобится для «стоп-ванны» и для промывания пленки.
– Ничего не хочу слышать! – Елена Оттобальдовна заходила на кухню и наливала себе стакан холодного, заваренного на горных травах чая, – я вообще, как тебе известно, не приветствую это твое новое увлечение. Ты художник и поэт! Не забывай об этом!
– Я не забываю, мама, – Волошин смотрел на песочные часы, которые показывали, что время завершения проявочного процесса приближается.
На целлулоиде проступали лица неизвестных людей, морды животных, разбеленные при контрастном освещении киловые холмы, конфигурации плотных грозовых облаков, которые получаются подобным образом при использовании оттененного фильтра, песчаные, повторявшие орнамент ветра дюны.
Дюны двигались.
Песок высыпался из песочных часов, и Максимилиану Александровичу ничего не оставалось, как, давясь от гадливого чувства презрения к самому себе, страха, смущения ли, пробираться к рукомойнику, медленно откручивать вентиль и подставлять под слабую, вихляющуюся струйку воды бачок с пленкой. Он надеялся, что матушка не услышит шума столь слабого напора воды, но предательство старых, давно проржавевших труб было неизбежным и предсказуемым. Внутри дома тут же происходило рождение звуков, отдаленно напоминавших гудение ветра в распадках городища Тепсень, что располагалось у самого подножия хребта Сюрю-Кая.
Максимилиан Александрович закрывал глаза в ожидании громогласного – «Я же просила тебя!» Но ничего не происходило. Значит, Елена Оттобальдовна действительно думала, что нынче очень ветрено и следует закрыть окна на втором этаже, дабы не выбило стекла. Она поднималась по деревянной, украшенной резным этрусским орнаментом, также называемым «колесом жизни», лестнице в мастерскую и, к своему удивлению, обнаруживала, что окна здесь закрыты. Однако гул неизвестной природы нарастал, переливался перламутром, медленно, но верно заполнял все пространство дома, сложенного из ракушечника и необожженного кирпича – адоба.
Впрочем, понимание того, что Макс все-таки обманул ее, все-таки открыл кран и пустил воду, которая теперь гудит в старых чугунных сочленениях, наступало, приходило постепенно и лавинообразно, отчего мутилось сознание. И тут же тошнота подступала к самому ее горлу, а в глазах плыли бордовые круги, столь напоминавшие аккуратно нарезанные ломти разваренной свеклы.
Максимилиан Александрович успевал закрыть кран, вылить воду из бачка и заправить его фиксажем ровно до того момента, когда из-под двери начинали доноситься всхлипывания Елены Оттобальдовны. Мысль о том, что он довел матушку до слез, погружала Волошина в полнейшее оцепенение, потому что всякий раз, встречая завернутых в войлочные бурки плакальщиц в Феодосии, на Енишарских горах ли, он сам был готов разрыдаться от той жалости, которую испытывал к этим слабогрудым, едва живым существам, вынужденным зарабатывать себе на жизнь исполнением погребальных канцон.
К ужину Елена Оттобальдовна, разумеется, уже не выходила и через дверь сообщала прислуге, что не намерена общаться с сыном-лгуном и обманщиком до тех пор, пока он не придет и не извинится перед ней. А до тех пор она будет исполнять четвертый прелюд Шопена или «Фантазию» Ницше и плакать, потому что нет ничего страшнее неблагодарности родного сына, которому она отдала все.
Елена Оттобальдовна требовала от прислуги повторить ее сообщение в точности несколько раз, чтобы полностью увериться в том, что до Макса ее ультиматум будет донесен дословно. Затем она садилась за фортепьяно, и дом погружался в звучащие столбцы сумеречной шумерской клинописи, расчисленные периоды заглавных буквиц, цифровые коды в виде периодически повторяющихся матриц, иероглифы египетского письма периода Древнего царства.
Это была музыка, которую Максимилиан Александрович слышал каждый день на протяжении многих лет, и каждый день он принуждал себя к наслаждению этими раз и навсегда заученными пассажами, вымучивал из себя любовь, искренне веря при этом, что именно так любовь и может зародиться в сердце.
Она должна быть вымучена!
Думал, что зерна, брошенные на каменистое русло горного потока Когайонон, что вытекал с северной оконечности Карадага, погибнут, а зерна, упавшие в топкую низменность в предгорьях Кучук Янышара, взойдут и принесут плоды.
Чувство будет крепнуть, нарастать, даже переходить в обожание, граничащее с истерикой, будет вызывать слезы, прерывистое, сдавленное дыхание, какое бывает при восхождении на Святую гору.
На Святой горе живут:
Святой Акакий,
Святая Варвара,
Святой Вит,
Святой Власий Севастийский,
Святой Георгий Победоносец,
Святой Дионисий Парижский,
Святой Евстафий,
Святая Екатерина Александрийская,
Святой Кириак,
Святая Маргарита Антиохийская,
Святой Пантелеймон,
Святой Христофор,
Святой Эгидий,
Святой Эразм.
Всего – четырнадцать святых помощников.
Крымский татарин по имени Гази помогал Максимилиану Александровичу развешивать пленку сушиться, а когда работа была закончена и целлулоидные водоросли свисали до самого пола, влаемые лишь едва различимым сквозняком из открытого в сад окна, дословно передавал слова, произнесенные Еленой Оттобальдовной.
Вот эти слова:
– Я страдаю оттого, что приношу своему сыну лишь несчастья, хотя помыслы мои чисты, будучи исполненными едино любви и уверенности в том, что я лучше знаю, как моему Максу будет хорошо. Это знание есть альфа и омега моего материнского служения ему, знание, ради которого я могу претерпеть все – и ложь, и унижение, и неблагодарность. Право, что может быть страшнее неблагодарности? Только предательство, только дерзкое и надменное отрицание той очевидной пользы, которую я несу, жертвуя всем, и именно поэтому я не намерена общаться с сыном-лгуном и обманщиком до тех пор, пока он не придет и не извинится передо мной. В этом нет гнева, в этом есть лишь жалость, всепрощение и милосердие. Да, мне жаль моего бедного Макса, который не может постичь всей глубины моего чувства к нему. Но я готова ждать хоть целую вечность, пока зерна, брошенные на каменистую почву, не взойдут. А до тех пор я буду исполнять четвертый прелюд Шопена или «Фантазию» Фридриха Ницше и плакать, потому что слезы, идущие из самого сердца, подобны святой воде, освященной на Богоявление Господне, и посему они цельбоносны. Их можно пить натощак и ни в коем случае не вытирать с лица, но лишь промакивать салфеткой с изображенными на ней стражами четырех углов трона Господня!
Рассказ Гази Максимилиан Александрович выслушал, стоя абсолютно неподвижно, по стойке смирно, держа руки по швам.
Видел себя стоящим перед объективом фотокамеры, старался не шевелиться, чтобы не пропустить ни одного слова. А ведь точно так же замирали и геодезисты в ожидании спуска затвора, другое дело, что улыбались, руки запихивали в карманы или складывали на груди, совершенно уподобляясь при этом пропахшим потом и кислым вином римским глинобородым легионерам.
Карадагов жил вместе с матерью в глинобитном болгарском доме на углу Королева и Базарного переулка. Говорили, что именно в этом доме в 1920 году до своего отъезда в Феодосию квартировал легендарный председатель коктебельского ревкома Гавриил Стамов.
Карадагов слышал об этом человеке, даже знал его фотографический портрет, с которого на него смотрел скуластый усатый человек с глубоко посаженными улыбающимися глазами, также знал, что в 1923 году Стамов был убит,
и впоследствии одна из улиц Коктебеля была названа его именем.
Карадагов проходил в свою комнату, ложился поверх простыни на спину, а лицо накрывал журналом «Америка», подаренным ему кем-то из отдыхающих. Сквозь глянцевую бумагу проступали буквы и завывание включенного в соседней комнате громкоговорителя. Это мать слушала сообщение об успешно проведенной стыковке космических кораблей «Союз» и «Аполлон».
Космонавты медленно проплывали через длинный, залитый ярким белым светом тоннель и обменивались рукопожатиями.
Журнал медленно сползал по лицу Карадагова, постепенно открывая его лоб и глаза, и тут же ему становилось невыносимо смешно при мысли о том, что стыковочный узел космического корабля, во всех подробностях описанный диктором, напомнил приемный покой феодосийской горбольницы, что на Карантине. Почему? Да потому, что именно сюда его довольно часто привозила мать, и он был знаком почти со всеми санитарами и врачами из реанимации. Они, как и космонавты, всякий раз обменивались рукопожатиями, смеялись.
Журнал, на обложке которого был изображен астронавт, делающий первые шаги на Луне, падал на пол. Особенно на себя обращал внимание скафандр астронавта, в нем, как в широкоугольной линзе, одновременно отражались черное бездонное небо, лунный грунт и даже обернутые специальной фольгой ботинки лунного странника. Если не было возможности увидеть всей фотографии целиком, то можно было бы предположить, что он завернут в эту специальную фольгу с ног до головы.
Как шоколадная плитка.
Как сложенные штабелем бутерброды, приготовленные для поездки за город.
Как мясо в духовом шкафу.
Наконец, как новогодняя свеча.
– Ты гори-гори, свеча Леонида Ильича!
Я повторял по складам: «ты-го-ри-го-ри-све-ча-ле-о-ни-да-иль-и-ча».
Смешно-смешно.
А что было в столовой «Волна» потом? После того как заканчивался обед?
Потом я вставал из-за стола и наблюдал за поварами в белых застиранных передниках. Они выстраивались вдоль дюралюминиевых направляющих, добела вытертых подносами, оказываясь таким образом спиной к раздаче, над которой висел плакат с изображенным на нем пасхальным куличом. Начинали притоптывать, неритмично хлопать в ладоши кассирше, что выходила на середину столовой и, подбоченясь, пускалась в пляс.
Она скользила по бетонному полу больницы на Пряжке почти невесомо, как будто была на фигурных коньках, выполняла антраша, а также прыжки сальхов, ритбергер и бедуинский во вращении.
Однако пасхальный кулич, который висел над раздачей и наблюдал за происходящим, негодовал, разумеется, находил это зрелище омерзительным и крайне небогоугодным хотя бы по той причине, что оно совершенно напоминало танец Иродиады, известный также как танец семи покрывал.
Первое покрывало символизировало усыпанное звездами ночное небо.
Второе покрывало прообразовывало водную гладь.
Третье покрывало, сотканное из грубой верблюжьей шерсти, обозначало бескрайнюю степь.
Четвертое покрывало, украшенное геометрическим орнаментом в виде вифлеемских восьмиконечных звезд, сплетенных виноградной лозой, было символом дыхания жизни.
Пятое покрывало из прозрачного, шелестящего на ледяном ветру газа было символом дыхания смерти.
Шестое покрывало было свитком Завета и олицетворяло премудрость.
И наконец, седьмое покрывало именовалось «Dies irae» – «День гнева».
И дело было даже не в том, что, скинув с себя семь покрывал, Иродиада искушала верных, но в том, что отныне она получала власть. Оказывалась соблазненной собственными прихотями, собеседовала с демонами, не находя ничего дурного в этом собеседовании, тешила себя, обнадеживала, что отныне всякий ее поступок будет благ и человеколюбив, украшала речь свою изысканным словесным орнаментом, впрочем, лишенным всякого смысла, давала обещания, мечтала о несбыточном, впадала в ярость.
И вот она повелевала принести ей главу Иоанна Предтечи – Ангела пустыни на серебряном блюде.
Пасхальный кулич, творожную пасху и крашеные яйца торжественно выносили на блюде.
Пасха – это имя девочки.
Девочка на фигурных коньках и в цигейковой шубе.
Девочка закрывала глаза руками, но при этом продолжала скользить по льду, пока наконец не выезжала на снег и не падала в сугроб.
Фигуристка-одиночница катает короткую программу.
На картинах художников Северного Возрождения изображены люди, катающиеся в аду на коньках.
Адский грохот отодвигаемых стульев вперемешку со скрежетом подносов по дюралюминиевым направляющим мгновенно и без остатка заполнял все застекленное пространство столовой, превращая его в огромный аквариум под названием «Волна», в котором лениво перемещались полусонные, объевшиеся салатом и макаронами рыбы.
Рыбы плавают.
Макароны плывут.
Этот грохот и возвращал меня к фотографической реальности.
Когда мы приехали в Коктебель на следующий год, то Карадагова уже не было.
Говорили, что он пропал зимой. Пошел пешком в Феодосию через Енишарские горы и не вернулся. Его искали всем поселком почти до мая, но никаких следов не обнаружили, и потому о том, что с ним могло произойти, приходилось лишь догадываться.
Например, он мог встретить на своем пути странников, дервишей, вооруженных всадников, завернутых в войлочные бурки плакальщиц, святых помощников, геодезистов, которые колдовали над теодолитом, римских легионеров, всадников Апокалипсиса.
И именно последние имели полнейшую возможность решить его судьбу.
Они окружали его, спрашивали, куда он идет и зачем. Карадагов сбивчиво отвечал им, что направляется в Феодосию на Карантин, в горбольницу. Всадники с недоверием смотрели на него, а он открывал рот и показывал им свои гланды, тыкал в них указательным пальцем, давился, говорил, что его лечащий врач караимка Вера Исааковна Эгиз прописала ему ингаляции морской солью и водорослями три раза в неделю.
Лошади мотали мохнатыми головами, фыркали, выпуская из покрытых инеем ноздрей густой пар.
Процедура занимала не более получаса. Высокорослая скуластая медсестра надевала на лицо Карадагова резиновый респиратор, включала нагнетатель пара и запускала песочные часы. После чего она садилась рядом и начинала подкрашивать глаза сурьмой.
Известно, что подкрашивание глаз сурьмой улучшает зрение, способствует росту ресниц, удаляет глазные выделения, а также останавливает воспаление век.
Впрочем, предположение, что Карадагов ходил в Феодосию именно на ингаляции, так и осталось предположением. Более того, впоследствии Вера Исааковна жаловалась, что ни на одну процедуру пациент Карадагов так и не явился, сетовала на то, что в таком случае гланды могут увеличиваться, воспаляться и становиться источником многих лор-заболеваний.
Всякий раз по возвращении из Коктебеля в Москву мы с отцом проявляли отснятые пленки и печатали фотографии. Потом развешивали их сушиться на кухне, а на следующее утро заталкивали отпечатки в книжный шкаф между книгами, чтобы они таким образом распрямлялись. Проходило время, и мы, разумеется, забывали, что куда положили.
Думаю, что многие из этих фотографий так и лежат в том книжном шкафу по сей день.
7.
Читать книгу дней путем перелистывания старых календарей с обведенными в них шариковой ручкой датами. Останавливаться всякий раз в надежде вспомнить, что было именно в тот или иной день, обнаруживать, что большая часть информации стерта из памяти навечно, печаловаться при этом.
Однако, превозмогая уныние, находить возможность собирать из разрозненных, на первый взгляд не имеющих никакого отношения друг к другу воспоминаний общую картину, более напоминающую партитуру музыкального произведения, нежели поэпизодный план с четко прописанным сюжетом.
Мне всегда казалось, что такой подход скрадывает истинное положение вещей, совершенно соделывая известные хитросплетения частью орнамента, именуемого также и полотенцем, коим украшены столпы храма во имя Святых Отцов семи Вселенских Соборов.
Здесь перед солеей на вымощенном чугунными плитами полу стоит инвалидная коляска, по всей видимости сооруженная из детского трехколесного велосипеда, в которой сидит человек без ног.
Я стою перед входом в Евпаторийский краеведческий музей, достаю из кармана носовой платок и сморкаюсь. Вижу свое отражение в покрытой черным лаком рогатой глубинной мине, что выставлена на гранитном постаменте.
Инвалид не знает ни одной молитвы.
Он пытается подобрать слова.
Слова-знаки, слова-символы, слова-объекты.
Сказано у Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
Я вхожу в музей, покупаю билеты, которые тут же и вручаю сидящей под лестницей билетерше. Она рассказывает мне, что раньше над мраморной лестницей висели портреты владельцев этого дома, караимов, купцов Гелеловичей – статных, чернобородых, подстриженных под машинку, в единообразных длиннополых утепленного сукна лапсердаках.
Я поднимаюсь по лестнице на второй этаж и чувствую их тяжелые взгляды на себе, хотя на месте их портретов уже давно висит карта Крыма. Она распростерлась надо мной обтрепавшимся по углам холстом, что трещит, как мартовский наст.
Ледяной наст.
Соляной наст лимана Сасык.
Окна зала, где были выставлены фотографии с видами Крыма, выходят во внутренний двор музея. В детстве я любил подолгу стоять у этого окна и смотреть на расставленные вокруг аккуратно подстриженной клумбы корабельные мортиры, заросшие рапанами якоря, торпеды самых разных калибров, деревянные тумбы для намотки швартовочных канатов.
Мохнатые канаты напоминали мне заросших шерстью или водорослями змей, что мирно спали под дождем в тени блестящих в электрическом свете мечевидных листьев алоэ. Впрочем, дождь в этих краях был большой редкостью. Просто уборщики каждый вечер протирали листья алоэ мокрыми тряпками, и возникало ощущение того, что прошел дождь. Листья качались, оставляли своими шипами на стекле царапины, подобные тем, что оставляет после себя на целлулоиде неработающий зубчатый барабан для перемотки пленки.
На выставке более всего мне запомнилась фотография, сделанная скорее всего в начале 20-х годов на 35-мм кинопленке.
На ней были изображены люди в брезентовых куртках. Было видно, что они позируют. Они картинно улыбались, надув при этом до невообразимых размеров свои щеки. В худшем случае они могли лопнуть, в лучшем – взлететь.
Я, разумеется, выбирал лучший вариант и наблюдал, как они, взявшись за руки, парят над грядой Енишарских гор, слушал, как они поют рождественские гимны.
Поющая фотография.
Геодезисты колдовали над теодолитом.
Записывали в журнал результаты проведенных обмеров.
Улетали за линию горизонта.
Возвращались вновь.
Я отходил от фотографии на достаточное расстояние, чтобы не иметь ни малейшей возможности разобрать детали – высокие ботинки на шнуровке, застиранные гимнастерки, брезентовые куртки, вырезанный из плексигласа угломерный круг, называемый лимбом, наручные часы, компас, химический карандаш. Теперь изображение расплывалось совершенно, обретая черты монохромной живописи, а стало быть, полностью утрачивая собственно фотографический эффект, и оставалось лишь догадываться, что там могло быть изображено. Мыслилось, что в таком случае совершенно неважно, что изначально послужило причиной творческого вдохновения – геодезисты ли, дервиши, всадники Апокалипсиса или продавцы живой рыбы. Все они в равной мере могли быть запечатленными при помощи фотографического аппарата, тем самым до бесконечности раздвигая возможности экспозиции. Известный же казус в виде наложения кадра на кадр, имеющий возможность произойти при поломке механизма перемотки пленки, лишь добавлял этому утверждению значимости и полноты. Полноты в смысле многослойности изображения, когда декорация сменяет декорацию, и нет этому конца, потому что негативы двигаются по кругу, совершенно прообразуя при этом ленту Мебиуса, когда попасть из одной точки поверхности в любую другую можно, не пересекая края перфорации.
Вижу вырастающие за краем перфорации Енишарских гор облака, из которых появляются лица завернутых в войлочные бурки плакальщиц.
Видения.
Визии.
Зримое как часть осмысления воспоминаний, возникающих вопреки хронологической очередности, но во многом благодаря сиюминутным состояниям, их прихотливому орнаменту. С другой стороны, говоря об орнаменте, узоре, все-таки приходится признавать, что определенная система тут наличествует, потому что и в хаосе есть порядок. Порядок как постижение, покорение, прохождение непройденного, извлечение уроков.
Всякий раз, думая об этом, вспоминаю, как после шестого урока брел домой вдоль насыпи окружной железной дороги, затем по пустырю, который впоследствии застроили гаражами, сидел во дворе на качелях, качался, укачивало, наконец заходил в подъезд, слушал его гулкую пустоту, вздрагивал, когда в бездонный колодец мусоропровода с грохотом проваливались старые учебники по химии и алгебре, завернутые в газету рыбные кости, осколки битой посуды, склянки из-под вазелина и зеленки.
Мысленно рисовал этой зеленкой на груди восьмиконечный крест и просил одного из всадников Апокалипсиса выстрелить именно в это так напоминающее пороховую татуировку изображение.
Говорил: «Пуф!» и падал в этот бездонный колодец.
Казалось, что этот бездонный колодец уходил в самые недра земли, и небо ртутью шевелилось в его невыносимо пахнущей прелой древесиной глубине.
Эскалатор метро уходил в самые недра земли.
Электрические провода уходили в самые недра земли.
Вагонетки с чумазыми шахтерами уходили в самые недра земли.
Однако стоило мне вновь приблизиться к фотографии, как тут же на передний план выступали детали. На первый взгляд разрозненные совершенно, но при этом самым удивительным образом создающие единую картину, цельное повествование, исключающее сюжет, но предполагающее душевное напряжение, волнение, порой вызывающее даже и желудочные судороги, доводящее до катарсиса.
Высокие ботинки на шнуровке, навершия посохов, застиранные гимнастерки, брезентовые куртки, павлиньи хвосты, кубки для вина, вырезанный из плексигласа угломерный круг, называемый лимбом, нимбы святых, наручные часы, компас, химический карандаш для заполнения библиотечных формуляров, устройство для перемотки пленки, выцветшие на солнце погребальные ленты, рогатые глубинные мины, фаянсовые фигурки животных – кабана, зайца, медведя, тигра и тетерева по прозвищу Берендей.
Потом я подходил к окну, за которым по Симферопольской улице брели отдыхающие. Они, разумеется, стремились к морю, они наслаждались терпким запахом лимана Сасык, также именуемого и Гнилым лиманом, они миновали мечеть и турецкие бани, они оставляли по правую руку Евпаторийский краеведческий музей, а по левую детский санаторий министерства обороны, и наконец они выходили на набережную имени Горького.
Мысленно я следовал за ними, безропотно и бесстрашно обходя зал за залом, перебирал экспонаты, провожал их отсутствующим взглядом, закрывал глаза, открывал глаза, выключал свет и включал его тут же, наконец, спускался по напоминавшей окаменевший ледник мраморной лестнице, над которой висела огромных размеров карта Крыма, и выходил на улицу.
Это было посещение музея как придумывание пространства, например темной комнаты, в которой можно проявлять и печатать фотографии.
Придумывание тайны.
Как в детстве, когда во дворе, в секретном месте закапывали бутылку с цветной фольгой и списком заветных имен: Елена, Евгения, Екатерина, Кладония, Клавдия, Ясира, Лидия, Бавкида, Аминат, Белла, Аглая, Ирина, Виктория, Елизавета, Энергия, Фатима, Харитина, Шадия, Поликсена, Альверина, Мария, Эсфирь, Виктория, Фамарь, Александра, Иулиания, Татьяна, Изабелла, Анна, Анастасия, Серафима, Руфина, Иман, Софья, Юдифь, Нина, Глафира, Вера, Надежда, Любовь.
Придумывание имен.
Придумывание персонажей.
Девочка с распухшим лицом старухи.
Нетрезвый беззубый мужик без рук.
Беременная женщина с иссиня-черными синяками под глазами.
Улыбающийся старик с зататуированной лысиной.
Толстый мальчик, закрывающий лицо ладонями.
Наконец, придумывание слов.
Впервые осмысленным придумыванием слов я занялся после прочтения «Царя Эдипа» Софокла в 1980 году. Это произошло в Паланге, в городской библиотеке, что находилась на улице Витауто недалеко от костела Вознесения Девы Марии. Нашел этот текст совершенно немыслимым, в первую очередь с точки зрения бытования внутри него, нахождения. Увидел в нем абсолютно неведомое царство, потому что никогда до того не встречал подобной конфигурации слов, такого орнамента, столь напоминавшего разве что мозаику из необработанной гальки в Коринфе, мозаику, на которой был изображен кентавр, гонящийся за леопардом.
Итак, блуждал по этому царству, населенному спутниками Диониса в масках с козлиными бородами и рогами. И тут же воображал себя колядующим, завернутым в медвежью шкуру, надевающим на лицо маску какого-то неизвестного науке рогатого чудища.
Вернувшись в Москву, свои первые сочинения в стиле античной трагедии я прочитал в клубе юных искусствоведов, который посещал при Пушкинском музее, а затем и на подготовительных курсах Московского университета на Дне филолога. Тогда же отправил тексты Вениамину Александровичу Каверину в Переделкино и получил ответ, в коем содержалось пожелание успехов начинающему литератору. Помню, как, окрыленный поддержкой, тут же стал носить рукописи в толстые журналы, но опубликоваться удалось только через семнадцать лет в «Октябре».
Это была повесть «Калугадва».
Калуга-2, бывший Сергиев скит, станция Киевской линии железной дороги на направлении Фаянсовая – Сухиничи. В конце 80-х я часто бывал здесь: на попутке добирался до городского автовокзала, где пересаживался на рейсовый автобус «Калуга – Козельск», чтобы ехать в Оптину пустынь.
Запоминал названия населенных пунктов, встречавшихся по дороге, – Сикеотово, Перемышль, Полошково, Каменка, Нижние Прыски.
Автобус поднимался на гору, с которой тут же и открывалась панорама на пойму реки Жиздры, в мутной, зеленоватого цвета воде которой плыли трубящие ангелы, что украшали перевернутые монастырские башни.
Прислушивался к их гласу и не находил в нем ничего страшного, апокалиптического, отчего из ушей начинает идти кровь. Скорее обретал внутренний покой, даже умиротворение, сродни тому, что испытывал в детстве, когда тошнота отступала и я обессиленно погружался в мерцающую полудрему. Видимо, это было памятование того, что в детстве меня очень сильно укачивало. Тогда мне даже казалось, что мой организм живет какой-то своей отдельной жизнью, и вот именно в тот момент, когда происходило трагическое несовпадение внутреннего и внешнего его бытования, приключалась между ними война.
Местность приятной войны.
Остановка на местности.
Я выходил из автобуса и километра два еще шел пешком к монастырю через лес. Здесь было совсем тихо. Огни Козельска, оставшегося на противоположном берегу, изредка протыкали неподвижную темноту-мглу. Останавливался, слушал эту тишину, заглядывал внутрь огромного, рубленного в лапу дубового сруба источника, где неподвижно стояло глинистое небо середины ноября. Вода здесь казалась густокрасной, даже бурой, она не пропускала свет до самого дна, которое представлялось илистым и льдистым от бьющих в многочисленных рваных оврагах поймы реки Жиздры ключей. Размышлял о возможности остаться здесь навсегда, в этом сумрачном, заболоченном лесу, соблюдая при этом непременное условие – никогда не поднимать взгляд туда, куда устремлены покрытые мхом и наростами в виде растительного орнамента деревья. Всегда смотреть только вниз, только в места соединения узловатых корней, столь напоминающих старческие ступни, с землей, покрытой жидкой травой и гнилыми палыми листьями. Ползать здесь, пресмыкаться, выискивать в брошенных норах остатки шерсти, яичной скорлупы, пчелиных сот, обрывки газет, засохшие хлебные крошки, напечатанные на дешевой бумаге образки. Вполне возможно, что изображения святых угодников Божиих, также имевших возможность представать и в образе святых помощников, не имели ни малейшего портретного сходства, совершенно разнились с реальным обликом подвижников благочестия, ведших, как известно, аскетичную, исполненную многих лишений жизнь и не могущих выглядеть так, словно их вылепили из пряничного теста.
В ту поездку в монастыре я оказался уже затемно и на ночлег получил место в угловой башне, расположенной слева от святых врат. В просторной, плотно заставленной двухъярусными кроватями комнате все уже спали. Это было целое сонное царство, царство хриплого дыхания, зубовного скрежета, фистульного свиста, дребезжащего храпа, напряженного сопения, редких бессмысленных выкриков, глухих стонов, даже отрывистого лая царство. Чувствовал себя здесь находившимся в геенне огненной, также известной и как ущелье Еннома, что зажато между скалистыми уступами.
Кодорское ущелье.
Рокский тоннель под горой Сохс.
Поток Когайонон, вытекающий из отрогов Сюрю-Кая.
Девятый вал Узун-Сырта.
Разрозненные нагромождения окаменевшей лавы вулкана Карадаг. Разбросанные десятибалльным штормом Енишарские холмы.
Повесть «Калугадва» состояла из, как могло показаться на первый взгляд, разрозненных эпизодов из жизни мальчика Жени Черножукова, который жил с бабушкой Фамарью Никитичной, высокой худой старухой с выпученными глазами, и ее многочисленными родственниками в деревянном бараке близ станции Сергиев скит.
Впрочем, ее зловещий внешний вид полностью вводил в заблуждение, так как совершенно противостоял ее внутреннему душевному складу, ведь она обожала своего внука и называла его голубком.
А голубки и кружились под расписанным звездами сводом Введенской церкви.
Вот один эпизод из повести, где описывается, как Фамарь Никитична возила Женечку в Оптину Введенскую пустынь. Сначала на попутке они добирались до городского автовокзала, а потом пересаживались на рейсовый автобус «Калуга – Козельск».
Рейсовые автобусы на этом направлении всегда были переполнены: «челноки», на перекладных добиравшиеся до Сухиничей, блатные, военные, старухи из расположенных по трассе деревень, что вечно плаксиво просили закрыть окно, потому что холодно и дует, цыгане, поселковые мужики, паломники, среди которых Женечка обратил внимание на парализованную девочку.
Казалось, что девочка спала.
Глянул на нее краешком глазка и сразу перевел взгляд на приклеенные водителем на лобовом стекле рядом со спортивными вымпелами бумажные образки святых угодников Божиих, чьи лица проплывали над однообразным осенним пейзажем – Сикеотово, Перемышль, Полошково, Каменка, Нижние Прыски.
Проехали Нижние Прыски.
Вскоре показалась и Оптина пустынь.
Когда остановились после моста через Жиздру, то Женечка первым выскочил из автобуса и побежал в лес.
Фамарь Никитична не стала его удерживать, заулыбалась:
– Почувствовал, почувствовал, что подходим. Ведь уже рядом совсем!
Лес, конечно, тут же и кинулся ему навстречу, стал хлестать по лицу ветками, запихивать в карманы перелицованного из безразмерной кацавейки пальто сухие листья, хватать корнями, свитыми в косицы, за ноги, раскачивать сырой сумрак поздней осени зарядами припасенного ветра.
Все норовил попасть в Женю этими зарядами, чтобы сбить его с ног. А ноги-то и не слушались уже, наполнялись свинцом, месивом, проваливались в неразличимые в темноте ямы, заполненные дождевой водой, волочились, болели, корчились, ёкали. Женя понимал, что у той парализованной девочки, которую он видел в автобусе, точно такие же ноги, и поэтому ее, наверное, носят на специально сооруженных носилках.
Так оно и есть!
Затаился, чтобы не быть замеченным, и принялся наблюдать за целой процессией паломников, что проходили мимо него и несли, передавая друг другу по очереди, носилки с парализованной девочкой. Так и вошли в Введенскую церковь, под расписанным звездами сводом которой резвились голубки.
И сразу наступила тишина, внутри которой можно было различить лишь гыканье придурковато улыбающегося Женечки, привезенного в монастырь бабушкой Фамарью Никитичной. Мальчик почему-то крутит головой, сворачивает собственные уши в форме Cantharellus cibarius, пытается достать языком кончик носа, но безуспешно, периодически садится на корточки и трогает пол руками, закрывает глаза и воображает себе, что уже спит, видит сны, потом вдруг просыпается и видит перед собой стоящего на солее пророка.
Пророк грозит ему пальцем:
– Отныне нарекаю тебя Симплициссимус! Ты есть символ зависти, зловония, бедствия и началозлобного демона!
Какое-то время Женя стоит в полном недоумении, он не понимает, что означают эти слова, потому что никогда не слышал их раньше. Улыбка начинает медленно сходить с его лица, глаза округляются, стекленеют, и вдруг он начинает голосить, извергать из себя нечеловеческие звуки, лаять, каркать, хрипеть. На него тут же набрасываются паломники, которые пытаются заткнуть ему рот и связать руки полотенцем, в которое обычно заворачивают просфоры, хватают его за ноги, бьют по щекам в надежде угомонить. Но сделать это совсем непросто, потому что Женечка катается по полу, извивается подобно змею, хватает по большей части паломниц за волосы, пытается укусить, переворачивается на живот, уползает по-пластунски от своих мучителей и, наконец, прячется под чаном со святой водой.
Пророк, стоящий на солее, разумеется, тут же и отворачивается, чтобы не видеть всего этого безобразия, чтобы сосредоточиться, чтобы найти внутри себя упокоение и, как следствие, милосердие к этому несчастному ребенку, которого в данный момент пытаются извлечь из-под водосвятной чаши при помощи швабр.
Женечка подбирает колени к подбородку и закрывает глаза. Он всегда так делает, когда хочет стать невидимым, и он становится им, воображает себя спрятавшимся на дне святого озера в толще отливающей серебром воды, которую вычерпывают ведрами и мятыми бидонами, кастрюлями и кружками, мисками и ночными горшками, надеясь таким образом добраться до него, но, что и понятно, не могут вычерпать.
Не могут добраться.
«Аксиос», – возглашает пророк, и вздох облегчения проносится над толпой, состоящей из перепуганных, смятенных, перекошенных конвульсиями, оцепеневших, закрытых ладонями, источающих тревогу лиц. Ведь никто из собравшихся в Введенской церкви не знает до последнего момента, на кого из них падет милость Господня, а на кого прольется гнев тучегонителя. Это ожидание сводит с ума, и Женечка видит, как многие уже не могут сдержать слез, начинают давиться, сморкаться в носовые платки, прятать свои лица в спинах стоящих впереди.
«Аксиос» – значит, все произойдет, но не сейчас, значит, Страшный суд откладывается на неопределенное время, значит, еще есть время собраться с мыслями и подготовиться к тому, что порхающие под сводом церкви голубки превратятся в разящих ангелов или воинов Апокалипсиса.
Всю обратную дорогу Женечка молчал и смотрел в окно, а Фамарь Никитична что-то говорила ему, наклоняясь к самому уху, но он ничего не слышал, кроме однообразного гудения двигателя и дребезжания раскладных, наподобие ширмы, металлических дверей автобуса «Козельск – Калуга».
На этом эпизод заканчивался, и начинался другой, в котором Женечка уже засовывал голову под рукомойник и пускал холодную воду.
Называл эту воду святой, чувствовал, как волосы под ее воздействием превращались в полозов, что извивались по лицу, забирались за ворот в поисках места, где можно было бы схорониться от постороннего взгляда, сделаться невидимыми.
Потом долго вытирал голову полотенцем, на котором были изображены новогодние игрушки.
Новогодние игрушки были сложены в деревянном ящике, что стоял под сервантом.
На серванте стоял электрический самовар.
Фамарь Никитична подолгу пила чай, слушала радио, окунала обсыпные сухари в кипяток.
У нее болели глаза, и она извлекала из заварочного чайника заварку и выкладывала ее, еще теплую, себе на веки.
Таким же образом можно было лечить и ячмень, когда глаз начинал нестерпимо чесаться, но чесать его было нельзя, потому как тем самым можно было повредить глазное яблоко.
На столе была разложена антоновка.
Яблоки катались по столу, падали на пол и продолжали катиться под сервант, под шкаф, под кровать, где лежали гантели.
В последнем же эпизоде «Калугадва» рассказывалось о том, как Женечка забрался на заброшенную колокольню, что находилась на окраине поселка, и прыгнул вниз.
И вот он летит вниз, видит себя летящим вниз, и перед его мысленным взором проносятся отрывки воспоминаний, лица, события, в его голове даже звучит музыка, некогда услышанная им, но сейчас он уже не вспомнит, где и когда он ее слышал.
Все происходит как во сне, когда секунды превращаются в часы, а минуты в годы. Может быть, именно поэтому падение вниз ему не кажется таким страшным, неизбежно приводящим к гибели. Более того, он уверен в том, что время остановилось, что уже наступила вечность, или это только видимость вечности?
С высоты колокольного звона, насквозь выстуженного ноябрьским ветром, хорошо видна вся местность – железнодорожная станция, привокзальные постройки, Спасо-Воротынский монастырь, автомобильный мост через реку Угру, обрывистые берега которой покрыты черным, дырявым в это время года лесом.
Падал и приговаривал: «Женечка, а Женечка, но все равно твоя голова обнажена! И лучше б с неба, с горы, с тучки златоверхой, с последнего звона колокольни храма во имя Преображения Господня на эту грешную голову лилась холодная вода! Или кипяток! А потом выйди на пронзительный ветер, кусая наледь, – ведь бьет, бьет же промозглая дрожь, поклонись, как должно, и тут же у стены, обшитой тесом, сиди, замирай, подвизайся, одиночествуй, катаясь ладонью по мокрым дымящимся волосам, натертым лампадным маслом, так что задохнуться можно от умиления, жалости, смирения и собственной ничтожности!»
Эту свою первую публикацию в журнале «Октябрь» я посвятил отцу.
Эпилог
Она сидит перед телевизором с выключенным звуком.
Она неотрывно следит за изображением, смысл которого сводится к следующему: инвалид, лишившийся ног во время одной из недавних войн, на сооруженной им из детского трехколесного велосипеда коляске доехал от Мурманска, где живет, до Медвежьегорска, расстояние между которыми составляет семьсот с лишним километров. Корреспондент спрашивает путешественника, зачем он это сделал. То есть она предполагает, что именно такой вопрос и до лжно задать человеку, решившемуся на столь немыслимый поступок. Инвалид что-то говорит в микрофон и показывает фотографическую карточку, на которой изображен его дед, благообразный, обстриженный под бобрик старик.
Потом инвалид прячет фотографию в нагрудный карман куртки, улыбается, машет рукой в кадр и уезжает по разбитой асфальтовой дороге в сторону леса, что тянется до самого горизонта.
Она выключает телевизор и выходит из комнаты.
По темному, заваленному велосипедными колесами, лыжами, стопками старых журналов, заставленному шкафами коридору она проходит на кухню.
Здесь она видит старика-ассирийца, который при помощи канцелярских кнопок прикрепляет к столу клеенку, покрытую уже давно вытертым и выцветшим орнаментом, представляющим собой соединение симметричных фигур, отдаленно напоминающих греческие амфоры.
И вот на эти псевдогреческие амфоры ассириец ставит миску и вываливает в нее из целлофанового пакета живых рыб.
Она видит, как рыбы открывают свои рты, что в подобном разверстом состоянии более напоминают медные навершия подсвечников, которые крепятся за водосвятной чашей. Но старик не обращает на это никакого внимания просто потому, что он ничего не знает ни про водосвятные чаши, ни про подсвечники, ни про навершия.
Старик достает из буфета нож и начинает чистить этих еще живых рыб, точнее сказать, начинает сдирать с них чешую, потрошить, выбрасывая внутренности в ведро, которое он выдвигает ногой из закута, образованного рукомойником с одной стороны и холодильником с другой.
Она возвращается к себе в комнату.
На улице уже темно, и поэтому здесь по стенам перемещаются отблески автомобильных фар, что выхватывают висящие на стене рисунки. Эти карандашные наброски – по большей части лошадиные головы, сухие цветы, гипсовые изваяния частей человеческого тела.
Но нет никаких сил вновь и вновь рассматривать эти изображения, и она прячется от них под кроватью, разумеется, пытаясь оправдать перед собой сей глупый поступок неким мифическим желанием извлечь из темной, пропахшей сухой пылью глубины давно завалившиеся туда вещи, нижнее белье ли, которых там, что и понятно, нет.
Просто она больна и боится приезда врачей, которые опять заберут ее в больницу, и именно поэтому она прячется от них под кроватью. Она уверена, что здесь ее никто не найдет.
Она ничего не помнит, да и восемнадцать лет – слишком большой срок, чтобы о чем-то сожалеть.
О несбывшихся мечтах, например.
Меж тем с кухни начинает доноситься запах жареной рыбы.
Рыбы, извалянные в тесте, покрываются золотистой коркой, полностью при этом уподобливаясь обернутым фольгой египетским мумиям.
Хрустят, переливаются, источают густой перламутровый жир.
А из помойного ведра меж тем выглядывают внутренности, избежавшие страшной участи быть брошенными на сковороду. Эти внутренности следует накрывать газетой, извлеченной из почтового ящика, прибитого к входной двери, и немедленно выносить на улицу, чтобы не распространять по квартире запах дохлятины.
Врачи уже приехали.
Они стоят у входной двери, переговариваются, заглядывают в лестничный пролет, напоминающий вертикально уходящий вниз колодец, что обрамлен чугунными перилами, нажимают кнопку звонка. Точнее, это делает один из них – сухощавый, с подвижным лицом медбрат в коротком приталенном бушлате, из-под которого выбивается белый халат.
Он утопливает пластмассовый цилиндр звонка внутрь целлулоидного уха, но ничего не происходит. Абсолютно ничего не происходит!
Он звонит еще раз, и вновь – тишина.
Значит, звонок не работает и придется стучать в обшитое драным дерматином поле двери. Удары будут напоминать удары по мячу на футбольном поле. Удары будут проваливаться в пожелтевшую от времени, как старая фотографическая бумага, вату, в грозовые заряды клокастых облаков цвета мокрого песка, будут гудеть-гудеть стальным рельсом и уходить в никуда.
Наконец, закончив жарку рыбы, старик все-таки услышит эти удары, что доносятся из прихожей, улыбнется, они напомнят ему удары по мячу, ведь когда-то он любил посещать футбольные матчи на Кировском, включит свет, будет долго возиться с замком и наконец откроет дверь.
К тому моменту она уже находится в глубоком ступоре, она пытается что-то сказать, но не может, потому что слова налиты свинцом, и, вместо того чтобы взлетать на вольный воздух, они проваливаются в бездну, где из них вырастает целая гора, целый могильник, целый курган.
Санитары заглядывают ей в лицо, но она не видит их. Впрочем, это и понятно, ведь небо лежит у нее на голове, давит пружинами панцирной сетки, матрасом, свисающей, как наледь, простыней.
Санитары задают ей вопросы, но она не слышит их. И это тоже понятно, потому что уши ее заполнены немыслимым шумом, который приключается, когда четырнадцать святых помощников толпятся перед входом в скрипторий, где хранится список «Божественной комедии» Данте.
Они восклицают: «La Divina Commedia!»
Они рукоплещут, щиплют друг друга за бока, громко смеются, пукают порой, обнимаются, фотографируются на память, выкрикивают собственные имена, водят хороводы, ради баловства жмут кнопку звонка в скрипторий, и тут же тишину мастерской по переписке рукописей нарушает высверливающий звук зуммера.
Да, именно этот высверливающий, вызывающий нестерпимые приступы мигрени гул и звучит у нее в голове.
Когда же ее увезли, то старик вернулся на кухню и начал есть рыбу.
Он старательно отделял мясо от костей, вытирал кухонным полотенцем жир с рук и губ, улыбался, но не потому, что вспомнил, как в 1981 году «Зенит» выиграл у кутаисского «Торпедо» со счетом 8:1, а потому, что находил приготовленную рыбу очень вкусной и молодой. Все знал про определение возраста рыб, который заключался в полном соответствии числа колец на чешуе у основания первого спинного плавника количеству прожитых рыбой лет.
Мне сорок семь лет.
Я стою перед витриной магазина на Соколе.
Достаю носовой платок и громко просмаркиваюсь.
При этом, что и понятно, мое искаженное гримасой лицо отражается в стеклах, за которыми, как на исцарапанном грейферным механизмом целлулоиде, движется наудалую сооруженный орнамент в виде прерывистых линий дорожной разметки, мигающих светофоров, рекламных щитов, на одном из которых удается прочитать: «Сердце мудрых – в доме плача, а сердце глупых – в доме веселия».
Я смотрю на себя и узнаю себя. Это как на хорошей фотографии, когда видишь то, что подразумевается, о чем догадываешься, но оно скрыто от посторонних глаз до поры до времени.
Времени нет.

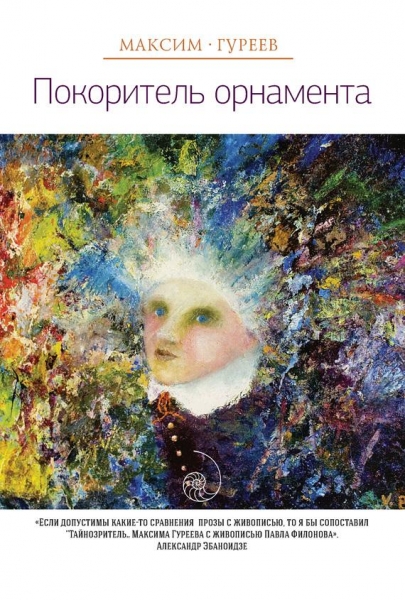










Комментарии к книге «Покоритель орнамента (сборник)», Максим Александрович Гуреев
Всего 0 комментариев