Жан Руо
Глядя на великих комиков кино, понимаешь, что по-настоящему смешить можно лишь собой. Иначе быстро становишься жестоким.
Жан Руо_______________________
Жан Руо. Фотография Луи Монье.
КОРОТКО ОБ АВТОРЕ И ЕГО РОМАНЕ
Жан Руо родился в 1952 году в небольшом провинциальном городке на северо-западе Франции. Несмотря на образование, полученное в Нантском университете, он долгое время работал в самых, казалось бы, неожиданных для филолога местах — рабочим бензоколонки, уличным торговцем, продавцом газет. Наконец в 1990 году Жан Руо с триумфом входит в литературу со своим первым романом «Поля чести», отмеченным престижной во Франции Гонкуровской премией. Писатель открывает этим романом серию произведений, в которую вошли еще три романа-воспоминания: «Великие люди» (1993), «Мир не в фокусе» (1996) и «За ваши подарки» (1998). В основу всех четырех романов легли судьба самого автора и судьбы членов его семьи.
«Мир не в фокусе» второй после «Полей чести» роман Жана Руо, изданный на русском языке. Роман необычен как по своему сюжетному построению, так и по стилю изложения. Автор мастерски описывает внешнюю сторону жизни, ее предметность, в совершенстве овладев искусством детали, особенно в картинах природы. Автор не боится открыть свой внутренний мир, тайники своей души, он глубоко психологичен; тонкая ирония и даже насмешка над собой переплетаются с трагичностью. Трагедия любви и одиночества, жизни и смерти, трагедия самого человеческого существования — фейерверк чувств пронизывает все произведение, заставляя читателя глубоко сопереживать. Удивительна поэтичность и даже музыкальность прозы Жана Руо. Роман-поэма, роман-симфония, уникальный и великолепный образчик экзистенциального романа — вот далеко неполная характеристика этого блестящего произведения.
Мир не в фокусе[1]
I
Я нелюдим, разговоры меня утомляют, и потому сам не знаю, как после восьми лет пансиона со строгим режимом (где все наше женское окружение составляли три старые монашки с подростковой порослью усов) занесло меня во второй состав местного футбольного клуба Амикаль Логреен, в убогую раздевалку при деревенском стадионе, который можно было бы принять за пахотное поле, не будь прочерченной известью разметки да стоек ворот — и это помимо моей воли, на безрыбье, как старое проверенное лекарство от воскресной скуки.
И все-таки какая же скверная погода. Поэтому сразу после финального свистка игроки спешат укрыться в четырех стенах наспех выстроенного барака. Каждый старательно чистит о бетонный порог ботинки, покрытые толстым слоем грязи, устилая землю лепешками глины, продырявленной, будто пробойником, шипами бутсов, прежде чем по одежде на горбатой вешалке отыскать свое место и с подлинной или наигранной усталостью, развалиться на казенной скамейке, которая идет вдоль стен маленькой комнатушки, наполненной запахами пота и камфарного масла. Это обычная времянка: прямоугольные цементные плиты зажаты между балками, сквозь мутное стекло в зеленой металлической двери и маленькое окошко в углу душевой льется тусклый послеполуденный зимний свет, односкатная рифленая крыша сделана из композита — но и этого достаточно, чтобы защитить от ледяного атлантического ветра с дождем, от которого цепенеют редкие зрители, собравшиеся под навесом у буфетной стойки; глядя на них, не перестаешь удивляться, что за удовольствие находят они в этих унылых встречах. Впрочем, не только скука, но и одиночество толкает на странные поступки. Горстка болельщиков каждое воскресенье выстаивает у ограждения — белой облупленной трубы на бетонных подпорках; съежившись от холода, засунув руки в карманы, они демонстративно топают ногами, закатав брюки, чтобы не испачкаться в грязи, — отсюда их привычка ходить, осторожно ступая, на цыпочках. Некоторые из них в кепках, другие — с непокрытой головой, по волосам стекают капли дождя — просто диву даешься, до чего редко встречаются в этих краях, казалось бы, необходимые здесь дождевик и зонт, словно их обладатель боится прослыть мокрой курицей или кисейной барышней, которой не место в гнездилище настоящих мужчин. В большинстве своем болельщики лишь зябко поднимают воротники курток — бессменной круглый год одежды, в которой единственным сезонным отличием является шарф осенней расцветки: не завязанный, небрежно перекрещенный, он болтается под полами куртки — вот оно, высокомерное презрение к превратностям климата, когда к ним нелегко приспособиться кошельку.
Знатоки в силу обстоятельств, они раздают ценные указания из-за боковой: «Бей, пасуй, отбивай от ворот», — хотя легко, конечно, сказать! Всякий раз, когда мы теряем мяч, они отворачиваются с досадой, всем своим видом как бы говоря: «Да на что тут смотреть» или: «Хватит, насмотрелись уже», — и впадают в отчаяние, будто от этого зависят судьбы мира. Но мир здесь ни при чем, просто, выражая досаду, они хотят показать публике, которая из них же самих и состоит, как увлечены они матчем, или, хотя бы, стараются убедить в этом друг друга. Ну почему он держит мяч, когда никем не опекаемый партнер по команде, прорвав оборону, сеет панику в рядах противника? Да тут чисто голевой момент, и мяч давно был бы в воротах, если б этот кретин (к примеру, я) не лез из кожи вон, чтобы удержать его у себя и испробовать свои финты — это когда вы делаете вид, будто хотите обойти защитника справа, он решает, что вы собираетесь проскочить слева, а на самом деле именно справа вы и будете его обходить, но тот, кто играет против вас, — белокурый огромного роста кровопийца, должно быть, потомок викингов, из тех, что в IX веке своими набегами повергали в ужас поселения в устье Луары, пока сами не осели там, — ничуть не смущенный вашими хитроумными уловками, одним движением плеча бесцеремонно отстраняет вас и, отобрав мяч, посылает его далеко вперед с видом человека, исполнившего долг. Однако безмятежно-скромное выражение его лица не может вас обмануть: вы явственно слышите восторженный рев стотысячного стадиона, звучащий у него в ушах.
И меньшего бы хватило, чтобы дрогнуть сметенному грубой силой художнику. Но тут одноклубник, прорвавшийся сквозь оборону противника, набрасывается на вас, как будто мало преподанного вам урока; перемежая слова и жесты, он воздевает руки к небу, потом роняет их долу и тычет пальцами вниз, показывая себе под ноги на клочок земли, который вовсе не является предметом спора, растолковывая вам, что был на этом месте и ждал передачи, готовясь положить — то есть, забить — мяч прямо в ворота, и сколько их было, таких прекрасных моментов, упущенных из-за вашего пристрастия играть в одиночку, как говорится, на себя, а это не что иное, как проявление крайнего эгоизма и полного непонимания смысла командной игры, требующей самоотречения, взаимопомощи, подчинения личных интересов общей цели, и уж лучше бы вы занялись рыбной ловлей, метанием дротиков или лазанием по канату. Но вот гул голосов прерывает этот спор, в котором один против всех и все против одного, оповещая о возвращении мяча, — в такого рода матчах он мечется, словно бесприютный эмигрант, с одной половины поля на другую, — вот тут-то они и увидят, как носком бутсы я сдержу бег скитальца. Это отработанное движение имеет неизменный успех у немногочисленных болельщиков, теперь им придется признать безупречность вашей техники, они еще пожалеют о том, что упрекали вас в безразличии к командной игре.
Если обычно мяч отскакивает от ноги, то сейчас — смотрите, не пропустите — он так и прилипнет к моему ботинку. Поднятая нога будет плавно двигаться назад вместе с мячом и мягко гасить его скорость, сводя на нет силу сопротивления. Чтобы лучше понять эту физическую задачу, возьмем два поезда, которые едут навстречу друг другу по одному и тому же пути. За несколько мгновений до неминуемого столкновения — ужасного, но не о том здесь речь — один из поездов подает назад, постепенно останавливая другой. Теперь попробуйте догадаться, кто тот доблестный хладнокровный машинист, который управляет локомотивом? Едва вы успели решить задачу со столкновением поездов, как вдруг откуда-то у вас из-за спины, воспользовавшись вашей минутной и вполне оправданной слабостью (вы уже упиваетесь заголовками передовиц: «Он спас тысячи человеческих жизней», — и любуетесь смиренным выражением собственного лица на фотографии во всю страницу: я только выполнял свой долг), предательски вырастает тот самый кровопийца и рывком просовывает голову между мячом и вашей ногой. На этот раз поезда все же сталкиваются. Треск расколовшегося черепа. Но что это, почему он не падает, погрузившись в глубокую кому? Вы ошеломлены и, словно жонглируя невидимым мячом, так и застываете с повисшей в воздухе ногой под улюлюканье кучки зрителей и вопли вашего проворного одноклубника: чего он ждет?! — поезда? Что ж, час вашего торжества еще не настал, но пусть будет вам сладостным утешением и слабым оправданием стекающая по лбу белокурого душегуба жидкая грязь. А если повнимательней приглядеться, только я один и не измазан в грязи посреди этого болота, что, учитывая все обстоятельства, согласитесь, просто чудо.
Я цепляюсь за этот трехгрошевый шик. За свое мнимое отличие, самопровозглашенное щегольство — например, в морозные дни обматывать вокруг шеи как бы невзначай подобранный в тон к футболке шарф. «Пижонство», — говорят они. Нет, главное для меня, если угодно, — не склонять перед вами головы.
Несколькими годами раньше, еще в те времена, когда я был футбольным фанатом, каким можно быть только в тринадцать лет, горевал после каждого поражения, отчаивался, не найдя своего имени в списках команды, не знал, куда себя деть в промежутках между чемпионатами, случалось, что в разгар матча я внезапно уходил с поля, никого не предупредив, вызывая недоумение игроков, судьи и собравшихся в воскресное утро на стадионе редких энтузиастов — отцов, которые приехали с сыновьями, захватив по дороге мальчишку-сироту: он стоял у магазина своей матери с сумкой в руке и, волнуясь, как бы о нем не забыли, ожидал, что кто-нибудь заедет за ним, — конечно же, он забирался на заднее сиденье, этот вечно зависящий от планов своих покровителей пассажир, он привыкал никого ни о чем не просить, обходиться без посторонней помощи, все делать по собственному разумению, даже если потом влетит за своеволие. Но что это с ним, какая муха опять его укусила? Да просто потекло из носа, а я не желал сморкаться в майку, как это было у нас заведено, или, как мои менее застенчивые одногодки, зажав одну ноздрю, выпустить из другой длинную соплю, указывающую направление ветра прежде, чем разлететься мелкими брызгами, после чего размазывать остатки по лицу рукавом. Мне эта процедура никак не давалась, я был робок, а тут нужно было забыть о сдержанности, перестать замыкаться в собственной скорлупе и, наклонившись вперед и слегка развернувшись, дунуть что есть силы, не останавливаясь на полпути, иначе — можно было представить, чем грозило промедление, поэтому я считал, что проще сбегать за носовым платком.
Но где это видано — убегать посреди игры, что еще за блажь? Я выслушивал упреки после матча по дороге в раздевалку или в то, что нам ее заменяло, к примеру, старый автобус, остов которого, непонятно как, притащил сюда, к месту его упокоения, ка-кой-нибудь трактор, возгордившийся тем, что не только плуг таскает за собой, и который теперь стоит, чтобы добро не пропадало, совсем как превращенный в курятник фургон в дальнем углу сада. Наш был «ситроеном» старой модели, тупорылым, как бульдог, с верхом шоколадного цвета, — такие еще встречаются на юге департамента, — шины у него были спущены, стекла разбиты и заменены брезентом, тут же кем-то изрезанным, сиденья вспороты, а из дыр торчали пружины и конский волос, но главное все же сохранилось: большой бакелитовый руль, педали и рычаг переключения скоростей, за которые всегда шла борьба между мальчишками.
Да разве можно покидать поле из-за пустяка? В ту пору от всякого невинного замечания, даже такого, как это, у меня на глазах мгновенно выступали слезы, и, чтобы они не хлынули ручьями, я должен был спорить до хрипоты, защищаться до последнего проигранного слова и думать про себя: они пользуются тем, что со мной нет его, а будь он здесь, мой рано умерший отец, все было бы иначе, — и, исчерпав все доводы, я начинал придираться к тренеру нашей маленькой команды, сидевшему за школьной партой когда-то очень давно, да и недолго. «Во-первых, так не говорят», — язвил я, а он, по профессии путевой обходчик, преданный футболу до самозабвения, с трудом сдерживался, чтобы не влепить дерзкому обидчику оплеуху, и останавливала его, должно быть, еще не растаявшая тень моего великого отца, которая острым клинком вырастала между нами из-под земли.
Так вот, вы только подумайте — хотя, пожалуй, лучше об этом и не думать — барахтаться вот так в грязи! Впрочем, игроков это ничуть не смущало, они уходили с поля перепачканные глиной, как победители матча Пари-Рубе в дождливые годы (из-за которых и родилась легенда о северном аде), под грязью невозможно было разобрать цвет майки, и оставалось загадкой, как удается им не ошибиться дверью, входя в раздевалку, поделенную на две половины — для хозяев поля и для гостей. Заметим мимоходом, что самые грязные из них не торопились укрыться от непогоды и оставались обсудить стратегию и тактику игры, — а это, если учесть царившую на поле неразбериху, не могло не вызывать восхищения, — они комментировали ход матча, вникали во все его перипетии, тем временем давая собеседнику возможность разглядеть свои боевые раны под глиняным панцирем, таким плотным, что порой казалось, случись вдруг резкое потепление, маловероятное, правда, в этих широтах, и они превратятся в глиняные статуи.
Но в чем действительно не откажешь этим виртуозам маскировки, так это в боевитости. Болельщики, жаждущие нашего пота, крови и слез (хотя слез меньше, чем всего остального), не скупятся на похвалы их врожденному таланту наводить тень на белый день: той резвости, с которой они несутся за мячом, бросаются под ноги противнику, принимают удары и пропускают голы, никогда не признавая себя побежденными. Такое упорство тем более примечательно, что мы нередко проигрываем — это почти обязательное воскресное событие, — а наши конечные цели неясны. Мы не тешим себя надеждой прорваться в высшую лигу или завоевать какой-ни-будь кубок, но и угрозы вылететь в низшую подгруппу тоже нет, поскольку, принимая во внимание наши результаты, мы принадлежим к последней категории, ниже нас — уже никого. Только мать сыра земля. А наша единственная цель, несокрушимая наша надежда — остаться хотя бы там, где мы есть. Команда аутсайдеров, бездарность на бездарности, отбросы на свалке загубленных талантов, отбракованные по возрасту: в восемнадцать они уже не годятся в команду юниоров, в сорок пять — упорствуют, не желая признать, что их время прошло.
Но самое удивительное — наблюдать, как этими ревнителями рукопашной схватки овладевает порой некое высшее чувство, сродни разочарованию, когда они вдруг понимают, какие титанические усилия растрачены впустую, и в памяти всплывают все полученные удары, которых никогда не излечит бальзам победы — в такие минуты они ропщут, намекая на то, что не все выкладываются во время матча, и бросают косые взгляды на предателя, который уходит с поля, сверкая чистотой, как новенький полтинник. Скажем, на меня. На самом деле, если ноги у меня и измазаны в грязи, то не по моей вине: просто какой-то неудачник поскользнулся в самый ответственный момент — не иначе как под ним просела земля — и ударил изо всех сил мимо мяча, подняв столб грязи, которая обрушилась на него самого и забрызгала всех вокруг. Едва разлепив глаза, он спешит все свалить на свои бутсы, разглядывает подошвы и, ничего не обнаружив, начинает возиться с неимоверно длинными шнурками, вновь обматывая вокруг щиколотки шестидесятисантиметровые концы, но никому и в голову не придет их укоротить — это все равно, что подрезать султаны на киверах. А если и это не покажется убедительным, у него в запасе есть еще одна возможность: опасливо (словно притрагиваешься рукой к горячей конфорке) пройтись по полю, припадая на одну ногу, изобразив гримасу боли под сплошной маской из застывшей глины. Ну нет, больше нас не провести. Отныне мы будем, как чумы, бояться этого безумца. И думать нечего о том, чтобы вступать с ним в спор. Пусть держит мяч, сколько душе угодно, пусть делает, что хочет, — предоставим ему полную свободу действий.
Мы же будем играть в свое удовольствие, стараясь не испачкаться в грязи, и, что бы ни случилось, не станем выдавать своего напряжения, подобно человеку, которого постигло горе, а он поет или мурлычет себе под нос, будто вспоминая забытую мелодию, или одинокому сторожу на маяке, который ни за что не опустится на четвереньки, преодолевая последние ступени, хотя тому свидетели только волны — они бьются об утес-великан, рассыпаясь сверкающими брызгами. Красоту движения мы предпочитаем результату и цели, слишком недостижимой, чтобы оправдать средства. Потому-то вы и недоумеваете, наблюдая, как я, повязав тонкий шейный платок, маневрирую среди луж, огибаю кротовые норы, эти миниатюрные вулканы, отмечающие опасные участки, которые лучше обходить стороной, увертываюсь от капель дождя, пасую противнику, делаю изящные пируэты, стараясь не споткнуться об лежащих на земле игроков, и забиваю гол прямо в руки вратарю, чтобы тот, чего доброго, не растянулся в грязной жиже, — хотя никто и не ждет от него эффектных выходов и подобных дельфиньим прыжкам зрелищных полетов, снятых ускоренной съемкой, которые так любят показывать по воскресеньям в спортивных передачах, — те, что сродни кадрам, запечатлевшим на пути в несколько световых лет движение Марса и Юпитера к межпланетному соединению, — вратарю же остается только протянуть руку или выставить ногу навстречу мячу либо, если удар покажется слишком сильным, прикрыть голову руками или подставить спину и зад, что порой являет удивительное зрелище.
Надо ли говорить, как раздражают болельщиков и моих ретивых одноклубников потуги безнадежного эстета. Между тем ничего другого мне не остается, и вот, как женщины в начале долгого пустого дня, конец которого теряется за горизонтом, заставляют себя причесывать ресницы, наносить на веки волну голубых теней, так и я в эти серые промозглые воскресные дни живу, будто двигаюсь короткими шажками танцора, — танцовщицы, — поправляют меня они, — извольте, как вам будет угодно.
Самое забавное, что ничего этого я не видел, виной всему ненадежное зрение близоруких, которым они отгорожены от всего мира, оно заключает в узких пределах четкую картинку с расплывающимися контурами, а дальше предметы теряют строгость очертаний, обрастают дрожащей оболочкой, словно окруженные рябью электронного облака. Такова физическая, можно сказать, научная данность: близорукий человек обладает микроскопическим видением вещей, способностью разглядеть струйки слезной жидкости вблизи сетчатки глаза.
Но на большом расстоянии от радужной оболочки мир попадает в переплавку, как в тигле алхимика. Возникает верленовское пространство, неявственное и неотчетливое, область неопределенности, импрессионистический пейзаж — размытые краски, туманные скопления, объемность акварели, растворяющаяся перспектива и распластанная глубина, смазанные силуэты, опавшие облака, потерявшие свою дородность, полотнище неба, натянутое, как театральный задник, электрические лампы в ореоле микровспышек, рассыпавшееся на атомы солнце, мерцающий ободок лунного диска в любое время года — та самая лунная корона, о которой говорят, что она к снегу. Так вот, ничего подобного: завтра будет хорошая погода. Ну что ж, мы учимся обходиться без прогнозов, без футурологов, прорицателей и иных прозорливцев, о новом дне мы узнаем с его приходом. День завтрашний вполне самодостаточен. Зачем готовиться к нему накануне? Куда нам предсказывать катаклизмы и мировые катастрофы трехтысячного года в маловразумительных катренах, мы слишком незначительны, мы не способны видеть дальше собственного носа, но уж во всем, что касается жизни муравьев, нам нет равных: тут ничто не ускользнет от нашего взора. Искусство детали — шепот ветра или шум дождя, — вот наш капитал.
А на границе видимости, в зоне туманов, самой неудобной для нас, все зависит от того, как подойти к делу. Возьмите, к примеру, этот зеленоватый, зависший над землею шар. В сотую долю секунды (вот что оттачивает остроту ума и способность к дедукции) вы отметаете одно предположение за другим: это не купол архитектурного сооружения в стиле собора Святого Петра в Риме, Дома Инвалидов или Валь-де-Грас, не летающая тарелка, которая по форме напоминает пиалу, не ядовитое газовое облако (война еще не объявлена), следовательно, перед вами дерево. Вы подходите ближе. Браво. Для пущей точности вы подпрыгиваете и срываете листок: резной край, короткий, почти отсутствующий черенок — черешчатый дуб. Разве орлиный глаз способен разглядеть такое? И потом, ни для кого не секрет, что все вещи, существующие на свете, столько раз описаны, изучены, выставлены напоказ и продемонстрированы со всех сторон, что никто не удостаивает их даже взглядом. Кажется, что знаешь их наизусть. Без малейших угрызений совести беспечно напеваешь веселый мотивчик «Это — Париж», хотя Париж уже совсем не тот, или не совсем тот, каким ты его себе представляешь. И пришлось бы превратить его в развалины, разорить и разрушить до основания, чтобы в песенке, да и то не сразу, появился еще один — ностальгический — куплет. Такова сопротивляемость сетчатки. Предположим, однако, что существуют изъяны в этой урезанной картине мира. Чудесные пейзажи, скажете вы, проходят мимо нас стороной. Да к чему они, эти пейзажи? Кто умеет ими насладиться? Насладиться в полной мере. Да вы смеетесь надо мной. В конце концов есть у нас «Вид Делфта», и достаточно вспомнить «Впечатление. Восходящее солнце», чтобы убедиться, что мы ничего не теряем.
Находясь на футбольном поле, можно легко обнаружить даже растворившийся в небе мяч. Ведь в пустыне вы сразу понимаете, что где-то поблизости труп, если, запрокинув голову, видите, что над землей кружит гриф. То же самое происходит с мячом. Он там, где наибольшее скопление игроков. Впрочем, как всегда борьба идет за шкуру все того же дионисийского козла, только на этот раз в ее новом виде, и даже не за шкуру как таковую, а за таящиеся в ней сверхвозможности. Не будь их, никто не стал бы раздувать вокруг этого козла столько историй, а значит, не было бы ни Авраама, ни греческого театра, ни футбольных матчей. Одни тоскливые воскресенья. И вот, время от времени вы приближаетесь, если, конечно, недалеко идти, к этому человеческому рою — из любопытства, просто чтобы навести справки, все рассмотреть получше, получить представление, — но иногда, к вашему удивлению, толпа собирается вокруг лежащего на земле человека, который корчится от боли, держась за ногу. На первый взгляд, не стоит сгущать краски, сцена вполне обычная, но как раз тут зрение и может вас подвести. Прежде чем обвинять раненого в симуляции, уговаривать не разыгрывать комедию и встать, проверьте, не образует ли его берцовая кость прямой угол. Иначе можно доставить некоторые неудобства, и не только потерпевшему.
Совершенно бесполезно бегать в течение всей игры по полю — дождитесь своего часа. Неизбежно наступает момент, когда мяч падает к вашим ногам. Напросились ли вы на это своим усердием и ваш человеколюбивый партнер отдал вам его из сострадания (а может, не знал, как от него избавиться) или, в полном соответствии с теорией вероятности, в игру вступил его величество случай, но получается, что дело теперь за вами.
Дело за мной? Хорошо, но тогда предупредите форварда, по-прежнему исправно прорывающего оборону противника, чтобы он не требовал отдать ему мяч. Все хотят поиграть и имеют право на развлечение. Пусть поймет меня и проявит хладнокровие: и так редко удается видеть мяч во время игры, а с моими диоптриями и подавно. В результате случайного сопряжения причудливых траекторий и скачков сейчас он оказался у меня, придет время — наступит черед форварда, и тогда его беспорядочная беготня в тылу противника принесет свои плоды (это называется «играть по-английски» — очень расплывчатое, вообще-то, понятие, оно сводится к тактике дальних ударов и спринтерских пробежек к линии ворот, когда становится неясно, идет ли речь о футболе, эстафете или о математической задаче, по условиям которой кто-то начисто лишенный смекалки собирает яблоки, разложенные в метре друг от друга, относя их в корзину по одному, так что ему приходится преодолевать расстояние, равное трем экваторам, что, согласитесь, очень затрудняет приготовление варенья, сидра или яблочного пирога).
Но теперь, когда мяч у вас, встает другая проблема: что с ним делать? В идеале хорошо было бы держать его всю игру, пусть он, как преданный пес, не отходит от вашей ноги, но виданное ли это дело. Впрочем, на такое стоило бы посмотреть, хотя за шкуру подобного солиста я не дал бы и гроша. Так что здесь лучше всего прибегнуть к хитрости. Например, сделать пас партнеру в надежде на то, что он отдаст мяч обратно. Это называется разыгрывать комбинацию и также пользуется успехом у болельщиков. Но поскольку нет никакой гарантии, что мяч вернется к вам (у вашего партнера могут быть на этот счет совсем другие планы), лучше сохранить его при себе. Самое неприятное, что за вами толпой бегут конкуренты. Поражает злоба, с которой они преследуют вас, будто свора гончих. Вы изо всех сил стараетесь обходить ловушки, увертываться от ударов, подножек, тычков, извиваться, чтобы вас не схватили за майку. Вы кружите, крутитесь, как пчела, угодившая в бутылку, мечетесь в поисках выхода из этого человеческого лабиринта, все больше удаляясь от ворот, — какая уж тут результативность, сплошные ужимки и прыжки, но главное, а ради этого вы и находитесь здесь, — мяч по-прежнему с вами, как приклеенный. Упрямо нагнув голову, вы не отводите от него взгляд, не реагируя на окрики, которые несутся со всех сторон. Вы чертите взглядом воображаемый конус, в котором заключен весь смысл вашего существования, его вершина восходит к вашему глазу, а в основании образуется замкнутое пространство, пределы которого не должен покидать мяч. Правда, если прислушаться к окружающим, именно этого и не следовало бы делать. Как можно, уставившись на свои ботинки, оценивать игру, готовить новые комбинации, рассчитывать ходы? Но пекущиеся о собственных интересах, алчущие зрелищ, что знают они о горизонтах близорукого одиночки?
Лет в двенадцать-тринадцать, в лучшие мои годы, бывало, собравшись вчетвером или впятером, сверстники в такие минуты пытались остановить меня. Вы скажете, что я испытывал их терпение, пользовался ситуацией, — разве что самую малость, но именно так и приобреталась репутация изгоя и отщепенца, эдакий налет отверженности. И что осталось от всего этого несколько лет спустя, после долгого перерыва? Мои ровесники выросли на три головы, раздались вдвое, раздобрели. Еще мерцают, точно тлеющие угольки, отблески жарко пылающего костра детства: время не пощадило их, они вот-вот погаснут, тихую моцартовскую мелодию заглушат фанфары муниципального оркестра. Они не поспевают за переменами, теряются в новой обстановке. А белокурый викинг, сошедший со своего «драккара», отлично осведомленный о том, что жизнь — жестокая штука, не утруждает себя красотами стиля, тонкостями и изысками. Так сужаются горизонты, и меркнут радости близорукого одиночки.
Хватит, пожалуй, кружить по полю, демонстрируя искусство поворотов. За нами последний аккорд, последние балетные па: резкий вираж вправо, маленький пируэт влево — и вот, подняв мяч ногой, вы чеканите его, отвернувшись от ворот, не зная наверняка, в какой они стороне — должно быть, далеко, слишком далеко, чтобы до них достать, — вдруг разворачиваетесь и наугад бьете по мячу изо всех сил, будто желая спровадить его подальше, расстаться с ним, как с детством, исчезающим в туманных далях. Все, на этом можно было бы поставить точку, но тут вы с удивлением видите победно поднятые руки одноклубников. Вы слышите пронзительную трель свистка арбитра и одобрительный гул голосов из-за боковой линии — это болельщики поздравляют друг друга с тем, что их на редкость мудрые советы — «бей, чего резину тянуть!», — принесли свои плоды, и тут вы понимаете, что без вашего ведома и вопреки всем ожиданиям мяч, проскочив между штангой и вратарем, оказался в воротах. Вам уже никогда не узнать, как вы его забили — должно быть, в верхний угол, чем иначе объяснить одобрительный гул голосов, все еще несущийся из-за боковой, — как дрогнула сетка ворот, но, разделяя радость болельщиков, вы тоже победно вскидываете руки. Какая досада, — должно быть, думаете вы, — что вам не суждено увидеть свои героические деяния. Но нет, вы стали свидетелем чего-то значительно более хрупкого и неуловимого: вы увидели, как судьба едва заметно улыбнулась вам.
След становился все бледнее, и сейчас, спустя несколько недель, оставался лишь легкий намек на тот синяк, что красовался на моем плече, но дружеские похлопывания моих всегдашних недоброжелателей, поздравлявших меня сегодня с забитым вслепую победным голом, несколько оживили воспоминания. И если мое лицо расплывалось в улыбке, то вовсе не потому, что я забил гол, как думали они (своим успехом я был обязан везению, порыву ветра, неуклюжести вратаря и отнюдь не обольщался на сей счет), улыбался я потому, что несколько недель тому назад стал тем, кто я есть, и вот теперь сижу на скамейке, раздевшись по пояс, склоняюсь над сумкой и ищу несуществующий тюбик с мазью в надежде, что кто-нибудь заметит мою отметину и отпустит игривое замечание, не оставляющее сомнений относительно ее происхождения. Но никто, даже Жиф, с которым я сыграл два-три испытательных матча, прежде чем меня определили в эту команду неудачников, ничего не заметил, и, вконец раздосадованный, я оделся, наспех умывшись под краном.
Для меня и речи не могло быть о том, чтобы мыться в общем душе, выставляя напоказ свое тело, подобно тем одноклубникам, которые как ни в чем не бывало разгуливали нагишом, вспоминая самые острые и стратегически важные фазы игры, пока я, зарывшись головой в сумку, делал вид, что разыскиваю мазь. Можно было подумать, что они, пользуясь моментом, хотят представить на всеобщее обозрение аргументы совсем иного рода, но нет — выглядывая из своей сумки, я не обнаруживал ничего из ряда вон выходящего, внушавшего беспокойство, и тогда охотно соглашался с тем, что после сегодняшнего исторического гола мне следовало бы чаще бить с дальней дистанции. Посмотри-ка, ты ничего не видишь вон там, у меня на плече? Тебе ни о чем не говорят глубоко отпечатавшиеся на теле следы зубов. Помнишь ли ты сказку про Золушку и ее башмачок? Так вот, если к этим отметинам ты будешь прикладывать по порядку все зубки на свете (для простоты — всех двадцатилетних особ женского пола, замеченных в наших краях), то разыщешь те, которые совпадут с отпечатками на твоем плече. К твоему сведению, а также ради удовольствия произнести лишний раз ее имя, я скажу: эта зубастая прелестница зовется Тео. Ах, ты и понятия не имеешь о том, кто такая Тео? Ну и вали отсюда, демонстрируй свое потрепанное мужское достоинство в другом месте.
А может быть, они просто не пожелали одарить меня словом, которое возвело бы меня в ранг мужчины. Между тем след от зубов Тео за эти недели поочередно сменил все цвета радуги, переходя от красного к синему, от желтого к фиолетовому, и уже приближался к обычному цвету кожи; ранка почти зажила, и одобрительные похлопывания бередили ее, будто впрыскивали новую дозу воспоминаний о ночи моей любви.
Тео не застала меня врасплох, прежде чем впиться в мое плечо, она предупредила, чтобы я остановил ее, если она слишком разойдется, но я воспринял ее укус как Божью кару, как своего рода ордалию, и не пикнул бы, даже если бы она прокусила кожу насквозь и вырвала кусок плоти из моего плеча. Да так бы все и было, не добейся она своего. Уже потом, чтобы загладить свою вину, на месте укуса она запечатлела невинный поцелуй и мельком осведомилась: «Тебе не было больно?» — «Что ты, моя нежная Тео», — ответил я, а сам провел рукой по плечу, проверяя не идет ли кровь.
Жиф был слегка разгорячен своим выступлением на общем собрании, где обсуждались лозунги, с которыми предстояло выйти на студенческую демонстрацию. Он не вытерпел и бесстрашно ринулся в бой. В ходе словесной баталии товарищи, которым не понравились властные интонации, прозвучавшие в выступлении Жифа, обвинили его в тайной приверженности консерватизму, а также пособничестве международной финансовой олигархии (его-то, нищего сироту и единственного из всей компании истинного монго-аустениста). Это заметно охладило его революционный пыл, заставило взглянуть на «общее дело» со стороны, и тут он весьма кстати вспомнил, что его жизненные интересы не сводились к партийной работе.
В деревне, где жила его бабушка, Жиф возглавлял спортивный клуб Амикаль Логреен, он развернул там вербовку новичков — очевидно, в пику товарищам, которые упрекали Жифа в том, что его работа в клубе — опиум для народа. Мы вновь сошлись с ним, встретившись после долгого перерыва, и у него вошло в привычку приходить ко мне в студенческое общежитие и (за бутылкой пива, которую он приносил с собой) посвящать меня в свои бесчисленные планы, при всяком удобном случае напоминая, что я согласился написать музыку к его будущему фильму и он рассчитывает на меня. В сущности, наши беседы были однонаправлены, как улица с односторонним движением, и он оттого пристрастился к ним, что находил во мне идеального слушателя. Даже обнаружив однажды на моем столе отрывки из объемного сочинения — пьесы, в которой я изобразил некоего двойника Артюра Рембо и толковал о невозможности его возвращения, — он не задал мне ни единого вопроса. И тогда с грустью и благодарностью я вспомнил Тео: только она одна проявила интерес к моему Жану-Артюру, а он, лишившись единственной поклонницы, пребывал теперь между жизнью и смертью, словно погруженный в глубокий сон, в ожидании прекрасной принцессы, которая придет и разбудит его поцелуем.
По правде сказать, если я и внимал с благосклонностью неиссякаемому словоизвержению Жифа, то исключительно в надежде хоть немного приблизиться к Тео: я хотел узнать какую-нибудь новую подробность из ее жизни или просто услышать ее имя. Но Жиф только один раз вскользь упомянул о ней, спросив встречались ли мы после демонстрации, и когда я, не желая с ним откровенничать, ответил отрицательно, он больше об этом не заговаривал, а снова пустился в воспоминания о Сен-Косме и наших школьных годах, заметив, что я тогда неплохо смотрелся с мячом на футбольном поле и, если память ему не изменяет, за мной не так-то легко было угнаться. Играю ли я по-прежнему в футбол? Нет, уже два-три года не подхожу к мячу, а почему такой вопрос? Просто, если мне нечем заняться по воскресеньям, то можно было бы записаться в Амикаль, а поскольку деревушка Логре, где находится клуб, совсем недалеко от Рандома, он сможет за мной заезжать, и вообще — как будет замечательно, если мы станем встречаться с ним еще и вне стен университета.
В сущности, я не был уверен, что игра мне по-прежнему интересна, именно поэтому в свое время и перестал ходить на стадион. По мере того как игроки взрослели, игра становилась все грубее, слишком грубой для быстроногих вышивальщиков тончайших узоров, искусных мастеров слалома, причудливых арабесок. В ней царил дух школьных переменок: самые сильные — в защите, слабые (и среди них, конечно, я) — на флангах нападения, как раз напротив дюжего верзилы, где их легче прижать к боковой. Там, как нигде, понимаешь насколько неравны силы вертящегося юлой мальца и напористого тяжеловеса. Все та же вечная история, Жиф. Вспомнить хотя бы знаменитое морское сражение в Морбианском проливе, когда парусники венетов столкнулись с римскими галерами. Кто, спрашивается, тогда победил? Кто виновник трагедии венетов? Цезарь? Нет, ветер, тот самый ветер, что непрерывно дует у побережья, а в тот день, как назло, подвел галльских моряков. И вот, когда уже казалось, что победа за венетами, вдруг установился полный штиль, паруса, дрогнув, повисли, как пустые бурдюки, прервав легкое скольжение по поверхности воды деревянных водомерок, которые еще мгновение назад трепали римские галеры, подходили к ним вплотную и, выпустив залп стрел, уносились вслед порыву ветра. И пока защитники Арморики безнадежно вглядывались в оцепенелое небо, вдали уже раздавался плеск кровожадных весел, мерно вспарывающих водную гладь, прокладывающих римским галерам прямую дорогу к заштиленным меж островами армориканским синаготам. Ты же понимаешь, римляне не церемонились с богами и не взывали к милости Эола, рассчитывая только на крепость своих мышц. А дальше все яснее ясного. Оставалось лишь закинуть крючья и взять на абордаж суда своих врагов, еще немного — и завяжется рукопашная, в которой мастерство владения оружием столкнется с наукой о ветрах и течениях, а пока длится состояние неопределенности, еще можно выглядеть уверенным в победе, но когда вечер сойдет на неподвижные воды, отступившие к менгиру Лок Мариакера, когда мелкий дождик омоет лица павших, лежащих на голубом иле среди розовых луж, а ночь Атлантики взорвется криком легионеров, все будет кончено: от гордой независимости Арморики не останется и следа. Сам знаешь, что из этого получилось: римские термы, короткие мечи, латинские спряжения — rosa, rosae — известное дело. И все-таки обидно, Жиф. Снова, уже в который раз, организованная размеренная сила неумолимо теснит легкую кавалерию, а той остаются лишь сомнительные, ничего не значащие победы, даже не победы вовсе, а так, красоты стиля, искусные пируэты, изящные антраша.
Жиф не был уверен, что уловил смысл моего рассказа: как поражение венетов могло повлиять на мое решение вернуться к тренировкам, и хочу ли я сказать своим рассказом, что победы итальянских команд на чемпионатах Европы и мира имеют глубокие исторические корни. Я не ответил ему решительным отказом, я колебался, не желая упустить возможность внести (пусть самым незатейливым образом) разнообразие в свои тоскливые воскресенья, он нужным словом сумел сломить мое сопротивление. Я выражал неудовольствие, ссылаясь на свое нежелание исполнять формальности, Жив обещал все взять на себя: добыть необходимые справки и подписи, единственное, что от меня требовалось, — две фотографии, тут уж он никак не мог меня заменить (и хорошо, если учесть, какие на нем были очки), а действуя со мной таким образом, вы легко добьетесь своего. Так я облачился в форменную майку клуба Амикаль Логреен, зеленую с синим воротником (замечу мимоходом, что наш выход на поле приветствуется громким утиным кряканьем) — и это помимо моей воли, на безрыбье. Нехитрое лекарство от собственного одиночества.
Памятуя о моих былых подвигах, Жиф объявил меня спасителем, который приведет Логреенских «селезней» в высшую лигу, поэтому число болельщиков в день моего дебюта удвоилось — к примеру, с четырех до восьми. Впрочем, первые же произнесенные вполголоса комментарии, а также скептические гримасы явно свидетельствовали о том, что моя персона не вызывает у зрителей особого восхищения: «Не увидев его в деле, мы не будем ставить под сомнение его таланты, — словно говорили они, — но на вид ваш мессия уж больно щупловат. Конечно, когда он ведет мяч, то есть когда ему подали этот мяч на блюдечке с голубой каемочкой, он, может быть, и не плох, для цирка вполне сойдет, но его трюкачество не приносит никаких плодов, если вообще не играет на руку противнику, что, безусловно, очень по-христиански: не отвечая ударом на удар, вслед за правой щекой подставить левую, — но разве в этом цель игры? Цель игры в том, чтобы забивать голы. Так тот ли это избавитель, который в два счета возведет храм наших славных побед?»
Жиф поднял слишком много шума вокруг моего появления. Разочарование было так же велико, как и надежды, которые он пробудил. Однако решено было дать мне время освоиться, присмотреться к партнерам, привыкнуть к их стилю игры. Я получил еще один шанс. Но и в следующее воскресенье все выглядело не намного убедительнее, хотя Жиф старался вовсю, его длинные волосы то развевались сзади шлейфом, то плясали у него перед глазами, он носился по полю из конца в конец, при каждом удобном случае отдавая мне мяч, чем только навлекал на меня гнев товарищей, винивших во всем мое пристрастие играть на себя и сокрушавшихся о стольких упущенных по моей милости возможностях.
И все же удивительно, до какой степени Жиф оставался верен себе. Так он играл еще в Сен-Косме: неутомимый поборник всех безнадежных, заведомо проигрышных комбинаций, он во всю прыть готов был бежать за мячом даже тогда, когда всем было ясно, что мяч уходит за боковую, — но теперь эта его способность ценилась очень дорого, а я, в прошлом трюкач и артист, стал всеобщим посмешищем, и в конце концов еще и утешал его, после того как мне было предложено демонстрировать свое искусство во втором составе Амикаль Логреен, будто был виноват в том, что предал его воспоминания — последние отблески детства.
К тому же я сразу потерял шофера. Жиф не мог больше заезжать за мной, поскольку наши команды играли в разное время, и теперь мне приходилось добираться до Логре на велосипеде, а в те дни, когда мы играли на чужом поле, доезжать до места на попутке либо с кем-нибудь из игроков или сопровождающих — так я вернулся к старым своим привычкам, от которых, как мне казалось, избавился навсегда. Я был все тот же, что и в детстве — ни гроша в кармане, вечно зависящий от чужих милостей сирота.
Нас было двое таких — горемык без водительских прав, ожидавших у кафе «Спорт», когда кто-нибудь соизволит их подобрать: придурковатый человечек по прозвищу Проныра и я. Нас свели обстоятельства, мы принадлежали к братству отставших от современности. Найдется ли в ней место для двух дурачков? Впрочем, Проныра почти официально был признан слабоумным. И если он не водил машину, то этому, по крайней мере, было свое объяснение: он не умел ни писать, ни читать или читал так плохо, что перед входом в раздевалку ждал условного сигнала, чтобы ненароком не доставить в стан противника два мяча, за которые он отвечал.
В этих двух мячах заключался весь смысл его жизни. Он уносил их домой, натирал до блеска, хотя в том не было никакой необходимости (мячи имели пластиковое покрытие), и они, как два солнца, сияли на дне сетки, которую он носил за спиной под зеленой накидкой с капюшоном, доходившей ему до пят, отчего сам он становился похож на крохотного горбуна. Ростом Проныра был не более метра сорока и весил соответственно. Меня смущала эта нелепая кличка, и однажды я спросил, как его зовут, но он категорически отказался назвать свое имя и только повторял: «Да, Проныра я, Проныра, с самого детства, как есть, Проныра. Проныра — здесь, Проныра — там, хи-хи, все знают Проныру», — и хихикал, втягивая голову в плечи, при этом колени его подгибались, он становился еще меньше, будто всем своим видом хотел доказать, что способен пролезть в мышиную нору. Ну я и не стал ему возражать, раз уж он так дорожил своим прозвищем, и в результате, когда однажды он заехал к нам в Рандом, мама, к великой радости гостя, приветствовала его: «Здравствуйте, господин Проныра». Если он еще жив и по-прежнему до блеска драит мячи, то, верно, все так же рассказывает эту историю: «Представляешь? Здравствуйте, господин Проныра!», — и, приосанившись, поправляет воображаемый галстук, а потом принимается упрашивать кого-нибудь из игроков: «Ну скажи: господин Проныра», — за что получает нагоняй суровее обычного.
Как-то раз — и это была скромная дань нашему братству — я поручил ему держать свою скрипку. Весь матч он стоял с ней в обнимку у кромки поля, ревниво оберегая от любопытных, которые уговаривали его открыть футляр, а он только крепче прижимал скрипку к груди как бесконечно дорогую вещь, согревал, как ребенка, теплом своего тела, и был готов умереть на месте, только бы не выпустить ее из рук. «Эй, Проныра, а ну-ка изобрази нам что-нибудь на своей игрушке», — подначивали они его, а он им в ответ: «А вы, пьянчужки, чем зубы-то скалить, гоняли бы себе мяч», — а они ему: «Ну что, Проныра? Принес пушку — всех возьмешь на мушку?», — а он, наставляя на насмешника дуло воображаемого автомата: «Не подходи, а то пожалеешь». Скрипка словно добавляла ему ума, придавала значительности, и, когда он после моего победного гола схватил меня за саднящее плечо, то весь так и светился от радости, а волосенки топорщились на темени, как у лже-Стена Лорела: «Это скрипка принесла тебе удачу, хи-хи, хорошо, что ты отдал мне ее, хи-хи, все дело в скрипке», — и, прижав к себе футляр, который доходил ему почти до самого подбородка, он принялся выделывать какую-то невообразимую джигу, переступая своими коротенькими ножками — несколько шагов вперед, несколько шагов назад — и качая головой, как заводная игрушка. «Они у нас еще попляшут! Ты только приноси с собой скрипку — уж мы им покажем!» — кричал он, и брызги его слюны, как залпы салюта, летели над стадионом.
II
Если бы не Жиф, я ни за что не вернулся бы в спорт. Возвращение — штука сомнительная и не сулит ничего хорошего. За редкими исключениями, как например, Расин, через двенадцать лет после Федры тайно писавший для воспитанниц Сен-Сира. Не вернулся, если бы не Жиф и не мое воскресное одиночество. Тут уж ничего не поделаешь, воскресенье почти неизбежно разочаровывает: наверное, в самой его сути изначально присутствует некий конструктивный изъян, и в таком подарке после шести дней подневольного труда мерещится какой-то подвох. По этому поводу уместно привести афоризм Жифа: подобного рода дьявольские подачки хозяев грозят ужесточением потогонной системы.
Но в коллеже в течение всей недели мы ждали воскресенья как избавления. Вся наша жизнь была подчинена электрическому звонку: по звонку начинались и заканчивались уроки и перемены, по звонку мы ели и ложились спать, и только в субботу в пять часов пополудни он возвещал о нашем освобождении. Однако и думать было нечего о том, чтобы расслабиться до срока, поскольку впереди уже маячил свет в конце туннеля: нас часто задерживали после звонка, в чем некоторые учителя находили особое удовольствие. И горе тому, кто невольным вздохом, покашливанием или просто взглядом, брошенным на часы, дерзнет намекнуть на то, что урок затянулся. Наказание следовало незамедлительно: письменное задание провинившемуся и лишних десять минут отсидки для всего класса, а это означало, что одни опоздают на автобус, а другие (в дни, когда штормило, они с тревогой поглядывали в сторону моря) — к отплытию парома, который ходил в устье реки, связывая левый и правый берег.
Жиф был самым дерзким, а значит, и самым смелым из всех; однажды, когда нас в очередной раз задержали после урока, он демонстративно собрал свой портфель, закрыл его, встал и, игнорируя гневные взгляды учителя, вышел из класса, громко стукнув дверью. Понятно, он тогда уже знал, что в конце учебного года его выгонят из коллежа (в Сен-Косме Жиф отучился только шестой класс), но все равно была в его поступке потрясшая нас удаль. Притом все это выглядело ужасно смешно: выходя из класса, он запустил поверх наших голов бумажный самолетик, на котором было написано что-то вроде «идиотом будет тот, кто сие прочтет», — а именно это не преминул сделать наш наставник, развернув злополучный самолетик. Тридцать человек, сидевшие перед ним, замерли от ужаса, боясь не удержаться от хохота. И как тут было ему поступить? Разумеется, нам продлили урок еще на десять минут.
Именно поэтому мы с опасением относились к выходкам Жифа. Сначала ждали предъявления коллективного счета, и лишь потом готовы были разразиться рукоплесканиями. Конечно, это было не по-товарищески, но от нас — задерганных всевозможными придирками и не желающих преумножать их — большего ожидать не приходилось. «К тому же, — думали мы, — он вошел в роль, заработал себе авторитет, эта завидная и опасная роль льстит ему, несмотря на связанный с ней риск». Да, он платил немалую цену за образ героя, смутьяна, школьного хулигана, он подставлял себя под удар, иногда в самом прямом смысле (пощечины Жиф сносил, не моргнув глазом, тем более что его очки, одна из тех бесплатных моделей, которые полностью оплачивает соцстрах, со временем приобрели не очень эстетичный вид и являли весьма курьезный пример асимметрии: левое стекло провалилось и сидело в глазу, как монокль), но все же это было лучше, чем дрожать перед опросом, молить Бога, чтобы тебя не вызвали к доске, и целовать украдкой, притворно кашляя в кулак, крестильный образок, висевший на груди.
Доска в классе была зеленой, что привносило современную ноту и вполне соответствовало архитектуре нашего коллежа, два симметричных крыла которого — два высоких бетонных корпуса с фасадами кремового цвета, с широкими проемами окон, полукружьями боковых пристроек, плоской крышей, — обрамляли невысокую, стоявшую вровень с пристройками центральную часть здания с крытым прямоугольным входом посередине, забранным зеленой решеткой, — он представлял собой парадный подъезд; здесь же размещалась каморка привратника. Типичная послевоенная постройка, какие встречаются в Сен-Назере, в Гавре, Бресте, Руайяне, Лорьяне — во всех портовых городах, разрушенных в войну и отстроенных заново, с нуля, где по прямым проспектам гуляет ветер. Сен-Косм стоял у самой кромки моря, что придавало ему вид пригородной виллы, в которой собрались сливки местной учащейся молодежи. Все это не позволяло нам жаловаться на жизнь: как мы могли объяснить, в таких-то условиях, что настроения прошлых веков пережили в нашем коллеже налеты союзной авиации?
От черной доски так и веет косностью, отсталостью, манихейством, а весенняя расцветка нашей доски, висевшей над кафедрой возле учительского стола, сулила некоторые вольности в обращении с законами природы, допускающие, к примеру, что сумма углов треугольника «как бы» равняется «где-то» двум прямым углам. Так вот, эти «где-то» и «как бы», эта порочная приблизительность, оборачивались для нас наихудшими унижениями. Если ученик не выпаливал быстро и четко точный ответ, начиналась жестокая игра в кошки-мышки, и нетрудно угадать, каким образом в ней распределялись роли. Пока кто-нибудь из нас в роли мышки — скажем, я, если уж кто-то должен быть жертвой, — застыв с мелом в руке, испуганно наморщив лоб, лихорадочно соображал, как бы исхитриться и подогнать поточнее три условно существующих угла разобранного на части треугольника, исполнитель роли кошки — назовем его господин Фраслен — терял терпение и, вооружившись большим деревянным циркулем, вместо того, чтобы вставить в медный наконечник со съемным кольцом новый кусок мела, демонстративно трогал указательным пальцем иглу. Но только на сей раз он и не думал чертить круги на доске, он собирался задать вопрос сродни тем, что звучали под сводами средневековых острогов, и инквизитор Фраслен, выделявшийся светским платьем среди сборища черных сутан, откинув назад длинную темную прядь, падавшую ему на лоб, долговязый, костлявый, в брюках, которые спускались гармошкой на ботинки, вынимал из кармана зажигалку и, искоса поглядывая на вас, подносил к огню острый конец циркуля, тщательно прокаливал его, поворачивая, как вертел, а когда опасность заражения патогенными микробами была предотвращена, колол этим стерильным копьем заартачившегося математика пониже спины, и непонятно было, наказывал ли он таким образом невежду-ученика или старался острием иглы навострить его ум.
Процедура была не столько болезненной, сколько — скажем не шутя — не на шутку мучительной. Сопровождалась она хихиканьем одноклассников, воображавших, что, смеясь над себе подобным, они выставляют себя в выгодном свете и в следующий раз их минет чаша сия, будто этого можно было избежать. А у вас с каждой минутой все больше путались мысли, вы из последних сил готовились к решающему броску, напускали на себя глубокомысленный вид, глядя, как за широкими окнами большие белые птицы с посеребренными крыльями парили, свободные и беззаботные, резвились на ветру, вскрикивали в радостном возбуждении, плыли по воздуху, поднимались вместе с восходящим потоком и внезапно застывали на фоне синего квадрата неба, а потом, качнув крылом, стремительно уходили в сторону и исчезали из поля зрения, не оставляя в бездонном небе никакого ответа. Тогда в отчаянии вы вопрошали взглядом сидевших перед вами товарищей в надежде прочитать на губах у какого-нибудь всезнайки намек на решение, но все они были слишком запуганы, а Жиф, наверное, ничего не знал.
В эту минуту полного одиночества вам ничего не оставалось, как написать на доске любую цифру, наобум, после чего немедленно следовал неодобрительный укол циркулем. «А почему не 1515?» — говорил ваш пикадор, сопровождая вопрос тычком. Вы поспешно стирали неверный ответ, поднимая белое облачко пыли. Вдруг приходило прозрение: если треугольник вписывается в круг, то сумма его углов должна быть меньше 360°. Теперь главное не перепутать знак неравенства — положенную на бок букву «V». Не забыть бы: меньшее число проглатывает большее. Все хорошо продумано. Логика безупречна. Да, видно, не совсем. Укол оказался таким сильным, что вы ударились головой о доску. Дружный смех. Над чем смеетесь? Все упражнения на странице 127 — к завтрашнему дню. «Ладно», — думаете вы. Не тут-то было. Вам, кроме того, еще написать сто раз: сумма углов треугольника — будь она неладна — равна двум прямым углам.
Вся эта унизительная возня была не для Жифа, который из-за его положения и обычных умонастроений удостаивался особого обращения — и более снисходительного, и более сурового одновременно. И это было справедливо, потому что, по чести сказать, мы не могли равняться с ним. Когда с высоты своих двенадцати-тринадцати лет он дерзко оглядывал коллежское начальство, мы могли записать себе в графу гражданского неповиновения разве что едва заметную гримасу за спиной классного надзирателя, да и гримасничали мы, опустив голову и прикрыв рот рукой. А он, хитрая бестия, почуяв неладное, резко оборачивался, чтобы застать врасплох незадачливого бунтовщика, и мы, не дожидаясь вопроса, как ни в чем не бывало поспешно уточняли: «А я что, я ничего, господин надзиратель», — или еще того лучше: «Это не я, господин надзиратель». Но даже такой робкий протест — невинная шалость, пустяк — давал нам право не взирать на подвиги Жифа с немым восторгом, а коль скоро главное — участие, а не результат, нам было что поставить себе в заслугу, мы тоже показали себя смельчаками, разумеется, в меру своих возможностей, но в конце концов судить надо по намерениям.
Теперь мы дерзко прерывали его рассказ: «Вот и я тоже». Стоило Жифу нарисовать на доске человечка — нолик плюс нолик равняется физиономии Тото (предельно стилизованный портрет: вписанные в круг ноли вместо глаз, плюс вместо носа, знак равенства — рот), а вездесущий «И-я-тоже» уже рассказывал о том, как утащил валявшийся на полу кусок мела, дошел до двери, подталкивая его ногой, как мяч, а там нагнулся, будто собираясь застегнуть ранец, и поднял мел, хотя это было совсем непросто: во-первых, могли заметить учителя, что имело бы, сам знаешь, какие ужасные последствия, а во-вторых, его можно было нечаянно раздавить, и тут уж на первый план выступали преимущества дриблинга и легкого касания мяча, а этим не каждый мог похвастаться (Жиф, например, на поле отличался способностью без устали бегать за мячом, но техникой не владел) — ты что же, мне не веришь? думаешь, я вру? (Жиф ничего не думал, просто ему было тошно смотреть на хвастливую лягушку, воображавшую себя быком, но терявшую самоуверенность перед любым начальством) — да вот же, посмотри! — и мелок, извлеченный из кармана вместе с кусками сахара и перепачканным чернилами платком, оказывался под самым носом Жифа в качестве вещественного доказательства — ну что, съел?
После восьми тридцати, когда гасли светильники — белые шары под потолком, такие же, как в магазине, принадлежавшем нашей семье, — часто один лишь Жиф часами простаивал на коленях на холодных плитах дортуара, да так и засыпал, прислонившись к стене, а неподалеку, в специально отгороженном закутке, располагался надзиратель — его силуэт просвечивал сквозь кремовую занавеску, точно в китайском театре теней. Он сидел за столом, склонившись над учебником при тусклом свете лампы, прикрытой платком, чтобы не беспокоить спящих (отметая тем самым наш немой вопрос: как можно спокойно заниматься, сидя возле измученного, униженного ребенка?), и с видимым удовольствием, явно желая нас уверить в том, что у него глаза на затылке, оборачивался всякий раз, когда наказанный Жиф тихонько присаживался на пятки. Из этого следовало, что он только делал вид, будто поглощен своими занятиями, а на самом деле главным для него было утвердить над нами свою неограниченную власть. И пока Жиф стоял два часа на коленях и терпел издевательства Цербера, иной раз выражая неудовольствие, чем навлекал на себя ужесточение наказания, «И-я-тоже», в сумерках (потому что ночи в спальне были светлые, и даже после того, как наш страж гасил свет, лунное сияние прибрежных фонарей проникало сквозь неплотно задернутые тяжелые зеленые занавески) зарывшись с головой под одеяло, бесстрашно показывал мучителю «нос», тем самым выражая свое несогласие с жестокой расправой, учиненной над его товарищем. В ответ от Жифа ждали еще и благодарности за подобное геройство, признания того, что только благодаря этому никем не замеченному сопротивлению палач-надзиратель в конце концов отправил его, Жифа, спать.
Наказания сыпались на голову Жифа без счету, а он и не тревожился о том: километры строчек в тетрадях (напишите дополнительно сто строк — это задание он редко выполнял), часы, проведенные в классе после уроков или за дверью во время занятий (при этом не было никакой уверенности, что Жифа можно было застать на указанном месте), вызовы к старшему надзирателю (по прозвищу Жужу — он был еще не самым худшим из всей компании, хотя и обладал суровой внешностью, чем был обязан своему блуждающему из стороны в сторону глазу, которым высматривал чаек за окном, пока вторым метил в вас — а вас тем временем так и подмывало спросить, да что же такого натворила эта смеющаяся птица с красным клювом и капюшоном, как у бетюнского палача, за какие провинности ее собираются засадить теперь на два часа после уроков — очевидно, кто-то не так истолковал ее громкий насмешливый крик, — но тут все становилось на свои места: «Я ведь с тобой говорю!» — чайка здесь ни при чем, она, в отличие от вас, ни в чем не виновата), а еще были вечные придирки, запреты уезжать на воскресенье, на которые Жиф — сирота, приемыш в чужой семье — отвечал напускным равнодушием. Но стойкость Жифа все же не оставалась незамеченной, и его преследователи, снисходя к его семейному положению, порой проявляли к нему удивительную мягкость.
В этом по-монастырски суровом мире молчание было правилом, которое соблюдалось неукоснительно, исключение составляли двор, куда мы выбегали на переменках, и наша трапезная — но и там нужно было дождаться предобеденной молитвы, произнесенной по-французски: «Господи, благослови нашу трапезу», — на что, стоя каждый у своего стула, молитвенно сложив руки и всем своим видом выражая притворную отрешенность от всего мирского, мы отвечали «аминь», а Жиф — «тьфу ты черт» (не заостряя внимание на этой кощунственной фразе, надо признать, что еда наша не отличалась изысканностью), после чего вышеупомянутый Жужу громко хлопал в ладоши, подавая летающим за окном чайкам знак, который с некоторым сомнением мы относили также и на свой счет — рассаживались по местам, и поднимался галдеж. Конечно, не очень громкий. Лишь намек на настоящий гвалт, обычно сопровождаемый метанием творога или пюре и иного рода меткими бросками, которые мы пытались изобразить, отчего наши ложки превращались в мортиры и требюше, нацеленные в товарища или в лампы на потолке, а средний палец, упиравшийся в черенок, служил предохранительным клапаном — наши надзиратели при этом проявляли чудеса бдительности, призывая нас к порядку всякий раз, когда звуковая волна, отражаясь от оконных стекол и кафельного пола, достигала критической отметки и шум превращался в общий гул. Тогда раздавался новый хлопок, еще более звонкий и энергичный, чем первый: нас просили сбавить тон, предупреждая, что в противном случае мы будем обречены молчать до самого конца обеда под звон стаканов и стук вилок и ложек о тарелки. Но больше всего удивляло то, что в этой атмосфере цистерцианского аббатства в центре внимания был совсем не Жиф, а один тихий мальчик — образец скромности в обычной обстановке: он громко рыгал, и в том находил способ самовыражения, используя свой поразительный дар издавать эти звуки по просьбе товарищей. Общий вольный смех звучал тем более уверенно, что в столовой мы не боялись шалостей, которые могли обернуться против всех. Страдал только один наш чревовещатель; зарабатывая в наказание неизменные сто строк «я никогда больше не позволю себе подобных нелепых выходок», он пытался оправдываться: все рентгеновские снимки подтверждали, что у него аэрофагия. Он торопливо задирал рубашку, выставляя на обозрение воздушный мешок, ставший причиной всех его бед, однако от него ждали вовсе не этого: пусть лучше приставит руку ко рту и… — очередные сто строчек были ему обеспечены. Но какое значение имели они в сравнении с минутой всеобщего признания?
На уроках мы и думать не смели о такого рода вольностях. Рот можно было открыть исключительно по сигналу наставника, что не сулило ничего хорошего. Того, кто обычно знал урок, к доске никогда не вызывали: ведь если он и так все знает — всегда один и тот же ученик — зачем его вызывать? Но именно это и не давало ему покоя: его тяготили знания, которыми он не мог щегольнуть перед всеми и от которых ждал большего, нежели хвалебного отзыва на первом листе работы, не предназначенного для чужих глаз, ему хотелось, чтобы о его неоспоримом превосходстве узнали другие. Иногда он совершенно забывался, в нетерпении тянул руку и, досадуя на своего невежественного соседа, начинал даже щелкать пальцами, чтобы привлечь к себе внимание, и было ему, несчастному, невдомек, что наше начальство намеренно не замечает его с высоты своей кафедры. В результате такой настойчивости его звонкое щелканье оборачивалось против него самого. И тогда, растеряв все преимущества, которые давали его знания, он, как простой двоечник, получал задание: переписать сто раз во всех временах и наклонениях «в классе не принято щелкать пальцами», впрочем, это не составляло для него большого труда, поскольку он блистал во всех областях — и в грамматике, и (что уже совсем несправедливо) в спорте. Но, по правде говоря, он расплачивался за свои отличные отметки: наказание должно было снять всякие подозрения в пристрастном отношении к любимчикам.
Если к доске не вызывали ученика, знающего урок, то единственно затем, чтобы спросить того, о ком было доподлинно известно, что он урока не знает и никогда знать не будет, разве только случится нечто невероятное. А тот все прекрасно понимал и потому прятался за спиной товарища, стараясь стать совсем маленьким и незаметным, вжимался в парту, точно желал благодаря чуду — какой-нибудь немыслимой мимикрии — слиться с поднимающейся деревянной крышкой, пока наставник в поисках жертвы обводит взглядом класс, выбирая самого невежественного из всех, ни на минуту не задумываясь о том, что в этом невежестве отчасти виноват он сам. Вот он задержал свой взор на правом ряду парт, и вы внезапно ощутили невыразимое облегчение с примесью сострадания к бедняге по ту сторону прохода, а, впрочем, какая разница — он или вы. Когда-нибудь наступит и ваш черед. Но вдруг вытянутая рука вашего ментора резко отклоняется от направления взгляда, образуя с ним тупой угол, и указательный палец внезапно останавливается на вас, а за ним следует и улыбка — учитель, наконец, поворачивает голову в вашу сторону: он счастлив — его грубая шутка снова удалась.
Да, так и есть, он вызвал именно вас, а вы увязаете в мыслях о преследующем вас чудовищном невезении и, конечно, отвечаете на вопрос одним оторопелым, бессмысленным молчанием. Теперь вы, кажется, начинаете понимать, что он (ну, скажем, Фраслен — пусть отдувается за всех, и нет в том никакой несправедливости, если учесть длинный список его злодеяний) просто хочет поднять вас на смех глупейшим вопросом, типа: «А и Б сидели на трубе, А упало, Б пропало, что осталось на трубе»? Ну что? Отвечайте, что? Что-что?! И словно подставляя голову под гильотину, вы даете ожидаемый ответ. Ну, молодец! Дважды дурачина, трижды простофиля, четырежды болван! Сидеть тебе на осле, сто миллиардов раз написать: «Я сижу на осле», — во всех временах и наклонениях, во всех лицах, на всех языках, чтобы всё на свете узнали: вершина глупости, Монблан скудоумия высится в нескольких метрах над уровнем моря, в коллеже Сен-Косм. И далее: Сен-Назер, департамент Луар-Атлантик, Бретань, Франция, Европа, планета Земля, Солнечная система. Млечный Путь, Вселенная.
Преподаванию катехизиса, разумеется, отводилась изрядная доля времени в этом мире сутан — сделаем оговорку: некоторые преподаватели, среди них и старший надзиратель Жужу, недавно скинули длинные монашеские облачения, из-под которых выглядывали грубые, тяжелые башмаки, — черные рясы, перехваченные завязанным на животе поясом, наверное, специально для того, чтобы закладывать за него большие пальцы рук, — и надели строгие темно-серые костюмы протестантских пасторов с черной рубашкой, белым стоячим воротничком (единственной деталью, оставшейся от прежнего одеяния) и серебряным крестом на лацкане пиджака, чтобы их случайно не спутали с каким-нибудь заурядным щеголем; однако, обретя в таком наряде нормальный человеческий вид, они вполне могли всерьез задуматься о том, не вступить ли в законный брак.
На уроке речь шла о тайне Бога, единого в трех лицах, о Троице (Бог есть Отец, Сын и Дух Святой), одном из основных догматов, вокруг которого разгорелись жаркие споры на Никейском и Константинопольском Соборах, где спорящие схлестнулись друг с другом из-за отношений внутри Троицы, единосущности Бога-Сына (рожденна, несотворенна) Богу-Отцу. Жиф разрешил эти споры по-своему, ни с того ни с сего заявив, что эта троица фаворитов — беспроигрышный вариант на скачках. Весь класс замер в каком-то метафизическом ужасе. Ангелы, натыкаясь друг на друга, летали над нашими головами в оглушительной тишине. Мы ждали, что вот сейчас разверзнется земля и с небес на голову богохульнику прольется огненный дождь, а наш духовный наставник обрушит громы и молнии из своей карающей десницы. Но ничего подобного не произошло, и тишайший Жужу, обратив один глаз долу, а другой нацелив на Жифа, — тишайший, поскольку требовалось немалое смирение, чтобы не распять нечестивца за этот выпад — лишь строго сказал ему, что такими вещами не шутят, и вновь углубился в ученые дебри, объясняя различия между ересями, отрицавшими единосущность: омиусианами (говорившими о сходстве, но не идентичности сущностей — что, в общем, ничего не проясняло), омиями (считавшими сходство не субстанциональным, — это также не вносило ясности) и аномеями (суть их учения сводилась к следующему: «Отец есть отец, а Сын не есть отец»).
Но в конце концов все привыкли к выходкам Жифа. Привыкли и всякий раз, затаив дыханье, ждали его реакции. Столкнувшись с вопиющей несправедливостью, непростыми обстоятельствами, комичной ситуацией, мы думали в первую очередь о том, что же выкинет Жиф? Впрочем, он иногда не делал ничего особенного — безучастный ко всему происходящему, изменившийся настолько, что порой казалось, будто он устал нести в одиночку непосильную ношу неповиновения. В такие дни он становился на удивление усидчивым и внимательным, тянул руку, горя желанием ответить на вопрос, радовался, получая грамоту за примерное поведение, расстраивался из-за неправильного ответа так, что грешно было потешаться над ним, и наш наставник, чтобы не лишать его надежды и поддержать неокрепшие стремления, брал на себя смелость утверждать, что ответ не очень уж и плох, — это призвано было оттенить замешательство бывшего смутьяна. В такие минуты мы были почти готовы поверить в чудо раскаявшегося грешника. Но торжество часто оказывалось преждевременным, а плоды обращения к добру слишком хрупкими, поэтому всем классом мы старались помочь Жифу в его становлении на новом пути, опасаясь, как бы он снова не впал в грех. Мы настраивались на его волну, и вот уже весь класс — тридцать примерных учеников — вместе с Жифом с интересом следил за судьбой розы в саду императора Адриана.
А учитель латыни обращался именно к Жоржу-Иву (фамилия его была Франсуа или что-то в этом роде, в сокращении и получалось Жиф): «Отчего дательный падеж употреблен здесь вместо отложительного?» или «Жорж-Ив, назовите нам пролив, где произошло знаменитое сражение римлян с венетами» и, конечно, «Жорж-Ив сможет повторить нам те слова, которые произнес в сенате мстительный Катон… Delenda est… Ну, Жорж-Ив, de-len-da est?». И вдруг вместо ответа раздавалось коровье мычание, оно неслось из маленького металлического цилиндра, который достаточно было перевернуть, чтобы послышались звуки. «Жорж-Ив, немедленно отдайте мне игрушку!»
В сущности, тот восторг, фантастический взрыв ликования, которым был отмечен конец недели в Сен-Косме, был недолгим — вырвешься из коллежа и вдали от него переведешь дух, бросив сумку на землю, обратись лицом к морю. А дальше все так и мелькает у тебя перед глазами: автобус, верфи, рабочие, выходящие на остановках в каждой деревне, наконец, через час с небольшим приезжаешь к себе. Вечером, послонявшись немного по дому, с удовольствием растягиваешься в постели, а наутро все кончено, день уже отравлен тоскливыми мыслями о возвращении.
Молодежная футбольная команда обычно играла в воскресенье по утрам, а после обеда ты начинал мысленно упираться изо всех сил, цепляться за каждый час, лишь бы время не бежало так быстро, ты поглядывал на ходики на кухне, неумолимо ведущие роковой счет минутам — и за уроками, и когда играли в карты, и позже, когда смотрел все подряд по телевизору, включая интерлюдии, в которых рисованный поезд-ребус мчался по натуральным пейзажам. И еще до того, как приходило время собирать вещи на следующую неделю, ты заболевал при мысли, что назавтра уже окажешься в коллеже, и воскресный вечер был окончательно испорчен.
Долгое время мы выходили из дома по воскресеньям только для того, чтобы навестить отцовскую могилу, и в конце концов наши походы на кладбище превратились в еженедельные воскресные прогулки. Кладбище находилось в стороне от городка — такое встречается повсюду с тех пор, как покойников выселили за пределы церковной ограды, — и эти пешие прогулки вошли у нас в привычку, поскольку глава нашего семейства покоился под серой гранитной плитой. Расстояние до кладбища было небольшим, но в одиннадцать лет все оцениваешь глазами ребенка, и несколько сот метров по детским масштабам превращались в настоящую экспедицию.
Так, помимо своей воли, ты становился знатоком по части погребений. Едва заходил разговор о смерти, похоронах, кладбище, невосполнимых потерях, безутешном горе и неизбывной скорби, ты начинал напряженно вслушиваться: это обо мне. Тебе было, что сказать в ответ. Что же? Да ничего. Ты слушал с понимающим видом. Ты знал об этом не понаслышке. А что, собственно, ты знал? Что такое бывает. И вот, неожиданно для самого себя, ты стал завсегдатаем в царстве теней, ты жил в нем, точно рыба в воде. И лишь много позже ты раскаешься в своем желании выглядеть эдаким бывалым танатологом, так как именно к тебе придут за советом в скорбных обстоятельствах и именно ты будешь составлять для всех подряд письма с соболезнованиями. Своим глубокомысленным «это бывает» ты только и приобрел что уменье виртуозно ломиться в открытую дверь, ну да, такое случилось именно с тобой, то есть, естественно, не с тобой самим, иначе ты не делился бы сейчас пережитым, но с кем-то из твоих близких — таким близким, что ты не отделял себя от него, и частица тебя самого, — говоришь ты, — ушла вместе с ним. Но все это, в конечном счете, говорится всего-навсего для того, чтобы вымолить хоть немного жалости к себе, даже если ты с гневом и отметаешь подобную мысль.
И потому, когда вам зададут сочинение на тему «Воскресный день в деревне», ты будешь долго сидеть в раздумье, грызть карандаш и смотреть вдаль, мысленно перебирая одну за другой расхожие, годами проверенные истории (как я столярничал с дедушкой, ходил на рыбалку с бабушкой, искал птичьи гнезда с кузинами), пока, наконец, не придет озарение, не наступит момент истины, и, отбросив все небылицы переживающих кризис жанра школьников, ты ухватишься за эту идею и поведешь обстоятельный рассказ о ваших походах на кладбище.
В этом рассказе будет все. Сначала описание пути по центральной улице, которую здесь называют дорогой на Париж, что одновременно и несколько помпезно (хотя и призвано расцветить нашу жизнь далекими столичными огнями), и явно преувеличено — очень уж узка проезжая часть (в том месте, где улица выходит на площадь, пришлось даже срыть угловой полуразрушенный дом, когда здесь застрял один из первых комбайнов — огромная по тем временам машина). За городом тротуары вдоль дороги исчезали (вовсе не по суровому решению коммунального совета; они просто растворились, как река, уходящая в песок: сначала разрушились бордюры, потом потрескались и раскрошились цементные плиты). Мы шли вчетвером по траве у обочины, гуськом, чтобы не попасть под колеса дышавших нам в спины легковушек и грузовиков, и показывали чудеса эквилибристики, балансируя между асфальтовой кромкой и канавой, а это давалось нелегко, особенно, маминым каблучкам: она хотя и носила вдовьи одежды и сохраняла все атрибуты аскетичной вдовьей жизни, но так никогда и не решилась надеть туфли без каблуков, и до сих пор ее, неугомонную, узнают по торопливой, неотделимой от нее семенящей походке.
Сразу за поворотом, там, где дорога спускается под гору, появлялась каменная, сложенная из сланца стена кладбища, по верху которой росли полевые травы: левкои, маки, ковыль. Несколько крестов возвышались над склепами местных аристократов — единственных покойников, которым не страшна была бы непогода, если бы в день их неожиданного воскресения вдруг хлынул дождь, — а выше всех был крест часовни, окруженной кипарисами. Черная кованая решетка ворот, ощетинившаяся золочеными наконечниками копий, все время была закрыта. Открывалась она для того, чтобы пропустить похоронную процессию, а остальные посетители кладбища входили через маленькую деревянную дверь в стене, примыкавшую к воротам; щеколду на двери заедало, а петли скрипели, словно призывая всех приходящих сюда к молчанию. Оказавшись за этой дверью, мы понижали голос и старались идти на цыпочках, чтобы гравий не скрипел под ногами, а он, как снег, скапливался у края дорожек и у редко посещаемых могил, становясь подобием визитной карточки.
Здесь можно было обнаружить весь существующий перечень надгробий: фамильные склепы, памятники и плиты, каменные саркофаги с изъеденными временем надписями (уцелевшие, вероятно, со времен старого кладбища), простые холмики над захоронениями, братская могила, на которой выделялась апсида со сферическим сводом и дверью над колодцем, наполовину заполненным черепами и костями, и самые скромные (оттого и самые распространенные) стандартные серые цементные бордюры, огораживающие прямоугольный клочок земли, посыпанный песком или мелким гравием — белый, круглый, похожий на драже, гравий лежал на детских могилах, точно запас сладостей на долгую дорогу.
Впрочем, наше пребывание на кладбище не ограничивалось минутами благоговейного молчания, проведенными на могиле отца. Можно сказать, мы были здесь одновременно и судьями, и соучастниками, потому что безвкусная мишура, почти полностью покрывавшая некоторые могилы, поставлялась, по большей части, нашим магазином: и букеты цветов, и венки из стеклянных шариков, раскрашенных под жемчуг, перевитые лиловыми лентами с выписанными серебряной краской надписями, появлявшимися благодаря нашим стараниям и призванными причудливым сочетанием степеней родства поведать прохожему о щедрых дарителях (что прибавляло нам хлопот, когда, к примеру, в числе прочих непременно желал быть упомянутым кто-нибудь из зятьев шурина), и черные мраморные доски, призывающие молиться о спасении усопшего, который тут же глядел на вас с портрета в овальной рамке под выпуклым стеклом, так что порой казалось, будто изображение доходит до вас из глубины могилы через перископ, и стеклянные шары с фигуркой Девы Марии Лурдской или композициями вроде букета для новобрачной, ну и, конечно, полный набор керамических цветов с бордовыми чашечками и торопливыми мазками пестиков и тычинок — хотя по части искусства имитации с ними уже соперничали недавно появившиеся пластмассовые цветы, которые мы, идя в ногу со временем, частенько расхваливали нашим клиентам.
Они весьма отдаленно напоминали настоящие цветы, но наш довод, что, заплатив цену одного живого букета, можно украсить могилу на целый год, действовал безотказно, покупатели становились не так придирчивы и прижимисты и уверяли, будто цветы совсем не отличишь от настоящих, разве что не пахнут. Однако пластмасса со временем трескалась, а краски выцветали от непогоды, к тому же оставался еще один повод для огорчения — число сортов было невелико, и набор — исключительно классический: розы, тюльпаны, гвоздики и анютины глазки. Вот, собственно, и все, но и этого немногого было довольно, чтобы разыгрывать роль цветочницы: долго перебирать цветы, создавая разные сочетания, менять их местами, гнуть металлические стебли — вот преимущество искусственных цветов перед живыми — потом выравнивать ножки, подрезая их кусачками, и, держа букет перед собой в вытянутой руке, оглядывать его со стороны, оценивая результат и время от времени вопрошая взглядом скорбящего родственника, который смотрел на вас полными слез глазами. Едва он переступал порог магазина, а мы по его скорбному виду уже узнавали в нем своего клиента, и не успевал он выразить малейшее желание, как мы приглашали его спуститься по лестнице в подвал, где располагался небольшой отдел похоронных принадлежностей. Мы с таким жаром принимались ублажать его, мы проявляли столько терпения, глядя на то, как он битый час тер в нерешительности подбородок, не зная на чем остановить свой выбор, что в конце концов его горе начинало казаться нам искренним и неподдельным. И тут дело не обходилось без уступок вкусам публики и эстетических гримас. Если безутешный родственник покойного искал у нас поддержки, соединив красные розы с белой гвоздикой и фиолетовым тюльпаном, мы проявляли милосердие и, чтобы не усугублять его горе, не предлагали ему добавить к букету морковной ботвы, полагая, что только эмоциональный шок от утраты дорогого существа заставил его забыть о хорошем вкусе. Мы кивали головой, не выказывая, впрочем, подобострастного восторга, каковой мог вызвать подозрение (деревня очень неуверенна в своих представлениях о так называемых красивых вещах и потому очень мнительна в этом вопросе), мы не возражали, всем своим видом будто говоря, что сами не решились бы на это, но почему бы не рискнуть.
В следующее воскресенье мы спешили найти на кладбище злополучный букет, сопровождая находку замечаниями о невинной жертве, упокоившейся под ним, не заслужившей такой злой участи, какой бы неправедной ни была ее жизнь.
Мы с гордостью смотрели, как выглядела на общем фоне отцовская могила: строгая, без излишеств, массивная плита из серого крапчатого гранита с двумя наклонными плоскостями (наклон был небольшим, но достаточным для того, чтобы на плиту невозможно было поставить вазу, не выплеснув из нее воду) — и эта строгость, казалось, подчеркивала наше горе. Цоколь на ладонь выступал из-под могильного камня, а впереди прямо в камне было выдолблено трапециевидное углубление, из которого густой порослью тянулись вверх стебельки бегонии, выбранной нами не столько за ее красоту (хотя во время цветения она добавляла к общей картине оранжево-красный тон), сколько за устойчивость к суровому океаническому климату. Эти растущие в граните стебельки, словно пробившие толщу самого твердого камня и проложившие себе дорогу к свету, как будто говорили, что можно по их примеру вырваться из окаянной могилы.
Высеченный из монолита большой рельефный крест, лежавший на могильной плите, также выделялся среди целого леса крестов, стоявших над могилами, точно часовые на посту. Среди них преобладали образцы из кованого железа, выкрашенные суриком, из тех, что можно было видеть на перекрестках сельских дорог, и бетонные сооружения с цилиндрическими или четырехугольными перекладинами. Ни звезд, ни полумесяцев, ни друидических камней или наискось срезанных колонн не попадалось за этой оградой. Одни крестоносцы, не по своей воле собравшиеся здесь, спали в земле, дожидаясь Судного дня и Воскресенья плоти.
Порой мне казалось, что отец лежит в могиле, прижавшись к этому гладкому, без распятия, кресту, и нам надо лишь поднять его, как поднимают обелиск, устанавливая его на постаменте. Мы ощущали реальное присутствие отца под плитой. И, охваченные этим ощущением, понижали голос, приближаясь к его могиле. Мы тщательно подбирали слова, как в те времена, когда он был еще жив и нам можно было позволить себе некоторые вольности, но только тогда, когда он нас не слышал. Никаких неуместных выражений в его присутствии, никаких ругательств, пошлостей или жаргонных словечек. Сам он, стараясь быть нам примером, никогда не опускался до вульгарности и, разве что стукнув с размаху молотком по пальцу, разражался громогласной бранью, выпаливая целую очередь крепких выражений, в которых святое имя Божье было приправлено изрядной долей богохульства.
То, что отец по-прежнему внушал нам робость, означало, что он где-то здесь, поблизости. А иначе, почему мы так внезапно замолкали перед его могилой, хотя еще у кладбищенских ворот прохаживались по поводу пресловутого букета, ну разумеется, не слишком, атак, как приличествовало этому месту? Да потому, что он бы этого не одобрил. А значит, он был где-то рядом. Как будто играл с нами в прятки, и в ту минуту, когда стихал скрип гравия под ногами, нам казалось, что вот теперь-то уж точно «горячо», что стоит поднять могильный камень и мы узнаем, откуда исходит это тепло, и выманим спрятавшегося из укрытия. Но это было бы слишком жестоко. В каком виде предстал бы он перед нами, наш уличенный, загнанный в ловушку отец, вынужденный вернуться к жизни, которой он, очевидно, не слишком дорожил, коль скоро бросил нас на этом свете одних топить свое горе в океане слез. И мы подхватывали эту игру, делали вид, будто ищем и никак не можем найти его. Мы покорялись горькой судьбе, оставляя его в своем печальном убежище, навеки укрывшегося от глаз живых.
Чтобы не прослыть сумасшедшими, мы притворялись, будто верим, что плоть его тлеет в могиле, кости белеют и со временем под действием кислотности почвы и грунтовых вод тело обратится в прах. Таков общепринятый взгляд, и благоразумие подсказывало, что лучше смириться с ним. Когда же мы стояли над отцовской могилой, как у края бездны, сложив руки на животе, опустив головы, молчаливые, сосредоточенные, с влажными от слез глазами, и шептали молитву «Отче наш, Иже еси на небесех…», словно молитва эта обращена к нему, мы всем своим нутром чуяли, что все совсем не так, как думает большинство, мы знали: смертного тлена нет. И все свидетельства или результаты эксгумации бессильны были бы нас убедить в обратном. В самых отдаленных закоулках души, в этом бастионе молчания, куда проникают лишь отголоски земной жизни, в этом сопротивляющемся очевидным истинам и свежим доказательствам пространстве, где бродят странные мысли, в самой сердцевине твоего «Я», откуда рвется к нему, увенчанному славой, невнятица слов, — там его тело неподвластно тлену.
Образ отца не был точным слепком с его земной оболочки, он только воспроизводил ее в общих чертах, — верно, для того, чтобы облегчить узнавание, — опуская такие подробности, как рисунок губ или морщинки в уголках глаз; но он не смог бы напомнить забытый цвет глаз и не помог бы вам, если бы с годами выветрились из памяти родные черты. И как бы ни был не точен этот образ в изображении деталей (оставаясь верным лишь духу ушедшего, нашему представлению о нем), у него оставалось одно преимущество перед бренным телесным обличьем — он лучше сопротивлялся разрушительному действию времени. Ему не страшны были даже провалы в памяти. Вы спросите почему? Да потому, что это — лицо самой утраты, сотканное из пустоты, которую оставил после своего ухода умерший.
Порой, когда мы стояли у могилы, присутствие его было так осязаемо, что сама мысль о разрушении плоти казалась нелепой, и ты вдруг ловил себя на том, что поднимаешь глаза к небу — туда, где в твоем сознании запечатлен внушающий уверенность, полный сострадания и умиротворенности лик ушедшего. И отражение его лица — это ощущение света и покоя, влекущее по ту сторону зрительного образа, — настолько явственно, что ты запрокидываешь голову и жадно ищешь его следы в облаках. Но видимый мир немедленно вступал в свои права: на небе — ни знакомого силуэта, ни абриса улыбки, нет даже малейшего голубого просвета, на которые так скуп наш край, но который мог бы, если не утешить, то хотя бы помочь избавиться от чувства подавленности. Только низкие черные тучи идут накатами или тянутся клоками грязной ваты с запада на восток; тяжелые, набрякшие от испарений океана, они катят волнами на разной высоте, одни быстрее, другие медленнее, и порой кажется, что они пускаются в бега, не желая задерживаться над этой землей: верхние и нижние слои расходятся в разные стороны, направляясь — одни кратчайшим путем, а другие в обход по северной дороге. Точно скитальцы, не знающие покоя, или орды варваров с Атлантики, отправляющиеся завоевывать мир, они несутся лавиной, и в их рядах царит такой беспорядок, что тонкие стружки тумана отделяются от нижних облаков, как самые слабые особи, вытесненные из бегущего стада, как омертвевшая кожа, сброшенная поднебесьем, как паруса корабля-призрака, которые полощутся на ветру, цепляются за верхушки деревьев и растворяются вдали.
Убедившись, наконец, что тебе не дождаться от неба ничего, кроме ветра, туч и дождя, ты опускаешь в тоске голову и закрываешь глаза. Но едва ты успеваешь осознать свое разочарование, как на экране век вновь возникает сияющее лицо на небес-но-голубом фоне.
И знаете, чем обернулось для меня это задание? Вспомнить хотя бы церемонию вручения работ: учитель стоял посреди класса и раздавал или пускал по рядам проверенные сочинения, сопровождая каждое из них откровенно насмешливым комментарием (только молчание его означало похвалу); слова учителя вызывали дружный смех, эдакое подобострастное блеяние, к которому пытался присоединиться и сам осчастливленный автор, желая всем своим видом показать, что, каким бы сильным ни было его огорчение, он умеет честно признать свое поражение и посмеяться над собой.
Заботясь об эффектной концовке, наш ментор начинал то с самой лучшей, то с самой плохой отметки — в зависимости от того, хотелось ли ему продлить томительное ожидание отличника и тем самым посеять в его душе зерно сомнения или приберечь на закуску отпетого лоботряса и двоечника. Жиф, привыкший к последнему месту по успеваемости, всегда встречал скептической улыбкой самые пессимистические прогнозы учителей, утверждавших, что такие неутешительные результаты не сулят ничего хорошего в будущем, но его уже не было с нами. Жифа выгнали из коллежа в конце первого же учебного года: его шалости перевесили даже такое смягчающее обстоятельство, как неблагополучное семейное положение. Вернувшись после каникул, мы с грустью отметили его отсутствие — нам предстоял безрадостный год. Так все и получилось, а спустя несколько месяцев, после рождественских каникул, я впервые предстал перед одноклассниками в образе сироты.
Сочинение о воскресном дне лишь напомнило об этом. Я с нетерпением ждал результатов, думая, что своим рассказом о походе на кладбище, по крайней мере, не повторяю неизбежных в таких случаях историй о рыбалках и прочих вымыслов, которые всегда кстати в подобных ситуациях, ведь здесь не требуется никаких доказательств: почему бы, к примеру, не попросить заложить между страницами сочинения тридцатикилограммового карпа или сотню-другую плотиц из того чудесного улова? Мне же нечего было бояться: любое расследование на местности только подтвердило бы, что все происходило именно так, как я описал, за исключением, разве что, позолоченных наконечников копий в решетке кладбищенской ограды — наша память порой смешивает воспоминания, переставляя их, заимствуя какую-нибудь деталь, замеченную, к примеру, у здания префектуры, но в главном я не боялся разоблачений, да и потом, какой бездушный критик способен отяготить убийственным вердиктом свою совесть, добавив новых огорчений к чужому горю.
Листки с сочинениями расходились по классу, оценки становились все ниже, число претендентов на последнее место уменьшалось. И вот уже учитель держал в руке последнюю работу и потрясал ею в воздухе, как будто говоря «такого вы еще не видывали», словно это гвоздь программы, «сам не увидишь — не поверишь, этот всех перещеголял», а я единственный из класса еще не получил своей отметки. Сейчас прозвучит приговор, и вместе с ним на мою голову обрушатся наихудшие оскорбления. А дрожащий листок будет подхвачен порывом ураганного ветра и унесен вдохновенным потоком целой птичьей стаи слов.
На весь класс было объявлено, что последнее место по успеваемости — твой дебют. «Ну и как вы себя чувствуете в новой роли самого отстающего ученика? — допытывались у тебя. — Ведь раньше с вами не случалось ничего подобного?». Ты слабо протестовал, качая головой, пытаясь сказать, что уже бывал в сходной ситуации. На самом же деле все это было для тебя совершенно необычным. Просто, не соглашаясь с учителем, отрицая новизну своего положения, ты пытался смягчить резкость его слов, хоть на минуту омрачить триумф своего безжалостного прокурора. Довольно жалкий ответный удар, недолгая передышка. Все равно последнее слово остается за ним. «Справедливо ли, что только первые ученики поднимаются на пьедестал почета? А ведь такое сочинение — сущий подвиг, — листок в его руке снова колышется из стороны в сторону. — Итак, забирайтесь на парту и кричите „кукареку!“». Он взял тебя за руку, помогая подняться на скамью, и торжественно протянул твое сочинение: листок был испещрен на полях и между строчками красными чернилами — замечаниями, зачеркнутыми словами, исправлениями, — словно залит струями крови, как израненный бандерильями бык; а тебе было невдомек, чем же ты провинился перед учителем, чем вызвал такую злобу, ты с трудом сдерживал потоки неминуемых слез; стоя на своем пьедестале, ты видел из окна море, оно скалилось, разбиваясь о скалы, бросалось на волнорез, расстилало пенную пелену на прибрежной гальке, отмечая орнаментом из бурых водорослей границу прибоя; и тебе вдруг открылась вся полнота твоей оторванности от мира, ты понял, что все против тебя, даже океан, если он не хочет по-братски помочь, поглотив Сен-Косм, исторгнуть из бесполезной стихии бурлящую волну, которая, обрушившись на берег, положит конец твоим страданьям; тебя поразило, что мир, трусливо пользуясь уходом того, кого с нами больше нет, словно от безделья, ополчился на тебя, и тебе наконец открылось, как ты беспомощен и одинок.
Было ли то предчувствием предстоявшей череды испытаний? У меня очень рано проявилась склонность к слезам. А этот дар — явно не подарок. На кого ты похож — хнычущий по пустякам? Достаточно обидного замечания или проявления внимания, а слезы тут как тут, стоят, как часовые, в уголках глаз, готовые пролиться при малейшем волнении. Просто диву даешься, где только спрятаны те бассейны с соленой водой, от которой набухают веки, переполняясь влагой, хотя внешне все выглядит совсем иначе, и представляется, будто раздувшиеся от водянки веки опорожняются после сеанса слез, но самое неприятное, что эти безудержные слезы текут иной раз совсем не к месту. Они совершенно неуправляемы: сердце остается спокойным, по крайней мере, ничто еще не предвещает пожара, а система противопожарной безопасности уже включилась сама собой. Помимо твоего желания. И нет никакого средства сдержать слезы. Только ненадолго, если упрямо глядеть в сторону океана широко открытыми глазами, проклиная его за то, что он глух к твоим страданьям. Однако из собственного опыта тебе известно: едва моргнешь глазом, и водная линза, неизвестно как удерживающаяся у зрачка, возьмет и рассыплется, прольется бесконечным потоком, который тебе не усмирить, отчего ты станешь еще уязвимей и из-за столь явного проявления излишней чувствительности немедленно попадешь в разряд слабаков, а это весьма опасное определение в школьном мире. И еще до того, как все придут в восхищение от подобной чувствительности, до того, как записной нытик превратится в эдакого монстра сострадательности, — в чем, конечно же, нет ни малейшей доли истины, — тебе придется долго сносить язвительные шуточки так называемых бывалых, тех, кто не способен отличить душевную черствость от самообладания и кто от отсутствия бед ни за что на свете не решится обнажить свои чувства.
Так вот, в этой области у меня сложилась прочная репутация. Один только пример — прошлогодняя история, произошедшая в то время, когда уже недолго было до беды, но все наши домочадцы еще были в сборе.
Приходившие письма нам раздавали за обедом, обычно, во время десерта; все конверты вскрывались, о чем благоразумнее всего было предупредить своих корреспондентов, чтобы они не подвели вас неосторожным словом. А письма, отправляемые из коллежа, внимательно прочитывались, анализировались и комментировались в присутствии самого сочинителя, если ему, признававшему редкие достоинства здешней кухни, все же удавалось ввернуть между строк несколько сдержанных замечаний по поводу вкусовых качеств, ну скажем, омлета с лапшой. При этом он стоял напротив цензора в его кабинете, а тот с вышеозначенным письмом в руке зачитывал ему сомнительный пассаж, и потом критику-гастроному приходилось долго оправдываться по поводу непомерных притязаний и их пагубных последствий, кои не могут не сказаться на добром имени Сен-Косма, этой обители благоденствия, о чем ярко свидетельствует его местонахождение у самой кромки океана. Все нам завидуют, а месье, видите ли, привередничает, не соблаговолит ли месье написать три тысячи раз рецепт омлета с лапшой, и не забудьте про соль, а то придется все переписывать сначала. Вечером в понедельник мы отсылали домой свои табели, и Жиф, не поддерживающий ни с кем настоящей переписки, пользуясь случаем, писал своего рода наказ третьего сословия, который предназначался вниманию начальства. Так, в одном из писем он рассказывал, что самое мучительное — не долгое стояние на коленях, к которому принуждал его надзиратель в дортуаре, а то, что последний, располагавшийся в непосредственной близости от него, много дней подряд не менял носки. Что было общеизвестно. Случай ли помог или внушение начальства, но с того дня наш поборник дисциплины исправился.
В том письме, однако, не было ничего страшного. Просто тетя Мария, наша старая тетушка Мария, которую внезапно выгнали из монастырской школы, где она проработала пятьдесят лет, и которая в последние месяцы изнывала от скуки в своем маленьком домике, упала и сломала руку. Сломанная рука — это еще не конец света: врачи накладывают гипс, после чего все расписываются на нем, сорок дней в гипсе — и порядок. Даже если нельзя поручиться за подписи на загипсованной руке, поскольку старая учительница на пенсии вышла из этого возраста, не вызывало сомнений, что вскоре, как только кость срастется, тетушка снова примется за свою работу, которая состояла в переписывании молитв, чем приумножался ее духовный капитал и без того немалый благодаря дням отпущения грехов. То есть в самой новости не было ничего катастрофичного, и, по всей видимости, она даже не являлась главным поводом к написанию письма, которое протягивал мне тишайший Жужу, уточнив, должно быть, лишь для того, чтобы подбодрить меня, что в нем нет плохих новостей — так, ничего страшного. Ему самому пришлось пережить подобные неприятности несколько лет тому назад, и он уже совершенно от них оправился. В подтверждение чему он заиграл бицепсами, сгибая и разгибая руку в локте. Здесь становится ясно, что читать чужие письма — дело весьма деликатное, требующее в определенных обстоятельствах исключительного такта.
Однако даже после такой подготовки ты безоружен против богини Тефиды, покровительницы вод, и слезы, готовые хлынуть в любую минуту, подстерегают тебя, затаившись под веками. И вскоре моя порция творога утопала в слезах, и ее пожирали грустными глазами семеро моих соседей по столу, у которых вошло в привычку делить между собой содержимое моих тарелок, а потому, когда все рассаживались по местам, я пользовался среди своих товарищей большой популярностью.
В первый год учебы в коллеже я испытывал отвращение к еде, совершенно не похожей на мамину стряпню, и питался только хлебом с маслом и сахаром: за завтраком я добавлял двенадцать с половиной кусочков сахара в наш и без того переслащенный кофе с молоком. Его подавали в больших алюминиевых кружках, которые привозили на тележках из трубок кремового цвета две старенькие щупленькие усатые монахини в сковывающих движения черных платьях из толстой ткани и белых фартуках, под которыми висели четки. Кожа под монашескими головными уборами шелушилась. Исполняя суровый обет, они так давно не выходили на свет божий без косынок, что это не могло не сказаться на их волосах. Не нам ли объясняли, что свежий воздух — залог гигиены и здоровья? Войдя в класс, учитель первым делом открывал окно и пояснял: запах — как в вольере с хищниками. (После чего с этими хищниками обращались, как с амебами, улитками, ягнятами и прочими тварями, в зависимости от настроения, но главным образом — под влиянием мнения, которое наш наставник составил о своем зверинце). Жизнь животного мира под косынками наших монахинь приближалась, скорее, к различным видам микрофлоры, жестко накрахмаленная белая ткань раздражала кожу и придавала высокому челу с тревожными признаками облысения очертания «а ля Борис Карлоф»; неопознанные чешуйки кожи плавали на поверхности нашего кофе с молоком, а мы никак не могли разрешить вопроса об их происхождении. Ну, как тут было обойтись без двенадцати с половиной кусков сахара?
Благодаря таким беспримерным деяниям я быстро прославился. Охваченный сомнениями Сен-Косм сходился в полном составе за завтраком (мы вставали в шесть пятнадцать и к этому часу уже успевали отсидеть один урок, а после заутрени перейти в часовню и отстоять хвалитны, бормоча себе под нос что-то неразборчивое) и, будто Фома Неверующий, вместе со мной отсчитывал двенадцать с половиной кусков сахара. Невозможный, непостижимый, несносный, я губил свою жизнь, свой организм, свою поджелудочную железу. Поговаривали о моем самоубийстве, намекали на то, что я хочу покончить собой, потеряв все зубы (у меня и правда выпали два коренных зуба, сгнивших до основания, — видишь, деточка, сладкое вредно для зубов, ну, так и быть, если очень хочется, съешь, детка, еще одну конфетку). Даже Жиф, уподобившись самому последнему ябеде, говорил, что сахарный сироп в моей чашке такой густой, что половина сахара не растворяется. Я, и верно, обнаруживал на дне стакана целые куски, но они, как предметы с Титаника, рассыпались в мелкую крошку, едва их извлекали на поверхность. В итоге в чайной ложечке оказывался один сироп. Но если вдуматься, больше всего толпу сомневающихся занимали эти полкуска — результат долгого терпеливого экспериментирования, неудавшихся опытов и досадных ошибок. И мне приходилось объяснять, едва сдерживая слезы, что тринадцать — слишком много, а если положить двенадцать, получится несладко.
Придерживаясь такой масляно-сахарной диеты, я в первый год вырос всего на четыре сантиметра, а мои товарищи, впадая в безвкусие, поедали омлет с лапшой и консервированный компот из яблок, а потому тянулись вверх и раздавались в плечах. Не забывайте, что им при этом доставалась лишняя порция, которую, заручившись моим разрешением, они присваивали: разыгрывали в орлянку или делили между собой. Оттого предусмотрительный Жиф, опасаясь, как бы поток слез не залил тарелку с творогом, незаметно придвинул ее к себе, потихоньку запустив в нее ложку, и протянул руку — дай-ка мне взглянуть — за письмом, пытаясь выяснить из первоисточника, какая трагедия принесла всем нам такие огорчения. Подобная скорбь могла объясняться истреблением, по меньшей мере, всей моей семьи, а это расходилось со словами тишайшего Жужу, которые скорее обнадеживали, чем внушали тревогу, если только не расценивать его жест как образное выражение в стиле «а мне наплевать», что совсем не вязалось с его обликом.
Прочитав письмо, Жиф ознакомил с его содержанием все общество, собравшееся за столом и слушавшее его в каком-то остолбенении, и заявил, что никаких причин для волненья нет, не стоит падать духом из-за тетушкиной сломанной руки, а мое поведение (передаю в общих чертах) объясняется ни чем иным как склонностью к нытью. Тут ему заметили, что, поскольку никто не слышал, чтобы я между двумя всхлипами дал Жифу разрешение съесть причитающийся мне творог, то его следует разделить на всех поровну. Возможно это и так, но ведь именно он, Жиф, прочитал письмо, и это дает ему определенные права. «Липовые права!» — вмешался какой-то доморощенный законник, немедленно приступив к конфискации десерта, пока я пытался выстроить свою защиту: конечно, перелом руки — не Бог весть что, но нельзя забывать и возраст пострадавшей, семьдесят два года, и потом, по зернышку — ворох, по капельке — море, а значит, и мелкие неприятности могут обернуться горем. Вот увидите. Впрочем, и я увижу тоже.
Грядущие события подтвердят мою правоту, а пока Жиф, которого нелегко было сбить с толку, резко дернул на себя тарелку, противник выпустил ее из рук, и Жиф завладел ею, но уже без творога, который был катапультирован частично ему на очки, а частично — на элегантный пасторский костюм тишайшего Жужу (хоть и не такого тихого, как всегда, учитывая сложившиеся обстоятельства), подоспевшего, чтобы разнять изголодавшихся драчунов. После чего нас надолго оставили без десерта, и все сошлись на том, что произошло это по моей вине. Да что и говорить, в жизни плакучей ивы не всё розы.
И вот я стою на скамье и, кажется, имею все основания расплакаться. Несчастья, зловещим предвестием которых стала сломанная тетушкина рука, обрушились на нас со всех сторон. Через три месяца после смерти отца умерла сама тетя Мария. Ее сразило горе, и впервые в жизни она не покорилась воле неба, которую как добрая христианка, веря в таинственное и многомилостивое божественное водительство, смиренно принимала во всех ниспосланных ей испытаниях: принимала и тогда, когда двух братьев убили на войне, а третий, не пережив смерти жены, поручил ее неустанным заботам своего девятнадцатилетнего сына, и тогда, когда молоденькую сестру унес грипп «испанка», да и не было у тетушки иного утешения в жизни, кроме веры, двух племянников и работы школьной учительницы, обучившей азам наук три поколения девочек; она вела полузатворническое существование, которое делила между школой сестер-монахинь и своим крохотным домиком (но то лишь малая жертва в сравнении с вечным блаженством), однако скоропостижной смерти в сорок один год любимого племянника она не перенесла. Точно ее дух, преступив последнюю черту, был отравлен ядом губительных сомнений. И тогда, едва не впав в грех вероотступничества, тетя Мария погрузилась в состояние комы, продлившееся несколько недель, в чем, верно, можно усмотреть Промысел Божий, спасший нашу праведницу от пучины святотатства, в которую увлекал ее пошатнувшийся разум; смерть, наступившая девятнадцатого марта на св. Иосифа Обручника, в день ангела ее брата и племянника, положила всему этому конец.
После звонка от моих родственников тишайший Жужу вызвал меня на школьный двор и там с озабоченным видом, нацелив один глаз на меня, а другим силясь отличить серебристую чайку от чайки трехпалой, сообщил мне трагическое известие: «Твоя тетя умерла». Потом, после недолгих размышлений, когда Тефида уже коснулась моих век, уточнил, дабы избежать недоразумения, знаю ли я, о ком речь. Конечно, я знал. Мои тетки Матильда, Люси и Марта находились в добром здравии, и было логично предположить, что смерть унесла старую школьную учительницу, пребывавшую в забытьи. На этом разговор закончился, и он с облегчением отослал меня в класс, велев собирать вещи и в тот же вечер отправляться домой, в Рандом, и даже представить себе не мог, что через несколько недель снова вызовет меня, на этот раз к себе в кабинет, где двойная дверь с обивкой ограждала его от нескромных взоров и где он мог позволить себе повысить голос.
Повтор относится, скорее, к комическим приемам, и это обстоятельство не могло не смущать Жужу. То, что почти слово в слово ему пришлось повторить мрачное известие, лишало его серьезности и сглаживало эффект сообщения. Поэтому он торопливо объявил мне, что мой дедушка скончался. «Ты знаешь, о ком речь?» — его блуждающий глаз безнадежно пытался уцепиться за занавеску, а сам он словно досадовал на себя за то, что проболтался, будто его тянули за язык. Он словно услышал произнесенные несколькими неделями раньше эхом прозвучавшие слова. Казалось, еще немного и он будет искать у вас сочувствия. Впрочем, из нас двоих если кто и мог вызвать сострадание, то, верно, тот, кто в свои двенадцать лет уже в который раз надевал траур.
Другой мой дедушка давно отправился на тот свет вскоре после смерти жены, большой Алины, страдавшей болями в колене и умершей от того же недуга, что и Рембо. Но Жужу уже не слушал меня.
Он поздравлял себя с тем, что мой отец для перехода в мир иной предпочел рождественские каникулы, таким образом избавив его от первостатейной пытки. Между тем, тут-то уж он точно мог не сомневаться, я бы совершенно правильно понял, о ком идет речь, да и сомнение — вещь для него непозволительная.
Спускаясь со скамьи, я наклонил голову, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы, и мои очки упали под тяжестью толстых стекол. Это происходило уже не раз, но небьющиеся стекла (так они, по крайней мере, назывались — невиданный прогресс в жизни всех близоруких) до сих пор оставались целы. Неприятность же состояла в том, что, они хотя и не разбивались, но легко покрывались царапинами. Вам приходилось все время пробиваться сквозь сетку паутины, маячившую перед глазами, и напрасно вы пытались от нее избавиться, подолгу моргая и поминутно протирая очки носовым платком, а если вы человек осмотрительный из той породы людей, кто сохраняет совершенно бесполезный футляр из-под очков, несмотря на то, что те постоянно сидят на носу, то и бархоткой с именем и адресом оптика и изображением пенсне, которая была единственным подарком, причитающимся вам за близорукость.
Очки, конечно, были небьющимися, но не совсем, разве что по сравнению с обычными стеклами более прочными, да и то в известных пределах, а поэтому одно из стекол (закрепленных в оправе нейлоновой нитью, вставленной в узкий желобок) разбилось от удара о кафельный пол и разлетелось под партами мелкой россыпью.
Любое неожиданное событие всегда встречалось с радостью: пока самодержец на своем посту пытался навести в классе порядок, мы позволяли себе отвлечься от урока. Так и теперь, находившиеся неподалеку от места драмы не упустили случая поиграть в наводнение, нашествие тараканов или что-нибудь в том же роде: они задирали ноги, поднимали с пола портфели, стоявшие возле парт, отказываясь проявлять интерес к уроку до тех пор, пока не минует опасность. Грозный Фраслен, решивший поначалу не замечать происшествия (в чем было больше жестокости, нежели сочувствия, — что мог сделать лишенный всяких прав полуслепой ребенок), наконец, с притворным удивлением занялся поисками виновника всей этой кутерьмы (как будто я по собственному желанию залез на скамью) и, изображая из себя судью праведного, послал меня в соседний класс за веником. Веселого тут было мало: пришлось выслушать неприязненные вопросы, саркастические замечания, иронические восклицания, а под конец — сакраментальное и совершенно невыносимое: он называется «верни меня» (странное название для веника).
С веником в руке, совершенно сконфуженный, я вернулся в класс — на кого вы похожи? положите веник в угол, сядьте на место и смотрите в потолок, осколки соберете на перемене, — и сейчас же сообразил, что наш сатрап, воспользовавшись моим отсутствием, приступил к новому упражнению, а это должно было обернуться для меня неминуемой двойкой вкупе с наказанием, поскольку я пропустил начало объяснения и не имел возможности списать у приятеля. Из чего следует, что жестокость — это искусство.
Но на этом мои беды не кончились: я сел за парту, поднял глаза и тотчас обнаружил, что почти ничего не вижу без очков. Если наставник и предлагал мне смотреть в потолок, то, очевидно, потому, что это занятие не отличалось увлекательностью и нечего было и сетовать на нечеткость изображения — невелика потеря. Намного больше беспокоила меня зеленая доска: она покрывалась белесыми значками, их невозможно было разобрать с моего места — словно белое облако пыли, поднимавшееся над губкой, которой протирали доску, носилось в воздухе, заполняло пространство, сгущаясь вдали. Вдобавок взгляд застилало слезами, и всё это мутным месивом расплывалось у меня перед глазами, отгораживая от мира, обостряя чувство одиночества, и я только укреплялся в своем стремлении к обособленности.
Я взял очки, вернее, то, что от них осталось, и подумал с тоской, во что обошлась мне эта катастрофа (небьющиеся стекла, конечно же, стоили дороже, и возмещения по медицинской страховке за них не полагалось вообще, а если и полагалось, то такое ничтожное — просто сплошное издевательство: к этой теме постоянно возвращалась наша семья очкариков со скромными доходами, и мы склонны были видеть в подобных гонениях на слабовидящих особую форму человеческой несправедливости, имманентно присущую зрячим, не говоря уже о том, что коммерсанты — еще один лейтмотив семейных разговоров — существа совершенно бесправные, в отличие от государственных служащих, которые и на транспорте ездят задаром, и на детей получают пособия, и работают, когда им заблагорассудится). Я нацепил очки на нос. Перед правым глазом свисала перекрученная восьмеркой нейлоновая нить, зато левым я видел всё необыкновенно отчетливо, потому что оправа погнулась от удара и уцелевшее стекло сидело в глазу наподобие монокля — в прошлом году такой посадкой очков отличался Жиф.
Попеременно закрывая то один, то другой глаз, я мог наблюдать две картины мира — на выбор. Одна из них — ясная и недвусмысленная, где отчетливо выделялись сардоническая улыбка нашего наставника, грамматическое правило на доске, лапы и клюв трехпалой чайки (цвет которых позволял отличить ее от чайки серебристой), форма листьев на деревьях во дворе (выдававшая в них липы), весь этот мир, уверенный в собственной реальности и потому безбоязненно выставляющий себя на обозрение, а другая — с Вселенной, сжавшейся в комок, с горизонтом на расстоянии трех метров — туманная и расплывчатая, торжество неопределенности, где небо — опрокинутое море, а облака — кипучая морская пена, где ни о чем не поведает зеленая доска под белым меловым покрывалом, лица безлики и бесхитростны, а сама жизнь, ускользающая от определений, невнятна и неосязаема, словно она томится в передней в ожидании нового мира.
И еще одно обстоятельство: элементарные законы физики изменяются в мире слепых. Здесь звук распространяется быстрее света. Вы понимаете, что обращаются к вам, по голосу, а не по взгляду. Шум мотора, а вовсе не вид приближающегося автомобиля, который появляется в последний момент, удерживает вас на тротуаре. Вас оставляют равнодушным кокетливые взгляды, но ласковое слово волнует до слез. Морщины разглаживаются, и лица — так же, как и голоса, — надолго сохраняют молодость, а потому мир вокруг вас не так подвержен старению, как о том говорят окружающие.
Стоит ли убеждать вас в преимуществе зорких глаз? Они удержат вас от попыток раскланяться с фонарем, сесть на собственные очки, вы не будете рваться в дверь ресторанной кухни, направляясь в туалет, или искать иголку в стоге сена, перепутав его с соломой, но там — за чертой жизни, утратившей звонкость (как звук в тумане), где я пребывал с того рокового Рождества, в сгустке сумерек, непонятности смерти, окутавшей живых, — бесполезно искать ясности и света.
В сущности, от Фраслена требовалось немногое — даже не сочувствие, а лишь малая толика участия. Все же потеря была велика, и хотя бы из сострадания не стоило подливать масла в огонь. Надев очки, явно предназначавшиеся для кривых, и взяв сочинение, я не поверил своим глазам. Мой мучитель варварски исчеркал все страницы красными чернилами и поставил самую низкую оценку, но и этого ему показалось мало: в нескольких строчках уничижительного комментария он утверждал, что пишу я очень неточно и темно («Где вы видели, чтобы крест качался?» — с чем нельзя не согласиться, конечно, крест не качается даже на ветру, но нам часто твердили о необходимости разнообразить свой словарь, используя глаголы движения вместо вспомогательных, и мы из боязни сделать что-нибудь не так впадали в подобного рода невольные ошибки) и что мое сочинение совсем не на тему (напомню: следовало описать воскресный день в деревне).
Что он имел в виду? Что Рандом не деревня? Конечно, лестно оказаться вдруг причисленным к городским жителям, но почему тогда тот же самый учитель порой обращался со мной (да и с другими моими одноклассниками) как с деревенщиной? Хватило бы даже беглого взгляда, чтобы расставить все по своим местам: внимательный наблюдатель, подметивший отсутствие позолоченных наконечников в кладбищенской ограде, не мог не увидеть следов деревенской жизни нашей маленькой коммуны Луар-Атлантик: коров, которых гнали по главной улице Рандома, трактора и даже лошадей в упряжке. Что же касается воскресных развлечений, их тоже было немного в нашей семье. Танцплощадка? Но мы до танцев еще не доросли. Футбольные матчи? В футбол мы и так играли каждое воскресное утро. Рыбалка? Но от Рандома далеко до Луары, да и потом такое времяпрепровождение совсем не в нашем духе: можете вы представить себе хрупкую молодую вдову, которая поедает руками курицу на пикнике? Сбор ежевики? Или, может быть, охота на китов? По воскресеньям (и разве я отхожу от темы? напротив, это сама ее суть!) мы навещали отца, который лежал под гранитной плитой.
Навещали с того самого дня на Рождество, когда поражение артерии (или неумеренное курение, или изнурительная работа, или неспособность к жизни, или пример рано сошедших в могилу родителей, или застарелое чувство вины единственного выжившего ребенка перед мертворожденными братьями и сестрами) вырвало его (говоря иносказательно) из наших объятий. К этому надо добавить еще три дня, ушедшие на подготовку всего кладбищенского ритуала.
Считайте сами: смерть с четверга на пятницу, плюс время, чтобы совершить все формальности как в загсе, так и в церкви, а в воскресенье не отпевают — значит, жди понедельника. А это немалый срок для покойника. Не то чтобы он не мог лежать неподвижно, но тошнотворный, сладковатый запах, который мало-помалу обволакивал его, начинал вызывать беспокойство. Тем временем, узнав о немыслимом событии, в доме собирались знакомые и незнакомые, они подходили обнять убитую горем молодую вдову с красными от слез и ночных бдений глазами и удалялись в комнату покойного проститься с покинувшим их другом.
Все стулья в доме, точно в предвидении этого экзистенциального театра, были расставлены с трех сторон вокруг кровати покойного. Непрерывное представление продолжительностью в три дня и четыре ночи освещалось по-старинному — двумя свечами, стоявшими по обе стороны кровати у изголовья, таявший воск стекал жемчужными каплями, заливая подсвечники. Ибо немногое изменилось в декорации смерти: тот же огонь, дошедший из глубины веков, то же дрожание пламени, противостоящее власти тьмы, и сгустки сумрака вокруг безжизненной маски, озаряемой лунным отблеском свечей, по-прежнему настраивают на созерцательный лад.
Днем внутренние деревянные ставни закрыты и пропускают только вертикальную полоску серого света, по ее яркости мы узнаем о приближении вечера. Сумерки, непревзойденный диктатор, навязывают нам молчание. Малейший звук внезапно обретает значительность: далекий шум машины или мотоцикла, скрип половиц, стук осторожно переставляемого стула, шелест ткани (кто-то положил ногу на ногу), речитатив молитвы. И еще одно достоинство темноты — в потемках не надо принимать подобающее моменту выражение лица, обязательное при свете дня. Иных, чьи лица ничем не выдают волнения, могут легко упрекнуть в бездушии. А пелена тени, которая ложится на стены, предметы, — словно припорашивает мысли пеплом.
Конечно же, мы всему даем толкование, а в такие минуты, больше, чем когда-либо, цепляемся за каждый поданный знак. Машинальный жест, избитая фраза наполняются смыслом, которым они изначально едва ли были наделены. Все сказанное, каким бы нелепым оно ни было, воспринимается буквально, продумывается, разбирается по косточкам во всех оттенках и значениях. Мы представить себе не можем, что сам изрекший фразу не верит ни единому своему слову. «Это ужасно…». — «Да, это ужасно — лучшие уходят первыми, а он был из лучших». — «Наш незабвенный друг…». — «Да, мы никогда не забудем о нем». Рука вцепляется в ваше плечо, и вы чувствуете, словно само утешение легло вам на плечи, потухший взгляд для вас — воплощенное горе, а доброжелательная улыбка — душевная черствость: так ли он тронут нашим горем, если еще находит в себе силы улыбаться. Мы ранимы, хрупки, как стекло. Мы проговариваем про себя все, что услышали о нем. Твой отец? — да его знала каждая собака, орел он был. Орла следовало понимать как диковинную птицу, это не какой-нибудь голубок — мечта девчонок. Орел — уважение и сила, независимый и гордый дух. И вот уже память об отце парит вольной птицей, не знающей границ, по стране воспоминаний, садится, где вздумается, залетает повсюду. Будто он всю жизнь только и делал, что расставлял вехи на нашем пути.
Время прощания у каждого свое, и измеряется оно аршином собственного горя, но существует некая черта, некое предельное время, диктуемое приличиями: не меньше четверти часа. Остановиться по эту сторону черты — значит, выказать неуважение к покойному и его семье и вызвать пересуды. По ту же сторону — интрига этого трагического экспромта слишком проста, чтобы подолгу удерживать внимание тех, кого горе не коснулось напрямую: под покровом сумерек и умиротворяющей тишины мысли блуждают, уходя все дальше от покойного.
Вот вам пример: молодая вдова, которую вы обнимали и которая, готовясь вступить в черную полосу жизни, боялась, что никогда не увидит ей конца, вернувшись — несколько лет спустя — после ночи, проведенной у гроба покойника, к нашему удивлению, долго тряслась от смеха. И ее поведение не выглядело скандальным, как могло показаться. Напротив, все имело простое объяснение: покойный был человеком далеко не молодым, пожившим в свое удовольствие; много лет подряд он объявлял не без кокетства, что весит не меньше ста двадцати килограммов, поскольку весы зашкаливает на этой отметке. И потому не имело никакого смысла предъявлять счет небу. Его огромное тело покоилось в потемках на большой, под стать ему, кровати, с руками, связанными на груди, чтобы не сползали с этой горы человеческой плоти. Молодой вдове (впрочем, уже не такой молодой, как прежде) бросилось в глаза его сходство с кем-то хорошо знакомым, но она никак не могла припомнить с кем: внушительных размеров брюхо, тройной подбородок, раздувшийся под затянутым галстуком, круглая голова, усики шириной в два пальца, зачесанная на лоб прядь волос. И молясь о спасении усопшего: «Господи, прими в Свою небесную обитель душу раба Твоего, который насладился вволю теми прекрасными вещами, что созданы Тобой», — прибавляла про себя следующий постскриптум: «А заодно, Господи, скажи мне, нет ли в Твоем стаде овцы, имеющей некоторое сходство с покойным?» — «Оливер Харди (из дуэта Лорела и Харди)», — подсказал Господь, окинув новопреставленного проницательным оком. И тут все переменилось. Оливер Харди на смертном одре — так и ждешь, что он сейчас дернет усами, чихнет и выдаст последнюю из своих шуточек, да и потом, Оливер Харди бессмертен. А значит, нет причины сохранять серьезность. Оттого и взрыв смеха по окончании этого немого кино — для нас это было добрым знаком: черная полоса в жизни мамы закончилась.
Но было немыслимо, чтобы, когда умер наш отец, кто-то смеялся до упаду, едва отойдя от нашего дома. Разве можно было усомниться в искренности скорбной толпы, которая шла непрерывным потоком к его гробу. Бывало, конечно, умирали и до него, но казалось естественным, что никто из них не оставил после своего ухода такой пустоты, такого чувства протеста и ни с чем не сравнимого страха. И доказательством тому все эти люди, теснившиеся в комнате, их бледные расстроенные лица. Теперь они прибывали из все более отдаленных мест, по мере того как страшная весть распространялась за пределами коммуны и даже департамента, и мы уже не знали их имен. Они приезжали просто, чтобы быть здесь. А когда им казалось, что они пробыли достаточное время, что их присутствие заметила молодая вдова, они тихонько выскальзывали из комнаты, уступая место вновь прибывшим.
Только женщины приносят с собой четки. Мужчины или не решаются, или не верят в силу молитвы. У них давно вошло в привычку не жаловаться, ни о чем не просить и рассчитывать лишь на свои силы. Когда им случается осенить себя крестом, они делают это коротким движением, украдкой, наклонив голову, чтобы сократить расстояние между лбом и пупком, так что основание креста приходится на солнечное сплетение, а перекладина располагается на уровне ключиц. От них больше ждешь утешительных слов, таких, которые, не замалчивая происшедшего, нацеливают вас на будущее, уводят в те пророческие дали, где нет опасности, что жизнь немедленно опровергнет их.
Фразы выходили у них неуклюже-устарелыми, путано-доброжелательными. Вот эта, многократно повторенная, предназначена сиротам: «То, что он посеял, пожнете вы», — ее произносили проникновенным, полным убежденности тоном, и нас так и подмывало спросить, что же такое посеял наш отец, какое философическое семя, какой клад зарыл в землю, отчего будущий день жатвы станет чем-то вроде Пасхального воскресенья, когда поутру мы бросались в сад за спрятанными в цветах и ветках лавра шоколадными яйцами и сахарными фигурками младенца Христа.
III
Казалось, я его уже видел, но мельком, да и волосы у него теперь отросли и падали на плечи, надо лбом белел прямой пробор, а пряди он зачесывал за уши, что было уж слишком, поскольку на них же опирались и дужки очков, приобретенных по старой цене, без скидок, такие никогда не выставляются в витрине оптики. Именно это и должно бы навести меня на след: очки, которые возможно купить разве что во время карнавала, и носят их где-нибудь в глухой провинции или в нищенских приютах. Обычно студенты, не желавшие походить на своих родителей, выбирали себе очки в духе Чехова или Троцкого: было что-то интеллектуальное и спартанское в металлической круглой оправе. Но эти переходили всякие границы. Напялив на себя подобное, никогда не пойдешь ни на какие классовые компромиссы. Несомненно, кто носит такую оправу, тот твердо поддерживает трудящиеся массы, непримирим к целому миру, весь устремлен в светлое будущее.
Завтра неминуемо будет лучше, чем вчера, — здесь допустимы лишь оптимистические нотки или уж вертись, как знаешь, стараясь убедить себя в этом, потому что и капля сомнения в таких серьезных вопросах яду подобна. Можно даже проявить некоторую непреклонность. Например, бизнес, словно вонючая гиена, выгоды ради пригревает на своей вероломной груди не только крупных воротил, но и мелких предпринимателей. Что, мама? Вонючая гиена? Нельзя ли обойтись без язвительных намеков вокруг да около покойного отца, жертвы капитала? Ну да, можно сказать и так, чтобы не распространяться об этом, хотя в какой-то мере он и вправду загубил себя на работе, но рановато мне защищать или прославлять своих близких. Тем более, что наша семейка далеко не святая, и вообще не будем говорить о святости, поговорим лучше о чем-нибудь другом. Однако и тут искусство диалектики моих братьев по оружию снова помогло мне уйти от неосторожной дискуссии о ревизионизме и перевернуть свое выступление так, что я закончил его в полном противоречии со своим исходным утверждением, изначально тоже не слишком вразумительным, но надо же было как-то начинать. Все равно пришлось и дальше распинаться перед поднявшими меня на смех спорщиками, объяснять им, что как раз это противоречие я и хотел выявить (про себя же клялся, что больше меня никогда так не подловят). Меня, конечно, опять подловили, ведь трудно все время держаться в стороне, а быть братом по оружию — значит, выступать в определенном ключе, выставляясь совершенно безоружным и, если совсем начистоту, довольно одиноким.
Редко кто постучится в дверь моей комнаты в университетском городке. И дело не только в том, что надо карабкаться на пятый этаж без лифта. Я и сам приложил к этому руку, из чрезмерной осмотрительности охлаждая благие намерения желающих. Ведь тип в очках круглого сироты не первым рискнул сунуться ко мне. Незадолго до него с визитом заявился — ничем не лучше — старый однокорытник из Сен-Косма, и я сразу же заподозрил, что он собирается шпионить за мной или насмешничать. Иначе зачем бы ему тащиться через весь город, когда медицинский факультет находится прямо напротив филфака? Чтобы справиться о моем здоровье? Узнать, успешно ли идут занятия? Тряхнуть воспоминаниями о житье-бытье в коллеже? Ну ладно, несколько лет мы проучились вместе, — даже если он перешел в другое заведение после второго класса, — все равно мы жили в разных условиях. Он был экстерном, иначе говоря, барчук, в сравнении с нашей участью, к тому же из семьи, принадлежавшей к добропорядочному обществу Сен-Назера: отец — большой начальник на морских верфях или что-то в этом роде, мать занималась благотворительностью при своем приходе, — кстати, и мне перепало от их благополучия: следуя долгу милосердия, однажды в четверг, который был тогда выходным, меня пригласили в их красивый дом на берегу моря, виллу в стиле тридцатых годов — непонятно, как она уцелела во время интенсивных бомбардировок порта и города, превративших местность в сплошные руины.
Тем сильнее меня удивило это приглашение, что я никогда не чувствовал, будто мы, он и я, дружим или хотя бы приятельствуем. Ученики в коллеже разделились на две обособленных группки, и ни к одной из них он не принадлежал. Но благодаря этому неожиданному с его стороны знаку внимания я хотя бы мог избежать занудные послеобеденные прогулки по четвергам, когда мы шли рядами по двое (спасибо, при этом не заставляли держаться за руки) вдоль моря, по дороге к таможне или, если стояла плохая погода, в противоположную сторону, до порта, а в порту развлекались тем, что отталкивали от причала огромные суда одним движением ноги. Когда же после пяти километров пешего хода мы добирались наконец до своего пляжа (под скалой, на берегу крохотного заливчика, тонкий песок которого уходил под воду во время приливов), нам, разумеется, запрещали не только лазать по скалам, но и бегать босиком по воде, поэтому развлекались мы, главным образом, прыгая в длину или оставалась еще игра в блошки (если знать подвох, считай, выиграл в самом начале: достаточно первому забросить светлую ракушку или серую гальку на пересечение линий расчерченного квадрата). Конечно, брали с собою и мяч, скатанный из водорослей, — страшненький, в разводах и трещинах, словно луна, — но на таком песке невозможно вести нормальную игру, и потасовки тут случались совсем уж яростные. Потому-то все и претендовали на место вратаря, кандидатов хоть отбавляй, что на крохотной игровой площадке можно эффектно встревать в игру. Да и пас принимаешь с опаской пораниться о гальку или присыпанные песком обломки скалы, мертвые ветки, бутылочные осколки, ржавую проволоку. Правда, учитывая расстояние и то, что нас ждали к пятичасовым занятиям, особенно разгуляться времени не было: пришли, перевели дух — и обратно.
Чем ближе к лету, тем томительней становился обратный путь, и нам в виде исключения позволяли остановиться возле продавца мороженого на краю пляжа, неподалеку от виллы моего новоиспеченного товарища. Иногда двумя-тремя словами он перебрасывался с нами, словно освобожденный с бывшими приятелями по камере. В тот день, когда я был приглашен, процессия учеников проходила прямо перед домом, где в саду, под зонтичной сосной, которую за сорок лет сильно накренили ветры, дующие в одну и ту же сторону (хотя не всегда ветер дует с моря), мы разыгрывали партию пинг-понга, и я слышал, как за оградой вся честная компания выкрикивает мое имя с самыми нелестными эпитетами.
Между тем, я бы охотно поменялся с ними местами. Изощряться в вежливости и хороших манерах, опасаясь ляпов, чувствуя, что за тобой наблюдают, — это уже не синекура, а скорее, драма общения с людьми, которые не стеснены в средствах, то есть имеют абсолютно все, включая столик для пинг-понга. К тому же, в пинг-понге я был не силен. Навыка у меня не хватало, и играть было сложно вдвойне: попробуй сначала поймай шарик, который вяло посылает партнер, а потом еще и отбей его поверх сетки в надежде, что он упадет на его стороне. Можно возразить, что речь-то идет об элементарных правилах игры. Конечно, но лишь в теории. Не упустить подачу — для этого надо быть просто ловким (по-настоящему ловким — мой-то противник, небось, чемпион мира), и вот он — благородно, как настоящий скаут, — старается угодить шариком в центр моей ракетки. Но стоит мне только повернуть ее плашмя к столу, как шарик ударяется о ребро и отскакивает от него куда попало: один раз он застрял даже в кроне зонтичной сосны, да так, бедолага, и не соблаговолил упасть. Но это крайний случай. Все-таки между сеткой и самыми нижними ветвями у меня оставалось достаточно пространства, чтобы не разорить запасы пинг-понговых шариков в этом доме.
Я старался изо всех сил, и мой товарищ, по-видимому, остался весьма удовлетворен моими усилиями. Во время завтрака, после напористой атаки и трех партий подряд — всего-то минут за десять — он поведал своей матери, беспокоившейся о моих успехах, что я очень недурно сопротивляюсь и поэтому ему пришлось изрядно попотеть, чтобы в решающем бою выиграть со счетом 21:3. Надо ли говорить, с каким нетерпением я ждал реванша!
В свое оправдание могу заметить, что играл я, видя лишь одним глазом. Несколькими днями ранее одно из стеклышек разбилось, и я решил до ближайших каникул дотерпеть без него. Я боялся, как бы не набрести в тумане, который окутает меня во время починки, на какую-нибудь неприятность: к примеру, воспользовавшись моей ущербностью, набросится на меня зловредный наставник и станет грубо допытываться, что я читаю, постукивая своей тонкой бамбуковой указкой по несчастной математической формуле, нацарапанной мелом на доске, и, не получив ответа (поскольку совсем не об этой формуле спрашивал он меня командным тоном), торопливо сотрет ее, приказав переписать сто тысяч раз. Вот и приходилось мне одним глазом следить за объяснениями, а замутненное зрение другого путалось в нейлоновой нити, которой крест-накрест было обмотано треснувшее стекло.
Едва выйдя из класса, я снимал покалеченные очки и потихоньку, ценой неловких проб и ошибок, учился различать приплюснутый диск, в который мяч превращался во время игры, и притворяться, будто погружен в свои мысли, чтобы не здороваться с расплывчатыми силуэтами вдалеке (то есть далее трех метров от меня), не насиловать зрение, прищуриваясь (отчего болит голова, а лицо выглядит глупым), довольствоваться приблизительной картиной мира, пытаясь убедить себя, что не так уж много я теряю, поскольку не всякая вещь непременно (и в любое мгновение: ведь море всегда остается морем) достойна того, чтобы на нее смотрели.
Но для игры в пинг-понг — после безуспешных попыток, когда я не раз и не два отбивал ракеткой воздух, а мой товарищ с тревогой подсказывал, что белый шарик пролетел с другой стороны, — мне пришлось смириться и напялить свою циклопическую оправу. Тогда передо мной встала трагическая дилемма в классическом варианте: у наших послеобеденных партий объявилась зрительница (сестра чемпиона, старше его на год и обескураживающе красивая: длинные каштановые волосы, темные глаза, фигурка, как у мировой призерши по танцам, а ноги растут прямо из головы), и я не знал, что лучше: выглядеть смешным без очков, размахивая ракеткой мимо шарика, или быть смешным в инвалидной оправе, от которой моих способностей к пинг-понгу не прибавлялось (напрасно товарищ подавал только с выгодной для меня стороны, именно с той, где у меня не хватало стеклышка в очках, все равно я снова и снова мазал, поскольку парировать получалось только плоскими ударами), так что способностей явно не хватало, чтобы ее очаровать. И я осмелился на рискованный, но блестящий ход: выбрал второе (одно из трех выигранных мной в той партии очков я получил благодаря тому, что шарик, отскочив от рукоятки, пролетел почти над самой сеткой и застал моего противника врасплох). С практикой мой уровень явно повышался, и перед ясными очами красавицы я надеялся сыграть не хуже, выжать из ракетки, как фокусник из рукава, в качестве прощального букета — этакой финальной точки — настолько немыслимый флэш, что она бросится в мои объятия и поцелует победителя, даже если побежденным будет ее брат, что в той же трагико-классической перспективе не является непреодолимым препятствием: бросилась ведь Химена в эти самые… в объятия (и это свидетельствует о широте ее взглядов), хотя еще утром теми же руками возлюбленный убил ее отца.
В Рандоме, а тем более, в Сен-Косме сказали бы, что одевается она с элегантностью и простотой жительницы добропорядочных кварталов: синяя юбка, бледно-голубая блузка, шейный платок, повязанный по-скаутски, скорее всего, это была униформа жаннет, с которыми она провела утро. Исполненная решимостью каждый день делать доброе дело, она бегала за моими пропущенными шариками, приносила их мне с улыбкой, а я их принимал, каждый раз краснея, и краснеть приходилось так часто, что ни на секунду краска не сходила с моего лица, а поскольку я и представить себе не мог, что она выбивается из сил только ради моих прекрасных глаз (которые и различить-то было трудно за кривой оправой), я решил: пользуется девушка случаем, чтобы пополнить корзину своих Добрых Дел и таким способом достойно завершить поставленные на год задачи.
Глядя в зеркало, я полагал — насколько можно судить о себе объективно, — что внешне лишь выигрываю, когда не напяливаю эти чудовищные очки с толстыми стеклами, без них козыри у меня на руках, имея в виду все тот же навязчивый вопрос: заинтересуется ли мною хоть когда-нибудь хоть какая-нибудь девушка? — вот одна-единственная проблема, в сравнении с которой другие не имеют никакого значения, даже судьба планеты, при условии, конечно, что от нее не будет зависеть моя собственная участь. (Отсюда и берутся тесты, вроде такого: если моя подача будет удачной, то все уладится, мы заживем счастливо, а что касается детей, так об этом еще рановато думать. С такой ставкой руки начинают дрожать: а вдруг по случайности подача сорвется? Один до конца своих дней — и все из-за какого-то шарика в сетке? Есть отчего разочароваться, главным образом, в детерминизме, а заодно и, в частности, в самом Господе Боге; что ж, примем свои меры предосторожности, не станем, очертя голову, ставить на карту против неудачного удара всю свою будущую личную жизнь, не столь уж важно получить очко, будем действовать наверняка, а на стиль игры наплевать: ракетку держим прямо над столом, плашмя, шарик посылаем сверху вниз, чуть по наклонной, вот он подскакивает, взлетает в метре над сеткой, — до сих пор все идет, как надо, — теперь лишь бы не затянуть удар, чуть поворачиваем голову, чтобы на глазок определить траекторию, не хватает нескольких сантиметров — уф, шарик все-таки падает на стол. Мне не терпится узнать имя моей суженой и как она выглядит, даже если я и готов признать, что красавица вроде той, которая в очередной раз наклоняется за потерявшимся шариком, — а я и не заметил, как мне его отпасовали, — слегка обнажая при этом бедра танцовщицы, уже загоревшие на солнце и подсушенные соленым ветром Атлантики, с учетом моей зоркости, полностью или частично, не попадает в поле моего зрения).
Однако и другие чувствовали примерно то же и каждый раз, когда видели меня без очков, непременно спрашивали, почему я их больше не ношу и не из кокетства ли это, чтобы выглядеть интересным в глазах, сами знаете кого. И весь мир вам кажется тогда жестоким, и вправду, никто и пальцем не пошевельнет, чтобы представить себя на вашем месте, по-вашему же, самом неблагодарном, где никогда не поймешь, от какой печки плясать, какую мину скроить, во всяком случае, какую-нибудь другую, а эта — кого она может заинтересовать?
Кондитерша Рандома, у которой по воскресным утрам мы покупали пять пирожных, а потом уже четыре, после того как нас обманул один любитель шоколадных эклеров, — но мама держится за эту привычку, ведь жизнь продолжается, то есть, по крайней мере, какое-то подобие жизни, — казалось, получала удовольствие, ехидно спрашивая меня (а может, это было только признаком дурного настроения: выбирали-то мы всегда одни и те же пирожные, хотя как она нас заклинала попробовать новинки, но понапрасну, обычно мы выслушивали ее жалобы: и зачем ей выдумывать что-нибудь новое? ох, уж эта косность провинциалов… ах, если бы она жила в городе…), почему до сих пор не починили мои очки. Может, мне обратиться к другому мастеру? Кстати, она знает одного… И потом я испорчу себе глаза, как ее дядя, например; в прошлом месяце ему прооперировали роговицу. А между тем кондитерша укладывает пирожные в маленькую белую картонку без крышки и заворачивает все в шелковую бумагу. Но вы ее уже и не слушаете. Почему вам не дают выглядеть чуть получше? Кого это расстраивает? Разве не надо поощрять кандидатов в счастливчики? Я же ей делаю замечание, что на ее месте по-другому укладывал бы пирожные, тем более что легче упаковать четыре, чем пять, которые приходилось класть друг на друга, и миндальную тарталетку я бы лучше подкладывал под кремовую корзиночку, а не наоборот.
Но это факт, все в заговоре: некоторые прямо-таки ждут, чтобы испортить вам удовольствие. Из узких, грустных рамок, навязанных монотонной провинциальной жизнью Рандома, выбиваются разве только старые девы, они уже когда-то свихнулись и после периода елейного ханжества носят на своих слабых головках старомодные шляпки и разыгрывают из себя восходящих кинозвезд, то и дело задирая свои юбки. Прозвище этой безвкусице нашлось довольно быстро: их называют «сумасбродками». Глядя на них, начинаешь понимать, что своего случая упускать нельзя. А годы спустя перед памятником павших в Первую мировую войну с внушительным перечнем имен в голову вдруг придет мысль: тем женщинам, жертвам Истории, и вправду не повезло, ведь сколько здесь потенциальных женихов, и как же важно не ошибиться эпохой. Кстати, если присмотреться к мужчинам в брачном возрасте, просто сердце кровью обливается, все они — просто головоломки для матримониальных контор: по крайней мере, один из двух уклоняется от явки. Но много все-таки и тех, кто приходит и неожиданно для самих себя затрудняется в выборе. Так что стратегия вырисовывается простая — война: часть мужчин она выкосит, и тогда можно будет как-то разобраться с теми, кто вернется. Шансы мои росли. Я воображал себе сестру моего товарища в роли преданной сиделки, выхаживающей раненых; элегантная, в белом платке-накидке и легоньком платьице, она порывисто двигается; может, тут и кроется идеальное решение: заполучить неопасное ранение, доказывающее, что ты не трус, а потом и ухаживающую за тобой красавицу. Трудновато, правда, откопать себе сообразительного врага, который бы прицелился с умом: легкая ссадина на макушке — и сестра твоего товарища с бесконечными предосторожностями, едва прикасаясь к голове пальчиками, сооружает на ней тюрбан в знак того, что и ты был на фронте.
А в тот вечер я ее постоянно вспоминал. И спасительный жест, и еще — когда мы перекусывали, она спросила меня, с чем я хочу бутерброд: с вареньем или с ореховым кремом; я же от смущенья никак не мог выбрать и пробурчал, по-прежнему краснея, что мне безразлично, но она настаивала, и я с ужасом услышал себя как бы со стороны, словно космический хаос вещал через мои уста: и с тем, и с другим, — и она мне вскоре протянула, улыбаясь, единственную в мире тартинку с красной и коричневой полосками. Улыбку ее я тут же истолковал следующим образом: я знала, что приятель моего брата, о котором он до сегодняшнего дня и не заикался, дурак, и поломанные очки на его носу дурацкие, и эта нитка-маслорезка, перемотанная вокруг правой дужки, но чтобы уж дурак до такой степени… Интересно, он и впрямь думает чему-нибудь выучиться? Воображаю себе, как после моего ухода они оба, брат и сестра, разыгрывали в лицах эту сцену (бутербродный гибрид и мое жеманное позерство), а потом вновь и вновь ее повторяли, каждый раз покатываясь со смеху. Но и у меня был свой реванш: я заметил, как она грызет ногти, а это настолько не вязалось с моим представлением о красоте, что в некоторой степени компенсировало и мою неловкость, и скверно починенные очки. Вот почему я позволил ей в тот же вечер проскользнуть в свои мечты, которые я направляю, как хочу, пока не усну.
До тех пор, пока свет не тушили полностью (щиток с двадцатью выключателями в два ряда находился над постелью дежурного воспитателя, и долго еще эти щелчки воспринимались как своеобразная побудка), у нас не было покоя. В дортуаре положено было молчать, наказание следовало за малейший шум (даже если после тяжелого дня, начавшегося спозаранку, все заводилы и сорвиголовы валились с ног), и, чтобы как-то общаться между собой, мы изобрели такую штуку. Под окнами у нас располагались шкафчики, а в нижней их части проходили трубы центрального отопления, и если сунуть голову в эти импровизированные исповедальни, то можно тихим голосом обмениваться существенной информацией, необходимой для выживания: «Фраслен болен», или «Как ты думаешь, у Жужу искусственный глаз?», или «Чему там равна сумма углов треугольника?». Но, очевидно, этот способ не обеспечивал достаточной секретности: когда двое учащихся пять минут кряду сидят на корточках, сунув головы в смежные шкафчики, есть в этом нечто подозрительное. Застукав нарушителей, одного ставили на колени в углу, между кроватью воспитателя и туалетом, а другого почти на всю ночь отправляли за порог дортуара, на ледяную в зимнюю пору лестничную клетку.
Как раз зимой, когда мы старались побыстрее помыться и не очень-то плескались в местах общего пользования (вода у нас подавалась тоненькой холодной струйкой по горизонтальной трубе, державшейся на маленьких двойных штырях, вбитых в стену через каждые пятьдесят сантиметров, и стекала в эмалированный белый бак, наподобие лотка, поставленного так высоко, что малыши не могли помыть в нем ноги), начальству взбредало порой в голову проинспектировать чистоту ног у какого-нибудь нерадивца, и, хотя мы уже улеглись спать, всех отправляли мыться, поэтому приходилось оставаться начеку даже после того, как гасили свет, а запускать механику своих мечтаний можно было лишь тогда, когда уже наверняка никто не мог прийти ее нарушить.
В это время море внизу неустанно бросало свои валы на бетонные волнорезы, агонизировало на пляже и, в судорогах перемалывая ракушки, отступало, прежде чем снова кинуться в атаку, всегда непобежденное, всегда чреватое подавленными вспышками гнева, и вот упрямая белолобая волна вновь идет на приступ валунов, размахивая ошметками водорослей, и вновь отступает после очередной попытки. Но это вечное движение, звучное товарищество, баюкавшее нас по ночам большую часть года, было лишь своего рода подготовкой, пробой сил перед большими зимними маневрами, когда буря, разыгравшаяся над Атлантикой, набирала такую мощь, что казалось, водяные орды сметут здесь все.
В дни равноденствия наступает пора большого прилива, когда прибой всей своей тяжестью атакует насыпь, прежде чем вскарабкаться по каменной стене и в два приема рухнуть на тротуар: сначала накатывают студенистые пласты волны, затем, с некоторым опозданием, россыпи брызг, словно морской посев, легко и приглушенно разлетаются во все стороны, как бы завершая секвенцию. Но приступ идет за приступом, и чудится, будто волны бросают друг другу вызов: кому удастся дальше отодвинуть эту зыбкую границу между стихиями, отвоевать еще немного пространства у земной тверди? кто упадет дальше всех? а почему бы не попробовать добраться до сторожки, крохотного домика с шиферной четырехскатной крышей, зажатого между двумя постройками, которые возвышались над набережной? И вот уже, грудью на амбразуру, со всех сторон водная стихия устремляется на насыпь, тротуары и дорогу, а волны, втянутые в игру, набирают разбег издалека, выгибают спины, врезаются в соленое морское поле глубокими, грозно извивающимися бороздами, надвигаются, как ветер в пшенице, белеют и пенятся растущими хребтами валов и, наконец, дойдя до каменной преграды, взметаются стеной над зыбью, с неимоверной силой обволакивают кажущийся игрушечным вал и перекидывают через шоссе водяную арку.
Натянув до глаз одеяло, мы слышим, как готовится и разыгрывается баталия. В этом ужасном шуме слиты рев моря и раскаты грозы, вспышки молний мечутся по дортуару, а бывают ночи, когда огни фонарей словно окутаны ватными коконами, и тогда глухо звучит доносящийся до нас густой меланхоличный гудок сирены. Иногда же по вечерам дождь, порвав внезапно с укромной, тихой жизнью, решает исхлестать все стекла, будто назойливый продавец песка, устав распродавать его по мелочам своим засыпающим клиентам, придумал закидать наши окна пригоршнями гравия, чтобы одним броском засыпать нас по темечко. Но стекла сопротивляются, и, когда волна взмывает над крышею сторожки, гудящей, как барабан, ко мне уже не подобраться, я далеко и от дортуара, и от ненастья, от дневных страхов и постоянных унижений, я укрылся в мире чистой нежности и сострадания, где нет места ни ожесточению, ни недоброжелательству, и никто, даже разбушевавшиеся стихии, ничего здесь поделать не могут.
Вот и сегодня вечером у меня гостья: сестра моего товарища пришла ко мне в хижину, которую я смастерил из тонких реек на вершине дерева, растущего посреди острова; здесь, вдали от всего мира, мы можем приникнуть друг к другу. Ничего нескромного я себе не воображаю, с нас довольно и поцелуев, долгих, нежных объятий, слов любви, сердечных взглядов. В моем воображаемом фильме я кое-что подправил: ростом вытянулся на целую голову, чтобы заглядывать в глаза любимой, не приподымаясь на цыпочках, и зрение у меня, конечно, острое, никаких очков не требуется. (Значит, и горизонт нужно нарисовать другой, заменив обморочную мешанину пятен на линию резкую, как лезвие бритвы, там, где, вроде бы, встречаются небо с землей, — но это чисто формальное сооружение, лично для меня совсем не обязательное, ведь никогда моя подруга не станет неделикатно допытываться, показав вдаль: а видишь ли ты то, что вижу я?). На моих ногах — роскошные белые мокасины, какими меня просто сразил один здоровенный выпускник, переходивший двор коллежа широкими легкими шагами (безрезультатно я пытался ему подражать, резко отталкиваясь ногами, как нам вдалбливали на уроках физкультуры, и старательно выворачивая ступни; плохо выверенный толчок, конечно же, тянул меня вверх, и на каждом шаге я подпрыгивал, будто козленок, а земля странно пружинила в ответ, словно я шагал по лунной почве в невесомости).
Что же до моей подружки, так она больше не грызет ногтей, и я придумываю для нее роскошный красный маникюр, с которым она выглядит уже совсем дамой. Мне даже захотелось нарисовать ей легкие синие тени на веках, но, в общем, она осталась такой же, как всегда. Все та же девочка, которая бегала за моими упавшими шариками и сделала мне чудной бутерброд. На ней та же синяя юбка и бледно-голубая блузка. Я еще не осмеливаюсь раздеть ее. Даже в мечтах, когда протягиваю руку, невольно краснею. Вскоре, когда после всех этих увлекательных вечеров в полутьме дортуара под убаюкивающий шум волн мы станем более близки друг другу, я, воспользовавшись случаем, тихонько буду ласкать ее незрелую грудь, но не снимая блузки, а лишь запустив под нее пальцы между третьей и четвертой пуговицами.
Однако постепенно в памяти бледнеют очертания ее лица. Чтобы восстановить их, я жду нового приглашения, но его все нет и нет. Зато меня зовет к себе другой экстерн, также незнакомый. Это уже межгалактический чемпион по пинг-понгу, правда, сестры у него нет, и мне приходится самому искать закатившиеся шарики; играем мы в захламленном гараже, и пропадают они здесь неизвестно куда, поэтому наши партии затягиваются. Впрочем, кажется, мое амплуа спарринг-партнера оценили, поскольку и в следующий четверг меня хотят обязательно пригласить: о, мамуся, правда, мой новый товарищ сможет опять прийти? мне так редко удается потренироваться на высоких подачах…
Рассказывают о благородных, достойных восхищения проявлениях дружбы, о клятвах по гроб жизни: потому что это был он, потому что это был я, — туманные формулировки, но, возможно, они и впрямь являются условием «sine qua non»; однако нет ничего общего между этими соображениями и тем, чтобы пересечь весь город, дважды пересаживаясь на другой автобус. Его версия не выдерживала критики. Ведь не потому он так утруждал себя, что семь лет назад пригласил меня в свой сад на берегу моря, выставив на посмешище с ракеткой в руке. Со временем я разобрался в их игре. Две благонамеренных семьи затеяли состязаться на моем хребте. «У этого бедняжки недавно умер папа, какая жалость — маленький новоиспеченный сиротка, это испытание посылает нам Господь, чтобы проверить милосердные ли мы христиане. Дети мои, вам надо проявить отвагу и самоотверженность; быть может, малыш ест руками, как крестьяне, но наш долг пригласить его». Старшую сестру наставляют: «Ты будешь с ним любезной, ты не будешь смеяться над его очками, ты будешь собирать за ним шарики, ты намажешь ему бутерброд», — и, разумеется, для круглого счета еще наставлений шесть в том же роде. А сейчас представьте себя на месте другой семьи, не менее обеспеченной и благонамеренной, хотя и обеспокоенной тем, что их втянули в это дельце: «Ну что ж, раз так, то мы пригласим его подряд на два четверга». Тогда и первое семейство, небось, подняло ставки: «А мы — на три», — но сестрица с братцем, скорее всего, взбунтовались. Сестра: «Вот еще! Убивать все свои выходные, бегая за шариками этого очкарика»… Брат: «Лучше об стену стучать мячом, от нее он, по крайней мере, отскакивает». — «Разиня — полбеды, — не отстает сестра, — а помнишь, братец, бутерброд?» И опять хохочут до упаду.
Вот так, по косточкам, и разбирали они тогда, наверное, тот уморительный день, а теперь брат, поступивший на столь трудоемкий медицинский факультет, жалуется, какой у него скучный новый круг общения (надо было литературу выбирать), в результате едет через весь город — и даже более того (филфак засунули на самую окраину, в здание на пустыре, неподалеку от ипподрома, а университетский городок еще дальше) — за новостями, побасенки пришел послушать к шуту гороховому. От своего круга все равно не убежишь, так что заявился он, верно, этаким лаборантом, учеником Пастера, которому неймется понаблюдать за дорогим его сердцу культурологическим брожением в замкнутом пространстве: к вашему сведению, закуток мой два на четыре метра, в углу кровать, рядом письменный стол со столешницей из прессованной пластмассы цвета слоновой кости, стул, обтянутый кожзаменителем, набитым водорослями (но каморка так тесна, что работать за столом можно, не вставая с кровати, тем более когда любишь сидеть низко и писать, уткнувшись носом в страницу, если зрение, к примеру, неважное), а при входе — за невысокой перегородкой, отделанной под красное дерево, — умывальник и биде (голубая плитка Бютогаза стоит на полочке под зеркалом, но это уже вещи жильца так же, как и маленькая эмалированная кастрюлька, кремовая снаружи, белая внутри, в ней я обычно кипячу воду для чая в пакетиках).
Знаешь, сестренка, едва я переступил порог его комнаты, он так посмотрел на меня, будто я был посланником от КГБ или от Содружества выпускников Сен-Косма. Кажется, он что-то скрывает. По-моему, очень может быть; видела бы ты, с какой поспешностью, когда я чуть было не уселся на его постель, он бросился расчищать мне место и, первым делом, прибрал со стола листочки, сунул их в оранжевую папку, я даже не успел прочесть, что на ней надписано, какое-то двойное имя, что-то вроде Этьена-Марселя (зачем ему этот купеческий старшина?), а еще я заметил там стилизованный рисунок — скорее, беглый набросок — парочки, изображенной со спины; прибрал он все это в ранец, который носил в коллеже, да я рассказывал тебе о нем. Такой портфелище с клапанами из толстой кожи мышиного цвета, который, как он утверждает, принадлежал еще его отцу; отец представлял какую-то торговую фирму, и для его папок, досье и всяких каталогов ему нужна была объемистая и прочная сумка; а когда он умер, сын выклянчил ее себе под предлогом, что туда помещаются все нужные ему для занятий вещи. Ты, наверное, помнишь, стоило забыть учебник или тетрадку, как тут же на тебя обрушивались наказания, и ученики должны были позаботиться обо всем с утра, внимательно просмотреть расписание уроков на листочке, который часто прикрепляли скотчем или кнопками с внутренней стороны крышек парт, и все необходимое захватить с собой, потому что днем не пускали в комнату, где стояли шкафчики с личными вещами. И вот он, чтобы избежать неприятностей — представляешь, если ты что-нибудь забыл, тебя заставляли сидеть весь урок со сложенными на парте руками и даже взглянуть в книжку соседа не разрешали (помню, с ним приключилась еще более жестокая история, хотя у него был сборник басен Лафонтена, он сунул его в свой ранец, ведь нас предупредили, что мы будем заниматься логическим анализом стихов; но, видишь ли, вместо того, чтобы приняться за басни, этот самый — как его? — Праслен, или Фраслен, заставил нас анализировать абзац из предисловия — и в этом наш дружище углядел, возможно, и не без основания целый заговор против себя, потому что у него было другое, чем у всех остальных, издание. И тогда этот тип — Праслен или Фраслен, — указав нам страницу, отправил его за списком книг, которые нужно было купить в начале учебного года, вместо того, чтобы просто дать ему свой экземпляр; так наш бедняга схлопотал себе «кол», а все потому, что его родители сочли глупым покупать второй экземпляр басен, когда их уже прошла его старшая сестра, решив, конечно, что не найдется шутников подправлять их, басни то есть, от издания к изданию), — так как что-нибудь он нет-нет да и забывал, по рассеянности или голова не о том болела, а наказаний и отсидок в классе после уроков сверх головы нахлебался, то, не долго думая, он вывалил все содержимое своего шкафчика в этот самый доставшийся ему по наследству (тяжелое наследство-то) портфель; сам он был тогда невелик ростом, и вещи ему приходилось носить на согнутых руках, а иначе они волочились по полу (не руки, руки у него как раз нормальные, а шмотки), из-за этого и ученики, кто покрупней, и учителя измывались над ним, вполне заслуженно сравнивая его с улиткой или с черепахой и спрашивая, почему он не таскает на себе кровать или шкафчик, коли за этим дело стало. Он же, сгибаясь под своим непосильным грузом, со слезами на глазах (ему ничего нельзя было сказать: по любому поводу ревел, а что хуже всего — был страшно мнителен), отвечал как мог, ну хотя бы, что благодаря своему методу не только сам не получил больше ни одного взыскания, но и другие бывали часто радешеньки найти в его загашнике что-нибудь забытое — иногда просто пенал с ручками, — поэтому прежде, чем критиковать, лучше хорошенько подумать… и всякая прочая аргументация. Но заявиться со своим непомерным тюком в гости… я так и вижу его около столика для пинг-понга… помнишь, сестренка, как мы смеялись? Впрочем, ты его тогда привела в священный трепет. После стольких лет он меня о тебе расспрашивал — что ты, где ты? — я даже немного опешил, я ответил — представь себя на моем месте, — что ничего не знаю, — как это, ничего не знаю? — тогда я сказал: «Быть может, на Небе». И тут он на меня пристально посмотрел, и на глазах его показались слезы. В этом он нисколько не изменился, все та же плакучая ива, а ведь ему теперь, наверно, восемнадцать, мы ведь — ровесники. В довершение всего пришлось его утешать. Он быстренько поутих и предложил мне чаю, извиняясь, что ничем больше не может угостить. Я отказался под предлогом, что и без того помешал ему работать, но он стал уверять меня, будто и не работал, хотя, очевидно, это не так. Он ходил на все лекции, но никогда не конспектировал, и заниматься ему было не по чему, да он и не занимался. Вероятно, приобрел эту привычку, когда перестал носить очки. (Боже ты мой, — помнишь? — натыкаясь на помойку, мы каждый раз говорили: «Смотри-ка, футляр для его очков»). Поскольку он не мог разобрать, что написано на доске, даже если сидел в первом ряду, то решил: пусть занятия проходят без него — при нем, но без него. Как он при таких обстоятельствах умудрился сдать математику, физику и химию, ведь под конец урока вся доска была исписана доказательствами и формулами, которые нужно было запомнить и выучить? Вот загадка! Впрочем, я не очень верю в его пресловутую близорукость. Он-то утверждает, что ему везло, но раз на раз не приходится, вот и свернул на филфак. Ну, близорукий он там или нет, я ему все-таки сказал, что, по-моему, он вовсю занимался, когда я вошел. Нет-нет, — ни в какую не отступает, хоть ты что. А разве он сейчас не писал? Да, конечно, но это другое. Я тогда вспомнил, что в Сен-Косме за ним водилась репутация рифмоплета, он мог накропать сто строк александрийским стихом, потешаясь над спиной смотрителя, или разразиться сонетом о дожде. После злоключения, о котором я тебе рассказывал, он сочинил басню в духе Лафонтена, мораль которой звучала приблизительно так: ах, мораль? морали больше нет. Мне это припомнилось, потому что Праслен, или Фраслен, перехватил листок и прочитал стихотворение в классе — все, кроме последней строчки, вместо которой написал на доске: «Мораль: логически проанализировать Первую книгу басен Лафонтена».
Не напоминая ему об этом, я спросил, пишет ли он по-прежнему.
Так и утонула моя первая любовь. А между тем, она ведь неплохо плавала. Чего хорошего ждать от моря, даже рыбам? Оно поглотило тело танцовщицы, а через несколько дней вернуло его семье, беспощадно выбросив, как мертвую ветку, бутылку или апельсиновую кожуру, на тот самый пляж, где мы прыгали в длину; а я долго надеялся, что после нашей встречи она придет сюда, чтобы снова повидать меня, ведь ей было известно, где завершаются наши прогулки. Расстелив полотенце неподалеку от нас, натираясь кремом для загара и время от времени с восхищением посматривая на мои божественные полеты (на песке ведь не продемонстрируешь свое умение маневрировать, вот я и решил стать на воротах), она бы вернула мне мяч, который с самым невинным видом я послал бы ей, сделав блистательный горизонтальный бросок вопреки его предназначению не столько для того, чтобы помешать команде противника забить гол, сколько для того, чтобы в качестве подношения принести мяч к ее изящным ножкам. Теперь я не хочу больше никому его отпасовывать, потому что на нем осталось немножко ароматного крема, которым она намазала свои руки, ноги, плечи (она слишком целомудренна, чтобы попросить кого-нибудь натереть ей спину), и я прижимаю его к себе, словно частицу ее, но никто уже не интересуется игрой, так как наша самая любимая болельщица идет по пляжу в купальнике-мини — синие трусики и небесно-голубой лифчик (и тут под униформу жаннеток), — откидывая назад свои длинные волосы перед тем, как нырнуть вперед головой в накатывающие валы и выплыть через несколько метров, а потом, сильно и резко загребая, исчезнуть с наших глаз.
Вот так и поглотило ее море, на шестнадцатом году, когда она плыла одна к горизонту; ее тело, конечно, свело судорогой; она, должно быть, звала на помощь, тщетно пытаясь привлечь внимание учеников, игравших на пляже. Но ни к чему это — кричать, махать руками; даже в своих мечтах я никогда не бросался на помощь к тонущей женщине. Зачем, если не умеешь плавать?
Мне хотелось спросить у своего товарища, нет ли при нем фотографии моей танцовщицы-сирены. Ее черты окончательно улетучились, я помнил только длинные волосы и синюю юбку, из-под которой промелькивали бедра, когда она наклонялась за шариками, затерявшимися в высокой траве сада, но, скорее всего, я путаю впечатления разных лет. На эти детские воспоминания могли позже наслоиться другие картинки, к примеру, юбки, задранные потоком воздуха из вентиляционных колодцев, которые показывают в кино, да и по телевизору, появившемуся дома спустя некоторое время. Еще труднее мне было и без того смутное лицо утопленницы представить себе на несколько лет старше, где-то на грани шестнадцати, той оконечности детства, когда обрисовывается уже образ будущей женщины.
Я так старательно, вечер за вечером, в светлом сумраке дортуара составлял (как составляют фоторобот) ее портрет, обновлявшийся по мере того, как с течением времени черты тускнели, что через это поступательное возвращение к прошлому, без сомнения, подготавливал себя к новой встрече, на которую как человек уже зрелый возлагал большие надежды, и, достав-таки из портфеля оранжевую папку по просьбе моего приятеля, нехотя признался, что эта фигурка, неловко нацарапанная карандашом, изображала со спины именно ее, так вот нежный образ в моих мечтах невольно пережил распад и возрождение: это она — молодая женщина с длинными распущенными волосами до пояса подает руку мужчине во фраке и цилиндре, залихватски заломленном на ухо, в правой руке у него бутылка, как из-под арманьяка, круглой формы, приплюснутая, плохо прорисованная, а потому немного смахивающая на ракетку для пинг-понга.
Дело в том, что, собственно говоря, молодой человек в выходном костюме являлся точной копией Рембо (свои почеркушки я делал с мыслью о фантастических рисунках Делаэ, изобразившего приятеля, который на своих двоих колесит по всему миру), что еще яснее выражало название: Жан-Артюр, или То же самое. Тут и не слишком прямой намек на возглас выпивох: подайте-ка нам это, прямо сюда, то есть, живем, братцы! — и, кроме того, надо понять, что этот самый Жан-Артюр пережил ампутацию ноги (на рисунке вместо нее был изображен протез, как у капитана Ахаба или Джона Сильвера), и я объяснил моему товарищу, что, вернувшись на родину (где женщины выхаживают ужасных калек и прочее), он встретился с сестрою друга детства, которая долго мечтала об этом авантюристе, тем более что брат без конца говорил ей о нем; ну, он и постарался вскружить ей голову, рассказывая о своих приключениях где-нибудь на лавочке в городском саду, сильно все приукрашивая: Африка, жарища, пустыня, людоеды, львы, работорговля, земля в мешках из-под кофе, прекрасные абиссинки; и она, простодушная и внимательная: «Почему бы вам не написать об этом книгу? Я помню, как брат переписал к себе в тетрадку сонет о дожде, он начинался так: „Дождь безнадежно длится, как жена…“ Ведь это ваши стихи?». И когда предполагаемый поэт отвечал: «Чушь собачья, все это — чушь собачья», — я почувствовал, что краснею, и братец утопленницы, заметив мое замешательство, вместо того, чтобы мне помочь, посмотрел на часы: «Я не стану тебе больше мешать, — потом добавив, — как бы там ни было, теперь ты знаешь конец истории», — встал и вдруг признался, что он, конечно, бросит занятия медициной, что ему хочется все бросить, уехать, стать пастырем. «Как? Пастырем?» — и вместо того, чтобы ограничиться этим дурацким восклицанием, ехидно добавляю, что, мол, слишком много расплодилось вокруг учителей по призванию, вот только паствы на всех уже не хватает, на что он еле заметно улыбается — но и это проявление страдания, очевидно, сверх его сил, — поворачивается и открывает дверь.
И вот вы снова в одиночестве в своей комнатенке, за окном которой, составленном из двух раздвигающихся половинок в алюминиевой раме, видны такие же здания — нагромождения клеточек, во всем похожих на вашу; такая уж это заикающаяся архитектура, замусолившая избитый мотивчик, стишок из одной и той же жалкой строчки, повторенной тысячу раз. Когда товарищ ушел, вы спрашиваете себя, не упущена ли вами хорошая возможность, не надо ли вместо того, чтобы подозревать во всех и каждом шпионов, вбить себе в голову, что существует бескорыстная дружба, когда едут через весь город, дважды пересаживаясь с автобуса на автобус, просто для того, чтобы узнать, как у вас дела, светло и звучно выпалить: «Что новенького?» — а в ответ, быть может, получить, что, дескать, и так и сяк, но главное: «Я рад тебя видеть, к тому же, и сам собирался навестить тебя».
Ведь, кажется, так и поступают, не играя в прятки, без задних мыслей. Вот почему вы чувствуете себя не в состоянии совершать самые обыкновенные поступки, завидуя молодым ребятам, которые встречаются, пьют, смеются, целуются, путешествуют, ссорятся, мирятся. Напрасно вы притворяетесь, будто исполнены к ним презрения, смотрите на них с миной превосходства, не понимая, что привлекательного в таком образе существования, на самом деле вы много бы дали, чтобы к ним присоединиться, потому что в этом возрасте совершенно нормальным представляется именно это, а не сиднем сидеть в своем углу над вязью фраз, рифмуя обрывки песен, или корчиться над каким-нибудь модным музыкальным инструментом и грезить при этом о грядущей насыщенной жизни, когда вам будет дано насладиться тихой переменой обстоятельств (последние станут первыми) и ваше имя западет в сердце всех и каждого.
Но сейчас вы должны убедить самого себя, как вам повезло, что чаепитие не состоялось: случись оно, и вы лишились бы своего единственного прибежища. Эта непритязательная чайная церемония посреди дня — четверть часа, спасенная, вырванная у грусти и одиночества, представляющая собой чередование крохотных событий, педантично выстроенных друг за другом, ненадолго прерывающих чувство уныния, почти никогда не покидающее вас: налить воду в бежевую кастрюльку, купленную за ее крохотный размер (самую крохотную из всех, которые, как матрешки, были вставлены одна в другую); чиркнуть спичкой, зажечь горелку, а потом, поднеся огонек к самым губам, деликатно задуть его; с привычным для слуха шипением нагнетается газ; синие язычки пламени, как маленькая упругая подушечка, усердно отбиваются от раннего вторжения зимней ночи; дно кастрюльки позвякивает на подставке из нержавейки; чайный пакетик уже заготовлен и лежит в угловатой чашке из белого фарфора, по верхнему краю которой пущен коралловый ободок; этикетка болтается снаружи (если она случайно падает в чашку, когда наливаешь кипяток из кастрюли, красный и желтый цвета на ней буреют, становятся золотисто-коричневыми, почти под цвет чая, это все-таки приятней, чем зелено-синие размывы, но, чтобы избежать таких неожиданностей, проще простого обмотать ниточку между саше и этикеткой вокруг ручки). Ритуал этот потерял бы свою суть, справленный наспех где-нибудь на уголке, его надо как следует прочувствовать, тщательно подготовить, середина стола должна быть заранее освобождена, книги и бумаги убраны, вместо скатерти постелена белая салфетка. Каждый жест рассчитан буквально по секундам, как и способ пробовать кончиком губ, не торопясь, окунув нос в облачко пара над чашкой, не слишком ли горяч чай, а после пить его маленькими глоточками не столько из удовольствия — чай не такого уж и отменного качества, — сколько потому, что от этого время, кажется, замедляет свой бег, не так коварно истекает, оставляя нас в пустоте.
Однако время умеет защищаться, сжать его можно, но не слишком. Манипулировать им по своему усмотрению не позволит своего рода закон Мариотта. Растягивайте до бесконечности каждый жест и даже воду кипятите как можно дольше, чтобы и остывала она медленнее, все равно в конце концов последний глоток выпит, чашка вымыта, а прошло не более пятнадцати минут, и до ужина еще далеко. Пока тянутся эти долгие два часа, не зная, чем их заполнить, вы мечитесь от стола к кровати, от сочинительства, которое сводится к тому, что три только что написанных слова сразу же зачеркиваются, к исполнению все тех же до безобразия заезженных аккордов на гитаре. Ничто не длится вечно, уныние одолевает все — даже мечты.
Это пространство на границе ночи, которое смягчало муку школьных лет, утратило свою способность утешать после того, как из-за обилия свободного времени и отсутствия принуждения слилось с банальным обиходом дня. Вы порою бунтовали против придуманных фантомов, как Микеланджело, взывавший к своему Моисею, и плакали от ярости перед этими ничтожными созданиями ума. Только одиночество может так выхолостить суть вещей.
Год тому назад, последний год учебы в Сен-Косме, благодаря либерализации режима (выпускников перевели из дортуара в отдельные комнаты), вы потихоньку учились играть на гитаре, подобно девяноста процентам ребят вашего возраста (воспитание остальных десяти включало уроки на фортепиано). Гитара вытеснила занятия математикой, и музыкальный зуд стоил вам посредственных оценок за год. Но, в конечном счете, насколько это парадоксальное счастьице мелочно — быть не более своеобразным, чем все, вырваться из внутренней эмиграции, из своего замкнутого мирка. И вы знаете это чувство: ваши ироничные вирши, высмеивавшие слабости и чудачества начальства коллежа, циркулировали под откидывающимися крышками парт, составляя вам среди однокашников репутацию почти официального поэта. Но подлинные стихи… их можно пересчитать по пальцам — не более дюжины; слова приходят сами по себе, теснятся, выстраиваются, как на прослушивании, вся сложность в том, чтобы отобрать единственно правильные. В конце концов, что бы там ни говорили, это не море ложкой вычерпать. Точно так же и извлечь нечто цельное и гармоничное из шести проволочек, которые режут вам пальцы, а если долго упражняться, то можно и мозоли набить, вот в чем величие, по крайней мере, добродетель музыкальной лихорадки. Указательным пальцем вы прижимаете такую-то струну в таком-то месте, средним — такую-то, а безымянный с мизинцем еще можно и так и сяк расположить, и все за счет страшных судорог большого пальца, сжимающего, как струбцина, шейку гитары.
И это только левой рукой. Правая тоже не остается без дела, даже если поначалу вы просто бренчите по струнам, словно косой размахиваете, оставляя напоследок всю тонкую игру пальчиками, перебегающими с места на место — то берущими арпеджио, то набрасывающимися на струны, то ласкающими их. Главное — извлечь однородный звук, чтобы не создавалось впечатление, что это дребезжит и попискивает старый разболтанный велосипед. А теперь, когда удалось сбитыми в кровь пальцами левой руки выжать из гитары почти безупречный аккорд, который все время хочется повторять и повторять, самое время разучивать новый, особенно, если вы собираетесь играть что-то более или менее разнообразное. Тут и возникают трудности. Взять хотя бы два аккорда: «трень-брень», например. Если отыграв «трень», замешкаться с этим самым «брень», всегда найдется кто-нибудь с острым слухом, чтобы заметить: мол, нет у вас чувства ритма. Тогда приходится просить приятеля сделать задание по физике, которое потом надо будет лишь переписать, а вы тем временем без устали оттачиваете свое мастерство: дзынь-дзень, пум-пам, трам-блями, наконец, трень-брень.
Теперь вы умеете играть, во всяком случае, достаточно, чтобы перейти к следующему этапу: к аккомпанементу, то есть под эти самые аккорды вы можете петь, не глотку драть (начинающий певец стремится, скорее, к задушевности), а глуховато-гундосым голосом гнусавить ниспровергающие гимны страхолюдно-убойные песни, которые, ставя под сомнение существующий порядок, в пух и прах разносят класс собственников.
По правде говоря, сердца вы в них не вкладываете, даже немного стесняетесь их (конечно же, отсутствия в них тонкости и нюансов), но, чтобы не оказаться навсегда за бортом, принуждаете себя послужить антиэстетическому духу времени, отважный человек на такие компромиссы не пойдет, но одиночество просто невыносимо. Да и как объяснить, не прослыв жалким контрреволюционером, что вам больше нравятся лирические песни, где все розовые да голубые цветочки, потихоньку взращенные ночами на грядках Сен-Косма? К тому же, едва научившись жалким двум-трем аккордам, вы уже сочиняете.
Дело сделано: быстро, в два счета, просыпав кулек нудных нот, — и четыре романса готовы. Но как и перед кем их исполнить? Вы ведь, позвольте напомнить, болезненно застенчивы и никогда не скажете публике что-нибудь вроде: а сейчас я вам спою песню собственного сочинения — и музыка, и слова (надо понимать: все-то он умеет, этот очаровательный молодой человек). Случай представляется на сельском празднике в Рандоме. Не на сцене театра (настоящего, барочного, без лепнины под мрамор и позолоты, но с кулисами, колосниками и машинерией), а под ней, то есть под досками, на которых с азартом выкладывается полная задора молодежь, так что слышно, как наверху декламируют ваши приятели, топают балерины, наяривают музыканты — группа в английском стиле.
Сердобольная душа затащила вас сюда. И впрямь, сердобольная, потому что, разумеется, вас надо было упрашивать, пока вы не соблаговолили согласиться (в оправдание можно сказать, что причина всех этих колебаний состоит лишь в том, что вы боитесь, да и стыдитесь показаться неловким, неестественным, этаким тюфяком, иначе давно были бы там). Молодость — это стиль, а здесь прямо в глаза бросается, что у вас нет своего образа. И вот, едва очутившись за кулисами театра, после того как вы походя поздоровались с теми и с этими (чем, может быть, удивили их, поскольку они помнят, как вы не отвечали на их приветствия, им и невдомек, что на противоположной стороне улицы они только гипотетически существуют для ваших глаз, потому вы и приобрели привычку ходить с опущенной головой, уж лучше так, чем приветствовать сослепу какие-то расплывчатые контуры, за которыми, порой, совсем незнакомые люди, пораженные знаками внимания со стороны постороннего, так что вы слышите уже комментарии у себя за спиной: он — лунатик, здоровается, когда взбредет ему в голову, хочет — да, а не хочет — нет), вы счастливы, что можете в уголке вынуть из футляра свою гитару: теперь можно скроить приличное лицо, придать себе весу, выставиться в новом, выгодном свете. Ну и, потихоньку надеясь, что вас заметили, поставив правую ногу на плетеный стул, пригнувшись к струнам, вы начинаете сначала наигрывать, а потом цедить сквозь зубы слова: (трень) над городом дождевые облака / (брень) а любовь моя ужас как хрупка, — пока молодые артисты бродят туда-сюда по двору и саду, толкаются, на ходу задевают вас, не слишком-то обеспокоенные хрупкостью этих самых чувств.
Наконец кто-нибудь обращает внимание на ваши таланты, слушает и, конечно, спрашивает, кто автор расчудесной песенки, но, нимало не заботясь о ваших сердечных делах, перебивает пение и объясняет, что хотел бы научиться играть на гитаре: не могли бы вы дать ему несколько уроков? — и приходится отвечать, что всему можно научиться самостоятельно, а поскольку он настаивает, рисуете ему расположение пальцев на грифе, чтобы взять аккорды «трень-брень», прежде чем раздосадовано пытаться исполнять прерванную песню, вновь с самого начала (вы не из тех музыкантов, которые как ни в чем не бывало продолжают с тринадцатого такта). Затем участница парада, в ужасе от мысли, что перепутает свои па, начинает репетировать прямо перед вашим носом (словно по струнам топчется), высоко задирая то правую, то левую ногу; впрямую на вашей игре это бы не отразилось (разве что чуть усилилось сердцебиение), если бы, схватив свой жезл, она не начала ловко крутить его пальцами; вот где опасность, вот отчего и без того хрупкая ваша любовь разлетится вдребезги, так что поневоле приходится идти на стратегическое отступление — на этаж ниже; захватив гитару и стул, вы спускаетесь по узкой пыльной лестнице и устраиваетесь между подпорками сцены неподалеку от будки суфлера.
Вам хорошо знакомо это место. И теперь вы припоминаете. Ваша старая тетушка Мари помогала актерам-любителям справиться с провалами в памяти, и для вас с сестрой было привилегией по очереди сидеть рядом с ней на деревянной скамейке, глаза на уровне пола, так и смотрели спектакли. Один из них особенно поразил вас — «Бегство святого Петра», где Петр (старший мастер молочного заводика, грубо загримированный, с огромными кругами вокруг глаз, рот и скулы размалеваны так, будто он собрался выйти на тропу войны, одетый в короткую рваную тунику, сшитую из мешковины), поверженный на землю темницы Марметины за высокими решетками цирка, повелевал бить источнику, чтобы крестить тюремщиков (через трап из оросительной трубы била мощная струя воды, которая стекала потом в будку суфлера), прежде чем его освободят два ангела (одного из них играл почтальон, которого можно было узнать по усам, он не захотел их сбрить спектакля ради и лишь замаскировал пудрой телесного цвета). И вот, благодаря безупречному знанию места, которому вы обязаны знакомством с такими видными драматургами, как Жорж Онэ или Поль Феваль, вы начинаете петь свои песенки в надежде (такого еще в истории мюзик-холла не бывало: выступить под сценой переполненного зала и чтоб ни одна душа ни о чем не догадалась), что звук, разрастаясь, просочится через отверстие суфлерской будки и очарует зрителей первого ряда, на худой конец, участницу парада. Следующей выступала группа англоманов со своими электрическими гитарами, и вам пришлось тут же бросить свою затею. Пусть без конца над городом идет дождь, не о чем тревожиться на берегу Атлантики, а ваша слишком хрупкая любовь и без того уже всякого навидалась.
Для бабушки нескольких аккордов было вполне достаточно, чтобы сделать из меня музыканта. В ее глазах, я поднял факел семейных традиций, выпавший из рук покойного дедушки: ни одна из трех дочерей, к великому его огорчению, не преуспела в игре на его инструменте, а он так мечтал однажды, после того как выучит одну на виолончели, двух других — на альте и фортепиано, засесть за сочинение квартета, в котором сам исполнил бы партию скрипки. За свою долгую жизнь бабушка не раз сталкивалась с тем, что пристрастия и таланты передавались через поколение, а поскольку те, кому она излагала плоды своих размышлений, очевидно, придерживались того же мнения, следовало ожидать, что музыкальный ген, словно играя в чехарду, перепрыгнет через головы трех дочерей и, заметно ослабев во время этого пространственно-временного скачка, упадет на голову внука Альфонса.
Ничто не исчезает бесследно. Однако это понятие экономии, хорошо сочетающееся с принципами полноценной семейной жизни, все же требует некоторых корректив, когда от Моцарта переходишь к «трень-брень». В конце концов, бабушка всегда могла отнести эти потери за счет новых канонов современности. Услышав, как я играю, или, во всяком случае, обнаружив на стуле в кухне купленную по случаю гитару из плохонькой древесины, на что я сваливал, в какой-то мере, недостатки своей игры, она решила, что скрипка дедушки, которую не доставали из футляра с добрый десяток лет, принадлежит мне по праву, так как я, вроде бы, унаследовал его способности. В оправдание бабушки скажу, что у нее никогда не было музыкального слуха.
Всю свою жизнь она притворялась безразличной к тому, что составляло великую страсть ее мужа и приводило их к бесконечным конфликтам (самый знаменитый ее бунт разразился, когда одна из дочерей рожала в комнатах наверху, а Альфонс в это время играл флейтовый дуэт с каким-то коммерсантом — бабушка разбила флейту). Теперь она, казалось, спешила избавиться от всех музыкальных сувениров своего покойного мужа, потому как вместе со скрипкой вручила мне собрание партитур, а также его заметки и тетрадки; среди этих изданий были курсы фуги и контрапункта, которые изучали в Парижской консерватории в те годы, когда совсем еще молодым человеком, приехавшим в столицу, чтобы совершенствоваться в портняжном мастерстве и оттачивать свои навыки, он принялся вместо этого лепить нечто серьезное из своего скромного дара провинциального скрипача. Вручить мне все эти вещицы было все равно что завещать энциклопедию безграмотному.
Я не представлял себе, что же с этим делать — и долго скрипка оставалась в своем футляре, в своего рода маленьком гробике из черного дерева, продолговатом, равнобедренном, с закругленными углами и двускатной крышкой с медной ручкой, крышка на боку закрывалась двойным замком. В целом наследство как бы оставалось в пределах семьи, ведь это было нечто вроде одного из тех бесполезных предметов, от которых не решаются освободиться, потому что вещь редкая или, по крайней мере, слишком связанная с воспоминаниями, словно мелодия какого-нибудь кельто-беррийского танца или что-то в том же духе, которую без конца крутят по радио, старенький, вытащенный на Божий свет мотивчик, который можно напеть, и не обучаясь годами в консерватории. А тут еще на обложке диска, купленного ко всему прочему (где была изображена группа, позировавшая вокруг повозки с сеном, которую тянула лошадка в тирольской шапочке), скрипачка (длинноволосая, курчавая, в корсаже поверх сорочки и в широкой юбке), взгромоздившись на вершине воза, стоя прямо на снопах, уладила деликатную проблему классической постановки инструмента (зажатого между подбородком и плечом, отчего не только натираешь себе безобразную складку, но и терпишь мучительные сокращения сухожилий на шее — малоприятное соприкосновение корпуса скрипки с ключицей, потому-то некоторые виртуозы кладут себе на плечо кусок фланели), упершись скрипкой прямо в грудь. Ничего не скажешь, практичная подушечка, но в этом была еще и демонстрация, что, мол, извлечь несколько звуков из инструмента можно и не учась ни в каком государственном заведении; золотое правило заключалось просто-напросто в том, чтобы играть как можно быстрее, не застревая ни на одной ноте, не давая струнам вибрировать под дрожащими, как от болезни Паркинсона, пальчиками, из-за чего их звучание сливается в один дребезжащий фальцет. Что касается остального, то тут как бы то ни было, но каждому по силам играть в меру фальшиво.
Этим я и занимался в своей комнате в университетском городке, правда, закрепив на колке сурдину, потому что «овечье руно сам стригу я давно / овечье руно сам стригу я давно» — такой мотивчик, разумеется, мог понравиться не всем моим соседям, кто-то предпочитал Моцарта, например (то есть скрипку под подбородком), или, того лучше, тишину, уместную там, где люди занимаются, я же все время возвращался к своим овечкам, к своим баранам. Хотя я и пытался придать некоторую игривость, танцевальный характер моим буколическим гаммам, однако каждую минуту ждал, что вот сейчас в знак протеста задубасят в стенку или потолок, поэтому, когда постучали в дверь, я подумал: настал последний час моих барашков, а жаль — стриж-ку-то я еще не закончил.
Конечно, прошло много лет, но, несмотря на длинные отпущенные волосы, я бы, разумеется, узнал его хотя бы по характерному стеклышку в очках, словно утопленному в глазницу, так что казалось, будто и ухо у него с этой стороны расположено чуть ближе к затылку, а поскольку дужки одинаковы по длине (оправа-то стандартная для всех полов и возрастов), то одна линза примыкала к глазу впритык. Да и голос его был узнаваемый, хотя, без сомнения, и более низкий после ломки, но манера речи, интонации — те же: ему был присущ акцент городских окраин, где тянут некоторые слоги, и это тем удивительней, что Жиф никогда не жил в деревне, разве только совсем немного, после того как его перевели в приют (дикая насмешка над никому не нужным существом). Но он пришел не с тем, с чем брат утопленницы (обновить давние приятельские отношения), и шум его ничуть не раздражал — его интересовала именно моя скрипка. Вот и хорошо, что я не злоупотреблял сурдиной. С порога он объявил о причине своего визита: ему, может быть, понадобятся мои услуги. Что ж, весьма лестно, но — после минутной экзальтации — кому он хотел внушить подобную небылицу? Кому я мог понадобиться? Недаром я не доверял. По всем углам кишели шпионы. Естественно, я уже не так жалел, что без зазрения совести выставил экс-чем-пиона мира по пинг-понгу. Теперь ко мне подослан псевдоимпресарио.
Даже не дожидаясь приглашения, он плюхнулся на мою постель, принял позу лотоса (на самом деле — портняжки, но нынче ведь все открыли для себя индийский духовный путь) и предложил мне продолжить «стрижку овец». Прежде всего он хотел убедиться, что я не сбиваюсь с ритма. Это немного деликатная материя. Напрасно я отбивал ритм ногой, нога моя сбивалась так же, как и пальцы, но не ему бы походя делать мне замечания о вероятных модификациях ритма. Ритм потихоньку выравнивался, а поскольку других танцоров, кроме меня и моей ноги, не было, можно было позволить себе и некоторые вольности. Короче, это импровизированное прослушивание проходило не без риска для меня.
Для начала, чтобы сбить визитера с толку, я зажал скрипку под подбородком, взял смычок в руку и попытался «перематывать шерсть» своих «овечек» под внимательным взглядом моего судьи, который вдруг принялся стучать ладонью по краю стола. Стоп. Я перепутал все пальцы, и он тут же сделал мне замечание, что все это никуда не годится. Пришлось пуститься в объяснения, что напрасно, де, было принимать классическую позу для этого куска, и, приставив скрипку к груди, — мол, недаром так поступают все деревенские скрипачи, — я потребовал, чтобы мне предоставили еще один шанс. «Овечье руно сам стригу я давно, овечье руно сам стригу я давно». Смычок прыгал по струнам, пальцами левой руки я иногда попадал на верные нотки, и на сей раз мой слушатель, кажется, был доволен. Он встал и, махнув мне рукой, чтобы я продолжал, встал в кокетливую позу, выгнул спину, приосанился и, руки в боки, устремив взгляд вдаль, исполнил несколько па, покружившись в пространстве между кроватью и столом и чуть не вывалившись в окно, затем танцующим шагом прошелся вдоль комнаты, время от времени притопывая каблуком — трам-там, трам-там, — то разворачиваясь к свету («сам стригу я давно»), то к дверям, ловко обходя угол матраца — трам-там, трам-там, — снова посильнее притопывая, и наконец, угодив ногой в корзину для бумаг («сам стригу я давно»), решил, что с него хватит. Но опыт показался обнадеживающим: «Танцевать под это можно», — сказал он, закидывая обратно в корзину смятые бумажки, среди которых я заметил и густо измаранные черновики рукописи о моем Жане-Артюре.
Перехватив мой взгляд, Жиф спросил, нет ли чего-нибудь еще в моем репертуаре. И тут он попал прямо в точку. По тому же образцу я напек немало песенок на этакий кельто-овернский лад, совсем как народные, но мои, к которым, если он того пожелает, я охотно взялся бы написать слова того же замеса, что и музыка. Но на самом деле ничего такого ему не было нужно, он хотел лишь музыкальную фонограмму для своей восьмимиллиметровой короткометражки, которую только что снял. Теперь мне стало понятнее, почему он выбрал такие очки: передо мной был артист.
Фильм Жифа был бессюжетным — и я тут же пожалел, что справился об этом, — во всяком случае, в нем самом никакой истории не рассказывалось. Скорее, это своего рода аллегория, если я правильно понял. Конечно же, как-то я понял, но, опасаясь превратно истолковать, попросил у него разъяснений. Я отдавал себе отчет в том, что последовательно излагать какую-либо историю — это не что иное, как проявить себя реакционером, который запудривает мозги трудящихся масс, мешая им осознать, что их эксплуатируют, навязывая им контрреволюционные модели; но разве сам зрительный ряд не представлял собой единое повествовательное целое? Другими словами, даже если признать, что термин «зрительный ряд» не совсем подходит к фильму такого типа, — может быть, на экране все-таки что-нибудь появляется. Да-да, разумеется, атмосфера. Я уже гораздо лучше проникся замыслом моего нового друга, но — признаю, что с моей стороны, возможно, бестактно настаивать, — атмосфера чего? Есть ли там, например, актеры? Не дожидаясь ответа, я тотчас поправился: действующие лица. «Так говорить предпочтительнее, — одобрил он и, снизойдя до объяснений, добавил: Мне удалось этого избежать. Вообще-то, творческий процесс послужил лишь поводом, чтобы устроить праздник: заниматься съемками фильма или заниматься любовью — это одно и то же. Дело не в том, чтобы режиссировать, по-фашистски навязывая свою волю», — тут и я возмутился: «Никогда бы не позволил себе даже представить такое!» — с чем он в полной мере согласился: «Главное — дать каждому возможность выразить, без прикрас и ложной скромности, свои творческие порывы». — «Должен получиться интересный фильм», — подытожил я. По его разумению, оказалось, что «интересный» — неправильное слово (конечно же, но сегодня я что-то туго соображаю), к тому же, результат, в его глазах, не имел никакого значения: для него что завинтить гайку, что сочинить фугу Баха — все равно, только сам процесс шел в расчет, но, во всяком случае, пока судить было рановато, да он и сам еще не видел его, свой фильм.
Высказался Жиф яснее ясного: поскольку результат не имеет никакого значения, нечего было и напрягаться по поводу просмотра. Конечно, этот «акт-не-акт» соотносится как-то с процессом творчества. Однако интересоваться собственным творением означает следовать логике интересов и выгод, замешанной на мелкобуржуазном самодовольстве. Я был весьма доволен тем, что, выражаясь диалектично, начал кое-что понимать, но тут Жиф меня прервал: он на все сто согласен со мной, только должен уточнить, что фильма не посмотрел потому, что тот еще не проявлен. Тираж негатива стоил кругленькую сумму, а в настоящее время ни гроша в кармане. Вместе с тем Жиф рассчитывал вскоре возобновить работу: его подружка на чердаке своей бабушки наткнулась на кучу серебряных приборов, которые он собирался продать на толкучке. Смогу ли я посмотреть, когда все будет закончено? Само собой, иначе бы он не пришел сюда. Но прежде, чем он объяснит мне мою роль — вот как, я буду играть? — не дам ли я ему чего-нибудь выпить? Кроме чая, ничего нет. Мой ассистент режиссера поморщился. И предложил пойти в кафе на углу (до угла надо брести с километр).
Кафе называлось «У славного рыбака» в память о тех временах, когда рядом с городом текла речка, где любили удить рыболовы. Теперь ее завалили всяким хламом, превратили в сточную канаву, и постепенно город надвигался на кабачок, который выживал лишь благодаря тому, что рядом, на свежем воздухе, в построенных посреди лесочка небольших зданиях разместился факультет, что, несмотря на протесты, окупало дорогу. Когда близился конец учебного дня, хозяева кафе срочно перекрашивались в поклонников сумасшедшей молодежи. Пока мадам Жаннет хозяйничала в зале, а мсье Луи не отходил от кофеварки и пивного крана, они обязательно отшучивались на студенческие подначки. Может быть, иногда по вечерам, когда они уже подсчитывали выручку, от усталости у них вырывалось что-нибудь вроде: и чего не приходится перетерпеть… но волосатики были так же охочи до выпивки, как и рыбаки, разве только немного шумнее, так что залогом этих усилий все-таки должна была стать обеспеченная старость.
А волосатиков если и было в чем упрекнуть, так это в том, что, заказав себе выпивку, они могли просидеть до закрытия перед одним-единственным бокалом (тогда как другие, едва сунув нос в кафе и видя, что все места заняты, разворачивались, к великому огорчению мадам Жаннет, которая бежала за ними, заверяя: ничего, мол, сейчас все потеснятся) или затеять шумную игру в настольный футбол с реваншами, решающими партиями, разделениями, объединениями, криками, протестами, под которые месье Луи с мадам подзадоривали проигравших угостить всех присутствующих.
Жиф, будучи никому не известным режиссером до порога заведения, здесь сразу же превращался в завсегдатая, судя по вопросу месье Луи из-за стойки: «Как всегда?». Как всегда — в этом ощущалось нечто от чуждого мне насилия, но поскольку я выступал в роли почитателя таланта, лучше было не вызывать раздражения, оригинальничая с чаем, поэтому на вопрос: «И тебе то же?» — я неосмотрительно ответил: «И мне». Неосмотрительно, потому что на пятой кружке и после нескольких оповещений о перерыве («извини» — прежде чем исчезнуть в глубине кафе за дверью, от которой надо было еще попросить ключ, что отнюдь не выводило хозяев из себя, а, казалось, лишь развлекало их, да и вообще они были сама предупредительность и на ходу предлагали мне пропустить пивка по новой, так что каждый раз, когда я возвращался, передо мной стояла полная кружка, и я горячо благодарил мадам Жаннет, протиравшую губкой столик, поскольку, разволновавшись, я, конечно же, опрокинул ее, кружку то есть, а мадам успокаивала меня, что не случилось ничего страшного, и тут же: «Луи, еще одну для месье») я начал жаловаться на свою судьбу. Меня поразило, сколько людей интересуются моей персоной, для одного дня этого было слишком, и, как всегда в таких случаях, слезы стали наворачиваться мне на глаза. Моему собеседнику, встревоженному такой повышенной эмоциональностью, я отвечал, что это ничего, просто у меня нет опыта. «Ты предпочитаешь белое вино?» — осведомился он.
От подобного внимания я пустился во все тяжкие, и Жиф, на свой страх и риск, заказал бутылку, которую мадам Жаннет быстренько принесла вместе с парой крохотных стопок, я тут же узнал их: Дюралекс, модель Пикардия, восьмидесятиграммовая (самая маленькая — в интересах держателей питейных заведений), поскольку сам же и продавал такие, когда работал в магазине; еще малышом я крепко-накрепко затвердил: «Здравствуйте, мадам, что вам угодно?» — а дама в ответ: «Разве мама твоя не здесь?» — это страшно выводит из себя, будто в пять или шесть лет ты не способен показать товар, обслужить клиента, который просто хочет купить рюмки; я бы уточнил для пользы тех, кто боится, что будет неправильно понят, есть ведь и такой подход к жизни: чего в детстве не сделаешь, того никогда не наверстаешь; кому-нибудь это может показаться преувеличением, но ведь не пеняют же рано начавшим артистам, киношникам или писателям. Зачем же потешаться над нашей шатией-братией? В сущности, когда говорят «стакан», имеют в виду самый обычный стакан для повседневного употребления. Роскошную, хрупкую посуду, рюмки на длинной ножке держат в буфете, из них не пьют; и на выбор показываешь простые модели, правда, из небьющегося стекла: это закаленное стекло, мадам, как у моих очков, просто специальная обработка, но уж если они разобьются, так на сто тысяч миллиардов осколочков.
Однако для того, чтобы нахваливать достоинства мелкой торговли, момент был явно не подходящий, и, оставив свои знания при себе, я вернулся к нашим баранам. «Ну так, в этом фильме, о чем там на самом деле речь?» — отбросил я все семантические предосторожности. Изрядно наклюкавшийся диалектик уже не был столь щепетилен и после некоторого раздумья, созерцая бутылки, выставленные в ряд позади стойки бара, подтянув к переносице оправу и глубже засадив стеклышко очков в глазницу, выпалил, что на самом деле он трахает там девчонку. Мы уже приложились к бутылке белого, и мои эстетические концепции стали значительно шире, так что, налив себе еще рюмочку и разом ее опрокинув, разумеется, чересчур поспешно, поскольку с приступом кашля отрыгнул немного, я согласился, что идея эта просто гениальная и непонятно, почему об этом не подумали раньше.
Наичестнейшим образом мой оппонент возразил, что думали уже и такое кино обычно называют порно, тут он резко взмахнул рукой, словно отмел всякую возможность перепутать одно с другим, а заодно стряхнул сигаретный пепел со стола: ничегошеньки у них нет общего. «Еще бы… Конечно, нет, мне бы и в голову не пришло их спутать. Ну а в сущности, что там происходит?» — «Ну, парень и девчонка… Да чего уж тут особенно объяснять?» — сказал он, подливая мне. Действительно, чего уж тут, все и без того ясно. Надо быть просто извращенным ревизионистом, чтобы поставить на одну доску сутенерство и творчество. «А в кадре они оба, то есть ты и?..» — «Подружка», — отрезал он уклончиво.
«Извини», — я, должно быть, слишком резко вскочил, поскольку стул мой с грохотом опрокинулся, а вместе с ним упал и я сам. Мне никак не удавалось встать на ноги, и мадам Жаннет, придя на подмогу, подхватила меня под руку, выговаривая мужу, что давно твердила про этот колченогий стул. Решительно, меня все лучше и лучше понимали, и жизнь не казалась мне уже такой тяжкой. Справедливость была восстановлена, а ключи опять были у меня в руках. На этот раз я никак не мог справиться с замочной скважиной. С ней, верно, кто-то напортачил, потому как невозможно было вставить в нее ключ, и после нескольких безуспешных попыток я уже собирался отдать его и просто дергать за кольцо. Но тут вмешался месье Луи и на все мои замечания отвечал, что и не подумает что бы то ни было менять, что так все и будет до самой его пенсии и, открывая дверь, добавил, чтобы я без колебаний звал его, если мне станет плохо.
Вернувшись, я обнаружил очередную бутылку с белой целлулоидной этикеткой на горлышке, на которой забавными готическими буковками было выведено: «Мюскаде». Немаловажное уточнение, особенно, если учесть, что месье Луи, пользуясь неограниченной свободой за своей стойкой, мог нацедить туда чего угодно, а мы уже были настолько хороши, что и всем-то премного довольны. Но при виде дополнительного испытания и Жифа, распластавшегося на ядовито-красном столе, меня затошнило и, даже не извинившись, я рванул за ключом, впрочем, расторопно-предупредительный бармен, опасаясь, конечно, за пол, усыпанный опилками, опередил меня и не мешкая широко распахнул дверь. Благодаря этому крохотному выигрышу во времени я добрался до надлежащего места, где из меня без усилия и вышло почти все то, что мы употребили ранее. «Мне уже лучше», — сказал я Жифу, обеспокоенному моим бледным видом. И чтобы закрыть тему, добавил, что в университетской столовой еда не всегда свежая, мясо бывает порченым, к тому же, со мной случались такие неприятности и в Сен-Косме, и тут мой приятель перебил меня, веко его приподнялось, и что-то тускло мелькнуло во взгляде: «Сен-Косм? Я учился там в шестом…»
Тотчас, несмотря на туман, сгустившийся перед моими глазами, меня осенило: это стеклышко в глазу… Ну, у кого же еще, как не у него? «Жиф, ты — Жиф». А Жиф: «Давненько меня так не звали». — «Как же тогда?» — «Жорж-Ив». — «Да ты что! Ведь этого и выговорить нельзя, нет-нет, не заливай мне, для меня ты всегда будешь Жифом, невероятным Жифом, единственным, кто мог отправиться к старенькой медсестре, которая от всех немочей пользовала обычно аспирином, и сказать ей: „Сестра, у меня болит член“. — „Член чего?“ — переспрашивала усатая старушка, не разбиравшаяся ни в анатомии, ни в кулинарии, и трое или четверо ребят, ожидавших своей очереди, закусывали губы, чтобы не разразиться хохотом. А человечек в асимметричных очках невозмутимо подтверждал: „Член, сестра“». Жиф: «Неужели я это делал?» — «Конечно, Жиф, еще бы… Как об этом можно забыть? Мы так редко могли посмеяться в отместку за все унижения, которые сыпались на нас, а это было так смело, рисково, с выдумкой… Но я думаю: твой фильм… Весь фильм в этом и был, нам всего по двенадцать лет, а дело уже в шляпе, все сыграно, и нечего больше прибавить». Но Жиф охладил мой детерминизм: «Только не говори мне, что потом я оттрахал бабульку».
Жиф — целый и невредимый, сам себе голова. Но как ему удалось пройти через все эти годы, одному, совсем одному, потому что гораздо более, чем всеми его скандальными выходками, мы были поражены одиночеством круглого сироты, этим чудовищно-уродливым клеймом гражданского состояния, — а ты знаешь, что в следующем году после того, как тебя перевели, я вполовину хлебнул такого же одиночества? Отец привез меня в Сен-Косм накануне первого моего учебного года и оставил одного прямо посреди прогулочного дворика (все ученики были уже в сборе, и в первую же ночь, когда потушили свет и в дортуаре отовсюду слышались приглушенные, в подушку выплакиваемые слезы, маленький Жиф, закутавшись в простыню, ходил среди кроватей, словно приведение, и, хотя занятия еще не начались, его поставили в угол на колени), но перед тем, как скрыться за дверью консьержки, этот рослый седой человек в последний раз оборачивается ко мне (ты, может, помнишь? — да нет, с чего бы ему помнить это?), в последний раз машет мне рукой, а на следующий год уходит навсегда. Я хотел бы, чтобы меня правильно поняли: не в новую жизнь, например, к другой женщине, он умирает, внезапно умирает на следующий день после Рождества, — а ты знаешь, что я часто о тебе думал? Я говорил себе: твои дела не так уж и плохи, а вот у Жифа вообще никого нет, он совсем один, однако не жалуется, не хнычет, полон энергии.
«Ну не совсем один, — сказал он, — у меня была бабушка». И глаза неустрашимого Жифа, быть может, из-за того, что мы смешали белое вино с пивом, на секунду подергиваются туманной, почти влажной, пеленой, а поскольку глаза у меня всегда на мокром месте, я начинаю потихоньку хлюпать вслед за ним, и вот уже слезные жемчужины скатываются в мое белое вино, но давно пора попенять самому себе на сентиментальность — хватит полагать, будто слезы тебя красят, хватит напускать на себя суровый вид, — к счастью, мадам Жаннет, тонкий психолог, принесла еще одну бутылочку, а с ней фужеры повместительней, и, наполнив их, я предложил выпить за то, что мы снова встретились, за будущее сотрудничество, а так как мне сильно не терпелось увидеть фильм, то я почувствовал, что он мне и впрямь понравится.
Представьте себе: посреди поля постель, на постели парочка занимается любовью, а вокруг играют музыканты, танцуют девушки с обнаженными грудями и с цветами в волосах. Я хорошо себе это представлял. Мощное, оригинальное произведение, настоящее явление, но меня больше привлекало другое: какой везучий этот Жиф! И как это ему удается в своих дорогих импортных очках, на сто двадцать процентов оплаченных социальным обеспечением, так легко уговорить девушек раздеться? И что они в нем находят, с его-то внешностью: низкий лоб тугодума; нос короткий и круглый, весь иссеченный, наподобие турецкого гороха; от стеклышка, как монокль, вдавленного в глазницу, когда он снимал очки, под глазом прорисовывалась складка. Не говоря уж о том, что волосы он себе смазывал, должно быть, отработанным маслом. Сказками о кино он их заманивал, что ли? Разыгрывал из себя этакого голливудского продюсера, щеголявшего самокрутками вместо сигары, а элегантным костюмам предпочитавшего тряпье от Эммауса? Тогда как я, пытаясь скроить себе милое личико, стараясь не слишком уродовать очки безобразной леской, которой обматывал толстые, как зад этой бутылки, линзы, бродил словно в тумане, тем временем лишал себя лицезрения красот мира только ради того, чтобы не читать в глазах юных красавиц досады от того жалкого зрелища, которое собой представлял. Может быть, в фарватере у Жифа и мне станет доступным царство голых девушек. Ну, так чего он ждал от меня? Думал снимать продолжение? Тогда я предложил бы ему, к примеру, поставить в поле вторую кровать.
Весь взбаламученный новаторским кино, я охладел к своему Жану-Артюру и ко всем литературным прожектам: зачем с таким трудом накапливать слова, высвобождать их из белизны листа, зачем на все это тратить время, терять его в поисках точного слова, поставленного на точное место? «Жиф, скажу тебе прямо: ты на верном пути. Мне страшно хочется бросить свое бумагомарание и засесть за сценарии. Это дело не кажется мне непомерно сложным, а потом, по-моему, оно сильнее захватывает, в нем можно полнее проявить себя. Вот, твоя подружка». — «Какая?» — «Та, которая… Словом, с которой в постели, посреди поля».
«Поле моей бабушки, — Жиф снова разволновался. — Поле принадлежало ей, и перед смертью она его завещала мне вместе с маленьким домиком в Логре. Ты знаешь Логре?» — «Нет, а твоя подружка…» — «Это на берегу Луары». — «Хорошо себе представляю, во всяком случае, более-менее, но вот та девушка, звезда твоего фильма?..» — «Для меня звезды не существуют, нет ролей важнее, чем другие; к тому же, это и не роли». — «Да я отлично это понимаю, просто хотел над тобой пошутить, а та девушка, в постели с которой… Не зовут ли ее Иветтой?» — «Нет, а что? Ты ее знаешь?» — забеспокоился Жиф, опасаясь, быть может, неловкости или путаницы в амурных делах; он с трудом приподнимает веко и в который уже раз стряхивает пепел сигареты рядом с пепельницей в лужицу белого вина, где тот и растворяется. «Нет-нет, я ее не знаю, просто в этом случае, считай, у тебя в кармане название фильма». — «Да?» — «Конечно, слушай: Жиф на Иветте».
Снисходительная улыбка скользнула по его лицу, и он снова закрыл глаза, словно хотел показать, что, несмотря на свое состояние, уловил тонкую игру слов, но не сердится на меня, однако это было еще страшнее, чем если бы он попросил не вмешиваться не в свои дела. С его мимолетной улыбкой рушились все мои киношные мечты, иными словами, мечты вырваться из круга одиночества.
Сам на себя я был немного сердит, так и пенял себе за свою слезливость, понимая, что от молчания только выигрывал, — но как было не поддаться этому внезапному восторгу, неожиданному порыву молодости? Может быть, еще долго не представится возможности потихоньку проскользнуть в одну из таких модных тусовок. Как же было не помечтать о чем-то другом для себя, нежели то, что имелось теперь, когда горизонт в тучах, а будни безрадостны? Пробуждение пришло, как и следует, резко; совершенно в порядке вещей, что меня развернули к моей келье, к моим писаниям, к моему Жану-Артюру и всему такому прочему, то есть к прежней жизни с тремя заезженными аккордами и замусоленными баранами, как если бы после надежд, что я наконец-то вырвался отсюда, круг тоски и уныния снова замыкался за мной.
И снова устанавливался прежний порядок. Жиф объяснил, что огорчаться мне не из-за чего, потому что, даже если бы его подружку звали Иветтой, в сцене, которая меня, кажется, взволновала (я даже не потрудился возразить на это), она была не внизу, а наверху. А потом, он уже придумал название. Да? А какое? Мой собеседник опять посерьезнел и, выпустив сигаретный дымок к желтому потолку кафе, почти застенчиво выдохнул: «Гробница для бабушки».
Это очень красиво, Жиф.
Определенно, я становился очень популярным: второй раз за два дня в мою дверь стучали. Из того, как настойчиво там кто-то барабанил, без сомнения, можно было заключить, что моей компанией дорожили. Но все-таки я пожалел о моем недавнем одиночестве из-за этого малоприятного шума. Обычно — во всяком случае, так обычно бывает в кино, само собой разумеется, если говорить в общих чертах, — такой напор можно объяснить двояко: речь идет о том, чтобы либо предупредить о пожаре и немедленной эвакуации из здания, либо убедиться, что жилец не дал дуба — тогда (так в кино, по крайней мере), не получив ответа, ломают дверь.
Идея поджариваться на огне плохо совмещалась с радикальным лечением моей головной боли, даже если бы это навсегда избавило меня от нее. Хотя это, может и было бы лучше, чем ощущение, будто под корень каждого волоска подложили противопехотную мину, так что черепная коробка превратилась в бункер для испытания новой серии взрывчатки, однако перспектива вляпаться в неприятности, если события станут развиваться по второму сценарию — со сломанной дверью (предупредить консьержку, пуститься в объяснения, вызвать слесаря, оплатить счет), — подвигнула меня на безнадежный маневр: попытаться встать.
Сразу после того, как жалкими остатками своего разума я отчихвостил себя и свое вчерашнее поведение, мне стало понятно, что любое мало-мальски резкое движение категорически не возможно, иначе от безрассудного толчка начнется процесс разложения студенистой мозговой материи, которую мотало в хмельной магме, словно ореховую скорлупу по волнам обезумевшего моря. Едва спустив ноги с кровати, я обнаружил следующее: во-первых, я спал в одежде и ботинках, чего обычно со мной не случается; во-вторых, ботинками я вляпался в какое-то тыквообразное месиво, размазанное, без зазрения совести, по валявшимся на полу листочкам с моим Жаном-Артюром, и усеянное непонятными сгустками, по которым, за исключением белых скрюченных червячков, еще похожих на остатки спагетти, мне было трудно вспомнить, что я накануне ел; и в-третьих, пол, потолок, стены плясали разнузданную жигу каждый раз, когда, пытаясь прояснить свое теперешнее положение, я старался осторожненько приподнять веки, налитые свинцом.
За дверью оказался Жиф, он не спросил меня, как дела, точнее, только увидев меня, заявил, что не спрашивает, как мои дела. Он даже тихонько свистнул, окинув взглядом мою комнату, и коротко грязно выругался, в чем я усмотрел намек на обезумевшее море и бурю, яростно бившуюся о мой черепной свод. Сам он, на первый взгляд, выглядел довольно свежим, волосы, как всегда, лоснились от масла, а молоденькая бородка все никак не хотела густеть, но я вынужден был удовлетвориться этим первым впечатлением, потому что глазам было больно от пляшущих стен. Тут он мне напомнил, что на этаже в конце коридора есть душ, и настоятельно посоветовал сходить туда. «Тебя ждут», — сказал он, и я, собрав на ощупь туалетные принадлежности, наобум захватив сменное белье, пробормотал: «Иду», — выказав все-таки некоторую умственную деятельность, что в сложившихся обстоятельствах меня несколько успокоило: жизненно-важные центры, кажется, не затронуты.
Вернувшись с еще не обсохшими волосами, зато разминировав кое-какие участки головы, я обнаружил, что моим жалким жилищем занялась фея. Пол, выложенный большими черно-белыми квадратами, блестел так, что мне померещилось, будто под воздействием галлюциногенного мюскаде я страдаю спорадическим расстройством чувств. Вдруг я с тревогой вспомнил о моей замаранной рукописи. Отлично помню, что — с моей-то манией все разбрасывать — листочки валялись на полу, это был длинный монолог, в котором Жан-Артюр рассказывал, как он танцевал под звуки тамтама, сторговав негритянскому королю оружие, — этот фрагмент мне стоил немалых усилий, часами я упорно соизмерял слоги и отбирал слова в зависимости от заложенного в них ритма, стараясь как можно лучше передать местный колорит: красную почву и песни туземцев, крытые соломой хижины и наряд колдуна, дергающиеся в трансе тела и трясущиеся женские груди — образ, который сближал меня с фильмом Жифа, твердившего, что он у меня ничего не трогал, а вот надо спросить у Тео. «Кто это, Тео?» — «Это я», — сказала она.
Терпеть я не мог, чтобы рылись в моих бумагах. Я всегда страшно нервничал при мысли, что кто-то случайно выхватит какую-нибудь фразу или группу слов, которые вне контекста и под неблагожелательным взглядом покажутся смешными. А потому не менее смешным будет выглядеть и автор. Но если что и пресекло мое ворчание, так это появление Тео — Тео, которую я обнаружил в тот самый миг, когда она мне указывала на испачканные листки с монологом на моем столе, Тео, которая, как все Золушки мира, подтерла остатки горячительных запасов «славного рыбака», Тео, у которой было такое забавное имя, что мне когда-нибудь еще придется это осознать, Тео, которая была связана с загадкой Жифа (как ему в таких чудовищных очках удавалось нравиться столь очаровательным девушкам?), Тео, которая, стоя поначалу в коридоре, видела, как я пробираюсь по нему с закрытыми глазами, держась рукой за стену, Тео, потому что это была она, — Тео улыбалась так обезоруживающе. И впрямь обезоруживающе, потому что, когда она прочитала мне пару фраз из моего Жана-Артюра, я вместо обычных извинений, лепета о недостатках черновика, стараний убедить, что сам я стою большего, заявил — и, слушая самого себя, проклинал и благословлял мюскаде и пейотль месье Луи и мадам Жаннеты, — что я бы не прочь быть автором этих фраз. Довольно удачно написано, не правда ли? Или вы знаете что-нибудь получше? И она согласилась.
После этого наступил очень короткий период, когда мне все-таки казалось, будто я достиг в конце концов своей цели. Жизнь не так уж неудобоварима для тех, кто нашел в ней свое место. В общем, терпимо. У чувства, которое я испытал, не было ничего общего с тайным триумфом, реваншем над судьбой; дело было только в здравом смысле, события наконец развивались в правильном направлении. Однако, несмотря на свое состояние, протрезвел я необычайно быстро. Слишком явным мне показался трюк. Меня ведь так просто не проведешь. Предыдущие методы провалились (я не раскололся, когда услышал, что моя детская любовь утонула, и ничего не выболтал, напившись), теперь решили поиграть на моих чувствах, напирая на писательскую ущербность и делая вид, будто интересуются моим Жаном-Артюром. Сразу видно: да это же классические приемчики шпионажа. К тому же, в самом имени Тео чувствовалось что-то закодированное. Но все-таки заметно было и превосходство по сравнению с предыдущими агентами. Превосходство, скорее, по существу. Да, в общем-то, и по духу, и это было совершенно в моем духе.
Кроме того, я все больше уставал от борьбы, мой Жан-Артюр все больше жаловался на одиночество, нельзя было по-прежнему рассчитывать на нерушимость стен, а при мысли, что придется снова уйти в подполье внутреннего сопротивления воображаемому завоевателю, решимость оставляла меня. Час капитуляции был близок. Постепенно мне все понятней становился механизм этой обезоруживающей улыбки: надутая верхняя губка, сощуренные глазки с черными блестящими зрачками, а на скуле маленькая родинка, которая приподнималась к нижнему веку, когда улыбка становилась шире; призрачная и таинственная, эта улыбка чудом впорхнула в поле моего зрения, и ничего не было грустнее пришедшей в мою затуманенную голову мысли, что скоро она угаснет, улетучится, навсегда уйдет, быть может, за линию мной различимого мира, чтобы слиться с другими смутными и размытыми земными формами, а с ней уйдет и прекрасная студентка с длинными каштановыми вьющимися волосами, перехваченными на затылке красной ленточкой, пока же она стоит посреди моей комнаты, сунув руки в карманы куртки с капюшоном и обшитыми шнурами петлицами, как многие здесь ходят (у меня самого, как у доброй трети факультета, такая флотская куртка), только сизый цвет ей не к лицу.
Эта отличительная черта — не к лицу сизый цвет, который элегантно выделялся и на военно-морской форме, и на хаки, — будто служила доказательством того, что у редких натур все редкое, так что, Жиф, зачем ты привел ко мне эту улыбку, такую редкую, что едва ли я встречу еще что-нибудь подобное на людных перекрестках, где я никогда, к тому же, не замечал, чтобы люди улыбались друг другу. Это эфемерное видение в моей жизни — жизни монаха-переписчика — только разбередит все сожаления. А еще я предвижу, как невыносимо мне будет не хватать ее улыбки в один немыслимо тоскливый день.
Невыносимо тем более, что красавица, помимо всего прочего, была прекрасно осведомлена о моей литературной деятельности. Включая и то, на чем я остановился, рассчитывая быстро все закончить, но меня подмывало вставить в свой текст фрагменты из чужой прозы (мне известно, женщины ухаживают за чудовищными калеками, вернувшимися из жарких стран). А пока я удивлялся, как это она все разгадала за двумя фразами, оказалось: «Ты ничего не помнишь? Мы ведь это обсудили вчера вечером». — «Да вы меня водите за нос. Жиф, она меня водит за нос. Пользуется моим состоянием. Так вот и сводят людей с ума, внушают им всякое. Сеют сомнения, так и бывает». — «Это ты нас водишь за нос», — сказал Жиф. — «Я? Вот уж не скажи». — «Что не скажи? Ну, это тот случай, когда дальше ехать некуда», — подытожил Жиф.
И пока крохотная мушка подбирается к уголку глаза, я готовлюсь к самому худшему и, забыв о противопехотных минах и танцующих стенах, настраиваюсь на то, что к толстенной книге моих унижений прибавится еще одна глава, пунцовая от смущения. Итак, я остановился, — ну что за сумбур в моей башке? — нет, Жиф, не подсказывай, вот, ты рассказывал о «Гробнице для бабушки», это было у мадам Жаннет и мсье Луи. Дальше, по правде говоря, у меня, можно сказать, провал; как я ни рою, как ни копаю, буквально выворачиваю свои мозги наизнанку, но никак не могу связать эту последнюю картинку с пробуждением под барабанный бой, вот такой пробел случился в моем расписании. Но когда я говорю пробел, скорее, имею в виду мрак. Значит, я, кажется, был с вами. Не вдаваясь в детали, чем мы занимались?
Да ничего особенного. Вот уже мне поспокойней. А еще? Ну мы, помимо прочего, по-прежнему пили. Потому-то и гудит у меня под волосами. Отчего же тогда меня выворотило этими самыми спагетти? После мы встретились с Тео и другими друзьями, и все вместе отправились к одному из них на итальянскую вечеринку, вернее, на макароны.
А я лично? Не надо все сводить к моей персоне, но как я держался? Вскоре заснул. Ну а перед тем как провалиться в кому? Не болтал ли я чего-нибудь неуместного, может, жесты какие-нибудь неприличные делал? Да нет, ничего такого, разве что все время лез поцеловаться с Тео.
Так. Кровь все бешеней гудит в сосудах, и сразу громыхнуло несколько противопехотных мин. Я с трудом приподымаю голову, и внезапный жар заливает мое лицо, будто меня коснулись лучи палящего солнца. Все-таки мне придется встретиться взглядом с прекрасной Тео и, набравшись смелости, рассыпаться в извинениях, по крайней мере, пообещать ей, что больше не буду, хотя я и оплакал уже все то, что могло бы еще между нами быть. Пусть она требует любого удовлетворения, всего, чего пожелает; во всяком случае, ничто не изгладит этого постыдного чувства, точнее сказать — ведь это не подарок, — чудовищного проклятия, но хотел бы я знать: кто на моем месте вынес бы то же, что и я? Пусть поймет, я никому этого не пожелаю, разве что своему заклятому врагу — чтобы его сделали всеобщим посмешищем, — но, положа руку на сердце, пора перестать на меня дуться? Или же попробуйте влезть в мою шкуру, желаю вам при этом всяческих удовольствий (или некоторых благодаря моему Жану-Артюру, которого вы, естественно, допишете, — но, по правде говоря, я хотел бы заняться им сам, ведь у меня есть еще определенные идеи по поводу стиля, лиризма, к тому же я доверяю своему слуху, который, если допустить такое превращение, стал бы, конечно, и вашим, — но если по ходу дела повредится, например, барабанная перепонка, что тогда будет с моим чудесным текстом? Слишком велик риск исказить его, так что, пусть я буду еще невыносимей, но, раз пошли такие сомнения, я склоняюсь к тому, чтобы самому довести до ума и подписать свою историю).
Однако на языке у меня вертелся вопрос, не менее жгучий, чем стыд на щеках: если Тео решилась навестить приговоренного в его камере, то не для того ли, чтобы разложить костер и посмотреть, как виновник преступления будет поджариваться на медленном огне, или — правда, о подобном я и помыслить почти не смел — она пришла удостовериться в силе своих чар на подопытном в стадии дезинтоксикации? В этом случае могла бы и не беспокоиться: я был так же взволнован, как если бы видел ее впервые. Слишком хорошо понимал, что пылко влюбился в нее с первого взгляда до такой степени, что, раскрепостившись под винными парами, почти пошел на поводу у своих чувств. Единственное, мне было жаль, что в памяти не сохранилась сладость ее губ, каким бы мимолетным ни был этот вынужденный поцелуй. Правда, навряд ли он и был, особенно если учесть, что мы очутились у ее дружка, не оценившего, однако, что после еды я всего лишь залил его постельное покрывало двумя или тремя рюмками вина.
Но вот она здесь, а того маньяка чистоты нет и в помине. По ее словам, она пришла справиться обо мне, опасаясь, что я не проснусь, что моя алкогольная кома, минуя ночь восстановительного сна, продолжится в потустороннем мире. Она рада видеть, что я в относительно приличном состоянии и надеется, что мне совсем полегчает и тогда я расскажу ей о своей прозе, которую вчера вечером так нахваливал за стиль и новаторство.
Эта новая информация была отмечена очередным залпом противопехотных мин, и я, воспользовавшись шумом взрыва, не повышая голоса, так что и сам себя не особенно слышал, смущенно пробормотал что-то по поводу моего вчерашнего скандального поведения. Что же до моего писательства, то совсем не нужно верить всему, что я мог наговорить и о чем совершенно не помнил, даже если я и вправду изрекал то восторженные, то упаднические суждения о собственных предполагаемых талантах. Барометр моих душевных состояний, если верить ее заявлениям, прочно застрял вчера на «к ясной погоде», отсюда она могла логически вывести, что сегодня утром — как? уже далеко за полдень? — погода совершенно испортилась, что на смену антициклону пришло невыносимо низкое давление, поэтому, если она окажет мне эту честь, мы поговорим о моей прозе в другой раз — с помощью такой обманной стратегии я надеялся вскоре опять с ней повидаться.
А у Жифа была своя идея. Тут у нас объявился министр Вооруженных сил, или Войны, или Реваншизма, которому неймется мобилизовать всю молодежь, в том числе и студентов, в перспективе конфликта планетарного масштаба, о неизбежности которого мы как-то раньше не подозревали. Потому-то, видимо, ни о чем не знавшие студенты и мнутся в нерешительности перед лицом объявленных мер.
До сих пор юноши могли требовать, чтобы их не вырывали из института до самого конца обучения, в общем, это оттягивание призыва и называлось отсрочкой. Но, должно быть, опасаясь, как бы затянувшаяся до бесконечности учеба не привела к тому, что в армию будут забривать уже почти стариков, естественно, расположенных к тому, чтобы принести свое тело в дар отчизне (ведь, как известно, отработавшие органы невосстановимы), нам предлагали исполнить свой национальный долг не мешкая, ведь армия всегда питалась молодой горячей кровью. Когда настанет пора, мы все быстренько отправимся служить родине, а вернуться к занятиям никогда не поздно.
Представьте себе, в тот самый миг, когда до вас доходит, чему же равна скорость света (G), вас и призывают под знамена. Там вы считаете «ать — два», «ать — два», что, несомненно, фундаментально для шагистики (хотя и дети малые ходят, не зная счета); обучаетесь у соседа по койке открывать бутылку пива зубами; бессчетно запасаетесь анекдотцами, которыми, вернувшись на гражданку, осчастливите своих друзей; выходите в город всей честной компанией и, как будто и без того не слишком заметны в своих ортопедических ботинках, в кургузой униформе и с обритою башкой, притягиваете к себе всеобщее внимание, прицельно пуляя по урнам; обогащаете новыми песенками свой более или менее утонченный репертуар, который исполняется на увольнительных в поездах, проход вагона надо перегородить, а то можно и по тамбурам, — когда же наступает великий день, день освобождения, и вы горлопаните во всю: даешь дембель! — размахивая над головой специально выточенным для такого случая предметом (свидетельствующим, что лишь военная промышленность наживается на вашей службе), вы еще не представляете, в какой мере утратили контакт с цивилизованным миром, и в конечном счете, вернувшись в аудиторию и заслышав от какого-нибудь салаги, малочувствительного к сумме знаний, приобретенных за год, вопрос на засыпку: ну, так чему же равно G? — захваченные врасплох, копаясь в памяти после столь безобразно затянувшегося умственного безделья, не слишком убедительно выдаете: двум ударам правой? А потом вы переписываете триста миллиардов раз для самого себя, поскольку для этого уровня уже нет более высокого судьи, чем чувство собственной ответственности: и какого же черта понесло меня на эту галеру?
Для Жифа и еще нескольких ребят, сразу принявшихся организовывать сопротивление, статус отсрочников не мог быть предметом какой бы то ни было сделки. Речь могла идти только о том, чтобы совместными усилиями студенческих масс в единстве с нашими трудящимися братьями заставить отступить обскурантистские силы. Даже несмотря на то, что по этому пункту у Жифа уже случились неприятности, когда он рано утром раздавал листовки при входе на заводы Батиньоль. Едкие насмешки тех наших товарищей, которых не очень-то касалась реформа (среди молодежи была тенденция призываться с опережением), стали для него как бы подтверждением того, что лишь пролетарский дух стоек, в чем он, вероятно, даже усомнился, когда заводская дружина, сколоченная из трех или четырех здоровяков, не церемонясь, развернула его к университету.
Этот инцидент стоил ему новой пары очков, поплоше предыдущих (которые разбились на мостовой), — так, по его словам, и становишься ближе к миру эксплуатируемых, которые в это время экономят, чтобы купить себе оправу пошикарней. Подобное стремление выглядеть зажиточней настолько обескураживало Жифа, что ему случалось спрашивать самого себя, не будет ли лучше — правда, единственно для того, чтобы не утратить связей с угнетенными массами, не опасаясь заразиться их мелкобуржуазными настроениями, — если он выберет себе более эстетичную модель. Впрочем, он собирался обсудить эту проблему на ближайшем собрании ячейки, которую сам и создал вследствие раскола в монгистском движении на почве глубокого несогласия по вопросу о макияже активисток. «С каким движением, Жиф?» — Он поправил очки, так что стеклышко придвинулось вплотную к зрачку: «Вы что, не знаете Монга?»
Обычно в подобных обстоятельствах я смиренно отвечал: «Еще бы, конечно, знаю», — отлично понимая губительные последствия такого ответа, обман-то всегда боком выходит, но Тео очень даже кстати заявила, что никогда о нем ничего не слышала. «И я не слышал», — сказал я с облегчением, радуясь, что могу разделить свое невежество с прелестной девушкой.
Жил в Сиамском королевстве такой крестьянин — Монг, в двенадцатом веке он организовал вооруженную борьбу против одного феодала, чьи собаки затравили его тощую скотинку. Но после того, как открытым голосованием постановили, что Монг был бы против макияжа активисток, Жиф обвинил его в старомодном консерватизме и начал внимательно изучать историю Лабриера в поисках местного героя, способного придать динамичность революционной активности региональных ячеек. Он и открыл некоего Аустена, который в семнадцатом веке что-то не поделил со сборщиками налогов, не столько из-за контрабанды соли (благо соляные копи были совсем рядом), сколько из-за какой-то возлюбленной, — ссора разрослась в крестьянское восстание, которое подавили с необычайной жестокостью. Движение Жифа было уже почти готово объявить миру отверженных о своем рождении, оставалось лишь отлакировать несколько статей устава, в том числе и те, которые касались разделения министерских портфелей между монгистами и аустенистами (оба движения признавали, что порознь недостаточно сильны, чтобы претендовать на всю полноту власти). А пока следовало поторопиться: скоро должно было состояться общее собрание, на котором предстояло обсудить призывы манифестации, намеченной на вторую половину дня.
Амфитеатр был переполнен. Некоторые студенты примостились на подоконниках, а несколько девчонок взгромоздились на плечи своих мускулистых приятелей, откуда, как семафоры, размахивая время от времени руками, указывали, где кого можно отыскать. Не только стулья, но и все столы были заняты. Жиф проложил себе дорогу в этой толчее, поднялся по ступенькам к группе монгистов под трибуной, на которой священнодействовали трое длинноволосых ребят, по очереди сменявших друг друга у микрофона и руководивших дебатами. Над собранием молодежи стояло густевшее на глазах табачное марево. По лавкам кипела работа: парни скручивали самокрутки, самые деликатные оставляли заказчикам право самим лизнуть языком клейкую бумажку. Просто-таки целая индустрия разнородных запахов. Самые безденежные с важным видом пускали по кругу единственный уже почерневший окурок, от которого глубоко и благоговейно затягивались, с оттяжкой вдыхая драгоценный дым, что придавало им вид добросовестных пациентов санатория, выдыхали же тонкой конусообразной струйкой, со смаком и словно с чувством исполненного долга.
Тео, казалось, не торопилась за Жифом. Грациозно помахав ручкой в ответ на приветствие совершенно несимпатичного курчавого крупного блондина, она шепнула мне на ухо какую-то банальность, которую тот тип принял, видимо, за неприятное замечание в свой адрес, поскольку поспешно отвернулся, якобы заинтересовавшись дебатами. Я понимал, что он воображает себе черт знает что о моих отношениях с красавицей в сизой куртке, и это наполняло меня таким тихим счастьем, что если б в это мгновение возможно было приостановить коловращение Вселенной, то ничего другого от жизни я бы уже и не ждал, пусть только бесконечно повторяется этот драгоценный миг, однажды озаривший мой опустошенный дух. Про себя я только сожалел, что у этого типа слишком бурное воображение.
Царила по-настоящему братская атмосфера, обращаться друг к другу можно было только на «ты». Каждый мог высказать свое мнение, не взирая на чины и ранги, и даже одну влиятельную особу, затесавшуюся на собрание со своими ретроградными мыслишками, жестко и под всеобщее улюлюканье заткнули: помолчи-ка, товарищ, выскажешься, когда тебе дадут слово. Товарищ профессор, которому оставалось два года до пенсии, запротестовал и потребовал, чтобы прежде всего к нему обращались на «вы», но его тут же заклеймили как реакционную падаль. Председательствующие зааплодировали с видом знатоков и единодушно постановили, что сам он, мол, и напросился.
Между тем подошли к самому трудному этапу собрания. Все были согласны по существу: принятые министерством меры не имели под собой законного основания и были направлены на то, чтобы детей из простых семей лишить возможности получать полноценное и добротное образование. Велика ли вероятность того, что сын крестьянина или пролетария вернется в высшую школу после годового перерыва в занятиях? Здесь произошла короткая перепалка между теми, кто утверждал, что процент возобновивших учебу будет равен нулю, и другими, напиравшими на хорошо усвоенное учение об осознании рабочим классом своей спасительной миссии и потому все-таки ожидавшими некоторый процент возвращенцев. Компромиссная резолюция звучала «и вашим и нашим», что оставляло, впрочем, все равно ничтожные перспективы товарищам из непривилегированных слоев общества. Активистка без макияжа предложила принять ответную меру, открыв по-настоящему народные университеты, где каждый, от домохозяйки до мусорщика, мог бы свободно, без предварительной подготовки и возрастного ценза, изучать кто что пожелает: и приготовление варенья, и этику Спинозы, и теорию относительности, и макраме, и теоремы Евклида. Наверное, это было бы интересно, но один товарищ с математического факультета заметил, что теоремы Евклида соответствуют уровню среднего образования, и он не видит необходимости создавать какой бы то ни было университет, даже народный, чтобы преподавать их. Что касается варенья, так он может предоставить в распоряжение выступавшей рецепты своей бабушки. «У-у-у», — взвыло собрание. Тише, товарищи. Перешли к голосованию: предложение было отклонено. Тогда-то Жиф и попытался подойти к активистке без макияжа, разумеется — монгистке, очевидно, для того, чтобы убедить ее примкнуть к аустенистам.
Теперь пора было перейти к серьезным вещам. Во всяком случае, так считал один из вдохновителей дискуссии. Это было признаком его невнимательности или проявлением минутной усталости. Назвать серьезными вещами только то, что предстояло услышать, означало, что все предшествующее — несерьезно. Кто-то, протестуя, выкрикнул: «Прием достойный сталинских процессов!». Вполне точно подмечено, однако того, кто выступил с этой репликой, тут же упрекнули в удручающей путанице понятий: на одну доску он поставил пролетарскую диктатуру и диктатуру тоталитарно-банановой республики. Замечание приняли, а затем приступили к открытому голосованию по вопросу о смещении товарища Роже Ланзака (речь, конечно, не о знаменитом ведущем известной телепрограммы «Путь к Звездам», которую мы будем смотреть у дядюшки Реми, купившего одним из первых в городке редкую тогда новинку — телевизор), и оказалось, что достаточно отпустить одну колкость, чтобы сбросить председателя, хотя и выступившего тут же с самокритикой. На смену ему пришел Жиф. Мы с Тео и впрямь этим возгордились. Я воспользовался случаем, чтобы подойти к ней поближе, улыбнуться ей, вставить свое замечание. На меня повеяло дыханием великой революции, и я смутно предвидел уже радужное будущее — что-то среднее между Иерусалимом небесным и царством ангелов.
Поскольку заявленная манифестация должна была скоро начаться, Жиф не мешкая приступил к основному вопросу — о лозунгах. Кратко изложив ситуацию, он быстро прощупал настроения собравшихся и выяснил, что чаще всего повторялся призыв: «Армии — нет!». Звучало сжато, ясно, и никаких рисунков к лозунгу не требовалось. Многие уже вставали, когда Жиф снова взял микрофон и драматическим тоном произнес: «Товарищи, только что вы единым махом приговорили борьбу угнетенных народов, которые пытаются освободиться от империалистического ига». Как это? Что он там наплел? Да мы горой за угнетенные народы. Мы приветствуем любой угнетенный народ. Да их нам, можно сказать, не хватает, настолько неисчерпаема сила нашего возмущения. Мы мечтаем опекать их. Счастлив тот, кто, пользуясь шикарной протекцией — например, дяди-миссионера, — занимает положение представителя племени Матто Гроссо, потому что от опасности, исходящей от мощной транснациональной корпорации, это племя спасут наши подписи под размноженной на ротаторе листовкой. Мы и не подозревали, что стоим перед лицом клики эксплуататоров, готовых задушить свободу. Жиф преувеличивал, но все подливал и подливал масла в огонь: «Вы играете на руку всем бумажным тиграм, всем львам из папье-маше. Что станет с нашими вьетнамскими братьями („и сестрами“, — подсказала активистка без макияжа) и сестрами, — добавил Жиф, надеясь пополнить ряды аустенистов, — если, клеймя всякую армию, вы воспротивитесь созданию народного освободительного ополчения, единственно способного разбить цепи неоколониализма, закабаляющего народы только ради прибыли? Да здравствует пролетарская армия! — выкрикнул Жиф. — Да здравствует армия народа!» Все — во всяком случае, те, кто отыскал свое место, — сели. Нюанс, подмеченный нашим другом и товарищем, заслуживал обсуждения. Прежде всего, необходимо было определить агрессора. Ну, это легко: американцы и их прислужники. «Осторожно, — предостерег Жиф, — Америка также порождает своих эксплуатируемых, с которыми мы полностью солидарны», — и он произнес слово в защиту наших краснокожих братьев («и сестер») и сестер, организовывающих сопротивление на той же самой земле, которая вскормила и кровожадных вырождающихся отпрысков капитализма пострабовладельческой эпохи. Ведь кто всегда был причиной всех конфликтов? Виновник — и все это знают так же хорошо, как Жиф, — повсюду и всегда один и тот же. Значит, и лозунг у нас один: «Нет армии капитала!» — прорычал Жиф в микрофон.
Надо признать, что благодаря диалектическому мастерству нашего друга дискуссия весьма существенно продвинулась вперед. Осталось отточить формулировку, и после целой серии поправок открытым голосованием был единогласно принят лозунг: «Нет — армии капитала, да — народной армии освобождения наших братьев — и сестер — в борьбе против империализма!». Это, действительно, звучало неплохо. Хотя, по правде сказать, голосование все же прошло не единогласно. Когда опустились все руки, одна поднялась и попросила (не рука, конечно, ее владелец) слова: выражая свою солидарность с эксплуатируемыми народами и не отрицая необходимости бороться на их стороне, выступавший, однако, беспокоился, что нигде не было упомянуто, собственно говоря, то, из-за чего все мы здесь собрались, — угроза статусу получивших отсрочку. Беспокоился именно потому, что для него как сына крестьянина подобное изменение закона было особенно чувствительным, поскольку он с большим трудом уговорил свою семью дать ему возможность продолжить образование. Он нисколько не сомневался, что через год военной службы даже речи об учебе уже не будет. Наступила глубокая тишина, вслед за которой пробежал неодобрительный говорок, не разразившийся негодованием лишь потому, что это был не сын какого-нибудь коммерсанта. Жиф признал замечание товарища-крестьянина интересным, однако время не ждет, собрание и без того уже затянулось, и он назначил место сбора у префектуры.
На трассе шел промозглый мелкий дождь. Серое ненастное небо не обещало ни малейшего просвета, никаких поблажек с погодой, оставалось только надеяться на милость зимней ночи, как надеются на любовь или смерть. Манифестанты, хмурясь и запахивая куртки, медленно продвигались вперед сквозь пепельное марево, сулившее ранние сумерки. Сняв из-за дождя очки, Жиф шел в первых рядах, но немного позади официальных вожаков, которые с прохладцей отнеслись к его инициативам, опасаясь, может быть, что это лишь прелюдия к грядущей перемене настроений в пользу аустенистов и их харизматического, несмотря на потешные очки, руководителя; вцепившись мертвой хваткой в мегафон и отказываясь его кому-либо передать, они упорно выкрикивали свои призывы, которые были куда как путанее лозунгов, а потому в колонне не слишком охотно их подхватывали. Чтобы согреться, манифестанты мало-помалу подавали голос и скоро сами все свели к незамысловатому: «долой армию», — что гораздо больше соответствовало их теперешним заботам. Но в целом не хватало огонька, затея выглядела любительской, а уж по чести говоря, просто дохленькой. Воспользовавшись тем, что мы имели столь неубедительный вид, кучка самозваных заводил, которым взбрело в голову встряхнуть всех, превратив демонстрацию в праздничное студенческое шествие, стали разыгрывать из себя шутов, подначивать прохожих, вгоняя нас в краску.
Манифестировать — это целое искусство. Совсем не достаточно просто идти за транспарантами, хором подхватывая остроумные песни со скрытым смыслом, которые запевает поэт-трибун, гундося в мегафон, смахивающий на цветок с большим пестиком (вот, к примеру, требуя прибавки у патрона по имени Пьер: «Струит лунный свет профит на Пьеро, подбрось-ка монет, чтоб нам не щипать тебя на перо»), — нет, надо шествовать с убежденным, почти ожесточенным видом, вместе с тем все-таки, не перегибая палку, выказывать детское добродушие, готовность побалагурить; без перехлестов демонстрировать жизнелюбие, свидетельствующее о том, что борец не преминет воспользоваться плодами своего труда, не предаваясь излишествам; вышагивать неторопливо и степенно, но не настолько, чтобы людям казалось, будто вы едва переставляете ноги; заговорщически улыбаться прохожим, сгрудившимся на краю тротуара, радушно приглашая их присоединяться; игнорировать замечания провокаторов, обзывающих вас тунеядцами, а главное — всем своим видом вы должны внушать всем и каждому, что ни за что на свете не хотели бы поменяться с ними местами.
Во главе нашей манифестации шли воинствующие активисты, но почти сразу за ними строй редел, словно, отставая от впереди идущих товарищей, каждый старался, не увиливая, все же выглядеть как бы сам по себе, здесь уже шли с опущенной головой, останавливались перед витринами, небрежно подхватывали слова призывов, будто удивляясь вылетавшим изо рта звукам, забредали на тротуары в надежде смешаться с завсегдатаями кафе, отстранялись от бунтовщиков с видом апостола Петра, поклявшегося, что он не знает этого человека, однако скрупулезно старались не превысить минимума, необходимого для того, чтобы создавать впечатление разделяющих бунтарский настрой окружения.
Нежная мятежница Тео не торопилась и не суетилась, помалкивала, руки держала в карманах, на лицо низко надвинула широкий и глубокий, как у капуцина, капюшон, так что с боку не было видно даже кончика ее носа; только густое белое облачко вырывалось у нее изо рта, когда время от времени она выныривала из своего убежища и, вытягивая шею, отпускала замечание по поводу погоды, которая, похоже, и не думала налаживаться. И не налаживалась: дождь припустил, зачастил, по дороге расползлась слякоть, так что мы шли, поневоле пританцовывая, чтобы не вляпаться в жидкую грязь, и это вносило маленькое веселое разнообразие в монотонность нашего пути.
По ассоциации с водой и танцами мне вспомнилась моя утонувшая наяда, и я украдкой посмотрел на ноги Тео в черных лодочках, что выглядело по-особому элегантно среди множества уродливых вездеходов и разной прочей высокой обувки, сабо на ремешках, танкеток и даже — определенно, это был спартанец — шлепанцев. Когда она грациозно и легко перепорхнула через лужицу, я осмелился спросить у нее, не занималась ли она когда-нибудь танцами и, уж заодно, не любит ли плавать. Я увидел, как лукавый глаз сверкнул из-под капюшона, и, не дожидаясь ответа, в полном отчаянии оттого, что снова сел в лужу, — разве отец не научил бы меня искусству молчать или, по крайней мере, заговаривать впопад, всегда имея про запас умное, забавное, душевное, меткое словцо, вот сколь многого лишился я с его преждевременным исчезновением, — торопливо добавил: спрашиваю, мол, из-за припустившего дождя, что, если не знать подтекста, служило слабым объяснением. К тому же я совсем извелся, не зная, что лучше вымокнуть до нитки или уж совсем выставить себя дурачком, решился все же на последнее, достал из кармана дождевика каскетку цвета хаки, которую потихоньку купил в магазине американских товаров, и, отстав на несколько шагов, чтобы не привлекать внимания моей красавицы, натянул ее поудобней со всеми мерами предосторожности (ни одна противопехотная мина не взорвалась), убедившись в смотровом зеркале машины, припаркованной на тротуаре, что козырек заломлен правильно. Затем, прибавив шагу, догнал свою сизую капуцинку.
Она же остановилась, поджидала меня, наблюдая за моими маневрами из-под капюшона. Нет, видимо, никакие усилия бежать от самого себя не могут быть успешными. Тео, которая вдруг так и прыснула со смеху, приводит вас в полную растерянность, и вы, уже не зная, как себя вести, сокрушенно и смиренно улыбаетесь, поскольку за этот смех вы готовы перетерпеть любые обиды и раны, нанесенные вашему честолюбию, а причина всему проста: в сердцевине вашего одиночества, посреди мерного шума прибоя, вечер за вечером вы, преисполненный печали и надежды, вынашивали нежный образ, так похожий на нее. Тут-то и приходиться ей объяснять, словно режиссируя свою собственную смерть, немного путаясь в медико-научных аргументах, вычитанных в иллюстрированном журнале и более-менее испытанных на практике: известно, что тепло уходит из организма, главным образом, через голову, и, следовательно, если вы не хотите простудить ноги, что хуже всего, лучше ходить с покрытой головой, иначе это все равно что отапливать дом без крыши или спать под звездным небом — отсюда уже можно выбираться в необозримые просторы: Плутон слишком далекая планета для чересчур коротких солнечных лучей, ледяные шапки Марса, межгалактический холод. Но тут, разом положив конец всем этим бесконечным разглагольствованиям о сверхновых звездах, белых карликах и красных гигантах, красавица решила, что настала пора проститься с манифестацией.
«А Жиф?» — попробовал я возразить. — «Ты о ком?» — «То есть Жорж-Ив, — выпалил я скороговоркой, — Жиф, так его звали раньше, в пансионе». — «А, он еще долго не кончит, до завтрашнего утра ему надо поспеть на полдюжины собраний, чтобы обсудить сто тысяч захватывающих проблем о судьбах человечества, в том числе, кто первым достоин высадиться на Луну — Монг или Аустен». Но, если бы я согласился переменить тему разговора — так вот оно что, значит, она вовсе не в восторге от Жифа, — она была бы не прочь устроиться где-нибудь в тепле и выпить что-нибудь подкрепляющее. И тут вместо того, чтобы оглянуться, посмотреть вокруг себя: может, это предложение адресовано кому-нибудь другому (все-таки я не до такой степени дурак и очень хорошо понял, как бы странно это ни выглядело, что дело касалось меня), — я взял инициативу на себя, и, когда на углу улицы демонстрация повернула, продолжал идти прямо по направлению к маленькому кафе с запотевшими стеклами, и красавица шла рядом со мной. Такая выходка, такая манера уходить украдкой, бросать свое место, как вы и представляете себе, немыслима — да ни за что на свете.
Едва сев, Тео откинула капюшон, и это было маленьким чудом: ее лицо вдруг очутилось так близко, всего лишь через стол, то есть приблизительно в пятидесяти сантиметрах от меня, и я мог хорошенько рассмотреть его. Лоб у нее был выпуклый, обрамленный темными, почти черными волосами, небрежно перехваченными на затылке красной лентой. Черные глаза поблескивали, но блеск этот шел из глубины, и вы не ошиблись бы, прочитав во взгляде, обращенном к вам, излишнее напряжение.
Это напряжение объяснялось тем, что она постоянно щурилась, даже когда улыбалась, из-за чего улыбка ее выглядела печальной, хотя, в общем-то, как она позже призналась, щуриться ей отчасти приходилось из-за легкой близорукости, которую она пыталась таким образом преодолеть, но в конечном счете заработав себе страшные головные боли, была вынуждена носить на занятиях очки (тогда я и объяснил ей, что дело можно разрешить гораздо проще — не напрягать зрение). Брови она вопреки моде не выщипывала, кончик носа слегка закруглялся, крохотную, как темная пылинка на скуле, родинку хотелось сковырнуть, верхняя губка выглядела капризно, и все завершалось правильным овалом подбородка, — однако официант с подносом на уровне плеч уже стоял рядом и ждал заказа, особенно от Тео, и, по правде говоря, строил ей глазки, осчастливив меня лишь высокомерно-беглым взглядом — надо же, какой промах в подборе статиста, — а Тео задумалась, расстегивая куртку (продолговатые пуговицы из светлого дерева раньше служили свистками, но я и не собирался попросить ее дать мне посвистеть), под курткой оказался пуловер из черного мохера с вырезом, открывавшим длинную тонкую шею. Черный цвет, обычно скрадывающий формы, делал Тео похожей на мою утопленницу, и я все никак не мог отвести от нее глаз.
Пока Тео, не торопясь, изучала меню, человек в жилетке, вроде бы, никуда не спешил, но теперь, после того как она сделала свой заказ, он чуть ли не заставлял меня взять абы что, ну хоть тоже самое, что и она, — грог. Когда он отошел: «Скажи, грог — это не с ромом?». Конечно, при любых других обстоятельствах я бы предпочел расстрел перспективе залить за щеку сорок градусов, пусть и чем-то там разбавленных, настолько еще не отошел от вчерашних опустошительных последствий, и все-таки сегодня я был расположен видеть вещи в новом свете.
Однако, когда она откинулась на спинку стула, я увидел себя в зеркале над банкеткой, обитой коричневым потрескавшимся молескином, и обнаружил малоутешительные вещи: на мокрых волосах, примятых каскеткой, прямо над ушами отпечаталась резинка, точно след от короны меровингов; прядь, припечатанная ко лбу, и два слегка вьющихся локона обрамляли лицо с красным от холода носом, — все это не имело ничего общего с куда как более благообразной картинкой, которую я себе вообразил. Так, все возвращалось на круги своя. Я был изгнан из области мечтаний. Приперт к действительности. И я понурил голову, словно опасаясь навязать красавице свою физиономию. Тут и свершилось чудо, еще одно. Тео обеими руками, на которые только что так уютно опиралась подбородком, растормошила мои волосы и, заставив поднять на себя глаза, спросила: «Ну, и как там Жан-Артюр, что еще с ним должно приключиться?»
Конечно, кое-какие идеи у меня были, но с некоторых пор меня не особенно интересовала эта история. Чтобы писать, нужно жить в одиночестве. Благодаря Жану-Артюру я не сдал во время трудного перехода, но сейчас, когда впереди забрезжило нечто светлое, он не должен был стоять между мной и моей зарождающейся любовью. Как они оба это себе представляли, что вот, мол, я их познакомлю и деликатно удалюсь? «Только не это, Лизетта», — как говаривал мой отец, цитируя, кажется, какую-то знаменитую реплику, во всяком случае, в театральном репертуаре Рандома. Существование Жана-Артюра зависело лишь от меня, от моей доброй воли, мне ничего не стоило без промедления отправить его в корзину для бумаг, где вдогонку ему еще поддаст Жиф, выделывая изящное па под звуки моей скрипки, на которой я сыграю что-нибудь из кельто-овернской музыки собственного сочинения. Он у меня на собственной шкуре почувствует, верна ли широко распространенная идейка, будто выдуманные персонажи становятся неподвластны воле автора и поступают так, как им взбредет в голову. Тут же, не мешкая, я ему выставил счет: «Раз уж ты хочешь все знать, что ж… Он умирает. А теперь расскажи мне о себе».
Но Тео считала, что рассказывать ей особенно не о чем, и быстренько возобновила попытку расспросить про моего героя: «Умирает, но почему?» — «Как все. А почему, собственно, он должен избежать всеобщей участи?». И я не собирался бросать слова на ветер. Нет здесь ничего романтичного, ничего похожего на судьбу покинутого и непризнанного художника, мол, мир его отверг — и сам он решает оставить мир. Нет-нет. Он умрет, как умирают многие, как умер мой отец, моя тетушка Мари, мой дед, — трагическая троица той поры, когда мне было одиннадцать лет. Здесь случилось нечто неслыханное: слезы, которые обычно наворачиваются мне на глаза при одном лишь упоминании о моих незабвенных, почти сразу переполнили чашу ее глаз, словно моя грациозная спутница взвалила на себя зримую часть этой слишком тяжкой печали, вскоре крупные капли просочились сквозь тонкую гряду ресниц, скатились на щеки, увеличив по дороге, будто линзы, маленькую родинку, и исчезли под кончиками ее пальцев, в уголках рта. О, Тео, как ты все тонко чувствуешь, как это чудесно, что ты так тревожишься обо мне, как, должно быть, тебя удручает картина мира: повсюду нищета, страдают люди, а революция все никак не наступает, — но не плачь, ничего, посмотри, как я от этого оправился, как теперь у меня все хорошо, я, можно сказать, и сам уже почти не плачу, да и не плакал бы вообще, если бы не сострадал тому, что ты мне сострадаешь, это старая история, — и зачем проводить время в сетованиях, все сыпать и сыпать соль на старые раны, когда жизнь может быть такой прекрасной, исполненной столькими надеждами? Но, обратив ко мне свое прекрасное и грустное лицо, она посмотрела на меня так, что все во мне перевернулось, и я с трудом сдержался, чтобы не сжать его руками, а Тео дала мне понять, что моя история, конечно, душераздирающая, но плачет она не совсем поэтому, — так в стотысячный раз меня поставили на мое место, за пределы которого лучше б не высовываться, сетуя, почему мне никогда не встретится кто-ни-будь сильный, на все способный, который пожалел бы меня за мои слабости, за мою немощь, да и внушил бы как-нибудь, может быть, под гипнозом, чтобы я семьдесят семь раз язык во рту поворачивал, прежде чем заговорить, а не то опять вляпаюсь в неприглядные ситуации, из которых, как правило, выхожу, к собственному прискорбию, с печатью стыда на лбу и с опустошенным сердцем. Почему я всему учусь на своих синяках? Ведь и вправду, вся эта придумка о сострадании и ломаного гроша не стоила, из ее печальных объяснений следовало, что не у меня одного в жизни произошла такая драма; да, отцы умирают у многих, в том числе, и у нее, после этого и года не прошло; и тем лучше, если моя рана уже затянулась, ее — еще кровоточила, и порой это было настолько тяжело, что она хотела бы умереть.
Нет, Тео, нет, только не умирай, только не теперь, мы ведь совсем недавно познакомились. И зачем это мне взбрело в голову расправиться с моим бедным Жаном-Артюром? Чисто из ревности, как устраняют соперников… А между прочим, именно благодаря ему ей запомнилась наша встреча. Мне бы его лелеять, наделить ради такой удачи десятью тысячами лет жизни. Но уже слишком поздно, чтобы воскресить его, дело сделано, да и не вернешь этим отца Тео. Я ждал, что она встанет и оставит меня одного перед бокалом дымящегося грога, от одного запаха которого меня поташнивало, но так как, к моему великому удивлению, она по-прежнему сидела, печально затягиваясь ароматной сигаретой, которую достала из сумочки, и посматривала сквозь застекленную дверь кафе на прохожих, мчащихся под ливнем, я, само собой, решил сыграть самую свою любимую роль, да и выходила она у меня лучше других, словно я для нее специально создан: роль наперсника сестры Эноны и брата Леона.
Тогда расскажи мне, Тео, лучшего собеседника тебе не найти. Сироты по отцу, когда они встречаются, похожи на виконтов. Что они, по-твоему, могут рассказать друг другу? Ты знаешь, я заметил, что у всех моих друзей генеалогия прихрамывает. И не случайно. Кто не прошел через это, ничего не понимает. Что ты хочешь им втолковать? Пусть живут своей обеспеченной жизнью. Мы движемся вперед лишь благодаря нашим ущербным часам, мы ковыляем кое-как со своими покалеченными надеждами в суме. Стоит мне только кликнуть клич верным теням моей памяти, как мы восстановим с тобой весь этот ужас, и тогда-то весь я твой. Смерть, да я знаю ее, как облупленную. Я начинаю, если это поможет тебе: со мною это произошло после Рождества.
У нее все случилось на Сретенье. Напевая, она замесила тесто для блинов и, пританцовывая, украсила стол гирляндами и свечами, потому что ее больной отец поправился и вот-вот должен был вернуться домой. Ее мать уехала за ним в далекую горную клинику, откуда его решили выписать, и это было хорошим знаком, знаком, что все пойдет по-прежнему, и вот тесто уже лежало в квашне, когда машина остановилась перед дверью дома. И когда радостная, веселая Тео примчалась, чтобы броситься в объятия столь долго отсутствовавшего дорогого отца, мать завопила: «Не подходи!» Впрочем, это было в характере матери, она всегда кричала, отец же никогда не повышал голоса, а если и повышал, то чуть-чуть, да и сейчас он спал на переднем сидении, запрокинув голову. В этом был весь он: старое заснувшее дитя. Но на самом деле, ты понимаешь, он не спал.
Из глаз Тео снова полились слезы. Двадцать последних километров рядом с матерью, ведущей машину, на «месте смертника» ехал мертвец. И, когда Тео открыла дверцу, все произошло почти так, как она это себе представляла, с той лишь существенной разницей, что хэппи-энд ее сценария обернулся кошмаром, отец упал ей на руки.
А теперь она хочет уйти. Все равно куда, и почему бы не к ней? Ища взглядом моего одобрения, она сказала, что хочет продолжить — ну, продолжить, как я прежде всего понял, пить грог или что-нибудь в этом роде, — и этот призыв причаститься от одной чаши я истолковал как свой миссионерский долг. Все, что ты пожелаешь, Тео, хоть прямой дорогой в ад.
Выйдя из кафе, набросив капюшон на голову, она с удивительной нежностью взяла меня под руку, как обычно ходят старые супруги — в общем-то, жест из арсенала заматерелых реакционеров, но вдруг, поскольку это исходило от нее, я почувствовал, что сейчас он был жестом стойкости, независимости, демонстрацией своей исключительности. И вот рука моя взята в плен, хотя у меня и была необходимость ей располагать, чтобы натянуть каскетку, ведь ливень лил пуще прежнего, но, разумеется, ни за какие сокровища мира я не стал бы высвобождать ее, тем более что этой мелкой неприятности, дождю то есть, я обязан одним из самых деликатных за всю свою жизнь знаков внимания — чуть позже, уже у нее дома, она посмотрит на мою морду промокшего спаниеля и примется вытирать мне волосы полотенцем. Но до этого мы еще заходим в маленькую бакалейную лавочку, от ее небрежного «здрасте» бакалейщик приходит в милое замешательство, он потихоньку вздыхает за своим прилавком, без сомненья, целый день поджидая, когда же она появится, очевидно, навеки ею очарованный, иначе зачем бы ему упрашивать, чтобы она расплатилась за фляжку рома когда-нибудь в следующий раз, уверяя, что все это не к спеху, категорически отказываясь от моей купюры, в надежде вскоре увидеть ее, иметь с ней хоть что-то общее, пусть даже долг.
Перед огромным каменным зданием, отделанным рустами, Тео объясняет мне, что хозяйка — старая, немощная дама, которой в обмен за жилье, комнатку под самой крышей с единственным окном, она читает и оказывает мелкие услуги: ходит за покупками и отвечает на ее почту. Поэтому просит меня идти по коридору и подниматься по лестнице на цыпочках. Слух у хозяйки не такой уже острый, как прежде, но между ней и молодой чтицей был заключен договор, что посетителей она будет принимать в холле. Про себя я радовался, что мне предоставлена льгота, видел уже в этом знак особого внимания, но вдруг, когда она попросила не наступать на скрипевшую ступеньку, до меня дошло, что этот маневр повторялся много раз. И по моему розовому небосклону проплыло серое облачко.
Несмотря на сгущающиеся сумерки, комната была залита золотистым светом фонаря, висевшего прямо перед окном мансарды. Можно было и не зажигать лампу. Тео объяснила, что ей нравилось сидеть в полутьме, а если хотелось почитать, то она пододвигала стул к окну. Разномастная мебель была собрана по всему дому, но стильных кресел или подделок под них здесь хватало. Однако Тео усадила меня на свою постель, чтобы вытирать мои волосы. Вода для грога нагревалась в кастрюле на электроплитке (старая модель с нагревателем в виде спирали), тишину пронизывал шум автомобилей на бульваре перед домом, и я придумывал, что бы такого сказать умного, и ничего не мог придумать, а нужно было что-то веское, значительное, чтобы утолить все ее печали, навсегда развеять тоску.
Я чуть было не изрек, что когда-нибудь она пожнет все, что посеял ее отец, но на сей раз внутренний голос очень кстати посоветовал мне оставить эти пророчества при себе. А потом Тео захотела мне рассказать что-то еще, и, чтобы слушать, надо было, конечно, поудобней устроиться, поэтому причесав меня, вернее, все так же взъерошив волосы, — кажется, это у нее привычка, — она заставила меня откинуться назад, я чуть не ударился затылком о стену, пришлось слегка развернуться и разумней всего было уже просто лечь.
Кроватка была узенькой, одноместной, и, чтобы не упасть, она уткнулась головой в мое плечо; это придавало мне смелости — появилась возможность даже как-то извернуться и при случае поцеловать ее, — но помимо того, что я хотел загладить мою вчерашнюю бесцеремонность, наполненные слезами глаза Тео были настолько серьезны, что мне стало ясно: нам следовало устроиться так, чтобы все-все обсудить и найти лекарство от ее мучений. Кроме того, она настаивала, что ей хотелось мне сказать нечто такое, чего она никогда никому не говорила. «Секрет?» — отважился спросить я. Но она уже встала и вылила всю маленькую бутылку рома в кастрюлю, прежде чем перемешать, добавила сахара, потом поровну разлила напиток в две большие чашки, похожие на те, в которых нам когда-то приносили очень соленое деревенское масло, обычно украшенное вырезанным деревянной ложкой полумесяцем.
Теперь, чтобы не обжечься, мы устроились сидя и потягивали дымящийся грог, а я ужасно переживал, что, когда мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, я не воспользовался, можно сказать, историческим шансом, как если бы две кривые геометрического пространства прошли через точку соприкосновения и, вновь изогнувшись, непоправимо устремились в разные стороны. И тогда, вспомнив, чему я был обязан этой выгодной позицией, не отрывая губ от чашки, застенчиво, отчаянно, как бросаются в воду, я выдохнул: «Ты, кажется, хотела что-то мне сказать?». Но она не ответила, словно ее целиком поглотило занятие ингаляцией над сильно концентрированными парами алкоголя, и, побаиваясь, что она уже сожалеет о своем приглашении, думает, будто я вообразил себе невесть что, и ищет, как бы положить конец этому недоразумению, я решил опередить события. Если бы грог не был таким горячим, я бы разом проглотил его и, поставив свою, по меньшей мере литровую, кружку на столик около кровати, горячо поблагодарил бы Тео за угощение: действительно, в такую погоду это было именно то, что нужно, однако очень жаль, но время бежит (тут я смотрю на ее будильник, то есть почти носом тычусь в циферблат), а меня еще уйма работы — и я бы резко встал, — еще раз спасибо и до скорого, может, как-нибудь пересечемся в коридорах или аудиториях, — и, пустившись наутек, скрипнул бы этой проклятой ступенькой на лестнице, а старая, немощная дама спросила бы, что я там делал, — о, ничего, мадам, совсем ничего, не подумайте чего-нибудь такого, из-за чего можно было бы вашу чтицу, якобы нарушившую контракт, выставить на улицу, чтобы Тео, оставшись без крова, справедливо решила вычеркнуть меня из своей жизни.
Но я лишь прикоснулся к твоей жизни, Тео, ведь асимптоты никогда не пересекаются; впрочем, я скоро перестану тебе докучать, я знаю, что ты не одна; по-моему, я правильно понял: у тебя есть друг, и я прошу, передай ему мои извинения за вчерашний инцидент, за испачканное покрывало; правда, жаль, что грог так медленно остывает, иначе я уже давно был бы на улице, ничего больше не дожидаясь. В результате я обжигаю себе пищевод, из-за чего начинаю судорожно кривляться, и при виде этого лицо Тео перекашивает натянутая улыбочка, которую я истолковываю так: бедняжка, наивный мальчик, глупыш, — но, разгадав мое ужасное состояние, она немедленно приходит мне на помощь: «Ничего страшного», — говорит она.
К тому же, она решила больше с ним не встречаться, со своим, так называемым, сердечным дружком, на это есть тысяча и еще одна причина: «Он проявил себя так нехорошо по отношению к тебе». — «Неужели?» Впрочем, я не особенно удивлен, однако немедленно поздравил себя с тем, что покрывало его отправилось в химчистку. И все же я не хотел бы стать причиной вашего разрыва; поверь, его оскорбления мне совершенно безразличны, я даже не могу ни одного вспомнить. Конечно же, все уладится, и вот, когда я уже предлагал себя в качестве посредника, Тео поставила кружку на столик и пристально посмотрела на меня прекрасными, грустными, блестевшими от слез глазами. О Боже, что я еще сказал такого, чего не следовало?
Так, потихоньку, одно за другим, с пятого на десятое, всхлипывая, она мне все рассказала. Трагедия ребенка, иногда такое случается и об этом стараются напрочь забыть, окунувшись с головой в ничтожные, но упорядоченные дела, без особых последствий, насильно вытеснить воспоминания, но они выныривают, ранят, режут по живому, искажая все, на всем оставляя отпечаток безнадежности, настолько все это памятно, — невыносимая драма, оставившая и в душе, и в плоти невещественный след, куда более ощутимый, чем открытая рана. И хотя ни ран, ни шишек, по-видимому, уже нет и в помине, как нет и ничего, что не давало бы жить, все равно что-то притаилось, какой-то осадок, и вот опять ухитряется все искорежить. А ты, подбирающий осколки разбитой памяти, острые, как стекло, больше не можешь быть безучастным наблюдателем — тихим и неподвижным, не имеющим ни сил, ни воли замолвить утешительное слово или хоть как-то еще проявить свое сострадание, и все слова, понятия, дела сдвинулись с привычных мест, а сам ты превращаешься в сейсмограф, фиксирующий подземные толчки чужого горя, в писца, регистрирующего чей-то плач, ты весь — само внимание, но остаешься только свидетелем страданий, смирившимся с тем, что не можешь их разделить. Обещаю, Тео, я никому ничего не скажу. Это твое сокровенное, твоя боль. Никого это больше не касается.
Настала ночь, золотистый свет фонаря залил всю комнату, и на паркете распласталась тень от оконного переплета. Тео, закончив свою исповедь, реже стала всхлипывать, наконец встала, чтобы задернуть занавеску с растительным орнаментом, висевшую на латунном карнизе и не слишком перекрывавшую доступ свету, отодвигавшему все-таки ночные страхи на некоторое расстояние в этой относительной полутьме. Вернувшись, она растянулась на постели, оперлась локтем на подушку, опустив голову на руку, а другой рукой притянула меня к себе, и мы улеглись лицом к лицу, глаза в глаза.
В сумеречном свете, сочившемся сквозь занавески, я видел, как блестят глаза Тео, ее прекрасные, растерянные, почти молящие глаза, и мне казалось, что она готова броситься на шею первому встречному, если он пообещает облегчить ее страдания. Какое искушение стать тем самым доктором Айболитом, который может излечить от сердечной золотухи, а губы ее оказались так близко, что это и впрямь походило на игру в доктора, которая годилась даже для застенчивого неумехи: преодолеть несколько сантиметров, которые нас разделяли. Но едва я прикоснулся к ее губам, как она резко отстранилась, даже слегка отодвинулась, чтобы сказать еще кое-что; она хотела, чтобы все было совершенно ясно и я бы знал, чего мне следует ожидать, между нами не должно быть ни малейшего облачка.
А я-то думал, что после первого откровения самое тяжелое позади, что теперь мне все нипочем: говори, я слушаю все так же внимательно, все с таким же интересом, — и правда, слушая ее, я чувствовал, что ей надо как-то определиться: смерть отца потрясла ее так, что она официально обручилась с человеком, намного ее старше, но вскоре порвала с ним, а дальше пошла целая череда приключений, в том числе и с женщинами, поэтому чувствовала она себя немного растерянной, — и я понимал, что она пыталась объяснить, как ей трудно найти мне местечко посреди этой несусветно сложной галактики. Все это свидетельствовало о ее необычайной честности, даже если я считал, что мои жизненные обстоятельства в масштабе всей планеты выглядят куда как благоприятнее. Однако, зная, насколько небо переменчиво, и опасаясь, как бы мне не прождать сто семь лет, пока опять не объявится моя прекрасная комета, я спросил самого себя, так ли это действительно лестно, что я для нее совершенно не похож на всех остальных, ведь сам-то я ничего не хочу, кроме как походить на тех, кто держал ее в своих объятиях.
И, злоупотребляя своей ролью конфидента, от всего сердца желая разделить участь нормальных людей, я осмелился просунуть руку под ее черный свитер, который она надевала прямо на голое тело, и осторожно, кончиками пальцев, скользнул вверх по спине до застежки лифчика. И это уже многое говорило о Тео, поведение которой лишь невнимательные наблюдатели могли объяснить сексуальной революцией (я, судя по всему, пропустил ее начало), ведь по манере одеваться Тео совсем не вписывалась в рамки этой самой революции, впрочем, отнюдь не строгие. Так что красавица держала свою планку. Это открытие меня успокоило, и я почувствовал, что вполне готов услышать последнее признание. Видимо, не все еще было сказано (губы снова от меня отодвинулись, и я уже стал немного уставать оттого, что меня все время прерывают). Да, Тео? Нет, на сей раз ей слишком стыдно. Ну ладно, говори же, разве есть еще что-то такое, чего я теперь не мог бы понять? Мы вместе перелистали самые сокровенные, самые интимные страницы дневника ее душевных ран — какая кода, какие объяснения могли сказать больше, чем грустный свет, лившийся из ее глаз? Все остальное второстепенно, быть может, стыдно, но из ряда обычных несуразностей жизни.
Но когда я ощутил под своими пальцами ее кожу, моя способность к сопереживанию заметно поколебалась, и я даже стал проявлять некоторые признаки нетерпения. Хорошо, расскажи мне все, Тео, и не будем больше об этом, хватит уже так жестоко лишать меня твоих губ. Она запнулась, на мгновение задумалась: нет, и впрямь, не надо, не настаивай. Я попытался настроить ее на рассказ, как это делал раньше. Что-то тяжелое? Она от этого, должно быть, еще не оправилась? Возможны какие-то последствия? Нет-нет… что я там себе вообразил? К тому же, она сожалеет, что понапрасну затеяла этот разговор, и потом нечего тут особенно раздувать, в конце концов это ее личное дело. Я ни о чем и не спрашивал, как хочешь, Тео. И, когда мы снова принялись за любовную игру, в голову мне стали приходить самые дурные предположения из каталога проступков, в которых признаться невозможно: переспала с профессором, чтобы узнать экзаменационные вопросы? занималась проституцией? была замужем за банкиром? скомпрометировала себя с судьей? завербовалась в полицию? — но разберемся в этом позже, потому что Тео, задрав руки, стаскивала с себя свитер, и в темноте внезапно вспыхнули два белых пятна ее лифчика, и уже ни о чем другом, как вы понимаете, думать я не мог.
Следующий день начинается с упреков. Не за то, что произошло, за это можно лишь воздать благодаренье Тео, небу и целому свету, но за то, что по-хамски себя вел. Не с девушкой, конечно, — здесь мы (ох уж, это целомудренное «мы» царственных особ) сначала грешили, скорее, излишней деликатностью, а потом не сумели во всей полноте насладиться каждым мгновением, ничего не упустить, все оценить по достоинству. Взять хотя бы лифчик, эту двойную подставку для шедевра плоти: смыкая пышные груди, он будто прорезает между ними глубокую, похожую на воронку складку, куда обрушивается, как в черную дыру твой взгляд, и свет, и желание; а тонкие бретельки, пересекающие ключицы… Как, если вдуматься, все это быстро промелькнуло. Зачем надо было так набрасываться на застежку, пытаясь во что бы то ни стало, пусть и боязливо, расстегнуть ее и триумфально, хотя и смиренно, одним движением все стянуть, вместо того чтобы, не спеша, наблюдать, как расцветают, высвобождаются из тенет ее груди, выпрастываются медлительно и тяжело — едва застежка поддалась, коричневый венчик соска наполовину показывается над кружевом, словно ночное солнце появляется над белой дымкой, бретельки медленно соскальзывают, а плечи, кажется, хотят стать меньше малого, сложиться, словно стараются проскользнуть в узкий проход, и наконец гибким движением опытного иллюзиониста выламываются из своей атласной колодки, на мгновенье сжав ложбинку меж грудей, и одна за другой высвобождаются руки; но прежде чем сложить ладони лодочкой, чтобы принять в них две схожих, как водяные капельки, жемчужины, чего мне стоило хотя бы мельком посмотреть на лифчик, который уже лежит на полу, напоминая покинутый кокон, сброшенный крыльями бабочки, еще недавно укрывавший все, что явлено теперь. И это один-единственный пример. Вообразите себе остальное.
Итак, упреки. Ты хотел бы вернуться обратно, вновь просмотреть вчерашний фильм, но замедленно, останавливаясь на некоторых кадрах, раздваиваясь, покидая собственное тело (вот уже другой пример), чтоб восторгаться ее прекрасными ногами, пока она обнимает тебя за талию, чего ты на самом деле не мог видеть, поскольку все это происходило за твоей спиной, к тому же в это время ты словно погружался в ее широко открытые глаза. Да, это было чертовски здорово. Как тысяча других прекрасных моментов. Значит, надо смотреть все заново. А лучше всего, раз у тебя нет машины времени, вернуться к этому опять.
Вот почему на следующий день ты и возвращаешься к ней (ведь ночь была коротковата: чтица, боясь, как бы ее не застукали, выставила тебя, когда пробило два, но поскольку свет на лестнице зажигать не разрешалось, ты все-таки скрипнул знаменитой ступенькой, пятой, а ведь тебя предупреждали, да и сосчитать до пяти не такое уж сложное дело, просто ты встал не с той ноги). И никак не вспомнить, о чем вы договорились, расставаясь: увидимся, да, нет, быть может, завтра, как-нибудь — или она попросила времени на размышление? Но тебе-то не нужно особенно напрягать извилины, это так просто — ты мне только скажи: приходи. Однако, по мере того как ты приближаешься к огромному каменному дому, тебя начинает разбирать сомнение, да ты еще и дрожишь, как цуцик, потому что штормовка не высохла за несколько часов — ночью пришлось возвращаться пешком, под дождем, автобусы в такой час не ходят, а взять такси слишком накладно. А если тебя примут не так, как ты надеешься? Если было лишь мимолетное единодушие и дальше ваши дорожки разбегаются? Ну уж, нет! Не приснилось же тебе все это.
Не приснилось; чтобы убедиться в этом, ты проводишь рукой по ноющему от кровожадного укуса красавицы плечу, но вскоре выяснится, что ночь вам подала разные советы. Совсем немного осталось до того, как улетучатся твои иллюзии. Всего минутка, пока Тео спускается открыть дверь на твой звонок (крохотная такая медная кнопочка в мраморном кольце), и вот она уже тебя видит, удивляется, на лице появляется недовольная гримаса: а-а… это ты. Конечно, а кто же еще? Да хотя бы тот, кто пришел, тебя не спросясь, сразу вслед за тобой, кому за твоим плечом она сейчас широко улыбнулась, словно ты стал прозрачным. Тогда ты разворачиваешься и уже через секунду люто ненавидишь его. Что отразится на его лице, когда он встретит твой взгляд, пропитанный неприязнью к этой улыбке? Но он смотрит на тебя свысока и с чрезвычайным апломбом, как на негодного выскочку (бессовестно пользуясь тем, что выше тебя на целую голову). Ведь в конце концов кто пришел первым? Значит, кто из нас двоих здесь навязывается, обманывает, не церемонится, прямо-таки плюет на право первенства? И, в общем-то, не из-за его ангельского личика с ясными очами да в кудрявых локонах я послал бы его ко всем святым без исповеди. Кстати, примут ли его в такую компанию? Во всяком случае, лишним не будет, если ему там преподадут несколько уроков этикета… А Тео? Почему она продолжает ему улыбаться каждый раз, как они встречаются взглядами, тогда как со мной у нее лишь плаксивая мина, выражение вековечной мученицы, которой я перевязал все раны одну за другой? Кто же этот шарлатан, человек-пилюля, возвращающий на ее лицо улыбку, пока я рядом хлопаю глазами? И вот она представляет мне Диего. Своего испанского друга, как она вынуждена уточнить.
Естественно, имя что надо, однако я не могу припомнить, чтобы во втором своем признании она называла его среди своих поклонников. В перечне местных имен такой экзотический штрих от меня бы не ускользнул. Может, утром ей просто не хватило времени вытащить его, как фокусник кролика из шляпы, да я и не вызывал этого «джина из бутылки», нажимая на звонок. Значит, она решительно хотела скрыть его от меня. Вот оно, третье признание? Но разве так уж стыдно, что у тебя любовник с Пиренейского полуострова? Или тогда — ничего другого мне в голову не приходило, — это внук Франко. Этим все разом и объясняется. Хвастаться тут, конечно, нечем. Признаться в подобном преступлении перед борцом за монго-аустенистское правое дело — все равно, что добровольно предстать перед народным судом, а народ у нас не миндальничает с классовыми врагами. Конечно, она круто рисковала: ее могли изгнать из ячейки или что-нибудь в том же духе.
И все же один момент во всем этом меня смущал. Быть может, стыдясь, — но она, очевидно, им дорожила, своим фалангистом, — посмотрев на него извиняющимся нежным взглядом, она взяла меня под руку и, отведя в сторону, на тротуар, принялась за объяснения. В чем дело, Тео? Я не дурак, и глаза у меня не в кармане, пусть я не очень хорошо вижу, но все же и не слепой. Вольно тебе путаться с душегубами, пролетарская революция сумеет распознать своих, но, когда монго-аустенистская идея просветит весь мир, я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы твою красивую голову не обрили, моя дорогая Тео. Или, может, мне случится подобрать твои срезанные пряди, чтобы спрятать в них лицо, вдохнуть их запах и, оплакивая мою прекрасную утраченную любовь, вспомнить благословенные часы той ночи, когда мы были близки. Не трудись, натягивая перчатки, объяснять мне то, что и без того яснее ясного, иди скорей к своему идальго и не беспокойся обо мне, у меня чудесные воспоминания, их мне надолго хватит. Имея гораздо меньшее — несколько смутных сценок вокруг милой утопленницы, — я ухитрился промечтать долгие годы. Представляешь, тем, чем ты меня одарила, я заполню целую вечность.
«Ты будешь мне рассказывать, как дела у Жана-Артюра?» — Обязательно, Тео, только, боюсь, ничем хорошим эта история не кончится, а его матримониальные планы, жениться на сестре товарища, канут в воду. Оставь меня, я должен выплакаться.
Прямо безумие какое-то, впрочем, на сей раз предлог был красив — любовные огорчения, во всяком случае, что-то подобное, — и слезы, можно быть уверенным, вполне обоснованные, не заставили себя ждать, ну и пусть сентиментальность все это, причина для них самая что ни на есть благородная. Льются, может быть, слишком обильно, словно ситуацией воспользовались пожарные, которые всегда готовы, по своему усмотрению, затушить полыхающее пламя, а кто поджигатель — неважно, будто их усердие выражает не более чем физиологическую потребность в разливании воды, будто им просто выпала такая удача, а в сущности, им глубоко безразлична моя боль. Внезапно из-за подозрения в неискренности, — может, это у меня всего-навсего профессиональный рефлекс великих трагических актрис? — я засомневался в своих чувствах. Ведь если даже я и докатился до того, что, медленно удаляясь от большого каменного дома, удрученный своей печалью, чувствовал себя потертым интриганом с разбитым сердцем и огрубевшей кожей, то все равно не должен был упускать из виду, что все происшедшее сводилась лишь к двум вечерам (о первом у меня не сохранилось никаких воспоминаний), обрамляющим день, который, в основном, был потрачен на борьбу с разрушительными последствиями адских смесей Жифа. Достаточно ли этого, чтобы выдумать себе целую историю?
Однако оставалась еще одна загадка: что такого я наговорил в алкогольном угаре, от чего красавица, несмотря на мое хамское поведение, выбрала меня в конфиденты? Какие такие сделал ей предложения, между двумя попытками сорвать поцелуй, что она решилась показать мне изнанку своей зачарованной грусти? Никто ведь не просил ее на следующий день, беспокоясь о моем здоровье, сопровождать Жифа до моей комнатенки и, более того, безропотно в ней прибраться, вычистив все следы вчерашнего безобразия. Каким бы это ни казалось невероятным, но она сама — она, Тео, черноокая, белогрудая — пожелала вновь увидеть меня, меня-то, Жана-Артюра в циклопических очках. Значит, в ее мыслях мне была отведена, хотя бы несколько часов, неожиданная роль долгожданного. В самую пору воспеть хвалу пьяной разнузданности, не беря, понятно, в расчет похмельный катаклизм, страшный лишь до следующего раза. Но, в конечном счете, естественно, мое естественное состояние ее разочаровало; разочаровывать — все равно что обворовывать, да и я — это не он, не идальго, например, так пусть он и торжествует. А мне не обязательно тащиться по улицам с понурым видом, выставляя на всеобщее обозрение свои пресловутые любовные страдания. Лучше поскорее улизнуть, тем более что я и не надеялся, что они будут провожать меня взглядом, пока я не заверну за угол, им ведь не терпелось остаться наедине, и я был почти уверен, что франко-испанская дружба сделала уже значительные шаги, благополучно миновав фатальную ступеньку.
Красноречивее, чем слезы, о крушении моих надежд говорила поспешность, с которой я ретировался, я все прибавлял шагу, пока наконец не побежал, и бежал все быстрее и быстрее, не сбиваясь с дыхания, наоборот, мне казалось, будто дышу я бесконечно мощно и ровно, а ногами едва касаюсь тротуара, как во сне, когда ощущаешь такую легкость движения, как в состоянии невесомости, взмывая на несколько метров, опираясь на воздух согнутыми в локтях расставленными руками, упершись ладонями в бедра, так и летя беспрепятственно над землей. Я настолько не чувствовал ни усталости, ни спазмов в горле, что не понимал, почему школьные кроссы запомнились, как сплошная агония. Улицы проносились подобно нарисованной панораме, разворачивающейся в кино за окном неподвижного автомобиля, вслепую я сворачивал то на одну, то на другую улицу, проскальзывая между машинами, перебегая запруженные дороги в неположенных местах, перепрыгивая через неожиданные препятствия — ящики перед бакалейной лавкой, — толкая на полном ходу слишком медлительных прохожих, не торопившихся уступить дорогу полупомешанному, который даже не просил посторониться, не извинялся и не обращал внимания на предупредительные гудки водителей, их проклятья, и вообще — ничего не видел.
Мой горизонт еще более сузился. Слезы застилали последние доли оставшихся у меня диоптрий, бег мой становился все хаотичней, размывались отблески впечатлений от действительности, а ведь с помощью этих светящихся точек я составлял обычно карту неба для своих земных нужд. Я бежал так быстро, что не мог сориентироваться, мир раскрывался по мере того, как обрушивался на меня, и мне казалось, будто я двигаюсь внутри кристалла с тысячей отражающих граней. Лицо Тео вставало между мной и этим миром зыбких мнимостей, но и оно было настолько затуманено, что для того, чтобы вновь обрести его, я мобилизовал всю свою память, а когда оно казалось навеки утраченным, делал все возможное, чтобы восстановить его по единственной точной черте, например, маленькой родинке, а потом уже набросать улыбку, прищур глаз, глубокий блеск ее взгляда, но вскоре все смешивалось, так что я начинал сомневаться в реальности происшедшего, подобно маленькой Бернадетте в монастыре Невера, не особенно уверенной, действительно ли она заметила высокую белую даму в гроте возле Массабьель, или Жанне, которая на судебном процессе не могла поклясться, что слышала трех посланцев Неба над деревом фей, и, вернувшись в свою холодную башню в Руане, наверное, терзалась вопросом, стоит ли идти на костер ради неясных голосов. Может быть, достаточно позаимствовать у Тео несколько штрихов, и этим питать свои мечты, как я это делал со своей утопленницей? Но с одной все-таки разницей: на этот раз у меня было весьма реальное доказательство — глубокая отметина, которую оставили на моем плече зубы красавицы, склонившейся надо мной, словно добрая фея. По крайней мере, это не подлежало сомнению. Из чего, однако, не следовало, что у этой истории будет продолжение. Может, у Тео просто такая привычка — метить, как вампир, своих воздыхателей. Не более того. Одурманенный грогом, с тяжелой головой после перепоя, который стал причиной многочасовых провалов в моей памяти, не исключено, что я все еще нахожусь под воздействием галлюцинаций. Скорее всего, я только начинаю приходить в себя после долгой туманной полосы, обретя наконец почву под ногами — асфальт на несколько сот метров вперед, который как раз и нужен моему нетвердому шагу.
Так и не сбавляя темпа, я скоро наткнулся на скопление народа, сквозь которое стал прорываться; несмотря на протесты, я пробивал себе путь среди людей, подныривал под сцепленные руки, пока внезапно не очутился на открытом пространстве — на широкой мощеной площади, где не было ни машин, ни пешеходов, и просто на удивление для такого часа пустынной; тогда я бросился поперек этой площади, чистой от каких-либо помех, будто мне предоставили достойную сцену для спектакля о муках утраченной любви. И тут, как это часто бывает, из-за какой-то несчастной песчинки рухнули мечты, все самые прекрасные конструкции моего ума: едва я успел удивиться такой аномалии — ну, ни пробок тебе, ни прохожих в самом обычно людном месте, — как, выбитый из замкнутого пространства своих мыслей, споткнулся о какое-то совершенно не предвиденное препятствие и со всего разлету грохнулся на брусчатку, улавливая на лету несущееся мне вслед рычанье, что-то вроде: и откуда здесь этот болван, или чокнутый, или кретин несчастный?! — во всяком случае, никак не уместное в таком случае, ведь куда разумней было бы справиться о моем здоровье — не поранился ли я? не сломал ли чего? — поскольку приземление на камни было суровым.
И правда, коленка так сильно саднила, что я поневоле подумал о моем Жане-Артюре. В моем падении, конечно, было что-то досадное, но я мгновенно представил себе, как можно использовать эту боль. В конце концов, что он о себе возомнил, этот хромой? Что после всех его бродяжничеств его встретят с охапками роз? Что все женщины кинутся к нему на шею? Что у него отбоя не будет от желающих послушать побасенки сына пустыни? Разве он не знал, насколько невероятны такие возвращения и что ничего хорошего они не сулят? Теперь, когда у меня будет время и никто и ничто не отвлечет меня от моего великого творения, я обещаю снова за него засесть. И пока боль утихала, я придумал, что погружу своего свирепого калеку в криогенную кому, из которой даже красавица, укусив бедолагу в плечо, навряд ли сумеет его вытащить.
Между тем другой бесчувственный чурбан, в черных ботинках с рифленой подошвой, оказавшихся почти у самого моего носа, не заставил себя ждать. Когда я поднял к нему глаза, он стоял передо мной, затянутый в толстую кожаную куртку, в каске, полыхающей всеми небесными огнями, благодаря такому наряду я распознал в нем специалиста по борьбе с пожарами, но, нимало не обеспокоенный его присутствием, повернул голову, чтобы отыскать этот чертов торчащий брусок, из-за которого растянулся, а вместо бруска обнаружил не что иное как длинный шланг внушительного диаметра, протянутый поперек площади; машинально посмотрев направо, куда он тянулся, я увидел, что через несколько метров он загибался вверх и добирался до самой верхушки выдвижной лестницы на красном грузовике, где двое пожарных, вцепившись в брандспойт, пытались усмирить хлеставшую из шланга струю воды, которая гигантской аркой взмывала к небу и веером рассыпалась над крышей собора Святого Петра.
Вместо крыши торчал уже один костяк, пронизанный языками пламени, из его нутра вырывались, закручиваясь вихрями и разрывая наступавшие сумерки, гигантские всполохи; иногда казалось, будто огонь отступает под натиском воды, но спустя мгновенье пламя вновь вздымалось всей своей мощью на приступ зимнего неба. Почерневшие балки с грохотом обрушивались внутрь гигантского костра, мощный гул которого перекрывал распоряжения человека в униформе. Витражи центрального нефа сочились кровавыми ранами, словно израненный Дух, устав проповедовать любовь в пустыне, в эту Пятидесятницу покидал сей мир.
Стало быть, я сидел в первых рядах, и тысячи искорок слепили глаза очевидца, а теперь этот самый чурбан бесчувственный в приказном порядке велит мне поскорее убираться… но самое странное, что вместо того, чтобы содрогнуться от этой зловещей картины, сожалеть о том, что такое великолепное здание улетучивается дымом — в сущности, давно бы пора, — перед тем как, прихрамывая, возобновить свой путь, я бросил последний взгляд на пламя и подумал: почему ты оставила меня, Тео?
IV
Наверное, Жиф продал все столовое серебро или ограбил ризницу в Логрее, но только работа над фильмом возобновилась, чем он и воспользовался, чтобы отнести свою ленту, точнее, разбивку на эпизоды или иконографическую подборку, или вспышку фантазии в проявку. Теперь дело было за фонограммой, или звуковым пространством, или навязчивой идеей звука, или вибропроблематикой, поскольку музыканты, стоявшие вокруг ложа любви, не умели играть на музыкальных инструментах и ограничивались пантомимой, впрочем, в ту пору у режиссера или создателя видеоряда, или интерпретатора объемов, или дубликатора света, еще не было магнитофона. Так что для игры на скрипке (это была копия из папье-маше) Жиф вполне мог пригласить Проныру, хотя, учитывая его непредсказуемый характер, можно было опасаться, что он прервет поцелуи в диафрагму и любовные игры актеров или физиологических посредников, или медиумов, в центральной любовной сцене (точнее, во время слияния в экстазе, или клеточного синтеза, или, может быть, пространственно-временной кантаты). Моя же роль сводилась к тому — за этим Жиф и приходил ко мне, — чтобы переложить на музыку эту немую партитуру, и вот теперь, когда фильм (или как его там) был готов к просмотру, сразу после матча я приехал к Жифу, прихватив с собой скрипку, чтобы присутствовать на первом просмотре «Гробницы моей бабушки».
Приторочив черный футляр со скрипкой к багажнику моего Солекса, зажав спортивную сумку коленями, а ступнями упираясь в подножку, я постоянно сверялся с планом бабушкиной фермы, скотчем приклеенным к рулю, с трудом сохраняя вертикальное положение, потому что дорога была мокрая и приходилось опасаться заносов, к тому же пробуксовывало сцепление, и я жал изо всех сил на педали и поджимал передающий ролик отходящим от цилиндра рычагом с черным бакелитовым набалдашником. Стоило отпустить его, как мотор начинал крутиться вхолостую и ревел, я балансировал на месте, и это неустойчивое равновесие — с центром тяжести высоко над землей — грозило неприятностями.
Все это не мешало мне горланить песни, как повелось всякий раз, когда я садился на свой мотовелосипед, и размышлять вслух, поверяя воздушной стихии свои самые сокровенные мысли и тайные страдания и даже позволяя себе обругать сунувшегося под колеса пешехода или велосипедиста, который ехал мне наперерез; я успокаивал себя тем, что свист ветра и треск мотора перекрывают мои несдержанные речи и был уверен в своей безнаказанности. Как бы не так. Я понял, как заблуждался, довольно скоро — когда обругал безмозглым деревенщиной крестьянина, который выходил из ворот своей фермы, толкая перед собой тачку с навозом, куда я неминуемо свалился бы, если бы не вывернул руль, смело влетев к нему во двор, после чего, обогнув колодец и лавируя между курами, выскочил на улицу и, нажимая изо всех сил на педали, промчался мимо потрясающего кулаками хозяина.
Отъехав от него на безопасное расстояние, я снова продолжил монолог одинокого путника, распевая слова своего экспромта на подходящий к случаю мотив: «Тео, Тео, это славно / обняла, что было сил / а на утро, вот ведь странно: / нет ее — и след простыл…» или еще: «Все хорошо, такие вот дела…» или даже: «А нам все равно…». Потому как, если взять хотя бы историю нашего приятельства с Пронырой, — с ним я только что расстался на площади посреди деревни, он клялся и божился, что мы с ним теперь друзья до гроба, — то тут, как посмотреть: можно увидеть в ней дружескую улыбку судьбы, хотя эта улыбка и стала навязчивой с некоторых пор, а можно и впасть в отчаяние, но туман, сопровождающий меня повсюду, мир не в фокусе — расплывающийся мир, в котором я жил с того времени, как началась в нашем доме череда смертей и я забросил свои очки, не давал во всем этом разобраться. И тогда, призывая небеса в свидетели своих несчастий, я набрасывался на заблудившуюся в сумерках бледную луну: «Зажги-ка поярче свой фонарь и освети мне путь, а не то я нашлю на тебя большое черное солнце, рядом с которым твое грустное, как у Пьеро, лицо станет еще белее, а звезды превратятся в короткие вспышки огнива, в карликовых светлячков, потому что моя звезда освещает эмпирей моих бурных страстей, разгоняет тьму, расцвечивает зимние ночи, растапливает ледяную пустыню наших сердец, ибо мир — зажатый между двумя полюсами шарик сливочного мороженного, не разрушительный огонь, а белый чертик, знаток по части смерти под сурдинку, который и нас утащит на свои кулички, и потому, бесцветное Светило, лупоглазая лорнетка, груда холодного камня, остывшая сковорода, я назову тебе имя той, что низведет тебя до уровня бесплодного яичного желтка и обратит Млечный Путь в реки молок, чтобы рассыпать семена своей богоданной, живительной, Тео-творящей красоты по всей Вселенной. Посторонитесь, ночные созданья, отойдите в сторону, приготовьтесь к встрече с великим чудом: родилась новая звезда — ослепительней Веги, прекрасней Кассиопеи, ярче Альтаира: Gloria in excelsis Theo», — и я покидал свой потаённый планетарий лишь тогда, когда останавливался перед дорожным знаком или утыкался носом в эмалевую стрелку с белыми буквами, указывающую в сторону обозначенных мест.
И только освоившись с топонимией здешних мест (познакомившись с Черной Изгородью, Дьявольской Канавкой и прочими «приглашениями к путешествию»), проплутав добрый час и основательно исследовав все проселочные дороги в окрестностях Логрее, — а некоторые и по несколько раз — я выехал нежданно-негаданно к ферме бабушки с ее эротической могилкой, убеждаясь все больше в том, что эта самая бабушка в этой истории всем бочкам затычка. Описание, которое дал мне ее благочестивый наследник, не оставляло никаких сомнений: на почтовом ящике, прибитом к столбу у поворота на ферму, значилось «Парадокс» и «Экивок». Судя по всему, надпись предназначалась для почтальона и должна была представлять родовые имена Жифа и его последней подружки, впрочем, оставалось неясным, кто есть кто, хотя оба, конечно же, принадлежали к семейству Двусмысленностей.
Дом с пристроенным к нему хлевом стоял прямо на земле; такие встречаются тысячами в сельской местности к северу от Луары. Шиферная крыша с продольной балкой, два окна, прорубленные по обе стороны от двери, которая состояла из двух расположенных одна над другой створок — так что можно было закрыть одну нижнюю часть двери, чтобы скотина не забиралась на кухню. Жиф явно преувеличивал, когда говорил об идиллии здешних мест, близости к земле и возвращении к своим корням, в общем, словами всего не передашь, — добавлял он. Еще не заходя в дом, я мог описать низкий потолок, почерневшие от копоти выступающие балки, глинобитный пол, кухонную плиту, которую топили углем, покрытый клеенкой стол — ее края спускались на колени тем, кто сидел на расставленных вокруг стола скамьях. И это вовсе не требовало от меня глубокого знания местных обычаев и устройства жилища, просто когда-то давно мы брали молоко на такой же ферме, и однажды мы, дети, ходили смотреть, как доят корову (старший сын фермера, пользуясь тем, что его никто не видит, дергал корову за сосок, посылая через весь коровник мощную струю молока и тем самым устанавливая новый рекорд), тогда мы переняли многое из того, о чем раньше и не догадывались (например, что можно перевернуть тарелку вверх дном, после чего продолжить обед как ни в чем не бывало), а на обратном пути мы решили, не откладывая, проверить действие центробежной силы (и принцип движения планет), вращая на вытянутой руке бидон и не выплеснув при этом ни капли молока, — правда, на сей раз нам пришлось вернуться за вторым бидоном.
Бабушка Жифа несколько улучшила внутреннее убранство дома, покрыв земляной пол слоем цемента, но в основном все оставалось по-старому (а именно: на камине — дорожка, обшитая миткалевой бейкой в мелкую бело-красную клетку; очень характерный конусообразный, почти плоский матового стекла абажур с прозрачными волнистыми краями и начиненным свинцовой дробью керамическим противовесом в форме груши, с помощью которого можно было регулировать высоту), присутствие же нового хозяина проявлялось в сногсшибательном беспорядке, который только черт, сломавший себе ногу, и мог наворотить.
Жиф и сам все прекрасно понимал и потому просил не обращать ни на что внимания. Но не заметить всего этого можно было, разве что закрыв глаза и, может быть, зажав нос: в раковине уже много дней валялась немытая посуда, старинная плита сохраняла многовековой культурный слой, на столе были расставлены оставшиеся после завтрака кружки, а рядом, на конспектах, стояла кошачья миска, на стенах висели тряпки, расписанные в стиле экспрессионистов (когда я решился спросить у Жифа, каков символический смысл цветка чертополоха, прикрытого сверху летающей тарелкой, мне тут же пришлось раскаяться в том, что я не сразу признал товарища Че и его знаменитый берет), в углу стояла метла в обличье марионетки, а в кожаном кресле, явно продавленном, судя по тому, как глубоко проваливались садившиеся в него, спал на коленях у Двусмысленности (то ли Парадокса, то ли Экивока) кот, но до чего же была хороша эта блондинка с чистым, прозрачным лицом в обрамлении длинных тонких волос, и я снова мучился вопросом: как это Жифу в таких-то очках удавалось соблазнять таких вот красоток?
Жиф пригласил вместе со мной друга гитариста, с ним я должен был создать даже не столько музыку, — что за нелепая мысль, — сколько некую атмосферу, он же и оповестил о своем приезде громким металлическим скрежетом. В первых же словах, которые он произнес, войдя в дом, звучала тревога за хозяина Солекса, поставившего свой велосипед во дворе очень неудачно, а он обнаружил его слишком поздно, впрочем, не стоит беспокоиться, повреждений, по крайней мере с виду, нет. Я представился как тот самый обеспокоенный — несмотря ни на что — хозяин и (установив связь между грохотом железа и моим велосипедом) бросился во двор. Оставленная у сарая колымага с оторванным крылом, более или менее удачно покрашенная (причем оценка ваша зависела оттого, находили ли вы в ее раскраске следы техники дриппинга или же представляли, что свой нынешний вид она приобрела, простояв долгое время под лесами, на которых работали маляры), вызывала еще большую жалость, чем мой Солекс, однако, когда я поставил велосипед на подпорку, мне все же пришлось выправлять руль, зажав переднее колесо между ног, что плохо отразилось на состоянии моих брюк, так что теперь, вернувшись на кухню, я испытывал смешанные чувства по отношению к вновь прибывшему. Тем более что, пытаясь перетянуть музыкальное одеяло на себя, он начал, не дожидаясь моего возвращения. Склонившись над гитарой, он выводил заунывную песнь собственного сочинения: «mama, mama, can I have a banana», — бесконечно повторяя, круг за кругом, один и тот же куплет; когда же мы попросили его перейти к следующему, он объяснил нам, что придерживается индийского принципа «рага», к которому примешиваются и иные, в частности, африканские влияния доколумбова периода (а это все равно, что сказать «Америка до открытия Берингова пролива»), а также фольклорно-этнографические мотивы (например, логреенская версия «Девушек из Камаре», записанная им в исполнении своего дедушки). Лично я усматривал в его игре систему «трень-брень»: «mama, mama (трень), can I have a banana (брень)». Но моя музыкальная культура была далека от уровня моего нового друга, и я не без гордости узнал, что, сидя в своем углу, навожу мосты между Востоком и Западом; попутно он попросил меня помочь ему, так как собрался наконец дополнить свой текст (Жиф, должно быть, рассказал ему о моем Жане-Артюре), и я предложил ему: почему бы и не «can I have шпикачки или эскимо, или горгондзола» (и что угодно еще, если не сыр и не сладости). Но он сказал, что мама против, и мы прошли в соседнюю комнату, чтобы присутствовать на просмотре «Гробницы моей бабушки».
Жиф переделал в зрительный зал хлев, что, однако, не бросалось в глаза тому, кто ожидал здесь увидеть обитые темно-красным бархатом кресла и сцену. Зал можно было без труда вернуть в его первоначальное состояние. Вдоль стены стояли кормушки, на месте сцены располагались наспех сколоченные декорации, в которых угадывались перегородки, разделяющие стойла, а напротив — дюжина стульев, некоторые из них (с плетеными из пластмассовых прутьев красными сиденьями) были, скорее всего, заимствованы из какого-нибудь диспансера. По словам устроителя, здесь проходили поэтические вечера в самом широком смысле слова. Как это понимать? «Поэзия повсюду, кроме как в самой поэзии», — отвечал Жиф безапелляционным тоном в духе Парадокса-Экивока, отметая решительным жестом все литературные миазмы. Мне было немного обидно за моего Жана-Артюра, и потому я попросил разъяснений. Ну например, на последнем концерте они слушали подпольную запись, осуществленную в трюме строящегося грузового судна. Вот только жаль, что рабочие не пришли, хотя во время представления «Красавицы и чудовища» желающих было так много, что многим пришлось отказать. «Это по рассказу госпожи Лепренс де Бомон?» — «Не совсем так: у нас девушка раздевается на сцене, а рядом с ней стригут овцу». Я выразил сожаление по поводу того, что, одолжив ему свою скрипку, не отправился ей вослед: «Вспомни-ка, Жиф, мы сами должны стричь шерсть своих овец», — и изобразил при этом несколько позаимствованных у Проныры па, но заметив, что мои слова не вызвали у него восторга, я обратил его внимание на постоянное присутствие в его творчестве эротико-буколических тем, на что Жиф резонно отвечал, что я еще ничего не видел, и попросил госпожу Двусмысленность принести ему простыню — та, что на кровати, должна подойти, — пока он заправляет пленку в проектор, установленный посреди комнаты на табурете.
Простыня была несвежая, и при свете прожектора на ней явственно различались пятна, происхождение которых не оставляло никакого сомнения, но Жиф заявил, что это самый лучший на свете экран, он напоминает ему картины того китайского, корейского или сиамского художника — уж и не вспомнить теперь, какой династии, — который макал кисть в слезы своей возлюбленной. От такого деликатного поворота темы при взгляде на произведение в его изначальной форме становилось как никогда ясно, что искусство — это прежде всего акт любви; впрочем, Жиф тут же замыслил устроить выставку на тему «Чудо жизни», на которую каждый принесет свою (естественно, не постиранную) простыню, и это докажет, что творчество, незаконно присвоенное имущими классами с их псевдорынками произведений искусства, в действительности доступно всем. Парадокс-Экивок погасил свет, и в темноте луч проектора высветил на священной плащанице яркое пятно.
На переднем плане была изображена школьная доска, где было написано «Гробница моей бабушки», я очень смутно видел надпись и потому не читал, а только догадывался о ее содержании. Потом появился Жиф собственной персоной, он провел по доске губкой, написал что-то мелом и перевернул доску; теперь на экране был виден только черный квадрат, который сменился ослепительным кадром: камера снимала солнце, небо, птицу в полете, верхушки деревьев, потом она медленно опустилась и остановилась на стоявшей посреди поля кровати, старинной, на высоких ножках с тяжелыми черного дерева стойками, про такие говорят «а ля гробница», — по словам Жифа, именно в этой кровати он и был зачат. Затем перед камерой появилась легкая кисея, чуть качающаяся на ветру, а за ней, как в китайском театре теней, силуэты мужчины и женщины. Они шли, взявшись за руки, скрытые кисейной пеленой; камера отъехала, и стало видно, что ее держат на вытянутых руках девушки, на которых не было ничего, кроме длинных юбок, и музыканты. У самой кровати кисея выскользнула у них из рук, обнаженные любовники взобрались на ложе, девушки разбежались в разные стороны, а музыканты, встав в круг, заиграли на своих инструментах. Все это я рисовал в своем воображении, потому что камера располагалась далеко от кровати, а я сидел слишком далеко от экрана и не решался придвинуть свой стул, боясь, как бы кто-нибудь не усомнился в том, какого рода интерес я питал к произведению искусства, так что когда фильм Жифа достиг кульминационного момента, сколько я ни моргал глазами, но таинственная красота представала передо мной лишь в ореоле тумана.
Все же я должен был признать, что Жиф не погрешил против истины: предполагаемая Иветта, которую можно было узнать по пышной шевелюре, действительно была сверху. Я все надеялся, что камера совершит наезд или даст крупный план, но она, остановившись на целомудренном расстоянии, задержалась на любовниках, а затем пошла вверх, и на экране появились верхушки деревьев, небо, солнце и черная доска. Доска снова была перевернута, но на этот раз я не смог догадаться о содержания текста, не зная его заранее; когда в зале зажегся свет, я повернулся к режиссеру, Жиф вопросительно дернул в мою сторону головой — ну что, все еще не веришь? — словно ждал от меня подтверждения. Я немного помедлил, боясь совершить оплошность, потом ответил ему таким же коротким кивком в знак того, что я с ним согласен.
Потом Экивок и Парадокс без всяких объяснений вышли под руку из зрительного зала, Жиф только бросил гитаристу: «Не забудь выключить проектор, когда закончите». Они взобрались по приставной лестнице на чердак, где оборудовали себе комнату: должно быть, торопились записать на фонограмму партитуру любовных вздохов, пока я настраиваю скрипку, извлекая из нее причудливые звуки смычком музыканта-импровизатора.
«Жиф, ты близорукий?» — Жиф остановился, удивившись тому, что я стою под лестницей, он с сожалением пропустил вперед юбку своей подруги, скользнувшую в прорубленное между стропилами прямоугольное отверстие, и нехотя повернулся в мою сторону, глядя на меня сверху вниз: «Почему ты об этом спрашиваешь, изображение было нечетким?» — «Нет, нет, вернее, да, но только у меня одного, я вижу не дальше собственного носа, мне не хватало остроты зрения, чтобы четко видеть экран, так вот, я был бы очень рад, если бы ты оказался близоруким, рад за себя, потому что такого не пожелаешь никому, но тогда ты смог бы дать мне свои очки, они бы мне очень пригодились, и вовсе не из-за девушек, а чтобы не промахнуться, когда я буду ударять смычком по струнам, и нечего выдумывать, мы все здесь бескорыстно трудимся ради искусства». — Жиф снимает очки: «Ты ее знаешь?» — «О ком ты, Жиф?»
Он исчезает через отверстие в потолке, его ловят нетерпеливые руки и уносят из поля зрения землян, но это похищение — вершина одиночества для того, кто не может оторваться от земли, кто стоит подавленный, с опущенной головой, примеряя немыслимые очки, дужки которых заканчиваются завитком пружины — они цепляются за ухо, врезаясь при этом в кожу, — стекла так плотно прилегают к глазницам, что невозможно просунуть палец, чтобы потереть глаз, на щеках собираются складки, и все это придает вам сходство со сварщиком. Но если не обращать внимания на такую чисто эстетическую деталь, надо сказать, что видно в них довольно хорошо. Вы воображаете себя Гаспаром Хаузером, когда он выходит из небытия, вы чувствуете себя первооткрывателем, отправляющимся странствовать по свету. Вы по-хозяйски оглядываетесь вокруг и обнаруживаете, что для замызганной кухни больше подходит затуманенный взгляд, и вообще он снисходительней к грязи, морщинам и иным изъянам. Теперь же, с обретением третьего измерения, внезапно и таинственно перед вами проявляются горбушка хлеба на столе, круглый след от рюмки, — ничто не ускользает от вас. Вы вдруг становитесь строже, критичней, любой предмет теперь повод к неудовольствию: стены требуют ремонта, пол давно не подметался, с потолка не сметали паутину. Даже товарищ Че, откровенно говоря, уже не так напоминающий чертополох, выглядит еще нелепей со своей летающей тарелкой на голове.
Но на этом несчастья прозревшего не заканчивались. Вам еще предстояло пройти испытание зеркалом. Оно висело на цепочке у двери, которая вела в так называемый просмотровый зал. Вы же не дошли еще до той стадии развития, когда ходят по тротуару, не разыскивая свое отражение в витринах и окнах домов, не обращая внимания на своего зеркального двойника. Но когда вам попадается на глаза зеркало, это вызов, жестокая неожиданность, она выбивает из колеи, приводит в уныние: неужто это и есть я? Неужели вам нечего больше мне предложить? Не будь очков, я никогда бы и не заметил маленького зеркала в округлой хромированной рамке с трещиной в нижнем правом углу, сквозь которую просвечивает серый картон, но в тот момент, когда я опустил глаза, проходя через дверь коровника, меня охватил страх: передо мной в зеркале стоял Жиф в ином своем воплощении.
Ясное видение вещей не прощает вам ничего. То представление о себе, с которым вы жили в своем туманном уединении и с которым уже примирились, находя его вполне приемлемым, вдруг безжалостно изобличено, выхолощено, разрушено: этот тип в умопомрачительных очках, с длинными прилипшими ко лбу влажными волосами, плохо выбритый, то есть тот самый образ, что вызывал у вас жалость, когда речь шла о Жифе, это — и нечего тут морочить голову самому себе — это и есть вы. Я совсем, было, уже собрался оставить эти ужасающие очки на столе, но тут меня позвал гитарист, сказав, что уже перемотал пленку, и попросил погасить свет, что меня вполне устраивало — ведь если вам суждено жить с таким удручающим лицом вечно, то лучше уж провести остаток дней в подземелье, в самой глубокой из пещер, примирившись разве что с дрожащим фитильком керосиновой лампы, освещающей руку художника, который чертит углем на стене гимн красоте.
Гитарист снова стал звать маму. Я прервал это пение, предложив ему проиграть два своих аккорда — или, если ему так угодно, индо-логреенский «рага», но без слов, — я же под этот аккомпанемент брался сымпровизировать свою партию. И вот уже Жиф написал на классной доске свою таинственную фразу, снова появился черный кадр, за ним — солнце с маленькими черными сперматозоидами, барахтавшимися на экране. Сейчас камера выхватывает птицу в полете, и самых элементарных знаний из орнитологии достаточно, чтобы опознать ее, — мы видим грациозное движение небрежно рассекающего воздух крыла (ничего общего с тем, как я представлял себе полет птиц), — потом деревья, и мы тут же замечаем, что это уже не безликая, древесно-хлорофилловая масса. А вот и кровать: конечно же, бабушкина тяжелая, массивная кровать с резными стойками, как та, что привозит к свадьбе в свой приземистый дом с крашенными известью стенами и соломенной крышей Син Торнтон для своей невесты Мэри Кейт Данахер. Жиф был прав — эта кровать создана для зачатия, и она же, очевидно, услышала последний вздох его бабушки, в общем, это было ложе жизни и смерти, ложе любви, вот и сейчас на него взошли скрытые за кисейным пологом любовники. Подходят музыканты, и начинается пантомима. Я прижимаю скрипку к груди так, что перехватывает дыхание, и импровизирую, следя за движением чужого смычка на экране. Иногда плавно взмахивающие руками полуобнаженные танцовщицы, увенчанные цветами, заслоняют кровать. Становится досадно. Хочется, чтобы камера подошла ближе, и можно было рассмотреть отдельные детали, но и так отчетливо видно, что Жиф не снял очков, на стеклах играет солнечный луч. Теперь молодая женщина находится сверху, она сидит, подвернув под себя ноги, тело слегка раскачивается, как будто под ней подвижное сидение, как в гонках на каноэ. Волосы закрывают ей лицо, и невозможно разглядеть, красива ли она, но поверим на слово Жифу. Грудь ее тоже скрыта под волосами, это просто бесит тебя, достаточно, чтобы она немного откинула голову назад, но не успел ты подумать об этом, как она отвела прядь рукой, что отнюдь не улучшило обзор, однако неприятное ощущение, какое-то смутное подозрение овладевает тобой, тебе кажется, что ты узнал этот жест, и ты быстро перебираешь все возможные кандидатуры: скажи мне, Тео, это же не ты? Мне хочется удостовериться в этом — и потому, Жиф, не хочу ничего тебе навязывать, ведь ты режиссер, но почему бы тебе не дать здесь крупный план или наезд, хотя, конечно, этот долгий фиксированный план дает тебе возможность, включив камеру, быстро занять свое место перед объективом — и какое место, Жиф, — да разве не пристало настоящему революционеру твоей закалки позаботиться иногда и о других, однако, не подумай, что я тебя критикую, но ты отвел себе отличную роль, обошелся без дублера, вот как сейчас, когда ты жадно мнешь груди своей красотки, своя рубашка ближе к телу, и все же разве такая уж дерзость выпрашивать крохи с этого пира любви, ни на что не претендуя, просто смотреть, как в истории про беднягу, которого трактирщик потащил в суд за то, что тот кормился ароматами с его кухни, но, по счастью, нищему попался справедливый судья, да такой, что потом его канонизировали в назидание всему судейскому племени, и это был св. Ив, и знаешь, как он поступил с жалобщиком? Он подбросил в воздух монету, которую трактирщик требовал в возмещение своих убытков, а когда та ударилась о камни, произнес свой приговор: с тобой расплатились звоном монеты за запах твоей стряпни, — вот как творил суд в Бретани твой святой покровитель, и не забудь о втором своем заступнике Святом Георгии, который разит змея сомнений, так и ты воздай нам по заслугам, мы имеем право знать правду, покажи нам неприкрашенную реальность: Тео или не Тео? Ее тайна или нет?
Я так и не узнал, что Жиф написал на доске. Может быть, похвалу красоте или поэму, или размышление об искусстве, или окончательный ответ на вопрос о смысле жизни. А может быть, и имя героини. Как бы то ни было, я кивнул ему в ответ, и нечего было к этому возвращаться. Да оно и к лучшему, так как вернуться к тому же самому теперь было бы очень непросто. В тот момент, когда мимолетной картинкой запечатлелся на натянутой простыне профиль любовницы, которая откинула голову, подставляя всю себя солнцу, когда настало время узнать всю правду, я сунул смычок в бобину с кинолентой, подобно тому как мы подносим палец ко рту, чтобы призвать к тишине, и, как по волшебству, она остановилась. В кино больше всего удручает, что оно всегда в движении, что оно не способно противостоять неотвратимому бегу времени, агонии вещей, не способно предложить ничего взамен угасанию, кадр за кадром, жизненных сил, а если героиней была Тео, то тем более стоило прерваться на минуту, рассмотреть все не спеша. Оставалось только подойти поближе, выставив вперед руку и стараясь не заслонить своей тенью экран: если это твоя тайна, все произойдет совсем скоро, Тео.
Скоро все и произошло: в центре кадра появилась черная точка, которая быстро расплывалась, как чернильное пятно по промокашке, разъедая пленку, покрывая сахарной глазурью обнаженные тела, а следом за ними — профиль женщины и ее волосы, накрывая все изображение, размывая его, так что под ним обнажался белый экран, а над проектором в это время поднималась тонкая струйка дыма. Я поспешно выдернул смычок, но было уже поздно разгадывать тайну героини. И наперстка хватило бы, чтобы собрать пепел, который летал по хлеву. Гитарист, закрыв глаза, стучал ногой о земляной пол, отбивая такт, лицо его застилал сигаретный дым, который струился у него между пальцами, он был слишком далеко, и его не заботили разрушения, причиненные остановкой фильма. Он воспользовался моим самоустранением и снова затянул песню, в которой звал маму, отгородившись от всего своими гастрономическими причудами, равнодушный к дурманящим голову вопросам любви, ответы на которые искали в двух шагах от него, на залитой светом белой простыне. Пора было уходить.
Я положил волшебные очки на видное место на кухонном столе. Они не открыли мне ничего нового, о чем бы я не догадывался сам. Разве только то, что одна и та же оправа, надевая которую я бледнел от ужаса и мне хотелось провалиться сквозь землю, та же самая оправа на носу у Жифа не отпугивала в ответственный момент девиц. В остальном же очки ни на йоту не прибавляли ясности. Возле кошачьей миски валялся карандаш, я взял его и размашистым почерком написал поперек листа: «Жиф, твой фильм великолепен», — и это не было вежливой отпиской; положа руку на сердце, я не смог бы назвать другой фильм, который произвел бы на меня столь сильное впечатление. Не стоило и голову ломать, перебирая свои лучшие кинематографические воспоминания — а в кино я тогда ходил каждую неделю — я мог сказать, что фильм «Гробница моей бабушки» был самым прекрасным, самым насыщенным, подлинным, волнующим, самым драматичным и интригующим, самым забавным (разумеется, если иметь в виду поворот судьбы) из всего, что я видел до сих пор. Да к тому же и самым эфемерным. Не следовало больше тянуть с отъездом. С верхнего этажа, из комнаты, где совещались Парадокс и Экивок, раздались какие-то звуки, я потихоньку убрал скрипку в футляр и закрыл за собой обе створки двери как раз в тот момент, когда голос Жифа осведомился, что за странный запах наполняет чердак.
Чтобы шум мотора не привлекал внимания, я довел свой Велосолекс до поворота дороги, подавляя в себе желание повернуть назад, что казалось все более невероятным по мере того, как я отдалялся от дома. Все-таки совесть у меня была нечиста, хотя Жиф и сам стремился к этому: он мечтал о фильме-антифильме, о фильме — отрицании фильма, и он получил его, даже в еще более радикальном варианте: у него был фильм-больше-уже-не-фильм. Устроенное мной аутодафе стало апофеозом его эстетических воззрений, идеальным революционным актом и, вероятно, последним свидетельством о монго-аустенистском искусстве.
Стемнело, и луна, засев в засаде за густой завесой облаков, разливала чернильный свет на окрестные поля, вынуждая меня завести мотор, чтобы осветить себе путь. Операция выполнялась по всем классическим канонам, что отличает истинного профессионала. Вы бежите рядом со стрекочущей машиной, и когда мотор заводится, заскакиваете на треугольное седло. До сегодняшнего дня этот акробатический номер давался мне без труда. На сей же раз то ли из-за поспешного бегства, отъезда под покровом ночи, то ли из-за страха, что вот сейчас меня окликнут и потребуют объяснений по поводу новой версии Жанны, Иветты или Тео в огне, но переднее колесо вдруг вывернулось, велосипед резко затормозил, и я перелетел через руль. До самого приземления я ждал, что мой мозг, воспользовавшись полетом, прокрутит в ускоренном темпе весь фильм моей жизни в извлечениях — все ее яркие моменты. А я бы тогда узнал, какие ее эпизоды оставили самый глубокий след: не те, что я выбрал сам — смерть отца, траур, Фраслен, утопленница и другие мои невзгоды, — мне открылась бы ускользнувшая от меня деталь, которая повлияла на ход моей жизни, как камешек, что преграждает дорогу ручью у его истоков, и в результате Луара впадает в Атлантический океан, а не в Средиземное море. Но, очевидно, в моей жизни не произошло ничего значительного, о чем бы я ни знал, или ничего существенного, или не было желания снова пережить пережитое, а может быть, мой мозг работал на холостых оборотах. Но только со мной случился приступ амнезии, и этот ночной полет не принес ничего; и я коснулся земли, вернее, воды, потому что в канаве, куда я свалился, стояла дождевая вода и не пересыхала в ней, верно, никогда, кроме, разве что, засушливых лет, но на мое счастье нынешний год был не из таких, и оттого мое возвращение на землю было почти мягким.
Забавно, но первое, что я осознал после приземления, была вовсе не радость от того, что я все еще на этом свете и в добром здравии, по крайней мере с виду; меня охватило воспоминание о жатве, которую предрекали пережившие моего отца; в памяти всплыл старый эпизод: сыграв свой первый матч, я лежу в траве после того, как был прерван мой блистательный дриблинг. Я вспоминаю их пророчество: «Ты пожнешь то, что посеял он». Но я не вижу вокруг себя ничего, кроме запущенной лужайки, злобы окружающих и своего одиночества. Я не спешу встать с земли, несмотря на призывы товарищей, и прячу от них слезы, потому что зрелище чужих слез для иных торжество, я знаю, что за боковой линией собрались поддержать своих чад все отцы, кроме того, кто уже не придет никогда, а будь он здесь, мой защитник от житейских бурь, никакой грубиян не посмел бы обидеть меня.
Но и на этот раз, в студеной воде, посреди рисового поля жатва была небогатой и не предвещала благодатных дней. Трудно было себе представить, что можно пасть еще ниже, потому что пасть еще ниже означало бы смерть. То есть, у меня были все доказательства того, что я достиг своего дна, и теперь хорошо мне знакомая лукавая улыбка судьбы превращалась понемногу во что-то отдаленно напоминающее радость. Конечно, не всеохватывающую радость, а ту радость, которая, словно черная точка на экране, уверенная в своей непреложности, готова заполонить собой все — радость-поджег, радость-огонь; и потому, даже не набив себе шишек, я вылез замерзший и промокший с головы до ног из ледяного болота, выправил руль, привязал футляр со скрипкой к багажнику, пристроил спортивную сумку на раме над педалями, дернул за ручку мотора, разбежался, хлюпая мокрыми ботинками, и, тяжело подпрыгнув в своем бушлате, синий цвет которого стал темнее, чем обычно, вскочил в седло, воображая при этом, что отталкиваюсь, как то описывают ныряльщики, от дна морского, перед тем как всплыть на поверхность, представляя себе будто что-то переменилось в мире или Земля сдвинулась с места, и я, вынырнув из воды, уже не смогу остановиться и полечу дальше вопреки земному притяжению, невесомый, легче воздуха, и достигну тропосферы, стратосферы, экзосферы. И пока на Земле круглый фонарик, зажатый между двумя цилиндрами, пронизывал своим светом ночь, я улыбался, предвкушая ту минуту, когда на вершине моего победного восхождения новая звезда, сорвавшись с оцепенелого неба, бросится в мои объятия.
Примечания
1
© Галина Шумилова, перевод гл. I, II, IV, 2001.
© Игорь Писарев, перевод гл. III, 2001.
(обратно)
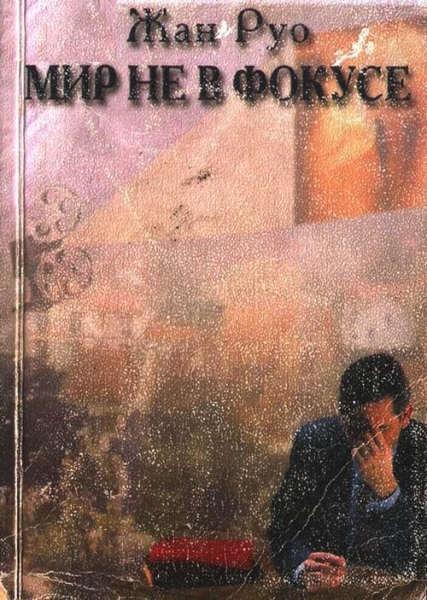
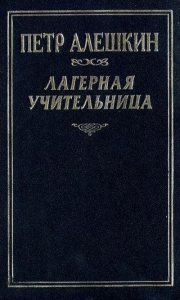

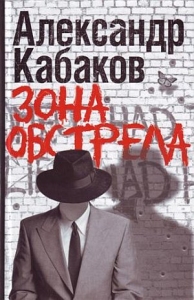

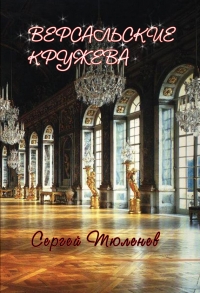


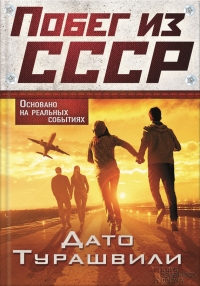


Комментарии к книге «Мир не в фокусе», Жан Руо
Всего 0 комментариев