Рафаэль Санчес Ферлосио
Предисловие: Воды Харамы не потекут вспять
Испания в этой книге совсем не та, какой мы ее видим сегодня на экранах наших телевизоров или в фильмах Хуана Антонио Бардема. Действие романа Рафаэля Санчеса Ферлосио происходит в начале 50-х годов. Уже нет голода, разнузданной спекуляции, повальных репрессий первых франкистских лет, но еще очень далеко, десять-двенадцать лет, до индустриализации, массового иностранного туризма, так называемой либерализации. Никто из персонажей романа, как бы туго ему ни приходилось, еще не помышляет о том, чтобы отправиться на заработки в ФРГ или Швейцарию; лет через пятнадцать это станет нелегким, но привычным выходом для испанских безработных и безземельных батраков. Нравы на берегах Харамы еще патриархально строги — через те же пятнадцать лет какая-нибудь Мели сможет, затесавшись в толпу американских или шведских туристов, прогуливаться в купальнике и шортах хоть по соборной площади, не боясь полицейских окриков и штрафов. Жизнь, которая показана в романе, кажется нам уже историей. Она и есть история.
Конечно, это не вся история. На самом деле уже в начале 50-х годов в Испании происходили события общенационального значения: трудовая Испания как будто выходила из оцепенения, вызванного поражением в гражданской войне. Первым массовым выступлением после войны был бойкот городского транспорта в 1951 году в знак протеста против дороговизны. В том же году рабочие Бильбао провели двухдневную забастовку. Через несколько лет к ним присоединились рабочие Барселоны, Мадрида, Памплоны, Овьедо. Испанский пролетариат вновь прокладывал дорогу нации.
В романе Санчеса Ферлосио ничего этого нет: автор выбрал один летний воскресный день, когда в стране не случилось ничего важного и примечательного. Да и место действия выбрано неподходящее для забастовок и демонстраций — маленький поселок на берегу реки, куда по воскресеньям на электричке, на велосипедах, в такси тянутся мадридцы, чтобы отдохнуть от удушливого зноя. И вот час за часом, пока не наступит ночь и не опустеют пляж и дороги, автор следит за передвижениями, поступками, разговорами людей: как будто объектив стрекочущего киноаппарата попеременно обращается то в одну, то в другую сторону, фиксируя все подряд, без всякого разбора. Но ради чего все это? Ради чего потрачено столько словесной «пленки»?
Начать надо с эстетической программы литературного поколения, к которому принадлежит Рафаэль Санчес Ферлосио.
Годы рождения тех, кто составил ядро этого поколения, — братьев Хуана, Хосе Агустина и Луиса Гойтисоло, Аны Марии Матуте, Армандо Лопеса Салинаса, Антонио Ферреса, Хесуса Фернандеса Сантоса и нескольких других, — между 1926 и 1935-м. Рафаэль Санчес Ферлосио родился в 1927 году, его отец — видный писатель и журналист Санчес Масас, в 30-е годы близкий к основателю испанской фаланги Х.-А. Примо де Ривере, а потом несколько отдалившийся от политики и погрузившийся в «чистое искусство». Ана Мария Матуте в статье «Гражданская война и писатели моего поколения», написанной специально для советского читателя, рассказала о жизненном опыте своем и той части ее сверстников, что выросли в буржуазной или буржуазно-интеллигентской среде:
«Жизнь городов, — потрясенных революцией и войной, ворвалась как ветер в щели и окна.
…Война окончилась, и мы выросли. Но великий урок войны уже не вычеркнуть из памяти, ибо то было время открытия. Те мальчишки и девчонки, о которых я говорю, уже никогда не смогли бы вновь стать легковерными и нелюбознательными детьми „в привилегированном положении“, к которому их предназначали. Здесь-то, по-моему, и заключен корень нашего литературного призвания».[1]
В конце 40-х годов они начали писать. Вначале, как говорит Ана Мария Матуте, «чтобы выкрикнуть наше несогласие, нашу надежду и наши вопросы — большие и не находящие ответов. …Вокруг был мир, который заткнул себе глаза и уши, он не говорил ни громко, ни шепотом, он лишь тупо повторял одно и то же».
Чтобы заставить прислушаться, задуматься над поставленными в книгах вопросами, разделить несогласия и надежду, надо было разработать действенную в тогдашних условиях литературную программу, найти сбою манеру повествования. Была выдвинута формула, которую можно отстаивать, вокруг которой можно сплотиться, — а это важно для собирания сил молодой литературы в трудных общественных условиях. Такой формулой стал термин «объективная проза».
Под объективной прозой имелось в виду документально точное воспроизведение социальной реальности и беспристрастная фиксация поведения людей. Писатель воздерживался от психологических домыслов, комментариев или оценочной окраски авторской речи — он мог подтолкнуть читателя к нужному выводу лишь отбором фактов и выделением детали (реплики, жеста и т. п.). «Тот, кто захочет когда-нибудь в будущем изучить художественную форму, принятую испанскими прозаиками и поэтами, — напишет впоследствии Хуан Гойтисоло, — должен будет учитывать роль цензуры, которая вызвала к жизни эту форму». В пору самовластия франкистской цензуры писатели оппозиционного направления должны были научиться писать, а читатели — читать «между строк». Объективная проза стала своеобразной разновидностью эзопова языка. Бесстрастное описание, какая-нибудь случайная реплика, упоминание (без всяких недозволенных комментариев!) имени, факта, даты — вот все возможные для писателя способы критики режима, способы выражения своей точки зрения на прошлое и настоящее. Но при этом, конечно, писатель всегда апеллирует к способности читателя услышать недоговоренное, расшифровать тайное, связать воедино еле уловимые нити. Недаром теоретик объективной прозы — испанский критик Хосе Мариа Кастельет назвал свою книгу «Час читателя», — молодой роман требовал повышенной активности читательского восприятия.
Художественные принципы объективной прозы сложились не на пустом месте — за ними тщательное изучение литературных традиций, жадное внимание к тому (по цензурным условиям — немногому), что проникало в Испанию из европейской художественной жизни. Из испанской литературной традиции молодые писатели выбрали в качестве учителей Бенито Переса Гальдоса, Пио Бароху и мастеров плутовского романа. В те годы официальная критика рьяно поносила плутовской роман за «воспевание вульгарности» и добивалась чуть ли не изъятия плутовских романов из библиотек. В ответ на это молодые писатели настойчиво декларировали свою приверженность плутовскому роману, ибо он давал неприкрашенную подлинную картину жизни общества, ибо он исходил (в меру возможностей литературы XVI–XVII вв.) из социального понимания действительности. Чувствуются в объективной прозе — в строении диалога, в идее подтекста — заимствования у Хемингуэя, и еще конкретнее — воздействие итальянского неореализма, литературного и кинематографического. Многие композиционные приемы, видимо, были подсказаны испанским прозаикам неореалистическим кино, — например, стягивание действия к одному дню, одним суткам, в течение которых заново переживаются и пересматриваются предыстории персонажей, принадлежащих к разным, обычно не соприкасающимся, но столкнувшимся в результате какого-то из ряда вон выходящего события, социальным слоям. Памятным примером такой композиции был фильм Де Сантиса и Дзаваттини «Рим, 11 часов». Испанские прозаики часто пользуются этим приемом, не заботясь, впрочем, о тугом фабульном узле, — им достаточно просто на протяжении одного дня, от зари до зари, проследить за несколькими фигурами, представляющими разные общественные группы, и постараться прояснить для читателя социальную психологию этих групп. Тягу к свободной, хроникальной композиции нельзя приписывать только влиянию неореализма — в том же направлении вел молодых писателей пример их старшего современника — Камило Хосе Селы, который подчеркивал значение своего «Улья» как «куска жизни», перенесенного на бумагу[2].
Разнородные влияния объединялись и перерабатывались молодыми испанскими писателями в свете их главной установки — участвовать в изменении испанского общества. «Я настаиваю на том, что объективное воспроизведение реальности — это единственная формула, помогающая писателю выполнить его социальный долг», — заявлял один из этого поколения — Х.-М. Кабальеро Бональд. «Произведение романиста должно прежде всего свидетельствовать о реальности, в которой он живет… А чтоб суметь свидетельствовать о социальных отношениях, нужно полностью встать на реалистические позиции», — вторит ему другой — Х. Гарсиа Ортелано.
В 1950 году вышел в свет получивший одну из самых влиятельных литературных премий — премию «Эухенио Надаль» — роман Рафаэля Санчеса Ферлосио «Харама». Ранее Санчес Ферлосио выпустил лишь повесть «Проделки и странствия Альфануи» — своеобразный вариант плутовского романа, в котором герой не столько пикаро, сколько мечтатель и фантазер. Книга была одобрительно встречена критикой, но не обрела популярности у читателей. Время требовало совсем иной литературы, иных жизненных наблюдений. Но уже первым читателям и критикам «Харамы» стало ясно, что именно такой книги все ждали, что это произведение — классическое по художественной последовательности, безукоризненной выдержанности интонации и ритма каждой фразы, каждого абзаца. Скрупулезная писательская работа скрыта в непринужденности повествования, в естественности диалогов, составляющих большую часть текста. С появлением «Харамы» объективная проза становится не программой, не призывом, но свершением, эстетической реальностью.
Итак, роман похож на фильм, отснятый скрытой камерой. Читатель должен выловить и связать все существенное, отбросить случайное и несущественное, прислушаться к отдельным фразам и угадать стоящие за этими фразами мысль и чувство. Именно так мы относимся — незаметно для самих себя — к окружающей нас жизни: просеиваем, осмысливаем, дифференцируем жизненный поток, плещущий вокруг нас.
Вот один из завсегдатаев кафе, некий Лусио, придя рано утром, садится спиной к стене, лицом к двери и сразу же требует, чтобы хозяин отдернул все занавески. Лусио проводит в кафе долгие часы, хозяин привык к его присутствию и занимается своими делами: то обслуживает клиентов, то колет лед. Кусочек льда отскочил на рукав Лусио и растаял, обратившись в капельку воды. И та и другая деталь даны в одном ряду, с казалось бы равной крупностью; но тающий кусочек льда ничем не поможет нам в осознании мира, и он забудется, растворится в рассказе, а привычка Лусио сидеть лицом к двери и видеть входящего предстанет в новом свете, когда из отдельных его реплик мы узнаем, что после войны он несколько лет провел в тюрьме, что был безжалостно ограблен и, бесправный, не мог даже протестовать. Когда он ядовито скажет собеседнику: «Когда-нибудь ты узнаешь, если доведется, что признать или не признать себя побежденным — совсем не так просто…» — когда в ответ на обычную, ничего не значащую шутку о том, что не вернуть уже прожитые годы, он вдруг вскинется с неожиданной яростью: «Не согласен я с этим, ерунда это!.. Пусть мне вернут то, что отняли!» — вот тогда станет ясно, почему он день-деньской просиживает в кафе, где «чисто, светло», почему он боится одиночества и неожиданно распахивающихся дверей.
Или другой пример насыщенной смыслом детали, которую не должен упустить глаз читателя. Уезжает с шумом и суматохой, после напрасных попыток расплатиться с хозяином, семья его приятеля, мадридского таксиста Оканьи. Маурисио, хозяин кафе, и его дочь Хустина провожают гостей и долго стоят вдвоем в снопе света, падающего из открытой двери кафе. Этот сноп света как будто высвечивает внутреннюю близость отца и дочери, их общую доброту, великодушие, их молчаливое взаимопонимание.
В «Хараме» представлены три группы персонажей. Компания молодежи, приезжающая из города на велосипедах, — в основном это рабочая молодежь. Хозяин кафе, его семья и посетители кафе — взрослые, пережившие войну люди, это в самом точном смысле слова испанский народ. Наконец, следователь и его секретарь, служащий муниципалитета, жандармы — власть, воплощение официальной государственной структуры. Под этим проиллюстрированным нами методом весомых, значащих деталей в романе проделан социально-психологический анализ всех трех групп.
Больше всего внимания уделено молодежи. Поначалу впечатление самое безотрадное: какого-то поразительного умственного убожества, душевной примитивности, пошлости. Целый день они проводят, ссорясь по пустякам и мирясь; целый день тянут нить пустейшего разговора: как бы хорошо поехать в Рио-де-Жанейро, где карнавал и у всех много денег, или как было бы хорошо, если бы воскресенье длилось в два раза дольше, чем остальные дни недели. Впрочем, в болтовне улавливаются и немаловажные детали: все они ненавидят свою работу. Парни работают в цехах, гаражах, девчонки — официантками, продавщицами, но все одинаково тоскливо и злобно думают о рабочей неделе, которая начнется завтра. По другим случайным фразам выясняется, что в будничной, не воскресной жизни у этих ребят достаточно проблем. Вот Мигель и его подружка уже несколько лет хотят пожениться, но как сказать об этом дома, как отнять у семьи свой заработок, ведь там рассчитывают только на выросшего сына, кормильца? Понимаешь, что эти ребята как будто зажаты в тиски утомительной и однообразной работой, бедностью, нехватками. Их дремлющий неразвитый ум подсказывает только одно средство освобождения: вырваться в воскресенье куда-нибудь подальше, знатно повеселиться, поднять пыль до небес, забыть обо всем и на все наплевать. Повеселиться, что-нибудь устроить — они все время говорят об этом, взывая друг к другу с той же тягостной нудностью, с какой, наверно, их поучают взрослые. «Никто ничего придумать не может, чем закончить праздник?» — беспомощно спрашивает девушка. В голову приходит только одно: напиться, шуметь, плясать, а потом плакать пьяными слезами. Бедная Лусита и тонет из-за этого жадного стремления сделать воскресенье каким-то особенным, сияющим днем: от вина кружится голова, и можно решиться позволить себя поцеловать, а потом купаться при луне, и зачем думать о том, что ты не умеешь пить и не умеешь плавать?
Правда, ребята среди них разные. Несколько напряженных ситуации, вроде ссоры из-за жребия, кому идти за едой, стычки с жандармским патрулем из-за «неприличного» одеянии Мели или отвратительной травли домашнего кролика, выявляют несходство характеров: прямой, честной, серьезной натуры Мигеля, трусливо-подобострастной осторожности Фернандо, тупой наглости «парня из Аточи».
Другие привычки, другие заботы у взрослых людей, забегающих в кафе пропустить рюмочку-другую, поболтать с хозяином. И здесь целый день ткутся обычные разговоры; о детях, о заработках, о местных происшествиях. И нужно просеять ворох слов, чтобы обнаружить самое важное, существенное в этих людях. Центральная фигура здесь — Маурисио, хозяин кафе. Проведя с ним долгий день, мы открываем удивительно цельный и чистый народный характер. С домашними, с друзьями, со случайными клиентами, с властями — со всеми он остается самим собой, умным и чуть насмешливым, иногда вспыльчивым, но всегда твердым и справедливым. Внутреннее благородство сказывается в его отношении к людям, к деньгам. Вот он с восхищением отзывается о своем друге Оканье, который не копит денег, а все заработанное тут же легко и широко тратит. Напротив, раздражает Маурисио жених дочери, чистенький и аккуратный коммивояжер, который хочет завести в доме более «светские», а на самом деле мещанские порядки. Маурисио предпочел бы настоящего работягу, грубого, невылощенного, без этих замашек сеньора. Гордость бедняка, классовая гордость — самая яркая черта Маурисио. Правда, он хозяин кафе, но чувствует себя заодно со своими клиентами-друзьями. Это симптоматично — на Западе низшие слои средних классов гораздо ближе к трудящимся, чем к буржуазии, их благосостояние так же зыбко и непрочно и держится лишь на личном труде и труде членов семьи. Та же классовая гордость, презрение ко всем, кто мечтает разбогатеть, выслужиться, прыгнуть повыше, звучит и у Оканьи, и у Лусио. Услышав, как один из клиентов размечтался о том, что бы он сделал, если бы ему вдруг «привалило», Лусио со злой иронией говорит: «…первое, что приходит в голову всякому, кто говорит о роскошной жизни, — это чтобы кто-то почистил ему ботинки».
Все друзья Маурисио, с детства живущие своим трудом и презирающие всех, кто живет иначе, образуют замкнутый мир, с недоверием, а иногда и с открытой ненавистью относящийся к «другим» — к богатым и власть имущим. Какой явной неприязнью ответили молодому чиновнику из муниципалитета, бросившему Лусио что-то снисходительно-высокомерное! «Мы» и «они» — это безоговорочное социальное противопоставление не раз повторяется в разговорах Маурисио и его друзой. Вынужденное, холодно-враждебное сосуществование народных масс и тех, кто поддерживает «бремя власти», четче всего обнаруживается, когда происходит несчастный случай и на сцене появляется следователь со своей свитой.
Сейчас Ферлосио, верный принципу обыденности, ненарочитости изображаемого, выбрал совсем не худший образец касты (так же, как и его жандармы при всей их грубости и упоении властью все же не те ищейки на «Социальной бригады», что пытали арестованных во франкистских застенках). Это следователь новой формации, молодой, безукоризненно подготовленный. Он энергичен, исполнителен, корректен, умело ведет допрос, даже проявляет соответствующую случаю взволнованность — но все так заученно-профессионально, не без любовании своим юридическим мастерством. Вызванный звонком патрульного из казино, оставивший роскошный ужин и нарядную спутницу, он вернется, когда закончит нужные формальности, в этот сияющий благополучием мир — и ничто не может нарушить прочно установившийся порядок его жизни. Никакие внутренние перевороты невозможны в этом сытом и самодовольном человеке. Здесь все — чистая форма, застывшая и уже омертвевшая, несмотря на физическую молодость.
Рафаэль Санчес Ферлосио последовательно осуществляет программу испанского объективного романа — свидетельствовать о социальных отношениях. Однако, будь книга написана точно по программным установкам, она, может быть, и выполнила бы свою задачу, заставив читателя вглядеться и вдуматься в окружающую его обыденную жизнь, но, дав пищу разуму, не дала бы ее воображению. К счастью, Санчес Ферлосио оказался не только терпеливым и проницательным наблюдателем, но и поэтом, и он сумел вдохнуть «душу нашу» в косную материю повседневного быта.
Выдержка из географического справочника, которая открывает книгу, вроде бы подчеркивает, что главное для повествователя — конкретность, что его наблюдательный пункт установлен в точно обозначенной зоне земного пространства. Харама взята как артерия, ведущая к самому сердцу Испании. Но у романа есть еще эпиграф, и он спорит с географическим описанием. Эпиграфом поставлены слова Леонардо да Винчи: «Вода, в которую мы входим, — последняя из той, что уже протекла, и первая из той, что течет к нам; таков и настоящий день». Река, несущая свои воды, превращена Леонардо в образ времени, а люди, входящие в реку, в современников, то есть в людей, сообща переживающих настоящее. Образ дна всплывает в нашей памяти где-то в начале романа, когда ребята затеют веселую суматоху в воде и будет казаться, что «не сами они создают этот шум и гам, а звучит живой голос реки». Эта галдящая молодежь, эта людская толпа, стекающаяся на берег реки, и есть, подобно воде, в которую мы входим, — современность, один запечатленный миг истории. Так открывается в ином ракурсе художественная задача романа; вот один-единственный день, зафиксированный со всей полнотой и точностью, доступной киноаппарату, без каких бы то ни было объяснений, предысторий или забеганий в будущее, — но надо в этом дне увидеть и то, что определено прошлым, и то, что обещает будущее («…вода… что уже протекла, и… что течет к нам…»).
Среди дня у ребят неожиданно вспыхивает разговор о гражданской войне. Что-то знает и помнит о войне лишь один, у которого погиб дядя, семейное горе запало в душу; для остальных война — обрывки скучной школьной истории. Но думать о том, что когда-то плыли трупы по той самой реке, где сейчас они висело купаются, — всем жутковато. Когда вода унесет Луситу, ту, которой особенно неохота было слушать о фронте, боях, убитых, призрак войны поднимется на берегах Харамы.
Потом пастух расскажет в кафе о грозном паводке, о том, как Харама схватывает и уносит людей. Пересыхающая летом речушка может обернуться ненасытной пучиной. И снова возникает перекличка с разговором ребят о погибших на войне. Тех людей тоже схватила и унесла, не выпуская из железных объятий, гражданская война. И гибель Луситы предопределена не коварством реки с ее омутами, но коварством и жестокостью реки жизни, не прощающей доверчивой и бездумной наивности. Так подхватывается образная мысль эпиграфа, и географически конкретная река разрастается в метафору исторического времени, с тем чтобы потом, к заключительной выдержке из справочника, вернуться в свое русло, оставив лишь тревожную память о прошлом и предощущение будущих разливов.
Недаром в заглавие романа вынесено славное имя Харамы, звучавшее когда-то символом сопротивления, прогремевшее в песне, разнесенной голосом Эрнста Буша по всем континентам.
Да, молодежь почти ничего не знает о войне. Зажили раны матерей и отцов, утихла боль утрат. Но, понимают они это или поймут когда-нибудь позже, воды Харамы текут из прошлого, и нынешний день подготовлен и обусловлен вчерашним. Безотрадное, беспросветно-серое, тяжкое сегодня этих ребят порождено прошлым, и нерасторжима связь прошлого с настоящим, как неразделимы воды в роке. Что же касается будущего, пока возможны лишь предположения и надежды. В пьяное и сумасшедшее веселье падает известие о смерти Луситы. Кое-кто хорошо знал погибшую, другие только в это воскресенье с ней познакомились. Но смерть человека, с которым только что шутил, болтал, лежал рядом на песке, потрясла всех. И в этих ребятах, казалось бы, таких пустых, плоских, вдруг проглядывает что-то новое, еще смутно различимое, но обещающее духовный рост. Не только более зрелый Мигель, но и Мели, Паулина, Себас, Сакариас способны на горе, сочувствие, раскаяние, на угрызения совести за то, что струсили и не поспешили на помощь утопающей, способны на товарищескую сплоченность в трудную минуту. Не все и в разной степени — но они смогут, когда наступит час, прийти к пониманию ответственности каждого за все, что совершается вокруг него. Вполне возможно и даже вероятно, что, вернув сегодня вечером велосипед Луситы ее родителям, они через несколько дней успокоятся и в следующее воскресенье поедут так же бездумно и отчаянно развлекаться на какой нибудь другой пляж. Но вода в реке не течет вспять, и ничто не проходит бесследно, каждый день откладывается в человеке, подготовляя завтрашний день.
В Маурисио, Лусио, Оканье, алькаррийце, пастухе житейские передряги, годы тюрьмы, мелочный и тягостный быт не засыпали пеплом здоровую и чистую нравственную основу характера. Вчерашний день ожесточил и огрубил, но и закалил их; завтрашний день, когда он наступит, найдет в этих людях запас мужества, верности и доброты. И в мадридских ребятах таится что-то серьезное, неожиданное для пустеньких девчонок, для примитивных парней. У завтрашнего дня испанского народа есть человеческие резервы, есть духовный потенциал. Только власть выморочна и неподвижна, как стоячая вода. Таков итог обыкновенного, рядового воскресенья.
Таковы результаты социально-психологического анализа, проделанного писателем. Но Рафаэль Санчес Ферлосио понимает, что, кроме вчерашнего и завтрашнего дня, в жизни есть еще просто сегодня, и люди живут настоящим днем, и было бы чудовищно лишать их той доли радости, какую может им дать трудное и мрачное сегодня. И потому его рассказ полон поэзии нехитрых радостей, поэзии быта. Игра в «лягушку», издавна любимая испанцами, и купанье в прохладной роке, вечерние огни Мадрида, открывшиеся перед влюбленной парочкой, и сладкий страх дурнушки Луситы, которую впервые обнял и поцеловал парень, восторг городского ребенка при виде домашнего кролика и мефистофельский смех, ядовитые шуточки инвалида, неподвижного, но кипящего энергией и жаждой движения, — и многое другое есть в романе, что одухотворяет материю жизни и делает каждый день достойным того, чтобы его прожить.
«Харама» произвела огромное впечатлении на современников: и читателей и писателей. В течение примерно десяти последующих лет эта книга оставалась ориентиром дли творческих усилий молодых романистов. Целый свод социальных наук вместил в себя за это десятилетие объективный роман: романисты написали социальную историю Испании за послевоенные годы, изучили ее социальную географию, наконец, проанатомировали социальный организм, исследовав функцию и состояние каждого его члена. И все это было заложено уже в «Хараме». Читая переведенные на русский язык «Прибой» и «Остров» Хуана Гойтисоло, «Все те же слова» Луиса Гойтисоло, «Страстную пятницу» и «Ловушку» Альфонсо Гроссо, мы услышим гулкий отзвук «Харамы». Мы можем теперь сказать, что знаем, как жило испанское общество на протяжении двадцати пяти — тридцати послевоенных лет, как изменялись взгляды, верования, надежды всех слоев населении, чем отличаются условия жизни трудящихся разных районов страны, как строятся взаимоотношении между классами, — и все это мы узнали не от историков, экономистов, социологов, а от молодых романистов.
Конечно, не все было одинаково удачно; подражание «Хараме» нередко приводило к монотонной описательности и поверхностной социологичности, то есть к прямолинейному мехинистическому представлению о зависимости психологии людей от их социального положении. Да и сам Рафаэль Санчес Ферлосио в двух выпущенных после «Харамы» прозаических сборниках не смог уже вновь взойти на вершину своей главной книги.
В середине 60-х годов, когда социальный лик Испании резко изменился, а франкистский режим, утратив свою всесильную монолитность, быстро приближался к краю пропасти, в которую ему предстояло рухнуть со смертью диктатора, обнаружилась некоторая ограниченность и недостаточность объективной прозы. Таков удел всех эстетических манифестов и программ: они вызываются к жизни определенным историческим моментом и нуждаются в замене новыми, когда сменяется историческое время. Теперь требовалась художественная система, в которой акцент был бы перенесен с прямого изображения действительности на восприятие, оценку и истолкование этой действительности. Как всегда бывает в моменты литературного слома, опыт предшествовавшего десятилетия был подвергнут решительной, порой уничтожающей критике. Были отмечены все промахи, все слабости объективной прозы: многие романы были «разобраны по косточкам» и осуждены за художественную невыразительность, приземленную натуралистичность, подражательность. Но ни разу, ни в одной самой агрессивной статье упрек не коснулся «Харамы». И не только потому, что место этой книги в истории испанской литературы нашего века окончательно определено как книги новаторской, открывающей самостоятельную и важную главу. Но в еще большей степени потому, что и сегодня, став историей и рассказывая о времени, отошедшем в историю, роман Рафаэля Санчеса Ферлосио завораживает нас своим художественным единством, в котором сплавлены так часто враждующие и противостоящие в искусстве конкретная социологичность и поэтический символизм.
И. ТертерянХАРАМА
Вода, в которую мы входим, — последняя из той, что уже протекла, и первая из той, что течет к нам; таков и настоящий день.
Леонардо да Винчи«…Опишем кратко и по порядку эти реки, начав с Харамы: ее истоки — в гнейсовых образованиях на южной стороне перевала Сомосьерра, между горами Себольера и Экскомуньон. Захватывая край Мадридской провинции, Харама протекает через Ла-Ируэлу и там, где стоят мельницы Монтехо-де-ла-Сьерра и Прáдена-дель-Ринкóн. Затем, пересекая силурийские сланцы, она течет по Гвадалахарской провинции вплоть до бывшего монастыря Бонаваль. Прокладывает себе путь в глубоких ущельях известнякового пояса меловых образований, продолжении такого же пояса Понтона-де-ла-Олива, который тянется от Тамахона до Конгострины в направлении Сигуэнсы. Немного ниже Понтона-де-ла-Олива Харама сливается с Лосойей. Затем поворачивает к югу и образует плодородную Торрелагунскую пойму, оставляя Уседу слева, на высоте восьмидесяти метров, там, где деревянный мост. Начиная от слияния с Лосойей, Харама служит границей между двумя провинциями. Заходит далеко в глубь Мадридской провинции несколькими километрами выше Эспартала, уже в поясе наносных песков четвертичного периода, и воды ее, часто меняя русло, не приносят пользы сельскому хозяйству. Только в Таламанке удалось отвести воду и сделать небольшую запруду, что позволило обеспечить работу двух жерновов водяной мельницы. В самой Таламанке есть мост, ныне им не пользуются, потому что река уже много лет, как отошла и проложила себе новое русло. От Таламанки в Паракуэльос на лодках едут до моста Виверос, где автострада Арагон — Каталония пересекает ее на шестнадцатом километре от Мадрида…»
______________
— Не отодвинешь ли занавеску?
Он всегда сидел так: спиной привалившись к темной стене, лицом к двери, к свету. Стойка тянулась по левую сторону от него, стойка и взгляд шли параллельно. Стул он ставил боком и облокачивался на его спинку правой рукой, а левую клал на стойку. Так прикрывал он себя с трех сторон, словно запихивал в нишу, с четвертой стороны ему нужен был свет. Его взгляду нужна была свобода, ничто не должно было стоять на пути, и он не выносил занавеску на дверях, мешавшую ему глядеть на улицу.
— Не отодвинешь ли занавеску?
Хозяин кафе кивнул. Тяжелая ткань, мешковина.
Эту странность быстро подметили, и как-то раз, когда он, по обыкновению, уселся в своем углу, хозяин сам отодвинул занавеску, не дожидаясь просьбы. Подчеркнуто отодвинул, словно бы на что-то намекая, и тот обиделся.
— Злит тебя, что прошу отодвинуть занавеску, так и скажи, я уберусь пить в другое место. А эти штучки, что ты выделываешь, они ни к чему, так разговаривать со мной нечего.
— Да ты что, Лусио, ерундовой шутки не понимаешь? Не злит меня, друг, занавеска ведь от мух, и то только теперь, летом, но мне все равно, пусть будет так, если тебе больше нравится. Меня удивляет эта твоя причуда: ну что за интерес глядеть за дверь? Не нагляделся еще? Вечно это дерево, и этот кусок дороги, и эта глинобитная стена.
— Дело не в том, что я вижу и чего не вижу. Я даже сам не знаю, вижу ли я все это, но мне нравится, когда дверь настежь и ничто ее не застит, причуда это или еще что. Такая тоска, когда не на чем взгляд остановить. И еще я люблю смотреть, кто идет.
— Скажи лучше, смотреть, не идет ли кто.
Помолчали. Хозяин оперся волосатыми руками о стойку, всей тяжестью навалился на нее. Узкая солнечная полоса прилегла на цементный пол. Загудел паровоз, и хозяин сказал:
— Без четверти девять.
Оба неприметно изменили позу. Женский голос донесся из-за стенки:
— Слушай, скажи этому парню, когда придет, чтобы остался, помог бы подавать в саду, Хустина сегодня занята. В четыре за ней придет жених.
Хозяин закричал, повернувшись к коридору, откуда донесся голос:
— Этот небось тоже мог бы выбрать будний день для прогулок. Знает ведь, что по воскресеньям она мне здесь нужна.
Вошла женщина и, раздирая гребнем прядь седеющих волос, отчего голова ее склонилась набок, сказала:
— Незачем девочке сидеть здесь, каждое воскресенье собой жертвовать, она имеет право пойти в кино.
— А кто ей мешает ходить в кино? Говорю только, чтобы в другой день.
— Как же ты хочешь, чтобы он выбрал другой день, на неделе, и приехал за ней из Мадрида, и вернулся бы с нею, если он с работы уходит в половине восьмого, а может, и еще позже.
— Ладно, жена, считай, что ничего я не говорил. Пусть делают, как хотят.
Женщина уже разобрала спутанные волосы и теперь, когда ей стало полегче, сказала мужу другим тоном:
— Он и уводит-то ее по воскресеньям как раз потому, что ему не нравится, что девочка подает в саду и должна терпеть эти взгляды и разные грубости гостей. И, по-моему, он совершенно прав.
— А, значит, ему не нравится? Да кто он такой, чтобы указывать, что должна делать моя дочь и чего не должна? Ничего себе! Теперь еще он станет меня учить, как ее воспитывать.
— И неплохо бы! Вот так-то. Может, ты бы и понял, что такое молодая девица, и не держал бы ее здесь, не заставлял бы подавать гостям, словно она мальчик на побегушках. Надо наконец тебе понять раз и навсегда, что девушка — это дело тонкое, — препиралась она с мужем, перегнувшись через стойку и размахивая гребнем перед самым его носом. — Разве поверит кто, Маурисио, что ты так закабалил родную дочь! Я рада, что он ее отсюда уводит, я за это его хвалю и ценю.
— Гляди-ка, он теперь из всех нас благородных господ сделает.
Лусио смотрел то на него, то на нее.
— Ни господ, ни кого еще. Девочка сегодня свободна, и никаких разговоров.
Она ушла за перегородку дочесывать волосы. Маурисио поглядел на Лусио и пожал плечами. Потом оба стали глядеть на улицу. Маурисио вздохнул и сказал:
— Вот так каждый день что-нибудь новенькое.
Помолчали. Светлый прямоугольник на полу постепенно расползался, и отблеск его ложился на потолок. В солнечном столбе плясали пылинки и жужжали мухи. Лусио сел несколько иначе и сказал:
— Нынче понаедут на реку.
— Да, бог даст, побольше приедет народу, чем в прошлое воскресенье. Раз такая жара стоит всю неделю…
— Нынче понаедет много народу, уж поверь мне.
— Это здесь такая жарища, а уж в городе-то что творится!
— Кишмя кишеть сегодня будет река.
— Вчера и позавчера, верно, не меньше тридцати — тридцати пяти было в тени.
— Да, нынче понаедут, нынче уйма народу понаедет на реку.
Пронзительно кричали краски календарей. Отсвет от пола, от солнечной полосы на нем, растворялся в полутьме, становившейся от этого светящейся и сияющей, подобной светлой прозрачности витрин. Сверкнуло на полках тщеславное стекло белых бутылок касальи и анисовой, выставлявшее напоказ, словно драгоценные камни, свои квадратики — тела прозрачных черепах. Пятна, щербины, сучки, зазубрины, следы от стаканов — все вырисовывалось на истертых досках стойки. Маурисио развлекался, выдергивая желтую нитку из тряпки, которую кто-то повесил на гвоздь. В щели между досками забились грязь и мыло. На их неровной поверхности проступали выдержавшие борьбу со временем прожилки — они отпечатались на локтях Маурисио. Он долго разглядывал отпечатки, потом с наслаждением принялся почесывать покрасневшую кожу. Лусио ковырял в носу. Он видел в прямоугольнике дверного проема выжженную землю, оливковые деревья и дома поселка в километре отсюда; вдали торчали развалины старой фабрики. А по другую сторону — холмистая равнина до самого горизонта и над ней низкая, прозрачная и грязная бахрома, будто туман, или пыль, или мякина из амбара. А над всем этим небо, гладкое, грозное, как сталь брони, и без единого изъяна.
В дверях выросла фигура здоровенного парня. С порога он поглядел в одну сторону, потом в другую. В кафе на минуту стало темно.
— Куда это положить? Здравствуйте, — сказал он и вошел.
На плече он нес брус льда, обмотанный дерюгой.
— Привет, Деметрио. Пока положи тут, его сперва надо расколоть. Принеси-ка остальные, чтоб не растаяли на солнце.
Маурисио помог парню снять тряпку со льда. Парень вышел. Маурисио по всем ящикам искал молоток. Снова, со вторым брусом, вошел Деметрио.
— Мы и не слыхали, как ты подошел, где ты поставил тачку?
— В тени, конечно. А где еще я могу ее поставить?
— Ясно. То-то мне странным показалось. Ящики тоже привез?
— Да, два. В одном — пиво, в другом — сельтерская. Не то?
— То, то. Иди за льдом, а не то растает. Что за чертов молоток! Фаустина! Берут тут все у меня, а потом и не подумают на место положить. Фаустина!
Он поднял голову и увидел ее прямо перед собой:
— Ну чего ты? Здесь я. Позвал раз и хватит, не глухая.
— Куда только вы деваете молоток, хотел бы я знать?!
— Приспичило тебе! Любуйся на него… — И она ткнула в сторону витрины.
— Нет такого места, куда бы ты его не сунула! Ящики-то для чего?
— Что еще?
— Ничего-о-о!
Фаустина ткнула Лусио в спину и указала через плечо большим пальцем на мужа.
— Так всегда, видал? — прошептала она и ушла.
Лусио подмигнул ей и пожал плечами.
Развозчик положил последний брус рядом с темп, что принес раньше.
— Ящики пока не заноси. Будь добр, помоги расколоть лед.
Деметрио крепко держал брус, и Маурисио расколол его молотком на несколько кусков. Один осколок долетел до Лусио, он смотрел на него, смотрел, как тот таял на его рукаве, превращаясь в капельку воды.
— Целые плохо влезают, а так и холод лучше сохранится. Теперь можешь заносить ящики.
Деметрио снова вышел. Указав на дверь, Лусио заметил:
— Хороший парень.
— Трусоват малость, а так хороший. Что надо.
— На отца не похож. Тот-то…
— Его счастье, что вовремя остался сиротой.
— Да уж, его счастье.
— Добрый очень, но и больно уж прост.
— Плохого, видать, не сделает. Хороший парень, точно.
— И не гордый, прикажешь что-нибудь, а он сразу все быстро, быстро, будто для себя старается. Другие в его возрасте петушатся, все думают, их поработить хотят.
Снова стало темно — вошел Деметрио.
— Не поможете ли мне, сеньор Маурисио?
— Давай.
Хозяин вышел из-за стойки и помог внести и поставить ящики. Зазвенели, словно гуси загоготали, бутылочки, пока их по одной переставляли в ящик со льдом. Маурисио поставил последнюю и налил Деметрио рюмочку касальи.
— Не выберешь ли сегодня вечером время прийти помочь мне?
— Я вечером собирался пойти на танцы, сеньор Маурисио, так что лучше бы вы кого другого позвали.
— Видно, ты за кем-то приударил, если ради танцев… Брось, ничего с ней не станется. Дочка в кино уходит, не знаю кого позвать бы.
— Пусть вам сеньор Лусио поможет, он ведь никогда ничего не делает.
— Я достаточно делал, когда был таким, как ты.
— А что делали? Ну-ка, послушаем.
— Всякое разное, больше, чем ты.
— Да хоть что-нибудь назовите…
— Больше, чем ты.
— Не верится мне.
— Слушай, парень, ты же ничего не знаешь. Тебе еще многому надо поучиться.
— Ладно, иди сюда, возьми, что тебе положено, и не задирайся с сеньором Лусио.
Маурисио положил на стойку три дуро[3]. Вытащил мокрой рукой из большого ящика. Обтер руку платком. Деметрио взял деньги.
— Ладно, в другой раз. Желаю тебе хорошенько повеселиться на танцах. Как-нибудь один управлюсь.
— Пойду отвезу тачку, а то подзадержался. До завтра.
— Будь здоров.
Деметрио вышел на солнце. Маурисио сказал:
— Его не заставишь. Он и так всегда делает больше, чем обязан. Она-то думает, что может распоряжаться кем захочет и когда захочет. Если девочке взбрело на ум идти в кино, так и он тоже имеет право, нынче для всех воскресенье. Зачем обижать человека, он, конечно, малость заработал бы на чаевых, но все равно делал бы мне одолжение, если б торчал тут весь божий день и помогал обслуживать гостей.
— Ну еще бы. Женщины всем на свете распоряжаются, даже мужчинами.
— Конечно. А на ее дочку и поглядеть никто не смей. Ты сам только что слышал.
— Ничего не поделаешь. Такая уж у них натура.
— Мне-то придется сегодня туго, знай поворачивайся.
— Ясное дело. Вот увидишь, народу вечером будет — уйма. Еще и десяти нет, а уж духота.
— Да, лето так уж лето! Не всякий выдержит.
— Тебе же лучше — чем жарче, тем больше у тебя посетителей.
— Что верно, то верно. Не будь таких деньков, как сегодня, считай, не было бы никакого смысла торчать тут за стойкой. Тем более что теперь уж совсем не то, что раньше, никакого сравнения — слишком много кафе и закусочных понатыкано у реки да на Главном шоссе. А прежде я был здесь совсем один. Ничего похожего ты уже не застал.
— Да еще твое счастье, что тут у тебя тихий уголок.
— Не скажи. По-моему, теперь охотнее едут туда, где побольше народу, лишь бы река да Главное шоссе были под боком. Особенно, у кого машина — чтоб не тащиться изрядный кусок по этой разбитой дороге.
— Когда же ее наконец починят?
— Никогда.
Подул легкий ветерок, стелившийся по земле между стеной сада и дорогой, и на жнивье столбом завихрилась мякинная пыль. Столб пыли остановился у двери, покачался и тут же опал, оставив на земле свой след.
— Ветер поднялся, — сказал Лусио.
Из коридора вышла Хустина.
— Доброе утро, сеньор Лусио. Вы уже здесь?
— Солнце-то взошло! — отпарировал тот, глядя на девушку. — Доброе утро, красотка.
— Отец, дайте мне тридцать песет.
Маурисио посмотрел на дочь, выдвинул ящик и достал деньги. Держа их в руке, снова посмотрел на нее и начал было:
— Послушай, дочка, передай своему…
Но из глубины дома донесся голос жены.
— Иду, мама! — откликнулась Хустина. И убежала внутрь дома, оставив отца с деньгами в руке и с недоговоренной фразой на устах. И тотчас вернулась. — Она сказала, чтоб вы дали мне не тридцать, а пятьдесят песет.
Снова Маурисио выдвинул ящик и к шести дуро, которые он держал в руке, добавил еще четыре.
— Спасибо, отец. Так что вы мне говорили?
— Ничего.
Хустина перевела взгляд с отца на гостя, всем своим видом выразила удивление и снова скрылась в коридоре.
Внезапно затрещал мотоцикл, мотор взревел раз-другой и затих у двери. Из солнечного простора донеслись голоса:
— Дай я тебе помогу.
— Нет, нет, Себас[4]. Я сама.
Маурисио выглянул наружу. Из коляски мотоцикла вылезала девушка в брюках. Лицо юноши было ему знакомо. Оба направлялись в кафе.
— Как дела, молодой человек? Снова к нам?
— Гляди-ка, Паулина, нас еще помнят. Как поживаете?
— Спасибо, хорошо. Как же не помнить!
— Ну а мы, как видите, приехали провести денек.
Брюки были велики девушке. Ей пришлось подвернуть штанины. На голове — красный с синим платочек, повязанный венчиком, концы его висели сбоку.
— Отдохнуть за городом, да?
— Да. И покупаться.
— В такой день в Мадриде, пожалуй, не усидит никто. Что вам подать?
— Не знаю. Ты чего хочешь, Паули?
— Ничего. Я перед отъездом позавтракала.
— Ну и что? Я тоже завтракал. Есть у вас кофе? — обернулся он к Маурисио.
— Кажется, на кухне есть готовый. Пойду взгляну. — И Маурисио пошел по коридору.
Девушка отряхнула пыль с рубашки парня.
— Хорош!
— Ну и что? На мотоцикле — красота: не замечаешь жары. А как остановишься, снова будто в пекле. Наши еще не скоро доберутся.
— Надо было им пораньше выехать.
Вошел Маурисио с кофейником.
— Вот и кофе. Сейчас я тебе налью. Вы только вдвоем приехали? — И взял стакан.
— Да нет, нас много. Остальные на велосипедах.
— Понятно. Сахар клади сам по вкусу. В прошлом году у тебя мотоцикла не было. Купил, что ли?
— Ну что вы! С чего? Взял в гараже, где работаю. Хозяин иногда разрешает прокатиться в воскресенье.
— Значит, дело только за бензином?
— Ну да.
— Неплохо. А я тут как-то подумал: что же те, прошлогодние, не приезжают? Компания прежняя?
— Некоторые те же. А других вы не знаете. Нас одиннадцать, верно, Паули?
— Да, одиннадцать, — подтвердила девушка и продолжала, обращаясь к Маурисио: — Должны были ехать двенадцать, но один из наших ребят остался без пары: девушку мать не пустила.
— Ясно. А тот, высокий, что хорошо пел, он приедет?
— А, Мигель! — отозвался Себас. — Да как же, он с нами! Как вы всех помните!
— Парень так хорошо пел!
— И теперь споет. Мы их обогнали на автостраде Мадрид — Барахас. Я думаю, через полчаса будут здесь. От моста ведь километров шестнадцать?
— Шестнадцать, точно, — подтвердил Маурисио. — На мотоцикле — раз плюнуть. Одно удовольствие.
— Это верно, на мотоцикле мы доехали отлично. Как остановишься, сразу чувствуешь жару. А на ходу — все время в лицо свежий ветерок. Послушайте, я что хотел спросить… Вы ничего не будете иметь против, если мы оставим тут у вас велосипеды, как в прошлом году?
— Да ради бога, о чем спрашивать!
— Большое спасибо. А вино у вас нынче какое? Все то же?
— Нет, другое. Но не хуже, может, даже лучше. Букет, в общем, такой же.
— Прекрасно. Тогда, пожалуй, налейте-ка нам… бутылки четыре, ну да, четыре — на утро хватит.
— Как прикажете.
— Что? Четыре бутылки? Да ты с ума сошел, Себас. Куда столько? Вы все сразу захмелеете.
— Ерунда! И не почувствуем.
— Ну ладно, ты, допустим, будешь остерегаться и не наберешься, верно? Но вы все разгорячитесь, кое-кто и руки начнет распускать, глядишь, благословенное винцо испортит праздник, а нам черт знает как хочется, чтоб он удался.
— Об этом не беспокойтесь, девушка, — вмешался Лусио. — Не удерживайте его теперь. Пусть порезвится. То вино, что он выпьет сегодня, уже будет выпито к тому времени, как вы поженитесь. На потом останется несколькими кувшинами меньше. Не так разве?
— Когда мы поженимся, это уже другой день будет. А то, что сегодня, это сегодня.
— Не слушайте его, — сказал Маурисио. — Это опасный человек. Я его знаю. Не принимайте всерьез, что он говорит.
— Плохо, когда тебя слишком хорошо знают, — засмеялся Лусио. — Насквозь видят, если долго торчишь на одном месте.
— Попробуй поди в другое место. Посмотрим, примут ли тебя там, как здесь принимают.
Лусио поманил девушку к себе и тихонько сказал ей, прикрыв рот ладонью:
— Он так обо мне говорит, потому что доверяет, только поэтому, понимаете?
Паулина улыбнулась.
— Что ты там секретничаешь с девушкой? Не видишь — жених уже сердится?
Себастьян тоже улыбнулся.
— Конечно, сержусь, — сказал он. — Я, знаете, ох какой ревнивый… Так что поостерегитесь.
— Ой, это ты-то ревнивый? Прикидываешься. Если б на самом деле!..
Себастьян взял ее за плечи и притянул к себе.
— Иди-ка сюда, иди сюда, моя ласточка. Слушай, а не посмотреть ли нам, где там наши, а?
— Как хочешь. А который час?
— Тридцать пять минут десятого, они уже скоро должны подъехать. Пока, сеньоры.
— Пока!
Они вышли. Направились к переезду.
— Какой странный дядя! — промолвила Паулина. — Если уши развесить, он все может запутать, совсем собьет с толку.
— А что он тебе сказал?
— Ничего особенного: вроде бы насчет того, что хозяин ему доверяет. Ой, Себас, какая жарища!
— Да, мне уж не терпится, чтоб наши приехали да скорей бы окунуться.
— Не вздумай купаться раньше половины двенадцатого: может схватить судорога.
— Ого, как ты обо мне заботишься, Паули! Такая же заботливая будешь, когда поженимся?
— А чем тебе плохо? В общем, наверно, это из-за того, что ты сам ко мне черт знает какой внимательный, вот и я… Только не знаю, какая мне польза от всего этого.
— В твоих словах всегда есть польза, радость моя. Мне так приятно все, что ты сейчас сказала.
— Хорошо, а я-то что выигрываю от того, что тебе мои слова приятны? Разве на твоих поступках это как-то отражается?
— Ты выигрываешь то, что я люблю тебя еще больше. Тебе мало?
— Да бог с тобой, ты, никак, воображать о себе стал, вот ужас-то!
— Я тебя люблю. Ты — мое солнышко.
— Ну уж нет, милый мой, хватит с нас одного солнышка. По крайней мере, сегодня наверняка обойдемся одним. Гляди — поезд.
— Посчитаем вагоны?
— Что за ерунда! Зачем?
— Так, от нечего делать.
— Славная парочка, — сказал Лусио. — Вот тебе и посетители.
— Они уже были здесь в прошлом году, — отозвался Маурисио, обтирая бутылки. — Только, по-моему, тогда они еще не были женихом и невестой. Должно быть, обручились попозже.
— Одно нехорошо: ну чего это она в брюки вырядилась? Страх один! Зачем девицам так одеваться?
— Удобней ездить на мотоцикле, приятель. Да и пристойней.
— Ну вот еще! Терпеть не могу девиц в брюках. А эта похожа на новобранца.
— Просто они ей великоваты. Наверно, взяла у брата.
— Все же хорошая юбка красит девушку, а все остальное только уродует фигуру. Куда девался вкус у мадридских женщин — не знают, что на себя напялить.
— Ну уж в Мадриде-то, скажу я тебе, ты увидишь женщин, одетых с таким вкусом, какого в провинциальном городке в жизни не встретишь. И материя, икрой, и все прочее!
— Что с того! На всякую ерунду тоже глядят. В конце концов Мадрид — центр, столица Испании; в нем должно быть всего понемногу, там и все хорошее, и все плохое!
— Хорошего в Мадриде больше, чем плохого.
— Это разве что для нас, для тех, кто из деревни приезжает. А поезжай, спроси-ка у них самих. Или даже ездить не надо, и тут можешь убедиться: посмотри, как они проводят воскресенье, сюда едут, верно? Видно, надоедает им столица, иначе зачем бы им уезжать. И не один уезжает и не два, а тысячи! Тысячи бегут из города каждое воскресенье, спасаясь от жары. Вот почему никто не может сказать, что хорошо, что плохо, — человек от всего устает, даже от столичной жизни.
Маурисио налил в бутылки вина и снова стал обтирать их тряпкой. Помолчали. Лусио глядел на прямоугольник поля в дверном проеме.
— Что за земля! — сказал он.
— Почему ты это говоришь?
— Что — «это»?
— То, что ты сейчас сказал.
— Что за земля? Должно быть, потому, что гляжу на поле.
— Ага!
— А что ты смеешься? Над чем?
— Над тобой. Ты сегодня с утра — будто пыльным мешком стукнутый.
— И тебя это веселит?
— Ужасно.
— Но ты же понимаешь, какую радость я испытываю.
Поле полыхало горячим цветом жнивья. Только охра, беспощадная, сплошная, без единого пятнышка тени под неуловимым, неосязаемым, одурманивающим покровом мякинной пыли. Холмы налезали один на другой, словно крупы усталых животных, сбившихся в кучу. Где-то внизу, внутри этого стада, текла Харама. И даже на том берегу невозделанные пустоши являли все тот же цвет опаленного жнивья, будто едкое летнее солнце вытравило краски, свело их все к одному грязно-охристому оттенку.
— Закурим? — предложил Лусио.
— Пока не хочу. Попозже. Спасибо.
— Ну, тогда и я сегодня отложу мою первую сигарету, подожду тебя. Чем позже начинаешь, тем меньше кашляешь. Да, кстати, Фаустина или твоя дочка не собираются в Сан-Фернандо?
— Наверно, скоро пойдут. А что?
— Ничего, если я попрошу их купить мне пачку табаку?
— Их дело. Как соберутся, так ты им и скажи. А ты разве не пойдешь туда завтракать?
— Скорей всего нет. Брат с женой уезжают на весь день в Мадрид, к ее родственникам. Должно быть, уже укатили, я слышал, как прошел поезд.
— Так ты завтракать не будешь?
— В том-то и штука. А может, твои заглянут ко мне и принесут мой завтрак сюда? Все стоит на кухонном столе, невестка должна была приготовить. Тогда они избавили бы меня от ходьбы по такой жаре.
— Что еще прикажете, сеньор маркиз? Они и так будут нагружены, а тут еще сверх всего доставляй сюда ему домашнюю еду.
— Тогда ладно, шут с ним, с завтраком. Захочется, так сам пойду. А нет — съем вечером, какая разница.
Прошел товарный поезд, и по ту сторону переезда показалась группа велосипедистов. Завидев их, Паулина принялась кричать и махать руками:
— Эй, Мигель! Алисия! Мы здесь!
— Привет, ребята! Давно ждете?
Шлагбаумы медленно поднялись. Велосипедисты вошли на переезд, ведя велосипеды за руль.
— Как мы важничаем, что приехали на мотоцикле! — сказал Мигель, подходя к Себасу и его невесте.
Велосипедисты обливались потом. На девушках были яркие платки, повязанные так же, как у Паулины. Молодые люди — почти все в белых рубашках. Только один был в майке с поперечными синими и белыми полосами, похожей на матросскую тельняшку. На голове — носовой платок с четырьмя узелками на углах. Штанины заправлены в носки. У остальных были велосипедные зажимы. Высокая девушка, которая шла последней, обиженно кривилась и проклинала свой велосипед, переводя его через рельсы и неровности настила.
— Вот черт! Ну что за старая развалина!
На ней были очки с синими стеклами в замысловатой оправе, которая словно продолжала ее брови вразлет, и это придавало лицу загадочность, делало ее похожей на японку. Она тоже была в брюках.
— Как видишь, я сдержала слово, — объявила она Паулине, поравнявшись с ней.
Паулина посмотрела на брюки.
— Слушай, как здорово! Они так тебе идут, прелесть! Я в своих рядом с тобой — пугало огородное! У кого ты взяла?
— У моего брата Луиса.
— Они тебе в самый раз. Ну-ка, повернись.
Та заученным движением крутнула бедрами, не выпуская руля велосипеда.
— Да из тебя выйдет натурщица! Какие формы!
— Комплименты потом, не то нас поезд переедет. — И девушка свела велосипед с рельсов.
— Что, кто-нибудь шину проколол? — спросил Себас товарищей.
— Слава богу, нет. Из-за Мели[5] задержались — она каждые двадцать метров останавливалась и заявляла, что таким аллюром не может и никто не заставит ее лезть из кожи.
— А каким же аллюром она может?
— Да ну ее…
— И что тут такого? Никто вас не просил меня дожидаться. Я и одна спокойненько приехала бы сюда.
— В этих штанах ты одна далеко бы не уехала, это я тебе говорю.
— Ну да! Это почему же?
— А потому, что многим захотелось бы тебя проводить.
— И на здоровье, мне даже было бы приятно, лишь бы попался не такой, как ты…
— Ладно. Что мы торчим тут на солнце? Поехали.
— Мы выясняем будущее Мели.
— Ну, это ты оставь на потом, когда попадем в тень.
Многие уже ушли.
— Ты похуже велосипеда не мог мне подобрать?
— Милый мой, да я схватил первый, какой мне дали. А ты что, хотел топать на своих двоих?
— Давайте поедем, какой смысл идти пешком.
— Это худшая из развалин, на которые я когда-либо садился, клянусь, не хватает только для маскировки выкрасить ее в хаки, как в армии делают.
— Как доехала наша еда?
— Не знаем, — ответил Себастьян. — Еда все еще лежит в коляске. Придем — посмотрим, не растряслось ли что-нибудь. Думаю, что нет.
Мигель и его девушка пошли пешком, ведя велосипеды за руль, чтобы составить компанию встречавшим, остальные сели на велосипеды и уехали. Паулина сказала:
— Вообще-то трясло здорово, судки черт знает как грохотали.
— Лишь бы не открылись…
— А знаешь, хозяин кафе нас помнит, он меня сразу узнал.
— Ну да?
— Но тебе вспомнил и спросил, верно, Паулина? Он сказал: «Тот, который пел».
Остальные уже подъезжали к кафе. Парень в полосатой майке, ехавший впереди, свернул направо. Одна из девушек пропустила поворот.
— Сюда, Луси! — крикнул он ей. — Поезжай за мной! Гляди, вон уже и кафе!
Девушка повернула и поехала с остальными.
— А где же тут сад?
— Вон за той стеной, не видишь, что ли, из-за нее торчат верхушки деревьев?
Собрались все, остановились у дверей.
— О, здесь неплохо!
— Заметь, Мели всегда последняя.
Один из прибывших поглядел на вывеску и прочел:
— «Разрешается приносить с собой закуску»!
— Я первым делом выпью такую кружищу воды, такую кружищу, с церковь величиной!
— А я — вина.
— Это с утра пораньше?!
Вошли.
— Осторожно, милая, тут ступенька.
— Спасибо, я вижу.
— А где мы оставим велосипеды?
— Пока что у входа. А потом нам скажут, куда поставить.
— Я тут ни разу не была.
— А я был, и не раз.
— Добрый день.
— Оле! Добрый день.
— Фернандо, помоги, пожалуйста, моя юбка за что-то зацепилась.
— Здесь уже попрохладнее.
— Да, тут хотя бы дышать можно.
— Вот ваше лицо я помню.
— Как поживаете? Как дела?
— Как видите, поджидаю вас. Я уж тут удивлялся, что это вы нынче летом глаз не кажете.
— Если можно, будьте добры стакан воды.
— Почему же нет. Ну, а тот, высокий, который пел? Мне, кажется, сказали, что он с вами.
— Да, он приехал, сейчас придет со своей невестой и с теми, что приехали на мотоцикле. Им, видно, нравится солнышко.
— Сегодня, пожалуй, оно никому не нравится. Да, конечно, эти бутылки вина для вас.
На стойке, сияя, стояли в ряд четыре одинаковых литровых бутылки с красным вином.
— Их заказали те двое, как только приехали.
— Что ж, давайте почнем одну. Кто хочет выпить, ребята?
— Хочу безумно.
— Что ты, зачем?
— Оставь бутылки, возьмем на реку. А сейчас, если надо, отдельно по стаканчику.
— Ладно, пусть так. Ты, Сантос, хочешь вина?
— Если дадут.
— Я выпью воды.
— Много не пей, ты запарился.
— Эти голубки не удосужились вынуть из коляски еду. Интересно, что они делали столько времени?
— Тито[6], выпьешь стаканчик?
— Пока предпочитаю воду. А там видно будет.
— А чего вам, девушки: воды, вина, газировки, оранжада, кока-колы, ананасного сока?
— Ну прямо будто это ты всем торгуешь! Из тебя бы, приятель, классный бармен вышел.
— Если девушки не хотят вина, единственно, что могу предложить, — это газированной воды.
— А я, мальчики, сейчас сяду, понятно? И не буду пить ничего, пока чуточку не остыну.
— Это мудро. Лусита, хочешь газировки?
— Хочу.
— Газировка, конечно, лучше, чем простая вода, — сказал Маурисио, наклоняясь к ящику со льдом. — Я ее охлаждаю, а вода уже успела согреться.
— Тогда это, наверно, бульон.
— Все равно хороша, — возразил Тито. — Она утоляет жажду.
— Раз вы так распарились, — добавила Мели, блаженствуя на стуле, — нельзя пить ничего очень холодного.
У нее был крепкий торс, широкие бедра, под брюками угадывалось упругое тело. Голые руки она положила на прохладный мрамор столика.
Сантос обратился к хозяину:
— Вы не возражаете, если мы оставим велосипеды у вас в саду, как прошлый год?
— Ради бога, сделайте одолжение.
— Тогда пошли, ребята. Пусть каждый возьмет свой.
— Вы помните, как пройти? Вот по этому коридору.
— Спасибо, я помню.
Пошли за велосипедами, а тут подошли и остальные четверо. Сантос сказал:
— Себас, пока мы убираем велосипеды, ты мог бы вытащить свертки из коляски мотоцикла.
Войдя, Мигель приветствовал хозяина:
— Здравствуйте. Как поживаете? Мне сказали, вы обо мне спрашивали.
— Спасибо, хорошо. Очень рад вас видеть. Я уж тут говорил вашим друзьям, что все удивлялся, почему этим летом вас не видать.
— Ну вот мы и прикатили.
Они проходили с велосипедами мимо стойки в конец коридора и через дверь в задней стене дома — в сад. Три старые кирпичные стены огораживали его; по горизонтально натянутой проволоке зеленым навесом вились жимолость и виноград. Росли здесь и три маленьких деревца — акации.
— Гляди-ка, а тут недурненько, — заметила Мели.
Среди зелени стояли столики на козлах и два больших стола из сосновых досок. Вокруг — складные стулья, а у стен — деревенские скамьи из распиленного вдоль ствола на вкопанных в землю чурках. В открытом окне, выходившем в сад, видна была женщина, возившаяся на кухне, а в окне слева от двери — сверкавшая никелем спинка кровати и желтое покрывало.
— Ставьте сюда.
Велосипеды составили возле ящика — это была игра под названием «Лягушка». Сантос сунул два пальца в рот бронзовой лягушке.
— Осторожней, укусит.
— Потом сыграем, а?
— Вечером. Такую устроим игру!
— Вот как?
— Ну ясно.
— А нам в это время скучать, что ли?
— Вот я и говорю: если только они свяжутся с «лягушкой», нам, считай, выпал пустой номер.
Пошли по коридору обратно, парень в тельняшке задержался и крикнул:
— Эй, постой минутку! Гляди!
Сантос повернул голову и из темного коридора через открытую дверь увидел, как его товарищ в залитом солнцем саду, ухватившись обеими руками за тонкий ствол дерева, оторвал тело от земли и сделал «флаг».
— Брось, Даниэль, не валяй дурака, я и так знаю, что ты спортивный мужик.
Тот пошел за ним.
— Тебе так не сделать.
Они вошли в зал. Принесенные тем временем судки Маурисио сунул куда-то под стойку.
— Можем идти к реке, — сказал Мигель. — Сколько на ваших?
— Около десяти, — ответил Сантос. — Пошли, если хотите. — И выпил стакан вина.
— Ну так и пойдемте. Пусть кто-нибудь прихватив бутылки.
— А едой займемся в полдень. Я не знаю, поесть нам у реки или здесь, наверху, здесь-то лучше. Как вы на это смотрите?
— Решайте сами. А так, вы же знаете, здесь все будет в сохранности.
— Тогда до обеда.
— Счастливо. Отдыхайте, веселитесь.
— Спасибо. Всего хорошего.
Лусио смотрел на них против света, когда они один за другим выходили за порог и поворачивали налево, к дороге. Потом дверной проем снова опустел — слепящий глаза желтый четырехугольник. Голоса удалялись, смолкли.
— Молодежи — развлекаться, — сказал Лусио. — В такой они поре. Но какова та, вторая в брюках, вот уж действительно с изюминкой и подать себя умеет.
Обеими руками он обрисовал ее фигуру на фоне освещенного дверного проема.
— Вот видишь, дружище, видишь, дело-то все в том, кто их носит. Ну, вытаскивай табачок, закурим.
Лусио долго и мучительно шарил, отыскивая кисет и папиросную бумагу, он поднимал плечи, чтобы забраться куда-то в самую глубину кармана, и наконец извлек все, что искал. Маурисио принялся вертеть самокрутку, приговаривая:
— Очень вредно курить натощак, чем дольше продержишься с утра, тем лучше для здоровья.
— Кстати, который час?
— Послушай, я что-то не пойму, зачем тебе знать время?
Лусио состроил гримасу, скривив все лицо.
— Да ну? В самом деле не можешь понять? А что тут хитрого: я, должно быть, старею.
— Нет, ты еще не старый. Шевелишься мало, вот что, день за днем сиднем сидишь. Ты вроде впал в спячку, оттого что мало трудишься…
— Тружусь мало? А зачем? Хватит, потрудился…
— Это когда же?
— Вот тебе на — когда! Раньше.
— Раньше чего?
— Да этого самого. И там тоже. Ты что ж, думаешь — мы там посиживали себе да ждали, когда принесут еду?
Маурисио внимательно смотрел на него, ожидая, что еще он скажет.
— Как же, не поработаешь там! С утра и до ночи. Похуже, чем на воле. И все за здорово живешь. — Он оторвал взгляд от огонька самокрутки и поднял глаза на Маурисио. — Ну что смотришь?
Тот вернулся к прерванному занятию — свернул наконец самокрутку.
— Так… Ничего… Я вот думаю… — И он прошел до середины стойки. — Я думаю, надо налить бутылки три вина, скоро пойдут посетители. Хустина! Хустина!
— Иду, иду! — послышалось из глубины дома, и в дверях показалась дочь Маурисио. — Что, отец?
— Скажи матери, если вы собираетесь в Сан-Фернандо, так уже времени много, а мне к полудню надо кое-какого товару. И вот еще что: у сеньора Лусио есть к тебе поручение. Лусио, объясни ей.
— Какое там поручение! Если вам не трудно, зайдите в «Экспресс» и купите пачку табаку. Вот такого, зеленого.
— Чего тут трудного.
— Постой, девочка, я дам тебе деньги.
— Потом отдадите, какая разница! — И девушка снова скрылась в коридоре.
— И книжечку папиросной бумаги! — крикнул ей вдогонку Лусио.
— Ты же хотел, чтоб они принесли тебе еду!
— Да ладно, не надо. И не вздумай им про это говорить.
Шли быстро, хотелось скорее попасть на реку. Пересекли шоссе и направились по проселку, отходившему в сторону. Мели спросила:
— Это далеко?
— Вон за теми деревьями, разве не видишь?
Впереди показались верхушки деревьев. Спуск к реке был, по-видимому, очень крутым.
— Широкая?
— Сейчас увидишь.
Реку они увидели, лишь подойдя к самому краю. Она открылась их взорам сразу. Казалось, реки и нет: вода была такого же цвета, что и берега, она их лишь соединяла в одну сплошную гладкую поверхность, ничуть не возмущенную течением, будто там, в русле, текла расплавленная земля.
— Ничего себе река… — протянула Мели. — И вы называете это рекой?
— Как будто ее кто-то взбаламутил, — подхватила Луси.
Они остановились, глядя на реку с гребня насыпи, возвышавшейся над пологим берегом на десять-пятнадцать метров.
— Ты подумай, я так ждала… Тут не река, а бог знает что. Какое разочарование!
— А ты что хотела увидеть? Амазонку?
— Да вы что, девушки? Первый раз видите Хараму? Она же всегда такая, у нее вода такого цвета.
— Вот это мне и не нравится. Они, видно, грязная.
— Ну что ты, вовсе не грязная, это от глины у нее такой цвет. Она только кажется грязной. Вот увидишь — водичка чудесная!
— Ни за что не стану ее пить. И не подумаю.
— Да кто говорит, чтоб ты ее пила, Мели, — рассмеялся Даниэль. — Она хороша для купанья.
Тито показал налево, вверх по реке:
— Глядите — вон поезд идет.
Там был каменный мост в шесть больших пролетов, а еще выше — мост Виверос на Главном шоссе. Роща у подножья насыпи оказалась на большом веретенообразном острове, делившем реку на два неравных рукава. Ближняя протока, очень узкая, проходила у самой дамбы, и теперь, летом, она высохла. Так что остров перестал быть островом, и к нему можно было пройти почти в любом месте: для этого следовало лишь преодолеть узкую полоску скользкого красного ила. Только внизу по течению, справа от них, еще была вода, мертвая заводь, отделявшая от берега оконечность острова, острив веретена. За островом, где воды заводи сливались с основным потоком, река разливалась спокойным плесом перед бетонной плотиной, сооруженной то ли для водяной мельницы, то ли для оросительной системы. Чтобы попасть в рощу, надо было спуститься с насыпи по ступенькам.
— Ну пошли, а то очень уж припекает.
Ступеньки были сбитые, почти стертые. Когда уже спустились, долго смеялись, потому что одна из девушек поскользнулась и опрокинулась на след, оставленный в иле ее собственными каблуками, а юбка у нее высоко задралась. Поначалу она оторопела, оказавшись в такой нелепой позе, но тотчас подняла голову и, увидев, что все смеются, сама расхохоталась.
— Я шлепнулась, как утка на воду, верно, девчонки? — проговорила она, захлебываясь смехом.
Сантос взял ее за руки и попытался поднять, но девушка так обессилела от смеха, что не могла встать на ноги.
— Я — уточка, — повторяла она в полном восторге.
— Ты ушиблась?
— Да что ты! Тут мягко.
— Ну, Кармела, ты нам устроила спектакль, — сказала Мели. — Все увидели, где у тебя оспа привита[7].
— И прекрасно! Подумаешь, беда! Больше-то вы ничего не могли увидеть.
— Ты всех нас сфотографировала, только и всего.
— Ну, подруга, поднимайся-ка.
— Не спеши, голубчик, не спеши… — И она снова залилась.
— Юбку замоешь в реке, когда будем купаться, — посоветовала Алисия. — Высохнет в ноль минут.
— А помните, какая потеха была с Фернандо, когда мы ездили в Навасерраду? Вот так и со мной.
— Ты права. Сегодня твоя очередь.
— Кто помнит, так это я. А всё эти осклизлые кочки, черт бы их побрал, — сказал Фернандо.
— Тебе не повезло, мы посмеялись — и делу конец.
— Как сказать. Мне было не очень смешно.
— А вот почему это все смеются, если кто-нибудь упадет? Стоит кому-то упасть, как все животики надрывают.
— Потому что вспоминают клоунов в цирке, — решила Мели.
Меж деревьев на острове уже расположилось несколько компаний, люди сидели в тени на расстеленных газетах и подстилках. Травы почти не было — вытоптанная пыльная земля. Лишь кое-где сохранилась зелень, чахлая и серая. На пыльной земле — кувшины, арбузы, корзины с фруктами. Щенок бегал за футбольным мячом, пытаясь ухватить его зубами. Босые футболисты мотались по поляне, с двух сторон которой устроили импровизированные ворота. Стволы деревьев пестрели надписями, самые старые из них уже зарастали, становились трещинами на коре; буквы воспринимались как нечто неотъемлемое от деревьев, как примета растительного мира. Река, отливавшая красным и оранжевым, сплетала и расплетала свои струи, словно играла могучими мускулами. У берегов рос камыш — прямые стрелы, торчащие темным строем и преграждающие путь струе. Кое-где выступали из воды глинистые отмели, словно длинное красное брюхо какого-то животного, греющегося на солнце.
— Вот под теми четырьмя деревьями мы сидели в прошлом году.
— Травы тут не ахти, ничего не скажешь.
— Всю пожрал скот.
— И вытоптали люди.
На этом месте они и расстелили черный купальный халат Сантоса, и Мели улеглась на него первая, никого не дожидаясь.
— Ты вроде кошки, Мели, — сказали ей. — Умеешь выбрать местечко потеплей! Правда, как киска!
— А нам хоть пропадай. Подвинулась бы чуточку.
— Да ладно вам! Если хотите, я встану с халата, пожалуйста.
Она поднялась и пошла между деревьями.
— Что тут лезть в бутылку? Иди и садись, не будь занудой.
Но Мели шла, не оборачиваясь.
— Видали? Ну что такого ей сказали, чтобы так выкаблучиваться?
— Оставь ее. Кто съел поросенка, у того и пищит в ушах.
Даниэль стоял поодаль и разглядывал ствол дерева. Мели подошла к нему.
— Ты что тут ищешь?
Тот испуганно вскинулся:
— Я? Ничего.
Амелия усмехнулась:
— Перестань, чего ты всполошился. Дай я тоже посмотрю.
— Оставь, это мои дела. — Он спиной закрыл надписи на стволе.
— Фу, какой противный! — засмеялась Мели. — Если ты сердишься, что мне охота поглядеть, значит, секрет.
— Не приставай ты.
Мели разглядывала надписи за плечами Даниэля.
— Спорим, я найду, что ты прячешь?
— Полегче! Тебе не кажется, что ты слишком уж настырная?
— А вы-то все какие теперь? Ужас!
Ей надоел спор, и она вернулась к остальным. Солнечные полосы и пятна резко выделялись в тени. На халате Сантоса растянулась Кармен; запрокинув голову, она глядела на вершины деревьев. Над нею, на фоне листвы, возникла голова Мели.
— Ложись, Мели, места хватит. Знаешь, как хорошо?!
Амелия, ничего не ответив, оглядела берег, рощу, людей под деревьями и спросила:
— А где те, другие?
— Какие другие?
— Сакариас и его компашка.
— Ах, эти! Да кто их знает. А они точно сюда собирались?
— Конечно. На поезде. Так они вчера вечером договорились с Фернандо. Ты разве не знаешь?
— Да знаю, конечно. Вроде бы вечером они найдут нас в кафе, чтобы вместе повеселиться.
Мели продолжала озираться.
— Их тут нигде не видать.
— Они говорили, что пойдут в какое-то место, которое знают только они, — сообщил Тито, рисуя фигуры на пыльной земле. — Да и на кой черт они нам сдались сейчас?..
Амелия резко повернулась к нему, но тотчас отвела взгляд и улеглась на халат подле Кармен.
— Даже в тени душно.
— Я и говорю: давайте искупаемся.
— Теперь уже скоро.
Сантос смотрел, как несколько подростков в плавках азартно гоняли по поляне красный мяч, играли в футбол. «Ну, парень, твой мяч, играй…» — бормотал Сантос. В солнечном сиянии над поляной стояло облако пыли. Все ребята из их компании лежали на земле в разных позах, лицом к реке. Только Фернандо стоял, а лежавший рядом Тито прутиком обводил его альпаргату[8], вычерчивая в пыли ее форму. Фернандо обернулся лицом к товарищам.
— Ну что это вы у меня? — воскликнул он, оглядев всю группу. — Ну и картина! Ни дать ни взять — сонные мухи. Что за народ! — Почесал в затылке, потянулся, выпячивая грудь. — Осталось и мне улечься с вами. Тогда будет полный комплект. — И стал обходить лежавших, выискивая местечко.
— Крутишься вокруг нас, как гончий пес перед тем как броситься на добычу. Ну приткнись где-нибудь.
— Слушай, парень, раз уж ты такой разборчивый, мы тебе уступим кусочек халата. А то у всех нас голова кругом идет от твоего мельтешенья.
— Только для тебя, без права передачи.
Девушки потеснились, высвободив ему кусок халата у себя в ногах.
— Спасибо, Мели, спасибо, милая. От тебя я другого и не ждал.
Он сел. Меж деревьев ходил старик фотограф, таская с собой картонную лошадь. На нем был пыльник, надетый поверх майки, а фотоаппарат с привинченной треногой он нес на плече.
— Жаль, мы не захватили аппарата, пощелкали бы.
— И верно, жаль. У моего брата есть «Бой», он привез его из Марокко.
— И ты не сообразила попросить у него эту игрушку!
— Вот и я говорю то же самое.
— Я о нем не вспомнила. Первые дни брат с ним носился, нащелкал всяких физиономий, а потом сунул в ящик и забыл про него.
— А вот тут бы он…
— Эти аппараты для моментальной фотографии — барахло, выброшенные деньги. Получается страх божий.
— Эти, конечно, ни к чему. А вот сделать хорошие снимки на пикнике вроде нашего — дело стоящее. Пройдет время, и ты с удовольствием их посмотришь: увидишь чью-нибудь глупую рожу, посмеешься…
— Что верно, то верно. Мы ведь ни разу не снимались всей компанией, вместе с Самуэлем, Сакариасом и прочими, — сказал Фернандо.
— Эти-то при чем тут? Разве они из нашей компании?
— Ладно. Пусть для тебя они не из нашей компании. А для меня — из нашей. Я Самуэля еще мальчишкой знал.
Фотограф не говорил ничего, только останавливался перед каждой группой и вопросительно смотрел на всех, указывая большим пальцем через плечо на аппарат. Иногда, если видел, что клиенты колеблются и сразу не отказываются, добавлял, покачивая головой: «Момент — и готово!» — словно сообщал какую-то непреложную истину, потом, пожав плечами, уходил со своей лошадью и на ходу пыхтел трубкой, зажатой в зубах. Дым из нее валил отовсюду, как у старого разбитого паровоза.
— Я думаю, нам уже можно искупаться, — предложил Себастьян.
— Подожди, старик, подожди немного. Не нервничай. Может, пропустим по стаканчику?
— Идет! Правильно! Давай сюда бутылку.
— А где Дани? Где он?
— Что же это никто из нас не догадался захватить стакан?
— У меня есть пластмассовый, — сообщила Алисия, — понимаешь, взяла рот полоскать. Только он наверху, в пакете с едой.
— Да не надо стакана: одна из пробок — с соломинкой, видишь — вот?
— А вон он, Дани. Глядите.
Дани бродил между деревьями и группами людей. Он остановился посмотреть на игру.
— Даниэль! Дани! — крикнул Себастьян.
Даниэль обернулся и вопросительно задрал подбородок.
— Сейчас прибежит, вот увидите… Гляди, Даниэль! — И он помахал в воздухе бутылкой так, чтобы тот ее увидел. — Иди сюда, друг, подкрепись!
Даниэль поколебался, но в конце концов решительно направился к товарищам.
— Видите, как рванул? — засмеялся Себастьян. — Не пропустит. Ему покажи бутылку, и он побежит за тобой, как ягненочек.
Даниэль подошел, молча обогнул лежащих и остановился возле Мигеля.
— Что ты там один болтался?
— Так. Искал себе пропитание.
— А-а, высматривал девчонку? На, пей.
— Бедняжечка, остался без пары…
— Не больно-то и нужно.
Он взял бутылку и довольно долго ловил ртом длинную топкую струю. Потом перевел дух и тыльной стороной руки вытер губы.
— Гляди, ты ее совсем приворожил. Давай сюда. Ну как?
— Теплое.
— Если бы оно оказалось холодным, тогда уж не знаю…
— Слушай, а почему бы нам те две не поставить в воду охладить?
— Вот это идея! Можно.
— Давай-ка, Сантос, займись этим долом, тебе ближе всех, и ты пока ничего не делаешь.
— Брось, брось. По мне, пусть будет теплым. Мне и так сойдет.
— Ну ты и разленился, милый мой. Неужели так трудно подняться?
— Очень. Ты даже себе представить не можешь.
— Он родился усталым.
— Нет, извини, усталым я не родился, я потом устал. Я устаю за неделю, мотаясь по делам.
— Вот интересно! А мы, ты думаешь, всю неделю в потолок плюем?
— Вы там как хотите… А про себя я знаю, что приехал отдыхать. На этой неделе у нас всего одно воскресенье, и им надо воспользоваться. Так что давай-ка сюда этот рожок.
— Ладно, что ж, пойду я, — сказал Себас. Он встал и понес две бутылки к реке.
— Девушки, а вы не хотите вина?
— С этого надо было начинать.
— Прости, если можешь.
— Да нет, ты не права: как дойдет до выпивки, мужчины — на первом месте, а женщины пасуют, разве ты не знаешь?
— Неужели? А по-моему, тут дело в плохом воспитании и больше ни в чем.
Стало еще жарче. Кармен играла пальцами, вытянув руки вверх. Сантос взглянул на реку — от сияния солнца прищурил глаза:
— Ну вот, по-моему, самое время купаться. Во всяком случае, я раздеваюсь.
— Он прав. Что мы лежим одетые? Даже если не лезть сразу в воду, все равно в плавках будет легче.
Мели встала, поглядела по сторонам, потянулась и сказала:
— Самуэля с компанией не видать.
— Ты что-то все время о них спрашиваешь.
— Да на реке не так уж мало народа, чтоб ты могла их сразу разглядеть.
— Охлаждать надо только те две бутылки, а эта, как говорится, при последнем издыхании.
— Ой, как быстро. Просто ужас.
— Но ведь и нас много.
Мели снова легла. Вернулся Себастьян.
— Ну что тут происходит? Прикончили бутылку?
— Похоже на то.
— У тебя есть «Бизон», Мели?
— Да, в сумке. Дай-ка мне ее.
— Вот хорошо, — обрадовался Фернандо. — Мели нам даст по сигаретке с легким табачком.
— Мне очень жаль, мой милый, но эти сигареты мы прибережем для себя, а вы, мужчины, покурите и крепких.
— Где тут раздеваются? — спросил, вставая, Сантос.
— Вон там, за кустиками. И я с тобой.
— Ну, красоточки, может, отдадите мне халат?
— И не подумаем. Мы отсюда не двинемся. Нам на нем так хорошо. Да он тебе и ни к чему.
— Я вижу, у всех нас сегодня с утра воспаление лени.
— Еще какое острое.
— Давай, Альберто, пошли.
Сантос и Тито направились к кустам у подножья холма. Сантос сказал:
— Чего это с Даниэлем?
— Понятия не имею. А что?
— Ты разве не видишь, что он ходит какой-то взъерошенный? Слова не скажет.
— Да на него, бывает, находит, ты же его знаешь. То ли скандал учинит, то ли так обойдется.
— Как он дул вино — любо-дорого.
— Пускай взбодрится.
У кустов мать и дочь чистили картофель и лук; дочь, девушка лет пятнадцати, была в купальнике, открывавшем ее тоненькие ноги, покрытые золотистым пушком. Рядом с очистками — бутылка оливкового масла, чуть подальше — розовое полотенце и алюминиевая мыльница. Кто-то стоял по пояс в красноватой воде и махал рукой: «Мама! Мама, посмотрите!..» Голос звучал чисто и звонко. «Я тебя вижу, сынок, будь осторожен!..» Вода была почти такого же цвета, как тела купающихся.
— Вот за этими кустами, — сказал Тито.
Там росло несколько кустов ежевики, на темных жестких листьях густым слоем осела пыль. Неподалеку видны были останки еще одного куста — обгорелые ветки посреди черного пепелища. Тито посмотрел на хилый торс Сантоса, когда тот снял рубашку.
— Какой ты беленький!
— Конечно. Вы же ходите в бассейн, а мне вечно некогда. Сегодня я в первый раз искупаюсь.
— Ты не думай, я тоже раза два-три купался — и все. Просто у меня кожа смуглая. А ты покраснеешь как рак, вот увидишь.
— Потому-то мне и нужен халат. В первый раз много загорать нельзя.
Альберто погладил свои плечи. Огляделся:
— Пожалуй, девчонкам не очень-то захочется тут раздеваться. Со всех сторон тебя видно.
— У них наверняка купальники уже надеты, так что платье можно стащить за любым деревом.
— Хоть бы жара чуточку спала. Послушай, а Мели сегодня чего-то не в себе.
— К чему ты это говоришь?
— Не знаю… Ты сам слышал, она только и спрашивает о Сакариасе и прочих.
— Ну и что?
— Да как тебе сказать: она вроде бы недовольна, что приехала с нами, а не с той компанией. Как ты думаешь?
Сантос пожал плечами:
— Это ее дело. Мне-то что.
Самый прямой путь от Кослады — вдоль железнодорожной линии и до самого переезда. Туфель ему было не жаль. Пока были новые, он их берег. А теперь он глядел под ноги, только чтобы не запачкаться мазутом и не споткнуться о шпалы. Временами, когда никто на него не смотрел, он шел, балансируя, по рельсу. У сторожки на переезде девочка в красном платье сгоняла с расстеленного на траве белья забравшихся на него кур. На листьях винограда, обвивавшего вход в сторожку, осела паровозная копоть. Девочка, заметив его, перестала сгонять кур. Она не засмеялась, увидев, как он идет по рельсу, но через минуту крикнула:
— Берегись!
Мужчина в белых туфлях резко обернулся, — она над ним подшутила и убежала в дом, как нашкодивший котенок. На переезде мужчина сошел с линии и свернул направо. Тут он шагал осторожно, чтобы белый верх туфель не запылился.
Возле кафе он столкнулся с Хустиной и ее матерью, в руках у них были кошелки.
— Добрый день.
— День добрый.
Девушка оглядела его с головы до ног и пошла дальше, на ходу закрываясь от солнца пестрым платком.
— Что нового?
— Ничего. Сами видите.
— Стаканчик?
— Пожалуй.
Посмотрел наружу. Вдали виднелись черные силуэты обеих женщин. Постучал пальцами по стойке. Услышав, как Маурисио поставил на стойку стакан, он обернулся.
— Хулио был вчера вечером?
— Который из двух?
— Управляющий.
— Нет, управляющий не заходил. Другой — был.
— А сегодня придет?
— Кто, управляющий? Наверно.
Мужчина в белых туфлях пригубил вино и снова посмотрел наружу.
— Ну и жара.
— Что и говорить, жара. Будто только и дожидается воскресенья, чтобы еще наддать.
— Да, у жары праздников нет, — вмешался Лусио. — Интересно посмотреть на реку в этот час: наверно, народу там кишмя кишит.
— Должно быть, — согласился вновь пришедший и обернулся к Маурисио. — Ты уверен, что он придет?
— Думаю, что придет, я же сказал. Почти наверняка придет, ведь сегодня праздник.
Посмотрел на мужчину в белых туфлях и направился к мойке. Тот ничего не сказал. Все трое как будто чего-то выжидали.
— Боюсь, не делали ли мы глупости всю жизнь, — сказал, помолчав, мужчина в белых туфлях. — Пожалуйста, Маурисио, еще стаканчик.
Маурисио взял стакан и посмотрел на гостя с любопытством. Осторожно, не то спрашивая, не то утверждая, сказал:
— Вы-то, верно, знаете, что хотели этим выразить?
— Что я хотел выразить? Конечно, знаю. Ну зачем я приехал в Косладу? Чего ради?
Молчание.
— Вам виднее.
— Я знаю только, что лучше мне было остаться в родных краях. Куда как было б для меня полезней. Но все начинаешь понимать слишком поздно.
Лусио и Маурисио смотрели на него. Маурисио спросил:
— Так уж плохи дела? Что с вами стряслось, если не секрет?
Гость поднял голову, взглянул на Маурисио из-под насупленных бровей, фыркнул:
— Чепуха. Болтают люди чепуху, а тебе докука. Да и сам-то я хорош: чепуху эту к сердцу принимаю. — Он сглотнул слюну, помолчал, бросил взгляд на поле и продолжал: — И все эта политика. Ерундовая политика, конечно. Мышиная возня, но политика! Одни за это, другие за то. А в парикмахерской говорят много, больше, чем надо. И ты должен терпеть, когда говорят и то, и другое, и бог весть что. Если не стерпишь, клиента потеряешь, а будешь терпеть — попадешь в какую-нибудь историю. Они как будто приходят к тебе единственно затем, чтобы излить всю желчь, всю дрянь, всю тайную злобу, какая у них накопилась друг против друга. И пока ты их намыливаешь и бреешь — готово дело, тебя уже втянули в какую-нибудь свару. Какой только пакости не сотворят. — Он отчаянно жестикулировал, с беспокойством поглядывая на дверь, помолчал, подбирая слова. — Так вот, сегодня утром приходит ко мне Абелардо, вы его знаете.
Слушатели кивнули.
— Значит, приходит он ко мне и рассказывает, что три или четыре человека говорили, дескать надо мне устроить бойкот, чтоб никто не ходил в мое заведение, потому что у меня там нездоровая атмосфера для порядочных людей. — Тут гость сделал паузу, глубоко вздохнул и посмотрел на собеседников. — Вы же понимаете, как мне это надо — создавать в моем заведении нездоровую для кого-то там атмосферу… Всякому ясно! А что прикажете делать? Сгонять их с кресла и выставлять за дверь с намыленной физиономией? Или что? Может, затыкать им рот салфеткой?..
— Самые злые сплетни идут из парикмахерской, — сказал Лусио. — От них больше всего вреда.
Он говорил с таким видом, будто речь шла о каком-то насекомом: о клопе или о вше… А Маурисио спросил:
— Ну, а на этот раз что было?
— Да все этот Хулио… У него, видите ли, Гильермо Санчес арендует помещение под магазин и не хочет освобождать, так он повсюду его высмеивает, кредит ему подрывает. Как-то на днях, в пятницу это было, брил я Хулио, ну и у меня возьми да сорвись с языка, что Гильермо, конечно же, нахал, а в другом-то кресле, позади меня, оказался сеньор, которого водой не разольешь с этим Гильермо. Он безо всяких сразу же бегом к Гильермо и, конечно, ему про этот разговор сообщил, так что сами понимаете…
Даниэль поднял бутылку, запрокинул голову и стал пить, приседая все ниже и ниже. В конце концов поперхнулся и поднялся, от кашля лицо его побагровело. Алисия сказала:
— Так тебе и надо. Не жадничай.
Мигель принялся колотить его по спине.
— Не надо, Мигель, не трудись, все уже прошло. Не в то горло попало.
— Вообще ни к чему было пить вино сейчас, — заметила Паулина. — За обедом бы выпили — и в самый раз. А то получается, что вы без вина ни шагу.
Даниэль обернулся к ней:
— Скажи это своему Себастьяну, если тебе так уж хочется. А меня оставь в покое.
— Ну послушай, я же сказала для твоей же пользы. И еще чтобы праздник у нас не был испорчен. Но можешь не беспокоиться: больше я тебе не скажу ни полслова. Катись ты…
— Да что такое она тебе сказала, — вмешался Себастьян, — что ты на нее взъелся?
— Я, Себастьян, никому праздник портить не собираюсь. Если и испорчу его, то только самому себе, вы все меня знаете.
— Да брось ты, Даниэль! — смеясь, прервал его Мигель. — Лишь бы вино не испортилось, а с праздником как-нибудь управимся.
Все засмеялись.
— Вот это да! Золотые слова!
— Ну ты, Мигель, сказал, как припечатал. В точку попал.
— Уж он скажет, так скажет. Голова!..
— Вон идут наши. Ох, как хочется в воду!
Подошли уже раздевшиеся в кустах ребята.
— Подождем немного, пусть они сначала окунутся. Чем позже, тем вода теплей.
— Так не пойдет! Надо всем вместе! А то неинтересно.
— Конечно, — поддержал Себастьян, — лучше всем сразу.
— Ну, вы готовы? — обратился Мигель к только что подошедшим.
— Да, но послушай: мне кажется, когда мы полезем в воду, кто-то должен тут остаться. Нельзя ведь все это бросить без присмотра.
— А мы будем по очереди смотреть. Подумаешь — проблема.
— Да не переживайте, — сказал Даниэль. — Останусь я. Мне еще не хочется купаться.
— Идет, тогда раздеваемся, давай, Себастьян, шевелись.
Ушли Фернандо, Себас и Мигель. Стало еще жарче, теперь им приходилось все время пододвигаться вслед за уходящей тенью, гонимой яростными лучами, пробивавшимися меж ветвей. Кто-то спросил:
— Куда же течет эта река? Кто знает, куда она течет?
— В море, как все реки, — ответил Сантос.
— Силен! Это я и без тебя знаю. Я спрашиваю, где она протекает?
— Я знаю, что в нее впадает Энарес, чуть пониже Сан-Фернандо, еще знаю, что сама она впадает в Тахо, это уже далеко — где-то, должно быть, у Аранхуэса или Ильескаса.
— Скажи-ка, это не она начинается у Торрелагуны?
— Не знаю, наверно, она. Знаю только, что эта река течет с гор.
На другом берегу деревья не росли. Отсюда, из жаркой тени, видны были лишь редкие кусты у самой воды, а дальше — поле, поле однотонное, как заячья шкурка, растянутая для просушки. Под мостом вода еще оставалась между центральными пролетами. Волноломы по ту сторону моста возвышались на сухом месте. В тени моста теснились кучки людей, расположившихся на песке под высоченными сводами.
— Во время войны немало трупов, наверно, приняла эта река.
— Да, старик, там, повыше, в Паракуэльосе была главная заваруха, но фронт проходил по всей реке, до самой Титульсии.
— Титульсии?
— Что, никогда не слыхал о таком городке? Мой дядя, брат матери, погиб как раз в наступлении под Титульсией, вот почему я и знаю. Мы сидели за ужином, когда нам об этом сообщили, как сейчас помню.
— Подумать только, здесь был фронт, — сказала Мели, — и было полно убитых.
— Я про то и говорю. А мы тут преспокойненько купаемся.
— Как ни в чем не бывало, а может, лезем туда, где уже плавали трупы.
— Ну хватит, — рассердилась Лусита. — Что за удовольствие говорить об этом сейчас!
Подошли остальные трое. Мигель спросил:
— О чем это вы тут?
— Так, ни о чем. Лусите вот не нравятся истории про покойников.
— А что за покойники?
— Ну, во время войны. Я тут им рассказал, что здесь их было немало, и среди них мой дядя.
— Понятно… Ну ладно, а который час?
— Без пяти двенадцать.
— Так что? Не пора ли вам, женщинам, тоже скинуть лишнюю одежду? А ты, Даниэль, что решил? Остаешься сторожить?
Дани обернулся:
— А? Да-да, я пока что побуду здесь, искупаюсь попозже.
Себастьян принялся выделывать курбеты и прыжки, уперся руками в землю, попробовал сделать стойку и испустил тарзаний крик.
— Он что, спятил? — спросила Кармен.
— Нет, он чувствует себя дикарем.
— Винтиков у него не хватает.
Себастьян допрыгал до реки и попробовал воду ногой; вернулся он довольный.
— Ребята, ну и вода!
— Хороша, что ли?
— Лучше не бывает. Феноменально.
— Теплая?
— Нет, не теплая, как раз что надо, идеальная. И почему это наши девушки еще не в купальниках? Давайте поживей! И пяти минут не могу ждать. Не выдержу больше.
Девушки зашевелились, лениво потягиваясь, поднялись. Себас снова побежал к реке, наткнулся на собаку, та огрызнулась, потом с лаем стала наскакивать на него. Себастьян подбирал ноги, опасаясь, как бы она не вцепилась зубами в голое тело. Все смеялись, а Фернандо еще и натравливал: «Ату его!» Толстый сеньор с пузом, как у Будды, и глубоко втянутым, густо заросшим пупком, накидывая на плечи цветное махровое полотенце, вышел из тени и пришел на помощь Себасу. Он звал собаку:
— Оро! Сюда, Оро! Фу, Оро! Ко мне! Не бойтесь, не укусит. Он еще никого не укусил. Оро! Что тебе говорят! Спокойно, Оро!..
Он размахивал ремешком у пса пород носом, но не бил его, и наконец животное подчинилось хозяину. Толстяк улыбнулся Себастьяну и вернулся к своей компании.
— Хорошо бы, он тебя укусил, вот что. Имей в виду, я бы только обрадовалась.
— За что это ты меня?
— Чтоб знал, как строить из себя шута.
— Но послушай, кому я сделал что плохое? Кстати, пес сам на меня набросился.
— Ты мне сделал плохое. Очень приятно мне было глядеть, как все на тебя уставились.
— Что за чепуха! Ну ладно, ладно, беги с подружками, давайте там побыстрей, чтобы купаться всем вместе.
Себас сел, тяжело дыша, а его невеста побежала к остальным девушкам. Мигель аккуратно сложил брюки и снес свои вещи под дерево.
— Эй, Даниэль! Мое все вот здесь, посмотри!
Тот нехотя повернул голову:
— Ладно.
Сантос и Тито отошли в тень и принялись боксировать. Мигель оглядел место, где они сидели, — одежда и обувь разбросаны в беспорядке.
— Себас, ты не хочешь сложить свои вещи сюда, рядом с моими? — И указал место под деревом.
— А какая разница?
— Ну как хочешь, было бы лучше… Так я думаю.
— Все одно, дружище, вставать неохота.
Мигель махнул рукой, отступаясь от товарища, и снова стал оглядывать разбросанные вещи; он колебался. Потом вдруг, ничего не говоря, принялся собирать чужую одежду и аккуратно складывать ее под деревом, пока все не сложил.
— Разве не лучше так?
Себастьян лениво повернулся.
— Что? А, ну да, так, конечно, лучше, — признал он уже другим тоном. — Слушай, а Сантос хорошо плавает?
И показал рукой в сторону деревьев, куда отошли Фернандо, Тито и Сантос; последний, боксируя, только что чуть не упал на пожитки какой-то семьи. «Разобьете мне кувшин, что тогда будет?» — выговаривала им сеньора.
— Как ты загорела! Что ты делала, чтобы так загореть?
Две девушки держали халат Сантоса, как ширму, за которой раздевались остальные.
— Ты не поверишь, но я почти не загорала.
— Значит, к тебе загар пристает сразу. А вот я все стараюсь, стараюсь загореть, а лето, глядишь, и прошло.
Те, кто держал халат, разглядывали фигуры и купальные костюмы подруг, пока они раздевались.
— Ой, как тебе идет. Где ты его купила?
— В Сепу. Как ты думаешь, за сколько?
— Не знаю, двести, наверно?
— Меньше — сто шестьдесят пять.
— Недорого, на вид — совсем шерстяной. Теперь подержи ты. Мне даже стыдно, что я такая беленькая.
Мели и Паулина уже вышли из-за ширмы в купальниках и теперь разглядывали друг друга.
— Побыстрей, девочки.
Они хотели вернуться к ребятам все вместе. На Луси был черный шерстяной купальник. Две другие — обе посмуглей ее — в купальниках из набивного ситца с множеством сборок на резиночках. У Мели купальник был зеленый. Теперь девушки не знали, что делать, глядели друг на друга в нерешительности, собирая снятую одежду. Поглядывая на подруг, каждая сравнивала их с собой. Все смеялись и болтали, без конца поправляя купальники.
— Ой, девочки, подождите, не убегайте вперед!
Смеясь и вскрикивая, пошли обратно. Алисия и Мели о чем-то шептались, остальные допытывались, почему это они хихикают. Потом Кармен и Луси спрятались за спины подруг, но Алисия это заметила, отступила в сторону и, схватив Луситу за руку, потащила ее вперед. Тут Луси испугалась и зашла за дерево.
— Ну и дурочка, иди сюда.
— Что это с Луситой? — спросил Фернандо.
— Стесняется, что она беленькая.
— Это надо же!
Но Лусите теперь было еще страшнее выйти одной и показаться всем. Зардевшись и смущенно хихикая, она выглядывала из-за ствола черного тополя.
— Идите, идите к реке, я пойду сзади.
Тут Тито крикнул:
— Хватай ее!
Фернандо, Сантос и Себас бросились вслед за Тито к дереву, за которым стоила Луси, а та, убегая от них, подалась к реке, но вчетвером они быстро поймали ее и потащили за руки и за ноги. Луси билась и кричала. Ее принесли к воде. Мигель и остальные девушки глядели на происходящее из-за деревьев. Луси кричала:
— Пустите меня, пустите! Не надо сразу в воду! Нет, нет… помоги-и-те!
Непонятно было, плачет она или смеется. Ограничились тем, что слегка макнули ее и поставили на берегу.
— Ну и скоты! Вы мне руки чуть не вывернули!
Тито снова подошел к ней.
— Бедная моя девочка! — сказал он шутливым тоном. — Вы только посмотрите! Но я тебя вылечу, красотка. Хочешь, чтоб я тебя лечил?
Та отскочила:
— Отойди! Это ты во всем виноват! Вы дикари, вот вы кто!
Тито передразнил детские нотки в голосе Луситы:
— Они нахалы. Правда, солнышко? Дать им как следует? Сейчас… Вот тебе, вот тебе, не будьте бяками!
Все смеялись.
— Еще и насмехаетесь?
— Ну ладно, Луси, будет тебе, лапушка, пошутили, что такого, не сердись. Попросить прощенья? А ну-ка, просите все у Луситы прощенья! На колени!
— Согласны!
Все четверо, смеясь, опустились перед Луситой, она отвернулась. Но они снова обступили ее, ползая на коленях и молитвенно сложив руки с утрированно покаянным видом. Она оглянулась и увидела, что все на них смотрят.
— Ну что за цирк! — смущенно улыбнулась Луси. — Теперь вы еще тут спектакль устраиваете. — Ступила в воду и ногой стала брызгаться. — А ну, всех обрызгаю!
Ребята поднялись и отбежали от воды. Подошли остальные девушки и Мигель.
— Вы бы проделывали такие шуточки друг с другом, — сказала Мели. — А то накинулись на Луситу. Под силу себе нашли.
Тут Себас, повернувшись к реке, вдруг крикнул:
— А с последним что делают, забыли?
Все бросились в воду: Мигель, Тито, Алисия, Фернандо, Сантос, Кармен, Паулина и Себастьян. Только Мели и Лусита остались на берегу. Они стояли и смотрели на эту мешанину тел, брызг и криков.
— Я как-то боюсь ступать босыми ногами в ил на дне, — сказала Мели. — Мне все кажется, что там какая-то живность сидит.
От костров подымался дым. Таял в листве деревьев, и запах еды полз пополам с запахом гари от обгоревших кустов. По соседству булькала паэлья[9], и женщина в черном отстранялась от дымного пламени, языки которого рвались к ее лицу. Даниэль видел, как она суетится, как подбирает пряди волос с подпаленными концами. Наклоняясь, чтобы помешать ложкой густое варево, она каждый раз показывала ему подколенки, молочно-белые на фоне платья, черного, как сковородка. Подбежала девушка в мокром небесно-голубом купальнике. Обняла мать за шею тонкой рукой, блестящей от воды, и чмокнула ее в раскрасневшуюся от жара щеку. «Ой, пусти, девочка, ты меня замочишь!..» У костра мелькнули голые ноги. Девушка схватила собачий поводок и убежала обратно к реке. Мать провожала ее взглядом, пока она лавировала меж стволов и пока худенькое тело не вспыхнуло золотистым светом под лучами солнца.
Там, в ослепительном, испепеляющем сиянии, от которого стало больно глазам, — головы, торсы, руки и ноги, вспенивающие красноватые струи. Вся река кипела множеством тел и звенела пронзительными криками, а чуть выше по течению они отдавались гулким металлическим эхом под сводами моста. Высоко в небе сияло подобное зеркалу белое солнце. Но здесь, у земли, свет был красноватый, густой, приглушенный. Он придавливал землю гигантской ногой, смазывая все контуры и фигуры. Даниэль лег на живот и спрятал лицо. Вдруг до его ушей донесся новый звук, неожиданный оглушительный грохот. Он тотчас приподнял свое отяжелевшее в полудреме тело и в свете, ударившем ему в глаза, увидел, что купающиеся машут руками. Все махали поезду. Он шел высоко над рекой по мосту, грохот его с частым, суетливым перестуком удваивало эхо, и шум этот покрывал крики. Прогрохотал и ушел, оставив позади неуслышанные крики, руки, которые махали мелькающим незнакомым лицам в бесконечном ряду окоп. Скрылся последний вагон, а мост все еще дрожал, словно в ознобе. Вдруг наступившая тишина снова наполнилась криками. У воды Даниэль увидел женщину, которая, подоткнув подол до колен, намыливала голого ребенка. Густые клубы дыма, тянувшиеся за паровозом, медленно опускались на реку.
Вошли двое: один в форме полицейского, другой — толстяк в рубашке с засученными рукавами и мокрой под мышками. Толстяк хлопнул по спине мужчину в белых туфлях:
— Что пригорюнился, брадобрей? Какой зуб у тебя заныл?
— Зуб мудрости, — ответил тот с вымученной улыбкой и искоса бросил взгляд на хозяина. — Мы тут беседовали о жизни.
— О, это очень интересно, это мне всегда интересно. Но ведь Маурисио в таких делах разбирается лучше, чем мы. Туго становится, и чем дальше, тем хуже.
— Туго? А с чем туго?
— Да с выпивкой. Кому это знать, как не тебе.
— Господь с вами, что до этого, так… Что прикажете?
— Гвоздичной касальи, — оживился полицейский. — А ты?
— Для гвоздичной уже поздновато. Мне лучше вина.
Странно он говорил: последнее слово чуть слышалось, вроде и не слово вовсе, а так, какой-то посторонний шум. Помолчали. Маурисио застыл с поднятыми руками, как будто забыл, что собирался делать. Крыша над головой потрескивала, казалось, там, наверху, хрустит под солнцем черепица. Поле словно вспухло, как деревенский хлеб в печи, и влипло в проем двери. Сюда не доносились голоса ни с реки, ни с переезда, ни тем более из Кослады и Сан-Фернандо. Ярко блестели бутылки на полках. В такие минуты обычно кто-нибудь спрашивает: «Который час?»
— Сегодня утром я забил козу.
— Пошли тебе господь еще дюжину.
— Я к тому говорю, может, хочешь ногу, так я пришлю.
— Сегодня утром? Как же так? День-то сегодня не убойный.
— Покалечилась она нынче ночью. За мной прислали и предложили: если надо — забирай, я и забрал. Зачем животному зря страдать? Ну как? Надо тебе?
— Не надо, мне ее не продать. Ко мне все приходят со своей закуской. Если чего-нибудь и попросят, так консервов или оливок, не говоря, конечно, о выпивке. А на жаркое спроса нет. Ты же знаешь, если б надо было, я бы ни у кого другого брать не стал.
— Ну да, это я знаю. Только мясо-то больно уж хорошее: двухгодовалая козочка в самом соку. Вчера он ее привязал в загоне, и ясное дело — запуталась она и поломала себе ноги.
— А чья была козочка?
— Луиса с постоялого двора. У него их еще шесть штук, да он все равно не знает, что с ними делать. В скотине ни шиша не смыслит.
— Это всем известно. Что он вообще смыслит? У него одни фокусы да развлечения на уме. Сегодня купил, завтра продал. Он хочет быстренько деньги делать, и тут его ошибка, так далеко не уедешь. Всякую вещь надо подержать да поухаживать за ней, а уж потом ждать от нее дохода. Сгоряча ничего не возьмешь, только по-тихому да по-доброму. Заиметь товар — это еще мало, надо уметь с него выгоду получить.
Полицейский кивал головой, подтверждая слова Маурисио, и поддержал его:
— Да, это еще мало, мало. Кроме этого, надо еще… — И он сделал широкий жест рукой.
Маурисио обернулся к нему.
— И этот туда же! — удивился он. — Да ты-то что понимаешь? Когда это у тебя было хоть что-нибудь?..
Лусио наклонялся то в одну, то в другую сторону, силясь разглядеть что-то через их головы, и наконец сказал, указывая на дверной проем:
— Посмотрите, у этих тоже есть мясо, хоть и воскресенье нынче.
Все посмотрели, — неподалеку, над желтыми холмами, кружился в небе хоровод стервятников; круги их сужались конусом, упираясь острием в какую-то точку на земле.
— Ну надо же, что он там углядел, я на это и смотреть-то не хочу, представить себе — и то нутро выворачивает.
— Омерзительные птицы.
— Каждый живет, чем может, — сказал Лусио. — Может быть, такое же отвращение они испытывают к тому, что мы едим. — Кто к чему привык. Нас приучили, что вот это плохо, и мы этим гнушаемся, мы этого не выносим, нас от этого тошнит, но ведь нас могли приучить и совсем к другому.
Маурисио забеспокоился:
— Ладно, хватит об этом! Ради всего святого! Оставь пока что свои выкрутасы да премудрости, не то меня сейчас стошнит.
Мясник оглушительно расхохотался. Мужчина в белых туфлях продолжал задумчиво смотреть на поле. Лусио не унимался:
— В конце-то концов велика ли разница: мы это едим на два-три дня раньше, они едят на два-три дня позже.
Мясник снова захохотал.
— Слушай, если ты сейчас же не заткнешься… — пригрозил Маурисио.
— Мы ведь все из мяса, разве не так? Или, может быть, ты из чего другого? Скажи тогда, из чего. Что, я не прав? Ну скажите, ведь вы мясник, кому это знать, как не вам.
Все засмеялись. Снова заговорил полицейский, смущаясь, но горячо:
— А вот нынешней зимой мы съели кота, здесь вот, за этим столиком. — И указал пальцем. Он словно возбуждался от того, что говорил: — Вот здесь!
Маурисио уставился на него:
— Ты что мелешь? Ты это к чему? Зачем выдумал?
— Вот здесь, — повторил тот. — По-твоему, это был заяц, но я-то знаю, что это был кот.
Мужчина в белых туфлях обернулся к собравшимся и на полном серьезе сказал:
— Вот бы сейчас впустить сюда всех кошек и собак, которых мы съели во время войны! Тогда они мне казались вкусней, чем говядина, а теперь только взглянул бы — и вырвало.
— Вот видишь, Маурисио, — сказал Лусио. — Я был прав: все дело в привычке, нужда заставит — привыкнешь к чему угодно.
Мужчина в белых туфлях все еще смотрел на стервятников. Начиная круг высоко в ясном небе, они спускались по спирали в пыльную полосу над землей и упирались в нечто смрадное, вспучившееся на раскаленной земле, как на гигантской сковородке.
— Ты послушай парикмахера, он тебе дело говорит, — продолжал Лусио. — Поставь-ка нам по стаканчику, подожди сердиться, придет еще бог знает сколько народу. Если так будешь на них смотреть, всех отпугнешь.
— Вам тоже?
Мужчина в белых туфлях обернулся:
— Что? Конечно, давайте, давайте… — И снова стал смотреть на поле.
Мясник сказал:
— А мне еще раз касальи.
Маурисио налил в стаканы, и полицейский отхлебнул, косясь на полуголых девиц с цветных обложек журналов. Маурисио спросил, перехватив его взгляд:
— Ну как? Они тебе нравятся?
— Да, конечно, нравятся, — ответил полицейский, нервничая и дергаясь, будто в судорогах; его маленькие глазки смеялись.
— Ого, дружище, — сказал Маурисио, — если от них тебя так разбирает, что ж ты выделываешь с живыми?
— Он-то? — откликнулся мясник. — Он из тех, кто предпочитает картинки. Здесь он не промахнется. Верно я говорю? От этих вреда не будет.
— Ну что ж, он прав, — вмешался Лусио, — тут уж без всяких неприятностей.
Тот, о ком говорили, поглядывал на них, не зная, что сказать. А ехидный мясник гнул свое:
— Должно быть, когда-нибудь обжегся.
— Я-то?
Полицейский допил свой стакан, выдавил загадочную улыбку и сдвинул фуражку, давая понять, что собеседники не попали в точку. Маурисио и мясник смеялись над ним, как над малолетним. Мужчина в белых туфлях опять оторвался от созерцания стервятников, отхлебнул из стакана и сказал:
— Могли бы и захоронить эту падаль.
Мясник возразил:
— Кто это возьмется рыть яму в такую погоду, когда солнце палит, а земля — как камень? Кому нужно брать на себя такой труд ради скотины, от которой уже никакого проку? С живыми не знают, как управиться, где уж тут хлопотать о падали.
— Ну хотя бы для гигиены.
— Для гигиены? В деревне этого не существует. Гигиена хороша для парикмахерской. А в поле может быть только одна гигиена — та, которую вы видите, и ею занимаются вот эти птицы.
— Ничего себе гигиена!
— Как это так? Завтра подите и посмотрите — все будет чисто. Можете сколько угодно содрогаться, только птицы эти не вредные. Наоборот — они приносят пользу. Если бы не они, эта падаль воняла бы у нас под носом целый месяц.
Мужчина в белых туфлях ограничился тем, что скривил рот в недоверчивой ухмылке и снова стал смотреть за дверь. Полицейский кивал головой и жестами выказывал одобрение мяснику.
Мели плыла неумело, поднимая тучу брызг. На голове у нее была резиновая шапочка. Еще на берегу Луси сказала ей:
— Как тебе идет эта шапочка! Где ты, говоришь, ее купила?
— Брат привез из Марокко.
— Хорошая шапочка, наверно, американская.
— Да, скорей всего…
Потом обе потихоньку стали входить в воду, шли и смеялись, а вода покрывала им ноги, живот, была уже по пояс. Они останавливались, переглядывались, смеялись заразительно, неудержимо, смех подступал, как нервный спазм. Брызгались, визжали, хватались друг за друга, пока обе не обессилели от смеха. Окунувшись, пошли к остальным, туда, где вода была им чуть выше пояса. Только Алисия и Мигель, которые плавали лучше, поплыли по течению, к плотине, там было поглубже.
Все галдели, громко перекликаясь, вода бурлила от их тел, и казалось, не сами они создают этот шум и гам, а звучит живой голос реки, который заставляет их кричать все громче, чтобы быть услышанными друг другом.
Луси купалась вместе с Сантосом, Кармен и Паулиной. Они взялись за руки, образовав круг, и дружно подпрыгивали и приседали, окунаясь с головой, а потом выныривали в пене и брызгах. Мели отошла немного в сторону и пыталась плыть стильно. Тито и Фернандо смеялись над ее стараниями.
— В чем дело? — сказала она им. — Можно подумать, сами умеете лучше! Ну-ка, голубчики, отойдите отсюда, надоели до смерти. Не могу же я…
— Она хочет стать Эстер Вильямс[10], — поддразнивал ее Тито. — Вообразила себе…
— Дурак!
Тито приблизился к ней и, смеясь, схватил за лодыжку.
— Пусти, противный, пусти!.. — закричала Мели, изо всех сил работая руками, чтобы удержать голову на поверхности воды.
Фернандо подкрался к Тито сзади и, прыгнув ему на плечи, окунул с головой. Мели, освободившись, глядела, как Фернандо изо всех сил старается удержать товарища под водой, и представила себе, как тот бьется там, пытаясь вынырнуть.
— Так ему и надо! Подержи его еще! Будет знать, как идиотничать!
Но тут Фернандо подпрыгнул, и из воды показалась голова Тито.
— Очень хорошо! Заработал! — сказала Мели, пока Тито переводил дух.
Вдруг он повернулся.
— Фернандо, Фернандо, осторожно, он заходит сзади!..
Завязалась беспорядочная яростная борьба; в водовороте вертелись тела, появлялись и исчезали скользкие руки и ноги, головы, жадно ловившие разинутым ртом воздух. Мели под конец перепугалась, увидев перекошенное лицо Фернандо, на мгновение показавшееся из водоворота и снова ушедшее под воду.
— Сантос! — закричала она. — Себастьян! Скорей сюда! Они тут друг друга утопят!
Те подошли, и борьба тотчас прекратилась. Тито и Фернандо глядели друг на друга, обессиленные, задыхаясь и кашляя, не в состоянии сказать ни слова. Они растирали себе шею и грудь руками.
— Едрена палка, — сказал Сантос. — Ну вы и даете!
Фернандо взглянул на него искоса и пальцем показал на Тито, говорить он не мог.
— Еще немного, и кто-нибудь из вас захлебнулся бы, — вставила Паулина. — Похоже, вы не понимаете, что такое вода.
— Они решили надо мной поиздеваться, — сказала Мели, — а вышло все наоборот.
Наконец Фернандо смог разговаривать:
— Этот… он всегда так… Шуткам меры не знает…
— Начал-то ты! Что ж мне было — стоять смирненько?
— Да я тебе ничего не сделал. А вот ты действительно привык фокусничать в бассейне, и с Мели что собирался вытворить!
— Не станете же вы теперь ссориться из-за этого? — вмешался Себастьян.
— Так этот тип просто скотина, — возмущался Фернандо. — Не имеет никакого понятия. Ну кто же затевает борьбу в воде? Вот и получилось, что мы сцепились и ни тот, ни другой не поддавался, каждому надо было во что бы то ни стало высунуть голову, набрать воздуха… Как очумелый!..
— Слушай, Фернандо, если хочешь, давай на этом кончим, — сказал Тито. — Лучше умолкни.
— Еще чего! Не стану я молчать!
Он подошел к Тито, продолжая размахивать руками у него перед носом.
— Фернандо прав, — сказала Мели.
Себас стал между ними:
— Ну хватит. Живите в мире. Наплюйте на все это и не ссорьтесь.
Тито посмотрел на Мели с досадой.
— Ладно! — согласился Фернандо. — Только ты со мной сегодня лучше не разговаривай.
— Не беспокойся, дорогой, хоть целый месяц, — ответил Тито. Состроив кислую мину, он повернулся и пошел к берегу, разгребая воду руками.
— Естественно! — выпалил Фернандо, глядя на всех.
Паулина посмотрела вслед Тито и печально сказала:
— Ну какая глупость!.. Для чего вам было ссориться сегодня, ведь мы сюда ехали с такой радостью… Нет, вы без рук не можете.
— Это все он. Что ты мне-то выговариваешь?
— Конечно, — поддержала его Мели. — Этот идиот Тито…
— А ты не ругайся, — прервал ее Сантос. — Тебе, видно, нравится всех ссорить, вечно этим занимаешься.
— Никого я не ссорила, чтоб ты знал. Тито сам пристал. А я никому не позволю тянуть ко мне руки, понятно?
— Ладно, будет тебе, — прервал ее Сантос, — что ты на меня кричишь? Мое дело сторона. Разбирайтесь сами.
— Вот и ладно. — И она отошла вместе с Фернандо.
— Эта глупеет день ото дня, — заметил Сантос, обращаясь к Кармен. — Воображает.
— А что я тебе говорила? Первый раз, что ли? Всегда ей кажется, что все за ней бегают. Ей только того и надо, больше ничего.
— Задирается. Фифочка, а строит из себя недотрогу. Терпеть ее не могу, ей-богу.
— Я тоже.
Они подошли к Лусите, Паулине и Себастьяну.
— Давайте станем в кружок, как раньше!
— Позовем Тито, вот что, — сказала Луси.
— Оставь его, сейчас он не придет. Надулся.
— Не на нас же.
— На всех понемногу.
— Бедняга! — пожалела Лусита. — Зря мы дали ему так вот уйти.
Она искала его глазами на берегу. У воды стоял толстый Будда со своей дочкой, они намыливали пса по кличке Оро, который бился у них в руках.
Фернандо и Мели прошли немного ниже по течению, направляясь к Мигелю и его невесте. Но вода доходила им уже до плеч, и Мели идти дальше не осмеливалась.
— Али! — кричала она. — Алисия!
Алисия весело откликнулась и помахала рукой.
— Там с головой, где вы?
— Да, с головой! — ответила Алисия. — Не ходи, если боишься!
— Скажи, что не боишься, Мели! — крикнул Мигель. — Нечего ей вас отговаривать, тут посвободнее!
Мели покачала головой и сказала Фернандо:
— Нет, знаешь, я не поплыву, боюсь устану. — И снова крикнула Алисии и Мигелю: — Эй, давайте сюда! Мы вам что-то расскажем!
— Вот сплетница, — сказал Фернандо. — Ты им так все и выложишь? Подумаешь, важная новость!
— Чудак, я это сказала, только чтобы они плыли сюда.
Фернандо улыбнулся:
— Ну да, понятно, чтоб только приплыли… Ты, моя дорогая, нечто невообразимое. Если тебе что вздумается, так поднимешь на ноги полмира. Но у тебя есть еще и дар располагать людей к себе, так что поневоле терпишь твои штучки.
— Ах, вот как? — отозвалась она нарочно уклончиво. — Вам так много приходится терпеть?
— А нравится, когда об этом говорят, да?! Тебе льстит, что я об этом говорю…
— Мне?
— Не притворяйся хоть сейчас-то, не надо, ты уж себя выдала.
— Какой ты противный! — сказала она обиженно, но с улыбкой. — До чего становишься противным, когда начинаешь смеяться вот этим кроличьим смехом: хи-хи-хи! Меня такая злость разбирает, что прямо убила бы тебя, понял? — Тут она потрясла головой, сжав зубы и прищурив глаза. — Хи-хи-хи! Совсем как кролик! — И сама засмеялась. — Дурачок! Противный! А вот и они…
Тем временем Сантос забавлялся испугом Кармен, затащив ее в такое место, где вода была ему по шею.
— Поглядите-ка на эту трусишку! — смеясь, кричал он остальным.
Девушка вцепилась в него обеими руками и вытягивала шею, чтобы рот ее оказался как можно дальше от воды.
— Бандит, вот бандит, теперь я знаю! Ой, тут мне с головой! Сантос, не отпускай меня, глубоко!
Она повисла на Сантосе, обхватив его за плечи.
— Если будешь подгибать коленки, конечно, будет с головой. Ты стань на дно, тогда сама увидишь, что вода тебя не покрывает. Да не впивайся в меня ногтями! Не надо так бояться.
— Ты бандит, сам надо мной издеваешься и других еще зовешь, чтобы посмеялись, — пищала она. — Я хочу на берег!
Возле купались еще трое из их компании. Себастьян плавал по кругу, очень неуклюже, в пене и брызгах, постоянно натыкаясь на людей, которыми кишела река. Какой-то папаша держал на руках ребенка, тот плакал и сучил ножками, взвизгивая от страха, когда чувствовал близко воду, и отец ограничивался тем, что мочил ему головку и без конца повторял: «Все, все, сынок, все…» Паулина и Луси смотрели на эту сцену.
— Что за дети! Наплачешься, пока выкупаешь.
— Мне что-то становится холодно, — сказала Луси. — Мы уже давно в воде. Выйдем?
— Подожди, посмотрим, что там делает Себас.
Паулина высматривала своего жениха среди купающихся.
— Да вон он, — сказала Луси, — гляди. Вон поплыл.
Себас направлялся к Мигелю и к тем, кто был с ним.
— Такую суматоху устраивает, сразу догадаешься, где он, — заметила Паулина. — Никто и в половину так не брызгается. Даже «Куин Мэри»[11]. Идем.
Они увидели Тито, загоравшего в просвете между деревьями. Подошли к нему.
— Что ты тут делаешь?
— Загораю. А вы уже вышли?
— Мы — да, — ответила Луси. — Не помешаем, если ляжем загорать рядом с тобой?
— Что за глупости, Лусита!
— Кто тебя знает… Может, тебе хочется побыть одному. — И покраснела.
— Что за ерунда!
Паулина и Луси улеглись рядом с ним.
— Вот теперь солнышко приятное, — сказала Паулина.
— Это ненадолго. Меня уже ох как припекает. Хорошо только сразу, как выйдешь из воды.
— А что делает Дани? Ты подходил к нему?
— Он все там же. Я подошел за табаком — он готов, спит, даже не шелохнулся.
— Стоило для этого приезжать на реку!.. — сказала Паулина.
Неожиданно появилась рыжая собака, понюхала брюки мужчины в белых туфлях и принялась радостно прыгать перед каждым из присутствующих, виляя хвостом в знак приветствия. Потом села у двери, выглянула наружу, насторожилась и хвостом стала бить по нижней доске стойки.
— С этим песиком поосторожней, — сказал Маурисио, — взбалмошный он какой-то.
— Каков хозяин, таков и пес, — промолвил мясник. — У него такие же повадки, как у Чамариса.
— Все собаки в конце концов становятся похожими на хозяев, — изрек Лусио. — У меня и сейчас еще сохранился след от укуса черного кобеля, которого держала моя невестка.
Мясник громогласно захохотал:
— Не повезло вам!
Пес снова забеспокоился, вошли двое. Пес ткнулся носом в брюки мужчины в белых туфлях и стал их обнюхивать.
— Добрый день всей честной компании.
Мужчина в белых туфлях почувствовал собачий нос у своих ног и обернулся.
— Асуфре, сидеть! — крикнул хозяин собаки.
Пес сел.
— Что нового? — спросил Маурисио.
— Очень жарко. Нет ли у вас пива?
— С утра на льду.
— Вот это да!
— Приходится ждать воскресенья, чтобы выпить здесь пива.
— Хотите, буду завозить каждый день, — если вы обязуетесь разбирать целый ящик. Иначе не получится: оно быстро выдыхается, и никто его уже не берет.
— Чей это там мотоцикл у двери? — спросил посетитель, который пришел вместе с хозяином собаки.
— Молодых людей из Мадрида, они приехали на воскресенье.
— А я подумал, что это мотоцикл доктора из Торрехона. Такая же самая марка.
— Я не разбираюсь, — сказал Маурисио. — Мне кажется, все одинаковые. Эта утварь мне…
— Ну почему, — возразил мясник, — мотоцикл иметь хорошо. Кому надо ездить по шоссе, лучше ничего не придумаешь. Быстро и удобно. Если б на нем можно было по полю ездить, я не задумываясь сменял бы на него лошадь.
— Пришлось бы порядочно приплатить.
Маурисио подмигнул и заявил:
— У него хватит.
— А скажите, Аниано, сколько может стоить такой вот мотоцикл?
— Ну… «Деков» этой модели, пять лошадиных сил, без цепной передачи — дорогая вещь…
— Прикиньте все же.
— От тридцати пяти до сорока сотен — смотря в каком состоянии.
— То-то и оно, — пояснил мясник. — В пять раз больше, чем стоит лошадь. Ясно. Вы сказали, в нем пять лошадей?
— Да, пять.
— Все верно, — объявил Лусио. — Сколько стоят живые лошади, столько и стальные. Лошадь есть лошадь, что тут, что там.
— Не совсем, — поправил его Аниано. — Речь идет не о стальных лошадях, а о лошадиных силах.
— Ну, о лошадиных силах, если вам угодно, для этого случая все едино.
Полицейский взволнованно сказал:
— Значит, в мотоцикле вроде бы спрятаны пять лошадей. — Он засмеялся. — Вот почему он так трещит на ходу. Чем больше лошадей, тем больше шума. А что было бы, — тут он щелкнул пальцами, — если бы в нем было сто лошадей!
Аниано ослабил узел галстука; на нем был светлый костюм, потертый на обшлагах, из нагрудного кармана торчал карандаш с наконечником. Шея у него вспотела, и он вытер ее пальцами. Чамарис был одет в светло-серую куртку с молнией на груди, молния раскрыта донизу, а у рубашки расстегнуты три верхние пуговицы. На запястье правой руки у него был кожаный напульсник, а на безымянном пальце — обручальное кольцо. Вдруг он сказал:
— Угощайтесь табаком, сеньоры, — и протянул Лусио темный кисет.
Аниано, который был маленького роста, облокотился локтями о стойку, встав к ней спиной; он глядел внутрь помещения на стенной шкаф из сосновых досок и на литографию над головой полицейского, — там были изображены кролики, дыни и мертвый голубь на ковре. Полицейский подумал, что Аниано смотрит на него, смешался, подвинулся в сторону, потом сам стал смотреть вглубь, чтобы увидеть, куда смотрит Аниано. Он что-то собирался сказать о литографиях, но тут Аниано переменил позу и взял со стойки стакан пива.
Из Сан-Фернандо, нагруженные, вернулись женщины. Хустина подошла к Лусио и отдала ему табак, сказав:
— Вот ваша пачка.
— А вам не жарко от касальи? — спросил Аниано мясника.
— Совсем нет, от пива жарче, что бы там про него ни говорили. Его чем больше выпьешь, тем больше организм требует, и в конце концов накачиваешься водой. — Он передал ему кисет. — Прошу.
— Может, это и так, — согласился Чамарис. — Это вроде купанья: бывает, охота искупаться в реке, просто ради чистоты, а не чего-нибудь еще, и вот, я говорю, сначала кажется — освежает, а потом потеешь еще больше.
Полицейский провожал глазами кисет, переходивший из рук в руки. Теперь Аниано передал его Маурисио.
— Спасибо, я уже взял. — И он указал подбородком на самокрутку. — Отдайте Кармело.
И полицейский принял кисет, слегка всполошившись, как ребенок, которому достался гостинец.
— Ладно, покурим… — произнес он, щелкнув языком.
— Чем заболел, тем и лечись, — сказал Лусио. — Холод лечат холодом, жару — жарой. Зимой мы растираем лицо снегом, и оно сразу краснеет как мак и начинает гореть. Тут главное — вызвать реакцию. Вот то же самое и с касальей: она вызывает иммунитет к жаре.
— Почему же тогда вы сами ее не пьете, следуя нашему примеру?
Лусио указал на свой живот:
— А мне, дружище, здоровье не позволяет. У меня тут сидит киска, которая не любит касалью, она от нее отказывается. Она вообще добрая, но тут становится бешеной: царапает меня и кусает, будто ей на хвост наступили.
Чамарис улыбнулся?
— И вы тоже? У вас тоже язва?
Лусио кивнул.
— Тогда держите пять, — продолжал Чамарис и протянул руку. — Знаете, как-то раз в Косладе вышел такой же разговор, и мы прикинули, просто из любопытства, скольких людей мы знаем в поселке с язвой желудка. А вы учтите, нас было четверо, и скольких, вы думаете, мы насчитали? Прикиньте-ка и скажите, не задумываясь.
В рассеянности он уже было стал прятать кисет, который дал ему Кармело, но тот потянул его за рукав и бровями указал на мужчину в белых туфлях, стоявшего в дверях спиной к ним и все смотревшего на стервятников. Чамарис подошел к нему, ткнул в плечо кисетом.
— Курите…
Мужчина в белых туфлях обернулся.
— Слушайте, что с вами такое? Вижу, вам сегодня ни с кем не хочется разговаривать. Хватит вам смотреть в небо, и повернитесь к нам, примите участие в общем разговоре — вот и отвлечетесь.
Тот лишь скривил рот в вымученной улыбке и взял кисет, поблагодарив:
— Спасибо, не подумайте, что я сегодня… Я возьму на закрутку, благодарю.
Чамарис вернулся в центр зала.
— Ну так что же, сеньор Лусио, — сказал он, — сколько язв, по-вашему, насчитали мы тогда в Косладе?
— Ну, не знаю… Дюжину?
Чамарис хлопнул его по плечу и ответил, чеканя слова:
— Семнадцать! Не больше не меньше — семнадцать язв желудка. Что вы на это скажете, а? — Он почти наскакивал на собеседника. — Недурно, правда? Хороша статистика? А в Сан-Фернандо, думаете, меньше? Наверняка больше!
Мясник расхохотался:
— Ну вот! Теперь объявят конкурс, в каком из поселков больше язв! Вот это идея! Кстати, с нами Аниано, он и поможет составить условия конкурса и определить весь ритуал. Ну как?
— Вы смеетесь, — ответил ему Чамарис. — Легче всего смотреть на быков из-за барьера! Будь у вас у самого язва, как очень хорошо сказал сеньор Лусио, эта самая киска, которая кусала бы вас изнутри, тогда я бы послушал, что вы скажете. И смеялись бы поменьше. А от касальи отказались бы наотрез.
— Да бросьте, с этим живут по сто лет. Есть вещи и похуже.
— Ну да, пока бережешься, вроде терпимо, — сказал Лусио. — Только в тот момент, когда ты меньше всего ожидаешь, — на тебе, — прободение, и отправляйся к праотцам. С этой киской шутки плохи. Она шутить не любит.
— И от всего-то отказывайся. И боли, и диета, и на душе кошки скребут.
— Много мороки, много мороки, — подтвердил Лусио.
— Ладно, Лусио, не так уж все страшно… Вы-то вроде ни в чем себе не отказываете. За день выпиваете побольше, чем любой из нас. А тут строите из себя мученика.
— Ну так это потому, что мне все одно, прожить на десять лет больше или на пять меньше. Вот в таком виде, в каком я сейчас. Быстрей перестану надоедать моей невестке, — сквозь зубы засмеялся он. — Это такая женщина, которой и в голову не придет сказать мне хотя бы для приличия: «Побереги себя, Лусио!» Нет, такое ей в голову никогда не придет!
— Ну, слава богу, — сказал Маурисио. — А то уж давно ты не поминал свою невестку. А пора бы уж. Я и то удивлялся, что это ты о ней совсем забыл!
Все засмеялись.
С плотины доносились мощные всплески. На краю дамбы возникала человеческая фигура и падала в воду, поднимая тучи брызг. Крики разносились по воде звонко, с металлическим резонансом. Мигель и Алисия купались вместе с Фернандо и Мели. Теперь они вчетвером смеялись над Себасом, который плыл к ним.
— Ну, старик, на это стоит посмотреть, обрати внимание на скорость.
— Да, шуму много, толку мало. Мотоцикл и то у него меньше пыхтит.
Себас встал возле них на дно, тяжело дыша:
— Что тут у вас происходит?
— Ничего. Ты, наверно, путаешь плавание с вольной борьбой — лупишь воду без пощады.
— А что? У каждого свой стиль, — смеясь, ответил Себастьян.
— Это конечно.
— Ну, что вы тут делаете?
— Вот они рассказывали нам о стычке.
— Я так и думал. Слушайте, а Даниэль все не купается?
— Кто его знает.
— Да вон погляди, — сказал Фернандо, показывая в сторону деревьев. — Ну и спит же мужик! Что ему купанье.
— Давайте покричим ему.
— Идет, все разом, когда я скажу «три». Приготовились. Раз… два… три!..
— Даниэ-э-эль!..
— Громче.
— Даниэ-э-эль!..
— Черта с два. А ты, Мели, почему не кричала?
— Да оставьте вы его, пусть спит. Он в своем репертуаре.
— Он вполне мог в одиночку выдуть еще бутылку.
— Вот уж это меня бы не удивило.
— Так что? Выходим?
Многие шли к берегу и ложились загорать. В просветах между деревьями компаниями лежали люди в купальниках и плавках — на полотенцах и халатах или прямо в пыли. Над гребнем плотины по всей ее длине вытянулась цепочка голов — тел не было видно, они распростерлись по другую сторону, на бетонном укосе; отсюда виднелись только головы да иногда еще руки, свисавшие к воде, так что можно было чиркать по воде кончиками пальцев.
— Хорошо бы подкрасться потихоньку, — предложил Фернандо, — схватить его всем вместе, пошлепать по мягкому месту или искупнуть, как есть, в одежде.
— Не стоит, он на нас все равно обидится.
— Тем хуже для него, вдвойне будет наказан.
— Не надо, — сказал Мигель. — Лучше не разыгрывать такие шутки, они всегда плохо кончаются, сами уже убедились.
Вышли на берег и все с криком бросились бежать. Только Мели отстала и шла медленно. Подошли к Даниэлю и стали ходить вокруг него, крича:
— Даниэль! Даниэлито! Вставай, восемь часов! Вставай, старик, опоздаешь, сапожную мастерскую уже открыли! Даниэль, завтракать! Твой кофе остынет!..
Даниэль приоткрыл глаза, мигая от яркого света, кисло улыбнулся и стал отмахиваться от них, словно это были осы.
— Вставай, парень, вставай!
— Оставьте меня. Бросьте. С вас капает. Ну хватит вам приставать…
— Ты что же, не пойдешь купаться? — спросил Мигель.
— Нет. Мне и так хорошо. Катитесь к чертям.
— Ну и набрался ты, приятель.
Мигель почувствовал, что его легонько похлопали по плечу, обернулся.
— Вот смотри. Я так и знал, — сказал Фернандо, показывая пустую бутылку. — Видишь?
Даниэль меж тем снова спрятал голову в согнутых руках.
— Да, пожалуй, лучше оставить его в покое.
Достали полотенца, вытерлись. В реке народу уже поубавилось. Пахло едой, где-то неподалеку били ложками по алюминиевым крышкам и тарелкам, что изрядно раздражало всех вокруг.
Тем временем Кармен говорила своему жениху:
— Посмотри, видишь, какие у меня стали пальцы? Как будто похудели.
Она показала ему подушечки пальцев, сморщенные от долгого пребывания в воде. Тот взял ее руки, прижал к своей груди и сказал:
— Бедные ручонки! Детка, да ты дрожишь, как мокрый щенок!
— Конечно… — ответила она тоном избалованного ребенка.
— Давай выйдем. Я вижу, с водой ты не в большой дружбе. Не надо так ее бояться.
Они в обнимку пошли к берегу, вспенивая воду коленями.
— Ты нарочно делаешь так, чтобы я пугалась, и радуешься.
— Это для того, чтобы ты привыкла, Кармела, и перестала робеть, твой страх — это мнительность.
Они развлекались тем, что шли в ногу и глядели на воду, из которой по мере приближения к берегу появлялись их ноги.
— Какой мягонький этот ил! — промолвила Кармен. — Приятно ступать по такому мягкому, верно?
— Что-то вроде студня.
Сантос наклонился, опустил руку в воду и зачерпнул со дна пригоршню красноватого ила, который вытекал у него между пальцев. Он обмазал им спину девушки.
— Вот спасибо, удружил. Теперь придется ополаскиваться. — Она остановилась и смыла ил со спины, потом сказала? — Слушай, Сантос, а верно, что настоящие пловцы обмазывают все тело жиром, чтобы не замерзнуть?
— Да, это когда надо побить рекорд по выносливости, ну, например, когда переплывают Ла-Манш.
— Вот еще какие сложности.
Они снова обнялись. Сантос оглядывался:
— Что-то я не вижу наших.
— А зачем они тебе? Сегодня с ними одна морока.
— Да, это верно. Куда лучше вдвоем — ты да я, так ведь? И никого нам не надо.
На берегу они остановились. Кармен посмотрела ему в глаза, кивнула в знак согласия, улыбнулась и сказала:
— Ты мое счастье.
— Теперь заполощи свою юбку и повесь на солнце, пусть высохнет.
Их окликнули товарищи, позвали играть в чехарду, и Сантос ушел с ними, а Кармен принялась заполаскивать юбку, которую она перепачкала в глине, когда упала по пути к реке. Паулина присоединилась к играющим. Тито и Лусита остались загорать. Себастьян добровольно стал первым «козлом», а за ним образовалась непрерывная цепочка вдоль берега реки. Тот, кто перепрыгивал через «козла», становился перед ним, чуть наклонившись и опершись о колено, и стоял так, пока не оказывался последним, — тогда наступала его очередь прыгать. Когда прыгала Мели, ей всегда кто-нибудь говорил «гоп!» и немножко распрямлялся, чтобы она упала. Но ей самой удалось свалить Фернандо в отместку, и все рассмеялись.
— Вот так-то, дружок! Будешь знать, как связываться с Мели!
Потом все объединились против Мигеля:
— Ну-ка, посмотрим, можно ли свалить этого длинноногого!
Цепочка продвигалась вниз по реке, а Мигеля все никак не удавалось уложить, и девушки вышли из игры, заявив, что игра стала слишком грубой, им это не подходит. Наконец Мигель упал, свалив и Себаса, и тут же на них попадали все остальные. Хотели снести Мигеля в реку, но не справились с ним, и в результате все четверо оказались в воде. Вышли мокрые, весело смеясь.
— Ну и Мигель! Силен, как бык!
— Такого силача не одолеешь.
Девушки смотрели на них. Паулина сказала:
— Всегда им подавай что-нибудь дикое. А без этого для них нет удовольствия.
— Мигель — самый сильный, — сказала Мели. — Они втроем ничего не могли с ним поделать.
Паулина покосилась на нее.
Кармен меж тем надела блузку поверх купальника, завязав ее полы узлом на животе, юбку она повесила сушиться. Услышала, что ее зовет Даниэль. Вид у него был забавный: он почесывал затылок, лицо красное со сна, на щеках налипли песчинки, словно оспины. Голос как будто испуганный.
— Куда все подевались?
Увидев его таким, Кармен улыбнулась.
— Да вон они, чудик, — ответила она, — вон там, не видишь, что ли?
Но Дани все еще не мог стряхнуть с себя оцепенение.
— Да нет же, ты совсем не туда смотришь.
Он потер глаза кулаками. Потом устремил мутный взор на ослепительное сияние реки. Купающихся было уже мало. Под деревьями он увидел двоих голых пузатых ребятишек в белых панамках, ниже по реке — Мели, стоявшую на солнцепеке. Обернулся к Кармен, но та уже исчезла. Тогда он лег на спину.
Лусита сказала:
— Фернандо нехорошо с тобой поступил…
— Да не знаю… — отозвался Тито. — Не говори ты мне про Фернандо.
— А во всем виновата Мели, правда?
Оба лежали ничком, приподнявшись на локтях, Тито пожал плечами:
— Да теперь не все ли равно кто?
— Послушай, а как ты смотришь на Мели?
— На Мели? В каком смысле?
— Ну, не знаю: как по-твоему, она симпатичная, ну и прочее?..
— Временами — да.
— Она интересная.
— Безусловно.
— Но все-таки слишком задается, ты не находишь?
— Да мне что, детка? Чего это ты меня заставляешь говорить о Мели? Будто другого дела нет.
— О чем-то надо говорить…
Она произнесла это с каким-то раскаянием в голосе, вроде отступая. Тито обернулся и посмотрел на нее с виноватой улыбкой:
— Прости, лапушка. Меня зло взяло, что мы говорим о Мели. Ты задаешь столько вопросов…
— Нам, девушкам, интересно знать, что вы, парни, о нас думаете, — считаете задаваками или что еще.
— Но ты-то не задаешься.
— Правда? — Лусита умолкла, как бы ожидая, что Тито скажет еще что-нибудь, затем добавила: — А вот и да. Бывает, и я задаюсь, хоть ты этому не поверишь.
Помолчали, потом Луси снова спросила:
— Тито, а как ты относишься к тому, что девушка ходит в брюках? Как Мели.
— А как мне к этому относиться? Да никак, одежда, как всякая другая.
— Но тебе нравится, когда девушка в брюках?
— Не знаю. Должно быть, смотря по тому, идут они ей или нет.
— А я, представь себе, тоже хотела обзавестись брюками, но не осмелилась. Было это в праздник Тела господня, когда мы ездили на экскурсию в Эскориал. Я чуть-чуть не купила брюки, да так и не решилась.
— Все это глупости. В конце-то концов, ну что с тобой случится?
— Ага, а людей насмешить, разве этого мало?
— Мало ли чем можно насмешить людей. К тому же я не понимаю, почему именно ты должна насмешить людей.
— Да у меня фигура не очень подходящая для того, чтобы носить брюки.
— Да что ты, детка, ты же не коротышка. Росту хватает. Вовсе не надо быть высокой, чтобы хорошо смотреться.
— А ты считаешь, что у меня внешность ничего?
— Конечно, ничего. По-моему, ты вполне можешь нравиться.
Лусита немного подумала и сказала:
— Да я вообще-то понимаю, что ты все равно так ответил бы, даже если б думал наоборот.
— Может, и так, только я сказал то, что думаю. — Он посмотрел на нее с улыбкой. — И пойдем-ка в тень, пока мы не изжарились заживо.
И они поднялись.
Снова заговорил мясник, в голосе его звучали осторожные нотки:
— А я вот не понимаю, зачем это вы говорите о своих годах. Если б вы захотели, вполне могли бы устроиться.
Лусио пожал плечами?
— Куда? Да я теперь и делать-то почти ничего не умею… Да еще с тем, что у меня за плечами!
Аниано спросил:
— А какая профессия была у вас раньше?
— Я был пекарем. Держал пекарню в Кольменаре. Мой компаньон ее продал и денежки прибрал к рукам. Ясное дело, рассчитывал, что я оттуда никогда не выберусь. Говорили, он в Ла-Корунье открыл то ли торговлю, то ли еще какое дело. Этот тип все захватил, ну что ж — вечная слава… Ищи ветра в поле…
— Да такого не может быть! Разве не осталось бумаг? Регистрации где-нибудь, документа на ваше имя, ну хоть что-то?
Мужчина в белых туфлях тоже заинтересовался.
— Бумаги! Что там бумаги! — сказал Лусио. — Попробовали бы в те годы найти какие-нибудь бумаги, что-нибудь доказать, куда там. Каждый тянул к себе, а потом поди угадай, кто по какому месту тебя стукнул. Так что у меня и мысли-то не было восстановить дело.
— Это верно, — согласился мужчина в белых туфлях. — Можно сказать, кроме неприятностей ничего не наживешь. Лучше уж так: оставайся там, куда упал, когда тебя свалили. Вы жизнь знаете.
— Да, вы и представить себе не можете, чего мне стоило ее узнать. Уж лучше бы я и не знал. Когда ты наконец приобретаешь опыт, то видишь, что он тебе так дорого обошелся, так дорого, что можно бы и без него обойтись, одно другого стоит.
— Я не согласен, — возразил Аниано, — не могу с вами согласиться. Самое худшее — признать себя побежденным. Это последнее дело. Необходимо бороться. Добиваться победы!
— Вы так думаете? — протянул Лусио, вперяя в него взгляд. И вдруг сменил тон и продолжал спокойно: — Ну, а тебе-то сколько лет, парень? Сдается мне, совсем мало, чтоб знать хоть что-нибудь о тех временах. Тогда ты, должно быть, еще под стол пешком ходил…
Аниано покраснел, у него даже потемнела переносица. А Лусио продолжал:
— Значит, не надо признавать себя побежденным? Когда-нибудь ты узнаешь, если доведется, что признать или не признать себя побежденным — совсем не так просто… Тогда ты поймешь. А сейчас лучше бы ты не открывал рта, понял?
— А вы, кажется, претендуете на то, что много знаете! Но никто вам не давал повода мне тыкать! Тоже мудрый старец нашелся!
Чамарис взял его за руку, пытаясь успокоить. Лусио холодно произнес:
— Я не старик, понимаешь? Это ты — мальчишка. Глупый и дерзкий паренек. Это пройдет. Только и всего.
Аниано очень разволновался. Маурисио сказал ему:
— Будет вам, Аниано, не горячитесь.
— Я не горячусь. Вот этот сеньор, который думает, что знает больше всех, берется меня отчитывать. А я не ребенок и не дурачок какой-нибудь. Я учился, чего он и не нюхал. И не для того я закончил полный курс, чтобы кто-то меня тыкал и разговаривал со мной таким тоном.
Чамарис терял терпение. Мясник подмигнул и тихонько сказал с видимым удовольствием:
— Вот-вот… Теперь он вылезет со своим образованием.
Аниано продолжал, пылая негодованием:
— В счете, грамматике, географии и во всем прочем я могу потягаться с этим сеньором! Вот тут-то и станет ясно, так ли уж много он знает, как ему кажется! Семь лет протирать локти, чтобы потом явился отставной пекарь, назвал тебя дурачком и учил бог знает чему.
— Жизни, сынок, жизни, — сказал кто-то.
Маурисио замахал на Аниано обеими руками, призывая его успокоиться:
— Тш-ш-ш… Успокойтесь, успокойтесь, приятель. Никто тут не собирается отнимать у вас ваши заслуги. Никто не отрицает ваших достоинств как человека образованного, ученого. В них никто не сомневается. Все мы знаем, что такое образование и чего стоит его получить. Никто не оспаривает вашу культурность, нет.
— Так кем же он себя возомнил, чтобы вот так ни с того ни с сего мне тыкать? Нет уж! Я добился положения и получил должность благодаря образованию и имею полное право на то, чтобы со мной обращались, как подобает моему положению… Поняли?
От злости у него даже слезы выступили на глазах, но все втихомолку посмеивались.
— Ну да, ну да, конечно, — говорил Маурисио, — все это достойно уважения, кто говорит, что нет.
— Скажите, сколько с меня? — И Аниано вытащил деньги.
— Одиннадцать песет.
Он положил деньги на столик рядом с едва початым стаканом.
— Вы не допьете?
— Нет. Оставлю этому сеньору. Прощайте, всего хорошего.
И вышел так стремительно, что чуть не налетел на мужчину в белых туфлях, который пропустил его, разведя руки в стороны, точно тореро, пропускающий быка, и сказал: «Скатертью дорога!» Но тот уже исчез за дверью.
— Бравый школяр! — сказал Маурисио. — Эти мальчишки как выучат азбуку, так уже считают себя вправе выставляться перед всеми на свете.
— Да он хороший парень, — возразил Чамарис. — Мне жаль, что так получилось. Я знаю, он долго будет переживать. Он любит со всеми беседовать и чувствовать, что его ценят. Если получается что не так, вот как здесь, ему это хуже смерти.
— Ну и пусть попереживает, — возразил Маурисио. — Зачем суется куда не просят? Посмотрел бы я на него в Мадриде, что бы он там делал со своим гонором?!
— А я говорю вам, он неплохой человек. Если знать его и понимать его натуру, можно даже к нему привязаться. Ей-богу, я его ценю. Если ему не перечить, он парень что надо, не зловредный.
— Сегодня он просто сунулся куда не надо и получил по носу, — заключил мясник.
— Говорите что хотите, только сеньор Лусио тоже виноват: зачем было так его унижать, это уж слишком.
— Я хотел знать, до чего мы дойдем со всякими там поправочками да советами. Мне просто хотелось посмотреть, как ему понравится, если с ним обращаться так же, как он привык со всеми обходиться. Ну вот если ты сказал «пять лошадей», он сразу тебя поправит — «лошадиных сил», этот пацан научит тебя правильно говорить. Чего только не наслушаешься!
— Все равно, не надо вам было ему тыкать, сеньор Лусио. Это и задело его самолюбие.
— Не надо? Ведь я ему в отцы гожусь! Нас в его возрасте все звали на «ты». А теперь такие пошли времена, что раз-два — и уже персона. Скажите пожалуйста, служит в муниципалитете, ну и что такого? Поэтому он заслуживает уважения, да если бы не это, сроду бы к нему на «вы» никто бы и не обратился. Он вывел меня из себя, и я поступил с ним, как он того заслуживает, только и всего.
— Правильно, этим петушкам сразу ударяет в голову, едва они место за письменным столом займут. Не иначе. Ну-ка скажи, разве они, когда ты, на свое несчастье, идешь к ним с какой-нибудь бумагой или заявлением, не показывают тебе, что они-то и есть соль земли? Да какой от них прок? Только запутывают все еще больше. Разве они сеют или пашут? Обложились кучами бумаг и важничают. Тем и кормятся, что запутывают нашу жизнь и каждый день сочиняют все новые бумаги. А если бы не это, так что б с ними было? Оказались бы на улице и никому не были б нужны, по миру пошли бы, чтоб не околеть с голоду.
— Ну-ну, сеньор Маурисио, теперь уж вы из себя выходите, нападая на парнишку. Я же говорю вам, он не зловредный.
— Да ясно, что он не зловредный, — согласился мясник. — У него только гонора многовато для его возраста. Ну, сколько этому Аниано? Должно быть, года двадцать три — двадцать четыре, не больше…
Мужчина в белых туфлях слушал молча. Кармело рукавом счищал пыль со своей фуражки и наводил блеск на кокарду — знак местного муниципалитета. А Лусио сказал:
— Гонор — это такая вещь, с которой надо уметь обращаться. Если у тебя его мало — плохо, тебя задавят и будешь козлом отпущения. Если же много — еще хуже: тогда тебя самого будут мордой об стол. В жизни надо просто уметь постоять, за себя, не быть посмешищем для других, но и не ломать голову над тем, как ублажить свое тщеславие.
— Это вроде как тот чудак из магазина, — сказал Маурисио. — Вы же знаете, что с ним случилось. А все из-за гонора. А чем гордился, несчастный? Тем, что имя его было написано большими буквами на вывеске над дверью? Ну и гляди, что вышло. При всей-то гордости — разорился и стал посмешищем.
Тут вмешался мужчина в белых туфлях.
— А человек он был неплохой. С подчиненными обращался хорошо. Это теперь, когда прошло время, можно судить да рядить, какой он был, опять же по справедливости. Я сто раз брил его, и он, когда хотел, мог быть даже душевным. Интересно всегда разговаривал. Помню, каждый раз, как отпустит шутку или расскажет соленый анекдот, сразу же поднимает голову с подставки на кресле и поворачивает туда-сюда, чтобы посмотреть, как приняли остроту и все ли в зале смеются. Всегда он это делал, я точно помню.
— А вы с тех пор что-нибудь слышали о нем? — спросил Маурисио.
— Почти ничего. Кажется, они ушли в ту деревню, откуда была родом его жена, она называется… Ну, там, под Касересом, ну да, как же она называется?.. Навальмораль, вот как. Навальмораль-де-ла-Мата, Кажется, большое селение.
По реке плыл большой сук.
— Гляди-ка, точно живой, — сказал Фернандо, — шевелится, как крокодил.
Сук был недавно отломан, с зелеными листьями. Время от времени он застревал на песчаных отмелях, кружился и снова трогался в путь, плавно покачиваясь в красноватых струях. Все с интересом наблюдали за ним.
— Есть хочется, — сказала Алисия. — Не пора ли нам подумать о еде?
Несколько мальчишек, которые уже выходили из воды, увидев сук, снова вошли в реку, поймали его и вытащили на берег. Бегом поволокли его в рощу, словно мулы, которые волокут с арены тушу убитого быка. Тем временем все подошли к месту, где лежали вещи, навстречу им вышла Кармен. Сантос спросил:
— Все еще спит?
— Малость прочухался, недавно. Смеху-то! Такой обалделый, вы себе представить не можете. Совсем ничего не соображает.
Тито и Лусита уже подошли к Даниэлю. Тито потянулся, развел руки в стороны и выпятил грудь навстречу солнечным лучам.
— Послушайте, — сказал Мигель, когда все собрались. — Как мы организуем обед: принесем еду сюда или сами поднимемся?
Фернандо сказал:
— Наверно, наверху будет приятнее.
— Ни в коем случае, — воспротивилась Мели. — Тащиться наверх в такую дикую жару? Еще чего! И придет же в голову!
— Конечно, здесь. Какой дурак сейчас сдвинется с места? Нет уж, спасибо. И одеваться надо, и прочее разное.
— Я потому так сказал, что там, в саду, у нас был бы свой столик и стулья, а захотели бы — так и скатерть.
— Да ну, друг, ради этого не стоит трудиться. К чему, что за удовольствие есть вот так, тогда уж лучше дома. Зачем люди едут за город? Мы приехали сюда на пикник, так давайте есть, как на пикнике. Иначе не интересно. По-другому мы уже видели-перевидели.
— Конечно. Даже в пословице сказано: о вкусах не спорят.
— Да нет, ребята, здесь. Нечего и сомневаться. Что тут еще раздумывать.
— Ну, кто же пойдет за судками?
— Может, разыграем?
— Давайте как-нибудь поинтереснее, идет?
— Очень надо, — сказала Алисия. — Будете битый час разыгрывать, а мы за это время умрем без жратвы.
— Поинтереснее разыграть — азартнее.
— Ладно, обойдетесь и без азарта. Давайте как-нибудь, только побыстрей.
— Да будет вам, разыграем скорее, чем известка застывает, сами увидите. Давайте тянуть билетики. У кого есть карандаш? Ни у кого нет карандаша?
— Ну кому придет в голову брать с собой за город карандаш? Что тут с ним делать?
— Губная помада подойдет? — спросила Мели. — Если подойдет, я дам.
— Давай, сгодится.
— Ну-ка, передай мою сумочку.
— Держи.
Мели поймала сумочку на лету. Отыскивая в ней помаду, она приговаривала:
— Только вы ее не испортите, мне все это дорого обходится.
— Не беспокойся. Слушайте, теперь надо найти бумагу.
— На, возьми, — сказала Мели, передавая Мигелю губную помаду. — Только не нажимай сильно: чуть дотронешься — уже пишет.
— А вот тебе и бумага, гляди.
Тито подобрал с земли газету и оторвал с краю белую полоску. Мели вытащила из сумочки пачку «Бизона».
— Хочешь, Али?
— Давай.
— Слушайте, а ведь идти надо двоим, одному не справиться.
Мигель нарвал бумажки.
— Да, конечно, двоим.
— И Дани пусть участвует, — сказал Фернандо. — Считайте его тоже, и на него билетик. Какой бы он ни был, пусть и не думает улизнуть, это уж совсем свинство.
— Он-то сейчас на седьмом небе, бедняжка.
— Что ж, придется спустить его на землю.
— Ну вот: четыре билетика пустых и два — с крестом. Кто вытащит с крестом, тому одеваться и идти за едой, согласны?
— Согласны.
Мели и Алисия закурили, а Сантос поглядел на них и сказал, смеясь:
— Курящие девушки отбивают у меня всякий вкус к табаку.
— Что за дикость! Вы хотите, чтобы все было только для вас. И так вам все преимущества.
— Например?
Закончив сворачивать билетики, Фернандо крикнул девушкам:
— А ну, где у нас невинная рука? Быстренько! Требуется невинная рука, чтобы тянуть билетики!
Девушки переглядывались, смеясь.
— Невинной руки тут нет ни одной, а вы как думали?
— Ну тогда — кто из вас самая невинная? — спросил Себастьян.
Мели состроила лукавую мину и сказала:
— Лусита! Лусита у нас самая невинная!
— Правильно, Лусита! — со смехом подхватили девушки. — Пусть она тянет!
— Давай, Лусита, тебя выделили, — сказал Фернандо. — Тебе выпало тянуть билетики. Выходи сюда.
Лусита покраснела и спросила:
— А что надо делать?
— Сейчас мы тебе объясним, это очень просто. А ты, Мели, красотка, дай-ка мне еще одну вещь: эта шапочка, что на тебе, как нельзя лучше подойдет нам, чтобы в нее сложить билетики.
— Ну вот, все-то я должна вам дать! Ладно, бери.
Себас взял шапочку, сложил в нее бумажки и стал их перемешивать, приговаривая:
— Три части вермута, две — рома, несколько капель мяты, кубик льда, как следует смешать и сразу подавать. Тяни, Лусита, тяни, лапушка.
— Послушай, ты становишься ко мне спиной и достаешь по одному билетику, а как достанешь, спрашиваешь меня: «Это кому?» Я тебе называю имя, тому и выпадет то, что написано в билетике, поняла?
Луси кивнула.
— Ну, давай.
— Через несколько минут состоится тираж! — возгласил Себас тоном зазывалы. — Следите за выигрышами!
Лусита стала на место.
— Интересно, кому достанется первый фант?!
— Начинаем, сеньоры! — сказал Мигель. — Давай, Лусита, тащи!
— Вытащила. Это кому?
— Это… Сантосу!
— А теперь что мне делать? Развернуть?
— Конечно. Посмотрим, что там.
В наступившей тишине Луси развернула бумажку.
— Тут ничего нет. Пусто.
— Значит, избавился.
— Повезло же тебе, дружище!
— Эй, пусть покажет, пусть покажет!
— Ты не веришь Лусите, несчастный? Говори!
— Ладно! Кому-то другому выпадет эта радость.
— Тянуть?
— Тяни, тяни, время не ждет!
— Готово. Это кому?
— Ну, самому Тито!
Тито тоже достался пустой билетик. Он ничего не сказал, только сел.
— Чудеса! — сказал ему Сантос. — Нам с тобой подниматься не придется.
Следующий билетик достался Фернандо, там стоял крест.
— Вот тебе и выпал миллион! — закричал Себастьян.
— Очень рада, — сказала Мели. — Разве не ты хотел идти на гору? Давай одевайся!
— Подожди, пусть она дальше тянет, Посмотрим, кто со мной в паре. Тащи, Луси!
— Теперь кому?
— Мне, — ответил Мигель.
Креста не было. Себастьян запротестовал:
— Смотри, какой ловкий! Что твой лис. Знает хитрец: подряд два креста почти никогда не выпадут, первый вышел, он следующий и берет себе. Здорово подыгрывает.
— Попроси книгу жалоб. Луси — следующий!
Билетик вытащили для Даниэля, и там стоял крест.
Все с радостью завопили:
— Есть же справедливость! Даниэль!
— Получай, приятель! Это чтоб ты прочухался!
Даниэль приподнял голову и хмуро огляделся. Фернандо подошел к нему и похлопал по спине:
— Так ты хорошо понял? Тебе выпало.
Даниэль резко отбросил его руку.
— А я не пойду.
— Как это не пойдешь?
— Вот так и не пойду. Не пойду, и все тут.
— Ты не пойдешь? Это что ж такое — он не пойдет? — обратился Фернандо ко всем. — Слушай, ты, я тебе что сказал? Дурака валяет! Я пойду, и ты пойдешь! Еще как пойдешь! Ему, видите ли, трудно, ему неохота. Думаешь, мне очень хочется? Ни черта мне не хочется, а все равно пойду.
Себастьян сказал примирительно:
— Даниэль, не губи меня. Ты — единственный, кто одет, значит, тебе и хлопот меньше. Не задерживай всех, девушки умирают с голоду.
— А я — нет, не хочу я есть, понимаешь? Не возьму ни кусочка, значит, и идти мне незачем.
— Так ты бы это раньше сказал. А теперь тебе выпало идти, и ты пойдешь. Пойдешь как миленький! Хоть бы ты потом и не ел, раз не хочешь! — кричал Фернандо.
Видя, что тот не шевелится, он схватил его за рубашку.
— Ты меня понял? Вставай! Вставай, тебе говорят!
Даниэль резко вырвался и обернулся к Фернандо:
— Пусти, ты! Сказал — не пойду! Чихать я хотел! Понял?
— Ерунда это, если ты его не убедишь…
— Ну и хорош же! Стыда у тебя нет. По какому такому римскому праву ты должен быть лучше других? Ты что о себе воображаешь?
— Брось, Фернандо, оставь его, — уговаривал Мигель, — лучше его не трогать. Ну что ты с ним сделаешь? Не тащить же его волоком. Я пойду вместо него, и конец. Пойдем — ты и я. А его судок оставим наверху, раз он заявляет, что не хочет есть, и все тут.
— Но это не дело, Мигель! Ему достался крест! Почему он не пойдет? Значит, он может у нас вытворять все, что его левая нога захочет? Ишь какой тут нашелся!
— Ну, а что я могу с ним сделать? Не вести же его силой?
— Если Даниэль не пойдет, и я не пойду. Хватит. Пусть хоть кто идет.
— Что вы за люди, одна тоска! — сказала Паулина. — Час-то уже который!
— А я при чем? Я по жребию освобожден. С этим надо считаться.
— Я на месте Фернандо тоже не пошла бы, — сказала Мели. — Дурак он будет, если пойдет.
— А все этот эгоист Даниэль!
— Не понимает он товарищества, — подхватила Алисия. — И дурака ты сваляешь, если пойдешь.
— Ты бы помолчала.
— Почему это мне молчать? Я за тебя же вступаюсь. И вообще, ты со мной таким тоном не разговаривай.
— Ладно, — отрубил Мигель. — Я иду наверх. Если есть еще добровольцы, пошли. Если нет, пойду один.
Тито встал.
— Я с тобой. Подожди.
Себас положил голову Паулине на колени и сказал:
— Послушайте-ка, раз уж вы идете, захватите эти три бутылки и наполните их там.
Мигель и Тито молча взяли одежду и бутылки и отошли к зарослям ежевики. Оделись.
— Ну и денек, — сказал Тито. — Тебе рассказали, что у меня произошло с Фернандо?
— Мели нам рассказала.
— Эта Мели — подстрекательница. Во всем она и виновата. Потом еще рассказывает. А теперь вот Даниэль отказался идти. В общем, сегодня у нас что-то не клеится, это ясно. Попадаем из огня да в полымя.
— Да ты не огорчайся. Трения всегда бывают. Не стоит придавать им большого значения.
— Это верно, но зачем мы сюда приехали: хорошо провести время или ругаться друг с другом? Меня от этого тоска берет. Кому это нужно каждую минуту ждать чего-то эдакого… Мелочи жизни.
— Ну и что, дружище, ты их и принимай такими: все пустяки.
— Но знаешь, после драки я, кроме шуток, хотел взять велик и смотаться отсюда без долгих слов, вернуться в Мадрид. Правду говорю. И, конечно, не сделал я этого только из-за вас: тебя, Алисии да еще двоих-троих.
— Ну и свалял бы дурака. Дело-то не стоит того.
— И Фернандо неплохой друг, но видишь, что с ним бывает. Я тебе скажу, если б не он, а кто другой схватился в воде со мной, я бы иначе с ним обошелся. А ведь все из-за Мели, она была во всем виновата.
— Так что? Она и тебе нравится?
— Мне? Ну вот еще! На что она мне… А после сегодняшнего случая — тем более. Ставлю крест, и точка. Для меня Мели больше не существует. «Привет, как дела?» — или: «Прощай, доброй ночи!» — вот и вся Мели для меня с этого дня. Точка.
— Слушай-ка, что это такое ты говоришь? Зачем ты в бутылку лезешь?
— Только так. Сам потом увидишь. Уже хватит ее глупостей. Где бы она ни появлялась, тут же ссора и бестолковщина. Подстрекательница она и скандалистка, вот она кто.
Мигель улыбался, затягивая ремень.
— Гляди, как ты разозлился. Ну, я готов, а ты?
— Пошли.
Они тронулись в путь.
— А кому, ты говоришь, нравится Мели? — спросил Тито.
— Никому. Разве я про это говорил? Ничего не знаю.
— Минуту назад ты сказал что-то вроде этого.
— Да нет же, нет. Ничего такого я не знаю, да и откуда. Она, конечно, девчонка что надо. Думаю, многим она должна нравиться…
Они поднимались на насыпь по выкопанным в земле, петлявшим по склону ступенькам.
— …Но точно ни о ком ничего сказать не могу.
Они замолчали, потому что подниматься было тяжело, наверху остановились перевести дух и стали оглядываться по сторонам. Вершины деревьев все еще оставались у них над головой. Отсюда видны были плотина и водохранилище. На другом берегу — густые заросли ивняка и падуба, в их тени тут и там устроились группы отдыхающих. Повыше, на отлогом склоне, словно море волновалось — паслась отара овец. Пастух в белесой шапке приблизился к берегу и, опершись на посох, с отсутствующим видом оглядывал людей.
— Ну, а как ты думаешь, Фернандо бегает за Мели? — спросил Тито.
— Может быть.
Железная дорога шла по высокой насыпи, пересекая равнину напрямую. По склонам насыпи карабкались кусты, которые доставали до вагонных колес, а там, дальше, где поднимались холмы, железная дорога, не сворачивая, врезалась в них узким туннелем. Отсюда виден был нижний бьеф плотины. Сотни людей в купальных костюмах жарились на солнце, расположившись на бетонных плитах. На раскаленной полосе скапливались, копошились маленькие людские фигурки — яркая, пестрая мешанина: руки, ноги, торсы, головы, купальники, — полная анархия, ни намека на порядок.
— Пойдем, Тито, нас ждут. Если б они знали, что мы все еще стоим тут…
Ниже плотины река, вырываясь из затворов водослива, вновь обретала стремительность. Там она бежала по неглубокому ложу среди валунов и красных полос отмелей с зелеными пучками пырея. Здесь вокруг было много закусочных — небольшие одноэтажные домики, рассыпанные вдоль реки. Одни стояли высоко, на холме с песчаными склонами, другие — у самой воды, у плотины, так что отсюда видны были только их крыши да увитые виноградом беседки, битком набитые людьми. Отчетливо доносились голоса и взрывы смеха, стук кулаков и кружек о деревянные столы, дым и запах еды; видно было, как под раскидистыми ветвями огромной шелковицы снуют с подносами в руках девушки, меж которыми иной раз мелькал новоявленный официант в белой куртке и с галстуком-бабочкой. В двух закусочных, расположенных на самом верху, мимо которых сейчас проходили Тито и Мигель, собралась публика поспокойней. Здесь за трапезой посетители тихо и мирно беседовали. Мигель и Тито свернули на дорогу, ведущую к шоссе, пошли вдоль проволочной сетки, ограждавшей справа виноградник. А слева от дороги тянулся неогороженный виноградник, куда со всех сторон беспрепятственно проникали ватаги ребят. Старик сторож ничего не мог с ними поделать, только швырял камнями и отчаянно ругался.
— Вот этому воскресенье действительно в праздничек, только пошевеливайся, — заметил Тито.
Ближе к шоссе стояли дома, окруженные глинобитными стенами, на которых сверху блестело битое бутылочное стекло.
— Вот уж это, по-моему, ни к чему, — сказал Мигель, указывая на стены. — Плохим человеком надо быть, чтоб такое устроить.
— Бывают люди, которые воровства боятся хуже лихорадки.
— Оно, конечно, никому не нравится. Но бороться с воровством вот так — не дело. И не столько само по себе это нехорошо, сколько потому, что этим самым выражают. Ну, что они нам показали? Ничего, кроме себялюбия и страха за свое добро.
— Это верно. Хорошего тут мало.
— Ведь надо же! Видно, тот, кто придумал эту штуку с битым стеклом, остался очень доволен. Уж наверняка был самый что ни на есть поганец и жадюга. Просто сукин сын.
— Правильно говоришь.
Они подошли к кафе Маурисио.
— Привет.
— Ну как, ребята? Хорошо искупались?
— Да ничего.
— Обедать, значит, здесь будете?
— Нет, на реке. Мы пришли за судками.
— Что ж, отлично. Вам еще вина? Вижу, с тем, что налил утром, вы хорошо управились.
Маурисио взял пустые бутылки со стойки. Лусио сказал:
— Слушай, налей им по стаканчику, я угощаю, а заодно и всем нам налей.
Мигель обернулся:
— Большое спасибо.
— Не за что.
К Маурисио подошел полицейский и спросил, кивнув в сторону Мигеля:
— Этот сеньор, ты говорил, хорошо поет!
Маурисио с укоризной посмотрел на него:
— Да, этот. Чего тебе от него надо? — И он обернулся к остальным. — Сейчас увидите, что значит никому не давать покоя.
Полицейский, не слушая его, подошел в Мигелю и восторженно сказал:
— Извините, позвольте мне вас приветствовать. Меня зовут Кармело Хиль Гарсиа, я большой поклонник пения.
Он обращался к Мигелю так, словно тот был знаменитым певцом.
— Очень приятно.
— Мне тем более. Особенно я люблю фламенко, — продолжал полицейский. — Знаете, прошлой зимой, нет — позапрошлой, я пошел на большую жертву: купил себе проигрыватель. Короче, доставил себе удовольствие. А все ради канте хондо[12]. Не думайте, мне во многом пришлось себе отказать. И все же считаю, оно того стоило. Да, да, теперь я знаю Пене Пинто и Хуанито Вальдеррама — королей песни, всех узнал, наверно, всех…
Он все еще продолжал жать руку Мигелю, который смотрел на него, улыбаясь.
— Послушайте, только не считайте меня профессионалом, — сказал Мигель. — Я немного пою, вот и все. Для друзей.
— А я не сомневаюсь, что вы это делаете как нельзя лучше. Надеюсь, я буду иметь удовольствие немножко вас послушать. Мне доставит большое наслаждение, честное слово.
Маурисио не выдержал:
— Да отпусти ты его руку, горе мое! Каждый и сам потеет в такую жару, как сегодня, ну зачем еще держать друг друга за руки!
Кармело послушался.
— Ничего, ничего, — сказал Мигель. — Это очень любезно со стороны сеньора…
— Оставьте, он, как пропустит два-три стаканчика, становится таким надоедливым, ну прямо за горло берет. Уверен, к тому ведет, чтобы вы тут же ни с того ни с сего пустились в пляс, да еще и песни запели с ходу, вот так, натощак и всухую.
Полицейский запротестовал:
— Неправда! Я прекрасно знаю, как должно приступать к пению: в стиле булериа[13]. А ты что думаешь? Никого нельзя просить, чтоб взял да и начал ни с того ни с сего. Чтоб получилось как следует, надо войти в настроение и мало-помалу разойтись. Верно я говорю, а?
— Да верно, верно. Только сейчас-то ты оставь парня в покое. Хватит ему надоедать! Тебе непонятно, что все уже от тебя устали?
— А что тут такого, дружище? Мне очень приятно было познакомиться с молодым человеком и обменяться впечатлениями о том, чему оба мы так преданы. Правда, я вам не надоедал?
— Никоим образом, совсем напротив…
Мясник и Чамарис заливались смехом.
— Во дает этот Кармело! Силен, бродяга!
Тито не мог долее сдерживать смех, а скоро и Кармело присоединился ко всеобщему веселью, сохраняя настороженно-счастливое выражение лица и как бы чувствуя себя польщенным тем, что он — причина этого хохота. Не смеялся только мужчина в белых туфлях. В дверях появилась девочка в красном платье и сказала с порога:
— Отец… — И запнулась, увидев мужчину в белых туфлях.
Маурисио сказал:
— Заходи, милая. Не стой на солнцепеке.
Девочка колебалась. Вмешался Чамарис:
— Да входи же, Марита, не будь букой. Никто тебя не съест.
Тогда она бросилась вперед, мелькнула как метеор и уцепилась за штанину Чамариса. Тот поцеловал ее в голову и сказал:
— Послушай, дочка, что это ты сегодня вдруг так застыдилась? Ты же у меня сорванец. Ну, чего тебе?
Девочка тихонько ответила:
— Мама сказала, чтоб вы шли обедать.
— Ладно. Вот сейчас и пойдем.
Девочка все крепче цеплялась за штанину отца, отвернувшись от всех присутствующих. Тогда мужчина в белых туфлях подошел и опустился на корточки рядом с ней. Он сказал, улыбаясь:
— А я уже понял, что это ты была сегодня утром. Я ведь узнал тебя, лягушонок.
Она спрятала лицо в колени Чамариса. Мужчина в белых туфлях не отставал от нее:
— Ну, повернись, барышня, посмотри-ка на меня. Ты думаешь, я на тебя рассердился?
Девочка повернула голову и заулыбалась; снова зарылась лицом в колени отца. Человек в белых туфлях продолжал:
— Хочешь быть моей невестой?
Девочка рассмеялась громче и повернулась к нему. Отец сказал ей:
— Это что ж у тебя за секреты с парикмахером?
— Это наше дело, — отозвался мужчина в белых туфлях, — правда, моя хорошая? Как тебя зовут?
— Мари.
Чамарис допил стакан и сказал:
— Не иначе, напроказничали вдвоем. Ну, пойдем, дочка, домой.
— Славная у вас девочка, — обратился к нему мужчина в белых туфлях, поднимаясь. — Ладно, Мари, ладно, миленькая, мы с тобой еще увидимся. Правда?
— Ну же, дочка, ответь хоть что-нибудь парикмахеру, раз уж вы такие друзья.
— До свиданья, сеньор парикмахер.
— Может, ты меня поцелуешь?
Он наклонился к девочке, и она машинально чмокнула его, едва коснувшись щеки.
— Ну вот. До свиданья, моя красавица.
— До скорого, сеньоры. Вперед, Асуфре!..
Пес вскочил и выбежал в дверь, опередив хозяина.
— До вечера.
Мужчина в белых туфлях пояснил:
— Большая у него дочка, ведь он еще совсем молодой. Интересно, сколько девочке лет?
— Должно быть, шесть или семь.
Мигель обратился к Маурисио:
— А скажите, не могли бы вы дать нам кувшин и немного льда, чтобы сделать сангрию?
— Боюсь, что льдом я не очень богат. Мне его надо растянуть до ночи. Ну посмотрим. А кувшин найдется. Фаустина! Тогда, верно, вы возьмете еще и газированной воды?
— Да, да, — ответил Тито. — И лимон, если можно.
— Лимон, кажется, есть.
Вошла Фаустина.
— Что?
— Поищи там кувшин для этих молодых людей. И лимон.
Женщина кивнула и ушла внутрь дома.
— Неплохо придумали, — сказал Лусио, — в такую жару сангрия — как раз то, что надо. А я на вашем месте знаете что добавил бы туда? Три-четыре рюмки рома. Та крепость, что теряется, когда разбавляют газировкой, была бы, так сказать, восстановлена крепким ромом. А? Как вам этот рецепт?
— Рецепт хорош. Только слишком много уж будет намешано, как бы потом девушкам в голову не ударило.
— Да, конечно, в этом случае… Раз уж вы оглядываетесь на юбки, я умолкаю. Но замечу, что в мое время мы с ними не считались, своего не упускали. А теперь, ясное дело…
Вошла Фаустина, поставила на стойку кувшин. Уходя, задержалась в дверях и, указывая пальцем на кувшин, обратилась к Тито:
— Глядите, не разбейте его. Хорошо? Он у меня один. Так что осторожно.
— Не беспокойтесь, сеньора, станем беречь больше своего.
Фаустина исчезла в коридоре.
— А лимон?! — крикнул ей вдогонку Маурисио, поднимая голову от ящика со льдом. Он вытащил несколько кусков льда и положил их в кувшин. — Придется вам обойтись этим. Больше не могу.
— Ну и хватит. Большое спасибо.
— Сколько бутылок газировки?
— Как ты думаешь, Мигель? Сколько унесем?
Мигель был занят тем, что набивал сумки бутылками и судками.
— Ну… Давайте восемь, что ли. Восемь, думаю хватит. И еще одну бутылку вина. Та, которую мы оставили внизу, скорей всего уже на исходе.
— Значит, восемь.
Вошла Фаустина:
— Вот лимон.
Положила лимон на стойку рядом с кувшином и снова скрылась. Мигель и Тито собирали пожитки. Мясник заметил:
— Да вас там порядочно.
— Нас приехало одиннадцать, — пояснил Мигель и обернулся к Маурисио: — Прошу вас, налейте всем по стаканчику за наш счет.
— Спасибо, молодой человек.
— Не за что, на здоровье.
— А ведь не дело выезжать за город нечетным числом, — сказал Лусио. — Один все время лишний.
— Не беспокойтесь, тот, кто лишний, за всех позаботился о выпивке и спит как сурок. Даже не купался, — ответил Мигель.
Тито спросил его:
— Слушай-ка, а в самом деле, что нам делать с судком Дани? Все-таки захватим?
— Ну конечно. Неужели ты хочешь, чтобы мы ему подложили такую свинью?
— Но он-то нам уже подложил.
— Ну и что, ты хочешь с ним расквитаться за эту глупость?
— Да нет, что за вопрос. Мне-то что. Это вы так говорили. По мне, так захватим, о чем речь.
Мигель все упаковал и распрощался:
— Ну, тогда пока.
— Счастливо, хорошо вам повеселиться.
— До свиданья, ребята. Осторожно, не споткнитесь, не то с вашей поклажей…
— Спасибо, постараемся. Всего хорошего.
И они вышли, повесив сумки через плечо. В руках Мигель нес три бутылки, Тито — четвертую и кувшин, который дала Фаустина.
Мясник спросил:
— А который час?
— Время обедать. Около трех уже.
Полицейский снова снял фуражку и почесал затылок. Мясник сказал:
— Не дают покоя?
— Талант великий не дает ему покоя, — ответил за него Маурисио.
Мясник зевнул и подошел к двери. Издали доносилась музыка.
— Отсюда слышно, что творится на реке.
— Там, видно, уйма народу.
— Раньше мы, деревенские жители, — сказал мужчина в белых туфлях, — уезжали на воскресенье в город. А теперь наоборот — столичные едут в деревню.
— Всякому человеку мало того, что у него есть, — произнес Лусио. — Всегда хочется чего-то другого.
— Вот это точно, — отозвался Кармело. — Но будь я в Мадриде, ни за что не стал бы скучать по здешним местам. Кто б ты ни был, а лучше быть никем в Мадриде, чем алькальдом в Торрехоне, хоть это и большой поселок. В народе говорят: «Выше Мадрида — только небо», — вот оно как, и этим все сказано.
Мясник, улыбаясь, обернулся к нему:
— Ну хорошо. А что бы ты делал в Мадриде, интересно узнать? Расскажи-ка.
— Я?.. Что бы делал?.. — Глаза у него загорелись. — Что бы я делал в Мадриде? — Он прищелкнул языком, словно собираясь рассказать что-то очень пикантное. — Ну прежде всего… я пошел бы к портному. Чтоб сшил мне костюм, только как следует. И чтоб материал был самый наилучший. Тройку за пятьсот песет…
Он провел руками по заношенной куртке, будто хотел ее преобразить. Маурисио прервал его:
— За сколько? А почем, ты думаешь, в Мадриде костюмы на заказ? За пятьсот песет ты не закажешь и жилета, мой дорогой.
— Ну и что за беда, — ответил Кармело. — Кто говорит «пятьсот», тот скажет и «семьсот»…
— Ну ладно, продолжай. Допустим, за семьсот ты оденешься почти прилично. А потом что? Давай, рассказывай дальше.
— Потом я вышел бы на улицу в новом костюме, напомаженный, с шелковым платочком вот тут, в нагрудном кармане. А? Ну, там галстук, на руке — часы-хронометр, и пошел бы я прогуляться по Гран-Виа. Ненадолго, туда-обратно, и все, потом отдыхать уселся бы на террасе кафе… Как оно там называется? Ну да, «Сахара», на террасе «Сахары». Там развалился бы в кресле и похлопал в ладоши — вот так. — Он показал как. — И тут подбежал бы официант: два пива, самого лучшего и… и жареного картофеля, вот так! Да, и вот еще что — ботинки запылились. Пусть-ка сейчас же пришлют мне чистильщика, чтоб навел блеск на мои ботинки…
Мужчина в белых туфлях посмотрел на свои ноги. Лусио сказал:
— Я так и знал, дружище, обрати внимание, я знал, что так будет.
— Что знал?
— Что прежде всего вы потребуете чистильщика. Я был уверен.
— Это почему же вы были в этом уверены?
— Знал, и все тут. Иначе не бывает. Я давно живу на свете. Обязательно: первое, что приходит к голову всякому, кто говорит о роскошной жизни, — это чтобы кто-то почистил ему ботинки.
— Можно бы приняться и за четвертую бутылку.
— А чем закусывать? — возразила Алисия. — Сейчас нам хорошо бы какой-нибудь аперитив.
— Знаешь что, — сказал Фернандо, — в этой реке водятся раки. Поди попробуй, может, поймаешь.
— Как остроумно!
Себастьян предложил:
— Минуту назад тут вроде бы проходил продавец земляных орехов. Можно взять на пару песет. Вот вам и закуска.
— Неплохая мысль. Где ты его видел?
— Он только что прошел туда, вниз. Такой дядечка в белой куртке и в колпачке из газеты, как у клоуна.
— Погляди, может, увидишь его.
— Тебе, детка, лишь бы поесть… — сказала Мели.
— Так ведь и в самом деле надо, пора уж… Смотрите! Вон тот с орехами! Разве это не он?
Продавец орехов стоял под деревьями возле какой-то компании, солнечное пятно играло на его белой куртке. Фернандо сунул два пальца в рот и пронзительно свистнул. Продавец, который в это время получал деньги, сделал знак рукой, что сейчас подойдет.
— Быстро ты его узрела! — сказал Фернандо.
— Она и не то может… когда речь идет о еде.
Алисия рассердилась:
— Да что вы на меня, ей-богу. Будто я обжора какая-нибудь.
— А что тут плохого? Признак здоровья.
Себас на мгновение поднял голову с колен Паулины и поглядел из-за ее спины на соседей по пляжу.
— Кстати, о еде: чувствуете, какой запах там у них от паэльи идет?
— Я давно его почуял, — отозвался Сантос. — Не хотел об этом говорить, чтоб не растравлять вас. Я бы не прочь пойти к ним и узнать, не найдется ли и для меня местечка.
Там, в семье Будды, все дружно работали ложками, поддевая еду прямо со сковороды. «Тут кто зевает, тот воду хлебает», — сказал Будда, захохотав собственной шутке, поперхнулся, шумно закашлялся, побагровел. В роще теперь крики поутихли, из закусочных доносилось радио: «О Португалия, за что я так тебя люблю!..» Тени от деревьев падали на север, в сторону Сомосьерры. Никто уже не купался.
— Так что с этой бутылкой? — спросил Сантос.
Продавец подошел к ним.
— Добрый день, сеньоры. — Он поставил на землю свою корзину, чтобы увидели товар. — Что прикажете?
— Орехов.
— По песете за мерку. — И показал деревянную чашку с железным ободом. — Сколько вам?
— На одно дуро.
— Подожди, Фернандо, — сказала Алисия. — Это мое дело, а заплатит Мигель.
Фернандо продолжал рыться в карманах.
— Что за ерунда! — возразил он. — Скажешь тоже.
— Я же попросила. Вот у меня кошелек Мигеля.
— Сиди спокойно, Алисия, чего тут разбираться. Есть-то мы будем, верно? Ну и хватит!
— Пошли церемонии, — сказала Мели. — А может, ты собираешься угощать только своего жениха?
— Да нет, что ты. Просто потому, что ведь мне захотелось!
— А какая разница?
Фернандо взял кулек из рук продавца и вручил ему пять песет.
— Осторожно, не рассыпьте, — предупредил тот. — Всего наилучшего. — И пошел дальше между деревьями: — Орешки земляные! Жа-а-реные!
Себас повернул голову, не поднимая ее с колен Паулины.
— Лапушка, Паули, почеши-ка мне спину.
— Еще чего?!
— Да очень уж чешется.
— Не надо было столько лежать на солнце. А если я почешу, станет еще хуже. Хочешь, намажу тебя кремом?
— Не хочу мазаться — потом пыль будет прилипать.
— Тогда терпи, милый, ничего не поделаешь. А чесать — ни в коем случае.
Все потянулись к кульку с орехами. Хруст скорлупы заставил Паулину обернуться.
— Тут только не зевай, — сказала Мели. — Не то все прохлопаешь.
— Стыд стыдом, а голод не тетка.
Стоял сплошной хруст, словно работала небольшая крупорушка. Кулек лежал на земле, в центре круга. Скорлупа падала на голые ноги. Фернандо сказал:
— А вот в сороковом — сорок первом из такой скорлупы варили кофе.
— Кто это тебе сказал?
— Сам помню. А еще из сладких рожков и кой-чего похуже. Ужасная была бурда.
— Это уж был не кофе, а бог знает что, — отозвался Сантос.
— Хоть как называй. Только делали его из такой вот скорлупы и в лавке продавали за кофе.
Паулина потянулась к кульку и взяла целую пригоршню орехов.
— Эй! — воскликнула Алисия. — Куда ты столько?
— Всем по орешку, детка! Возьми и катись!
— Это нам с Себастьяном на двоих, он не хочет шевелиться. Больше я брать не буду.
Тут все набросились на кулек с орехами, сбились в кучу, с криком и смехом оспаривая друг у друга добычу. На земле остались клочья газеты и несколько раздавленных, затоптанных орехов.
— Так нечестно! — заявила Мели. — Мне досталось только два. — И она показала их, раскрыв ладонь.
— Шевелись поживей, — сказал ей Фернандо.
Мели обернулась к Алисии:
— А ты, Али, сколько ухватила?
— Целую пригоршню. Хочешь ешь, бери отсюда.
Даниэль посматривал на всех искоса, прижавшись щекой к земле. Увидев, что глаза у него открыты, Лусита предложила ему орехов?
— Хочешь?
Дани покачал головой, заложил руки за голову и стал смотреть на вершины деревьев.
— Такие дела всегда так кончаются, — сказала Кармен.
— Как так?
— А вот так, неразберихой. Кто понахальнее, тому больше всех достается. Это вроде как на деревенских свадьбах: при выходе из церкви кидают в толпу монеты, чтобы полюбоваться на свалку, которую устраивают мальчишки.
— А ты была когда-нибудь на деревенской свадьбе?
— Была. В позапрошлом году.
— Это, должно быть, весело.
— Весело, если есть с кем посмеяться. А если нет, если ты, как я, окажешься стиснутой за столом между двумя деревенскими недотепами, которые только и спрашивали, хожу ли я на танцы в Касабланку или в Пасапогу, — тогда, поверь мне, с тоски сдохнешь. Так намаешься — на две недели хватит злости.
— Ну, а что плохого в том, что они тебя об этом спрашивали? Не понимаю…
— Да они при этом были еще и надоедливые, темные, не имели никакого понятия, как разговаривать с девушкой. Чувствуешь себя, как курица на чужом насесте, только и хочется поскорей уйти. Понимаешь, что они стараются тебя насмешить, а из этого ничего не получается, и в результате только злишься. Причем злишься на них. За то, что чувства юмора ни капли, а пыжатся, бедняги, изо всех сил, чтобы тебя развеселить. В жизни так не скучала на празднике, и, надеюсь, больше не придется.
— Ну, в таких случаях надо просто задурить им голову и поиздеваться вволю.
— Ты бы, конечно, так и поступила. Но я не гожусь на то, чтобы издеваться хоть над кем, да и не хочу. Ты — другое дело, тут нечего сомневаться: тебя это развлекает, я знаю.
— А что это ты со мной так разговариваешь, Кармен? Что-то не пойму, честное слово.
Тут вмешалась Алисия, чтобы помешать Кармен ответить.
— Ой, знаешь, а мне нравится деревня. Спокойная жизнь… — Она замолчала, задумавшись. — А потом — все друг друга знают.
— Терпеть не могу спокойной жизни, — сказала на это Мели, — меня она бесит; спокойствие вызывает во мне самое большое беспокойство. А когда все друг друга знают — ну что здесь хорошего? Что можно ждать от жизни, если знаешь любого и каждого? Нет уж, извините, жизнь в деревне — не для меня, это, должно быть, тоска зеленая.
— Я с тобой согласен, Мели, — вмешался Фернандо. — О чем можно мечтать, если знаешь, что завтра, послезавтра и все последующие дни, целый год ты будешь делать одно и то же, те же лица, те же места, все то же самое. Никакой остроты, такая жизнь похожа на нашу работу, ты должен каждый день являться и делать день за днем одно и то же, и у тебя одно-единственное желание — поскорей уйти. Так и деревня, все одно и то же.
— Но зато у тебя нет никаких сложностей и ни над чем не надо ломать голову. Все под рукой.
— Мне такая жизнь кажется слишком уж примитивной, — объявила Мели. — Что еще я могу сказать? Ничего хорошего в ней нет. И мечтать не о чем.
— И незачем мечтать. Почему это обязательно надо о чем-то мечтать? Живи себе спокойно, наслаждайся тем, что у тебя есть, и все тут.
— Ну да, сиди себе на стульчике и смотри в потолок. Прекрасно!
— Да нет, я не то имела в виду. Ты преувеличиваешь. Есть там и свои развлечения. Ты же не знаешь народных праздников, а люди везде веселятся.
— Если так, то они счастливые, потому что я вот частенько скучаю, хоть и в Мадриде живу, и все такое прочее. Вот и представь себе, что со мной было бы в другом месте.
— Все дело в характере и в том, кто к чему привык.
— А сейчас меня тоска берет из-за того, что те двое все не идут и мы не можем поесть. Все вокруг едят, а мы тут пока что с голоду помираем.
— Да, скоро уже три, — вздохнул Фернандо.
Он смотрел сквозь деревья на насыпь, где все ожидали увидеть спускающихся по лестнице товарищей.
— Да что они там так долго делают, скажите?
— Они уже большое дело сделали, что пошли, бедняги, — сказала Паулина. — И сами вызвались. Так что уж на них-то жаловаться несправедливо, это ясно.
— Конечно, только никто из нас и не жалуется, — возразил Сантос. — А вот желудок — тот протестует.
— Еще бы! Его молчать не заставишь, всегда режет правду-матку.
— И всегда в назначенный час, — живет по солнцу.
Себастьян поднял голову и повернулся к остальным:
— А вот мне в деревне больше всего нравится спелый инжир.
Все рассмеялись.
Мигель сказал:
— Мы здорово задержались. Они там, должно быть, проклинают нас.
— Это ты виноват, — отозвался Тито, — ты со своими поклонниками…
— Вот что значит слава, — рассмеялся Мигель. — А что я мог с ним поделать? Свою публику надо уважать.
— И кто это тебя так разрекламировал?
— Наверняка хозяин, он не первый год меня знает.
— А тот, другой, видно, вообразил себе, что ты — второй Флета[14].
— Не иначе.
Теперь они шли между виноградников, вдоль проволочной сетки. Сторожу неогороженного виноградника принесли обед, и он что-то жевал, поглядывая на свой участок. Вокруг никого не было. Послышалось натужное урчанье мотора, и на дороге показалось старенькое городское такси, шедшее от закусочных у реки навстречу Тито и Мигелю. Они посторонились, пропуская битком набитую пассажирами машину, которая, подскакивая на рытвинах, проехала к шоссе, подняв тучи пыли. Старик сторож выругался, проклиная воскресенье, такси, тучу пыли, осевшую ему на еду. Он быстро подобрал судок с земли и прикрыл крышкой. Поднял глаза на Тито и Мигеля — он не заметил, как они подошли.
— Не пообедать! — крикнул он им. — Пообедать и то не дают! Дерьмо! — Оттого что кто-то его слушал, старик еще больше распалился. — Сволочные воскресенья!!
Он высоко поднял судок и с размаху шваркнул его о землю. Фасоль и подливка так и брызнули, даже на виноградные кусты попали. Старик снова уселся, медленно вытащил кисет с табаком и книжечку папиросной бумаги; дрожащими от волнения пальцами принялся вертеть самокрутку. Тито и Мигель пошли дальше.
— Чудак, — сказал Тито, — выбросил свой обед…
— Ну, этот старик, видно, сердитый!
— Что толку выходить из себя? Чего он этим добился? Себе же хуже сделал.
— Вот именно. Только никто из нас не рассуждает, когда сам обижен. Многих неприятностей можно избежать, если уметь вовремя взять себя в руки.
Они уже подошли к спуску. Голоса, доносившиеся из рощи и из закусочных, сразу стали отчетливо слышны. Где-то аплодировали. Тито заглянул в кувшин:
— Лед не донесем. Он уже почти растаял.
Осторожно начали спускаться по ступенькам.
— Вот они! Наконец-то пришли.
Все засуетились. Отовсюду неслось? «Мигель! Мигель!» И Мигель смеялся, слыша эти восторженные крики. Им помогли поставить все, что они принесли.
— А что в кувшине?
— Вы ничего не забыли?
— Да нет же, нет.
Все рылись в сумках, отыскивая свои судки.
— Вот этот красный — мой.
— Ой, да тут лед! А для чего лед?
— А вина принесли?
— Да вот оно, не видишь, что ли?
— Ого! Очень уж много, по-моему!
— А где это вы раздобыли лимон?
— Ты так тянешь за лямку, что сейчас опрокинешь сумку!
— Давайте чуточку организованней!
— Скажи-ка, а кому этот лимон?
— Конечно же, дону Федерико Карамико.
— Какой шикарный…
— Ну и ну! И лед, и все прочее.
— Покажи-ка! Да он наполовину растаял.
— Еще бы! За то время, что они сюда добирались, и медный ключ растает.
— К столу!
— По парочкам: каждый баран со своей ярочкой!
— А кто же моя ярочка? — спросил Фернандо.
— Я! — ответила Мели. — Я твоя ярочка.
— Ах, ты? Ну, садись сюда, моя королева.
— Если б вы еще задержались, мы зажарили бы Даниэля, — сказал Сантос.
— Его, пожалуй, и не разгрызешь.
— Да, этот кусок тебе не по зубам. У Даниэля мясо наверняка на девяносто процентов из алкоголя.
— А остальные десять — молоко от бешеной коровки, — добавил Фернандо.
— Уж ты-то помолчал бы, — заметила Алисия. — Только благодаря ему отделался и не пошел за едой.
— Не в бровь, а прямо в глаз, — сказала Кармен.
Даниэль поднял голову и посмотрел на Фернандо.
— Кажется, Фернандо, тебе сегодня с утра понравилось всем надоедать. Я тебе не советую продолжать это дело. Понял?
— Да брось ты! — отмахнулся Фернандо. — Ты вроде решил прочухаться, так теперь самое время. А вы принесли судок Даниэля?
— Вон стоит. Только один и остался, должно быть, его.
— Так ведь решили, что не понесете.
— Кой черт там — решили, не решили! — громко сказал Мигель. — Поднялся бы сам, вот тогда и решал бы, принести или не принести!
— Ладно, Мигель, ладно, не расходись.
— Мигель прав, — вмешалась Кармен. — Тебе-то принесли твой судок? Так скажи спасибо да помалкивай.
— А еще товарищ!
— Да хватит вам! — вступилась Мели. — Будем мы есть когда-нибудь? Садись, Фернандо.
— Тут у нас все кипит, как в бурю на море!
— Еще одна взялась подначивать. Может, мне запеть, — заявил Мигель, — чтоб только вы все замолчали. Тито, а ты что стоишь столбом, будто пономарь в церкви?
— Ну давайте! Остынет же, — торопил Сантос.
Мели сказала:
— А что, Мигель, ну и спой. Укрась нам обед.
Тито снял рубашку и сел рядом с Мигелем.
— А ты чего не раздеваешься? Будет не так жарко.
Тот покачал головой. Он открыл красную кастрюльку, крышка которой была привязана к ручкам, с любопытством заглянул внутрь.
— Стой! — сказал вдруг Тито. — А сангрия?
— Тише, тише, я и забыл! Скорей, пока лед не растаял совсем!
— А где лимон?
— Кто видел лимон?
— Он в погребе прохлаждается.
— Позови, может, прибежит.
— Шутки в сторону, не то останетесь без сангрии. Лед вот-вот растает.
— А может, Мели спрятала его в купальник? — сказал Фернандо. — Надо бы проверить…
— Давай, поищи, курносый, — ответила Мели, — только гляди не обожгись. А я тебе помогу оплеухой.
— Да вот же он! Где у вас глаза? Немного поджарился, но еще держится.
— Давай сюда.
Мигель придержал рукой решетчатую крышку кувшина и слил воду на землю. Тито нарезал лимон.
— Чем открывать газировку?
— У Себаса есть нож со всеми на свете приспособлениями.
Себастьян вытер лезвие о салфетку и передал нож Мигелю. Кармен предложила:
— Оставьте бутылки две для тех, кто не захочет сангрии.
— А все хотят.
— Оставьте мне газировки, — попросила Паулина. — Я не буду пить сангрию.
— Бросай лимон, — подставил кувшин Мигель.
Тито бросил ломтики лимона на кусочки льда. Потом Мигель передал Тито кувшин, а сам стал откупоривать бутылки и выливать туда их содержимое.
— Теперь давай вино.
Пока Мигель лил вино, Тито смотрел на Даниэля.
— Готово, — сказал Мигель. — Сангрия — пальчики оближешь. — И взял кувшин.
Тито сел рядом с Даниэлем.
— Ты что, Дани? Почему не ешь? Вот место.
— Не хочу вам мешать.
— Да брось эти глупости. Бери судок и садись.
Сантос обернулся, чтобы взглянуть, что ест Себас:
— Ну-ка, что тебе положили?
— Ничего особенного, ракушки с горохом.
Сантос прикрыл свой судок крышкой:
— Махнемся, не глядя.
— Не выйдет.
— А зря, прогадаешь.
Тито уговаривал Даниэля:
— Ну что ты заставляешь себя упрашивать? Давай, не крути носом.
Ему на помощь пришли Себастьян и Сантос.
— Если будешь гнуть свое, мы твою еду поделим. Подумай лучше.
Даниэль встал и взял судок; на мгновение он встретился глазами с Мели. Та сказала Алисии, потупив глаза и поправляя лямку купальника:
— И зачем он так?..
Даниэль сел. Себастьян, видя, что он все еще мрачен, схватил его за загривок и слегка потряс:
— Выше голову, Даниэль! Это просто спирт из тебя еще не выветрился!
— Иногда полезно и поесть, — назидательным тоном говорил Даниэлю Сантос, — положить за щеку чего-нибудь. Понимаешь? Основа жизни, конечно, вино, но поесть тоже не вредно. Правда, в меру. Так что — не брезгуй, попробуй. А там, глядишь, понемногу и привыкнешь…
Он говорил это улыбаясь и в то же время очень аккуратно отделял руками в своем судке жареный картофель от всего остального. Потом поднял глаза на Даниэля — тот тоже улыбнулся и сказал:
— Ну и трепач!..
Сантос подмигнул Даниэлю и хлопнул его по колену:
— Эх, Даниэль! Ну и ломака! Не иначе тебя сам лукавый учит и храпит!
Сантос вытащил из судка котлеты, на которых застыл жир. Посмотрел на свои засаленные пальцы и облизал их.
— Похоже, ты сам себя вылизываешь, — сказал Себас.
— Понимай как знаешь! — отпарировал Сантос. — Я же тебе говорил, что прогадаешь. Ну что, хочешь? — И протянул ему котлету.
Он и себе взял котлету, проткнул с одного конца прутиком и, подняв повыше, опустил в рот другим концом. Луси почти не ела. Смотрела поочередно на всех и предлагала:
— Я привезла слоеный пирог. Попробуйте, с перчиком, вкуснота!
— Не люблю перец, — отказалась Паулина.
— А ты, Кармен?
Напротив них сидели Алисия, Мели и Фернандо. Алисия отставила еду и, намочив платок газировкой, пыталась стереть с купальника жирное пятно. Луси принялась за пирог, держа кусок бумажной салфеткой. На салфетке было написано: «ИЛСА». Дани спросил:
— Салфеточки с работы таскаем, а?
— Надо же хоть чем-то попользоваться. У меня их много. Дать тебе?
— Спасибо. Я вот часто прохожу мимо, и ни разу не видал тебя за прилавком. В какие часы твоя смена?
— Всегда утром.
— А в каком киоске? Не в том, который стоит у выхода из метро?
— В том самом. Я там как штык с десяти часов.
— Тогда странно… — пожал плечами Дани.
— Теперь подается сангрия. Кто будет пить?
Через головы сидящих потянулись к кувшину смуглые руки Мели:
— Дай мне.
Крепко ухватив кувшин обеими руками, она тряхнула головой, откинула густые волосы и поднесла кувшин к губам. Тонкая струйка потекла по подбородку в вырез купальника.
— Какая холодненькая! Али, хочешь?
Кувшин перешел в руки Алисии. Лусита спросила:
— Вкусно?
— Очень, — ответила Кармен, вгрызаясь в пирог.
Луси протянула кусок пирога Даниэлю:
— Бери, Дани! Хочешь попробовать?
Мужчина в белых туфлях сказал, глядя в проем двери:
— Нечасто увидишь в наших краях мадридское такси, такая колымага посреди полей!
— Сюда едет? — спросил Маурисио из глубины дома.
— Как будто.
— Так это Оканья. Наверняка. Он говорил, что приедет как-нибудь в воскресенье.
Машина пересекла шоссе и уже подъезжала к кафе, оставив за собой огромное облако густой ныли. Маурисио вышел встретить гостей. Туча пыли медленно уплывала к оливковой роще и таяла в листве деревьев.
— Когда ты наконец сменишь эту старую галошу на какую-нибудь посудину поприличнее? — крикнул Маурисио водителю, пока тот задним ходом заводил машину в тень.
Маурисио шел рядом, держась обеими руками за нижнюю кромку открытого окна машины. Оканья в ответ лишь смеялся. Он поставил машину на ручной тормоз и тогда ответил:
— Куплю, когда у меня будет столько деньжат, сколько у тебя.
Маурисио открыл дверцу, и друзья обнялись, похлопывая друг друга по спине. Из машины вылезли толстая женщина, девушка, куча детей и брат Оканьи с женой. Толстуха сказала Маурисио:
— Вы с моим мужем, как всегда, дорвались друг до друга. Ну, как Фаустина? Здорова? А дочка?
— Отлично себя чувствуют. Вы, я вижу, тоже.
Маурисио погладил русую голову одного из ребятишек, взглянул на девушку:
— Ну и ну! Уже совсем невеста. Скоро с ней хлопот не оберешься.
— И сейчас уже хватает, — ответила толстуха. — Вы знакомы с моим деверем и его с-супругой?
Она нажимала на «с», будто лишний раз повторяла букву.
— Очень приятно. Как поживаете?
Оба были худющие. Оканья, водитель, сказал, вытирая пот платком:
— Вот вам и Маурисио, сам великий Маурисио.
Толстуха тараторила:
— Они вас давно знают, Маурисио, мы сто раз рассказывали. Мой Фелипе все время о вас говорит. Скорей детей забудет, чем вас. Ребята! Ну-ка, живо! Что вы стоите разинув рот? Помогите отцу достать вещи из багажника! — И, повернувшись к девушке, добавила: — Фелисита, бутылки возьми ты, как бы они их не разбили. — И снова обратилась к Маурисио: — Это такие нескладехи, кажется, будто войну объявили всему, что бьется. — И покачала головой.
— Такой у них возраст… — ответил Маурисио. — Давайте пройдем в дом, если не возражаете, а то солнце очень уж припекает.
Мужчина в белых туфлях смотрел на них из дверей.
— Какая у вас тут чудесная река, — на ходу говорила толстуха. — На нее вы, должно быть, не жалуетесь.
Мужчина в белых туфлях посторонился, пропуская ее, и покосился на пышный бюст.
— Осторожно, ступенька, — предупредил Маурисио.
Войдя, женщина коротко бросила:
— Добрый день.
За ней вошла супружеская пара. Полицейский отошел от стойки и спрятал руки за спину. Маурисио пригласил гостей присесть.
— А народу тут у вас, — продолжала толстуха, садясь, — с каждым годом все больше. Наша река — одно безобразие. Словом, не Мансанарес, а сточная канава — только позорит Мадрид.
— Ну, теперь, я думаю, ее скоро приведут в порядок.
— Куда там. Эту реку не приведет в порядок даже самый что ни на есть Черчилль, стань он алькальдом Мадрида, как бы там в газетах ни расписывали таланты этого сеньора.
— Все упирается в монету.
— Разве что Мадрид перенести куда-нибудь… Надо же было выбрать такое место для столицы Испании! Видно, тогда, — ну, не знаю, когда это случилось, в древние времена, — наивные были люди там… — Она махнула рукой вдаль. — Уж могли бы они выбрать хоть реку как реку. Ведь столько красивых мест вокруг.
Фелипе Оканья, опустив спинку заднего сиденья, с головой залез в машину. Он извлекал свертки и передавал их детям, стоявшим у дверцы. Временами свободных рук не оказывалось, и тогда из глубины доносился его голос:
— Пошевеливайтесь! Не век же мне тут торчать!
Наконец он выбрался из машины и сказал:
— Теперь несите вещи в дом. Марш!
Поделили поклажу на четверых. Фелиса объявила:
— Мама велела бутылки нести мне.
Фелипе стал поднимать стекла. Дети со свертками направились в дом. Оба мальчика, очень светловолосые, были еще в пляжных сандалиях и плавках. Они с любопытством глазели по сторонам. Позади хлопнули, закрываясь, дверцы автомобиля. Фелипе закрыл машину на ключ и, направляясь к дому, бросил беглый взгляд на шины. Он что-то насвистывал. Дети уже входили в дом.
— Сложите пока что все сюда, на столик, — приказала мать семейства. — Осторожно, Хуанито. — И, обернувшись к хозяину, продолжала: — А как ваш сад? Есть там тень, как в прошлом году?
— Тени больше стало. Этой зимой я посадил десять корней вьюнков, и они оплели уже изрядный кусок. В саду вам будет лучше.
По коридору, вытирая руки о фартук, шла Фаустина. Увидев спину гостьи, она от самой двери повернула обратно.
— Это совсем недурно, — произнес брат Оканьи, — иметь за домом сад и все такое прочее. Сейчас, летом, дела, верно, хорошо идут.
— Не скажите, — ответил Маурисио. — Дела хороши у тех, кто возле реки или у шоссе, а сюда немногие заглядывают. Плохая торговля.
Фелиса пододвинула стул и жеманно уселась рядом с матерью. Один из мальчиков смотрел на Лусио в упор, разглядывая его с головы до ног.
— Но это нетрудно исправить. Несколько стрелок с надписями, как сюда проехать, и у вас будет полно народу.
Маурисио зашел за стойку:
— Не разрешают. За такие вещи надо платить налог государству.
— Ясное дело, без налогов шагу не ступить. Но это себя оправдает.
В дверях появился Фелипе, крутивший на пальце связку ключей, которые позвякивали.
— Вот мы и собрались, — сказал он.
В это время из коридора вышла Фаустина. Она сняла фартук и подколола волосы заколкой, поправляя ее на ходу.
— Кого я вижу!
Жена Фелипе обернулась. Кармело и мясник глядели на полки, уставленные бутылками. Фаустина подала руку толстухе и отступила на шаг, как бы любуясь гостьей:
— А вы с каждым годом хорошеете!
Та прищурилась и покачала головой, плаксиво улыбаясь.
— Какое там! Вы ошибаетесь, Фаустина, ошибаетесь, внешность обманчива, годы оставляют на мне такой же след, как и на всех смертных. К сожалению, все не так, как вам кажется…
Лусио беззастенчиво разглядывал вновь прибывших.
— Зиму я провела очень плохо. Если б вы знали… Нет, я уже не та, совсем не та.
Мясник выплюнул и раздавил ногой окурок, воспользовавшись этим, чтобы украдкой оглянуться.
— Есть вещи, которые даром не проходят… — Тут толстуха сменила тон. — Познакомьтесь — это мой деверь с женой.
Фаустина протянула руку через столик. Жена деверя сказала:
— Очень приятно.
Говорила она с заметным каталанским акцентом.
— Пожалуйста, располагайтесь как дома, вы для нас всегда вроде родных.
Жена Фелипе выступила вперед, чтобы поблагодарить от имени деверя. Фаустина поздоровалась с Фелипе, а Кармело и мясник стали расплачиваться с Маурисио. Мужчина в белых туфлях раскачивался с носков на пятки, глядя в потолок.
Фелисита одернула братишку:
— Постой спокойно, Хуанито!
Мальчик вертелся вокруг столика, не отрывая рук от мраморной столешницы, и гудел, изображая пароход. Потом рука его стала самолетом, поднялась как бы в полете и при этом слегка задела волосы Фелисы. Она попробовала сбить руку шлепком, но промахнулась.
— Мама, смотри, что делает Хуанито!
— Приятно отдохнуть, — попрощался мясник, направляясь к двери.
Полицейский в знак прощания взял под козырек. Мужчина в белых туфлях попрощался с ними кивком головы.
— Вы остаетесь? — спросил мясник.
— Ненадолго, — указал тот на свои часы, не глядя на них.
Кармело и его товарищ вышли на солнцепек и пошли по дороге к Сан-Фернандо. Тут в нарядном платье вошла Хусти.
— Какая прелестная у вас дочка, — сказала, обращаясь к Маурисио, жена Фелипе.
Девушка смущенно улыбалась, стоя рядом с толстухой, которая положила ей на бедро руку, как бы проверяя его упругость.
— Наверно, и жених уже есть? — подняла она глаза на Хусти.
— Есть уже, есть, — ответила Фаустина, сложив руки на животе и улыбаясь.
Фелисита смотрела на Хусти с интересом. Мужчина в белых туфлях подошел к Лусио, но ни тот, ни другой ничего не сказали. Оканья обратился к жене:
— Петра, дорогая, уже полчетвертого, не пора ли нам пойти в сад и поесть?
— Пойдем, пойдем, — ответила та, вставая. — За мной дело не станет.
Все поднялись. Хусти принялась собирать свертки.
— Ну что ты, милая, не надо, что-что, а рук у нас хватает, слава богу, мы все это сами унесем. Так что не трудись. Пусть ребята возьмут что другое, а это они могут.
— Да мне совсем не трудно, — возразила Хустина и исчезла в коридоре, унося корзину.
Маурисио выбрался из-за стойки и пошел первым, как бы прокладывая путь и чтобы показать, за каким столиком им будет лучше всего.
— Ничего не оставляйте, — скомандовала Петра.
Она, как гусей, гнала вперед детей по коридору. За ней шли деверь с женой, а замыкал шествие Фелипе. Лусио сказал мужчине в белых туфлях, кивнув на дверь, через которую все ушли:
— Этому надо крепко держать руль, раз у него четверо таких волчат, которые вечно разевают рты.
— И треплют обувь… — дополнил другой.
По шее Себаса текли струйки пота пополам с пылью и терялись в густых зарослях на груди. Плечи у него были округлые, мускулы так и играли. Огрубевшие от работы руки роняли куски омлета на голые ноги. Сантос, белый и безволосый рядом с ним, протянул руку к судку Луситы:
— Можно?
— Ради бога!
— А тебя поближе разглядеть, и вроде ничего!
— Да ты оставишь бедную девушку без единого кусочка.
— А для чего я их везла? Не себе же одной, бери, Сантос.
Солнце впивалось в верхушки деревьев над их головами, пронизывая светом многоцветную листву и пробиваясь косыми лучами до самой земли; от его стрел загоралась пыль, опускавшаяся на землю, и тень скрадывалась веселыми блестками. Солнце разукрасило золотыми бликами спины Алисии и Мели, рубашку Мигеля, а в центре круга играло на стекле стаканов, на лезвиях ножей, на алюминиевых судках, на красной кастрюле, на кувшине с сангрией — все это было разложено на расстеленных прямо в пыли салфетках в голубую клетку.
— Ох уж этот Сантос! Какое у него туше! А как аккуратно отправляет шар в лузу.
— Как могу, стараюсь, милый мой, выжить! Ты, кстати, тоже неплохой игрок!
— Куда мне до тебя! Ты на полдороге не остановишься, идешь до конца!
— Одно удовольствие смотреть, как он ест, — заявила Кармен.
— Вот как? Вы только послушайте ее. Ей нравится смотреть, как он ест. Вот это невеста, видал?
— Ну как же! Только он-то все равно оценить ее не может. Это уж точно.
— Такую девушку не каждый день встретишь. Он просто растяпа, ему счастье выпало, а он его и не заслуживает.
— Заслуживает, заслуживает, и этого, и еще много чего, — возразила Кармен. — И нечего его унижать, чтобы меня расхвалить. Бедненький ты мой!
— Ой-ой-ой! Бог это да! — расхохотался Себастьян. — Ну, что я тебе говорил?
Все, смеясь, глядели на Сантоса и Кармен. Сантос сказал:
— Ладно, ребята! Что с вами?! Вы собираетесь у меня ее отнять? — Он обхватил девушку за плечи и страстно прижал к себе, в руке он держал вилку и, размахивая ею, весело закричал: — А ну, попробуй, подойди!
— Ну да, сейчас-то он ломает комедию, — сказал Себас, — а потом будет водить ее за нос, а бедная девушка должна ждать неизвестно чего.
— Как не стыдно! Вранье!
— Пусть она сама скажет, так или нет.
— Сейчас как кину в тебя!.. — Сантос замахнулся банкой сардин.
— Попробуй!
— Тихо, тихо, минуточку!.. — вмешался Мигель. — Ну-ка, дай сюда банку.
— Эту?
— Ну да, а какую же еще?
— Лови.
Сантос бросил банку, Мигель поймал ее на лету и посмотрел на этикетку:
— Да провалиться мне на этом самом месте! — воскликнул он. — Я так и знал. Сардины! Этот тип держит в руках сардины и помалкивает, хитрюга! Ну, разве он не преступник? — вопрошал он, качая головой.
— Сардины! — вскричал Фернандо. — Да он просто жулик! Для чего ты их прятал? На десерт?
— Ну, ребята, я не знал. Я их держал на вечер.
— Молчи! У него банка сардин, а он дурака валяет. Такая потрясающая закуска! Да еще в оливковом масле! Умолчать про такое — за это наказание полагается! Штраф!
— Нет им пощады! — изрек Фернандо. — Никогда не поздно открывалкой их. Брось-ка мне твой нож, Себас. Тут есть открывалка?
— Такой нож да без открывалки? Спрашиваешь. Нож у Себаса, все равно что чемоданчик у хирурга, только инструмента побольше.
— Тогда мы эту банку в минуту откроем, — заявил Фернандо, взяв нож.
— Ты меня не обольешь, а? — забеспокоилась Мели. — Смотри, не обрызгай меня маслом. — И отодвинулась подальше.
Фернандо пыхтел, пытаясь открыть банку.
— Дай мне, у меня сразу получится, вот увидишь.
— Нет, оставь, — повел плечом Фернандо. — Какой этот нож ни шикарный, только он ломаного гроша не стоит.
— Иди-ка ты! — возмутился Себастьян. — У кого руки не держат, всегда на инструмент валит.
— Ну и открывайте сами!
Мигель отобрал у него и нож и банку:
— Давай, дружок, давай.
Мимо прошел почерневший от солнца мужчина с пробковым ведром за плечами. «Сливочное моро-о-оже-ное!» — выкрикивал он. Голос у него был пронзительный, надтреснутый. «Сливочное моро-о-оженое!» Под белой панамой лицо его казалось еще темней. Сардины из банки вынимались кусками. Себас положил кусочек на хлеб и размазал его, как масло. Облизал лезвие.
— Свинтус! — рассердилась Паулина.
— Здесь ничто не должно пропадать.
— Послушайте, давайте купим мороженого, — сказала Кармен.
Мороженщик встал в тень и теперь отпускал мороженое девочке в купальнике. К нему отовсюду сбегались мальчишки.
— Надо сказать, чтоб подошел сюда минут через пять.
— Для тебя он, конечно, вернется.
— Так пусть кто-нибудь пойдет к нему, — сказала Кармен. — Не оставаться же мне без мороженого. Кто еще хочет?
Фернандо подошел к Тито с банкой сардин в руках:
— Хочешь сардинку, Альберто?
Тито поднял голову и посмотрел на Фернандо — тот улыбался ему.
— Давай.
Фернандо подержал банку, пока Тито вытаскивал кусочки сардин и клал их на ломоть хлеба, прижав его к самому краю банки. Потом Фернандо слегка наклонил банку и капнул на бутерброд оливкового масла.
— Спасибо, Фернандо.
— Не за что, старик, не за что! — ответил тот и потрепал товарища по щеке.
Тито снова поднял глаза на него, и они улыбнулись друг другу. Кусочек сардины упал Тито на брюки, он тотчас сказал:
— Неважно, ерунда.
— А, вы помирились! Молодцы.
— Я тоже хочу мороженого.
— И я.
— И кривой тоже хочет.
— С нашей стороны все хотят.
Сантос и Себастьян поднялись, чтобы пойти за мороженым. Лусита собралась дать Себасу мелочи на песету.
— Возьми, Себас, купи и мне.
— Не кривляйся, Лусита, убери свои деньги.
— Так не…
Но Себас молча эашагал к мороженщику. Сантос подпрыгивал, быстро перебирая босыми ногами, будто плясал: раскаленная земля жгла подошвы.
— Очень уж худой Сантос, — сказала Паулина. — Может, ты его откормишь?
— Такое у него сложение, — ответила Кармен. — Все равно толще не станет.
Фернандо все еще стоял с банкой в руках. Он посмотрел на Сантоса и Себастьяна, которые уже подходили к мороженщику, и сказал:
— А что, если попробовать сливочное мороженое с оливковым маслом из-под сардин?
— Фу, старик, что это тебе вдруг взбрело? — фыркнула Мели. — Так можно всякую охоту отбить. Что за свинство!
Фернандо развлекался. Он размахнулся и забросил банку подальше.
Мороженщик поставил ведро на землю и без устали накладывал мороженое в облезшую никелированную форму. Подошел пес, потянулся понюхать ведро с мороженым, рядом валялась половинка галеты. «Пошел!» Пес отступил, но тут же вернулся за галетой.
— В очередь, в очередь! — кричали мальчишки.
Они тесно выстроились друг за другом.
— Эй ты, куда лезешь? Я раньше пришел.
— Ха-ха! Да я тут десятый день стою, червяк!
— Не ссорьтесь, всем хватит, — успокаивал их мороженщик.
Сантос и Себастьян были намного выше мальчишек и отчетливо выделялись в очереди. Паулина, по-прежнему сидя на земле, рассмеялась:
— Девочки, посмотрите, какие два здоровых дурака!
Себастьян сказал мороженщику:
— Проще было бы, если б вы подошли вон туда.
— А как это сделать? Видите, сколько тут клиентов! Разве что дождетесь последнего…
— Нет, тогда отпустите нам сейчас. Мы унесем.
— Сколько?
Себастьян обернулся к Сантосу:
— Не знаешь, Дани хочет?
— А я не спрашивал.
— Так спроси.
Очередь запротестовала: «Быстрей, тает ведь! Хватит считать!» Сантос крикнул:
— Даниэль!
Тот поднялся, возвышаясь над всеми, и вопрошающе мотнул головой.
— Хочешь мороженого?
Вся очередь в нетерпении глядела на Даниэля, он кивнул в знак согласия.
— Ну вот, он же сказал «да», — поторопил мальчишка из очереди.
Мороженщик подал уже три порции, их держал Себастьян.
— Значит, одиннадцать, — сказал Сантос.
Смуглый мальчик поглядел на него снизу вверх и потряс руками, растопырив пальцы:
— Ого! Одиннадцать! — Потом сунул нос в мороженицу, будто хотел посмотреть, сколько там осталось.
Себас уже держал в руках пять порций.
— Я пойду, — сказал он, — пока не растаяло. Возьми у меня бумажки. — И указал подбородком на пояс своих плавок, за который были засунуты три бумажки по дуро.
Сантос взял их. Тут двое мальчишек подрались. Выскочили из очереди и покатились по земле. Остальные смотрели на стычку, не покидая своих мест. Сантос принимал порцию за порцией и время от времени оборачивался посмотреть на бойцов. Тот, что поменьше, впился ногтями в губу и щеку противника. Из очереди подбадривали дерущихся. Они катались в пыли, молча терзая друг друга, слышалось прерывистое дыхание, и видно было, как течет пот. Оба были в плавках. «Смелей, парень, твоя берет!» Теперь один из них лежал, зарывшись щекой в пыль, а другой прижимал его к земле обеими руками, но у меньшего оказались свободны ноги, и он обхватил ими противника. Сантос расплатился и продолжал наблюдать за поединком, а друзья кричали ему: «Эй, давай сюда!»
— Как не стыдно! — крикнула какая-то женщина мальчишкам, стоявшим в очереди. — Вы стоите и нахально смотрите, как они увечат друг друга! Вы хуже зверей! Спокойно смотреть на такое зрелище!
Она подошла к дерущимся и потянула одного из них за руку, пробуя разнять.
— Ну-ка, дикарь, отпусти его, что вы делаете!..
Те не обращали на нее никакого внимания. Мороженщик сказал ей:
— Оставьте их, сеньора. Пусть подерутся. Это полезно. Воспитывает храбрость.
— И вы такой же, как они. Еще один зверь!
Мороженщик не рассердился, он продолжал накладывать порции.
— Да мы все по своей природе животные, сеньора. Понимаете, в чем дело?
Сантос сделал несколько шагов и снова обернулся, друзья продолжали звать его. Мальчишки вывалялись в пыли, на спинах у них виднелись ссадины, следы ногтей. Мороженщик улыбался, глядя в спину удалявшейся женщине.
Сантос наконец подошел к товарищам.
— Ну у тебя и выдержка! Представляю, какое мороженое ты нам принес.
Он встал в центре круга и протянул всем мороженое.
— Ты думал, в парк аттракционов пришел, что ли?
По пальцам Сантоса текли желтые струйки. Паулина лизала мороженое и смеялась. Остальные разбирали свои порции.
— Половина осталась, — возмущался Фернандо. — И вафли совсем размокли, вот зараза!
Сантос оправдывался:
— Это было жутко волнующее зрелище. — И он лизнул мороженое. — Они так здорово трепали друг друга. У малыша — редкий талант.
— Ну что я говорил? Он думал, что смотрит петушиный бой.
Вдруг Себастьян схватился за щеку и горестно воскликнул:
— Зуб!
Он бросил мороженое и завертел головой, не отнимая руку от щеки.
— Для больного зуба ничего нет хуже мороженого, — заметила Лусита. — Очень болит?
Себас кивнул. Неожиданный порыв ветра закружил в роще пыль и клочки бумаги, всем пришлось зажмуриться и прикрыть мороженое руками.
— Что это такое? — спросил кто-то.
Мороженщик торопливо закрыл крышкой свое пробковое ведерко. Вихрь уже пронесся и, перекинувшись на равнину на противоположном берегу, низко гнал облако пыли.
— Наверно, это осень, — сказал Фернандо.
Ветер улегся, и мороженщик снова открыл торговлю.
— Да, осень! — подтвердила Мели. — А вы чего хотели? Хоть бы осень была что надо. — И посмотрела на вершины деревьев, в которых только что шумел ветер.
Мигель растянулся рядом с Алисией и тронул ногой ее ногу.
— Ой, только не пятку, щекотно…
Кто-то переговаривался через реку, крича во все горло. Фернандо спросил:
— А на что тебе осень, Мели? Почему тебе так не терпится, чтоб она наступила?
Только Луси еще доедала мороженое.
— Мне всегда хочется, чтобы время проходило поскорей, — ответила Мели. — Я люблю разнообразие. Мне все надоедает, если это слишком надолго.
И она откинулась назад, заложив руки за голову. Подмышки у нее были выбриты.
— Что мне, что вам, каждому свое сполна досталось в этой жизни: на двух костях двенадцать, — сказал, обращаясь к Лусио, мужчина в белых туфлях. — А этому тоже номер неплохой вышел! Прокормить четверых детей — должно быть, головоломка не из легких.
Лусио согласился:
— Мы хоть знаем, что когда умрем, так ни для кого не будет особой потери. Скорей даже — избавление, гора с плеч.
— Что до моих, то я давно их избавил от всякого беспокойства. Вот уж пятнадцать лет, как в тех краях и не показываюсь. В мыслях даже нет. Пошлю открытку к рождеству на имя сестры, и то не всякий год — бывает, и забуду, — вот вам и все родственные связи. Единственное беспокойство, которое я им причиняю, и то лишь в том случае, если мою открытку читают.
— А кто там у вас? Родители?
— Мать, два брата и сестра. Отец умер, а мать снова вышла замуж.
— Значит, вы давно уже отца потеряли?
— Давно. В тридцать пятом. Мне, старшему, было тогда семнадцать. В девятнадцать меня призвали. Когда вернулся с фронта, в нашем доме уже поселился новый хозяин.
Лусио глотнул вина и сказал:
— Такое никому не понравится.
— Да, веселого мало. Приняли меня со всякими церемониями, думали, я проглочу эту пилюлю. А я не проглотил. Ну как вам это понравится: женщине тридцать девять лет, при ней трое взрослых детей, ни тебе денежных затруднений, ни бедности. А ей, видите ли, замуж понадобилось!
Лусио согласно кивал головой.
— Я не то что по гостям ходить, на улицу выйти не решался, и это, скажу вам, только потому, что мне за них стыдно было. А ведь, оказывается, все, кроме меня, знали и еще кое о чем. Никто, даже самые закадычные друзья, не посмели рассказать, какой кошачий концерт им устроили в ночь свадьбы. Это мне сестренка рассказала уже недели через две, как я приехал. Тут уж я и вовсе со стыда сгорел. И знаете, что я придумал? На следующий день встал пораньше, собрал чемодан, пошел в хлев и отвязал колокольчик у одного из наших быков. — Мужчина в белых туфлях тяжело задышал, лицо его стало угрюмым; он взглянул на дверь, провел ладонью по губам. — Они еще спали. А я стал у двери в спальню с чемоданом в одной руке и с колокольчиком в другой и ну давай звонить да звонить — все вызвонил этой счастливой парочке. На прощанье. Что тут было! Весь дом проснулся. Братья не вмешивались, я ведь старший. Да, верно, они думали так же, как я, только боялись сказать. Этот тип вышел и набросился на меня: «Это что ж ты своей матери такое устраиваешь?» А я ему и отвечаю: «Да нет, не матери, я больше для вас стараюсь». Он совсем озверел, полез на меня с кулаками, но я ему не дал до себя дотронуться. И все трясу колокольчиком у него под самым носом. Мать кричит с кровати, поносит меня на чем свет стоит, отца недобрым словом поминает и меня с ним сравнивает. Но с кровати так и не встала. Тогда я взял да и бросил колокольчик прямо ей на кровать, повернулся и ушел. Только сестра, заливаясь слезами, провожала меня до автобуса. Почти все в деревне уже знали о случившемся. Сами подумайте, каково сестре, бедняжке, пришлось, ей тогда было всего пятнадцать.
Лусио не поднимал глаз, чертя по полу копчиком ботинка.
— В семье чего только не бывает. Ну, а как же вы потом?
— Я прошел войну, да и лет мне было не так уж мало, так что жизни не боялся. В армии научился бороды брить — сегодня один попросит, завтра другой, так понемногу превратился в ротного парикмахера. И вот отправился в Бургос, где жил старшина, я с ним дружил в армии. Он меня устроил в парикмахерскую. Там я научился и всякой стрижке, но в конце концов мне надоело, и я ушел. Так и бродил с места на место. Одно слово — перекати-поле. Здесь, в Косладе, я впервые обосновался и открыл свое заведение. И, знаете, неприятностей все равно хватает. Вот почему я говорю, что мне в этой жизни достался шестерочный дублет. Ну, что вы скажете? Прав я?
— Конечно, все так и есть. Уж если ушел человек из дома непутем, по своей ли вине, по чужой ли, так непутем ему и бродить по свету. И никак тебе не выправиться. Раз не с той ноги ступил — пути не будет. И все равно, ты ли с родными плохо обошелся или они с тобой. Дело в том, что ты все это уносишь с собою, и никто тебе не поможет, сколько б лет ни прошло и уйди ты хоть на край света.
— Может быть, все так и есть, как вы говорите…
— Да иначе и быть не может. Всякий человек таков, каким его сделало обращение да обхожденье в семье, верно? И вот какие обиды или угрызения совести ты унесешь с собой, те и останутся на всю жизнь. От них не отделаешься, как ни упрямься, хоть об стену бейся лбом. Что ты вынес из отчего дома, чем бы оно ни было, то твое навсегда.
— Шесть-шесть или пусто-пусто, как я говорю.
— Или любая другая кость, из двадцати восьми тебе достанется одна. Но ее не скинешь. И это такая игра, где сплутовать нельзя. Я прекрасно это знаю, у меня тоже если и не шестерочный дублет, то все равно какой-нибудь забитый дублет, с которым не выиграешь.
— Да, я слышал, как вы рассказывали про пекарню.
— И все остальное в том же духе. Каждый раз по тому же месту. Только я, в отличие от вас, могу сказать, что жаловаться ни на кого права не имею. Не мои близкие плохо обошлись со мной, а я с ними. По крайней мере, я так понимаю. Так что помалкивай, сказал я себе, и не поддавайся. Ни тому, что было, ни тому, что будет.
Мужчина в белых туфлях провел рукой по лицу. Помолчал. Потом сказал:
— Так что и жениться никакого желания нет. Года два назад я чуть было не попался. Вовремя дал отбой. Думаю, только выиграл, и она ничего не потеряла, и те, другие, которые могли бы появиться. Верно?
Петра отвела рукой свисавшие побеги жимолости и винограда.
— Шикарно! — сказал Оканья, усаживаясь.
Хусти поливала землю, черпая воду из бадьи. Слева от столика, за который сели гости, находился курятник с небольшим загоном, отгороженным металлической сеткой. Очень толстый кролик смотрел на пришедших, навострив уши. Трое младших членов семейства так и прилипли к шестиугольным ячейкам сетки — разглядывали кролика.
— Какой беленький, — сказала девочка.
Кролик подскакал еще чуточку поближе и стал принюхиваться, дергая носом. Хуанито заметил:
— А на кур он никакого внимания не обращает.
— Еще бы! Он же их не понимает. Ты только подумай — ведь это не птица!
— Смотрите, как он шевелит носиком!
— Подумаешь! — сказал старший. — На нашей улице живет мальчишка, который может точно так.
— А какие у него глаза красные! — воскликнула девочка в полном восторге.
Амадео, старший, немного отступил.
— Не прижимайтесь вы так, сетка повалится, — строго сказал он.
Сзади них послышался голос. Обернулся один Амадео.
— Пошли, мама зовет.
Кролик испугался, когда задвигался Амадео. Хуанито сказал:
— Он спрячется вон туда.
Мать снова их позвала. Кролик встал у входа в свой домик. Амадео настаивал:
— Пошли!
— Подожди. Посмотрим, что он теперь будет делать.
Хустина остановилась у них за спиной; они даже не слышали, как она подошла.
— Вас мама зовет.
Все трое испуганно обернулись на голос. Хустина улыбнулась:
— Что? Вам понравилась наша крольчиха? Правда, красивая? А знаете, как ее зовут?
— Разве у нее есть имя?
— Конечно, есть. Ее зовут Хильда.
Девочка состроила обиженную гримаску:
— Хильда? Мне не нравится. Совсем некрасивое имя.
Хустина расхохоталась.
— Послушайте, Маурисио, вы, наверно, знаете, что это за усадьба возле шоссе, по левую руку, как едешь к вам? Там чудесный сад. Знаете? — расспрашивала Петра.
— Я знаю, о чем вы говорите. Это усадьба, которую построил Кочерито из Бильбао, знаменитый тореро, слыхали о нем, должно быть.
— Но он уже умер, — сказал Фелипе.
— Конечно, причем давным-давно. Когда он купил этот участок, здесь еще ничего не было. Даже возле реки.
Петра пояснила:
— Сегодня утром мы обратили на эту усадьбу внимание, правда, Фелипе? Аллея до самой виллы, и какие деревья! Там должно быть просто чудесно, если судить по тому, что видно сквозь ограду.
— Да, там красиво, очень красиво. Теперь все принадлежит другим людям.
— А какая большая! Такая усадьба должна стоить кругленькую сумму, — сказал Оканья. — Раньше умели жить, а теперь строят черт-те что за домики.
Маурисио стоял возле их стола. В окно была видна Фаустина, возившаяся у плиты.
— Ну что это за дети?! Амадео! Сейчас же сюда! — крикнула Петра.
— В Бонанове, под Барселоной, — вступила в разговор невестка Оканьи, — есть очень хорошенькие виллы, построенные с большим вкусом, правда? Роскошные сады с фонтанами, выложенными изразцами, — не один миллион стоят. Они принадлежат людям, у которых есть… — И она пощелкала пальцами, словно пересчитывая банкноты.
— Ну да, — согласился Маурисио, — там много богачей.
Петра снова позвала:
— Дети! Петрита! Сейчас же идите сюда! — Она понизила голос: — Ох эти дети! Уже почти четыре часа!
Дети подошли.
— Давайте, садитесь за стол! Не слышали, что ли, как я вас звала? Надо же, заставлять старших ждать вас!
Фелиса, сидевшая рядом с матерью, глядела на младших с таким же укором, как мать. Хустина вступилась за детей:
— Они смотрели на крольчиху. Не ругайте их. В Мадриде такое не увидишь.
— Она беленькая, — оживилась Петрита, — а глаза у нее красные, понимаешь, мама?
— Помолчи, ешь, — ответила мать.
Ели жадно, с аппетитом. Дети тянули руки, хватали то одно, то другое и получали шлепки от матери.
— Просить надо! Языка, что ли, нет? Что за кавардак?!
Фелипе Оканья сказал:
— После дона Хуана Бельмонте другого такого тореро не было. Манолете — не то. Куда там!
— Да, вот это был тореро, — подтвердил Маурисио. — Казалось, будто он только голову и поворачивает: и когда выполнял веронику[15], и когда убивал быка, и когда принимал овации. Я даже думаю, что он быков укладывал на месте не шпагой, а движением головы.
— А как он умел дразнить быка плащом, — не спеша, аккуратно, не суетясь, будто просто работает, ну, как плотник за верстаком, парикмахер у своего кресла или там часовых дел мастер.
В разговор вступил брат Оканьи:
— Мне посчастливилось увидеть его в Касересе, на фестивале, лет восемь назад. Не забыть, как он работал пикой и потом прикончил быка шпагой, а какой под ним был конь! Чудо!
— Маурисио, — обратилась Петра к хозяину, — может, что-нибудь хотите? Попробуйте сладости.
— Спасибо, сеньора. Мы еще не обедали.
— Правду говорите?
— Я не ломаюсь. Потом — с удовольствием. — Он повернулся к Оканье: — А кто сегодня выступает на корриде в Лас-Вентасе? Ты не знаешь?
— Рафаэль Ортега, один, а быков шесть. Коррида в пользу кассы взаимопомощи.
— Ему тоже храбрости не занимать. Нынче мало кто так работает, да еще бесплатно, на такой-то корриде.
— Ортега — старой школы. Умеет провести быка мулетой так, что сразу представляешь себе тяжесть и силу этой горы. Простота и естественность Ортеги мне по душе больше, чем кривлянье других, которые получают вдвое больше.
Маурисио стоял, слегка наклонившись над столом и опираясь руками на спинки стульев, на которых сидели Петрита и Амадео.
— Этого тореро я не знаю, — сказал он. — Только читал о нем в газетах. Я уж, по крайней мере, года четыре на корриде не был.
Из кухни его позвала Фаустина. Послышался стук — и в сад вылетел кот. И снова голос из кухни:
— Брысь! Еще не хватало тебя здесь!
Кот улегся в углу сада, на куче сухих листьев.
— Что тебе? — громко спросил Маурисио.
— Идите обедать.
Хустина была в курятнике и вышла оттуда с яйцом в руке. Подходя к дому, отец спросил ее:
— Это от которой?
— От рябой. Сегодня четвертый день, как она не неслась.
Невестка Оканьи сказала мужу:
— Не налегай на тушеные овощи, Серхио, тебе же нельзя, потом плохо будет.
— Дай ты ему поесть, да и сама ешь, — вмешалась Петра. — За весь-то день. Нельзя же вечно думать о болезни.
— Слушай, если он не поостережется, ему ведь хуже будет.
Фелисита смотрела попеременно то на тетку, то на мать, словно силясь понять, кто же из них прав. Хуанито манил кота, сложив пальцы щепотью: «Кис-с, кис-с!»
— Дай ему вот это, — предложила Петрита и протянула кусочек мяса.
Но кот не тронулся с места. Оканья сказал жене:
— Надо, по крайней мере, попросить у Маурисио по стакану вина и по чашечке кофе. Чтоб ему был хоть какой-то доход, раз уж мы пришли сюда есть.
— Как знаешь. Он так любезен, что скорей всего денег не возьмет.
— Почему не возьмет? С чего это?!
— Ну, ты оказывал ему столько услуг!..
— И он мне немало их оказал, еще чего не хватало! Если будет отказываться, уж как-нибудь запихаю ему. Мне и так стыдно, что мы даже вино с собой привезли, а не берем у него.
— Так ты же ничего не сказал… — оправдывалась жена. — А теперь мне такое заявляешь.
Белый кролик подошел к решетке и встал на задние лапки, опершись передними о сетку и показывая брюшко.
— Глядите, глядите, как он стоит! — крикнул Хуанито.
Все обернулись.
— Какой хорошенький! — сказала девочка. — Какой хорошенький!
— В кастрюле они еще лучше, — засмеялся брат Оканьи.
Петра напустилась на него:
— Да ты что? Зачем такое говоришь ребенку, который восхищается зверьком? Нет, доченька, нет. Дядя твой злюка. Никто этого кролика убивать не собирается. На будущий год, как приедем, привезем ему листьев салата и ты сама его покормишь. Хорошо, доченька?
— Да, мама, — отвечала Петрита, не отрывая глаз от кролика.
— Завтра обедать будем в саду, — сказал Маурисио. — Тут такая жара от плиты, что, пока ешь, сам изжаришься.
Фаустина не ответила. Она что-то мешала в кастрюле.
— Но каков Оканья! Как он понимает жизнь! — продолжал Маурисио, указывая ложкой на окно, из которого виден был столик, занятый гостями. — Ему ничего не жаль. Если и отложит пару бумажек, так только для того чтобы поехать, вот как сегодня, провести воскресенье с семьей за городом. — Он медленно тянул суп. — И понимаешь, в воскресенье, когда такси нарасхват весь божий день, когда дают целое дуро на чай те, кто едет на стадион или на корриду. Он всем этим жертвует и в ус себе не дует.
— А почему они не приезжают на неделе? — возразила Хусти. — Меньше потерял бы.
— Наверно, из-за брата. Тот свободен только по воскресеньям. Щедрый и веселый человек, он всегда такой. Вот так и надо жить. Иначе получается, как с тем, который потерял двадцать килограммов, пока бегал, искал аптеку, где можно взвеситься.
— Ну, уж если такой порядок тебе нравится, — поджала губы Фаустина, — почему бы тебе не сделать то же самое, начиная с завтрашнего дня? Закрой кафе и живи сладкой жизнью. А? Что ж ты этого не делаешь?
Из зала кто-то позвал Маурисио.
— А что ты думаешь? Мне часто хочется такое сотворить! Только чтоб тебя не слышать… Поди спроси, что там хотят. Скажи, я обедаю.
Фаустина вышла. Маурисио не донес ложку до рта и посмотрел на дочь. Потом опустил глаза и спросил:
— В котором часу придет твой жених?
— Думаю, в полпятого, в пять. Смотря на чем поедет: на рейсовом автобусе или на поезде.
— Вы пойдете в кино?
— Наверно.
Маурисио, помолчав, поглядел в сад через открытое окно; невестка Оканьи смеялась…
— Поди положи второе.
Хустина поднялась. Встал следом за ней и отец.
— А на какой сеанс вы пойдете?
— Ох, отец! Что это вы все выспрашиваете? Пойдем уж в какое-нибудь кино — какая разница? И как я могу знать заранее? — Тут она переменила тон. — Наверно, вы что-то хотите узнать, так зачем подбираетесь с этими вопросиками? Со мной так не надо.
— Я, дочка? Да нет. Хочу знать, что ты будешь делать.
Из сада опять донесся смех.
— Что вы делаете по воскресеньям?
— А то вы не знаете! Ну что мы можем делать? Нет, вы хотите спросить не о том.
— Ну ладно, тогда скажи, что это за новость, что тебе уже зазорно помогать отцу обслуживать посетителей? Откуда это пошло?
— Что? Кто это вам сказал?
— Твоя мать сегодня утром. И, мол, Маноло не нравится, что ты обслуживаешь гостей. Ему это кажется не очень приличным или еще что-то там такое. И она на его стороне.
— Ох уж эта мама! Вот в чем дело! Эта новость для меня как снег на голову. Хорошенькое дельце!
— Так ты не знала? Значит… Скажи-ка правду.
— Я и говорю правду, отец.
— Хорошо, дочка, больше ни слова. А ты с этим согласна?
— Я? Пусть он только придет! Сегодня он у меня попляшет!
В дверь просунулась морда Асуфре; пес вдыхал кухонные запахи. Хустина крикнула:
— Пошел вон! Противный пес! Так вот: чего я больше всего не люблю, так это когда за моей спиной сговариваются. Теперь точно знаю, когда они успели, да, да, на прошлой неделе он как-то застал мать одну. Наверняка в тот день они и сговорились. Только зачем вы-то ходили кругом да около, а не сказали мне все прямо?
— Ну, почем мне знать! Кто вас разберет… — И он пожал плечами.
Фаустина убрала деньги, полученные от мужчины в белых туфлях. Посмотрела на Лусио, скривилась и, кивнув на дверь, за которой только что исчез мужчина, спросила:
— А как этот?..
— Хороший парень. Что надо.
— Никак не пойму, что за жизнь он ведет. Может, он и хороший человек, я ничего не говорю, только вот понять его не могу, что-то с ним не то…
Тут вошел Чамарис со своим желтым псом Асуфре. А за ним — полицейский, мясник и еще один мясник, из Сан-Фернандо. Пес заскулил и помахал хвостом.
— Добрый день.
— Фаустина, — приветствовал хозяйку второй мясник, нажимая на последний слог.
Пес учуял чужой след в коридоре и пошел по нему, но устроить переполох среди членов семьи Оканьи ему не удалось, потому что на полдороге навстречу ему вылез кот, драки не миновать было, однако кот выгнул спину и зашипел, а когда Асуфре сунулся на кухню, Хустина крикнула: «Пошел вон!» И пес вернулся в зал.
— Вы дадите нам кофе?
— Сейчас будет готов.
Второй мясник был потоньше первого и повыше ростом, но на вид был такой же здоровяк, как и его товарищ. Он выгибал спину, как кот или как велосипедист, и наклонял голову, когда говорил. Прочитал на бутылке, стоявшей на полке:
— «Анисовка Моралес». Старинный напиток. Это по твоей части, ты любишь касалью, — подтолкнул он локтем товарища.
— Анисовка — не тот напиток, что пьют каждый день.
Фаустина пошла присмотреть за кофе.
— Мне рассказали, как вы утром утерли нос этому щелкоперу из муниципалитета. Такое редко услышишь.
Лусио посмотрел на присутствующих:
— Зато вы очень уж с ним осторожничаете.
Вошел Маурисио:
— Добрый день.
— Что, у вас гости?
Хозяин кивнул:
— Владелец того такси, что вы видели у входа. Мой давний друг.
— Ну, если ваша дружба старше, чем его машина, тогда это добрый друг.
— Ну уж нет! Дружбы старше этого драндулета по всему свету ищи — не сыщешь, — засмеялся Чамарис.
— Бывают и еще постарее.
— Нацепить на него очки да накинуть простыню — ну, вылитый старик Ганди будет!
— Да хватит про автомобиль. Он свое получил, — прервал их Маурисио.
Все засмеялись. Вошла Хустина с кофейником.
— Возьмите, отец. — И обернулась к высокому: — Как, сеньор Клаудио, вы сегодня не пошли на рыбалку?
— Нет, доченька, какая сегодня рыбалка, в реке полно народу. Такие рыбки очень уж тяжелые, удочка не выдержит.
Из коридора послышался голос Фаустины. Маурисио сказал:
— Держи, дочка, разлей сама кофе. Я сейчас, — и вышел.
— Твой отец сегодня из кожи вон лезет с этими мадридскими гостями. А на нас даже и не глядит.
— Обрадовался человек. В полном удовольствии. Они же с прошлого лета не виделись!
Хустина поставила чашки и разлила кофе.
— А когда они познакомились?
— Когда отец сломал ногу и лежал в больнице, в Мадриде. Тот занимал соседнюю койку — пострадал в аварии. Мы с мамой тоже тогда познакомились с ним и его семьей, когда навещали отца по четвергам и воскресеньям. И знаете, они договорились, что тот, кого первым выпишут, устроит праздник и пригласит другого с семьей. Вот какой у них был уговор.
— И кто же вышел первым?
— Оканья. Так что однажды в воскресенье отправились мы в Мадрид, хоть отец и был еще в гипсе.
— Ну да, я помню, как твой отец ходил в гипсе, это было лет шесть назад, не меньше.
— В апреле, так что шесть с хвостиком. Их девчурка еще грудная была…
— Но отец твой ни чуточки не хромает после перелома, — удивился высокий мясник.
— К перемене погоды начинает прихрамывать, и нога у него побаливает.
— Только перемены не наступает, — отрезал Лусио. — Если когда и угадает, то ненароком. Если б мы надеялись лишь на ногу твоего отца, то никогда о погоде ничего наперед так бы и не знали.
Все засмеялись, Клаудио сказал:
— Да, такие знакомства, когда они случаются, переходят в дружбу на всю жизнь. Но случается такое редко, я ведь тоже был в больнице на операции и мечтал лишь об одном: никогда в жизни больше не встречать тех, кто лежал рядом со мной.
— Ну, а эти двое, Оканья и мой отец, стали вроде братьев. Мы даже над ними подсмеивались. Они готовы были отдать друг другу все, целый день только и делали, что предлагали то одно, то другое. Мама как-то в шутку даже сказала, — мол, отдадим сразу то, что принесли Оканье, а его семья пусть свою передачу отдаст отцу; так мы хотели избавить их от напрасных трудов.
— У твоего отца — широкая душа. Тут все его любят. Так что если друг из того же теста, то все ясно, — сказал Чамарис.
Хустина стояла, опершись локтями о стойку, и качала ногой. Высокий мясник подошел к ней и сказал, склонив голову набок:
— Ну как, дочка, сегодня ты окажешь нам честь?
Хустина подняла голову:
— О чем это вы?
— О том, моя девочка, как ты сегодня? — ответил мясник, указывая большим пальцем и кивая головой в сторону сада.
Хустина воскликнула, смеясь:
— Да ну вас, вы все свое! Без меня не можете обойтись, что ли?
— Нет, милая, ты у нас самая главная. Кто придает игре смак и азарт? «Лягушка» без тебя — что жаркое без мяса. А кроме того — кто будет моим соперником, если не ты?
— Э-э, нечего заранее сговариваться, — запротестовал Чамарис.
— Предупреждаю, мой жених в пять часов придет за мной.
— Тогда пошли скорей, не то будет поздно. Чем раньше, тем лучше. Партии две успеем сыграть.
Чамарис сказал:
— Давай, Хустина: мы с тобой против мясного цеха. Мы их расколошматим, вот увидишь.
Хустина на мгновение заколебалась:
— Дело в том, что… — И решительно закончила: — Пошли.
«Здесь больше делать нечего. Двинем дальше». Мороженщик закинул за плечи пробковое ведерко и ушел к волнолому. На реке раздался всплеск — бросили в воду собаку. Потом какие-то люди, целая семья, подняли крик, оттого что собака стала отряхиваться возле них. Все обернулись в ту сторону посмотреть, что там такое. «Не дают вздремнуть после обеда», — бурчал Даниэль. Солнце стояло теперь над правым берегом Харамы. Вдали, над цементным заводом в Викальваро, поднимался дым и узким жгутом тянулся к Мадриду.
В тишине слышно было, как у кого-то заурчало в животе, и кто-то заметил:
— Чьи-то кишки песни запели…
— Мои, — смеясь, признался Себастьян. — Это сардинки поют «Отче наш».
Алисия, приподнявшись на локтях, смотрела в лицо лежавшему на спине Мигелю. Мели глядела на них сквозь темные очки. Мигель, ласкаясь, дул невесте в шею. Мели наблюдала за ними.
— Послушай, Али, хочешь, я тебя причешу? — вдруг спросила она.
— Что? Нет, спасибо, Мели. Сейчас не надо. Потом, попозже, ладно?
— Лучше бы теперь. Пока волосы не совсем высохли. Не то такой копной и останутся, потом не расчешешь…
— Какое там не высохли! Часа два уже как они сухие-пресухие!
— Ну что ж, как хочешь…
Мели отвернулась от них. Подобрала прутик и принялась чертить в пыли: писала какие-то буквы, которые тут же стирала, потом черточки и крестики. Наконец сломала прутик и обернулась к Фернандо. Глаз его она видеть не могла — он прикрыл их от солнца согнутой в локте рукой.
— Ну вот! И этот заснул.
Из громкоговорителей, установленных возле закусочных у плотины, плыл голос диктора.
Мели снова посмотрела на Алисию и Мигеля.
— Хорошо ты отделал рубашку!
— Кто? Я?
— Ну да, кто же еще. Ты ее всю извозил в пыли. Валяетесь где попало!..
— Неважно, — ответил Мигель, пожав плечами. — Все равно я собирался, как вернусь домой, бросить ее в стирку.
Мели ничего не ответила. Легла навзничь, подложив руки под голову.
— Фу, какая пакостная жара!.. — вздохнула она.
Здесь, в тени под деревьями, слепило глаза нестерпимое сияние противоположного берега, залитого солнцем; свет тяжкой глыбой придавил открытое поле, стерев фигурки овец на белесой равнине.
Лусита сказала:
— Ой, как у меня спина сгорела! Не могу даже лечь.
Она оторвалась от земли, села:
— Кто бы мне втер в спину немного крема? — спросила она и посмотрела на Тито.
Тито, лежавший рядом с ней, поднял глаза.
— Тито, может, ты будешь так любезен и окажешь мне эту услугу?
— Ну конечно, я тебя натру.
— Спасибо. Ты не можешь себе представить, как жжет.
Мели, склонив голову набок, снова наблюдала, как милуются Алисия и Мигель.
— Слушай, хочешь слабую сигаретку? Угощаю, — обратилась она к Мигелю.
— Что-что? Ах, сигаретку, да-да, конечно.
— Сейчас достану.
Лусита сказала:
— Передай мне сумку, пожалуйста, там у меня крем, — и протянула руку.
— Я сам найду, — сказал Тито.
— Нет, не суй нос куда не надо, — потянула она его за руку. — Дай сумку сюда.
Тито отвел руку с сумкой так, чтобы она не могла достать.
— А я любопытный. У тебя там секреты, Луси?
— Там мои вещи. Не люблю, когда в них роются. А еще говорите, что это мы любопытные. Ну, дай сюда.
Тито отдал сумочку.
— Ладно, детка, забирай. Береги свои секреты.
— Да нет там никаких секретов. Успокойся, там ничего интересного. Ты бы разочаровался. Хочешь, я покажу все, что там есть? Я — неинтересная особа, и тут ничего не поделаешь.
Она шарила рукой в сумочке, отыскивая крем.
— Тогда почему же ты не хотела, чтобы я сам посмотрел?
— Просто я люблю показывать из своих рук, только поэтому. И не терплю, когда моими вещами распоряжается кто-то другой. Держи крем. — И она легла ничком. — Погуще мажь плечи, — попросила она.
Выше по течению кто-то кричал, под сводами моста откликалось гулкое эхо. Паулина обернулась. Наверху, в начале моста, переливался в лучах солнца сине-желтый диск — железнодорожный знак. Себас лежал, положив голову на колени Паулине. Он протянул руку и дотронулся до ссадины у Сантоса на щиколотке.
— Что это у тебя за рана?
Тот отдернул ногу.
— Не трогай, больно. Подбили на матче.
— Когда?
— В прошлое воскресенье на стадионе «Элипа».
— Вот оно что! И чем кончилась игра?
— Кончилась потасовкой в середине первого тайма.
Себастьян рассмеялся:
— И это след?
— Сам видишь, обычное дело. Они оказались скотами. Но мы им всыпали, в рукопашной мы были рангом выше. — И он двинул кулаком.
— Этим всегда кончается, если соперник невесть кто. Надо, чтоб обо стороны уважали друг друга.
— В таких случаях уважают только грубую силу.
— И то, пожалуй, не всегда. Бывает, так сами и нарываются. Значит, вы разделали под орех этих молодчиков?
— Ясное дело. А потом мы сами разделились на две команды, добавили желающих из зрителей и сыграли товарищеский матч. А те улепетнули.
Сантос закрывал глаза от слепящего света тыльной стороной ладони. Паулина чесала спину Себасу и вдруг спросила:
— Слушай, Сантос, на вашей фабрике девушки тоже работают? Так ведь?
— Только на упаковке. В другом отделе. Мы их даже не видим.
— И незачем вам их видеть, — сказала Кармен.
— Конечно, радость моя, — засмеялся Сантос и потянулся рукой к ее подбородку. — Ты мой пупсик.
— Ладно, не подлизывайся.
— Ты что, ревнуешь этого субчика? — спросила Паулина.
Кармен пожала плечами:
— Не больше чем другие.
— Ого-го, не больше чем другие! Господи, спаси и помилуй! — вскричал Сантос. — Это же Хуана Безумная![16]
В соседней компании говорили о родах и выкидышах, о том, который из двух новорожденных краше. Разговаривали женщины. Мужчина, сидевший с ними, молчал, только посматривал на них и пыхтел сигаретой. Это был все тот же Будда, но уже одетый. Даниэль спал. Овцы на противоположном берегу шарахнулись: какие-то голые фигуры выскочили из-за кустов. Камни глухо ударялись о землю, словно падали на ватное одеяло. Послышался лай собак и свист пастуха. Лусита вздрогнула:
— Ой нет, Тито, тут щекотно.
Пахло душистым кремом. Мороженщик возвращался, его кто-то окликнул.
— Ничего не осталось, — ответил он.
Даниэль поднял голову и поглядел на мороженщика.
— Ну и урод!.. — сказал он и снова ткнулся головой в согнутые руки.
— Что он тебе плохого сделал? — спросила Луси.
Мели разглядывала на плече светлую полоску от лямки купальника. Фернандо открыл глаза и показал на просвет между вершинами деревьев:
— Глядите, какие птицы!
Птицы летали высоко, кружили, паря с распростертыми крыльями, — четкие силуэты в небе над рощей. Они пронзительно кричали.
— Как они называются? — спросила Мели.
— Пчелоеды.
— Какая у них яркая расцветка!
— Да, они очень красивые. Я держал одну такую в руках, живую, — сказал Мигель. — Помнишь, Алисия? Птица повредила себе крыло, налетев на телеграфный провод. Было это в Лос-Молиносе, мы туда ездили на пикник. Жалко было птицу.
— Вблизи они, должно быть, очень хороши, — сказала Мели.
— Еще бы, Алисия хотела, чтобы мы взяли ее с собой и выходили. Но эти птицы в неволе не живут. К тому же та была с перебитым крылом.
— Слушай, а который час?
— Без четверти шесть.
— Уже так много? — удивилась Мели.
На залитом солнцем берегу, возле отливавшей ржавчиной воды, женщина в черной комбинации чистила песком эмалированную кастрюлю и алюминиевые тарелки. Когда солнечные лучи падали на эти тарелки, они ослепительно сверкали как бы мгновенной вспышкой.
— Танцевать? — сказала Паулина. — Я этому голубчику танцевать не разрешу. — Она приподняла голову Себастьяна со своих колен: — Хорош. Будет с тебя.
— Хотел бы я, чтоб у меня было десять спин и чтоб мне их все время чесали. Я не шучу. И как только кончат чесать десятую, снова должна наступать очередь первой…
— Я хочу сказать, — продолжала Паулина, — что не буду разрешать ему танцевать с другими. Но, пойми меня правильно, если уж придется ему пойти одному на какую-нибудь свадьбу или в гости, бывает, отказаться неудобно, так пусть из-за меня он не смешит людей, сидя, как дурак, когда все танцуют, тут уж, бог с ним, позволю разок-другой пройтись, понимаешь?
— А я так не нахожу ничего глупого в том, что человек сидит себе на стуле, — возразила Кармен. — С какой стороны ни посмотри, тут ничего постыдного нет.
— Милая моя, рано или поздно придется тебе признать, что мужчине это просто неловко. Ты пойми, ну каково ему смирнехонько сидеть на стуле, когда все танцуют в полное удовольствие. Вот и скажут, что у него невеста дурочка какая-то…
— Ну, знаешь, у нас с тобой совершенно разные мнения. Я считаю так — если ты официально обручен, то и сам выполняй все, чего от нее требуешь. И не потому, что мы за них держимся, а просто так будет справедливей. Почему у них должно быть больше свободы, чем у нас?
— Гляди, как они о нас судят и рядят, — сказал Себас. — Знаешь, Сантос, мы здесь лишние… Пойдем прошвырнемся, попытаем счастья, может, что и обломится. — И засмеялся.
Сантос ответил расслабленным голосом:
— Слушай, мне до того неохота вставать, что пройди сейчас мимо хоть сама Мерелин Монро, ей-богу, не шелохнусь. — Он повернулся на спину и вытянул руки вверх.
— Ну-ну, хотел бы я посмотреть, как, пройди тут эта суперблондинка, о которой ты толкуешь, я хочу сказать, если б она в самом деле прошла, как ты мигом бы взвился, будто тебя шилом ткнули!
— Вот как, это очень мило с вашей стороны, — сказала Паулина. — А нас тут как будто и нет.
— Да ладно, курносенькая, — усмехнулся Себастьян, — мы просто приукрашиваем то, что есть. Только и всего.
Он ластился к ней, она отодвигалась.
— Отстань, противный! Болтун несчастный.
— Нет, слушай, а действительно было б забавно, — сказал Себас. — Кстати, насчет Мерелин Монро. Знаете, что напечатали в газетах?
— Нет. А что? Расскажи.
— Ну, брали у нее интервью, как у всех знаменитых артистов, и напечатали: «Мне хотелось бы быть блондинкой от макушки и до пяток». Недурно, а?
— Не вижу в этом ничего остроумного, — сказала Паулина.
— Да не может быть, — возразил Сантос. — Не говорила она этого, ты нас разыгрываешь.
— Это ж в Америке, чудак. Как же не говорила? Сам я, что ли, придумал?
— Не знаю, не знаю, может, и вправду она так сказала…
— Все равно это не смешно, я вам говорю, — стояла на своем Паулина.
Все подняли глаза. Низко над землей летел самолет. Он прошел прямо над ними, чуть ли не задевая крыльями деревья. Рев моторов заглушил шелест листвы.
— Как низко они летают, — сказала Мели.
— Четырехмоторный.
— Пошел на посадку, — объяснил Фернандо. — Там, сразу за шоссе, аэродром Барахас.
— Вот бы полететь на этом самолете!
— Только не на этом, а на таком, который взлетает.
— Ты хотела бы полететь в Рио-де-Жанейро?
— Наверно… Там такие карнавалы…
— Знаменитые карнавалы Рио.
— Валенсианские ракеты, поднес спичку — и пошло.
— Да ничего там не жгут.
— Зато пускают бесшумные ракеты.
— А здесь кто мешает надеть маску?
— Так ведь нельзя из-за карманников. Не понимаешь, как им просто будет?
— А в Рио их нет, что ли?
— В Рио деньги рекой текут. Ты представь себе: это Бразилия, она продает кофе всему миру.
— Вот видишь. Но пить кофе — порок…
— Ну и что? Куба, например, всем продает табак. Порок всегда приносит прибыль.
— А мы тут сеем добрые злаки, и у нас никаких пороков!
— Давайте попробуем выращивать кофе и посмотрим, может, сумеем годика через два обзавестись масками.
— Харями!
— Этих и так на улицах каждый день встречаешь, — сказал Себас.
— Да что все про Рио? Там что — карнавал дольше длится?
— Там вечный карнавал. А знаешь, Мели, по-моему, Рио-де-Жанейро — это ерунда.
— Так-таки ерунда? Сам небось в очередь бы стал, чтоб туда попасть.
— Я? Ну из любопытства…
— Вот то-то же. Лишь посмотреть Рио-де-Жанейро, лишь посмотреть карнавал в Рио-де-Жанейро.
— Ну, знаешь ли, наверно, нашлось бы и еще кое-что. Была бы там не одна и не только бы смотрела…
— Ну да, выиграла бы в лотерею какую-нибудь деревянную свистульку.
— Уж не меньше, верно?
— А Баия?
— Конечно, конечно, и в Баию тоже… Как можно не побывать в Баие…
— Но лучше всего Асторга[17].
— Ты что, вправду? Вот смех-то!
— А это не шутка.
— В самом деле?
— Да.
— Почему?
— У меня денег самое большее хватит на билет до Асторги.
— Ах, вон оно что! И то на третий класс!
— Вот именно. Если всерьез. А Рио-де-Жанейро, Баия — это шуточки. Ну, какой берем билет?
— Полегче, Сантос, у меня дома есть лотерейный билет. Так что для меня все это, может, и не шуточки.
— Тем более.
— Почему?
— Ну как же! Фантазия, воображение — значит, шуточки. А вот Асторга — это дело. Сколько стоит билет до Асторги? Столько-то. Пожалуйста. Для меня это самое прекрасное место. А дальше Асторги ничего нет. Дальше — шуточки. Мой билетик действителен только до Асторги.
— На фантазию билета не купишь.
— В том-то все и дело, — сказал Сантос. — Не купишь. Она ничего не стоит. — Тут он сделал паузу. — Она вроде голода. Голод — тоже бесплатно.
На самом берегу, на солнцепеке, народу почти не было. Над водой дрожал легкий прозрачный пар. Мели посмотрела вокруг. Над деревьями снова парили пчелоеды. Слышны были их крики.
— Что будем делать?
Алисия спросила:
— Во сколько договорились встретиться с Самуэлем, Сакариасом и остальными?
— Они твердо обещали прийти в кафе от семи до полвосьмого.
— А что, если поехать на танцы в Торрехон? — предложил Фернандо.
— Вот это да, — поддержал Себастьян, — это идея, гениально!
— Ну вас, снова крутить педали? Только об этом я и мечтала!
— Что особенного, ведь близко!
— Какой там Торрехон, на черта он сдался! Выбрось ты это из головы.
Себас запел.
— «Аделаиде — лет тридцать на вид, как плясать она выйдет — юбкой шевелит, юбкой шевелит, юбкой шевелит!..»
— И этот туда же!
— Всякому свое.
Себастьян встал и, вскинув руки, начал выделывать ногами смешные фигуры.
— «Аделаиде — лет тридцать на вид…»
— Ну, быть дождю!
— Ты же пыль поднимаешь, чучело!
Себас плюхнулся обратно на свое место и захохотал:
— Я — как молодой козлик, ей-богу!
— Хорошо, что ты хоть сам это понимаешь.
— На танцы в Торрехон! Кто поедет, поднимай руку!
— Бросьте его в воду. Вот пристал!
— Тише! Ну как, договорились?
— Тут не о чем договариваться. В Торрехон мы не поедем. Незачем. Прекрасно обойдемся и без этой поездки.
— «Аделаиде — лет тридцать на вид…»
— Хватит! Будет тебе, Себастьян, брось…
— Поехали бы в Торрехон и устроили бы там большой шум. Смогли бы…
— Если не перестанешь, я сейчас же смоюсь, так и знай.
— Да не беспокойся, Мели, не обращай внимания на этого баламута.
— И в самом деле… На него что-то нашло.
— Неужели ты не понимаешь, что ты всем надоел? — рассердилась Паулина на Себастьяна. — Не понимаешь? Или тебе нравится изводить людей?
— Да тут всех разморило. Надо же вас как-то взбодрить.
— Ну уж не таким способом. Так ты всех рассердишь и больше ничего.
— На меня уже тоску нагнал, — сказала Мели. — Дальше некуда.
— Тебе надо, чтоб все было только по-твоему.
— Вот уж нет. Я ничего ни от кого не хочу. Я только говорю, что в Торрехон не поеду. Каждый волен распоряжаться собой.
— О, большое спасибо за разъяснение.
— Ну и зловредный же ты парень.
— Значит, мы занимаемся тем, что ничего не делаем. Я предлагаю…
— Слушай, а где у нас вино? — перебил Фернандо. — Надо бы промочить горло.
— Сейчас мы это организуем.
— Ты что хотел сказать, Тито? — спросил Мигель.
— Нет, ничего.
И Тито снова растянулся на земле. Сантос, взяв бутылку, спросил:
— Кто хочет из горлышка?
— Давай мне.
Фернандо хлопнул в ладоши и жестом попросил бросить ему бутылку. Поймав, он прижал ее к груди и обхватил руками, словно вратарь, перехвативший мяч. Несколько капель попало на голую грудь.
— Каков голкипер, а?
— Не играй серьезными вещами.
Фернандо стал лить вино прямо в рот, солнце сверкало на стекле и на голой руке. Вино в горле забулькало.
— Эй! Завтра — понедельник! — напомнил Мигель.
Фернандо опустил бутылку и перевел дух:
— Феноменально! На.
— Выпьешь, Альберто? — спросил Мигель.
— Пей ты, раз бутылка у тебя в руках. Какая разница?
— Уж больно ты деликатен, дружище, — к чему это?
Луси молча сидела между Тито и Даниэлем; она сжалась в комочек — обхватила ноги руками, а подбородком уперлась в колени. И медленно покачивалась из стороны в сторону. Мигель выпил вина.
— Простите, пожалуйста, нет ли у вас спичек? — подошел к ним какой-то мужчина.
На нем была темно-синяя рубашка, в руке он держал сигарету.
— Найдутся.
Пока Мигель искал спички, мужчина разглядывал девушек, одну за другой.
— Какой нахальный дядька! — сказала Алисия, когда мужчина отошел. — Пялит глаза без всякого стеснения.
— А что он сделал?
— Да оглядел каждую из нас с головы до ног, наглец, ничуть не стесняясь.
— Вас не убыло, — сказал Фернандо.
— Но было противно, — возразила Мели.
— Да бросьте притворяться — вам нравится, и еще как нравится, когда на вас смотрят.
— Ты еще и издеваешься? Сказала бы я тебе… Прямо нас так и разносит… Надо же!..
— Ну-ну, не сердись, — пошутил я.
Мели в сердцах махнула рукой и стала смотреть на реку, вверх по течению, туда, где уже не было тени. На песчаной косе у моста появилось несколько мулов. Их пригнал на водопой невысокий человек в темной одежде, который стоял под ослепительным солнцем на берегу и смотрел, как скотина пьет. Мул, который напился первым, стал кататься по песку — видно, его одолевали слепни и мухи, он яростно терся спиной, дрыгая ногами в воздухе, — замазывал изъязвленные места грязью. Себастьян снова улегся. Теперь он и Паулина лежали в стороне, повернувшись спиной к остальным. Даниэль дернулся, когда Лусита прикоснулась к его руке мокрой бутылкой.
— Что такое?
— Ты испугался? А что ты подумал?
— Не знаю, подумал — змея, удав какой-нибудь…
Лусита засмеялась, показала ему бутылку:
— Ну, хочешь?
— Давай, что поделаешь. Как тебе весело!
Кармен сидела, прислонившись к стволу дерева, и Сантос положил голову ей на грудь. Она дышала ему на волосы, пальцами расчесывала пряди на висках:
— Тебе надо подстричься, милый.
Она подтянула прядь к его глазам, чтобы он увидел, какая она длинная.
— Я хочу прогуляться, — заявила Мели. — Ты пойдешь со мной, Фернандо?
— С большим удовольствием.
— Тогда пошли. Вы не хотите? — обернулась она к Алисии и Мигелю.
— Ты знаешь, очень жарко. Да и куда вы сейчас пойдете?
— Куда угодно. Тут я больше не могу. Сказать по правде, это ничегонеделание действует мне на нервы. А вы против?
— Ради бога, погуляй, если хочешь, — сказала Алисия. — Но возвращайтесь сюда же, ладно?
— Да, конечно, мы только прошвырнемся.
Фернандо и Мели поднялись.
— Пойдем как есть?
Амелия провела руками по телу, стряхивая пыль, и поправила купальник.
— Что ты говоришь? А-а, нет, я надену брюки и альпаргаты. А ты как хочешь. Али, передай, пожалуйста.
— Тогда и я оденусь. Солнце еще слишком горячее, чтобы разгуливать с голой спиной.
Лусита смотрела, как Мели надевает брюки поверх купальника. Послышался грохот — по мосту шел товарный поезд. Паулина глядела на вагоны цвета засохшей крови, которые ярко сверкали на солнце, один за другим скатываясь на высокую насыпь, пересекавшую равнину.
— Считаешь вагоны? — спросил Себастьян.
— Да нет. Смотрю вон туда, на гору.
Она указала вдаль: в знойном мареве виднелись белые и темные склоны горы Серро-дель-Висо возле Алькала-де-Энарес. Туда и бежал товарный поезд, миновав мост и исчезая в равнинном просторе. Еще доносились пыхтенье паровоза и перестук вагонов. Мели завязала альпаргаты. Алисия сказала ей:
— Постарайтесь вернуться до семи, чтобы наверх пойти всем вместе.
— Не беспокойся. Вы будете еще купаться?
— Нет, наверно. Как, Мигель?
— Трудное дело.
— Так лучше, потом ведь надо еще встретиться с остальными, и прочее. Ты блузку не надеваешь?
— Нет. Сойдет и верх купальника.
Из-за кустов ежевики появился Фернандо, уже одетый.
— Ну, я готов, — сказал он Мели, которая смотрелась в зеркальце.
— Готов? — переспросила она, поворачивая пудреницу, чтобы увидеть его отражение.
— Гляди-ка, чему ты научилась в кино!
— Чему?
— Разговаривать с человеком, глядя на него в зеркало. Должно быть, ты переняла это у Хеди Ламар[18].
— С чего ты взял? Почему это все, что бы я ни делала, должно быть перенято у кого-то? Я вовсе не нуждаюсь в том, чтобы копировать кого бы то ни было, запомни!
— Ну-ну, уже и обиделась, видали? — сказал Фернандо. — Не надо, Мели, я не хотел сказать ничего худого. Всем известно, что у тебя своего хватает и даже с избытком. Тут и спорить нечего.
Мели надела темные очки:
— Вот именно. Спасибо за разъяснение. Ну, пошли.
Фернандо улыбнулся и, подмигнув, галантным жестом предложил ей руку. Мели приняла ее, и так они прошли несколько шагов, продолжая разыгрывать представление. Потом Мели обернулась к Алисии и Мигелю и спросила, смеясь:
— Ну как?
Мигель тоже рассмеялся:
— Прекрасно, детка, у вас это здорово получается. Хоть сейчас в театр. Идите и не опаздывайте.
— Ну пока, — сказала Мели. — А теперь, красавчик, отпусти мою руку, и так жарко.
И они ушли. Даниэль посмотрел им вслед, увидел загоревшие плечи Мели, ее спину в глубоком вырезе купальника. Фернандо ненамного был выше ее. Мели сунула руки в карманы брюк. Они о чем-то разговаривали.
К Алисии и Мигелю подпола на четвереньках Сантос:
— Стащу-ка я у Мели из сумочки сигарету.
— Да брось ты эти штучки, — сказала Алисия, — она узнает, что рылись в ее сумочке, и взбеленится. Так что ты подумай.
— Не узнает. А тебе надо, Мигель?
— Гляди, какой герой! Он еще и других хочет в это дело впутать. Нет уж, благодарю, уволь меня от соучастия.
Сантос вытащил из сумочки сигарету и вернулся к Кармен.
Откуда-то донесся едкий запах дыма, будто по соседству жгли сухую листву и бурьян. Дыма не было видно, они только чувствовали запах.
— Ну кто тебя надоумил таскать у нее сигареты, — сказала Кармен, — раз ты знаешь, какая она! Если спохватится, увидишь, что тебе устроит!
— Да что ты, не спохватится. Не сосчитала же она сигареты.
— Ее на это станет.
— Ну это уж ты слишком. Записала ее в скупердяйки. Чтоб она сигареты пересчитывала! Плохо ты к ней относишься, если такое подумала. Постой, а может, ты и к ней меня приревновала?
Кармен взяла Сантоса за голову и стала трясти, тихонько бормоча ему то в одно, то в другое ухо:
— Вечно ты думаешь, что я тебя ко всем ревную. Ну кем ты себя воображаешь, глупенький?
Она чуть коснулась губами его виска и подула за ухо. С реки донесся протяжный свист. Мигель и Алисия встали и пересели поближе к Паулине и Себастьяну.
— Мы не помешаем, если сядем рядом с вами? Нас там достало солнце. Не возражаете?
— Ну что ты! Совсем наоборот. Благодарим за визит, — сказал Себастьян, приподняв на мгновение голову.
Они уселись. Даниэль, который оглядел все три парочки, обратился к Тито и Лусите.
— Ребята, мы приехали повеселиться, — сказал он. — День уходит, как вода меж пальцев, надо что-нибудь придумать. У нас нет другого выхода, дети мои, это ясно. Так доставайте бутылку, раз уж вы там сидите.
Альберто бросил на него недовольный взгляд, но бутылку передал.
— Ты прав, Даниэль, — сказала Лусита, — нам надо взбодриться.
— И что же за трио у нас получается? Не оказались бы мы тремя аутсайдерами чемпионата, переходящими автоматически в низшую лигу. Не знаю, чего другого ждать.
— Слушай, Тито, ты теперь не пищи. Если будешь занудой, мы тебя прогоним, верно, Луси?
Луси заглянула в глаза тому и другому и ответила:
— А я так думаю, что нам очень хорошо и втроем… Мы прекрасно поладим. — Она задержала взгляд на лице Тито, как бы ожидая, что он оживится, и добавила: — Тито, выше голову! Тито!
— Ну ты что это, парень, не слышишь, что тебе говорят? Второй раз повторять не станем.
— Да нет, ничего, старик. Ничего со мной не делается. Что вы так вскинулись? Я чувствую себя превосходно.
— Посмотрим, так ли это, — заявил Даниэль. — Тут нам нытики не нужны! — И обернулся к Лусите: — Давай, Лусита, выясним, что там у нас с вином. Это прежде всего.
Луси огляделась и ответила:
— Немножко в этой и еще две полных. — И она потрясла початой бутылкой, где оставалось вина только на донышке.
— Да мы богачи! — воскликнул Даниэль. — Миллионеры! С такими запасами можно далеко уйти. Довольно далеко. Давай.
— Что ж, посмотрим, — сказал Тито.
Даниэль взял бутылку и, вытащив пробку, предложил Лусите:
— Пей!
— Сначала ты.
— Нет, тебе открывать церемонию.
Лусита поднесла бутылку к губам, но Даниэль тронул ее за локоть:
— Эй, девочка, сосать не надо.
— А я по-другому не умею. Обольюсь…
Кончив, она пальцами стерла с горлышка губную помаду и передала бутылку Даниэлю:
— На, трусишка, я не чахоточная, пей.
— Вот тебе преимущество деревни: из курятника — на сковороду, — сказал Оканья.
— Это так, — согласилась его жена, — тут все проще.
— Еще бы. Нет посредников, которые все усложняют, повышают цену товара, а нам от этого — ничего, кроме убытка.
— Пока яйцо попадет в твои руки, — продолжала Петра, — две трети того, что в нем есть, по дороге уже испарилось.
— Хорошо, пусть так, — возразил деверь, улыбаясь, — пусть так, но ведь и мы, бедняги, те, кто живет куплей-продажей, — мы ведь тоже имеем право на существование, не так ли?
— В том-то и дело. Вы как раз и взвинчиваете цены. Это вы доводите до умопомрачения нас, несчастных женщин, кому назначено злой судьбой изо дня в день ходить на рынок. Вы!
— Ну оставь нам хоть закуток. Жить всем надо.
— Вам оставлено, и немало. С этим ничего не поделаешь. И только увидев вот это, понимаешь, чего вы нас лишаете.
— Ты права, голубушка, права, тут ничего не скажешь. Все так и есть. Я это признаю. Тут все прекрасно: кто станет спорить, что курица-несушка приносит хозяину немалый доход в зависимости от рыночных цен на яйца. Это — золотое дно.
— Ага, вот видишь? — вмешалась его жена. — Так что бы тебе вместо канареек не держать у нас в доме десяток кур?
Ее каталанский акцент стал еще заметнее.
— В доме? На шкафу, что ли? Да понимаешь ли ты, какого труда и каких денег стоит содержать кур и добиться, чтобы они хорошо неслись?
— Ну, если уж на то пошло, ты и на клетки тратишь силы и средства… А что нам приносят эти милые птички? Какой прок от канареек?
— Они поют.
Петра оделяла детей пирожными, по очереди, начиная с младшей. Девочка взяла свое и теперь смотрела, какие достанутся братьям.
— Ну что? — спросил Хуанито. — Поменяемся?
— Не хочу, — тряхнула волосами Петрита и отошла со своим пирожным, прикрывая его рукой. Потом еще долго стояла, прежде чем приняться за лакомство.
— Я люблю, когда в доме животные, — сказал Фелипе. — Какие угодно. С ними как-то веселей, к ним привязываешься, они к тебе тоже.
— Так-то оно так, — заметила Петра, — только нам при этой четверке о другой живности думать не приходится. По-моему, веселья нам с ними так хватает, что можем поделиться с кем хочешь. Для нас это было бы совсем неплохо, а?
— Да нет, это еще ничего не значит. У меня подруга замужем в Барселоне, у нее трое детей, но она все равно очень любит кошек и держит пять штук.
— Какой ужас! Пять штук!
— Ну, это кто как смотрит. Вот если б ты их держала, это было бы плохо, потому что ты их не любишь.
— А что в них хорошего? — сказала Петра. — Пресвятая дева, какая от них вонь! Не управишься за ними убирать: эти твари гадят скорей, чем ты успеваешь подчищать, так и ходи с утра до вечера с метлой и совком. Нет уж, спасибо! Животных мне не надо! Ни кошек, ни собак, ни кого другого. На кой ляд?
Невестка Оканьи расхохоталась:
— Петра, прости меня, не сердись, но я просто не могу! Ты так смешно говоришь! — Она похлопала Петру по руке, закатываясь смехом. — Ты такая интересная, такая чудачка!
Петра сначала глядела на нее недоверчиво, потом тоже засмеялась, и теперь обе изнемогали от смеха, глядя одна на другую, и никак не могли остановиться.
— Ну что за дурочки, — сказал муж каталонки, — кошмар!
Больше за столом никто не смеялся, все уставились на них.
— Отчего они смеются, папа? — возбужденно спросила Петрита, дергая отца за рукав. — Ну скажи, отчего?
— Да просто так, деточка, просто так, — непринужденно ответил тот. — С мамой это бывает…
— О, господи… надо же!.. — стонала Петра, задыхаясь от смеха. — Ой, умираю!..
— Это хорошо, что у вас веселое настроение. На здоровье!
— Ну она бесподобна, правда? — восклицала невестка. — Бесподобна!
Наконец смех утих. Дети смотрели на взрослых, не зная, что сказать.
Фелипе обратился к брату:
— Серхио, как ты насчет сигары, а? Запалим?
— Ну давай, — ответил тот, поправляя засученные рукава, словно собирался взяться за тяжелую работу.
Серхио стряхнул с колен крошки. Фелипе протянул ему сигару «Фариас»:
— Держи. Они — что надо, сам увидишь.
Фелипе Оканья сунул сигару в рот и похлопал по карманам брюк и пиджака, висевшего на спинке стула, отыскивая спички.
— Огонь — за мой счет, — сказал его брат.
— Папа, тебе очень нравится курить эту сигару? — спросила Петрита.
— Да, доченька, как тебе пирожное, которое ты только что съела.
— А тебе, дядя, тоже нравится?
Серхио в это время раскуривал сигару, за него ответила жена:
— Понимаешь, твоему дяде всегда нравится то, что ему вреднее всего.
Серхио поднял на нее глаза, оторвавшись от сигары, потом глубоко вздохнул, а Петрита провожала взглядом брошенную спичку, дымной кометой опустившуюся на землю.
— А как твой гастритик? — спросил Фелипе.
— Как ему и положено.
— От добра никогда худо не будет, Нинета, ты не беспокойся. Ничего твоему мужу не сделается, если он сегодня кое-что себе позволит. От хорошего ни с кем еще беда не приключалась. В жизни не слыхал, чтоб от этого кто-нибудь умер.
— Не совсем это так, Фелипе. Бывает еда здоровая, а бывает и тяжелая. Серхио вечно мучается желудком. Ну ладно, я его оставлю в покое, пусть сам думает, не маленький…
Хуанито встал со стула.
— Э, ты куда это? — раздался голос Петры.
Мальчик снова сел, не сказав ни слова. Амадео спросил:
— Мама, можно мы пойдем к кролику?
— Вы поели? Покажите-ка ваши мордашки…
Все трое под взглядом матери смотрели паиньками.
— Можно. Но глядите, оттуда — ни на шаг. Чтоб я вас видела, ясно? И ведите себя как полагается. Можете идти.
Все трое разом вскочили и помчались к курятнику.
— А ты, Фелисита, не хочешь пойти с ними?
Фелиса покраснела.
— Мне неинтересно, — сказала она сдержанно.
Раздался рев Петриты, которая шлепнулась посреди сада. Она плакала, уткнувшись лицом в землю, и не вставала. Серхио поднялся было, чтобы ей помочь, но Петра остановила его:
— Оставь ее, Серхио. Не надо. Ну-ка, дочка, вставай сейчас же, не то я сама тебя подниму!
Петрита заревела еще громче.
— Ну, я вижу, ты соскучилась по пруту! Я тебе что сказала?
— А вдруг ей в самом деле больно? — предположил Серхио.
— Ну да! Я ее как себя знаю. Впрочем, плоть от плоти моей, как тебе известно. Она хитрее хитрого, вот что.
Петрита поднялась и продолжала плакать, стоя у стены под навесом. Амадео подошел к ней и потянул за руку, но девочка уперлась, намереваясь и дальше лить слезы под сенью виноградных лоз.
— Ты что, сестренка, не хочешь посмотреть на крольчиху? — спросил Амадео. — Смотрите, какая плакса…
Фелисита сидела рядом с матерью, скрестив руки на груди и глядя в землю невидящим взором, загадочная, отсутствующая, воплощение полной отрешенности. Фелипе затянулся сигарой:
— Ну как?
Брат одобрительно кивнул, выпуская дым. Нинета смотрела на мужа, который созерцал пепел на кончике сигары; он сидел, закинув руку за спинку стула, и в рассеянности перебирал пальцами листья жимолости. Петра вздохнула: «О, господи!» Ее пышная грудь поднялась и опустилась. Она посмотрела на детей. Петрита, успокоившись, присоединилась к братьям. Все трое снова прилипли к металлической сетке, повернувшись спиной ко всему свету. Великая Белая Крольчиха откусывала острыми резцами кусочки салата и поднимала мордочку, глядя на детей и вовсю шевеля носом, усами и пушистыми щеками. Хуанито сказал:
— Она все съест сама, никому не даст. Попробуй, сунься к ней какая-нибудь курица! Она ее как хватит за гребень, сразу кровь потечет.
— Неправда! Она этого не сделает! — возразила Петрита.
Фелипе Оканья меж тем предложил:
— Пора, наверно, попросить по рюмочке чего-нибудь и по чашечке кофе, раз уж сидим с сигарами. Чтоб все удовольствия сразу.
— А твой друг уже кончил обедать?
Фелипе посмотрел на окно кухни. Маурисио и Хусти не было видно, там оставалась только хозяйка дома, которая ела стоя, в левой руке она держала миску с супом, а правой поправляла волосы на лбу, не выпуская ложки.
— В кухне его не видать.
Фаустина заметила, что они смотрят, и показалась в окне.
— Вы ищете моего мужа? — громко спросила она. — Сейчас я его позову.
— Ради бога, не беспокойтесь. Мы подождем, пока он освободится.
Но хозяйка уже исчезла в коридоре.
— К счастью, у меня с собой еще одна сигара, которую я смогу ему предложить. Я знаю, они ему нравятся.
— А у меня тут отложено три пирожных, — сказала Петра. — Надо же хоть как-то соблюсти приличия, без этого нельзя.
Вскоре из двери вышел Маурисио:
— Хорошо пообедали?
— Большое спасибо, Маурисио, — ответила Петра. — Как могло быть иначе в таком великолепном месте, в этой роскошной тени, которую вы тут устроили?
— Аппетит вы скорей всего нагуляли на купанье. Вот отчего так хорошо!
— Ну что вы, здесь так чудесно. Маурисио, мы тут оставили вам всем по пирожному. Вот, возьмите, пожалуйста. — И протянула ему картонную коробку.
— Зря вы так беспокоитесь. Отдайте детям, они от сладостей получают удовольствие куда больше, чем мы…
— Нет уж, будьте любезны взять, дети тут ни при чем; если они едят больше, чем по одному, у них и животы разболеваются и всякие неприятности начинаются, и не хочу больше об этом говорить. А главное — мне хочется угостить вас, хотя бы вот таким пустяком, берите, и все тут. Не возьмете — придется везти обратно в Мадрид, лучше оставьте ваши церемонии.
— Ну ладно, чтобы вас не обидеть…
Он взял картонную коробку, которую Петра протягивала ему через столик, — в ней лежали три подтаявших пирожных, — и подошел к окну кухни, чтобы отдать коробку Фаустине. Та высунулась из окна и крикнула:
— Большое спасибо!
Петра в ответ улыбнулась и помахала ей рукой. Маурисио, жуя пирожное, вернулся к столику.
— Вкусные пирожные, — одобрительно заметил он. — У нас тут нет ничего похожего. Здесь даже не знают и представления не имеют, что это такое. Выпекают только обыкновенный хлеб и булочки, которые комом ложатся вот тут. — И он указал на желудок. — А из кондитерских изделий — ничего, про них и не слыхали.
— О, с этим я не согласна, — сказала Петра. — В деревне тоже бывают свои местные лакомства. В каждой местности — особые, такие, каких в других местах нет, я точно знаю. Ну вот хотя бы асторгское сливочное мороженое, толедский марципан, торты в Алькасаре-де-Сан-Хуан… — Она считала по пальцам и смотрела на Маурисио так, будто все эти яства из разных провинций Испании находились в его распоряжении. — Сорийский крем, кадисская халва и многое, многое другое, всего не сосчитать.
— Да я это знаю, но здесь-то у нас бывает только разве что засахаренный миндаль из Алькала-де-Энареса.
— Ну конечно, еще бы! Миндаль! Разве он не знаменит? Вот что у вас есть: миндаль из Алькала. Это уж ваше местное на все сто процентов.
— И гуадалахарское ромовое печенье, — добавил Фелипе.
— Ну, это далеко отсюда, — возразил Маурисио. — Его выпекают в Алькаррие. — И сделал рукой такой жест, словно отделял Алькаррию от себя.
— А наши края славятся свиной колбасой и сардельками, — сказала невестка наполовину по-каталански.
— Это верно, Нинета, — подтвердил ее муж. — Только, ради бога, говори по-кастильски, как положено. Мы же в Кастилии, верно?
— Ой, прости, муженек, прости. Я нечаянно, вырвалось.
Фелипе смеялся, вдыхая ароматный сигарный дым. Он вытащил третью сигару:
— Держи, Маурисио. Эту я привез специально для тебя.
— Вот это я возьму без всяких разговоров, вы уж меня извините, — сказал Маурисио, склонив голову набок. — Очень уж я люблю эти сигары. Спасибо, друг.
— Не за что. Слушай, ты можешь подать нам кофе и по рюмочке?
Маурисио оторвал взгляд от сигары, которую он разминал:
— Понимаешь, кофе не самый лучший, сам увидишь. Тут я ничего сделать не могу.
— Да какая разница. Не беспокойся. Мы не аристократы. Был бы черный.
— Это я тебе обещаю. Просто не хотел, чтоб ты разочаровался.
— Неси, неси. Наверняка будет не хуже, чем во многих мадридских кафе, где тебе скажут, что подают «особый», и сдерут три песеты, а подсунут ячменный отвар.
— Хорошо. А что будете пить?
Фелипе обернулся к своему семейству, вопросительно поднял брови.
— Мне коньяк, — сказала Нинета.
— То же самое, — сказал ее муж.
— А мне — сладкой анисовой.
— Значит, три коньяка и одну анисовую, — подвел итог Фелипе.
— Понятно. И четыре кофе. Сейчас принесу.
Маурисио ушел. У двери он столкнулся с Хустиной, за которой следовали Кармело, Чамарис и оба мясника. Прижался к стене, пропуская их.
— Мы сыграем в «лягушку» с твоей дочерью! — громогласно заявил мясник Клаудио. — Ты разрешишь?
Маурисио пожал плечами:
— Мне-то что.
Войдя в зал, он сказал, обращаясь к Лусио:
— Вроде собрались в бабки играть. Есть мне когда смотреть…
Хусти задержалась у двери в кухню:
— Пойду возьму шайбы.
Шайбы лежали в ящике кухонного стола из сосновых досок, между ножами, вилками и открывалками.
— Кармело останется вне игры, — сказал Чамарис и повернулся к столику, где сидело семейство Оканьи: — Добрый день, приятного аппетита.
— Спасибо, а нам — удачи.
— Мне все равно — что играть, что смотреть, — сказал Кармело.
Пришла Хустина.
— Ну, посмотрим, кто начнет?!
— Ты, конечно, — ответил Клаудио. — А то как же! Девушкам всегда дорога открыта.
— Ишь какой хороший! — возразила она. — Вот как нам дорогу открывает.
— Да нет же, если хотите, мы начнем, что тут такого?
Хустина отдала ему шайбы. Чамарис отсчитал пять шагов от ящика с лягушкой и провел в пыли черту носком ботинка. Клаудио стал возле черты, наклонился вперед и собрался было уже кидать, но передумал и сказал:
— Подождите, я отведу эти велосипеды в сторону, а то мешают мне целиться.
— Рассказывай!
Кармело помог отвести велосипеды. Чамарис сказал Хустине:
— Послушай, я буду бросать первый, ведь я играю хуже. А ты — напоследок, в нашей команде ты самая сильная, и сделаешь как надо, чтоб нам их обыграть, идет? — И подмигнул ей.
— Конечно, — ответила Хустина.
— Ну, вы уже сговорились?
— Еще бы!
Кармело и Клаудио переставили велосипеды.
— Ну, команда «Грудинка и Филе» выходит на поле.
Клаудио, стоя у черты, отвел левую ногу назад, а корпус сильно наклонил вперед. Несколько раз он качнул в руке шайбу, описывая дугу снизу вверх от колена до головы и тщательно целясь. Наконец бросил, первая шайба отскочила от губы лягушки и упала в пыль. Остальные девять падали на металл или на дерево, принося очки. Седьмая попала на лягушку, девятая — на мельницу. Еще две упали на землю.
— Плохое начало, — сказал второй мясник.
— Так это ж начало, — ответил тот. — Надо войти в игру. Я еще не размялся.
Чамарис подсчитал очки и собрал шайбы.
— Три тысячи четыреста пятьдесят. Теперь играю я.
— Посмотрим, как пойдет, — подбодрила его Хустина.
— В твою честь, — ответил тот, поднимая руку.
Чамарис вытянул руку почти прямо перед собой, держа шайбу на уровне правого глаза, и, целясь, прищурил левый. Затем медленно опустил руку, поднес к низу живота и резко выбросил шайбу. Первой шайбой он попал в лягушку и обернулся к Хусти:
— Первая — чтобы сократить разрыв.
Опуская руку во второй раз, он не спеша произнес:
— А эта… чтобы сравнять счет.
Но больше ничего путного выбить не смог: остальные девять шайб не принесли ему ни позора, ни славы.
— Нечего было болтать после удачного броска, — упрекнула его Хустина.
Второй мясник доставил ей много радости: он бросал шайбы весело и непринужденно, одна отскочила и ударилась о звонок велосипеда. Бросал он неровно и часто переступал черту, но все-таки дважды выбил лягушку. Каждый раз он сам себе кричал: «Оле!» Так что Хустине сразу же досталась нелегкая задача. Но Кармело сказал:
— Сейчас вы увидите, как надо играть, — а сам смотрел Хустине в вырез платья, когда она нагибалась.
Хусти поцеловала первую шайбу, устремив взор на лягушку. Затем отвела руку к поясу, высунула язык, выбросила руку вперед и вверх, и шайба полетела. Так повторялось каждый раз, и каждый раз она удерживалась у черты, стоя на одной правой ноге, будто вот-вот потеряет равновесие. Хусти выбила две лягушки, но с соперниками они не сравнялись, у тех получалось на две тысячи очков больше. В следующий кон Клаудио увеличил разрыв, выбив четыре лягушки, а Чамарис свой результат улучшить не смог. Но и другой мясник оказался не сильнее: едва-едва попал в две мельницы.
— Посмотрим, поправишь ли ты наши дела, Хустина, — сказал Чамарис, когда настала ее очередь.
Хусти выбила три лягушки и с досады махнула рукой — последняя шайба отскочила на землю от самых губ лягушки.
— Какая неудача! — воскликнула она.
Клаудио удачно бросил и в третий раз, но Чамарис также подтянулся, попал в две лягушки и две мельницы.
— Мы еще им покажем! — сказал он, попав второй раз в лягушку.
Низенький мясник бросал немного лучше, чем раньше, но счет существенно не изменился.
— Вот выходит дядя Теодоро и всем дает фору, — сказал Кармело, когда в третий раз настала очередь Хустины.
Подошли дети Оканьи и стали смотреть на игру.
— Выше голову, Хусти, — сказал Чамарис. — Все в твоих руках!
Девушка огляделась, поерзала ногой по пыли, стараясь поставить ее покрепче, и, улыбаясь, наклонилась в сторону лягушки. Первая шайба пролетела мимо, но вторая и третья зацепились за бронзовую пасть. Чамарис сжал кулаки.
— Давай, красавица! — шептал он.
Четвертая шайба покатилась по земле. «Промазала!» Не попали в цель и следующие две. Чамарис качал головой. Асуфре, глядя на своего хозяина, навострил уши. Затем — одна за другой четыре лягушки: шайбы, едва коснувшись бронзовых губ, упали на дно деревянною ящика.
— Добрый ве-ечер, — сказал гость, растягивая букву «е». На руке у него висела круглая корзиночка. — Могу я видеть хозяйка? — И он вежливо улыбнулся Маурисио.
Сняв изрядно потертую мягкую соломенную шляпу, он явил присутствующим редкий седой пушок, легкой дымкой поднимавшийся над розовой лысиной. Содержимое корзиночки было прикрыто салфеткой.
— Пожалуйста, проходите, Эснайдер. Она, должно быть, на кухне. Дорогу вы знаете.
Тот слегка поклонился и направился к двери, ведущей в коридор. Лусио наклонил голову к корзиночке, когда старик проходил мимо, и сделал вид, что принюхивается:
— Ого, там у вас что-то очень вкусное!
Старый Шнейдер задержался у двери и, приподняв руку, на локте которой висела корзиночка, объявил:
— Здесь лучший фрукт, который я вырастил на мой огород. Этот подарок я несет для сеньора Фаустита. В Катехизисе написано: «Отдай десятину и первые плоды Церкви божьей». Сеньора Фаустита был добра к моя жена и ко мне, я чту ее как Церковь, вот и несу ей плоды.
Ухмыльнувшись, он скрылся в коридоре.
— Разрешите войти? — спросил он у двери на кухню, снова вежливо улыбнувшись.
— Конечно, входите, Эснайдер, — сказала Фаустина, стоя возле мойки.
Шнейдер вошел и церемонно поклонился хозяйке. Прижал шляпу к груди, держа ее двумя пальцами, затем поставил корзиночку на стол, покрытый клеенкой. Фаустина вытирала руки. Из сада доносился стук шайб о бронзу и дерево.
— Ну, что еще вы сегодня принесли? Какая новая блажь пришла вам в голову? Клянусь, вы меня в стыд вгоняете этим вашим вниманием!
Шнейдер посмеивался.
— Это инжир, — сказал он, чрезвычайно довольный собой. — Попробуйте инжир старого Шнейдера.
— И не подумаю! — отрезала Фаустина. — Напрасно вы беспокоились. Уж на этот раз ни за что ничего не возьму. Сердитесь, не сердитесь. Так что будьте добры, забирайте вашу корзиночку. Скоро все, что у вас есть в доме, подарите нам! Так и будете без конца тащить сюда, что бы ни выросло у вас в саду?
— Вы, пожалуйста, попробуйте инжир Шнейдера. Моя жена приготовил эта корзинка специально вам.
— Ничего не выйдет, уверяю вас.
Шнейдер снова засмеялся:
— Она меня будет колотить, если я прихожу домой с инжиром. Это ужасно сердитая женщина. И я буду обижаться, если вы не пробуете инжир из моего сада.
Фаустина схватила корзинку и хотела снова надеть ее Шнейдеру на руку.
— Сделайте одолжение, Эснайдер, заберите это отсюда. Вы меня ставите в неловкое положение.
Шнейдер по-прежнему только посмеивался. Взял корзинку, но вместо того, чтобы повесить ее снова на руку, снял салфетку и показал подобранные одна к одной инжирины, уложенные ровными концентрическими кругами. Взял двумя пальцами ту, что лежала в центре, и галантным движением предложил Фаустине:
— Вы только попробовать, Фаустита, это очень сочный инжир, который я имею честь вам предлагать.
Он расшаркался и помахал ягодой, как бы в подтверждение своих слов.
— Не поможет ни «Фаустита» и ничто другое тоже не поможет, — отвечала она. — Не надо ничего приносить. Что теперь с вами поделаешь, придется на этот раз взять, чтоб вас не обидеть, но имейте в виду, больше не приму никаких подарков. Договорились?
— Вы сначала пробовать этот инжир и скажите, какой он.
— Не надо мне пробовать, я и так знаю, что это очень вкусно. Заранее могу сказать — настоящий нектар, как и все, что вы выращиваете в вашем саду. — И принялась чистить инжир. Потом сказала: — А кроме того, достаточно взглянуть на плод, на его кожицу. Никак не возьму в толк, на что вам тратить столько сил, выращивая такие великолепные деревья, ухаживая за ними, если потом вы раздариваете все, что они вам приносят.
— Чтобы иметь хороших друзей, добрых людей, как сеньор Маурисио и сеньора Фаустита. Это намного дороже, чем фрукт, дерево, сад и все остальное. — И снова засмеялся.
Фаустина сунула ягоду в рот, а он вопросительно смотрел на нее, ожидая, что она скажет.
— Гляди, какой любезный этот сеньор, — сказал Лусио, кивая в сторону коридора.
— И не говори. Вбил себе в голову, что он нам чем-то обязан после тяжбы за дом, и теперь дважды в неделю является с подарками.
— Надо же, какой человек!
— Таков уж он есть. Что бы там ни говорили! Так, должно быть, его воспитали на родине. Кто его знает. Коли ты оказал им пустячную услугу, считают себя век обязанными. Люди что надо — и он и его жена. Да еще после той беды, которая случилась с их единственной дочерью, они ведь могли на веки веков возненавидеть всех испанцев.
— Я что-то слыхал. А что, в самом деле, было?
— Преступление, о котором и говорить-то невозможно. Какой-то бессовестный человек, мадридец, сманил ее, соблазнил, заставил сделать аборт, от которого она и умерла. Даже слов нет. Главное, это была их единственная дочь.
— Представляю себе.
— Все равно как если бы такое сделали с моей Хусти, сохрани господь. Это может понять только тот, у кого одна-единственная дочь, вот как у меня или у него. Ты понимаешь меня? Вот почему я вхожу в его положение, вот почему представляю себе, что пережил этот несчастный немец. И сколько надо силы духа, чтобы вынести все это, как выносят они.
Лусио кивнул, глядя в пол. Оба помолчали. Потом Маурисио снова заговорил:
— А уж сад у него — ничего не скажешь, настоящее чудо. Видно, этот дядя соображает в прививках и прочих делах. Да ты и сам, наверно, видел. В это время года на его сад стоит посмотреть. Деревья все до одного ухоженные, обмазанные клеем, чтоб муравьи до плодов не добрались, каково, а?
— Да и встает он раньше всех. Как бы рано ты ни шел, он уже в саду возле деревьев. При таком уходе немудрено, что все у него в наилучшем виде. Кто о деревьях заботится, того они отблагодарят с лихвой. Должно быть, такой уж это народ, эти немцы, работать любят. А ведь ему уже лет шестьдесят пять, если не семьдесят.
— Ну да, немцы, они совсем вроде нас!..
— Конечно, только с другого конца. Во многом с них надо пример брать, тут особенно и сравнивать нечего, Ну хотя бы то, о чем ты говоришь, — о благодарности.
— Это что, у них просто обычаи другие, их воспитывали совсем не так, как нас. А какое постоянство во всем. Мы сделаем что угодно, пока в настроении. День прошел — глядишь, уже надоело.
— Верно, нет у нас такого упорства и настойчивости. Есть много других хороших качеств, ты сам знаешь, но так, чтобы изо дня в день тук-тук, тук-тук, пока не добьешь до конца, — этого нет, ничего похожего. У нас все по-другому: тяп-ляп — и готово.
— Ну вот, какие они в работе, такие и в дружбе. Все точно так же. Видишь, нам даже смешно, что этот человек ходит сюда с подарками да гостинцами чуть не каждый божий день. И только потому, что мы на процессе дали показания в его пользу, а это, кстати, было единственно правильным, и мы тут не погрешили ни против одной стороны, ни против другой. Ты представь себе: у них хотели дом отобрать. А ведь люди могли подумать, что он нас подкупил или еще что-нибудь.
— Дело-то, видать, в том, что человек этот считал, — и вполне понятно, — будто в чужой стране каждый встанет против него на защиту своего земляка. А когда увидел, что это не так, что нашлись люди, которые взяли его сторону, тут он проникся к вам благодарностью, ничего удивительного.
— Но ты не думай, что до того мы с ним дружили. Ну, я знал его, встретишь тут, встретишь там, сколько лет уж они живут в Сан-Фернандо. Поздороваешься утром — и вся дружба. Ближе знакомы не были. Так что, когда я выступил в его пользу, я сделал это не по дружбе, а единственно справедливости ради.
Лусио внимательно посмотрел на хозяина кафе:
— Но ты уже знал про его дочь к тому времени, когда начался процесс? Наверняка тебе уже рассказали.
— Что? Ну да, то было лет восемь назад. А почему ты об этом вспомнил?
— Да просто. Может, поэтому ты так решительно и стал на сторону Эснайдера, сам того не сознавая. Вспомни, о чем ты только что мне рассказывал.
Маурисио поджал нижнюю губу. Подумав, сказал:
— Ах, вот что ты думаешь! Нет, тогда я об этом и не вспомнил. — Потом бросил взгляд на дверь и добавил: — Но, пожалуй, не буду утверждать ни то, ни другое. Поди узнай теперь. Кто может сказать, почему он делает так или эдак?
Лусио не спеша заговорил:
— Я никогда не думал, что люди могут помогать другим только из чувства справедливости. В конце-то концов есть одна-единственная справедливость — та, что у нас внутри. — И он постучал себя пальцем по груди. — И обрати внимание: даже те, кто поступает беспристрастно, даже они, хоть в это и трудно поверить, следуют какой-нибудь скрытой причине, какой угодно, когда поступают так, а не иначе.
Маурисио посмотрел на него и ответил:
— Не спорю, потому что знать этого мы не можем — ни ты, ни я, никто другой.
— Стало быть, я прав.
Они шли берегом вниз по реке, обходя расположившихся под кустами людей.
— Не знаю, что это с ними сегодня, — сказала Мели. — Одно занудство…
Фернандо поддал мяч, подкатившийся ему под ноги. Мяч попал в дерево. Какой-то мальчишка закричал: «Ой-ой! Осторожней, вы его продырявите!»
— Я — в форме, — сказал Фернандо, оборачиваясь к Мели. — Что ты сказала?
— Ничего.
Мели шла, сунув руки в карманы брюк. Она разглядывала группы купающихся.
— Куда те подевались?
— Кто?
— Самуэль и прочие.
— Да увидишь ты их, подожди. Придут в кафе. Что тебе так не терпится?
— Вовсе нет.
— Тогда в чем дело?
Они вышли из рощи. По узкому дощатому мостику перебрались через непроточный рукав. Вода в нем была мутная, неподвижная. Рукав этот сходил на нет немного выше по течению, это все, что оставалось от потока, который зимой отделял остров от берега. Теперь рукав пересох почти на всем протяжении, и остров соединился с сушей везде, кроме этого участка, где образовался мыс, связанный с берегом деревянным мостиком.
— Он не очень надежный, — сказала Мели, глядя в темную, зеленоватую воду.
На берегу росли густые кусты, сплетение грязных прутьев, на которых висели клочья засохшей тины, водорослей. Тут и там проступали мох и плесень. Молодые люди ускорили шаг.
— Как тут противно…
Вдруг навстречу им хлынул поток музыки и веселого гама. В тени огромного дерева они увидели столики, покрытые скатертями в красно-белую клетку. Не было ни одного свободного места, слышался звон стаканов и бутылок, и все покрывал рев работавшего на полную мощность радиоприемника. Площадка представляла собой прямоугольник, огороженный с одной стороны дамбой водоспуска, а с другой — холмом, третью и четвертую его стороны составляли закусочные, расположенные буквой «Г», — белые стены, навесы, обвитые виноградными лозами, и вывески, написанные краской цвета индиго. Повсюду цветущая герань. Зеленый купол большого дерева защищал от солнца всю площадку. За дамбой виднелись лопасти водоспуска, под ним рыжая вода крутилась глубокими воронками, разбиваясь о бетонный цоколь, отводивший ее к узкому желобу, откуда вода с ревом вырывалась на свободу. Они прошли вдоль дамбы, лавируя между столиками, кое-кто провожал Мели глазами. У конца дамбы Мели остановилась и оглядела тех, кто еще загорал на бетонных плитах плотины.
— Никого не видно? — спросил Фернандо.
Мели промолчала, отвела взгляд от плотины, и они пошли дальше. Освобожденная вода снова широко разлилась, извиваясь среди красных островков с редкими клочками зелени. Пошли вдоль оросительного канала, начинавшегося от водохранилища и уходившего вправо, оставили позади грохот водоспуска, шум голосов и музыку. Тут берег был низкий, вровень с водой по обе стороны канала.
— Как красиво! — сказала Мели. — Тут совсем неплохо.
Справа, вдоль канала, ряд черных тополей уходил в глубь полей. Людей здесь было меньше, компании мальчишек бросали в воду камешки и ловили неизвестно что. Вдали виднелись высокие вязы, окружавшие сады, повыше справа — глинобитные стены и дома Сан-Фернандо. Из-за лужайки теперь отчетливо доносилась мелодия «Сибонея». Мели принялась пританцовывать посреди поля, напевая:
— …и-и-и под пальмами то-о-скую и мечтаю о тебе…
— С ума сошла!
Она взглянула на Фернандо:
— Чудак, ноги сами танцуют.
— Сумасшедшая, — повторил он.
Мели смеялась. Они посмотрели в ту сторону, откуда доносилась музыка. Там в центре эспланады, в каких-нибудь ста метрах от реки, стояла еще одна закусочная. На вывеске огромными буквами было выведено: «Большая закусочная Нью-Йорк». Черные буквы немного подтекли. Сама закусочная скорее походила на домик рыбака или садовода. За столиками на открытом воздухе народу было немного. Мели снова принялась танцевать:
— Си-и-и-боней, тебя люблю я, умираю от любви…
На сияющей белизне стены резко выделялись над небольшим окошком с ветхими наличниками следы копоти. Длинные тени черных тополей нацелились на восток, но солнце еще бешено крутилось в вышине, выплескивая жгучий огонь на белесо-грязные пустоши, на покатые склоны холмов. Кто-то на мгновение подставил под солнечные лучи новое оцинкованное ведро и струю воды, разлившуюся по пыльной земле. Оранжевым блеснул поднятый и тут же опорожненный стакан. Солнце еще горело на чьих-то спинах, вспыхивало на серьгах — словно всей этой игрой управлял какой-то волшебник. Волны солнечного света глухо били в землю, лучи роились, устало трепетали, сливаясь в прозрачное марево, обволакивавшее и делавшее неразличимым и чистое, и грязное, и новое, и старое. За желтоватой глинобитной стеной они увидели семь кипарисов.
— Должно быть, кладбище.
Кладбище находилось сразу за крестьянским домом у старой дороги, спускавшейся от деревни к броду перпендикулярно Хараме.
— Интересно, — сказала Мели, — везде кладбище стараются устроить повыше, а здесь наоборот: повыше стоит деревня, а кладбище — у реки.
— Да они просто чудаки, вот что. Если не примут меры, то как-нибудь, когда паводок будет большой, все их покойники поплывут вниз по реке.
— Вот и правильно: пусть лучше река унесет мертвых, а не живых.
— Это тоже верно. Так они, должно быть, и рассчитали. Жизнь есть жизнь. А еще говорят, что деревенские не очень-то сообразительные.
Сквозь решетчатую калитку видны были железные кресты, почти все они покривились. Вокруг буйно рос бурьян, скрадывая дорожки между рядами могил. В глубине кладбища — соты ниш и тусклое сияние белого мрамора, казавшегося неуместным здесь, среди ржавого железа и кирпичей, колючек и запустенья. На белых плитах, в аккуратных квадратиках ниш надписи, выцветшие ленты, фотографии, высокие стеклянные вазы с засохшими цветами. Музыка доносилась и сюда, а с реки — крики мальчишек. Звуки внезапно останавливались и замертво, глухо падали, как снег, на кресты и на землю царства мертвых. По дороге прошел крестьянин с осликом, нагруженным зелеными стеблями кукурузы, листья терлись друг о друга и шуршали в такт мелким шажкам ослика. Погонщик, одетый в темное, шел быстро, он покосился на плечи Мели, отвернулся и зачмокал, погоняя ослика.
— «Как одиноко мертвым!..» — продекламировал Фернандо шутливо-патетическим тоном.
— Мы впадаем в лирику, — засмеялась Мели, отрываясь от железной решетки. — Веселей места не нашли.
Оросительный канал пересекал дорогу под старым кирпичным мостом, и по другую сторону от него отходило несколько канавок. Двое мальчишек и девчонка разбивали что-то на перилах моста. Они уставились на Мели, потом убежали вприпрыжку к дому и оттуда, дразня, прокричали что-то непонятное.
— Им в диковину, что девушка носит брюки.
— Скоро привыкнут, когда в Торрехон приедут работать янки, — сказал Фернандо.
Они медленно пошли обратно.
— Какие янки?
— Которых привезут строить аэродром. Вон там будет аэродром. — И он указал место. — Ты не знала?
— Конечно, нет. Мне до политики… Читаю только афиши кинотеатров.
— Ну, надо все же быть в курсе событий.
— В курсе событий? Вот еще! Для чего?
Музыка смолкла. Высокий чистый голос разнесся по полю, объявляя следующую песню и три-четыре имени тех, кому эта пластинка посвящалась, будто эти люди притаились где-то здесь, у реки, спрятавшись в кустах или затерявшись на равнине.
— Интересно, сможешь ли ты когда-нибудь заказать для меня на радио песню, — сказала Мели.
— Как только у меня окажутся лишних шесть дуро, обещаю тебе.
Снова зазвучала музыка, затем вступил голос, певший протяжную песню.
— Значит, не раньше, чем на будущий год…
Их кто-то окликнул. Они обернулись.
— Вы — меня? — спросил Фернандо, ткнув себя пальцем в грудь.
Два жандарма гражданской гвардии направлялись к ним, они вышли из-за кладбища. Тот, что повыше, кивнул и развел руками, словно говоря: «А кого же еще!» Фернандо пошел им навстречу. Мели стояла и смотрела ему вслед. Но высокий жандарм поманил ее пальцем:
— И вы, сеньорита, будьте добры.
— Я? — спросила она изумленно, но с места не двинулась.
Жандармы и Фернандо подошли к ней. Фернандо спросил самым вежливым тоном:
— Что случилось?
Но жандарм обратился к Мели:
— Вы разве не знаете, что здесь в таком виде ходить нельзя?
— В каком?
— В таком, в каком вы сейчас. — И он указал на ее грудь, прикрытую только купальником.
— А, извините, я действительно не знала.
— Так-таки не знали? — вмешался жандарм постарше, качая головой и снисходительно улыбаясь, как человек, которому все доподлинно известно. — Но мы же сверху видели, как вы стояли, прильнув к кладбищенской калитке. Вы скажете, что опять-таки не знали, что это неуважение к месту упокоения? Что, вы не знаете о приличиях, которые надо соблюдать в подобных местах? Скажете, что и этого не знали? Такую прописную истину.
Снова заговорил высокий жандарм:
— Кто ж этого не знает! Кладбище надо уважать, равно как и церковь, велика ли разница. Положено соблюдать приличия. А кроме того, даже и здесь, по дороге, в таком виде разгуливать нельзя.
Вмешался Фернандо, все в том же крайне вежливом тоне:
— Простите, я вам объясню, что случилось. Мы просто пошли прогуляться, поискать наших друзей, и не заметили, как зашли сюда. Вот как получилось.
— В следующий раз смотрите, куда идете, — сказал пожилой жандарм. — Надлежит быть внимательным, чтобы не попасть куда не надо. Есть распоряжение, чтобы никто не отходил от реки, не одевшись как следует, как положено. — Он обернулся к Мели. — Так что, пожалуйста, наденьте на себя что-нибудь, если у вас с собой. А если нет — вернитесь, откуда пришли. Вы уже вовсе не девочка.
Мели сухо согласилась:
— Да, да, мы и так шли обратно.
— Простите нас, — сказал Фернандо. — В следующий раз мы будем знать.
— Тогда — марш! Можете идти, — сказал пожилой жандарм, выпячивая челюсть.
— Всего хорошего, всего хорошего, — ответил Фернандо.
Мели повернулась на каблуках, ничего не сказав.
— Идите с богом, — скучным голосом напутствовал их пожилой жандарм.
Мели и Фернандо прошли несколько шагов молча. Потом, уже не рискуя быть услышанным, Фернандо сказал:
— Ну и фараоны! Я думал, штрафанут нас. Надо же, куда могли уйти денежки, на которые я закажу для тебя песню. Еще немного, детка, и ты осталась бы без песни.
— Послушай, — раздраженно сказала она, — для меня в сто раз лучше выбросить деньги и остаться без песни, чем разговаривать с ними таким тоном, каким разговаривал ты.
— Да ты что? Как это я с ними говорил?
— А вот так: трусливенько, подобострастно…
— Ого, а как, по-твоему, мне надо было с ними говорить? Гляди-ка ты! Чего доброго, ты хотела бы, чтоб я на них окрысился?
— Это необязательно, достаточно чувствовать себя на своем месте, не унижаться, не говорить медовым голоском, улещивая их. Кстати, не о чем было беспокоиться, тебе не пришлось бы платить штраф из своего кармана. Я никому не позволяю платить за себя никакие штрафы.
Мели обернулась: жандармы все еще стояли на дороге и смотрели в другую сторону. Она показала им язык. Фернандо кисло усмехнулся:
— Знаешь, Мели, что я тебе скажу? Не хватить бы тебе горячего до слез. Мне кажется, что в жизни ты понимаешь очень мало.
— Побольше твоего, не думай.
Фернандо покачал головой.
— Ты и представления не имеешь, что это за народ. Они обращаются с людьми точно так же, как с ними обращаются их начальники, только и ждут, чтобы кто-нибудь возмутился или нагрубил им, чтобы тут же засадить его в тюрягу, точно так же, как поступят с ними, если они посмеют нагрубить своему начальству. Каждый, кто чином пониже, ищет кого-нибудь, кто находился бы еще ниже. Слыхала, как он скомандовал: «Марш. Можете идти!» Будто мы в казарме!
— Все равно, Фернандо, я ползать ни перед кем не стану. Лучше раскошелюсь и заплачу штраф, если надо будет, но кланяться не собираюсь. Так я живу, и мне это очень нравится.
— Что бы ты запела, будь ты мужчиной! Скажи спасибо, что ты женщина. Если б вдруг превратилась в мужчину, так сразу стала бы рассуждать по-другому. Иначе тебя выколотили бы, как коврик. Знавал я парней, у которых гордости было побольше твоего, только раза два попали в переделку — и мигом вся спесь с них соскочила. Запомни, что я тебе сказал.
— Да ладно, я не спорю, я все поняла. Твоя правда.
Фернандо посмотрел на нее и, постучав по лбу, сказал:
— Ну и упрямая твоя голова. Тебе надо жениха, который бы тебя обуздал.
— Меня? — изумилась Мели. — Ну, силен! Скорей — я его.
Возле почерневшей кирпичной станционной стены под написанным огромными буквами названием «Сан-Фернандо-де-Энарес — Кослада» зазвонил медный колокол. Третья станция от Мадрида: Вальекас, Викальваро, Сан-Фернандо-де-Энарес — Кослада. Вскоре у платформы, лязгнув буферами, остановился поезд из Мадрида. В полупустом купе третьего класса старик и девушка в желтой кофточке, — у их ног стояла большая сумка из черных и коричневых кожаных ромбов, — попрощались с молодым человеком в белой куртке, который сидел напротив них. «Счастливого пути!» — сказал он. Пока поезд не остановился, он стоял на подножке. Сошли человек десять-двенадцать и разошлись в разные стороны от станции. Вокруг было поле, кое-где виднелись дома. Поезд тронулся; молодой человек остановился у будки, где хранилось станционное имущество, и обернулся: из вагона на него глядели старик и девушка. Он прошел между двумя домами, ему пришлось отодвинуть несколько простыней, развешанных между ними. За станцией в ряд стояли три грузовика, у самых колес в пыли копошились куры. Он прошел мимо колодца. Подальше виднелся стандартный железнодорожный домик, рядом курятник, ящики с петрушкой на окне, скамейка и лоханка для стирки белья. Кто-то издали крикнул:
— Что, к своей девчонке?
Голос был знакомый. Он повернулся.
— А куда ж еще! Привет, Лукас!
— Привет! Приятно провести время!
Молодой человек вышел на шоссе. Миновал три небольшие дачки, недавно построенные; садики при них были все на виду, обнесены проволочной сеткой. У калитки одной из дач сверкал краской небесно-голубой с желтым двухместный «бьюик». Молодой человек на минуту задержался, чтобы поглядеть на внутреннюю отделку и приборную доску. Там был и радиоприемник. Потом он бросил взгляд поверх блестящего капота на опущенные жалюзи дачи. Солнце припекало. Он двинулся дальше; отлепил от потной шеи воротничок, ослабил галстук. Шел, глядя под ноги, на вывороченные из мостовой угловатые булыжники. Заборы из проволочной сетки, зеленые жалюзи, миндальные деревья, на одной стене — «Продажа яиц», на другой — «Галантерея». Дошел до мостика, откуда начинался незаметный спуск, слева увидел красноватые воды реки и начало рощи, цветные пятна людей на пляже. Немного дальше пышные деревья во дворе большой усадьбы Кочерито из Бильбао загораживали вид на реку. Ослепительно сверкала на солнце белая стена.
Он ступил на порог:
— Добрый вечер.
— Добрый вечер, Маноло, — ответил Лусио.
Маурисио лишь мельком взглянул на вошедшего.
— Привет! Как дела? — пробормотал он, склоняясь над раковиной, и принялся мыть стаканы.
Маноло остановился возле Лусио, отирая пот со лба и отдуваясь. Лусио взглянул на него.
— Понятно, это из-за галстука… — сказал он. — Как тут не вспотеть.
Маноло вытащил из верхнего кармана куртки белый платок, провел им по шее под воротничком. Он смотрел на Маурисио.
— Я эту вещь видеть не могу, — продолжал Лусио. — Самый бесполезный предмет. Даже удавиться на нем нельзя — короток.
— Так принято, — сказал Маноло.
— Условность городской жизни, этикет, от которого давно пора отказаться.
— Пожалуй, — ответил Маноло. И обратился к Маурисио: — Не могли бы вы дать мне стакан холодной воды?
Маурисио поднял на него глаза.
— Холодной? Только комнатной температуры.
— Ну ладно, какая есть…
Тот налил стакан.
— Какую мы сами пьем, — пробурчал он, ставя стакан на стойку.
— А? Что вы сказали, сеньор Маурисио? Простите, я не расслышал.
— Я говорю, что мы все тут пьем такую воду. Комнатной температуры. А холодной, какую ты просишь, нет. Если бы держать в большом глиняном кувшине, и то была бы большая разница. Да только кувшин наш, уже третий за это лето, разбился на прошлой неделе, а покупать без конца кувшины я, по правде говоря, не могу. Трех, я думаю, с меня хватит.
— Ну конечно, сеньор Маурисио, никто ничего и не говорит.
— Так ты просил холодной воды, вот я тебе и объясняю, чтоб ты знал, как обстоят дела. И, как ты уже слышал, какая погода, такая у нас и вода, такую мы и пьем. Вот так. А холодной нет.
Маноло деланно улыбнулся.
— Да нет, сеньор Маурисио, когда я попросил холодной воды, я сказал «холодной» просто потому, что так говорят, понимаете? По привычке, только и всего.
— Ну, а я привык не называть вещи тем, чем они не являются. Какой в этом смысл? По привычке или нет, но когда я говорю «холодная», значит, имею в виду холодную. А говорить иначе, по-моему, глупо, это я прямо скажу.
— Я вижу, вам хочется меня разыграть.
— Разыграть? Боже сохрани! Как ты мог подумать?
Улыбка на лице Маноло совсем увяла.
— Я вижу. Не говорите, что это не так.
— Что за глупость! Если б хоть под настроение.
— Сегодня у вас как раз такое настроение.
— Неужели? Бог его знает. Мне это еще неясно.
— Но я-то думаю, что…
— Ладно, будет тебе. Не уточняй.
— Как вам угодно. Я только хочу сказать, чтоб вы не беспокоились, то есть, что шутки я понимаю, на них не обижаюсь и могу стерпеть, когда кто-нибудь пройдется на мой счет, и не рассердиться. Иначе говоря, я тоже умею посмеяться, когда захочется, понимаете?
— Что ж, я очень рад, если так. Хорошо, когда человек немножко с хитрецой, такому легче выйти из сомнительного положения, в которое случается иной раз попасть, когда общаешься с людьми. Легче выдержать. А иногда этой выдержки много нужно, верно? Ох как много. И соблюдать ее приходится подолгу.
Лицо парня стало вдруг настороженным; помедлив, он сказал:
— Знаете, я скажу так: мне выдержка не требуется, потому что в сомнительные ситуации я не лезу, мне они ни к чему, и чихать я на них хотел…
— Вот как? Ну, насчет того, чтобы ставить себя выше всех на свете, — с этим надо поосторожней, не то как бы на тебя самого не начхали.
— Это возможно. Если ты неосторожен.
— Или не подозреваешь, что ты неосторожен. В этом случае — тоже! Некоторые считают себя бог знает какими умниками, а на самом деле они дураки дураками и получают по носу в тот момент, когда меньше всего…
— Эй, помогите кто-нибудь! — требовательно крикнул кто-то за дверью, стуча кулаком по косяку.
— Что такое?
Все обернулись к двери. У порога стояло инвалидное кресло на колесах, в котором кто-то сидел, а за креслом виднелся человек в черном.
— Ну что? Выйдет кто-нибудь или нет? — продолжал кричать инвалид, колотя в косяк.
— Это Кока и дон Марсиаль, — сказал Лусио.
Маноло вышел помочь им. Некоторое время они возились с инвалидным креслом, потом человек в черном внес паралитика на руках — тот был маленький и скрюченный.
— Куда это поставить? — спросил Маноло через дверь.
Паралитик на руках у дона Марсиаля повернулся и крикнул:
— Да приткни его куда-нибудь! Куда поставишь, там и будет стоять.
Пока дон Марсиаль усаживал Коку за столик, тот разговаривал сразу со всеми, кто был в кафе.
— Ну, что тут происходит? Сегодня здесь не играют в домино? Для воскресенья что-то слитком тихо. Послушай, налей мне рюмочку анисовой. Марсиаль, а ты что выпьешь? Значит, сегодня у меня и партнеров нет?
Дон Марсиаль пододвинул к столику стул, на который он усадил своего товарища, и сказал:
— А мне коньяк. Что нового?
— Жарко.
Дон Марсиаль позвякивал монетами, сунув руку в карман куртки. Паралитик обратился к Маноло:
— Тебя, как я понимаю, нечего и приглашать поиграть в домино: наверняка есть другие дела, поважнее. На вас, дон Лусио, пожалуй, тоже рассчитывать не приходится, так я говорю?
— Они тебе и не нужны, — уверил его Маурисио. — Там, в саду, твои любимые Кармело, Клаудио и прочие.
— Вот и хорошо! А что же они там делают? Почему не идут сюда? Надо сейчас же их позвать.
— Они там играют в «лягушку».
— В «лягушку»? Какую лягушку им еще надо, когда они могут играть со мной? Тут единственная настоящая лягушка — это я! Других нет. Разве можно быть лучшей лягушкой, чем я? Только что из лужи! — И он рассмеялся.
— Сколько шума ты поднимаешь, — сказал дон Марсиаль, передавая ему рюмку, которую налил Маурисио. — Другого такого буяна на всем свете не сыщешь. На вот, выпей, может, умолкнешь хоть ненадолго и дашь людям дух перевести.
— У-у, кровопийца! — откликнулся паралитик, ущипнув его за ногу.
— В тебе, Кока-Склока, злости больше, чем немощи. Поддать бы тебе хорошенько… — И дон Марсиаль погрозил калеке пальцем. — Тем и пользуешься, что ты — полчеловека. У кого хватит духу поднять руку на лягушку, как ты сам себя только что назвал?
— Ладно, ты насчет Коки-Склоки лучше брось.
Дон Марсиаль засмеялся, вешая куртку на спинку стула.
— Вот вам, пожалуйста: сам себе придумал прозвище, а теперь лезет в бутылку, когда его так называют. Видали?
Дон Марсиаль уселся напротив калеки. Маноло спросил:
— Ах, так это он сам придумал? А как это случилось?
— Вы не знаете? Все его штучки. Однажды — прошлым летом, кажется, вернее, весной — этот чудак оказался в своем кресле, ну вот, в этом самом, на Главной улице и подъехал к повозке, такой, знаете, разрисованной разными картинками и с надписью большими буквами «Кока-кола»… Так он обернулся ко мне и к другому соседу, который был с нами, и заявил: «Если это Кока-кола, то меня надо называть Кока-Склока!» Мы тогда обхохотались… Такое совпадение, ведь его-то и в самом деле зовут Кока. Что вы на это скажете?
— Это остроумно, остроумно, — согласился Маноло.
— Ну да, а теперь, с неделю тому назад, он вдруг потребовал, чтоб мы его так не называли. Вот и пойми, что ему надо, чего не надо.
— Да это прозвище всем уже оскомину набило. Придумайте другое или зовите тем именем, которое мне дали при крещении. Ну, а теперь быстренько зови Кармело. Бегом. Пусть сейчас же идет сюда, к этому столику. Давай не задерживайся. Бери его за ухо и волоки сюда. — Он толкал столик на Марсиаля, чтобы заставить того встать.
— Да иду, иду, не кипятись ты. Знаешь же, что я тут только для того, чтобы твои причуды выполнять. Раз ты сказал — я сделаю. — Он поднялся, осушил рюмку и пошел в сад.
Кока-Склока закричал ему вслед:
— И завербуй еще одного, любого из тех, кто там есть!
— Ну конечно, там же еще сеньор Эснайдер, — сказал Маурисио. — Тоже любитель забить козла. Наверняка соблазнится.
— Ах, этот? Ну да, еще бы! Он такой азартный! Я люблю играть с сеньором Эснайдером, это точно. О чем тут говорить. Вот у нас и партнеры.
Дети Оканьи заглядывали в лицо Хустине и высокому мяснику.
— Она выиграла! — крикнул Хуанито.
Хустина обернулась к Петрите и наклонилась поцеловать ее.
— А тебе, миленькая, нравится эта игра? Хочешь поиграть?
— Ты всегда выигрываешь, правда? — спросила девочка.
Хустина поправила девочке воротничок и сняла листик жимолости, запутавшийся у той в волосах.
— Нет, радость моя, — ответила она. — Бывает, и проигрываю.
Хуанито и Амадео дрались за шайбы, торопясь поднять их с земли, и царапали о сухие ветки голые обгоревшие спины. Асуфре прыгал вокруг них и махал хвостом, собаке хотелось поиграть с ними.
— Девушка играет как бог, — сказала Петра, сидя за столиком.
— Отменно, — согласился Серхио.
Маурисио принес наполненные рюмки и кофе.
— Эта игра испокон веку существует, — заметил Фелипе, — а из моды не выходит.
— Не то что настольный футбол и всякие новомодные штучки, которыми молодежь быстро заражается, а потом так же быстро ни с того ни с сего остывает.
— И все это пустое времяпрепровождение и дурной пример для детей, — сказала Петра. — Только сбивают с толку подростков.
— А помнишь, Серхио, перед самой войной появилась игра «йо-йо»? — спросил Фелипе брата.
— Конечно, конечно, помню.
— Вот уж была глупая выдумка. Все носились с этим злосчастным черепком и с утра до ночи подбрасывали вверх и бросали наземь.
— Общество в этом отношении ничем не защищено: какое-нибудь новшество распространяется, как зараза, и глядишь — все, как бараны, делают одно и то же, — сказал Серхио.
— Так ведь народ в городах настолько избалован всякой всячиной, что стоит появиться чему-то новенькому, какому-нибудь пустяку, и все набрасываются, но скоро пресыщаются.
— Это верно. А знаешь, кто увлекался этой самой «лягушкой»? Помнишь, был у меня приятель, блондинчик, мы всегда гуляли вместе, когда я был холостой, а вы еще жили на улице Эль-Агила?
— Знаю, знаю, о ком ты говоришь. Он тоже агент по продаже чего-то там такого… постой-ка, колониальных товаров, что ли?
— Парфюмерии. Он самый, звали его Наталио. Так вот этот парень чудесно играл в «лягушку». Он говорил, сам-то я этого ни разу не видел, что забрасывал все десять шайб в пасть лягушке. Может, и хвастал, но однажды я сам наблюдал, как он играет, и если десять он и не выбивал, то, по крайней мере, никто обыграть его не мог.
— Слушай-ка, я его недавно встретил, этого твоего Наталио. Даже дважды. Последний раз — на святой неделе, когда вы уезжали в Барселону.
— Скажи пожалуйста! Интересно было бы узнать, как он поживает. Ты поговорил с ним?
— Да нет, здравствуй и прощай. Могу только сказать, что парень выглядел как маркиз, таким пижоном держался.
— Хорошо одет?
— Сногсшибательно. Но, по правде говоря, у меня осталось впечатление, что он из тех, кто во всем себе отказывает, лишь бы на улицу выйти разодетым. Так кажется, когда на него посмотришь.
— Ну почему? Может, и процветает.
— Нет уж, такое дело сразу в глаза бросается. Всегда можно отличить, кто хорошо одет потому, что в доме достаток и благоденствие, и кто из кожи вон лезет, чтобы одеться лучше, чем ему позволяют доходы. Понимаешь?
— Так уж сразу ты и видишь всех насквозь, — возразил Серхио. — Разве можно узнать, чем человек дышит, если ты только поздоровался с ним на улице?
— Э, друг мой, я вожу такси и за день столько народу перевидаю, что поневоле разбираюсь, кто чем дышит, глаз у меня стал наметанный, и потому сразу вижу, где у кого прореха. Точно могу сказать, что у твоего Наталио нет и четвертой части того, что он хочет изобразить своим видом.
— Пусть так, как ты говоришь, но у бедняги есть свой резон. Вовсе он не помешан на всяком вздоре. Не думай, что из тщеславия хвост распускает. Дело в том, что представительность — одно из самых необходимых условий для того, чтобы в жизни чего-то добиться. А в нашем деле больше, чем в любом другом.
— Представительность?..
— Да-да, можешь не удивляться. На первый взгляд может показаться глупостью, но вот подумай, ты входишь куда-то хорошо одетый, с хорошим товаром, а? Хорошие манеры, интересный разговор, то да се, понимаешь? И тебе уделят в тысячу раз больше внимания и продашь побольше, чем если бы явился растрепой и сразу приступил к делу.
— Нет, я как-то не могу понять, о чем ты говоришь. Если я покупаю товар, при чем тут твоя внешность?
— Да в наше время на этом вся торговля держится, Фелипе. Ничего не поделаешь. Ни тебе, ни мне этого не изменить. Так что остается только подчиниться велению времени и соблюдать ту форму, какую требуют обстоятельства.
— Но это совершенно несправедливо!..
— Понимаю, Фелипе, понимаю, и я с тобой вполне согласен. Все мы знаем, что человек остается все таким же, как его ни наряди, что не станет он ни лучше, ни хуже, во что ни одень. Но это мы с тобой говорим в частной беседе, наслаждаясь сигарой. Но пойди попробуй поторговать — и через три дня вылетишь в трубу. Поверь, такова сейчас жизнь. Теперь на первом плане — внешний вид, да и не только в торговле, а во всех проявлениях человеческой жизни.
— Ну нет, здесь ты преувеличиваешь: есть много мест, где человек стоит того, чего он стоит на самом деле. В торговле — ладно, тут тебе и карты в руки, ты в этом лучше разбираешься. А в остальном — дудки. Нельзя все кроить на один лад.
— Да нет же, почти везде. Повсюду. Не знаю, почему ты так думаешь? Вот если ты, к примеру, день-другой поленишься протереть свой автомобиль, чтоб он как следует блестел, ведь не заполучишь и четвертой части пассажиров. Или же сравни себя с теми, у кого новые машины. Посчитай, сколько у тебя ездок и сколько у любого из них.
Тут Петра поддержала деверя:
— Вот видишь? Конечно, так оно и есть! Но с ним говорить бесполезно, Серхио, бесполезно. Он уперся на своем, и ты его с места не сдвинешь. Да разве не говорила я то же самое сто раз, тысячу раз! Пятый год твержу: «Давай поднатужимся, Фелипе, сэкономим и купим другой автомобиль, теперь появились такие шикарные „рено“, их так легко водить…» Все твержу и твержу, сил больше нет. И что же? Он, понимаешь ли, будет ездить на этом, пока его драндулет не рассыплется на кусочки посреди Гран-Виа. А тогда, скажи мне, дорогой Серхио, что мы тогда будем делать? На что станем кормить эту ораву, когда его рухлядь встанет, упрется и не сдвинется с места? А ведь все из упрямства, скажу я тебе. И надо же… никаких тесе сбережений, ничего на черный день.
— Но послушай, мы же совсем не о том говорим. Ей-богу, не понимаю, для чего ты все это выложила?
— Начинается!.. Кто поверит, что у человека четверо детей и так мало чувства ответственности, что он нисколько не думает о завтрашнем дне. И ведь не одна я тебе говорю, — пусть я все выдумываю, но брат-то твой говорит то же самое.
— Будет тебе, в чем это мой брат с тобой согласен, хотел бы я знать? Серхио ни единым словом об этом не обмолвился. Ты хоть поняла, о чем мы говорим? Нет, просто пользуешься случаем подбить под меня лишний клин. Только и ждешь подходящее время, чтобы сунуться самой и повернуть разговор, куда тебе надо.
— Ну ты скажи!.. Еще будешь утверждать, прямо мне в лицо, что Серхио ничего не говорил о новых «рено»? Вот ты какой! Видели, что за человек?! Ты же слышишь только то, что тебе хочется слышать. А когда я говорю правду, значит, я сбиваю разговор. Слишком хорошо я тебя знаю, друг мой, слишком хорошо!
— Ну не стоит так из-за пустяка расстраиваться, — вмешался Серхио.
— Какой же это пустяк, Серхио, к сожалению, вовсе не пустяк. Сам подумай! Это дело у меня в печенках сидит. По ночам спать не дает, как только подумаю про тот день, когда наш драндулет окончательно развалится. Страшно подумать! — И она закрыла лицо руками, точно сивилла в страхе перед зловещим видением грядущего. — Только на то, что мы тратим на ремонт, обрати внимание, только на то, что уже затратили, сегодня можно было бы иметь новый «рено». Вот так-то.
— Да что ты понимаешь в машинах, чтоб так рассуждать? Ну скажи! Ну что ты понимаешь?! Может, еще поучишь меня механике?
— Механике — нет. И не собираюсь. Я говорю об ответственности отца семейства за будущее. Вот о чем. Вот чего тебе не хватает.
Фелипе обернулся к брату:
— Двенадцать лет, понимаешь, вожусь с этой машиной, а теперь мне начинают указывать, что надо с ней делать.
— Вот видишь, — кто уводит разговор в сторону? Понял теперь? Ты смотри, куда поворачивает, как только услышит не то, что ему хочется. Это же бессмысленно, Серхио, ты теперь сам убедился, с этим человеком разговаривать невозможно, невозможно… Никакого толку. Скажи ты, Нинета, ну как так можно… — Она поворачивалась то к деверю, то к невестке. — В доме четверо детей… А я одна…
— Послушай, Фелипе, Петра права, — сказала Нинета. — Надо хоть немножко позаботиться о будущем. Купи ты новый автомобиль. Сам потом будешь доволен, разве плохо иметь…
Тут заговорила Фелисита:
— Не плачь, мама, почему ты плачешь…
Но Петра уже вытерла покрасневшие глаза платком и подняла голову:
— Я не плачу, дочка! Что мне оплакивать. Ведь твой отец… А, ладно, все так… — И отвернулась, посмотрела в глубь сада.
— Успокойся, ради бога, — тихо сказал Серхио.
Оканья ерзал на стуле, он явно приуныл. Нинета взяла руку невестки в свои ладони и поглаживала ее.
Из дома вышел дон Марсиаль. Легким кивком поздоровался с сидевшими за столиком. Дети Оканьи ползали по земле, подбирая шайбы.
— Знаешь, я у папы правая рука! — сказала Петрита, обнимая колени Хустины.
Хустина рассмеялась:
— Кто тебе это сказал?
— Мой папа.
Дон Марсиаль обнял Кармело за плечи и потащил к дому. Проходя мимо Хустины, он на мгновение задержался и тоном заговорщика сказал вполголоса:
— А там твой жених пришел…
Хустина бросила быстрый взгляд на дверь, ведущую в дом.
— Ну и пусть подождет, — ответила она.
Фелипе Оканья играл пустой рюмкой, переворачивая ее вверх дном. Погасил сигару о ножку стула, Асуфре рычал, прыгал, приседал, приглашая детей Оканьи побегать, но те не обращали на него внимания. Наконец пес положил передние лапы на голую спину Амадео.
— Ах ты со-о-бака!
Пес бросился бежать, оба брата — за ним. Петрита затопала ножками, цепляясь за юбку Хустины, и испуганно сказала:
— Возьми меня на ручки…
Хустина подняла ее, и девочка с высоты смотрела, как ее братья носятся по саду. Петрита смеялась, вертела головой и выглядывала то из-за одного плеча Хустины, то из-за другого, наслаждаясь беготней, увертками и прыжками Асуфре, игравшего с Хуанито и Амадео.
— Ты меня головой боднешь, детка.
Серхио сказал:
— Ну что ж, день получился неплохой. И этот навес, хоть и кажется не очень густым, от солнца защищает.
Никто ему не ответил. Нинета потрогала подол юбки своей невестки.
— Ты сама скроила эту юбку?
— Да, да.
— Как славно получилось!
Мясник Клаудио бросал шайбы, собака и дети мешали ему.
— Эй, позови-ка свою собаку. Ты что, хочешь сбить мне прицел?
— Асуфре! Ко мне! Ко мне, Асуфре! — крикнул Чамарис.
— Вы не видите, что играют? — сказала жена Оканьи. — Зачем мешаете? Почему лезете куда не надо? Сейчас же сюда!
Амадео и Хуанито послушались мать, Асуфре — хозяина. Пес улегся под навесом у стены, и дети поглядывали на него с другой стороны сада.
Фаустина стояла у стола — протирала полотенцем приборы и клала их возле Шнейдера на клеенку. Старик сидел, держа потертую соломенную шляпу на коленях.
— На этой неделе, — говорила Фаустина, — обязательно зайду навестить вашу жену, не позже четверга, даю олово. Как только управлюсь с делами.
На столе лежала кожура от съеденного инжира.
— Фрау Берта стара, бедняжка, — сказал Шнейдер, — выходить трудно. Я — крепче.
— Вы еще молодцом.
— Я ем мой фрукт, и это здорово для мое тело, — засмеялся Шнейдер своим коротким смешком. — Я и вам его приношу для этого.
— Спасибо, но что до меня, сеньор Эснайдер, то, не говоря ничего плохого о ваших фруктах, скажу только, что ничего не помогает. Вот уж три года, как забыла, что такое здоровье.
Она опустила полотенце и горестно покачала головой. Потом вздохнула и взяла из мойки ножи.
— Вы, сеньора Фауста, проживете до девяноста лет, — сказал Шнейдер, растопырив пальцы обеих рук. — Если вы мне немного позволяйте, я закурю сигаретка.
— Курите, нечего и спрашивать.
— Большой спасибо.
Он достал кисет из внутреннего кармана куртки.
— Значит, по воскресеньям она остается одна. Жалко, что по воскресеньям у меня как раз больше всего работы. С удовольствием зашла бы к ней на часок.
— О, она шьет, читает, думает, — проговорил старик, сворачивая самокрутку. — Сидит себе спокойно в кресле и шьет. Все перешивает, чинит. — Он поднял руку, показывая рукав куртки, латаный-перелатаный на локте. — И ничего нового не надо покупать до смерти. Только шить, шить, шить. — Шнейдер водил в воздухе рукой, будто делал стежки. — Одежда старая, Шнейдер старый и жена старая. Одежда хватит до смерти, Не надо тратить деньги — только шить, шить, шить.
Фаустина собрала со стола кожуру и выбросила ее в окошечко над плитой. Снаружи донеслось кудахтанье кур.
— Да, старые, теперь уже не надо скрывать.
Она сняла с плиты горшочек, открыла крышку и через ситечко вылила содержимое в стакан. Поставила стакан на блюдце и подала Шнейдеру вместе с сахарницей и ложечкой.
— Португальский кофе, — сказала она. — Попробуйте, понравится ли вам?
— Danke schön[19], — торопливо поблагодарил старик. — Кофе сеньоры Фаустины всегда превосходен. — Он положил сахар и засмеялся.
Фаустина села напротив и облокотилась о стол. Шнейдер размешал сахар и с ложечки попробовал кофе.
— Ну как?
Шнейдер причмокнул. Трижды помахал ложечкой в воздухе, словно дирижерской палочкой, и трижды повторил:
— Замечательно. Замечательно. Замечательно.
— Рада, что вам нравится. Только мужу об этом ни слова: я купила кофе потихоньку от него, и если он узнает, за два дня ничего не останется.
Она подняла глаза. В кухню вошли Кармело и дон Марсиаль.
— Добрый вечер.
Шнейдер повернулся на стуле к двери:
— О, это мои друзья. Очень рад. Как дела? Как дела? — И улыбнулся тому и другому, слегка наклонив голову.
— Как поживаете, сеньор Эснайдер? — сказал дон Марсиаль. — Вы тут, я вижу, кофе попиваете, а? В этом доме вас принимают хорошо, не можете жаловаться!
— О нет, нет, вовсе нет, — засмеялся Шнейдер. Затем, тыча указательным пальцем в грудь дону Марсиалю, добавил: — А я знаю, зачем вы сюда пришли. — И, снова засмеявшись, повернулся к дымящемуся кофе.
— Еще бы вам не знать! Глядите, как он обрадовался. Но не торопитесь, пейте ваш кофе не спеша, а то обожжетесь.
Кармело молча улыбался. Фаустина сказала:
— И надо же было вам прийти как раз сейчас и взбудоражить человека вашей распрекрасной игрой, не даете спокойно кофе попить.
Шнейдер допил кофе и встал:
— И эта причина — игра в домино. Что ж, я готов. — Взяв шляпу, он поклонился Фаустине: — Сеньора Фаустина, я вам очень благодарен за кофе, — и указал на дверь вытянутой рукой, церемонно приглашая Кармело и дона Марсиаля пройти вперед.
— Сначала вы, — сказал дон Марсиаль.
Все трое вышли из кухни. Завидев их, Кока-Склока закричал:
— Косточки уже на столе! Можно начинать игру! Ну что, сеньор Эснайдер? Готовы к бою?
— Вот именно, — ответил тот.
Над столом возвышалась лишь голова Коки-Склоки: грудь и плечи едва были видны. Руки плавали по мраморной столешнице, мешая косточки.
— Кому достанутся две самые крупные, играют вместе.
Вскоре вошел мужчина и засаленном синем комбинезоне, по лицу у него стекали струйки пота. Поздоровался.
— И сегодня тоже? — спросил его Лусио.
— И сегодня тоже, сеньор Лусио. Ни даже воскресенья… Только что слез.
Шнейдеру выпало играть с доном Марсиалем.
— Садись туда, Кармело, — сказал Кока-Склока. — Мы им покажем.
Маноло все еще стоял и шаркал ногой по цементному полу.
Вдруг он обратился к хозяину:
— Я пройду, с вашего позволения.
— Ладно, иди, делай что знаешь.
Когда Маноло вышел, Маурисио сказал:
— Ну и тип!
— Слишком уж ты крут с парнем. Обычное дело. Никто зятьев особенно не жалует. Будь это хоть сам святой Антоний.
— Какой там святой Антоний! Хвастун и прохвост. Такого обормота во всем мире не сыщешь. Я этого типа с его гладкой рожей просто видеть не могу, клянусь тебе, сил моих нет глядеть, как он выставляется.
— Вот увидите, — сказал шофер, — как вы ему будете благодарны, когда в один прекрасный день вам подкинут сюда внучонка.
Маурисио поставил перед ним стакан:
— Сюда? Ну, если пойдет в отца, то, сдается мне, будет у него не ахти какой любящий дед. Представляю, что за сокровище получится. Это мы еще посмотрим.
— Ты уж совсем ожесточился. Так заранее невзлюбить несчастное дитя, которое еще и не заказано.
Шестерочный дубль достался дону Марсиалю.
— Ну вот он, — сказал дон Марсиаль, выкладывая дубль на стол брезгливым жестом, будто то был таракан.
Кока-Склока посмотрел на кости:
— Сейчас мы тебе ответим.
Шнейдер клал косточки домино очень аккуратно, а Кока-Склока бил ими о стол изо всей силы.
— А мы вот так! — кричал он при этом.
— Что значит так? — сказал дон Марсиаль. — Так ты только стол расколешь. Неужели нельзя полегче?
— Как это полегче! Всякая кость вдвойне к месту, если прихлопнешь как следует! Мы из вас дух выбили, вот вы и протестуете.
Шнейдер смеялся и аккуратно клал кость.
— А вы не смейтесь, сейчас я вас прокачу. На следующем круге.
— Я так не думаю, — ответил тот, глядя на костяшки. — Но думаю, что я будет прокатиться.
— А вот увидите.
Кармело развлекался, глядя на Коку-Склоку, и был доволен, что тот оказался его партнером.
Но вдруг Кока-Склока сжал кулак и заорал:
— Черт тебя раздери! Ну что ты поставил, дурья башка? Чем ты думал? Совсем не соображаешь! Видел же, что они ехали, так делал бы забой, а ты им подыграл. Для чего ты им развернул по четырем? Специально берег для них эту кость?.. И думаешь, что ты очень умный? Прокатился? Трепло! Ненормальный!..
— Э, ну хватит, — оборвал его дон Марсиаль. — Гляди, как ты не любишь проигрывать. Что набросился на Кармело? Ты вроде бабы: те всегда пользуются своей слабостью, чтобы ругать всех и вся, в этом их сила. Вот и ты осмеливаешься обзывать Кармело, потому что знаешь, что он тебя поколотить не может, — ведь ты кто? Лягушка обсохшая! И вполсилы шлепка не выдержишь.
— Лягушка, лягушка! Мешай кости да помалкивай, начальник! Я лягушка обсохшая, а ты — жаба иссохшая, понял?
— Хватит! Начальник не начальник, не лезь с этим, знаешь, на этот счет я шуток не терплю.
— Ладно, мой ход, — прервал его Кока-Склока. — По пяти! — И сухо щелкнул костяшкой по мрамору.
— А как у вас со свадьбой, Мигель? — спросил Себастьян.
Мигель лежал рядом, зажмурившись и прикрывая глаза рукой.
— Не знаю. Лучше об этом не говорить. Праздник сегодня.
— Ну ты хорош! Это у вас проблемы! Хотели бы мы с Паули быть на вашем месте.
— Не так-то все просто.
— При твоем положении…
— Это ничего не значит, Себас. Есть еще много чего, с чем приходится считаться. Когда живешь не один, в доме привыкают к тому, что регулярно приносить жалованье, и не так-то легко могут представить себе, как это вдруг останутся без твоих денег. Отсюда и всякие другие осложнения, целый клубок.
— Ты знаешь, я не хочу совать нос в чужие дела, но по правде скажу тебе, как я думаю: наступает время, и каждый вправе жениться, невзирая ни на что. Я понимаю, конечно, что бывают и более высокие обязанности, ну там, болен кто-нибудь или еще что. Но если дело только за тем стало, что им не обойтись, — не так без тебя, как без твоего жалованья, — тут, я считаю, нечего на них смотреть — женись, и делу конец. Конечно, ты отнимешь у них деньги, на которые они всегда рассчитывают, но с этим ничего уж не поделаешь! Все имеют право на свою собственную жизнь. А кроме того, когда ты уйдешь, одним ртом будет меньше. Вот почему и говорю, что на твоем месте, — хоть и не знаю, что и как, — я собрал бы пожитки — и счастливо оставаться, всего наилучшего. Я так смотрю на это дело.
— Говорить легко. Но все не так-то просто, Себастьян. Со стороны никто не может судить о дрязгах и стычках в семье. Даже если бы захотел разобраться. Изо дня в день возникает множество разных мелочей и бесконечно выясняются отношения — шу-шу-шу да ти-ти-ти, — от этого никуда не денешься, особенно когда вместе живут пять человек или еще больше народу. Не думай, что все это просто.
— Да кто ж этого не знает, но все равно за свое надо бороться.
— Да нет, лучше уж потерпеть и выждать время.
Алисия зевнула, похлопала ладошкой по открытому рту. Посмотрела на руку. Потом сказала Себасу, покачивая головой:
— Не слушай ты его, Себастьян. Оставь. Тут дело не в рассуждениях, отчего да почему. Главное — что для самого человека важней. Мы всегда готовы найти себе оправдание, когда отбояриваемся от того, что трудно. Отсюда и все разговоры. И на все находится объяснение.
Себас стукнул Мигеля по руке:
— Съел блин? Бьют картечью, парень. Мелкой. Чувствительно. Вот и скажи после этого, что женщины нам во всем доверяют.
Мигель криво улыбнулся, запрокинул голову, поглядел на невесту и серьезно сказал:
— Вы оба болтаете о том, чего не понимаете. Нечего было затевать этот разговор. Я же тебе говорил.
— Ты сам его поддержал, Мигель. Мне ты не говори: я с самого начала предупредил, что не хочу совать нос в чужие дела. Тебя заело то, что сказала твоя невеста, а с меня взятки гладки.
— Ладно, хватит, смени тему, понял? Оставь меня в покое. Вы оба влезли куда не надо, и давайте на этом кончим.
— Ну и человек! — сказал Себас. — Теперь он говорит, что я влез куда не надо. Ну, не занудство ли? На мне вымещает. Не дотронься до него.
Мигель ничего не ответил. Вмешалась Паулина:
— А он прав. Уж тебе-то вовсе незачем было лезть и устраивать чужую жизнь. Своего за глаза хватает, гляди какой спаситель нашелся. Тебе ответили из чистой вежливости, а ты давай приставать — разве это дело?
— И ты туда же? Так нечестно — двое на одного. Ей-богу, не понимаю я этого.
— Что тут понимать? — сказал Мигель. — Яснее ясного, лучше не скажешь. Раз, Себастьян, так твоя невеста говорит, это что-нибудь да значит.
Алисия сказала:
— Знаешь, Мигель, тебе поверит только тот, кто тебя не знает.
— Я не с тобой говорю, Алисия. Ты и так сказала слишком много. Так что — показала номер… и за кулисы.
— Ну ладно, Мигель, — сказал Себас, — что я хочу спросить: мы ведь друзья? Если мы друзья, как я считаю, то, откровенно говоря, не понимаю, к чему все эти разговоры. Будто бы нельзя друг с другом поделиться своими заботами.
— Не понимаешь, да? — Мигель замолчал и глубоко вздохнул, потом приподнялся на локтях и посмотрел по сторонам — на реку и на мосты. — Я и сам не понимаю, Себас, если сказать тебе по правде. Перегрелись мы на солнце, вот в чем дело. И неохота слушать о том, что грызет. — Из-под руки поискал глазами солнце над деревьями. — Осложнений не хочет никто. И ты прав, и она права, и я, и кто-то еще тоже прав. А вместе с тем никто не прав, пойми это. Вот и неохота говорить. Так что не сердись на меня. Ты же знаешь, что я всегда… — И он широко улыбнулся.
Себас ответил:
— Да ты так наотмашь рубишь, что оторопь берет. Сразу становишься серьезным и ведешь себя странно. Мне-то что, сам знаешь. Тебе виднее. Учитывая, конечно, кроме того…
— Кончай, — прервал его Мигель, — надоело, и хватит об этом. Давай лучше закурим.
— Интересно, эти-то где болтаются, — сказала Паулина.
Себастьян направился к Сантосу, сидевшему под другим деревом, предложил ему закурить. Сантос и Кармен блаженствовали, лаская друг друга.
— Эй! — окликнул Себас. — Вы чем тут занимаетесь на виду у всей почтенной публики? Будешь курить?
— Это ты мне?
— Нет, чужому дяде.
— Спасибо, старик. Я сейчас не буду курить.
— Ладно, тогда пока. Наслаждайтесь на здоровье.
Себастьян вернулся на свое место. Алисия спросила:
— О чем ты там с ними говорил?
— Так, ни о чем, они там вовсю обнимаются.
— Оставь ты их в покое, пусть делают что хотят.
— Правильно рассуждаешь. Не беспокойся, они там как раз и делают что хотят.
— По-моему, все хорошо, — сказал Мигель. — Я в жизни не видел жениха и невесту, которые бы так тянулись друг к другу.
— Скажи еще, что именно сегодня денек располагает к этому, — заметила Паулина.
— Ну и что? — возразил Мигель. — Если время от времени не давать себе небольшой передышки, то из субботы попадешь прямо в понедельник и не заметишь даже, что живешь на свете.
— Только он, мне кажется, долго не протянет. В один прекрасный день его прихватит.
— Да нет, зимой его просвечивали и ничего не нашли, — сказал Себас. — Он здоров. Счастливо отделался. У него просто сложение такое, что он не поправляется.
— Совершенно не представляю себе, — произнесла Паулина, — что за жизнь они ведут и что думают делать дальше. Уже года два, как жених и невеста, и ни песеты не откладывают, скорей даже транжирят деньги.
— Это уж хуже всего, — заметила Алисия.
— Да, конечно, — согласился Себастьян. — Он с деньгами не считается: всегда готов и пойти с невестой в шикарный танцевальный зал, и купить ей безделушку, и с нами пошататься по барам.
— Подумаешь, если он считает, что может себе все это позволить, то правильно делает. Кто поставит ему такое в вину? — заявил Мигель.
— Брось. Мы все — кто получше, кто похуже — понимаем, что значат десять дуро в кошельке. И знаем, как руки чешутся их потратить. Но это, однако, не мешает нам думать и о завтрашнем дне, — сказал Себастьян.
— Ох уж этот завтрашний день… — повторил Мигель, снова ложась. — Слишком уж много ломаем мы голову над благословенным завтрашним днем. А сегодня? На сегодняшний день наплевать? А вдруг в тот день, когда ты захочешь зажить как следует, посреди улицы наскочит на тебя грузовик и раздавит? И окажется, что всю свою жизнь ты попусту загорал. Над хлебом трясся, как над святыми дарами. Такое тоже ни к чему. Так за каким чертом раздумывать об этом вонючем будущем и жить для него? Через сто лет от всех нас останутся одни косточки. Вот что такое жизнь на самом деле. Это ясно как божий день.
Себастьян задумчиво посмотрел на него и сказал:
— Видишь, какая штука, Мигель, я с тобой не согласен. Все как раз в том и состоит, чтобы рискнуть, отважиться на какой-то поступок, не имея представления, что из всего этого выйдет. Тут опасности, конечно, больше, я согласен. Но иначе жить и смысла-то нет, это всякому понятно.
— Значит, ты так думаешь. По-твоему, жить, как живется, без оглядки, спокойно и безопасно? Риска нет? Вот для этого-то и нужно мужество, а не для того, о чем ты говорить.
С песней прошла какая-то компания. Себастьян не знал, что ответить.
— Знаешь что, — сказал он наконец, — если хочешь, риск в жизни есть всегда, с какой стороны на нее ни посмотри.
— Значит, одно другого стоит, и упускать ее не надо ни тут, ни там. Вот поэтому лучше не ломать голову и не принимать все близко к сердцу.
— Да, это так, но не совсем. Нужно еще…
Алисия запела:
— Ах, что это за глупость… жизнь всегда принимать всерьез…
И они с Паулиной захохотали.
— Женская благоглупость! — сказал Себастьян. Потом протянул руку и привлек Паулину к себе: — Иди ко мне, голубка.
Паулина дернулась:
— Ой! Не хватай ты меня за спину, больно. Я вся сгорела.
Она погладила себя по голым плечам, будто от этого ей могло стать легче.
— Не надо было торчать столько времени на солнце. Теперь не пищи. Можно подумать, вам что-то прибудет оттого, что сильно загорите. Ну, сегодня ночью ты узнаешь.
— Я учусь спать на животе, сам видишь, как лежу.
— На животе? Хороша ты, должно быть, когда спишь так.
Мигель насмешливо пропел над ухом Себаса:
— Для того… для того… для того, чтоб взглянуть, как ты спишь на кровати… Оле! — И продолжал: — Люблю я романтику в жизни. Не сердись.
Потрепал Себаса по затылку.
— Поди прочь! Лапы убери! Я и так все понял, все понял…
Алисия нетерпеливо озиралась.
— А этих-то все нет, — сказала она.
Мигель посмотрел на часы. Себастьян снова склонил голову на колени к Паулине:
— А куда нам спешить? Я бы так год пролежал! — И он улегся, расслабился.
По мосту шел товарный на Мадрид. Паулина взглянула: за отгороженными досками дверьми вагонов виднелись морды телят.
— Телятки… — очень тихо произнесла она.
Капли вина стекали у Луситы по шее и падали в пыль.
— А Лусита сегодня тоже молодцом.
— Точно! От нас не отстает.
Луси тряхнула волосами:
— Чтоб потом не говорили.
— Правильно, пей, золотко. Нам всем надо подготовиться к новой жизни. Передай-ка мне бутылку.
Тито сказал:
— А чего ты так спешишь? Нас никто не подгоняет.
— Меня подгоняет.
— А, ну тогда молчу. Бори бутылку, пой. Кто же тебя подгоняет, если не секрет?
Даниэль улыбнулся, глядя на Тито, пожал плечами:
— Жизнь и все такое прочее. — И сделал большой глоток.
Тито и Луси смотрели на него.
— Здесь каждый свое кино крутит, — сказала она.
— Должно быть, так. Что касается меня, то я сейчас съел бы хороший бутерброд с ветчиной, такой, что сам в рот просится. И набросился бы на него, как тигр.
— Ты проголодался? Пошарь-ка по судкам, может, что осталось.
— Какое там! Я уже смотрел. Мой, по крайней мере, блестит, как новенький.
— А у меня, кажется, остался кусок пирога или даже два, — сказала Лусита. — Передай мне, пожалуйста, мою сумку, посмотрим.
— Да тут полно сумок. Которая твоя?
— Вон та, с краю. Да, да, эта. Только боюсь, что на такой жаре все уже испортилось.
— Ну да! Мы мигом подправим.
Открыли судок. На дне его лежали два куска пирога, немного раскрошившиеся.
Тито воскликнул:
— Колоссально! Куча еды. Наемся, как король.
— Ну вот. Тебе повезло.
— А как же. Спасибо, моя прелесть.
— Не за что.
— У нас как в аптеке: все есть, — заметил Даниэль.
— Хочешь кусочек?
— Нет. Еда мне ни к чему!
— Ты, Даниэль, питаешься одним воздухом, — сказала Лусита. — Не понимаю, как это ты не становишься еще более тощим.
— Ты тоже не хочешь, Лусита?
— Нет, Тито, спасибо.
— Это тебе спасибо.
Тито стал брать пальцами раскрошившиеся кусочки пирога и отправлять их в рот.
— Высший сорт! — произнес он с набитым ртом, роняя крошки.
— Тебе нравится?
— Ничего, не испортилось ничуть.
— Этого мог бы и не говорить, — заметил Даниэль.
— Будь любезен, передай мне бутылку, такое дело надо запить.
— Видно, засохли на жаре и в горло не лезут. Как сухое печенье. Ну что, Луси, рассмешим его?
— Оставь, пусть бедняга поест спокойно.
Получив бутылку, Тито стал запивать каждый кусочек. Он сказал:
— Меня бы не рассмешил сейчас даже сам Шарло[20].
Даниэль повернулся на другой бок:
— Слушай, даже глядеть не могу, как ты ешь. Сегодня еда вызывает у меня отвращение. Ей-богу, стоит мне увидеть, что кто-то ест, начинает тошнить.
— Ты, наверно, заболел, — сказала Луси, разглядывая его лицо.
— Не знаю.
— Нет, не заболел, — сказал Тито, — точно знаю. Потому что вино ты принимаешь за милую душу.
— И вина не хочу.
— Ну ты загнул! Только что принял…
— А я тебе говорю — не хочу.
— Тогда я не понимаю, старик. Если, как говоришь, и от вина мутит, так кто же тебя заставляет пить! Слышишь, Лусита? Парень-то тронулся.
Лусита пожала плечами.
— Заставлять никто не заставляет. Но оно мне нужно. Что с этим поделаешь?
— Тоже причуды, — сказал Тито. — Я этого типа перестал понимать. Послушай, ты приехал на реку совсем зазря. Не купаешься, не ешь, а теперь еще и заявляешь, что вина не хочешь. Лучше было остаться в Мадриде — и делу конец.
— Наверно, он тоскует, — улыбнулась Лусита.
— Вон оно что! А ведь, может, так оно и есть. Ну, милый, тебя раскусили. Давай-ка исповедуйся нам.
Даниэль, лежа на спине, глядел на вершины деревьев. Потом перевел взгляд на товарищей.
— Что-что? — улыбнулся он. — Мне не в чем исповедоваться.
— Есть, не хитри, от нас не отделаешься. Рассказывай, по ком сохнет твое сердечко. Мы никому не скажем.
— Ну и парочка! Да что я вам должен рассказать?
— Ты пьешь, чтобы забыться.
— Пью потому, что надо, так уж я встал с постели.
— Как же это ты встал?
— По-особому.
— Да брось ты, чудак…
— Еще неизвестно, кто тут чудак.
— Известно, известно.
— Ах, так? Ну что ж, пускай. Дай-ка сюда вино.
— Держи, брат, посмотрим, станет ли тебе плохо.
— А может, полегчает, как знать.
Тито согласился:
— Может быть. Увидим. Бывают и такие, кому на пользу.
— Вперед. Воспрянем, ребята!
Даниэль опрокинул бутылку кверху донышком и стал пить большими глотками.
— Еще слава богу, что ему не хочется вина, — сказал Тито Лусите, толкая ее локтем.
Даниэль опустил бутылку и перевел дух. Затем промолвил, глядя на них и улыбаясь во весь рот:
— Подходи следующий.
— Лусита, твоя очередь. Посмотрим, как ты себя покажешь.
Она взяла бутылку:
— Мы все трое или поправимся, или окончательно заболеем.
Пока она пила, Тито и Даниэль подбадривали ее возгласами:
— Оле, красавица! Давай-давай!
Опустив бутылку, Луси заявила:
— Ну вот, теперь, надеюсь, вы доставите меня домой.
— Посмотрим, посмотрим, кто кого доставит…
Они уселись потеснее, обнялись за плечи и сдвинули головы. И стали хохотать, глядя друг на друга. Даниэль продолжал:
— Знаешь, Луси, ты — удивительная девчонка. Честное слово, до сих пор я просто не понимал, чего ты стоишь. Самая лучшая в нашей компашке, чтоб ты знала. Говорю, что думаю. Правда, Тито? Да? Ты согласен со мной, что Луси намного, намного…
Они раскачивались, не размыкая рук.
— Какая же ты симпатичная, — продолжал Даниэль, — красивая…
— Ну уж и красивая! Ты что, милый мой? Это я-то красивая? У тебя, видно, уже в глазах плывет. Разве нет? Только в бреду можно сказать, будто я красивая.
— Ты помолчи! Тебя никто не спрашивает! Я сказал — красивая, и точка. А еще мне пришла в голову идея. Мы тебя изберем… постой, мы тебя изберем нашей… В общем, все равно кем.
Хустина опустила Петриту на землю:
— Ну-ка подожди, моя хорошая, сейчас мне играть.
Девочка побежала к столику, за которым сидели ее родители. Клаудио сосчитал очки, собрал шайбы и передал их Хустине:
— Давай, чемпионка, посмотрим, повторишь ли ты свой рекорд.
Фелипе Оканья разглядывал свои ногти. Петрита попробовала забраться на стул, где уже сидел Амадео.
— Дурочка, мы же тут вдвоем не поместимся!
Петрита взяла Амадео за руки и стала играть его пальцами:
— Сделай, чтоб рука была как мертвая.
Серхио сидел молча.
— Моя зингеровская машинка, которую мне оставила мать, царство ей небесное, все еще в Барселоне, у сестры, — рассказывала Нинета. — Она думает, я так ее там и забуду, понимаешь? Но ошибается, ничего у нее не выйдет.
— А разве ты не просила вернуть машинку?
— Дважды писала ей об этом и говорила, когда мы там были, а она делает вид, что не понимает, о чем речь. Но со мной это не пройдет, нет. Если поедем туда на две недели в сентябре, я машинку заберу, вот увидишь.
— Швейная машинка, да еще зингеровская — украшение любого дома. Ты с сестрой не церемонься, забери во что бы то ни стало.
— Привезу, привезу, это точно. В сентябре эта машинка будет в Мадриде. Обязательно.
— Она и для дома хороша, и для чего хочешь, — продолжала Петра. — От такой швейной машины отказываться нельзя. Случись в доме беда какая — и у тебя уже есть чем добыть несколько дуро, сошьешь что-нибудь людям, вот и перебьешься в трудное время. Это точно. Когда в доме машинка, легче с любой бедой сладить.
Она поправила заколки в растрепавшихся волосах. Невестка согласилась:
— Да, конечно, и в этом смысле тоже. Она вроде машинки для печатания денег. Два года сестра ее держит, значит, сколько она у меня денег отняла, даже если и шила только на себя.
— Ну вот. Так что не глупи и забирай машинку, как только сможешь. Ведь кто-то другой пользуется тем, что принадлежит тебе! На одной только портнихе сколько сэкономишь. Да и машинка не век будет служить, даже если зингеровская. Все изнашивается, и чем позже она тебе ее отдаст, тем в худшем состоянии. И это учти.
— Мама, мне скучно, — заявил Хуанито, ерзая на стуле.
— Ступайте поглядите на кролика.
— Мы уже видели.
Петра не обращала внимания на слова ребенка, она слушала невестку.
— Понимаешь, она эгоистка. Из-за этого мы с ней никогда не были дружны. Моложе меня, а замуж вышла раньше. Это раз. И много еще чего, понимаешь? А ведь я познакомилась с Серхио еще до того, как она со своим.
— Понятно. Младшие дети всегда эгоистичнее старших.
— Вот еще что. — Нинета положила руку Петре на колено. — Наш брат, Рамонет, живет у нее в Барселоне по две недели, а в нашем доме — по месяцу.
Петра бросила мимолетный взгляд на детей, вертевшихся на стуле.
— Я тебя понимаю, Нинета, — вздохнула она. — У меня машинка «Сигма», которая особой славой не пользуется, куда там, потому что «Зингер» — это гарантия, но все-таки ни разу не ломалась, и не скажу, чтоб с ней было много хлопот. Почти все, что на моих детях, я сшила сама, своими руками.
— Ну ты молодец, Петра. Чего только не умеешь. Кроишь, шьешь — все можешь. Какая хорошая хозяйка!
— Не перехвали, Нинета, не возноси меня до небес, — засмеялась Петра грудным смехом. — Правда, я теперь обхожусь без закройщицы, и если б когда-нибудь пришлось шить на заказ, наверно, я это делала бы не хуже других. Взгляни… — Она обернулась к Фелисите и велела ей встать, чтобы невестка разглядела платье. — Вот, посмотри. Повернись, девочка. Вот видишь? По-моему, неплохое платьице. Ничего особенного, конечно, но это такая вещь, которую девочка может надеть куда угодно и будет выглядеть не хуже других. Да постой спокойно. Ну как, Нинета? Ничего?
— Ой, мама, ну что ты меня так крутишь!..
— Помолчи! Гляди, Нинета, вот тут сборочки… Отсюда я убрала немножко, чтобы придать округлость, понимаешь? А вот тут, сзади — складочка…
— Ну, мама, не задирай мне подол! — тихонько жаловалась девочка, смущенно поглядывая в сад.
— Да постой ты минутку! Не видишь, что ли, я показываю твое платье тете.
Маноло слегка поклонился семейству Оканьи. Фелисита залилась краской.
— Ну, пусти, мамочка, пусти!.. — умоляла она, чуть не плача.
— Должно быть, жених хозяйской дочери, — сказал Серхио, обращаясь к женщинам.
Те обернулись посмотреть. Фелисита наконец-то освободилась. Маноло подошел к Хустине.
— Конечно, это он, — сказала Нинета.
Все, кроме Фелипе Оканьи, разглядывали жениха и невесту.
Чамарис подбирал шайбы. Оба мясника вертели самокрутки.
— Кажется, мы ее подвели, — шепнул им Чамарис, указывая бровями на спину Маноло. — Парень выскочил в сад, как молодой бычок на арену…
Высокий мясник улыбнулся:
— Тише, потом поговорим.
Маноло сказал невесте:
— Мне не нравится, что ты тут с ними, Хустина.
— Вот как?
— Да и вообще, ты же знаешь, как я к этому отношусь.
— Да? Ладно, — пожала она плечами. — Что дальше?
— Слушай, не прикидывайся дурочкой, я не собираюсь спорить с тобой здесь, на глазах у всех..
— Я-то? Нет, я не строю дурочку. Это ты дурака валяешь.
— Ладно, Хустина, лучше будет, если ты сейчас же отправишься одеваться.
Подошел Чамарис.
— Извините, пожалуйста, — обратился он к Маноло, изобразив робкую улыбку. — Вот шайбы, Хустина. Ты знаешь, куда их положить. — И вручил ей шайбы. — Извините за беспокойство и до свидания, — добавил он, отходя к своим партнерам.
— Ничего, — бросил ему Маноло и продолжал глухим раздраженным голосом: — Думаешь, я буду терпеливо сносить, что ты тут играешь в «лягушку» с тремя мужчинами, устраивая представление для всей почтенной публики, сидящей за столиками? Скажи, ты всерьез решила, что я на это соглашусь?
— Поступай как знаешь.
— Не говори со мной так. Лучше не выводи меня из себя…
Он быстро повернул голову, чтобы убедиться, не глядят ли на них. Мясники и Чамарис прикуривали.
— Со мной так не разговаривай, поняла?
— В самом деле? Ой, боюсь. Рассердишься? Умру со страху!
Маноло сжал зубы. Проворчал вполголоса:
— Послушай, Хусти, что за спектакль! Я тебя предупреждаю! Ты меня… ты меня!.. — Он больно сжал ей руку: — Ты поняла?
Хустина рванулась:
— Пусти, дурак, мне больно. Сейчас же отпусти мою руку, зануда. Еще вопрос, кому надо сердиться. — Вырвавшись, она продолжала: — Ты за моей спиной договорился с матерью, стакнулся с ней и заявил, что тебе не нравится, когда я помогаю отцу обслуживать посетителей, девушке, мол, это не подобает — и прочие пошлости и глупости. Что это ты о себе возомнил? Решил, что можешь распоряжаться мною как тебе угодно?
Маноло покраснел:
— Говори потише. Тебя слышат эти сеньоры.
Хустина ответила:
— Вот как, тебе стыдно? — Она перекладывала шайбы из одной руки в другую, позвякивая ими, немного помолчала. — Ну да, теперь тебе стыдно. Так слушай, я буду продолжать делать то, что делала всю жизнь. И не думай, что мне теперь покажется плохим все, что до сих пор я считала хорошим. Об этом ты и не мечтай, Манолито.
Маноло нервничал. Он снова оглянулся.
— Ладно, оставим. Решим этот вопрос потом. А сейчас будь добра, собирайся, потом поговорим.
— Не буду я собираться и никуда не пойду. Почему ты решил, что я свободна? Я сегодня занята и пойти с тобой не могу. Чтоб ты знал, мне надо помогать отцу. Так что не жди, никуда не пойду.
— Не пойдешь? Значит, ты отказываешься сегодня пойти со мной? Ты хорошо подумала?
— Конечно!
— Подумала? Значит, так, да?! Ну помни, такую штуку со мной можно проделать только один раз. Клянусь, я не шучу. Другой такой возможности у тебя не будет. Так ты не пойдешь?
— Кажется, я уже сказала.
— Смотри, пожалеешь. Клянусь. — И он поцеловал кончики своих пальцев. — Тебе это так не пройдет. Памятью матери клянусь, да будет ей земля пухом, больше ты меня не увидишь.
— Зачем столько клятв, не надо, это грешно. Не касайся своей матери, она ни в чем не виновата. Брось эти клятвы и поступай как знаешь. Делай что хочешь…
— Ладно, смотри, потом пожалеешь. Всего наилучшего.
— Не беспокойся, — улыбнулась Хустина. — Если жалко станет, пошлю тебе открытку.
Маноло хотел что-то ответить, но отвернулся и направился к двери, которая вела в коридор. Хустина покачала головой, глядя ему вслед. Потом поднесла руку ко рту и стала грызть ноготь указательного пальца, задумчиво уставившись в землю. Чамарис и оба мясника, покуривая, глядели на нее. Хустина подняла голову и подошла к ним.
— Видали? Дурак ненормальный! — сказала она. — Совсем идиот, что ли?..
— Что? — спросил Клаудио. — Поругались?
— И не говорите. Да кто его может вынести!
— Да вы что… Совсем поругались? — спросил Чамарис, рубанув ладонью воздух. — Навсегда?
Хустина кивнула.
— На веки вечные, — ответила она шутливо.
Низенький мясник сказал:
— Не говори так, дочка, не надо так говорить. Все проходит, сплеча рубить не стоит.
— На этот раз можете мне поверить.
— Помолчи, помолчи. Ты еще не остыла от разговора. Пусть поуляжется, вот тогда и посмотрим. Такое в один момент не решают.
— Нет, тут уж конец. Пусть даже на всем белом свете не останется ни единого мужчины, с ним, я вам говорю, все.
— Тебе ничего не стоит сказать такое, — заметил Клаудио. — Прекрасно ведь знаешь, что старой девой не останешься, если только сама не пожелаешь. А я бы не прочь за такую посвататься, будь ты постарше и не такая красивая. Вот и можешь говорить что угодно, тебе не страшно.
— Ладно, — прервала его Хустина, вздрогнув. — У нас была ничья? Давайте продолжим?
Она подбросила шайбы и быстро направилась к лягушке, собираясь вновь начать игру. Но Клаудио сказал с улыбкой:
— Нет, милая, сейчас не будем играть. Не хотим пользоваться случаем. Мы тебя начисто обыграли бы, понимаешь? Сейчас у тебя шайба не попадет даже и в окно. В другой раз, в другой раз…
— Почему? — запротестовала Хусти. — Из-за этого сумасшедшего? Вот еще…
— Ну, не заставляй нас доказывать это в игре, не надо. Я тебе обещаю, что завтра мы придем и сыграем столько партий, сколько захочешь. Да и поздно уже, мы хотим послушать, о чем толкуют твой отец, сеньор Лусио и все, кто там собрался.
Он бросил окурок и затоптал его в пыль.
— Ну что ж, как хотите. Оставим до другого раза.
Мужчины направились к дому.
— Только учтите, я вовсе не нервничаю.
— Конечно, нет, — засмеялся Клаудио. — Так, разве что самую малость. Ах, Хустина, Хустина, мы ведь давно уже живем на свете! — И он покачал головой.
За столиком Серхио сказал?
— Как видно, молодому человеку очень не понравилось, что она тут играла. Ему это показалось ничуть не забавным.
— Должно быть, так. Известное дело — жених.
Петрита сказала брату, взяв его за запястья:
— Давай играть вот так.
— Не хочу, отстань… — ответил Амадео.
Он положил локти на стол и подпер голову ладонями. От скуки разглядывал сквозь растопыренные пальцы все вокруг; листья, тени, лозы, солнечные пятна на проволочной сетке и на кустах жимолости. Фелипе Оканья сладко зевнул, прикрывая рот ладонью. Хуанито навалился грудью на стол, дотянулся до вилки и принялся надавливать пальцами на зубья, так что ручка вилки подскакивала и опускалась.
— Ведите себя как следует, — сказала Петра. — Что это вы делаете?
Хуанито нехотя, как будто устало, сполз со стула. Нинета сказала:
— Они хотят спать.
Серхио снова зажег сигару. Петрита попросила:
— Дядя, дай мне спичку. Не гаси, а?
Фелипе взглянул на брата:
— У тебя еще есть сигара?
— Я понемножку тяну все ту же.
— И каждый раз, когда ты снова раскуриваешь ее, она пахнет все противнее, — сказала Нинета.
Серхио отдал горящую спичку племяннице:
— Сумеешь взять? Смотри не обожгись.
Спичка потухла.
— Зажги другую и дай мне.
— Никаких спичек, — остановила их Петра. — Не то ночью наловишь рыбы.
Девочка состроила капризную гримаску:
— Мне скучно…
Она стала расхаживать вокруг стульев, на которых сидели взрослые. Фелисита смотрела в сад неподвижным взглядом.
— Мама, а что мне делать? — спросил Хуанито.
— Сиди смирно. Как жара спадет, сядем в машину и поедем домой.
Серхио, потупившись, разравнивал землю ногой.
— Послушай, Петра, — сказала Нинета, — не надо пока что думать о возвращении. Как начнешь думать раньше времени, все уже получается не так.
— Но когда-то уезжать все равно придется.
— Да, конечно, но пока не наступила минута отъезда, ты об этом и не думай.
— Насчет того, о чем я недавно говорила… Мне очень-очень этого хочется, понимаешь?
Фелипе вдруг схватил Петриту, проходившую за его стулом, и закричал:
— Ну-ка, дочка, марш отсюда! Амадео, Хуанито! И вы тоже, бегом все! Быстро на улицу! Поиграйте там! На улицу! Петри, поцелуй папу и беги.
Обрадовавшись, Хуанито и Амадео вскочили со стульев и с воплем «ура-а-а!» бросились к двери.
— Подождите меня! — закричала Петрита.
Амадео задержался в дверях.
— Пошли! — сказал он сестре, взял ее за руку, и оба скрылись в коридоре.
— Я уже не мог смотреть на детей. Думал, с ума сойду. Пусть побегают, порезвятся. В кои-то веки выбираемся за город — раз в году.
Петра покосилась на мужа и сказала, обращаясь к Нинете:
— Вот тебе отцовское воспитание. Ничего другого ему в голову не пришло. Отпустить детей, чтоб носились сломя голову без присмотра, будто беспризорные. Еще, не дай бог, повредят себе что-нибудь. Только бы ему не надоедали, понимаешь?
— Не знаю, зачем ты так говоришь, — возразил муж. — Вечно у тебя на уме плохое. Я это делаю потому, что нельзя же детей целый день держать на привязи, как нравится тебе. И так они круглый год заперты на четвертом этаже. А ты держишь их у своей юбки и в такой день, когда они могут вволю побегать.
— Ну скажи пожалуйста! На то и родители, чтобы присматривать за маленькими детьми. Иначе как привить послушание и уследить, чтобы с ними ничего не случилось?
— А что с ними, по-твоему, должно случиться? Чем скорее привыкнут к самостоятельности, тем проще им будет жить и научатся сами, без посторонней помощи о себе заботиться. Единственно чего можно достичь твоим способом — это застращать их так, что они всегда будут нуждаться в опеке.
— Вот и нужны родители, чтобы дети чувствовали, что ими руководят.
— Очень хорошо. И когда им стукнет двадцать, как радостно будет видеть, что они без родителей шагу ступить не могут.
— Ну что опять затеваете спор? — вмешался Серхио.
— Нет, Серхио, в самом деле, он же детьми не занимается… Вот скажи ты…
— Знаешь, Петра, — сказал Серхио, — я думаю, ничего с детьми не случится, если они полчаса побегают на свободе. Ведь здесь, в деревне, нет ни машин, ни других опасностей, это же не город. И ты смотри, какими смирными и послушными были они целый день.
— Так-то оно так. Но я сказала то, что должна была сказать. Если отец всячески старается помешать воспитанию, так нечего потом меня винить. Это его дело. И хорошо еще, что они в трусиках, не то посмотрел бы, во что превратится их одежда, когда они вернутся. Тут уж мне… — И она махнула рукой.
— Вот взгляни на нее, — сказал Фелипе, кладя руку на голову Фелиситы. — Она сегодня на высоте. Будто пришита к твоей юбке! Провела воскресенье — хоть плачь. Но в примерном послушании. Она привыкла, ей нравится скучать, ее уже и заставлять не надо.
Фелисита молчала, а отец продолжал, не снимая руки с головы девушки:
— Этой надо ставить пятерку за тупое повиновение.
— Не хватало только, чтоб ты еще издевался над девочкой. Только этого и не хватало. Не обращай внимания, доченька. Иди ко мне.
Петра привлекла дочь к себе, но Фелисита уже шмыгала носом и молча роняла слезы на толстую голую руку матери. Потом вдруг вскинула голову, как разъяренная змея, и в порыве злости крикнула отцу сквозь слезы:
— Что я тебе сделала? Скажи. Я тебе ничего не сделала! Если я тупая, тем лучше! Да, лучше! Так и знай! Лучше!.. — И зарыдала, уткнувшись в руку матери.
— Вот видишь? — со злобой произнесла Петра. — Видишь, чего ты добился!
Фелипе ничего не ответил, потом встал:
— Пойду ненадолго к Маурисио.
Проходя мимо кухни, задержался, уперся руками в дверной косяк. На кухне были жена и дочь Маурисио.
— Пойду потолкую с вашим мужем о том, что новенького.
— И прекрасно. Он там сейчас с посетителями. Не то он весь день провел бы с вами в саду.
— Вот я к нему и иду. Если гора не идет к Магомету… Пока.
Маноло прошел через зал, не останавливаясь, едва попрощавшись на ходу.
— Ушел… — сказал Лусио.
Маурисио пожал плечами:
— Видно, была гроза.
Вскоре появились Чамарис и оба мясника. Маурисио спросил их:
— Ну что, получился праздничек?
— Какой праздничек?
— Да с женихом моей дочки.
Высокий мясник покачал головой:
— Ах, вот что ты хочешь знать! Похоже, что-то было. Он ушел?
— Выскочил как ошпаренный.
— Так и должно было быть.
— Вы что-нибудь слышали?
— Слышать не слышали. Все было тихо-мирно. Но мы видели его лицо, этого достаточно.
— Понятно. Но в общем-то — что?
— Ты хочешь все сразу, так нельзя, — засмеялся высокий мясник. — Ну да, она послала его ко всем чертям, сама сказала. Ты доволен?
Маурисио принялся доставать стаканы?
— Так дураку и надо. Что будете пить?
Клаудио подтолкнул локтем другого мясника и сказал, кивнув на Маурисио:
— Ты только погляди, как он радуется. Это вместо того, чтобы огорчиться, ведь дочь с женихом поссорилась.
— Он все время на него косо смотрел, — сказал Чамарис. — Душа не лежала. Интересно, кто же его кандидат?
— Никакого кандидата нет, — ответил Маурисио. — Пусть будет кто угодно, только не этот ловчила: с души воротит, как увижу его морду. Да еще и профессия у него такая…
— А чем он занимается? — спросил шофер.
— Чем занимается? Я почти никому об этом не говорил, стыдно было. Агент по продаже пуговиц! Представитель фирмы пластмассовых пуговиц. Кому сказать!
Все засмеялись.
— Смейтесь, смейтесь. Смех один, да и только!
— Ну ладно, наливай. Глядите, как взвился! — сказал Клаудио. — Видно, парень этот малость портит тебе кровь.
— Ты себе и представить не можешь, — продолжал Маурисио, наполняя стаканы. — Пуговичный коммивояжер! В один прекрасный день он сюда заявился с альбомчиком под мышкой, вы бы только видели: картонные листы, ну, вроде как вон в том календаре, а на них — рядами пуговицы всех фасонов и размеров, выбирай, какие хочешь! Что может быть смешнее? Куда лицо спрятать от стыда, если такой окажется твоим зятем? Мужчине таскаться по улицам с такой штукой!.. Господи, столько на свете профессий, и хороших и плохих, так надо же, чтоб на мою голову свалилось такое! В жизни не придумаешь!
Эти слова были встречены дружным хохотом.
— Тут у вас, я гляжу, весело, — сказал, входя, Фелипе Оканья.
— Привет, Оканья! Как дела?
У стойки потеснились, давая ему место.
— Ничего, ничего! Ради бога, не беспокойтесь!
— Идите сюда, выпейте чего-нибудь, — пригласил Лусио.
— Спасибо.
Немного помолчали. Потом Лусио вытащил кисет с табаком:
— Закурите?
— Ну что? — спросил Маурисио. — Устал от своих домочадцев?
— Да, немножко есть.
— Слушай, давай тебя представлю этим сеньорам. Они — цвет моей клиентуры, понимаешь? Сливки общества, которое собирается здесь.
Оканья смущенно улыбнулся!
— Очень приятно, рад познакомиться.
— Как поживаете?
— Спасибо, хорошо.
Они не знали, надо ли подать друг другу руку. Шофер грузовика сказал:
— Приехали провести воскресенье за городом, не так ли? Сбежали от мадридской жары?
— Угадали.
— Ну, я думаю, — продолжал шофер, — с вашей машиной вы можете ехать куда угодно, и поездка не выйдет вам боком.
— Конечно.
— Хорошо, должно быть, тянут эти машины, хоть они и старые, я хочу сказать — ваша модель.
— Это верно, я на нее не жалуюсь. Большего и требовать нельзя — уже двенадцать лет мне служит.
— А знаете, с ней не сравнить даже «шевроле» выпуска того же года! Куда там!
— Да, это верно. Таких теперь уже не делают. Даже следующая модель была куда хуже. А вот эти старушки, как моя, еще бегают несколько штук, езжу себе потихоньку. При этом кругом полно новых машин…
Они отошли от остальных. Маурисио прервал их:
— Что будешь пить?
— Давай коньяк. И сюда еще один.
— Нет, нет, спасибо. Я пью вино.
— Может, выпьете рюмочку, а?
— Большое спасибо, не могу. Мне вообще крепкие напитки не очень-то… Так вот, вы говорите — новые машины, дело в том, что выпускают много, но они куда хуже. И намного хуже, верно? Машины нарядные, красивые линии, отделка, расположение приборов — смотрятся шикарно. Но и только. А насчет выносливости… насчет выносливости, что в конце концов важней всего, так выносливости нет ни на грош. И в помине нет. Одно расстройство. В общем, хлам выпускают сейчас.
— Точно. Но что поделаешь? Теперь на этом вся промышленность держится. Фирмы заинтересованы, чтобы их изделия изнашивались как можно скорей, чтобы модели машин амортизировались за определенное время, понимаете? Так они могут продавать все больше и больше. Это нетрудно понять.
Чамарис и оба мясника отошли к Лусио, оставив Оканью с шофером грузовика.
— А где пес? — спросил Чамарис.
— Выбежал на улицу, с детьми этого сеньора.
— Как детей увидит, с ума сходит. Совсем перестает слушаться.
— С тобой ему, видно, скучно. Пока не кончится запрет на охоту и ты снова не пойдешь с ним в горы…
Слышен был стук костяшек домино о мраморный столик. Собеседник Оканьи соглашался с ним, он добавил:
— А может, настанет время, когда можно будет купить машину… Новенькую. Заведешь, поедешь в Пуэрта-де-Йеро, например. Путь-то невелик. Ну, туда-обратно и все — готово, машину на свалку. Вечером идешь, покупаешь другую. Или такой пример: надо тебе отправить заказное письмо. Садишься в машину — и на почту. Ну, и обратно. Все — готово. В металлолом! Вот так: один раз съездил — выбрасывай. Вы меня понимаете? Как бумажную салфетку. Никакой разницы. Вот что станет с машинами, если так будет продолжаться….
— Да-да, ничего удивительного. Именно так. Вот возьмите мою машину, хоть и гремит, как таратайка, потому что совсем износилась и тише работать не может, а все же тянет. И ведь пробежала не один километр и не два.
Полицейский поставил кость и, улыбаясь, посмотрел на партнеров, которые один за другим проскочили мимо. Он снова мог ходить.
— Гляди, какой шутник! — возмутился дон Марсиаль. — Цирк устроил! Раз у тебя дубль, так надо класть, а не заставлять партнеров зря время тратить.
Кока-Склока веселился:
— Ничего, Кармело. Так их! Пусть позлятся!
— Это не есть благородно, — сказал Шнейдер. — Нельзя шутить над соперником. Это дурно. Оче-ень дурно такой шутка в игре. Не надо это никогда делать.
— Я не хотел вас обидеть, сеньор Эснайдер…
— Я не обижен. Только хочет, чтобы играть серьезно.
— Да ничего! Не робей. Так их!
— Вот вам бы, герр Кока, так, и вы обиделись бы. Этот шутка вам не понравился бы.
— Вы рассердились? Но это же невинная шутка. Откуда взяться злому умыслу у Кармело? Бедняга смирный, как теленок.
Дон Марсиаль мешал костяшки.
— Да я знаю, знаю, — примирительно пробурчал Шнейдер. — Кармело есть смирный, я это знаю, но не годится шутить над соперник в игра.
— Ладно. Ваш ход, — прервал дон Марсиаль, улыбаясь.
Вошли двое. Один из них сказал с порога:
— Там какие-то ребята взяли его кресло, — и он указал на Коку-Склоку, — и пошли кататься с горок. Если не вмешаться, они его разломают. И кусков не соберешь.
Все взглянули на того, кто это говорил. Он был кривой.
— Так это же твои, Оканья, — сказал Маурисио. — Поди посмотри.
Оканья спохватился:
— Ты прав! Это наверняка они. Куда, вы говорите, они пошли?
Кривой показал, стоя в дверях:
— Туда, на жнивье, вон туда они только что пошли, кресло толкают, в него девчонку посадили.
— О, господи! — воскликнул Оканья. — Они ее разобьют!.. — И побежал разыскивать своих детей.
— Туда, туда! Они вон за тем холмом! — продолжал объяснять ему с порога кривой.
Оба мясника, Маурисио и Чамарис подошли к двери. Шофер сказал:
— Так эти ребятишки, что тут недавно прошли, — дети таксиста?
Маурисио кивнул, не отрывая глаз от жнивья. Оканья скрылся за бугром, торчавшим среди пашни.
— По крайней мере, — сказал Кока-Склока, — хоть кого-то поразвлечет эта благословенная колесница.
Кресло на колесах увязло во впадине между двумя буграми, у входа в бывшее убежище, где теперь устроили жилье.
— Амадео!
Дети, вздрогнув, обернулись на голос отца.
— Вы с ума сошли! Ненормальные! — крикнул он им, задыхаясь.
Петрита слезла с кресла. Ее братья молча ждали. Отец подошел к ним.
— Ничего лучшего не придумали? Злодеи! Разбойники!
Он взглянул в сторону, там что-то шевельнулось. Из-за рогожи, закрывавшей вход в убежище, вышла женщина в черном, она молча смотрела на них, скрестив руки на груди.
— Добрый вечер, — сказал Оканья.
Женщина не ответила.
— Какой стыд! — продолжал Фелипе, обращаясь к детям. — Разве вы не знаете, что это кресло — ноги бедного калеки, который не может ходить? Когда вы научитесь хоть что-то уважать? Ты ведь уже большой, Амадео, пора бы соображать, что к чему. И сестренку чуть не разбили! Надо же, что придумали! Ну-ка, помогите мне вытащить эту штуку.
Мальчики бросились помогать. Оканья толкал кресло за спинку, а мальчики крутили колеса. Они прошли мимо убежища — женщина не шелохнулась и продолжала пристально смотреть на них.
— Дети… — сказал ей Оканья. — Нельзя оставить ни на минуту.
Та чуть качнула головой. Преодолев небольшой подъем, они увидели дом Маурисио.
— В какое положение вы меня поставили перед этим человеком? Что я ему теперь скажу? Видите, что вы натворили? Ну-ка, шагайте в сад к маме и сидите там до самого отъезда. Поняли?
— Да, папа, — ответил Амадео.
Оканья заколебался:
— Или нет, постойте, оставайтесь здесь, если хотите, но без глупостей, договорились?
— Да, папа. Мы больше не будем.
— Какие озорные ребята! — сказал Маурисио. — Надо же, что выдумали.
— Ума у них еще ни на грош, — ответил Оканья, ставя инвалидное кресло к стене.
— Такой возраст, — ответил высокий мясник. — У них ничего плохого на уме не было.
— Но старший уже достаточно велик, чтобы не делать такого.
Оканья отер пот платком. Как только он скрылся за дверью, дети рванулись и побежали за дом. Оканья подошел к столику, где сидел паралитик.
— Вы уж простите, ради бога. Мне очень жаль. Но знаете — дети, что с ними поделаешь. Вы уж простите их.
Кока-Склока поднял голову:
— Я? Сразу видно, что вы меня не знаете! По мне, так пусть бы хоть целый день катались. Что с ним сделается? Я только что говорил тут: слава богу, хоть кому-то этот драндулет в радость, хоть ненадолго перестанет быть такой безобразной и безрадостной вещью, какой выглядит, когда в нем сидит ваш покорный слуга. Так что не беспокойтесь и не извиняйтесь, это совсем не нужно.
— Значит, вы добрый человек, раз понимаете это так, и я вам очень благодарен…
— Да что вы! Это я должен быть благодарен вашим детям, хоть вам и удивительно, за то, что они попользовались этой… трехколесной шлюхой и порадовались. Когда бы еще такое пришлось… Ладно: по четырем! — хлопнул он костяшкой по мрамору.
Оканья продолжал:
— Но вы позволите предложить вам стаканчик. И вашим товарищам тоже.
— Ну конечно, дружище! — воскликнул Кока-Склока, снова отрываясь от игры. — Это — сколько вам угодно.
Оканья улыбнулся.
— Тут утешиться не может только тот, кто этого не хочет, — сказал кривой.
Кока-Склока повернулся к нему и закричал:
— Да ты что говоришь, алькарриец[21], похититель кур? Твой кривой глаз — что яйцо вареное!
— Ну вот. Опять он к человеку пристает, — сказал доп Марсиаль. — Ты играй, гляди на игру, сейчас продуешь и снова напустишься на бедного Кармело.
Вошли пять мадридцев: трое молодых людей и две девушки. Поговорили о чем-то с Маурисио и прошли в сад.
— Я сказал и повторяю, что тут утешиться не может только тот, кто этого не хочет, и я знаю, что говорю, — стоял на своем кривой.
— Ясно дело, когда ты охотишься, зажмуриваться тебе не нужно, — напустился на него Кока-Склока, — а какое еще утешение нашел ты в своем вываренном глазу — не знаю, но вот если ты его вырвешь, так хоть сможешь им вместо мяча играть.
Алькарриец рассмеялся:
— Ну у тебя и язычок, ничего не скажешь. Тут уж ты никому спуску не дашь. Ноги у тебя не работают, зато язык мелет. Даже больше! Я так скажу: когда с одного боку не хватает, с другого — с лихвой. У калек, вроде нас с тобой, так оно и есть. Обязательно что-нибудь да выделяется. Хочешь знать, что у меня?
— Незачем говорить, — отпарировал Кока-Склока. — Ты всегда отмочишь какую-нибудь ерунду или грубость. Не иначе как из Алькаррии свалился.
Кока-Склока вернулся к игре.
— Ну да, из Алькаррии, — сказал невысокий человек, который вошел вместе с кривым. У него через плечо висела пастушья сумка. — Из Алькаррии, оттуда на нас все беды сыплются. Оттуда спускаются лисицы и волки, которые душат овец.
— И этот туда же? — вмешался алькарриец. — Знаешь, ты лучше побрился бы хоть в воскресенье, если собрался лезть в разговоры с людьми. — Обернувшись к Чамарису и мясникам, он продолжал: — Так это правда, что тут утешиться не может только тот, кто этого не хочет. Вы знаете, что мне сказали, когда в восемнадцать лет я потерял глаз?
— Какую-нибудь глупость, — сказал Клаудио. — Что же?
Алькарриец вытер рот тыльной стороной ладони:
— Дня через два или три после происшествия попадается мне навстречу один мой земляк… Да, а случилось это из-за коробки с пистонами, ну, знаете, патентованные, у которых дырочка в серединке, сейчас таких уже не выпускают… Так вот, встречается мне этот дядечка и говорит: «Не горюй, с этим делом тебя в армию не возьмут». Я послал его подальше. Очень уж мне это обидным показалось. Потом, знаете ли, прошло время, и настал день, когда мой возраст призывали, я, представляете себе какая радость, остался дома, а мои-то сверстники пошли служить. Ну, что вы скажете?
— Да, все имеет свою хорошую и плохую сторону.
— Вот почему я и говорю, что тут утешиться не может только тот, кто этого не хочет. Даже из несчастья можно извлечь пользу. Во внешности мне терять нечего: что некрасивый и кривой, что просто некрасивый. Так что дело только в зрении. Но и тут, знаете, могу вам сказать, что одним глазом видишь лучше, чем двумя. Я не шучу. Дело в том, что, когда у тебя только один глаз, ты знаешь — он у тебя один и стараешься глядеть им как следует и днем и ночью, и глаз этот становится ох каким зорким! — Кривой указал пальцем на свой здоровый глаз. — В конце концов получается, что одним глазом ты начинаешь видеть многое такое, чего бы не увидел и двумя.
Оканья продолжал беседовать с шофером:
— Из тех, что выпускают сейчас, лучше всех — «пежо». Хотя у них и низковата посадка, трудно ремонтировать.
Солнце клонилось все ниже. Теперь оно, похожее на сверкающий круглый поднос, как будто висело уже метрах в шести-семи над горизонтом. Западные склоны холмов возле Паракуэльоса окрасились багрянцем. Возвышенность спускалась к Хараме крутыми уступами, образуя овраги, террасы, расщелины, разломы, осыпи, холмы, разбросанные в беспорядке, словно груды белесой земли, и все это, вместе взятое, выглядело не следствием геологического процесса, а результатом работы каких-то гигантов, которые лопатами и заступами сбрасывали землю в отвал как попало. Под косыми лучами вечернего солнца неровности рельефа приобретали резкие очертания, которые никак не вязались с представлением о медленном воздействии слепых сил природы, а вызывали мысли о причудах развлекавшихся здесь когда-то великанов.
— Вон там Паракуэльос, да, Фернандо?
— Да, Паракуэльос-дель-Харама. Вон торчит колокольня. Идем, не задерживайся.
— Ты там был?
— В Паракуэльосе? Нет, дорогая. Что я там потерял?
— Ну, я не знаю, мог и побывать зачем-нибудь. А мне сейчас хотелось бы посидеть вон над тем обрывом. Вид оттуда, наверно, — красота.
Они пошли дальше.
— Ну, мы уж тебя знаем, Мели. Ты всегда была фантазеркой.
Теперь до них снова доносились музыка и шум из закусочных. Длиннющие тени Фернандо и Мели двигались перпендикулярно реке. С террасы над нижним бьефом плотины уже совсем ушло солнце, прохладная тень и близость воды взбодрили людей. Грохотал водоспуск. Мели и Фернандо снова прошли вдоль столиков по самому краю бетонной площадки. Мели посмотрела на водовороты взбаламученной воды, потоки которой разбивались о боковые стенки, прежде чем устремиться в горловину водоспуска.
— Что, если бы я туда упала?
— Рассказать об этом ты не смогла бы.
— Как страшно! — И в ужасе поежилась.
Потом снова перебрались по дощатому мостику и роще и дошли до того места, где был разбит их лагерь.
— Ничего себе! — сказала Алисия, завидев их. — Вы знаете, который час?
— Должно быть, не очень поздно.
— Восьмой час. Вот посмотри.
Мигель встал.
— Самое время смотать удочки отсюда и подняться наверх.
— А знаешь, у нас там было приключение!
— Что с вами стряслось?
— Нас остановили жандармы, — стала рассказывать Мели. — Оказывается, девушке нельзя ходить по берегу в том виде, в каком она хочет. Эти два пугала сказали, чтоб я прикрыла плечи.
— Вот как? Забавно! Разве, что здесь, что там, — не одно и то же?
— Видно, нет.
— Любят мозги пудрить, лишь бы не давать людям жить.
— Вот именно, — сказала Алисия. — Ладно, пошли одеваться. Вставай, Паулина.
— Если б ты знала, как мне не хочется трогаться с места. Хорошо бы остаться здесь подольше.
— Ну что ты выдумала! Мы же договорились встретиться с остальными. Увидишь, как будет весело.
— Не знаю, что тебе ответить.
— Так или иначе, решайте поскорей.
— Мы остаемся, — заключил Себастьян.
Алисия сказала:
— Какая жалость, ребята, теперь все сами по себе.
— Вот куда бы я с удовольствием пошел, так это на танцы в Торрехон.
— Ты опять за свое? — возмутилась Мели. — Ну и тип! Что заберет себе в голову, сам черт не выбьет!
— А те что там делают?
Мигель подошел к компании, где сидел Тито. Все трое пели.
— Эй, пошли наверх!
— Что ты сказал? Мы не расслышали, — ответил Даниэль.
Лусита засмеялась.
— Ладно, хватит трепаться. Уже поздно. Решайте.
— И что мы должны решать?
— Ну вот что, некогда тут с вами разговаривать. Оставьте ваши шуточки при себе и скажите, идете вы наверх или нет.
— А это смотря куда…
— Сразу видно, на вас рассчитывать нечего. Я не собираюсь тут с вами время терять. Делайте что хотите.
Мигель повернулся и пошел обратно. Кармен и Сантос встали. Она подняла руки и потянулась, закинув голову. Опустила глаза.
— Что ты на меня смотришь?
Сантос стоял перед ней, прислонившись к дереву. Она подошла и потерлась щекой о его щеку.
— Милый, — сказала она.
— Ты идешь с нами одеваться, Кармела?
— Да, иду. Только возьму одежду.
Она наклонилась за одеждой. Сантос продолжал стоять у дерева.
— Слушай, Кармен.
— Да, моя радость, — обернулась она к нему.
— Тебе очень хочется идти наверх?
— Что? Ей-богу, не знаю. А в чем дело?
— Нет, ничего. Я думал, ты устала.
Снова подошла Алисия.
— Пошли, если идешь.
Кармен держала в руках одежду и зеленые босоножки.
— Я готова.
— А ты тоже одевайся, — сказала Алисия. — Ну что тут стал? Чего ждешь?
— Иду, иду…
Мигель уже одевался. Сантос сдвинулся с места. Мели пошла с Алисией и Кармен. Прошли мимо Даниэля с компанией.
— Ничего себе троица, — сказала Алисия.
Мели не обернулась.
— Какой чудесный день, девочки! — сказала Кармен. — Особенно после обеда — прелесть!
— Да? — протянула Мели. — Тебе виднее.
Себастьян положил голову на колени к Паулине.
Она смотрела на кирпичные своды моста, окрашенные заходящим солнцем. Тень от моста ложилась на илистые воды реки.
— Завтра опять понедельник, — сказал Себас. — Много будет мороки на этой неделе…
— В гараже?
— Где же еще?
Фернандо прошел мимо них и стал что-то заполаскивать в реке.
— С каждым днем работы все больше, такая тоска! Хозяин доволен, а мы на части разрываемся.
— Не думай ты ни о чем.
— Это как же?
— Ну сейчас не думай об этом.
— Ни о чем не думать нельзя, если ты только не спишь. Человек не может все время ни о чем не думать.
— Тогда сии. — И она положила руку ему на глаза.
— Не надо, на пикник спать не ездят.
— Так что же ты хочешь?
Фернандо уже возвращался, выжимая плавки.
— Чтобы не было столько работы. Чтобы не портить себе воскресений, думая о предстоящей неделе.
— В чем дело? — спросил Фернандо. — Ну ты и лентяй. Вон как хорошо освоил горизонтальное положение. Счастливые вы: сели, дали газ и в ноль минут уже в Мадриде.
— Куда там, настоящие господа.
Кармен одевалась в зарослях ежевики у подножья холма, а Мели и Алисия держали халат.
— Я красная как рак, — сказала Кармен, посмотрев на свои плечи. Она ловко освобождала тело от одежды. Из-под блузки спустила лямки купальника. — Сейчас оденусь, девочки. Не смотрите, — смеялась она.
— Ну и дуреха, — сказала Мели. — Думаешь, ты Шахразада?
Кармен засучила рукава блузки и застегнула юбку. Потом спустила купальник и вылезла из него. Донесся голос Фернандо, который кричал, чтобы они поторопились.
— Пошевеливайтесь. Ребята уже готовы.
В кустах ежевики что-то прошуршало. Алисия, которая в это время одевалась, испуганно вздрогнула. С вершины холма кидались в них землей.
— Какие бессовестные! — сказала Мели, глядя вверх.
Она разглядела две головы, тотчас же спрятавшиеся. Кармен сказала:
— Мальчишки.
— Нахалы.
Снова зашуршали комья земли по листьям ежевики. Алисия тоже посмотрела.
— У этих идиотов ни стыда, ни совести. Вот ведь пристали!
— Мало ли на свете дураков, — сказала Мели. — Ты оделась?
— Я готова.
Их звали уже хором.
— Не на пожар спешим, успеем.
Они подошли к своим.
— Вы ничего не забыли? — спросил Мигель.
— Не беспокойся, пошли.
Мигель обернулся к Паулине и Себастьяну.
— Значит, постарайтесь подняться наверх до десяти. А если нет, мы оставим вам сумки и судки, чтоб вы их привезли на мотоцикле. Ладно?
— Да, конечно. Мы поднимемся раньше, чем вы уедете, не беспокойся.
— Тогда пока.
— Давайте, веселитесь!
Даниэль, Тито и Лусита сбились в кучу. Слышен был их смех.
— Ну и троица!
— Вы остаетесь здесь, — сказал им Мигель, — ну что ж, только помните, что в десять мы уезжаем. Смотрите сами как быть.
Тито поднял голову и махнул рукой, показывая, чтобы они уходили.
— Шагайте, шагайте, о нас не беспокойтесь. Мы сами с усами, независимые.
— Вот мы какие! — крикнул Даниэль из-за спины Тито.
Лусита сказала:
— До скорого!
Они уже уходили.
— Оба будут лезть к ней наперебой, — сказал Мигель. — Жалко Луситу.
Сантос и Кармен поднимались по земляной лестнице, обнявшись и глядя под ноги, как будто считали ступени.
— Пара голубков, — сказала Мели.
Фернандо разговаривал с Мигелем:
— Старик, уже полвосьмого. Наши, должно быть, совсем извелись, дожидаясь.
Мало-помалу они взбирались все выше и выше, и люди у реки оставались где-то далеко внизу. Многие еще сидели компаниями в роще и на другом берегу, среди кустов, на краю желтеющей пустоши. Обнаженные тела на бетоне плотины отливали медью под заходящим солнцем. Вдоль канала вытянулись тонкие и длинные тени черных тополей.
— Дыхание перехватывает.
Фернандо тяжело дышал. Они поднялись наверх. Мели задержалась на середине склона.
— Подождите, — сказала она им снизу. — Эту высоту надо брать не спеша.
Музыка из приемников поднималась сюда, громкая и назойливая, вместе с говором толпы и грохотом воды в водоспуске, скрытом деревьями; весь этот шум пропитывал кроны деревьев, как жаркий дым веселого пиршества.
— Какая ты неженка, Мели!
Она поднималась очень медленно, упираясь руками в бедра. Посматривала наверх, прикидывая, сколько еще осталось.
— Совсем не могу… — вздыхала она.
Река осталась у них за спиной, и они уже не видели ни рощи, ни пустоши, ни моста. Гребень холма прикрывал позади них реку с ее грязно-огненного цвета водой, эту вену земли, которая была почти неразличима под косыми лучами оранжевого солнца. Снова шли они виноградниками. Алисия повисла на Мигеле, ухватившись за него обеими руками. Склонила голову ему на плечо. Мигель что-то напевал.
— Интересно, они сообразили привезти патефон?
— Убьем их, если не привезли.
— Тебе так хочется потанцевать?
— Ну что за жизнь! — сказала Мели. — Я всеми способами пытаюсь хоть немножко развлечься сегодня. И все безрезультатно. Не возвращаться же домой в таком настроении. Увидит тетка, какое у меня расстроенное лицо, и сразу скажет, что я заболела.
— Господи боже мой, теперь выходит, что ты скучала.
— Ну да! — сказал Фернандо. — Я-то знаю, что с ней происходит!
— Больно уж ты проницателен.
Слева от дороги строили фабрику, и проход остался между огородившим стройку забором и проволочной сеткой виноградника. Шли будто по длинному нефу с цементным потолком, вдоль пустых строительных лесов. Пролетели два голубя.
— Не понимаю, — сказал Мигель. — Всегда вы жалуетесь на скуку, что ты, что моя сестра. Никак этого не пойму. Сам я, ей-богу, не могу различить, когда скучаю и когда развлекаюсь, понимаете? Либо я никогда не скучаю, либо… — И он пожал плечами.
— Ты счастливый.
Выйдя на шоссе, Сантос и Кармен остановились и стали с кем-то громко переговариваться. Сантос обернулся к товарищам:
— Эй, все здесь?!
То были Сакариас и вся компания. Сакариас и Мигель первыми посреди шоссе подали друг другу руки, словно вожди двух племен.
— Как дела, пираты?
— Самое время вам появиться!
— А мы были там.
— Надеюсь, вы привезли патефон, или я хочу слишком многого?
Блондинка, которая была с ними, разглядывала брюки Мели.
— Под деревьями?
— Да, внизу, где плотина.
— Ну и…
— Ничего, неплохо.
— Это видно по вас.
— А вы?
Они остановились на шоссе.
— Разве Даниэль не приехал?
— Приехал!
Фернандо обнялся с другим парнем, громко вскричав: «Самуэлильо, бродяга!» — и стал хлопать его по спине. У Сакариаса под расстегнутой рубашкой торчали ребра.
— Еще приехали Тито, Себастьян с невестой и Лусита, — кажется, всё…
— Помаленьку становимся модерновыми, а?
— Кто? Я?
— Те, что остались у реки… Не знаю…
— Ну ладно, скоро стемнеет, а мы тут стоим.
— Чего не знаешь?
— До чего они дойдут.
— Машина идет, посторонитесь!
— А пластинки?
— Вон у него.
— Какая пыль!
— Да пошли…
У канавы сидели еще трое.
— Вы не знакомы с Марияйо? Это наше новое приобретение.
У нее было лицо, как у китаянки, и гладкие черные волосы. Алисия уже знала ее. Поздоровались, а Фернандо посмотрел на ее грудь и бедра, потом тоже подал руку.
— Да, конечно, и притом стоящее приобретенье, — заметил он, смеясь.
Марияйо выдержала его взгляд с насмешливой улыбкой.
— Очень приятно…
— Пластинок взяли шесть, но одну утром расколол этот лопух Рикардо.
— А что мы тут стоим? — сказала Мели. — Пошли наконец.
— Где вы торчали целый день? Никак не могли вас засечь.
— Мы всегда находим хорошие места, — сказала блондинка. — А ты что думала?
— Еще бы, люди солидные.
Тот, что нес патефон, поставил его на край канавы и стал разглядывать царапину у себя на ступне.
— Эй ты, прохиндей! — сказал парень, у которого на боку висела сумка. — Разве это место для патефона?
Тот поднял голову.
— Меня зовут Рикардо.
У него были ровные белые зубы. Парень с сумкой засмеялся.
— Нас тут не так уж много, — сказал Мигель. — А вас сколько?
— Восемь, не считая собаки.
— Какой собаки?
— Да никакой. А вы сразу и клюнули!
— Ну и шутник. Ладно, что мы тут стоим? Пошли.
Сантос и Кармен снова ушли вперед по дороге к кафе. Остальные пошли медленно, толпой, дожидаясь друг друга. Фернандо пристроился к Марияйо справа.
— А ты из какого квартала? — спросил он. — Если не секрет.
— Из квартала любопытных, — смеясь, отвечала девушка. — Знаешь, где это?
Мигель и Сакариас шли рядом, а Мели взяла под руку Алисию:
— А знаешь, она миленькая. Похожа на китаянку.
— В школе кройки и шитья, где мы познакомились, ее ввали Кореянка.
Сакариас повернулся и крикнул тем, которые несли патефон и все еще медлили у шоссе:
— Рикардо, иди быстрее, нам патефон сегодня нужен!
Самуэль шел с блондинкой, обняв ее за плечи правой рукой. Теперь солнце оказалось впереди, в конце дороги, над холмами Кослады. Две девушки из новой компании ждали Рикардо и парня с сумкой.
— В котором часу ваш поезд? — спросил Мигель Сакариаса.
— В двадцать два тридцать.
— Ты совсем как начальник станции.
— Так говорят на железной дороге.
— Хватит с лихвой. К тому времени напляшемся.
— Не знаю, вдруг какая-нибудь из девиц захочет уехать пораньше и начнет ныть.
Сантос и Кармен остановились перед кафе.
— Мигель, — сказал Сантос. — Подойди на минутку, мне надо тебе что-то сказать.
Кармен прислонилась к стене.
— Что такое?
— Послушай, Кармела что-то неважно себя чувствует. Устала и все прочее, понимаешь? Так что мы решили вернуться в Мадрид. Здесь нам, в общем-то, делать особенно нечего, и лучше ей попасть пораньше домой и лечь спать.
— Ладно, ладно, это ваше дело. Если она устала, поезжайте. Решай сам. Мне, конечно, жаль, что вы рано уезжаете, но раз она устала, так будет лучше.
— Значит, я вытаскиваю машину, и мы трогаемся прямо сейчас. — Покосившись на Сакариаса, он добавил: — Ты уж извини, мы вас не ждем, ладно?
— Да будет тебе!
— Она не очень-то привыкла купаться в реке, оттого, наверно, и устала.
— Ну ладно, ладно! Зачем еще какие-то объяснения? Забирайте велик и катите.
Все уже подошли к кафе.
— Ну, входим или как?
Высокий мясник глядел на них с порога. Сантос сказал:
— Вечером, если поедете через Мачину, сосчитаемся, с кого сколько. А нет — так завтра.
— Договорились, — сказал Мигель.
Вошли гурьбой. Те, кто был в зале, разглядывали девушек, пока они проходили.
— Ну вот мы и снова здесь.
— Очень хорошо, — отозвался Маурисио. — Пойдете в сад, да?
— Конечно.
— Так пожалуйста, пожалуйста. Дорогу уже знаете.
Все направились в сад. Мели шла последней.
— Шик модерн! — пробормотал алькарриец, провожая взглядом девичью фигуру в брюках.
Пастух спросил:
— У вас, в Алькаррии, небось такого не увидишь?
— Куда там! Один раз к нам приехали на автомобиле какие-то люди, дама у них была в брюках и говорили не по-нашему, так им в гостинице отказались подать еду, подумали, что они протестанты.
— Это похоже на Алькаррию, — сказал пастух. — Ну какое отношение имеет религия к тому, что люди надевают на себя.
— Ну конечно же, никакого. Только хозяйка гостиницы очень уж была набожной и боялась, как бы священник на нее не напустился. — Алькарриец рассмеялся, потом продолжал: — Так вот, они сказали, что приехали посмотреть монастырь. Какой такой монастырь? Никто из нас не знал. Наконец какой-то дядя показал им несколько каменных глыб, что лежат как попало на вершине холма. Оказывается, это все, что осталось от монастыря. Кому придет в голову назвать это монастырем? Но приезжих этот самый монастырь здорово заинтересовал. Чем современнее люди, тем больше они интересуются стариной. Оно и понятно. А вот хозяйка-то в этом деле и осталась с носом, опростоволосилась, ведь сам священник отправился показывать иностранцам эти развалины. После того случая она уже так не пеклась о церкви, и вся ее набожность кончилась.
Мясники веселились вовсю. Пастух сказал, смеясь:
— Да, для нее это, видно, был удар.
— Такое встретишь только в глухой деревне, — заметил кто-то из присутствующих. — Не то что здесь, под Мадридом, где народ давно испорчен, и всего повидал, и все знает.
— Испорчен, ох как испорчен, — согласился пастух, качая головой.
Дон Марсиаль послюнил копчик химического карандаша и записал на мраморе счет игры. Шофер в замасленном комбинезоне сказал:
— Достаточно взглянуть, как поставлены свечи в этой модели и в модели «пежо» сорок шестого года. Ерундовая разница, но… — Тут он обернулся к Маурисио. — Налей-ка нам еще по стаканчику, мне и этому сеньору. Понимаете, некоторые фирмы стараются вносить технические новинки в каждую модель, которую выпускают.
— Да, да. Но есть и такие, которые изменяют только кузов. Внешний вид — вот что привлекает. Так сказать, фасад. А «пежо» — это да, это серьезная фирма.
— Конечно. Держите, — протянул он собеседнику стакан, только что наполненный Маурисио. — В машинах, как и во всем прочем, важно в конце концов то, что внутри. Как и во всем на свете. Почему с машинами должно быть иначе?
Появились Кармен и Сантос, который вел за руль велосипед.
— Уже уезжаете? — спросил Маурисио.
— Да, уезжаем. Знаете, нам надо пораньше. Остальные еще побудут.
— Ну что ж… Надеюсь в следующее воскресенье снова видеть вас здесь. — Он вытер руку полотенцем и через стойку протянул Сантосу.
— Тот, высокий, остался, он сегодня за всех будет расплачиваться, — сказал Сантос, пожимая протянутую ему руку. — Чтобы не возиться с расчетом сейчас, ладно?
— Конечно. До скорого свидания, молодые люди.
— До свидания. Всего хорошего, — ответил Сантос, поднимая над порогом переднее колесо велосипеда.
— Заказали?
Патефон стоял на стуле. Из противоположного угла сада на молодежь смотрели жена и родственники Оканьи.
— Сейчас принесут вина.
— Я пью полынную, — сказал, смеясь, Сакариас.
Затылком он касался живой изгороди, поскольку стул отодвинул назад. Патефонный диск трясся, пока его хозяин крутил ручку.
— Что это за полынная? — спросила Мели.
— Восточный напиток.
Сакариас засмеялся. Тонкими и вытянутыми чертами лица он напоминал борзую.
— Значит, ты?..
— Я родился в Багдаде. Ты не знаешь?
— То-то оно и видно!
— Не веришь? Я показал бы тебе метрику, но она на арабском языке, все равно не поймешь.
— Да ладно, верю тебе на слово.
Они уселись за большой стол слева от входа, у капитальной стены дома. Парень с красивыми зубами стоял рядом с тем, который наводил патефон.
— Ну, где же музыка?!
— Минуту терпения.
Алисия спросила:
— А что у вас за пластинки?
— Не первой свежести.
— Для танцев сойдут, — сказал Самуэль. — Даже самба есть.
— Это хорошо.
— И танго «Морской волк» в исполнении Гарделя[22].
— Вот уж это действительно последний крик! — засмеялся Фернандо.
Блондинка, подруга Самуэля, откинулась назад вместе со стулом и оперлась локтями о подоконник выходившего в сад окна, грудь она выпятила вперед. На девушке была алая блузка.
— Сядь по-другому, — сказал ей Самуэль.
— Почему?
— Сломаешь стул.
— У кого иголки? — спросил хозяин патефона.
— Ты же их взял.
Он похлопал себя по карманам и услышал, как зазвенели иголки.
— Ты прав. Что поставим?
— Ну как, работает? Давай тогда румбу.
— Первое, что попадется, — сказал Рикардо, сунув руку в сумку. — Вот эту.
— Ну-ка, что там?
— Не скажу, сюрприз.
Пять мадридцев, которые пришли еще засветло, сидели за столиком напротив, возле курятника. Петра посмотрела на часы.
— Ох эти дети, что за дети… Пора бы уж.
Серхио повернул свой стул так, чтобы видеть середину сада, где начинались танцы.
— Сейчас придут.
— И мой-то хорош! Должно быть, хлещет там вино…
— А нам еще нужно растопить плиту и приготовить ужин, — рассудительно сказала Фелисита, поддерживая мать.
— Ну конечно! Никто ни о чем не думает! — отозвалась Петра.
Все четверо смотрели на патефон и на ребят, сидевших с Мигелем и Сакариасом.
— Дай ты своей семье хоть немножко свободы, Петра.
Луч солнца, который прилег на неприкрытую зеленью стену, между столиком семьи Оканьи и столиком пяти мадридцев, становился все тоньше и наконец совсем исчез, и весь сад погрузился в тень. Над наружной стеной появилась голова Хуанито. Заиграла музыка.
— Ку-ку, мама! Мамочка, посмотри, где я!
Звучал знаменитый пасодобль «Канарские острова».
— Хуанито!.. Это что такое, спустись немедленно! Сейчас же идите все сюда! Быстро!
Голова Хуанито исчезла.
— Господи! Ну что за разбойники!
Рикардо пошел танцевать с девушкой в черном. В углу Фернандо смеялся, сидя рядом с Марияйо; она вовсю кокетничала, играя своими китайскими глазами.
— Ну и девчонка! — сказал Фернандо. — У тебя такие глаза, детка, каждый в отдельности — целый фильм. Двойная программа, да еще на беспрерывном сеансе. Потанцуем?
Марияйо, смеясь, согласилась.
— Эй, пропусти-ка нас.
Сакариас пододвинул к столу свой стул, и они прошли за ним, задевая спинами листья жимолости. Появился Маурисио с подносом.
— Поставьте сюда, пожалуйста.
— Ого! — сказал Маурисио. — На этот раз вы приехали во всеоружии.
Он снимал с подноса стаканы, беря их сразу по четыре в обе руки, и ставил на стол.
— Простите, что вы сказали?
— С музыкой приехали, — кивнул Маурисио в сторону патефона.
— А-а, да, — ответил Самуэль. — Скажите, а плату вы берете за то, что здесь танцуют?
Маурисио, уже направившийся было к дому, обернулся к нему, держа поднос в руке.
— Брать плату?.. — спросил он. — Вот те на! За что же я могу брать? За пыль, которую вы поднимаете? Ну ты скажи, а ведь неплохо можно заработать!.. — И ушел в дом.
— Не такой уж глупый был вопрос, — сказал Самуэль, оглянувшись на своих. — Если рассудить…
— Конечно.
В центре сада смеялась Марияйо. Мигель наполнил стакан, залпом выпил его и пошел танцевать со своей невестой. Владелец патефона не отходил от своего сокровища.
— Оставь ты его, Лукас, — сказала ему одна из девушек. — Он уже сам играет.
Парень поднял голову и подошел к столу. Сакариас наполнял стаканы.
— Что? Не доверяешь этой механике?
— Бывает, останавливается. Хуани, потанцуем?
— Скоро, наверно, кончится. Ну ладно, пойдем.
Самуэль и блондинка обняли друг друга за плечи и вместе качались на стульях. Девушка напевала пасодобль под патефон. Марияйо снова засмеялась. Сакариас подтолкнул Мели локтем.
— Вот те на, — кивнул он на танцующих, — у меня увели пару.
— Кого это, Марияйо?
Сакариас кивнул.
— Ты сам позволил ее увести, — сказала Мели. — Что, жалко стало?
Сакариас осушил свой стакан.
— Я предпочитаю замену.
— Какую замену?
Сакариас снова откинулся назад вместе со стулом и уткнулся затылком в листья жимолости.
— Стул поедет, и ты упадешь, Сакариас. Так какую замену?
— Да тебя, какую же еще?
— Меня? — повернулась она к нему. — Вот оно что! Понятно. А если она вернется?
Сакариас улыбнулся, заложив руки за голову.
— Место будет занято.
Дети Оканьи пробирались между танцующими. Хуанито столкнулся с Марияйо.
— Мальчик!..
— Мог бы обойти, а не путаться у людей под ногами, — сердилась Петра. — Идите-ка сюда. Какие чумазые!
Она схватила Петриту и высморкала ей нос. Потом послюнила платок и стала вытирать лицо. Девочка ныла, потому что мать слишком сильно терла. Наконец Петра показала ей почерневший платок:
— Смотри! Видишь?
Фернандо и Марияйо подошли к патефону и на мгновение остановились, он протянул руку и переставил иглу чуть ли не на край пластинки. Услышав сбой в музыке, Лукас тотчас оглянулся.
— Эй, не надо! Не трогай!
— А что такого? Ему нужен специальный техник?
Лукас подскочил к патефону:
— Он очень чувствительный. Портится из-за самой малости.
Некоторое время он наблюдал, как работает патефон, потом пошел танцевать. Фернандо сказал Марияйо:
— Так нам больше достанется, верно? За один рае станцуем дважды.
— Но ведь время-то все равно бежит одинаково.
Петра спросила у детей:
— Что делает ваш отец?
— Он там с какими-то людьми…
— Сам ведь говорил, что у машины ближний свет не в порядке, лучше бы нам добраться до Мадрида, не включая фар, не то влепят штраф за техническую неисправность, а только этого и не хватало.
Она увидела Маурисио у столика мадридцев, он принес им еще бутылку вина.
— Послушайте, Маурисио! Мой муж там, с вами, не правда ли?
— Фелипе? Он в доме, у стойки, никуда не ушел.
— Так передайте, пожалуйста, ему от моего имени, чтобы он подумал наконец, что делает, и соображает ли, который час.
— Уже хотите бежать?
Танцуя между столиков, Фернандо взял стакан вина.
— Старье! — крикнул он тем, кто сидел.
— Пусть поставят румбу, тогда увидишь! — откликнулся Самуэль. — Он не видел, как я танцую, а, Сакар? Ты помнишь, как мы выдавали в позапрошлом году в «Пальмерасе»?
— Вы ходили в «Пальмерас»? — спросила Мели.
— Вот с этим птенчиком. Четыре или пять раз были.
— Больше, больше, — сказал Самуэль.
— И ты ему разрешала? — спросила Мели блондинку.
— Тогда он еще не был со мной. Иначе я бы узнала. — Она погрозила Самуэлю пальцем. — Уж показала б ему!
— Ты на коротком поводке, Самуэль, а? — улыбнулся Сакариас. — Не отпирайся.
— У нее-то? Вот еще!
— Попробуй — увидишь, — сказала блондинка. Взяла Самуэля за руку и добавила, обращаясь к Мели: — Он ведь хороший парень, понимаешь?
— Блажен, кто верует, — ответила Мели.
Фернандо опять оказался возле них и поставил на стол пустой стакан. Сакариас наполнил стаканы и сказал:
— Там, в «Пальмерасе», он был король и разодет в пух и прах. С тех пор уже здорово сдал!
— А ты откуда знаешь? — напустилась на него блондинка. — Откуда тебе знать? — И нежно прижалась к Самуэлю.
— Верно говорю, девушка, следа от прежнего не осталось! Ничего похожего!
— Ошибаешься, Сакариас, — возразила блондинка. — Хочешь, чтобы я тебя просветила?
— Оставь ты его, — сказал Самуэль.
Сакариас рассмеялся.
— У тебя дурные намерения, — сказала ему Мели. — Ты хотел развенчать его в глазах невесты.
— В моих-то? У меня такие вещи в одно ухо влетают, в другое вылетают. Что было, то было. Так я и приревновала Самуэля, держи карман шире, болтай, не болтай.
Сакариас осушил стакан, потом сказал!
— Ты Мария Луиса, лишила меня лучшего друга, увела его навсегда. Вот в чем штука. И не думай, что я тебе это запросто спущу.
— Ах, вот оно что? Но это можно легко исправить. Раз тебе так не хватает Самуэля, найди себе невесту, и мы будем все вместе, вчетвером, идет?
— Это нелегко, — ответил Сакариас.
— Ты думаешь? — сказала блондинка. — А я считаю, что легко.
Мели сказала:
— Достану-ка я «Бизон». Хотите закурить?
Ее сумка висела на спинке стула.
Мигель и Алисия танцевали молча.
— Пошевеливайся веселей, — сказала Рикардо девушка в черном. — Ты что так торжественно меня водишь?
— Чтобы с тобой танцевать, детка, не знаю, какие ноги надо иметь.
— Ты преувеличиваешь.
— Ну как? Переставим еще разок? — спросил Фернандо, когда обе пары сошлись поближе.
— Напрашиваешься на ссору с этим парнем. Он тебя убьет, если ты еще дотронешься до патефона!
Фернандо засмеялся:
— Тогда придется с этим покончить…
И увлек за собой Марияйо в быстром танце. Они кружились больше всех, лица плыли перед глазами, а они смеялись и смеялись. Марияйо сказала:
— Так это и есть знаменитая Мели?
Он ответил:
— Ты о ней слышала?
— А кто о ней не слыхал? Личность известная.
— Я не знал, что настолько.
— Ну, мне не раз о ней говорили, особенно Алисия, она от нее без ума. Так что я при таком шуме и буме представляла себе нечто большее. Сама Мели!
— А что большее?
— Ну, я ждала, что увижу очаровательную женщину, что-то сногсшибательное.
— Значит, Мели тебя разочаровала?
— Она, конечно, красивая. Но не…
— Что?
— Не то.
Они оба смотрели на нее, пока быстро кружились. Потом уже не говорили о ней, но Марияйо все еще разглядывала Мели: та теперь закурила сигарету.
Музыка смолкла. Патефонная игла шипела вхолостую. Лукас поспешил снять ее с пластинки.
— Ну как?
— Замечательно.
Все вернулись к столу. Алисия села слева от Мели и спросила ее:
— Ты ведь так хотела танцевать?..
Мели пожала плечами.
— Хочешь сигарету? — спросила она.
— Спасибо, Амелия, попозже, — ответила Алисия, глядя на свои руки.
Мели приоткрывала рот и пускала дым медленно, не дыша.
Петра сказала детям:
— Одевайтесь, ребята. Не то еще подцепите простуду. Как только придет папа, мы сейчас же поедем. Ты что, Амадео, делаешь? Что это ты придумал?
Мальчик надевал брюки поверх плавок. Он ответил:
— Да они высохли, мамочка. Потрогай, только потрогай…
— Ну скажите на милость, какой стеснительный. А ну-ка, разденься тут, за стулом, раз так. Да гляди, прячься хорошенько, чтобы никто ничего у тебя не увидел, не то, чего доброго, все испугаются и убегут!.. Что у тебя там есть, чтоб так стесняться! Ишь ты!..
Хуанито подошел к матери, чтобы она помогла ему натянуть помочи. За столиком, где сидели пятеро, одна из девушек вполголоса пела.
— Ну, ты готов?
Амадео не ответил. Он так и стоял в полутьме за стульями, он плакал.
Теперь на шоссе у переезда сидел нищий. Подстелив газету, он выставил напоказ культи обеих ног. За полуразвалившейся фабрикой в Сан-Фернандо-де-Энарес небо окрасилось в желто-зеленые тона.
Фаустина лущила чечевицу на кухонном столе у окна. Из сада до нее доносились голоса.
Кирпичные своды моста понемногу темнели, солнечная полоса ползла уже по другому берегу. Паулина провожала ее глазами вдоль пустоши, к террасам возле Алькала, где верхние срезы окрасились в цвет меди, горя пыльным и тусклым огнем.
— Что ты разглядываешь?
— Ничего.
Себастьян поднял руку и дотянулся до лица Паулины. Она спросила:
— Тебе хорошо? — И запустила пальцы ему в волосы.
— Много я накатал на этой машинке!.. Глядите: Сантандер, Вальядолид, Мединалькампо, Паленсия, — перечислял он, загибая пальцы, — Бургос, Асторга, Торо, Ла-Корупья, вся Галисия, Ионферрада, порт Пахарес, Овьедо, все это я проехал на моем «пежо», а еще через Самору, и Пеньяраду, и Саламанку!.. Всю страну! Что уж тут говорить!.. Не боялся я дороги ни днем, ни ночью, ведь в те времена было мне немногим больше двадцати. В этом возрасте, вы меня понимаете, хочется охватить все, что только возможно, весь мир тебе мал. И в любой час я отправлялся в поездку, ни о чем не спрашивал; вставал с постели, пригоршня холодной воды — и в машину! Мне было все равно, ехать за чесноком в Самору или в Басконию за железом. Какая разница! Надел куртку — и гони. Маурисио, налейте, пожалуйста. Была у меня немецкая овчарка, знаете, чудо! Чудо, не собака! Никогда ее не забуду. Какие у нее были клыки! Так вот, я говорю, что касается «пежо», тут уж мне лучше никто ничего не говори.
У переезда нищий хлопал себя по культям, прося милостыню у всех, кто шел с реки к автобусу или на станцию.
В листьях жимолости и винограда густели тени.
— Господи, о чем он думает? Ведь уже так поздно!..
Фелисита смотрела в сторону стола, за которым сидела компания Мигеля и Сакариаса, разглядывала всех, ловила каждое слово и каждое движение.
— Давай что-нибудь! Какая разница! Все равно будем танцевать!..
Руки у девушек были оголены, они поворачивали их, разглядывали, гладили. Кто-то уже закрыл створки окна позади блондинки. Лица сидевших в полутьме беседки были почти неразличимы. Вдоль стены с одного конца сада на другой пробирался кот.
— Извините, что обращаюсь к вам с просьбой, сеньоры! Несчастный калека взывает к вашему великодушию! Дай вам бог в жизни всего хорошего! Подайте немощному! Христиане! Подайте на хлеб инвалиду, который не может сам его заработать!
Опустился шлагбаум. Монеты падали на газету к культям калеки.
— Точно, — сказал пастух, — у меня от обеда остался кусочек сыра.
Он пошарил в сумке среди бумаги. Развернув пакет, извлек розоватый треугольник сыра.
— О, овечий! Это здорово. Как хорошо, что ты догадался отложить для друзей такой гостинец, пора уже закусить.
Игра в домино продолжалась яростно и упорно, на время игроки замолкали, и слышались лишь отдельные слова и неумолимое хлопанье костяшками о стол, когда наступала очередь паралитика. После каждого кона разговор возобновлялся.
— Кому охота торчать в поло в полдень, когда солнце печет в полную силу.
Пастух положил сыр на стойку и разрезал его на кусочки.
— Ну вот, — сказал он, складывая нож. — Поклюйте. Здесь мало, но зато все, что есть.
— Такой сыр не прочь были бы держать для закуски многие модные бары и кабачки в Мадриде.
— Конечно, — согласился алькарриец. — А вы не хотите?
— Спасибо, я, пожалуй, не буду.
Пастух обернулся:
— Не хотите сыра? Ну хоть кусочек, чтоб потом вы могли сказать, что пробовали. Ай-яй-яй, сеньор Лусио! — И он покачал головой. — Сдается мне, что вы нами брезгуете. Если нет — докажите!
Асуфре почуял сыр и вертел хвостом, ожидая подачки.
— Наверно, так оно и есть, — сказал Маурисио. — Тем более он сегодня еще не завтракал…
— А это уж совсем вредно.
— Мошенник! — закричал Кока-Склока. — Здорово ты рассчитал! Вот это забой! На этот раз вся рыба у нас! Эй, Марсиаль! Считай, считай…
— Сам считай, рыба ваша, — ответил дон Марсиаль.
Асуфре подпрыгивал и ловил в воздухе корочки сыра, которые бросал ему Чамарис.
— Он хоть помнит, что надо готовить ужин? Помнит, что детям надо ложиться спать?
Петра складывала и разворачивала салфетку снова и снова.
— И причем без фар, как он говорит. А при этом свете…
Она подняла глаза к небу.
— Перекусили в Альба-де-Тормесе и вперед. В шесть — в Саморе. Как стрела летишь, все нипочем! Что спуск, что подъем — все едино. Для него везде ровная дорога. Пейте, сейчас Маурисио еще нальет.
Оканья машинально подчинялся.
Паулина глядела на равнину, на высокую, прямую, как стрела, насыпь железной дороги. Приближался почтово-пассажирский из Гуадалахары. Себастьян поднял руку, взглянул на часы. Блаженно вздохнув, повернулся на другой бок. Вдали, на восточных хребтах плоскогорий, солнце уже покинуло последнюю вершину.
— Да воздастся вам сторицей за ваше милосердие! Дай вам бог счастья, молодая пара! Чтоб вам радостно жилось на свете, чего навек не дано несчастному калеке! К милосердию вашему взываю! Христиане! Извините, что обращаюсь к вам с просьбой! Подайте монетку немощному инвалиду!
Шлагбаум закрыли. Какие-то женщины побежали к станции.
— А что, если нам поехать через Викальваро?
Кармен не отвечала; она прислушивалась к шуму поезда, который уже громыхал по мосту. Она облокотилась о красно-белый шлагбаум и слушала. «Успеем, успеем, не бегите!» — кричали друг другу женщины, а сами все равно бежали. Земля дрожала. Сантос придерживал велосипед за седло.
— Я сохраню твое место, Мели! Надеюсь, ты вернешься, да?
Она шла танцевать с Фернандо, обернулась:
— Да, Сакариас, сохрани. — Они переглянулись. — Спасибо.
— Звучало танго.
Прошел поезд, фыркая паром, словно захлебываясь яростными восклицаниями «фу-фу!», сопровождаемыми перестуком колес. У станции заскрежетал тормозами. Последний вагон остановился метрах в двадцати от переезда. К вагонам устремилась толпа пассажиров.
— Что мы ждем?
Шлагбаумы поднялись, люди пошли через пути.
— Я говорю, а что, если нам поехать через Викальваро? Оттуда выедем на Валенсианское шоссе и по нему, через Вальекас, — в центр.
— Разве это не дальше?
— Не намного. Но так мы выйдем из общего потока машин, возвращающихся из загорода. На этой дороге никого нет. Чистое поле.
— Ну давай, если ты знаешь, как ехать. Наверно, скоро совсем стемнеет.
Он вывел велосипед на дорогу, перекинул ногу через седло и, твердо стоя на земле, сказал:
— Садись.
Кармен села на раму и ухватилась за руль.
— Оставьте меня в покое! Отстаньте от меня!
Под деревьями было уже довольно темно.
— Да что мы тебе сделали? Иди сюда, Даниэль!..
— Ничего. Ничего вы мне не сделали. Вы мне надоели.
Он пошел прочь от Тито и Луси и в нескольких шагах упал ничком в пыль. Из рощи реку уже почти не было видно.
«В лачуге ветхой — на побережье, — где днем и ночью — шумит прибой, — жила рыбачка — с детьми и мужем, — была довольна своей судьбой…»
Цветные литографии, висевшие на задней стене, потемнели, расплылись.
— Папа, поедем домой.
— Сейчас, сынок, скажи маме, что я иду. Налей всем, Маурисио. Прощальную. Скажи, я сейчас…
Из-за столика, где сидели пятеро, вышли танцевать две пары. Фернандо заметил:
— А эти почему вылезли танцевать под нашу музыку?
— Оставь их, — сказала Мели. — Тебе-то какая разница?
— Это нахальство.
— По-твоему, им надо было попросить у тебя разрешения?
Сидя за столом, Сакариас не спускал с нее глаз. На патефоне все крутилась пластинка со знакомым с давних времен голосом Гарделя.
Нинете очень хотелось, чтобы Серхио потанцевал с ней.
— Но послушай, дорогая, мы уже вышли из того возраста, когда танцуют. И кроме того, Петра торопится.
— Ну, если только из-за этого… — заявила Петра. — Как мы собираемся, так вам хватит времени протанцевать хоть ригодон. Ну что, сынок? Что он тебе сказал?
— Сказал, сейчас придет.
Шоссе и голос нищего остались позади. Сантос, пригнувшись, крутил педали, а щекой прижимался к щеке Кармен.
— Ну и что, тебе страшно?
— Не очень, — улыбнулась она и потерлась лицом о его подбородок. — С тобой мне все равно, где мы. Даже если б в реке очутились.
Дорога шла теперь мимо садов на окраине Кослады. Черные деревья на красном фоне заката. Кослада осталась позади.
— Плохо дело, куда-то он пропал, — сказал Тито.
— Ну и пусть. Не беспокойся.
— А я беспокоюсь. Мне жалко, что он от нас отделился.
Он почувствовал руку Луситы на своей руке. Она сказала:
— Ничего особенного не случилось, все будет в порядке, Обойдемся и без него. Или нет?
— Но мы же были вместе, втроем.
— А теперь мы вдвоем. Меньше народа — больше кислорода, ты с этим согласен?
— Больше кислорода? А мне, знаешь, как-то душно. Я столько выпил, что еще не продышался.
— И я тоже, — засмеялась она. Приблизила к нему свое лицо и добавила: — Мне весело, понимаешь? — Глаза ее блестели. — Оставь Дани в покое: если ему хочется поспать, пусть его. Он же сказал, что мы ему мешаем. Слушай, Тито.
— Что?
В дымке, опустившейся на лощину, показалась колокольня Викальваро, потом — труба цементного завода в Вальдеррибасе. На всем лежала копоть. Велосипед бесшумно катился по пыльной дороге, только через равные промежутки поскрипывала цепь. Кармен чувствовала на своей щеке дыхание Сантоса. Им пришлось спешиться, чтобы перейти через рельсы железной дороги на Арганду. В поле кого-то звали.
— Помоги-ка мне, Кармела.
Вдвоем втащили велосипед на насыпь. Наверху остановились.
— Поцелуй меня.
Прямо перед ними, совсем близко, вздымалась глыба Альмодовара, пустынного темного плоскогорья, черневшего на фоне зеленоватого на западе неба.
— Музыка принадлежит всем! Патефон может быть чей угодно, а музыка — ничья! Музыка для каждого, кто ее слушает!
Уже не блестели бутылки на полках. Маурисио зевнул.
— Жаль, что вы были так заняты разговором и не попробовали сыр, — сказал алькарриец, — а овечий сыр — дело стоящее. Вот этот, — и он кивнул на пастуха, — хорошо его делает, хоть больше он ни на что не способен.
— Конечно, мне было бы приятно, если б вы его попробовали, — подтвердил пастух. — Чтоб вы узнали, что и тут есть кое-что хорошее. Я просто не решился отвлечь вас от разговора.
Вмешался шофер:
— Тихо, тихо, я скажу так: этот сеньор должен обязательно приехать сюда еще раз, да-да. Почему бы вам не приехать как-нибудь еще? Одному, без чад и домочадцев. Только предупредите заранее, мы тут забьем козленочка — правда, сеньор Клаудио? — и приготовим его так, что пальчики оближешь. На машине сюда добраться — пустое дело. Тогда посмотрите, что не только в Мадриде можно повеселиться, а то как же? И в деревне можно сварганить пирушку не хуже, чем в городе.
Он сердечно похлопал Оканью по плечу.
Фаустина вдруг обнаружила, что почти не видит чечевицу на клеенке стола. Подняла глаза на окно: краски в саду померкли, обесцветились, слиняли и слились в пепельно-серую тень. Она сняла очки и положила их на стол.
«…в пучине грозной — морскому волку — пришел конец».
Очки были в оправе из черной пластмассы. Она встала со стула и пошла к выключателю.
— Значит, помните, когда только захотите. Предупредите дня за два, и мы тут мигом организуемся. Вот увидите, как будет здорово.
— Хорошо, но пока это невозможно. Вот Маурисио знает, правда? Не подумайте, что я не хочу: если б мог, то с большим бы удовольствием. Ко все равно я очень благодарен вам за добрые намерения.
— Какая там благодарность? Не за что благодарить. Это ерунда. Главное, чтоб приехали. А не то мы…
— Да тут ни шиша не видно! — закричал Кока-Склока. — Темно, хоть глаз выколи! За чем дело стало? Ну-ка, Маурисио, побольше внимания гостям да поменьше экономии электричества! А то здесь бедный сеньор Эснайдер поворачивает костяшку к свету, чтобы видеть игру! Наверно, дублет по единичкам принимает за глаза Кармело!
— Да замолчи ты, урод ярмарочный! — упрекнул его дон Марсиаль. — У тебя голос — как труба, будто булавки в уши втыкаешь!
— Еще кто из нас ярмарочный урод! Помолчал бы, ногастый![23] У тебя одна нога во Франции, другая — в Португалии!
— Вы только посмотрите на этот собачий огрызок! Еще смеет возводить на своего ближнего! Видать, перемудрили твои родители, производя на свет эдакое чудо морское! Преподнесли нам подарочек!..
Маурисио включил свет.
Из кухонного окна в сад упал сноп света. И рассеялся в неясном вечернем сумраке.
— Ну что ты скажешь, — воскликнула Петра, — вот-вот ночь настанет. Да уже темно.
В саду появился наконец Фелипе Оканья, он подошел к столику, где сидели его родные.
— Ну что ж тут такого, мы просто воспользовались музыкой. Это же никому не повредило. А патефон работал с большей отдачей.
— Да, конечно, но все же устроили толкотню. Кто вам мог в этом помешать?
— Ладно, давайте мы будем крутить ручку для следующей пластинки, разделим труды, и квиты, согласен?
Самуэль вытащил трубку для курения гашиша, раскурил ее и передал Сакариасу.
— Тоже мне два наркомана! — сказала Лоли. — Что за удовольствие тянуть эту дрянь?
— Поглядите на Фернандо, он уже завелся с теми ребятами.
— Куда он только не сует свой нос…
— И ты разрешаешь ему курить эту отраву?
Мария Луиса пожала плечами:
— Почему бы и нет?
— А может, у тебя воображение разыгралось! Думаешь, что с тобой отчаянный парень, и только потому, что он курит всякую дрянь.
— Ничего подобного. Просто, если ему нравится, зачем я буду мешать?
— Так ведь для здоровья очень вредно.
— Ну что же? Поставите еще пластинку?
— Подожди, отдохни хотя бы немного. У нас их всего пять, так и крутить одну за другой?
— Пять — это десять.
— Не у всех есть обратная сторона, кажется, у двух нет.
— Ну, пусть восемь. У нас и времени не хватит все их прокрутить.
— Ладно, Марияйо, мы сими знаем, детка. Не надо на нас давить, нам и без того тяжко, не приставай.
— А для чего себя обманывать?
— Так его, я его знаю!
— А что чувствуешь, когда куришь это? — спросила Мели Сакариаса.
— Попробуй, Самуэль набьет тебе трубку.
— Мне не решиться, страшновато. А что чувствуешь?
— Ну, плывешь.
— А что это такое?
Дорога шла вдоль чернеющей громады Альмодовара. Только один-единственный луч падал в темную пыль, бежал подле велосипеда. Но еще слабо поблескивал последний голубовато-серый отсвет на никелированном руле, возле рук Кармен, на соломе жнивья, на белых изоляторах столбов, которые несли сторожевую службу там, на западе, на плоскогорье. Позади высоко в небо подымался дым из трубы цементного завода в Вальдеррибасе, поднимался прямо в аспидное небо и, при полном безветрии, недвижно стоял над черными заводскими строениями, над пустынной площадью в Викальваро, над колокольней и едва различимым поселком. Кармен вздрогнула, потому что теперь стало слышно негромкое жужжание, бегущее по натянутым над их головой проводам.
Сантос посмотрел направо, за поле, на безлюдный склон Альмодовара: в полутьме сумерек белела мергелевая порода, утыканная черными пятнами кустов. Он остановился.
— Передохнем.
Стоя на дороге, Кармен распрямилась, потянулась. Сантос посмотрел по сторонам, не выпуская из рук велосипеда, и сказал:
— Поднимемся на эту гору?
— На какую? Вон на ту?
— Да это же ерунда: пройдем через поле, а там ничего не стоит подняться, самое большее восемьдесят или девяносто метров.
— Пожалуй, больше.
— Ты не хочешь посмотреть на Мадрид?
— А видно?
— Прекрасно видно. — Он свел велосипед с дороги и спросил: — Пойдешь или нет?
— А откуда ты знаешь, что видно Мадрид? С кем ты туда поднимался?
Она тоже сошла с дороги, и они пошли по полю вместе.
— Как-то раз с моим дядей Хавьером и еще одним сержантом, когда мой дядя служил в Викальваро, — они хотели пострелять куропаток. Держись за меня, если оступишься. Надо идти по борозде, ставь ногу одну перед другой, тогда не споткнешься.
— Мне боязно ступать в борозду. Там нет зверюшек?
— Конечно, есть, я думаю, и крокодилы и леопарды.
Сухая солома шуршала у них под ногами. Велосипед оставили у подножья горы, прислонив его к куче земли. Потом Сантос взял невесту за руку и помог подняться по склону. За их спиной, далеко внизу, по Валенсианскому шоссе машины шли уже с зажженными фарами.
— Скажи, что делать, если ты чуточку пьяна?
— Ждать, пока не пройдет.
— А сейчас что?
— Да ничего, не разрешать себе идти туда, куда вино толкает.
Лусита уперлась руками в землю у себя за спиной и, тряхнув волосами, запрокинула голову:
— Ой, как хорошо… — протянула она, закрывая глаза. Снова выпрямилась и продолжала: — А знаешь, я не хочу, чтобы у меня это прошло. Мне так нравится! А тебе?
— Мне тоже.
Лусита покачала головой, пригибаясь к нему, словно искала в полутьме лицо Тито:
— Тито, я почти тебя не вижу, все плывет перед глазами.
— А ты поменьше двигайся, если кружится голова, — чем меньше будоражить вино, тем лучше.
— Хорошо, я буду сидеть тихонечко. — И она стала смотреть на реку и рощу. — Уже почти совсем темно.
— Да, почти.
Она оглянулась:
— Даниэля и не видать. Никаких признаков жизни. Должно быть, спит себе.
— Скорей всего, он здорово набрался.
— Правда? Конечно, ему надолго хватит. Не проснется, куда там!
— Он хорош, выдул почти вдвое больше нас с тобой, вместе взятых. Он ведь сидел посередине, и бутылка попадала к нему то от тебя, то от меня. Вот как было.
— Тем хуже для него. А мы лишь с половины и то попали в лучший мир. Будто плывем в лодке, верно? И волна, чувствуешь, как качает? — смеялась она. — Ты представь, что мы с тобой вдвоем в лодке. Ой, как весело! Ты, значит, гребешь, море очень бурное, очень, ночь ужасная, и мы не видим берега, мне страшно, и ты тогда… Я уже говорю глупости, правда? Тебе, наверно, смешно. Я болтаю глупости, правда, Тито?
— Да нет, что ты, ты так забавно рассказываешь, какие тут глупости.
— И я не кажусь тебе дурочкой? Ты, наверно, думаешь, что я — как ребенок, которому нравится воображать себя скачущим на лошади и придумывать всякие приключения? Ты так думаешь? Скажи мне правду. Я тебе кажусь совсем глупой, правда?
— Да брось ты! Какая разница, что ты говоришь? От вина все начинают фантазировать, о чем тут беспокоиться?
— Да нет, вот я, сама по себе, я…
— Что — ты?
— Ну, какая я? Вернее, какой я кажусь тебе?
— Мне? Я не сидел бы тут с тобой, если б ты была мне неприятна. Вот только плохо, что спрашиваешь об этом. Уж слишком беспокоит тебя чужое мнение.
— Не всякое. А впрочем, глупости, какая мне разница? Дело в настроении, захочу смеяться — и буду. У меня в комнате стоит зеркальный шкаф, понимаешь? Нет, не то чтоб твое мнение — я сама знаю, какая я есть… Тито, я почти пьяная.
— Тогда приляг, отдохни немного.
— Да, да, Тито, спасибо. — И она растянулась на земле. — Послушай, не обращай внимания на то, что я говорю, ладно? Это все неправда. Я начинаю что-то говорить, а потом сворачиваю куда-то и говорю совсем не то, что хотела. Гляди, какой спектакль тебе тут устраиваю, — улыбнулась она. — Ладно, неважно, мы же развлекаемся. Какая чепуха! Правда? Как ты думаешь?
— Да что ты, Лусита, ты сегодня просто неотразима.
— Слава богу, вот счастье-то. Только мне теперь уже кажется, что я катаюсь не на лодке, а на карусели. — Она положила голову на сверток одежды, повернулась на бок: — Уже наступает ночь. И правда, совсем темно.
Теперь Лусите был виден другой берег, уходящие вдаль пустоши и темные ложбины, где тень густела и откуда выливалась, затопляя раввину, вползая на склоны холмов, пробираясь от куста к кусту, пока не сливалась, темнея, в одно сплошное целое — в неуловимые хищные сумерки, таившие в себе угрозу для животных. Казалось, в сумерках прячутся лапы, когти и зубы, ночь словно принюхивается, хищная и кровожадная, нагоняя ужас на беззащитные гнезда и норы; черное поле, и средь поля — циклопий глаз поезда сверкает, словно глаз дикого зверя.
— Ну расскажи мне что-нибудь.
В роще еще оставалось немало народу. В темноте слышались звуки губной гармоники. Играли марш, немецкий марш времен нацизма.
— Тито, ну расскажи что-нибудь.
— Да что тебе рассказать? Что?
— Ну что-нибудь, что придет тебе в голову, выдумай что-нибудь, мне все равно. Лишь бы интересное.
— Интересное? Да я вообще не умею рассказывать. Да и что интересное? Ну скажи, что ты считаешь интересным?
— Из приключений что-нибудь, например, или про любовь.
— О, любовь! — засмеялся Тито, щелкнув пальцами. — Этим еще ничего не сказано! Про какую любовь? Любовь бывает разная.
— Про какую хочешь. Лишь бы это волновало.
— Да не умею я рассказывать романтические истории, откуда взять? Для этого купи себе какой-нибудь роман.
— Ну да! Сыта я романами, дорогой. Хватит с меня романов, начиталась! Кроме того, при чем тут книги? Я хочу, чтобы ты здесь, сейчас рассказал какой-нибудь увлекательный случай.
Тито сидел, прислонившись спиной к дереву, он посмотрел налево, где лежала Лусита. Черный купальник подчеркивал белизну ее голых плеч и рук, закинутых за голову.
— Значит, хочешь, чтобы я рассказал то, о чем не пишут в романах? — сказал он. — Чего же ты от меня хочешь? Чтобы у меня было больше фантазии, чем у тех, кто пишет романы? Тогда я мог бы не стоять за прилавком. Вот это шуточки!
— Ну просто чтоб ты поговорил, какая разница про что, можешь и не рассказывать ничего. В книгах пишут одно и то же, если разобраться, не очень-то свои мозги утруждают, то Она у них блондинка, а Он — брюнет, то Она — брюнетка, а Он — блондин, почти никакого разнообразия…
Тито рассмеялся:
— А про рыжих ничего? Рыжих никогда не описывают?
— Какой ты чудак! Ну что это будет за роман, если Он — рыжий, какой ужас! Вот если Она — рыжая, это еще ничего.
— Прекрасный цвет волос, — снова засмеялся Тито. — Как морковочка!
— Ладно, хватит тебе смеяться, перестань. Послушай, хочешь послушать?
— А чем тебе не нравится мой смех?
Лусита встала, села рядом с Тито, сказала ему:
— Да нет, не то, просто посмеялся — и хватит, теперь про другое. Я не хотела прерывать тебя, а надоело про это. Давай говорить о другом.
— О чем?
— Не знаю, о чем-нибудь другом, Тито, говори все, что в голову придет, о чем хочешь. Послушай, дай мне тоже к дереву прислониться. Нет, нет, не отодвигайся, мы поместимся, поместимся оба. Мне только маленький кусочек.
Она прислонилась к дереву слева от Тито, плечом к плечу.
— Так тебе хорошо? — спросил он.
— Да, Тито, очень хорошо. Мне показалось, что, когда лежу, голова больше кружится. А так много лучше. — И она похлопала его по руке. — Привет!
Тито повернул голову!
— Что случилось?
— Я тебя приветствую… Я тут.
— Вижу.
— Слушай, Тито, ты мне ничего не рассказал, даже не верится, ну что ты за человек! Не мог рассказать какую-нибудь историю, чтобы я послушала, как ты рассказываешь. Я люблю, когда мне рассказывают, рассказывают… Вы, мужчины, всегда рассказываете очень длинные истории, я даже завидую, как хорошо вы рассказываете. Но не тебе, нет. А может тебе. Потому что уверена — ты умеешь рассказывать потрясающие истории, когда захочешь. По голосу заметно.
— Да ты что?
— Такой у тебя голос. Таким голосом рассказывают длинные истории. У тебя очень красивый голос. Даже если б ты говорил по-китайски и я тебя не понимала, мне ужасно хотелось бы слушать, как ты рассказываешь. Ей-богу.
— Как ты странно говоришь, Лусита, — взглянул он на нее с улыбкой.
— Странно? Ну ладно, пусть будет так. Я тоже сегодня вечером странная и вокруг меня все странное, так что мне наплевать, как я говорю, каждый говорит, что может, верно? Может, я лишнего наговорила! Но когда в голове такая карусель…
— Да нет, все очень хорошо, ты сегодня такая остроумная, просто чудо.
— Сегодня? Да, понятно, полууспех, симпатия на время. А пройдет — и кончено. Вот выдохнется вино, и все вернется на свои места, никаких иллюзий. Ой, как кружится голова! Видно, карусель снова закрутилась. Стоит о голове вспомнить… Какой ужас, как она кружится, все поплыло перед глазами!..
— Очень кружится? — Тито придвинулся к ней боком и притянул к себе, обняв за плечи. — Иди поближе, прислонись ко мне.
— Нет, нет, оставь меня, Тито, пройдет, сейчас пройдет, не беспокойся, это как волна, приходит и уходит, приходит и уходит…
— Да ты прислонись, не мне это нужно, давай.
— Оставь, мне и так хорошо, само пройдет, зачем ты настаиваешь? Мне и так хорошо!..
Она обхватила голову руками. Тито сказал:
— Я это говорю для тебя же, Лусита, что ты всполошилась? Ну, прошла голова? — Он положил ей руку на затылок и играл ее волосами. — Лучше? Может, намочить платок в реке? Это помогает, пойти?
Лусита отрицательно покачала головой.
— Ну ладно, как хочешь. Тебе лучше?
Она ничего не ответила, повернула голову и, прижавшись щекой к руке, которая ласкала ее, стала тереться, как кошка, а потом скользнула вверх по руке и уткнулась носом и шею Тито. Прильнула к его груди, обхватила руками шею, и ему не оставалось ничего другого, как поцеловать ее.
— Я нахалка, правда, Тито? Ну скажи, что я нахалка, скажи.
— Меня об этом не проси.
— А ты зачем завлекал? Говорил — прислонись ко мне, скажи еще раз, ну вот, теперь видишь? Разве ты не знал, какая я сегодня? Ну вот я тут, я к тебе прислонилась, а видишь, что получилось?.. Иначе чем бы ты для меня был? Вот, давай еще раз.
Они снова поцеловались, а потом Лусита вдруг резко оттолкнула его, упершись ему в грудь руками, и бросилась на землю. Она зарыдала.
— Ну, Лусита, что с тобой? Что тебе взбрело в голову?
Она закрыла лицо руками. Тито наклонился к ней, взял за локоть, пытаясь заставить убрать руки с лица.
— Оставь меня, оставь меня, уходи.
— Да скажи, что с тобой такое, Лусита, что случилось? Что вдруг стряслось?
— Оставь меня, ты не виноват, ты ничего плохого мне не сделал, это я… это я во всем виновата, это я все устроила, себя выставила на посмешище, на посмешище…
В голосе ее были слезы и злость.
— Но я не понимаю, Лусита, какое там посмешище? Куда ты клонишь?
— А что может быть смешней? Думаешь, я не знаю, как ты ко мне относишься?.. — Она захлебывалась слезами. — Еще как знаю! Ой, как мне стыдно, ну как мне стыдно!.. Забудь об этом, Тито, ради всего на свете… Мне бы спрятаться, я бы хотела спрятаться…
Она замолчала и продолжала плакать, лежа ничком, спрятав лицо. Тито молчал и не убирал руки с ее плеча.
— Поплыть? Ну, так говорят там, в Марокко. Это как если бы ты становился… нет, не пьяным, другое, совсем другое, ну как тебе сказать…
— Может, сонным?
— Вроде этого, но не совсем. Пожалуй, сосредоточенным, вот что, ты будто погружаешься куда-то, тонешь, проникаешься чем-то, углубляешься в себя. Мы такие речи держали, спроси у Самуэля, когда служили там, я с ним и другие наши товарищи по казарме. Мы собирались в небольшом кафе…
— В Марокко?
— Да, в Лараче. И, я тебе скажу, завязывалась потрясающая беседа, представить себе не можешь. Это такая вещь, видишь ли, — ты берешь слово и понемногу входишь в раж, говоришь про то, про се, так, мол, и так, и опять сначала, а когда опомнишься, оказывается, ты говорил полчаса, час, а то и два. Вот это и называется поплыл в кейфе. Все так тихо-спокойно, понимаешь? Вроде пьянки, но по-хорошему, вернее, совсем не то, что пьянка, когда переберешь вина. У них, у мавров, есть закон, который запрещает им употреблять любые алкогольные напитки, ну, такая у них религия, понимаешь?
— Да, я слышала, мне рассказывали.
— Ну вот, это самое. Так что для них этот кейф и есть пьянство, другого не разрешается. Собираются несколько человек, садятся в кружок на свои циновки, устраиваются поудобней — и пошло: одну трубку за другой и чай пьют, и снова курят, и опять чай и ала-бала, ала-бала, пошли разговоры, и полслова не разберешь, что они там говорят, жена у них дома под замком сидит, так что ни о чем на свете они больше не думают. Вот только такое опьянение и бывает у мавров, таков уж у них обычай. И так они проводят почти все свободное время, понимаешь? Но тут, как и во всем, нельзя злоупотреблять, потому что эта штука может ударить в голову, ясное дело, такой крепкий дым. А некоторые становятся неврастениками, и появляются у них разные причуды, и творят они черт-те что. Но там, представь себе, сумасшедших почитают как святых, вот что бывает! Тому, кто спятил, — почет и уважение, и он может делать все, что ему взбредет в голову, любое безумство, и никто не смеет ничего сказать или помешать. Ну, в общем, совсем как святой, и там, конечно, в каждой местности свои обычаи и свое понятие о жизни. Да и в любом месте, куда б ты ни поехал, рассуждают по-своему, у каждого свои привычки.
— Да, но ты тоже остерегайся, чтоб не перебрать, или как еще ты это назовешь, потому что у нас психов святыми не считают, тут тебя быстренько сцапают и засадят в сумасшедший дом, поди потом доказывай, протестуй. И будешь сидеть как миленький.
— На этот счет особенно беспокоиться нечего, не так уж плохо пожить, ничего не делая. Да еще так весело.
— Что ж, попробуй и увидишь.
— А скажи, Мели, тебе жаль будет, если меня засадят?
— Мне? Конечно, жаль тебя, как и всякого другого.
— Ну, как мало! Нет, это не пойдет, я так не играю, — как всякого другого.
— А ты что хотел бы?
— Чтоб ты сказала правду.
— А какую ты хочешь правду?
— Тебе так важно это знать?
— Я первая спросила, отвечай.
— Ну, каждому хочется, чтоб его немножко отличали.
— А для чего? Какая тебе от этого выгода?
— Приятно, и больше ничего.
— Вон оно что! Ясно.
— Мели, не говори со мной так, прошу тебя.
— Это как?
— Да вот с таким глупым видом, который ты иногда на себя напускаешь.
— Ах, вот как? Значит, я глупая? Спасибо, что разъяснил.
— Ну, видишь? Вот это самое. И что ты думаешь достичь, разговаривая таким дурацким задиристым тоном? Скажи.
— Ты становишься все галантнее, Сакариас.
— Не я начал. Ты ни с того ни с сего вдруг заговорила со мной таким тоном, скажешь, нет?
— Очень уж нежно воспитан. Я что тебе — радио, чтоб мой тон можно было подстраивать на любой вкус?
— Нет, голос все равно повысишь, как тебе самой нужно, это я знаю. Что ж, продолжай. Ты — кусачее насекомое, и в тот день, когда поймаю тебя за крылышки, я за все с тобой рассчитаюсь.
— Серьезно? Вот смех-то!
— Смейся, смейся, дай мне только добраться до тебя.
— Доберись сегодня. Интересно, что ты со мной сделаешь?
— Ничего.
— Ну скажи — что? Ты так на меня зол?
— Проглотил бы. Если ты добиваешься только того, чтобы растравить меня, то у тебя это здорово получается. Но помни: в тот день, когда попадешься мне на зуб, просто так от меня не отделаешься.
— Красная Шапочка и злой волк! Как страшно! Рассказывай, рассказывай спою сказку: а что дальше?..
— Тут и конец. Кстати, это не сказка.
— А что же?
— Чистая правда.
— Ты — нахал: какая я тебе Красная Шапочка?
— Ты не Красная Шапочка, но все едино, нет никакой разницы, я придумаю, как тебя схватить и где оставить след моих зубов.
— Например?
— Ну, не знаю, может, на губах.
— Не говори со мной так, Сакариас.
— Почему? Ты спрашиваешь, и волк говорит тебе правду. Так ему хочется. Тебе неприятно?
— Да нет.
— Тогда почему мне с тобой так не говорить?
— Ладно, говори, мне нравится слушать, как ты говоришь такое.
— Ты — дьявол! Знаешь это?
— Дьявол?
— Не самый скверный дьявол, другой. Не знаю, какой, но другой. Такой, который сразу околдовывает, пленяет, — вот все, что я могу тебе сказать.
— Говори потише, услышат…
— Если бы все дьяволы были, как ты, святой Петр остался бы без работы.
— Тогда за что ты меня называешь дьяволом? Не вижу причины.
— Есть за что, девочка. Уверен, что есть причина.
— Я что-то сегодня нервничаю, Сакариас. Но знаешь, мне с тобой хорошо. Я думаю, не по той ли самой причине?
— Выпей вина. Где твой стакан?
— Не двигайся, сиди, как сидишь, не хочу, чтобы все видели мое лицо, сиди на месте.
— Хоть дырку в столе локтем проделаю, а не сдвинусь, как солдат на часах.
— Говори, говори еще, Сакариас.
Кармен оглянулась и вдруг испуганно прижалась к Сантосу. Красная луна, огромная и близкая, выкатилась из-за горизонта у них за спиной.
— Что, дорогая?..
Кармен расхохоталась:
— О, господи! Это же луна. Она взошла так внезапно, что перепугала меня до смерти. В жизни не видела, чтоб луна появлялась вот так, вдруг! А мне показалось бог знает что!
— Знаешь, ты и меня напугала. Только чудом мы оба не покатились под откос.
Она смеялась, спрятав лицо у него на груди.
— Милый мой. Так испугаться луны — да я просто дурочка! Но так неожиданно, такая огромная и красная…
И они оба, остановившись на полпути, стали смотреть на лупу, которая отдалялась от горизонта, с трудом поднимая свое широкое красное лицо над черной равниной. Кармен глядела на нее искоса, прижавшись лицом к груди Сантоса.
— Какая большая!
— Знаешь, на что она похожа? — спросил Сантос.
— На что?
— На гонг.
Она оторвала щеку от рубашки Сантоса и повернулась к луне лицом:
— Да, похоже, верно.
— На большой медный гонг. Ну, пойдем.
Они поднялись на плоскогорье Альмодовар. Оно было ровное, как стол, и круто обрывалось к насыпи железной дороги; в длину метров триста, в ширину — не более ста. Они пошли поперек плато, повернувшись спиной к луне, и вышли к противоположному склону. Отсюда был виден Мадрид. Море огней вдали, Млечный Путь, расстелившийся по земле, черное масляное озеро с бесчисленными мерцающими огоньками, которые плавали в нем, и от них высоко в небо вздымалось неяркое зарево. Это озеро неподвижно висело под мадридским небом, как фиолетовое покрывало или светящийся дымный покров. Они сели рядышком над обрывом, лицом к насыпи. На черноте полей сверкали россыпи других галактик, поменьше — то были окрестные городки и поселки. Сантос показывал пальцем и говорил:
— Вон там, справа, — Викальваро. А вот это — Вальекас…
Вальекас лежал слева внизу, почти у подножья плоскогорья. Они находились на высоте восьмидесяти — ста метров над ним. Неизвестно почему, они говорили шепотом.
Паулина тронула Себастьяна за плечо:
— Гляди, Себас, какая луна!
Он сел.
— Ого, должно быть, полная луна.
— Это сразу видно. Она похожа на те планеты, знаешь, которые показывают в научно-фантастических фильмах, правда?
— Наверно.
— А ты разве не помнишь последний фильм?
— «Когда сталкиваются миры».
— Ну да. Там еще Нью-Йорк оказывается под водой, помнишь?
— Да-да, фантазия и трюки. Эти киношники уже не знают, что еще выдумать.
— А мне нравятся такие фильмы, они интересные.
— Да, я знаю, что ты веришь всяким глупостям.
— Называй это как хочешь, но что ты скажешь потом, если мы доживем с тобой до таких времен.
— Это до каких же?
— Когда появятся подобные изобретения и все прочее. Тогда посмотрим.
— Значит, после дождичка в четверг, — засмеялся он. — Но, Паули, ты так не горячись, не то температура поднимется, ты слишком много получаешь за свои восемь-десять песет, что стоит билет в кино. — Оглянувшись, Себас добавил: — Послушай, надо бы посмотреть, что там делают эти трое сумасшедших.
Теперь лунный свет вновь выхватил из темноты воды Харамы, пенные фосфоресцирующие струи, словно хребты каких-то медно-красных рыб.
— Пойдем навестим их?
— Хорошо, идем.
Они встали. Паулина провела руками по ногам и по купальнику, стряхивая землю и мелкие камешки.
— Что поделываете?
— Да ничего, сидим.
В темноте слышны были женские голоса, доносившиеся из разбросанных вокруг домов; кого-то громко звали; на эти крики отвечали издалека, свистели с дороги, скрытой во тьме. Паулина и Себастьян сели рядом с Тито и Луситой.
— Мы к вам. Слушайте, а где Даниэль?
— Этот уже дошел; сзади нас плюхнулся, как мешок. Он хорошо набрался.
— Охота ему так усложнять свою жизнь. И надо же было набраться как раз к тому времени, когда пора уходить.
— Даниэля ведь не удержишь. Завтра утром птички вернут его к жизни.
— Нет, Тито, так нельзя, — сказала Паулина. — Мы не можем оставить его на всю ночь у реки. Совесть замучает.
— Сейчас, летом, прекрасно можно спать где угодно.
— Да брось ты, роса выпадет или еще что.
— Разве пригнать сюда подъемный кран…
— Тебе все шуточки.
— Не беспокойся, Паулина, — сказал Тито, — мы его унесем, как сможем, если понадобится — на плечах, как бурдюк с вином.
— И еще какой бурдюк.
Лусита молчала. В роще пока оставались люди, слышались негромкие разговоры, огоньки сигарет мелькали, словно светлячки.
Кто-то споткнулся о скорчившегося Даниэля и сказал: «Извините». В ответ послышалось ворчание. Где-то высоко, поверх черноты, как бы светились тончайшие параллельные нити в узком просвете меж деревьями; стремительно пролетали летучие мыши в прозрачной синеве ночи.
Опрокинулась бутылка. Ее вовремя подхватили, чтобы не успела скатиться со стола.
— Где пьют, там и льют, — сказал кто-то.
Разлитое вино поблескивало на столе, и Марияйо вела пальцем ручейки к краю стола, чтобы они стекали на землю. Фернандо почувствовал, как капает ему на ноги.
— Эй, дорогая, льешь на меня.
— Вот это и есть веселье! — сказала она и дотронулась до его плеч и лба кончиками пальцев, смоченными в вине.
— В тебе веселья — хоть отбавляй! Ты — фонтан радости…
Стемнело. Клан Оканьи зашевелился, собирали вещи. Лолита крикнула:
— Ну что же, мальчики, будем мы танцевать или нет?
— Взяла бы сама и запела.
Фелипе Оканья стоял возле столика, смотрел, посвистывая, на родных и крутил на пальце связку ключей. Петра сказала:
— Ну смотрите, если я чего-нибудь недосчитаюсь, когда приедем домой, поняли?
— Недосчитаешься вольного воздуха, — сказал Фелипе, — вот чего недосчитаешься.
— Да, это ты правильно сказал, я провела как раз такой день, какого мне будет не хватать.
Фелипе ответил:
— Зато твои дети хорошо провели день, что тебе еще?
— Да, да, и мой муженек. За счет того, что я торчала тут одна и беспокоилась и за них, и за тебя.
Как бы в подтверждение своих слов она потрясала разными предметами, которые складывала в сумку — пластмассовые стаканы, ножи, салфетки, и продолжала:
— Я тебе скажу, в чем дело!.. Достается всегда мне. Если кувшин стукнется о камень — плохо кувшину, если камень стукнется о кувшин — все равно плохо кувшину. Вот как получается.
Нинета помогала ей собираться.
— Ну уж и денек! — продолжала свое Петра. — Только и вспоминать мне в Мадриде о вольном воздухе… Нинета, подай, пожалуйста. А ты что тут торчишь, нечего делать? Мог бы пойти к своей развалине, ведь нам давно уже пора ехать.
— Эта развалина всех вас кормит.
— Ну да, этот урок я уже затвердила наизусть. Можешь не повторять. Разве не ты говорил, что у тебя не в порядке ближний свет? А посмотри, на улице ночь. Сам знаешь, дорожная полиция не будет с тобой цацкаться, возьмут и оштрафуют… — Она повернулась к нему лицом.
— Что ж, вытащим из кармана и заплатим, прах их возьми!
— Ты нарочно меня расстраиваешь.
Лукас запротестовал:
— По какому такому тройному правилу я должен один заниматься патефоном? Вы меня навечно избрали, что ли?
— Так ты же сам никого к нему не подпускаешь.
Сакариас жестом отклонил зажженную трубку, которую ему предлагал Самуэль. Тот подтолкнул локтем свою невесту.
— Нет, ты только погляди, — тихонько сказал он ей, — погляди на этих двоих — хорошо устроились на уголочке, — и кивнул в сторону Мели и Сакариаса.
— Ну да, я же тебе говорила, не помнишь, что ли? — спросила Мария Луиса.
— Помню. Прямо-таки пожирают друг друга глазами.
— Не хочу я смотреть, лучше оставить их в покое.
Рикардо подставил ухо.
— О чем вы там? — прошептал он. — И мне скажите.
— Какой любопытный! — отрезала Мария Луиса. — Мало ли какие у нас дела.
— Государственный секрет, — добавил, смеясь, Самуэль.
— В общем, я представляю себе, в чем дело. Прекрасно знаю, о чем вы болтаете.
— Ну, если ты такой умный, не задавай вопросов.
Лоли, Фернандо, Марияйо и еще одна девушка подняли страшный шум и досаждали Лукасу, стуча кулаками и стаканами по доскам стола и скандируя:
— Му-зы-ка! Му-зы-ка! Му-зы-ка! Му-зы-ка!..
Лукас заткнул уши.
— Больно хитры, — сказал он им, — если воображаете, что этой чепухой чего-нибудь добьетесь. Меня не переупрямишь.
— Му-зы-ка! Му-зы-ка! Му-зы-ка!..
К ним присоединилась пятерка с другого столика. Фернандо встал и подошел с бутылкой угостить их вином.
— Небольшой гостинец от нашей банды, — он бутылкой указал на стол, за которым сидели его товарищи.
Все пятеро зааплодировали. Мигель сказал:
— Вино кончается, надо заказать еще.
Самуэль повернулся к стене и продул мундштук трубки: вылетел шарик золы. Все Оканья уже были на ногах. Они вышли на середину сада, Петра гнала детей перед собой, как стадо.
— Быстрей, ребята, — говорила она, — пошли. Ничего не оставили? Нинета, голубушка, посмотри, пожалуйста.
— Не беспокойся.
Она посмотрела под скамейками, по углам, возле навеса. Уже совсем стемнело. Все прошли в коридор, столик стоял свободный в полутьме сада. Последней ушла Нинета.
— Вы уже уезжаете? — сказала с порога кухни жена Маурисио.
— Да, Фаустина, пора, пора, — ответила Петра.
Фаустина вошла за ними в зал. У стойки расступились, пропуская их.
— Что ж, старик, ладно, — сказал Маурисио, выходя из-за стойки.
— Нам пора, — сказал Фелипе, кивая всем головой.
— Значит, день прошел хорошо, — продолжал Маурисио и, взглянув на Хуанито, добавил: — Ты большой озорник, а? — И снова поднял голову — Вот и провели день на воздухе.
— Конечно, — ответил Оканья.
Петрита подошла к игрокам и уставилась на паралитика.
— Мы вам очень благодарны, — сказала Петра, — за оказанное нам гостеприимство. — Она повернулась к Фаустине в знак того, что благодарность относится и к ней. — Вы уж знаете, незачем еще раз повторять, как только приедете в Мадрид…
Алькарриец, шофер, пастух, Чамарис и оба мясника молчали, деликатно отступив в сторону. Только Лусио со своего места продолжал разглядывать гостей, словно изучая прощальную церемонию.
— Какое там гостеприимство! — сказал Маурисио. — Мне так кажется, что я забросил вас на весь день, потому что в зале было много работы. И, конечно, против своей воли, мне очень хотелось побыть с вами подольше.
— Не говорите ерунду, Маурисио, вы сделали куда больше, чем полагается. Кому может в голову прийти, что вы должны бросить все дела и заниматься нами? Довольно и того, что…
— Ладно, — заключил Маурисио. — Главное, чтобы вы приехали еще раз. — И обратился к Фелипе: — Приезжай, я тебе говорю, Оканья, приезжай, обязательно еще раз жду этим летом. То же самое говорю и вам, с кем имел удовольствие познакомиться сегодня.
Нинета вежливо улыбнулась.
— Это взаимно, — сказал Серхио, — вы чудесные люди, и мы очень благодарны вам за все.
— Ну что вы, спасибо вам, и помните, мы всегда к вашим услугам. У нас вы можете себя чувствовать, как дома. — Он похлопал приятеля по руке. — Жаль, черт возьми, Фелипе, что ты не приехал в такой день, когда я бываю посвободнее, чтоб нам хоть поговорить толком.
Игроки в домино время от времени равнодушно поглядывали на прощавшихся. Кармело смотрел на них, мешая костяшки на мраморном столике.
— Гляди сюда, гляди, что ты делаешь, — закричал ему Кока-Склока, — не суй нос куда тебя не просят, тебя там ничего не касается. Давайте играть.
— Как было нам хорошо, — сказал Оканья, — помнишь? Встретиться бы еще раз на свободе, но только без аварий, а?
Маурисио засмеялся:
— А как без аварий? Мы люди небогатые и должны ждать, пока что-нибудь стрясется, например, сломаешь себе руку или ногу, тогда и получишь возможность наслаждаться жизнью.
— Ну вот! Теперь им не хватает больницы, — вмешалась Петра. — Ну, мужчины, мужчины все одинаковые. Посмотри на них. И что за парочка!
Фаустина согласилась.
— Два сапога — пара, — сказала она, вскинув брови и покачивая головой, как человек, набравшийся терпения.
Их мужья, смеясь, глядели друг на друга.
— Что ж, не будем портить удовольствие всем присутствующим, — сказала Петра. — Поскольку уже поздно, не хотим вас больше беспокоить.
— Никакого беспокойства, сеньора, — сказал Клаудио.
Петра его не слышала, она обратилась к Фаустине:
— Так мы поедем. Желаю вам всем пребывать в добром здравии, — протянула она руку. — И до встречи, когда вы наконец решитесь выбраться в Мадрид.
— О, что об этом говорить… — И Фаустина подняла взор к небу. — Нам было очень приятно видеть вас, Петра.
— А вашей дочери, должно быть, нет дома? Жаль, что мы с ней не простились. Такая славная девушка.
— Да она дома, дома. У себя в комнате, наверно. Просто не слышала, как вы прошли. Сейчас ее позову.
— Нет, не беспокойтесь, Фаустина, пусть отдыхает.
— Ну вот еще! — сказала та и крикнула в коридор: — Хустина! Хустина!
Хустина в темноте лежала на кровати. Она слышала голоса, доносившиеся из сада, иногда сквозь закрытые жалюзи видела руку Марии Луисы или Самуэля возле самого стекла. Остальные расположились тоже неподалеку от окна, она различала их голоса. На потолке, над гипсовой фигурой Пресвятой Девы, светился кружок желтоватого света, который отбрасывала лампадка, зажженная ее матерью по случаю августовских новен[24]. Отблеск лампады дрожал и на никелированной спинке кровати. В саду требовали музыки, без конца музыки, потому что Лукас упрямился и не заводил патефон. Потом сказали, что кончилось вино, значит, ей придется встать и вынести им еще вина. Хустина расслабилась. Согнутой в локте рукой она прикрыла глаза, только бы не видеть ни пятен на потолке, ни отблеска на спинке кровати. Потом услышала, как по коридору прошло семейство Оканьи; вставать не хотелось, повернулась на бок, заскрипели металлические пружины. С потолка почти на голову Пресвятой Деве свисала высохшая лавровая ветка. Хустина нечаянно царапнула ногтями беленую стенку и с досады повернулась на другой бок, но тут ее позвала мать. Мгновение она колебалась, потом нашарила выключатель.
— Иду, мама!
Наскоро поправила платье перед зеркалом. Когда она вошла в зал, глаза ее все еще моргали от яркого света.
— Вот, дочка, гости не захотели уезжать, не попрощавшись с тобой.
— Как вы провели день? — спросила она тихим голосом.
— Великолепно, — ответил Оканья, — большое спасибо, Хустина.
— Очень рада. А ты не поцелуешь меня, маленькая?
Девочка оторвала взгляд от паралитика и подбежала к Хустине.
— Оп-ля! — сказала Хустина, поднимая Петриту на руки. — Скажи-ка, что тебе больше всего понравилось? Расскажи мне.
— Крольчиха, которая в саду. Она твоя, правда?
— И твоя, с сегодняшнего дня она больше твоя, чем моя. Когда захочешь, приезжай, и мы вместе ее покормим, ладно?
— Да, — кивнула девочка.
— А теперь вставай на ножки, радость моя, мама с папой торопятся, не надо их задерживать. Ну, приезжай еще, а сейчас поцелуй меня.
Она наклонилась и подставила щеку, но Петрита обняла ее за шею и крепко прижалась к ней.
— Знаешь, я тебя очень люблю, — сказала она.
Фелипе Оканья прощался с завсегдатаями кафе.
— Помните, — доверительным тоном сказал шофер, пожимая ему руку, — один, без семьи, без кого бы то ни было, — тут он подмигнул. — Может, вправду как-нибудь решитесь поразвлечься.
Оканья улыбнулся и кивнул.
— Буду иметь в виду. — И повернулся к игрокам: — Всего вам доброго, сеньоры!
— Счастливого пути, до свидания.
— Хорошо вам доехать. И еще вот что, если когда-нибудь ваши ребятишки захотят покататься в моем лимузине, вы только привезите их, этой чертовой колеснице полезно проветриться, подышать другим воздухом!
— Прекрасно, договорились, — улыбнулся Фелипе инвалиду, покосившись на Петру.
— Всего доброго. Полного всем благополучия.
— Спасибо, и вам того же. Приезжайте, приезжайте!
Шнейдер, чуть приподнявшись со стула, коротко кивнул. Гости стали выходить.
— О, луна, Серхио! — восхитилась Нинета. — Какая красавица! Какая огромная!..
Лунный свет отливал медью на изгибах крыльев и на запыленной ручке дверцы автомобиля.
— Подавайте мне вещи, — сказал Оканья, откидывая заднее сиденье.
Маурисио и Хустина вышли с гостями. Шофер грузовика глядел на них из освещенного проема двери. Фелипе стал укладывать свертки во внутренний багажник. Потом усадил членов семьи. Петра сказала:
— Не толкайтесь, дети, не толкайтесь, всем места хватит.
Хустина стояла перед машиной, скрестив руки на груди.
— Слушай, я должен заплатить тебе за выпивку и кофе, — обратился Фелипе к Маурисио и вытащил бумажник.
— Скройся с глаз!
— Ну что это еще такое? — схватил его за рукав Оканья. — Сейчас же скажи, что я тебе должен.
— Ладно, ладно, пошутил и довольно.
— Да послушай, мы же не сможем к тебе больше приезжать. Получи, пожалуйста.
— Поезжай, поезжай!
Петра из машины смотрела на растерянное лицо мужа.
— Еще чего не хватало! — воскликнула она.
Маурисио подталкивал Оканью к машине.
— Садись ты, садись, вы же торопитесь, не теряй время.
— Какое там торопимся! Это не дело, Маурисио.
Маурисио засмеялся. Тут вмешалась Петра:
— Послушайте, Маурисио, это ни на что не похоже. Мой муж хочет заплатить за то, что мы заказали, и вы должны получить с нас хотя бы из вежливости. Вы лишаете нас возможности приехать к вам еще раз.
— Ничего, ничего, в Мадриде у вас будет и время и возможность пригласить меня. Вот там будете платить вы. А здесь угощаю я — и дело с концом. Садись, Оканья.
— Ну ладно, это тебе так не пройдет. Честное слово, ты у меня еще вспомнишь.
Он влез в машину. Петра сидела впереди, рядом с ним. Хустина облокотилась на окошко машины.
— Счастливо доехать до Мадрида, — сказала она, обращаясь к теням внутри автомобиля, лиц было не разобрать.
Заурчал мотор, с четвертого раза он завелся. Фелипе Оканья высунулся из машины.
— Прощай, злодей! — улыбнулся он. — Помни, я уезжаю очень сердитый на тебя!
— Ладно, ладно, трогай, — сказал Маурисио, — не то совсем поздно будет.
Он помахал рукой перед окнами, прощаясь с тенями, прижатыми друг к другу на заднем сиденье. Брызнул желтоватый свет; машина медленно тронулась. «До свидания, до свидания, до свидания!» Хустина отняла руки от окошка, и такси выехало на дорогу. Неподвижные фигуры отца и дочери остались позади, возле снопа света, падавшего из открытой двери. Они стояли, пока машина, подняв облако пыли, закрывшее огромную восходящую луну, не выехала на шоссе.
— Тихо! Послушайте все! Вы будете меня слушать?
Фернандо размахивал бутылкой, стоя посреди сада в полосе света, лившегося из окна кухни, так что видны были его лицо, грудь и сверкающее стекло бутылки. Он кричал в темноту, по направлению к столам, за которыми шумели его товарищи, требуя музыки и снова музыки.
— Послушаем, что хочет этот! Помолчите! Пусть говорит, внимание!
— Патефончик подыхает от усталости, — сказал Рикардо. — Его таскают целый день!
— И разок чуть не грохнули.
— Пусть выскажется!
— Треп какой-нибудь. Давайте не дадим ему говорить, — тихонько предложил Рикардо. — Как откроет рот, так завоем.
Из тьмы ночного сада, скрывшись в зелени, все смотрели на Фернандо, стоявшего на свету.
Мели сказала Сакариасу:
— Воскресенья проходят одно за другим так, что и вспомнить нечего.
— Но кое-какие воспоминания останутся, — ответил Сакариас. — Посмотри, посмотри на кота…
В кустах послышалась какая-то возня, зашуршали листья. Под стульями мелькнула быстрая хищная тень.
— Для него все дни — воскресенья.
— Или будни, — возразил Сакариас. — Мы этого не знаем.
Теперь они оба обратили внимание на Фернандо. Тот уже терял терпение:
— Так будете вы меня слушать или нет?
Сакариас крикнул:
— Выкладывай, что там у тебя, Муссолини!
— Зачем? Дайте ему два реала и пусть замолчит.
Фернандо сделал движение, будто собрался отойти, свет на мгновение вспыхнул на никелированных деталях патефона, стоявшего в глубине сада.
— Хватит вам! Дайте парню сказать! Говори, что ли!
— Так хотите или нет, чтоб я говорил?
— Слушай, ты будто собрался крестить этой бутылкой океанский лайнер! Скажи, как ты его назовешь?
— Что, что? Ну и назову: «Профиден»[25] или «Юная Рикарда». Как тебе больше нравится?
— Да все равно он пойдет ко дну, как ты его ни назови. Ну, говори, послушаем, что там у тебя за сенсация.
— С твоего разрешения. Так вот, ребята, — обратился он ко всем, в том числе и к пятерым, сидевшим за отдельным столиком, — я хочу только сказать, что надо как-то упорядочить наше веселье. Пока что весь день была сплошная неразбериха, один туда, другой сюда, и никому никакого проку…
— Ты еще расскажи свою биографию! Кончай, птенчик! Ничего себе речь! Силен!
— Да заткнись ты, не мешай!.. Так вот, я предлагаю сдвинуть столы, чтоб сидеть вместе с этими ребятами, а то они как неприкаянные, и сделать общий стол. И тогда получится одна-единая компания, в которой легче будет навести порядок. В то же время мы пополним наши ряды свежим подкреплением, они — хорошие ребята, и всем будет веселей, и шуму больше. Ну как?
— Что ж, с нашей стороны возражений нет, — сказал Мигель. — Если они согласны, пусть каждый возьмет свой стул и подсаживается сюда, тут места хватит.
— Давайте, давайте! — крикнули с того столика.
— Тогда всё, вопрос решен.
Пятеро встали и перенесли свои стулья к большому столу. Фернандо вышел из освещенной полосы и вернулся на свое место рядом с Марияйо. Светлый прямоугольник лег на землю. По нему взад-вперед ходили пятеро, перенося свои пожитки. Рикардо пробормотал:
— Видали, до чего этот тип додумался, будто так меньше будет беспорядка.
Самуэль обернулся к нему и сказал:
— Что ты там ворчишь, Профиден?
— Я не ворчу, я только говорю, что очень надо было с кем-то объединяться, будто без них мы не смогли бы хорошо провести время. Больше галдежа будет, только и всего. А потом еще и заваруха какая-нибудь получится.
— Ладно тебе, не будь индивидуалистом.
— Никакой я не индивидуалист. Мы их совсем не знаем, так и оставь их в покое. Кто нас заставляет заводить с ними дружбу? Знаешь ведь, кота в мешке покупаем.
Пятеро уселись за общий стол: две девушки и три парня.
— Вот что, — тихо сказал Самуэль, — дело уже сделано, так что заткнись, иначе ты станешь зачинщиком скандала.
— Ну конечно, теперь я должен им улыбаться. Только этого мне и не хватало.
Мигель обратился к подсевшей компании:
— А вы из какого района?
— Матадеро. Квартал Легаспи. Кроме вот его, он живет в Аточе. А мы все из Легаспи.
— Мне нравится ваш квартал. Я знаю там одного парня, его зовут Эдуардо, Эдуардо Мартин Хиль, не слыхали?
— Эдуардо… Одного Эдуардо я знаю, но это не тот, у него фамилия другая. Как ты сказал! Мартин, а дальше?
— Эдуардо Мартин Хиль.
— Нет, не он, точно — не он. Кажется, я твоего не знаю. Может, ты, — обратился он к своему товарищу, — может, ты кого-нибудь вспомнишь?
— Эдуардо, постой-ка… — задумался тот. — Есть еще Дуа, он, наверно, тоже Эдуардо?
— А, верно, вот еще один. Конечно, его полное имя — Эдуардо, а Дуа — так, должно быть, зовут его дома.
— Если не этот, то не зияю, кто же еще. Как его фамилия, ты не помнишь?
— Фамилия? Дай подумать… Да-да, сейчас скажу… Нет, не могу вспомнить, из головы вылетело, но все равно, у него не та фамилия, которую этот парень назвал, совсем непохожа… Как бы мне вспомнить…
— Ладно, неважно, — сказал Мигель, — не имеет значения. Не ломайте голову, черт с ним.
— Да, конечно. Вот если б мы были знакомы еще с каким-нибудь Эдуардо, хоть даже и фамилии его не знали б, это вполне мог бы быть тот, о котором ты говоришь. Но в том-то и дело, что других Эдуардо мы не знаем. Вот всяких Пепе у нас вагон, в Легаспи их не перечесть. А с твоим другом — странно, мы о нем даже не слыхали, тем более что он молодой парень, а мы у себя вроде всех знаем. Ты уверен, что он живет в Легаспи?
— Ну да. То есть я хочу сказать, если он недавно не переехал, я с ним больше года не виделся.
— Ладно, ребята, черт с ними, с Эдуардо, давайте подумаем, что будем делать. Танцуем или нет?
— А как же, дорогая, мы кончили разговор. Ну что, вина не будет?
— В их бутылке вроде еще осталось, взгляни.
Мигель поднял бутылку и посмотрел ее на свет!
— Да почти ничего, самая малость.
— Попросим еще, — сказал Фернандо. — Надо похлопать в ладоши, может, кто-нибудь выйдет.
— Давай хлопай. У тебя рук, что ли, нет?
— Ну же, Лукитас, будь пай-мальчиком, заведи нам патефон, пожалуйста.
Лукас поднялся, притворно вздохнул и, махнув рукой, — ничего, мол, не поделаешь, — пошел к патефону. Хуанита заметила:
— Какой ужасный труд! Ты так кривляешься, будто тебя заставляют управлять трамваем. — Она обернулась к Лоли: — Ты только погляди, до чего бедняге тяжело, не знаю, как он ноги таскает.
Фернандо несколько раз хлопнул в ладоши. Марияйо сказала:
— Ну и ладони у тебя, дружище. Я почти готова нанять тебя, чтоб ты будил нашего ночного сторожа, он, бедняга, совсем глухой стал.
— Лукас, поставь для меня, пожалуйста, румбу! — крикнула Мария Луиса.
— Для тебя? Наверно, для всех.
— Какая тут румба-тумба! — откликнулся Лукас. — Я же ни шиша не вижу!
— Так выйди на свет и посмотри, подумаешь, проблема!
Лукас не ответил, он опустился на колени перед патефоном и крутил поблескивавшую металлом ручку.
— Не зли его, а то он и вовсе бросит крутить, ты же его знаешь.
— Я хочу танцевать! А что еще делать? Хочу танцевать!
— Подожди, вот припекло тебе, подожди, не спеши, время терпит.
— Не так его уж и много, Самуэль.
— Ну, начинается! — запротестовал Сакариас.
— Что начинается?
— Разговор о неприятном.
— Неприятном?
— Ну да, о времени, детка! — Сакариас, улыбнувшись, вновь повернулся к Мели: — Продолжай.
— Так вот, пока суд да дело, пошел уже одиннадцатый час, и в половине одиннадцатого — дзинь-дзинь! — является отец. Меня такой страх взял, сказать тебе не могу. Пошла открыть ему, а он — ни гу-гу, и лицо серьезное, представляешь, как у церковного служки. Садимся все к столу: тут отец, напротив него — бабушка, тетка — на другом конце, ну, как вот здесь, а мой брат рядом со мной, слева, так что, понимаешь, я его то и дело коленкой под столом подталкиваю, а сама прямо-таки трясусь, нервы расходились, даю слово. Начали ужинать, а отец все молчит, суп съели — ни полсловечка, в нашу сторону даже не смотрит, съели второе, не помню что, — та же картина: глядит в тарелку, и все тут. Ты только представь себе, хоть про отца и не скажешь, что он любит поболтать, но уж за столом-то всегда с нами разговаривал: спрашивал, сам что-нибудь рассказывал о своих делах, ну, как всякий человек, когда он в хорошем настроении, когда хочется поговорить. А в тот вечер, представляешь, так себя держал, что даже бабушка не осмеливалась слово сказать! Да она еще не знала, в чем дело, понимаешь, но видно, не так уж она слаба умом, как мы думаем, какое там слаба, — хоть и стара, а сразу почуяла, что дело неладно. Ну вот, короче говоря, такая жуткая была сцена, такое напряжение, когда чувствуешь, что вот-вот не выдержишь, взорвешься, такой момент я пережила, скажу тебе — жуть! Это хуже, гораздо хуже, чем любая ругань, любая ссора, какую только можно себе представить. А тетка наша, при всем том, что она нас ненавидит и всегда готова навредить, тоже чувствовала себя не в своей тарелке. Наконец она не выдержала и, когда ели сладкое, сказала отцу: «Ты ничего не хочешь сказать своим детям?» Будто только и ждет, чтоб он нас отругал, чувствуешь? А отец пристально взглянул на нее, встал с таким же серьезным лицом и ушел спать. И мы легли спать, так и не зная, что от нас хотят, и всю ночь промучились. Ясно, ему только того и надо было, он не дурак, нет. И получилось у него — лучше не придумаешь, на другой день он кое-что нам сказал, серьезно и спокойно, без всякой ругани, без крика и брани; еще брату досталось побольше, а мне… Он прекрасно знал, что заставил нас пережить, знал. На том дело и кончилось…
Сакариас улыбнулся.
— Слушай, а что ты так беспокоишься о ночном стороже? — спросил Фернандо у Марияйо.
— Мне ничего другого не остается.
— Почему? Что ты делаешь по ночам на улице?
— Я, к твоему сведению, работаю в системе кафе и баров.
— А-а, понимаю. После вечерней смены. А на тебя не набрасываются вампиры?
— Нет, милый мой, не беспокойся, не набрасываются.
Послышался смех Фернандо. Лукас подошел к окну, чтобы разглядеть надписи на пластинках. В окно видна была кухня, жена Маурисио растапливала плиту куском картона от коробки из-под обуви; угли потрескивали, разбрасывая искры. К Лукасу подошла Мария Луиса, и Фаустина, услышав их голоса, — они искали румбу, — обернулась и сказала им:
— Если вам что-нибудь нужно, сейчас выйдет моя дочь.
— Это хорошая идея — захватить с собой патефон, — сказала девушка из Легаспи.
— Только лучше бы другой, поисправней.
— Ну, если другого нет…
Хуанита сказала:
— У этого патефона самое плохое — его хозяин, понимаешь? Он воображает, что владеет бог знает чем.
— Что-то так никто и не выходит к нам.
Фернандо снова похлопал в ладоши, потом сказал:
— Знаешь, детка, это ты неплохо придумала с ночным сторожем. Ради того, чтоб ты не ходила одна, я готов отрывать от своего сна три часа еженощно. Хорошая мысль: ты стоишь того, чтобы тебя провожать. Считай, что эта должность за мной.
Заиграла музыка. Самуэль с блондинкой и две пары из Легаспи вышли танцевать. Затем встал Мигель и, проходя с Алисией мимо Сакариаса, тронул его за плечо:
— Как дела? Вам, я вижу, уже ни до кого. Славно вы тут поболтать устроились. Интересно, что ты ей заливаешь? Имей в виду, дорогая, он жуткий трепач. Не верь ему.
Мели улыбнулась:
— Он мне рассказывает про военную службу.
— Прекрасно, продолжайте, продолжайте.
Потом, уже танцуя, Алисия упрекнула его:
— Ну чего ты к ним привязался? Не видишь, они плавятся? Не понимаешь, что ли?
— Именно поэтому, чтоб немножко их позлить.
Один из пяти присоединившихся к компании остался за столом, в полутьме он смотрел на Лоли. Слышался смех Самуэля и блондинки, которые танцевали со всякими выкрутасами. Рикардо молчал.
— Ну и веселье, правда, Хуани? — спросила Лолита сдержанно.
Только та собралась ответить, как Лукас расстался с патефоном и позвал ее танцевать. Пары одна за другой выходили на светлый прямоугольник, но видны были только ноги. Парень из Легаспи сказал Лолите:
— Если ты ни с кем не танцуешь…
— Что?
— …то пойдем со мной, не возражаешь?
— С удовольствием.
В сад наконец вышла Хустина.
— Что вы хотели?
Рикардо посмотрел на парня из Легаспи, который, обняв Лолиту за талию, пошел с ней танцевать, и сказал:
— Эй, Фернандо, так чего вы хотите?
— Да вина, бутылки две. — Потом добавил: — Послушай-ка, а есть у вас лангусты?
— Конечно, по-флотски! — Хустина посмотрела на него и ушла в дом.
— Получил? Как спросил, так и ответили, — засмеялась Марияйо. — Будешь знать.
Кто-то из танцующих вдруг лихо вскрикнул, и внезапно осветился весь сад. Свет выхватил из темноты кислую физиономию Рикардо, смеющуюся Марияйо, Сакариаса и Мели, тесно прижавшихся друг к другу под кустами жимолости. Свет исходил от электрической лампочки в «тюльпане», подвешенном в центре сада на протянутых проводах. Тотчас разъединились губы Марии Луисы и Самуэля. Стала видна пыль, которую поднимали танцующие, ярким пятном выступила желтая блузка девушки из Легаспи, осветились пустые столики, бумажки на земле, велосипеды, прислоненные к дальней стене сада, отбитые губы бронзовой лягушки. Фернандо сказал со смехом:
— Ну что за дурной тон зажигать свет в такой момент!
Сакариас обернулся:
— А в чем дело?
Мели рядом с ним смотрелась в зеркальце.
— Это вам виднее, — ответил Фернандо.
— Будь любезен, налей нам вина.
— Подожди, сейчас принесут.
Патефон гнусавил румбу.
— Отец, налейте две бутылки.
— Две? Сейчас. Ты зажгла свет в саду?
— Только что включила.
— Правильно, потому что, когда молодежь танцует в темноте, сама знаешь, что получается. Матери это не нравится, и она права. Со светом намного пристойнее.
— Ну, ты им оказала плохую услугу, — сказал Лусио.
— А ничего, перебьются, — возразил Маурисио. — Не хватает только, чтоб я превратил свой дом в непотребное место.
Лусио не сдавался:
— У молодежи свои понятия и склонности. Непотребством это никак не назовешь. Тут совсем другое дело, ничего похожего на бордель.
Маурисио наполнил обе бутылки.
— Пусть, но не здесь. Кругом поле, места хватит. Держи, дочка.
Вошел мужчина в белых туфлях.
— Добрый день.
— Уже вечер. Привет, как дела?
Хустина скрылась в коридоре. Сеньор Шнейдер поднял голову от костяшек.
— Как поживаете, друг мой? — улыбнулся он мужчине в белых туфлях.
— Хорошо, спасибо, Эснайдер, как игра?
— О, все как положено, — один раз выиграть, другой проиграть. Это — как жизнь.
— Да, как жизнь. Только риску меньше, верно?
— Именно так и есть. Это большой правда. — И старик вновь вернулся к игре.
Мужчина в белых туфлях похлопал по плечу пастуха:
— Как дела, Амалио? Что овечки?
— Э, как всегда. Хорошего-то мало. — Он замолчал, а затем продолжил, повысив голос: — Откуда хорошему взяться? Не с чего.
— А кто виноват?
— Хозяин. Он до сих пор ни хрена не понимает в разведении овец. И не хочет понять. Каждый божий день у меня с ним стычка, я все пробую растолковать, что к чему. Куда там. У него что тут, — он постучал себя по лбу, — что тут, — и постучал по стойке. — Твердолобый он.
Пастух осушил свой стакан. Никто ему не возражал.
— Вот хотя бы эти сеньоры, — продолжал он, указывая на мясников, — они в курсе наших дел, могут подтвердить. Скажите, разве неправда?
Он замолчал. Все опять смотрели на него, и он стал рассказывать:
— И дураку ясно: если не заботиться о пополнении стада, оно рано или поздно вымирает. Обязательно. Только и всего. Вот такую простую вещь, которая сама за себя говорит, никак ему не втолкуешь. «Амалио, плохие у нас овцы!» И все тут, с этого его не сдвинешь. — Пастух проглотил слюну. — Но, господи боже мой, ведь не сто лет живут овцы! Хоть ты им делай уколы с витаминами, хоть ты их в санаторий помести, если бы такие были, но уж если овца свое отжила и у нее выпадают зубы, она все равно околеет, и ничего ты с ней не поделаешь. Чего бы ты там ни хотел. С нее взятки гладки, — скажете, не так?
Мужчина в белых туфлях рассеянно ответил?
— Да, я понимаю, конечно, это так.
— Проще простого, — заключил пастух.
— Это вроде как мой папаша, царство ему небесное, — сказал алькарриец, — в точности все так. Последнее время он только и говорил: «Я нездоров, нездоров». А нездоровье тут было вовсе ни при чем. Просто пришел его черед, такой уж возраст. С ним что должно было быть, то и было. Вот если б иначе пошло, тогда можно бы задуматься. Знаете, как мне иногда хотелось сказать ему, и сказал бы, если б не уважение к старшим и все такое прочее: «Вы стары, отец, стары, вот что с вами и нечего над этим голову ломать, вы стары, как Мафусаил, если уж на то пошло, ничем вы не больны, вы просто кончаетесь, вы больше не тянете!» Бедняга. Никак не хотел понять, что все на свете кончается само по себе и искать тому причину — все равно что искать у собаки пятую лапу. Человек изнашивается, как и все вещи, и наступает момент, когда он уже не того… уже не может… уже не может дальше жить. Ну и что? Какой тут секрет? Ну вот, например, когда у часов кончается завод, — это, конечно, не тот случай, но для сравнения годится, — когда у часов кончается завод и они останавливаются, никому и в голову не придет, что часы испортились, разве не так? Вот в чем беда и моего отца, и вашего хозяина, когда он рассуждает насчет овец, о чем вы нам рассказали, Амалио. Одно и то же! И тот и другой спутали старость с болезнью.
— Так оно и есть, — согласился пастух, — всему на свете приходит конец, овечкам тоже. Коли у нее выпали зубы, чем она будет жевать? Может, кормить ее супчиком?
— Ну, — сказал Клаудио, — насчет вашего хозяина, мы все знаем, что он такое: без конца жалуется на сердце. Притворство и больше ничего. Просто не умеет вести дела, как надо.
— Стой, стой, — запротестовал алькарриец. — Зачем говорить такое в присутствии Амалио? Не годится хулить хозяина перед его работниками.
— При чем тут хозяин и работник? — возразил пастух. — Правду должны знать все. Сеньор Клаудио правильно говорит, что твой святой, и еще даже того правильней. Я первый готов подтвердить его слова.
— Ну ладно, ладно, а я вот расскажу дону Эмилио, так и знай, что ты за спиной называешь его жадиной, вместо того чтобы защищать. Обязательно расскажу.
— Он от этого лучше не станет.
— Ну с чего бы ему жадничать при его-то деньгах! — вмешался Чамарис.
Пастух на это ответил:
— Жадность — это не то, как человек относится к деньгам, наживает он их или теряет, здесь важно какой он сам по себе.
Мужчина в белых туфлях молча прислушивался.
— Неплохо бы нам всем вместе, — заключил алькарриец, — иметь столько, сколько у него одного. Уж мы бы сумели дать деньгам ход.
Чамарис сказал:
— Не в деньгах счастье.
— Может быть, а для жадины — меньше всего.
— Нет, в деньгах, счастье в деньгах, — сказал Лусио. — Я вот верю, что они могут принести счастье. А вот совесть, она такое счастье отвергает.
— Какая совесть? — спросил шофер. — Кому она нужна, коли в банке солидный вклад?
— Есть совесть, — сказал Лусио. — Где-то очень глубоко, но есть, хотя б ты и был ей не рад. Вроде червячка в яблоке.
Мужчина в белых туфлях утвердительно кивнул головой и сказал:
— Что верно, то верно. В самую точку. Совесть — это червяк, который проточит что хочешь и проникнет куда угодно. Вредная тварь.
Он залпом выпил свой стакан. Маурисио слушал, скрестив руки на груди и прислонившись спиной к полкам. Маленький мясник подошел с рассеянным видом к столу, где играли в домино, и посмотрел на пригнувшегося Кармело, который весь ушел в игру. Махнув рукой, он сбросил на пол его форменную фуражку, висевшую на боковом штыре, торчавшем на спинки стула, и потом быстро присоединился к остальным. Но Кармело заметил и сказал:
— Не прячь руки за спину, я видел. Не надо так шутить. — Он подобрал с полу фуражку. — Не из-за меня и не из-за того, сколько эта вещь стоит, — он любовно очищал засаленный верх фуражки от пыли, снимая ее рукавом. — И не потому, что мне это досадно, не потому, что она стоит денег, а из-за того, что она представляет. Надо уважать муниципалитет. Над муниципалитетом шутить не надо.
Он повесил фуражку на прежнее место и опять занялся игрой.
Высоко над Викальваро в небе вздымались железные столбы с белыми и красными огоньками наверху. Они плыли, как бенгальские огни, в пустоте ночи. За спиной Сантоса и Кармен небо было черное и мутное. Лишь самые яркие звезды сохраняли свой блеск в сиянии лупы. С нагретого за день поля подымался густой летний зной, сдобренный неумолчным стрекотанием кузнечиков. Недалеко от молодых людей торчал обтесанный камень, геодезический знак наивысшей точки Альмодовара.
Тито дал прикурить Себасу, прикурил сам и, пока горела спичка, посмотрел на Луситу. Задул спичку и снова сел рядом с ней. Паулина сказала:
— Что с тобой, Луси?
— Ничего. А что?
— Да ты молчишь все время.
— У меня здорово голова кружится.
— Вы тут много пили. Отойди в сторону и вырви.
— Оставь девочку в покое, — сказал Себас.
Ниже по реке в неверном свете луны смутно виднелись поля, словно опустился туман; еще дальше — силуэты налезающих друг на друга холмов, вершины и пики, мертвенно-бледные на фоне ночной тьмы, будто крупы убегающих вдаль гигантских овец какого-то сказочного стада. Тито положил руку Лусите на затылок.
— Тебе лучше? — тихонько спросил он ее.
Она откликнулась усталым голосом:
— Терплю, как могу.
Лусита повернулась, устраиваясь поудобней. Посмотрела понизу, между стволами, на спокойную воду перед плотиной, на отражавшиеся в воде лампочки, горевшие возле закусочных, на огромную тень какого-то человека, стоявшего на краю дамбы. Самой дамбы видно не было, ее закрывал холм. Не видно было ни террас, заполненных народом, ни лампочек, плясавших на проводах под большим деревом, — только огни, отраженные в воде, и тени. Доносился шум, пьяные голоса, неумолкающая музыка из приемников, грохот водоспуска где-то внизу, за деревьями, в конце дамбы.
Вдруг в темной дали ночной равнины показалось ослепительно белое око — шел поезд; он приближался, стуча колесами и подавая гудки, по прямой как стрела насыпи, пересекавшей пустошь. Ворвался на мост через Хараму, выхватил прожектором из темноты застывшие фигуры влюбленных, в страхе прильнувших к перилам, редкие дома на правом берегу, переезд и станцию Сан-Фернандо-де-Энарес — Кослада. Лусита вздрогнула и провела ладонями по своим плечам и рукам:
— Тито, я совсем грязная… Столько пыли на меня налипло. Вся перевалялась в грязи. Тело чешется, прямо не могу.
— Она права, — сказал Себас, — мы целый день валялись на земле и теперь по уши в пыли. Надо бы еще разок искупнуться. Я тоже об этом думал. Ну как? Окунемся?
— В такое время? — удивилась Паулина. — Ты не в своем уме. Я думаю, что…
— Еще интересней, вот увидишь.
— Я поддерживаю, — сказала Лусита. — Я — за. Здорово придумал.
— Молодец, Лусита, ты мне нравишься. Давай и ты, Тито, пошли все вместе, вперед!
— Нет, Себас, мне неохота, ей-богу. Идите без меня, я покараулю одежду.
— Много потеряешь.
— А мне все-таки это кажется сумасбродством, — сказала Паулина. — Кому в голову придет купаться в такой час?
— Нам. Разве этого мало? Пойдем, голубка, окунись, не заставляй себя упрашивать.
— Смелей, Паулина, — сказала Луси. — Вот увидишь, тебе понравится. Если не пойдешь, я тоже не пойду, так что решай.
— Только недолго, да? Окунемся и выйдем.
— Ну конечно.
— Тогда чего мы ждем? Вперед, пока не поздно.
Лусита и Себастьян встали.
— Подними меня, Себас.
— Сейчас.
Он взял невесту за руки и помог ей встать. Тито сказал:
— Вы там не очень-то, нам еще лезть на гору.
— Не беспокойся. Возьми, пожалуйста, подержи.
Лусита вдруг подпрыгнула и закричала:
— В воду, в воду, ребята! К чертям спячку!
Все посмотрели на нее с удивлением.
— Какая муха тебя укусила? — засмеялась Паулина. — Я тебя не узнаю!..
— Так узнай. Я такая и есть. Сумасшедшая коза. Вот так вдруг… Мне как когда вздумается, что капуста, что колючки, понимаешь? Так лучше, тебе не кажется? Ну, пошли в воду!
Они направились к реке.
— Ишь ты какая сегодня!..
Обе засмеялись. Тито надел на руку часы, которые отдал ему Себастьян, и стал смотреть вслед трем теням, удалявшимся от него. Луна была уже не красная, она пожелтела и поднялась выше, теперь она висела над горой Визо возле Алькала-де-Энарес.
Дошли до реки.
— Страшновато, верно? — сказала Паулина, останавливаясь у воды.
— Впечатляет, — согласился Себас, — впечатляет, ничего не скажешь, но бояться не надо. Ну же, Паули, не робей, держись за меня.
Себас вошел в воду, продвигался он медленно, словно отталкивая воду ногами. На плечах он чувствовал руки Паулины, которая шла за ним.
— Будто не вода, а чернила, — сказала она. — Не заходи далеко.
Лусита вошла в воду позже. Остановилась и оглянулась на темную громаду деревьев. В ночи мерцали редкие огни: электрические лампочки и распахнутые в ночь двери домов, обращенных к реке.
— Итак, заседание окончено, — сказал дон Марсиаль.
Старый Шнейдер вытащил карманные часы. Кока захотел на них взглянуть:
— Вы позволите?
На стальной крышке был выгравирован двуглавый орел.
— Этот орел — двуглавый, — пояснил Шнейдер, — у него два головы. Старинная вещь. Теперь этот орел уже умер — паф! паф! — охотники убили бедный орел. Getöt[26]. — И он рубанул воздух ладонью. Потом сказал: — Ну вот, теперь я буду уходить, нехорошо заставлять ожидать старушка супруга.
Дон Марсиаль и Кармело также встали и подошли к стойке. За столиком остался один Кока-Склока, который строил домики из костяшек домино.
— Как закончилась игра?
— Как всегда.
Шнейдер сказал Маурисио:
— Я прохожу теперь на момент попрощаться с хозяйка.
Маурисио кивнул.
— Игра обошлась без неожиданностей, — сказал шофер.
Шнейдер прошел по коридору и заглянул в кухню:
— Вы позволите? Сеньора Фаустина, я уходит домой.
— Очень хорошо, сеньор Эснайдер, передайте жене, что на этой неделе я обязательно зайду посидеть с ней часок.
— Я оче-ень рад, конечно. Ей это будет оче-ень приятно.
— Большое спасибо за фрукты. Вот, возьмите вашу корзинку. И не смейте больше носить нам ни инжира, ни чего бы то ни было еще, понимаете? Надо, чтоб вы это хорошенько поняли.
Старик улыбнулся, принимая корзинку из рук Фаустины. Инжир перекочевал в глиняную миску, которая стояла теперь на полке, украшенной бумажным цветным кружевом. Из сада доносился гомон.
— Оче-ень много народ, — сказал Шнейдер, показывая на окно.
— Одна морока. От этих больше неудобств, чем дохода.
Появилась Хустина.
— Мама, дай тряпку. Здравствуйте, сеньор Эснайдер, добрый вечер. Там пролили немного вина на стол, где взять тряпку?
— О, богиня из Сан-Фернандо пришел взять тряпка! И слава богу, потому что наконец-то я увидел моя принцесса, самая красивая девушка Испании! Сегодня ночью мне будут спиться хорошие сны, я уверен, что демоны не будут посетить меня, когда я сплю.
Хустина рассмеялась:
— Ого, какой вы галантный кавалер! Перед такой речью ни одна не устоит. Неужели все так говорят в Берлине? Представляю, какое удовольствие пройтись там по улице.
— О нет, Берлин скучный, некрасивый, много снега на улице. Без солнца нельзя увидеть красивый девушка. Только снег, который топчут ногами, и он становится совсем грязный.
— Надо же, вам он не нравится. Я уверена, там наверняка есть много красивого: памятники, дворцы… Просто вы не замечали, привыкли и потому не обращали внимания. Готова поспорить, что уж я-то была бы от города в восторге, что бы вы ни говорили. Ну, я пошла, доброй ночи.
Она взяла тряпку, висевшую возле плиты, и пошла в сад.
— Не беспокойтесь, — сказали ей, — не стоит труда. Не успеете оглянуться, они снова прольют.
— А который час? — спросил Рикардо.
— Тот, когда не время спрашивать, который час, — ответил Сакариас.
Фернандо наполнил стаканы. Хустина ушла.
— И в самом деле, Рикардо. Дай людям жить.
— Какая складная у хозяина дочка! — заметила Марияйо. — Она немножко похожа на Джину Лолобриджиду, правда?
Румба кончилась.
— Вот приглашу-ка я ее танцевать, — сказал Фернандо.
— А она не пойдет.
— Пусть только появится, увидишь.
Все вернулись к столу. Парень из Легаспи, тот, что был потоньше, сел рядом с Лолитой, с которой только что танцевал. На нем была солдатская рубашка.
— Моя жизнь — это кинофильм, — говорил он ей, — комедия и трагедия одновременно.
— Неужели?
— Ну да.
Лолита смеялась. Другой парень из Легаспи принялся громко хлопать в ладоши.
— Теперь пусть принесут две бутылки за наш счет.
— Да тут еще есть.
— Неважно, такая вещь никогда не лишняя.
— Мигель, почему ты не споешь?
— Слушай, кстати, как тебя зовут?
— Лоли.
— Стало быть, Долорес.
Рикардо смотрел на них.
— Нет, только Лоли, пожалуйста, — Лоли. Ненавижу имя Долорес, слышать о нем не хочу. Долорес значит «страсти господни», а всяких ужасов и так хватает, незачем лишний раз напоминать.
Парень из Аточи встал и пошел к курятнику.
— Да есть и другие имена, которые значат то же самое: Ангустиас, Мартирио…
Запели песню. Неяркий свет падал на желтоватую стену дома, на окно комнаты Хустины, на выщербленную кирпичную стену, окружавшую сад. Дальняя его часть казалась пустынной, почти дикой, туда из-за густой листвы не попадал свет лампы. Вдруг все обернулись:
— Что там делает этот сумасшедший?
Парень из Аточи с криком бегал по саду.
— Ко мне! — кричал он. — Ко мне, гончие!
— Кролик! Кролик!..
Парни из Легаспи бросились ему на помощь. Белый кролик зигзагами метался между ножками столов и стульев, увертываясь от преследователей, напуганный их криками и топотом ног.
— Он возле тебя, Федерико, хватай его!..
Крича и смеясь, носились они как сумасшедшие, задели ножку стула, на котором стоял патефон. Лукас крикнул:
— Осторожней, вы, черти!
Никто не обратил на него внимания.
— Ну видишь, вот тебе и неприятность, — сказал Рикардо.
Загнанный кролик беспорядочно рыскал, ускользая из-под ног троих преследователей, несколько раз ткнулся мордой в сетку курятника, стремясь вернуться в свое убежище.
— Не зевай, не зевай, удерет!..
Внезапно погоня прекратилась: кролик залез под велосипеды, сложенные у стены в глубине сада.
— Спокойно! Теперь он не уйдет! — воскликнул Федерико.
— Педро, ты оттуда, я отсюда, внимание. Вот он.
Дрожащий кролик съежился в белый комок под спицами колеса и цветной сеткой велосипеда Луситы.
— Вижу его, вижу. Не двигайтесь, стойте тихо, сейчас я его… — бормотал парень из Аточи.
Наклонился и, осторожно сунув руку под колесо, схватил зверька за спину. Никто не сдвинулся с места. Рука вцепилась в белый пушистый клубок.
— Зараза! — дернулся парень. — Хотел укусить, сукин сын. Я тебе покажу!.. — И он поднял кролика за задние лапы.
Кролик отчаянно дергался. Он был достаточно тяжелый.
— Сейчас мы вам покажем фокус! — засмеялся парень. — Дайте мне шляпу! У кого есть шляпа?
— Бесстыжий!
Это вышла в сад Фаустина.
— Бесстыжие твои глаза! — крикнула она, подойдя к парню. — Дай сюда животное! — И вырвала кролика из его рук.
— Ну, вы полегче…
— Вроде уже большой вырос, или нет? Помешал тебе зверек, тихо сидевший на своем месте? Вот уж бесстыдники!
Шнейдер вышел вслед за Фаустиной и стал в дверях. Она прижала кролика к груди, чувствуя, как напряглись в испуге маленькие мышцы, как стучит сердце перепуганного зверька. Вошла в курятник и выпустила беднягу, тот сразу юркнул в свой домик. Возвращаясь, Фаустина сказала Шнейдеру:
— Представляете, что приходится терпеть? Как вам правятся эти бессовестные? Надо же быть такими подлецами!
Шнейдер покачал головой и обратился к парню из Аточи, который отошел к общему столу:
— Это не есть хорошо. Кролик — тоже божья тварь, зачем заставлять страдать? Для это надо иметь оче-ень черствое сердце, — поднял указательный палец и ткнул себя в грудь.
— Оставьте их, оставьте, что попусту тратить слова. Вы их не исправите. Потерянное время.
Немец пожал плечами и ушел в дом вслед за Фаустиной. За столом засмеялись им в спину.
— Елки-палки, иностранец, вот чудак! Ну и тип!
— Я чуть не расхохотался ему в лицо.
Мигель сказал:
— Знаете, ребята, а ничего хорошего нет в том, что вы сделали.
— Это называется напаскудить, — подхватил Рикардо.
— А нам наплевать, как ты это называешь, — окрысился Федерико. — Держи при себе, и всем будет лучше.
— Нет уж, дудки, при себе держать не буду: я говорю, что это паскудное дело, это нахальство.
— Послушай, как тебя там, — вмешался парень из Аточи, — тебе никто не напаскудил, так ты и не лезь учить других, понял?
— Это на-халь-ство!
Остальные молча смотрели на них. Фернандо засмеялся.
— Страсти немного накалились… — прокомментировал он.
Парень из Аточи поднялся и подошел к Рикардо:
— Слушай-ка, ты, чего тебе надо? Будешь продолжать? Если хочешь нас разозлить, так и скажи, без всяких там подходов.
— Очень мне нужно злить вас или еще кого, но что я думаю, я выскажу, нравится вам это или нет: то, что сделали с кроликом, — это нахальство.
— Ты, я вижу, упрямишься!
— Ну и что?
— Мне это не нравится! Конец пришел!
— Тс-с, потише, парень, — вмешался Самуэль, — не надо так громко, и так все понятно. Без крика.
— Чему конец? — спросил Рикардо.
— Моему терпению!
— Ошибаешься!
Из-за стола послышался веселый голос Сакариаса:
— Эй, постойте-ка! Одну минутку! Дайте мне сказать.
Все обернулись к нему.
— Теперь, как я понимаю, после травли зайца гончими вы хотите устроить для нас состязание по боксу, не так ли? Я, со своей стороны, благодарю вас за это похвальное намерение, но прежде довожу до вашего сведения, что мое величество вполне удовлетворено тем, что оно уже видело, и не стоит трудиться дальше за те же деньги. Так что вас просят сесть на свои места, в другой раз как-нибудь, а на сегодня спорта хватит. Все согласны?
Смех и одобрительный гул.
— Молодец, Сакариас!
— Здорово сказал!
Парень из Аточи снова сел рядом с Лолитой и сказал ей вполголоса, кивая на Рикардо:
— Этот ваш приятель лопух порядочный…
Девушка возмутилась:
— А ты — чушка!
Мели прошептала Сакариасу на ухо:
— Ты великолепен…
Остальные стали просить Мигеля спеть.
Дон Марсиаль вытащил из кармана кремовый кисет и стал угощать табаком присутствующих. Чамарис сказал:
— Мы весь изведем. Еще на раз — и все.
— Табачок на то и существует, чтоб его изводить, — возразил дон Марсиаль, надевая куртку.
— На ночь вы останетесь без табаку. А что будете делать после ужина?
— Тем лучше. Не будет искушения. Чем меньше куришь, тем лучше для горла.
— А я про себя, — вмешался высокий мясник, — так скажу: куда легче мне воздержаться, когда кисет полон, чем когда он пуст.
— Это верно, — поддержал его коллега. — Стоит только остаться без табака, как тебе тут же страшно хочется курить. — И он принялся вертеть самокрутку.
— Вот именно, — сказал Клаудио, — по крайней мере, со мной так и бывает. Когда табачок есть, я кладу кисет на тумбочку и знаю, что могу запустить в него руку, как только мне захочется, и засыпаю спокойно, не покурив. Но стоит лишь оказаться без табака, тут уж совсем другое дело: ворочаюсь, ворочаюсь в постели и в конце концов встаю и начинаю собирать по карманам табачную пыль, только чтоб закурить. Понимаете, какая чушь получается?
— Всем нам, грешным, хочется делать все наоборот, — заметил Чамарис.
— У вас с табаком получается, как было у моей тещи с рисом, — сказал доп Марсиаль. — Всю войну она берегла килограмм риса, не потратила ни зернышка, и все только для того, чтобы не остаться без запаса и при случае сказать родным или знакомым, что рис у нее есть. А потом, когда война кончилась, пришлось его выбросить, потому что он заплесневел. Что вы на это скажете?
— А, вот в том-то и штука: она не горевала, что у нее нет риса. Она знала, что если не сварила из него в воскресенье хорошую паэлью, то единственно потому, что сама не захотела. Иначе говоря, риса она не ела, но ей не пришлось и горевать, что у нее его нет, — пояснил высокий мясник.
Кармело внимательно следил, как обугливается, догорая, спичка. Теперь заговорил Лусио:
— Тут большая разница: одно дело — когда тебя лишают чего-то, другое — когда ты сам отказываешься, зная, что можешь получить это, когда тебе вздумается. Таким вот путем ваша теща всю войну представляла себе, что ест этот свой единственный килограмм риса. Живот она не набивала, но, думая о своем рисе, воображала, что сыта.
— Совершенно верно, — согласился мужчина в белых туфлях. — Не хотеть — это одно, а не мочь — совсем другое.
— Черт побери! — засмеялся алькарриец. — В этом действительно есть какой-то смысл. Хитро придумано — спрятать рис и питаться воздухом, но если уж умирать с голоду, так, по крайней мере, зная, что можно было и поесть.
— А вот насчет желанья и возможности — это у кого как, — вступил в разговор пастух. — Один заимеет сотню песет и тут же их потратит, а другому больше нравится сохранить денежки и думать, что бы он на них мог купить, если б захотел.
Шофер сказал:
— Это верно: кто любит деньгу отложить, а кто — на ветер пустить.
— Вот-вот, — продолжал пастух. — Одним приятно вспомнить, как они деньги прожили, а другим — думать, как они их проживут. И эта сеньора или сеньора та, она только…
— Вот дурак! Какая тебе еще сеньорита? — прервал его алькарриец. — Не слышишь, что ли? Говорят же о теще дона Марсиаля!
— Ну, значит, сеньора, не все ли равно. Так вот, эта сеньора всего-навсего все три года думала о том, что может сделать паэлью, взять как-нибудь в воскресенье этот свой рис и закатить праздник, как на пасху. И вот это самое, не больше и не меньше, к слову сказать и никому не в обиду, сделал бы, оказавшись в такой же беде, и я сам.
Кока-Склока развертывал сложенную в несколько раз газету «АБЦ», которую вытащил из кармана. Перед тем как перевернуть очередную страницу, он слюнявил большой палец. Внезапно подняв голову, он воскликнул:
— А сюда очередь не дошла, Марсиаль? Или ты меня вообще исключил из программы?
— Ну да! Ты наказан, и слитком мал еще, чтобы курить. — И бросил ему кисет. — На, держи.
Кисет отскочил от мрамора, как мяч, упал на пол, и Кока не успел его схватить.
— Подними сейчас же! — закричал он.
Дон Марсиаль подошел и поднял кисет.
— Ты шумишь больше, чем придурковатый ребенок.
— Вот рис, — продолжал Кармело, глотая слюну, — самый лучший гарнир к зайцу. К большому и жирному зайцу.
Никто его не поддержал, и он обратил взор к одной из литографий, развешанных на задней стене и казавшихся выгоревшими и тусклыми в желтоватом электрическом свете; там был нарисован заяц.
— К большому зайцу…
— Бывают люди со странностями, — говорил Чамарис. — Вот женщины по натуре своей вообще больше любят беречь, чем тратить. Часто они и сами не знают, для какого случая и на какой черный день прячут то или другое, вот как с этим рисом, например. Они делают так из-за этой самой своей бережливости, а может, думают, что завтра то, что они уберегут, принесет больше пользы, кто их знает. А если придержать — вроде больше проку, вот что они думают.
— Ну да, — сказал Маурисио. — Это у них называется быть предусмотрительной, и я не скажу, что в этом нет пользы при каких-то определенных обстоятельствах, но чаще всего, по-моему, они делают так из чистого упрямства и помрачения ума.
— Тут спору нет.
— Ого, как мой сосед воюет со своей по этой самой причине! — засмеялся алькарриец. — У него, как говорится, душа широкая и поесть он не дурак, а она, по-моему, даже крупинки соли пересчитывает. Можете себе представить, какая у них идет перепалка. Такую битву затеют вечером, почище тебе, чем в Корее. Да что там Корея! Корея — это игрушки по сравнению с ними!
— Смотрите-ка на него! Ты что же, значит, радио слушаешь?
— Он-то, — сказал пастух, — да вы ничего не знаете. Он так все время ухо от стойки и не отрывает.
— Ну, это уж ты врешь! Как будто надо прикладывать ухо к стенке. И так услышишь, даже сидя в «Гуадалахарском казино».
— Ну и пулю отлил! — сказал Клаудио.
Все засмеялись.
— А что? Чистая правда. Стану я говорить то, чего нет…
— Смотри, какой ты интриган, — сказал мясник. — Видать, посплетничать не любишь.
— Вон ведь что, — подхватил пастух. — Конечно, пульку ты отлил не просто так.
Алькарриец уставился на него своим единственным глазом.
— Что такое? Как это не просто так? Ну-ка, скажи.
— Это ясно как божий день. Нет тут никакой тайны. Если б ты не работал с ним недавно…
— Ишь что вспомнил! Я об этом уж и думать забыл. Тоже мне, нашел злопамятного. А что рассказал, так это я упомянул к слову, для примера к тому, о чем мы толковали. Мог бы привести и другой пример. На злопыхательство я времени не трачу. Тут ты маху дал, Амалио. Плохо ты меня знаешь.
— Так вы больше не работаете на огороде у Элисео? — спросил дон Марсиаль.
Алькарриец отрицательно покачал головой:
— Месяца два уже.
— А что?
— Да всякое…
— Что-нибудь не так с деньгами?
— Нет. Какое там! Деньги тут ни при чем. Насчет денег с ним можно было договориться.
— Тогда что же?
— Да мое положение в этом деле. Короче говоря, не захотел я больше обеспечивать ему все удобства и выгоды. Если ты вступаешь с человеком в долю, не держи его за батрака. В общем, вставал я с солнцем и даже не раз ночевал на огороде, чтоб утром времени не терять на дорогу, путь-то не близкий, а он — неделями на участок носа не показывал. Обязанностей, ясное дело, не нес никаких, всю работу должен был выполнять я, — так мы и договаривались, — а он лишь предоставлял землю и удобрения. Но, скажите пожалуйста, нельзя же охаивать все, что бы твой компаньон ни делал! Вы согласны со мной?
— Ну конечно. В таких делах надо каждый день советоваться, сговариваться. Потом как решили, так и делать.
— Вот и я так считаю. А если ты хочешь отделаться от забот, как он поступал, то пожалуйста, но тогда дай компаньону свободу решать все по своему разумению. И уж не лезь с претензиями да критикой: и то, мол, не так, и это не эдак. Если хочешь жить в свое удовольствие и ни о чем не заботиться, так помалкивай, правильно?
Дон Марсиаль согласился:
— Естественно.
— А потом еще и с едой незадача вышла, когда жена моя уехала в город на полтора месяца. С едой получилась примерно такая же картина. И глядеть-то не хотелось на ту еду, которую подавала мне его жена, такую, я думаю, самому последнему батраку нигде не подадут. Не то чтоб я требовал каких-то там деликатесов, нет, а просто нормальную пищу, черт бы их подрал.
Кока-Склока поднял голову от газеты.
— Ты не слушай его, Марсиаль, он привереда и пропагандист, вот кто он такой. Задуривает тебе голову тем, что плачется на Элисео да на его огород. Так и знай, ему чего-нибудь от тебя надо.
— А ты помалкивай, когда беседуют взрослые, — сказал дон Марсиаль.
— Ох уж этот недомерок! — заметил алькарриец и продолжал: — Так вот я вам и говорю: не захотел я больше горбатиться ради того, чтобы он целый день ворон считал, а потом приходил меня отчитывать, как ему вздумается. И вот однажды вышел у нас разговор, и я ему выложил все, как есть, и сказал, что слугой у него быть не желаю, об этом не может быть и речи. Вот так и получилось.
— Очень жаль, потому что в отношении заработка для вас это дело было выгодное, правда?
— Вот именно, из-за этого-то я и сдерживался, сколько мог. Если б не это, то давно бы уж он меня только и видел. Но чего нельзя, того нельзя; ну, и настал день, когда все, хочешь не хочешь, выплыло наружу. Тут уж ничего не поделаешь.
— Да, я вас понимаю. Ну, а теперь вы как?
— Перебиваюсь как могу.
— Так ты устрой его, Марсиаль, — вмешался Кока-Склока. — Найди ему место через своего хозяина. Разве не понимаешь, к чему он про свое житье рассказывает?
— Ты газету читаешь или что делаешь, крапивное семя? — рассердился алькарриец. — Еще слава богу, что все тебя знают и не обращают внимания, не то ты показался бы вредней всякого паразита. Думаешь, все на свете, как ты, ходят кругом да около, когда им что-то надо? Прекрасно знает дон Марсиаль, что если бы мне надо было обратиться…
— Ну вот ты и выдал себя! Выдал! — закричал Кока-Склока. — Своими оправданиями ты себя выдал с головой. Скажешь, нет?
— А его заело! — засмеялся пастух, подталкивая кривого локтем.
Алькарриец обернулся к нему:
— И ты тоже заодно с этим вредным насекомым?
Чамарис и оба мясника разговаривали с Маурисио и другими посетителями.
— Вот вы, женатые люди, жалуетесь, — сказал Лусио. — Но вы только взгляните, в каком состоянии одежда у женатого, ну, скажем, через пять-шесть лет после того, как он надел костюм в первый раз, — ведь прекрасно сохранился, а у холостого за тот же срок он в половую тряпку превратится. А чья это заслуга?
— И обувь возьмите, — сказал мужчина в белых туфлях, глядя на свои ноги, — сколько на нее уходит денег, сил никаких нет.
Шофер рассмеялся и сказал:
— Так женитесь. Женитесь и тот и другой, если уж вы так дорожите одеждой и обувью…
Кармело заинтересовался разговором: его оттопыренные уши, торчащие по обе стороны головы, точно ручки у кастрюли, теперь были обращены к собеседникам, он внимательно слушал. Шофер продолжал, обернувшись к нему:
— И вы тоже, Кармело. Раз уж вы так цените свою фуражку, найдите себе хорошую жопу, которая по вечерам будет чистить ее щеткой.
Шофер засмеялся, Кармело тоже смеялся, изобразив кисло-сладкую улыбку и глядя на собеседников из-под козырька:
— Эта уже заслуженная, за ней ухаживать не надо. А что касается женщины, так, уж конечно, она в любом доме нужна. — И он посмотрел на календари.
— Ну ясно, что и говорить. Это же совсем другое дело, — сказал шофер. — Вы не то что сеньор Лусио, которому жена нужна только для ухода за одеждой.
— Теперь, — улыбнулся Лусио, — теперь уже и для этого не нужна. Моей одежде давно терять нечего.
— Ну, вы еще не такой старый! — сказал ему Чамарис. — Не прибедняйтесь.
— Да я и не говорю, что я стар, нет. Но выхожу из употребления, иначе сказать, прихожу в упадок. Шесть-десять один — это все-таки возраст.
— Но штаны-то с вас еще не сваливаются.
— Он им не дает такой возможности, — сказал Маурисио. — И не даст, не беспокойтесь. Как им упасть, коли он с утра до вечера сиднем сидит? Как?
Все засмеялись. Клаудио сказал:
— И это верно. Такой опасности нет. Если не отрывать зад от стула, то, конечно…
— Заниматься тем, чем мы тут занимаемся, лучше сидя, чем на своих двоих.
— Кому это и знать, как не вам, — сказал шофер.
Лусио сделал рукой неопределенный жест. Чамарис игриво продолжал:
— Вы свое отплясали, сеньор Лусио, так, что ли? — И подмигнул ему. — Наверно, так. В этом-то вся и штука, правда?
Лусио посмотрел на Чамариса почти серьезно, покачал головой и медленно сказал:
— Да! Отплясал свое… Так многие говорят в моем возрасте. Свое отплясал. Кой черт! Не согласен я с этим, ерунда какая! Да и как тут, к черту, согласиться? Я считаю — совсем наоборот. Не дали мне отплясать, не дали. Разве не так? Сейчас-то мне и нужно бы доплясывать, пусть хоть сейчас бы мне дали такую возможность! — Он яростно размахивал руками. — Вот в чем дело-то! Пусть мне вернут то, что отняли!
Они остановились в нерешительности, с опаской поглядывая на темную воду. Отчетливо доносились голоса и музыка.
— Совсем не холодная, верно?
— Водичка что надо.
Из-за деревьев выглянула луна, в темной роще тут и там негромко разговаривали люди. Ниже по течению играла музыка, звуки ее хрустально звонко разносились по глади водохранилища. На черном зеркале реки сверкали пробивавшийся сквозь деревья свет луны и яркие точки электрических лампочек. Здесь, в темноте, чувствовалось, как вода бежит мимо, лаская кожу, словно какое-то огромное и молчаливое живое существо. Они зашли по грудь в этот мягкий поток, приятно обволакивавший тело. Паулина держалась за жениха, обхватив его за пояс.
— Как приятно, когда вода омывает тело!
— Вот видишь? А ты не хотела.
— Мне сейчас больше нравится, чем утром.
Себас вздрогнул.
— Да, но воздух уже не тот, чтобы долго оставаться в воде. Быстренько остынешь и начнешь зубами стучать.
Паулина посмотрела вверх по реке: тень моста, огромные черные пролеты, перила и своды, высвечиваемые луной. Себас глядел в другую сторону. Шумел водоспуск где-то внизу, за огнями закусочных. Паулина обернулась:
— Лусита, что ты там делаешь одна? Иди к нам. Луси!
— Да вон она там, впереди, не видишь? Лусита!
И он смолк, пораженный страхом.
— Лусита!..
В десяти-пятнадцати метрах ниже по течению послышался негромкий всплеск, короткий крик, хриплый вдох и бульканье.
— Она тонет!.. Лусита тонет! Себастьян! Кричи, зови на помощь!..
Себас двинулся было вперед, но Паулина ногтями впилась в него и удержала на месте.
— Нет, не ты! Только не ты, Себастьян, — глухо проговорила она. — Не ты, не ты, не ты!..
Они закричали вместе, зовя на помощь, раз, другой, их громкие крики эхом прокатились по воде. На берегу засуетились тени, послышались встревоженные голоса. А здесь, поблизости, — бултыханье, гортанные хрипы и расходящиеся по воде круги понемногу отдалялись от них, уходили в сторону плотины. У берега раздались всплески и голоса, спрашивавшие: «Где? Где?» Три или четыре пловца быстро плыли от берега, переговариваясь: «Давай вместе, Рафаэль, одному приближаться опасно!» Над водой голоса отчетливо слышались. «Вот тут, немного выше!» — показывал Себастьян. С берега крикнул Тито:
— Себастьян! Себастьян!
Он вошел в воду и прыжками приближался к ним. Себас оторвался от Паулины и поплыл навстречу остальным. Паулина умоляла: «Только осторожно. Ради бога, осторожно!» Она с силой прижала кулаки к скулам. Пловцы в растерянности кидались в разные стороны, оглядывая черную поверхность: «Да где он, где? Вы его видите?» Тито добрался до Паулины, и она уцепилась за него, обхватив руками.
— Луси тонет! — сказала она ему.
Он почувствовал, что она вся дрожит, посмотрел на пловцов, которые во всех направлениях, каждый сам по себе, шарили в воде. «Они не могут ее найти…» Только тени пловцов видны были на реке. Луна осветила людей, высыпавших на берег. «Нашли его?» — «Здесь она была, мы ее тут видели в последний раз». Это был голос Себастьяна. «Так это девушка?» — «Да». Они уже были далеко, ниже по реке, в свете лупы и электрических ламп на поверхности виднелось уже пять или шесть голов. «Отведи меня на берег, Тито, мне страшно, отведи меня!» Она вцепилась в Тито и, дрожа всем телом, висла на нем, словно хотела выкарабкаться из воды. Там, ниже, мелькнули в полосе света плечо и рука одного из пловцов. Тито и Паулина направились к берегу, с трудом преодолевая сопротивление воды. «Сюда! Сюда! — крикнул кто-то у плотины. — Здесь она!» Он нашел тело почти на поверхности, нечаянно дотронувшись до него рукой.
Мигель стоял возле стены, и голос его, мягкий и тоскующий, заполнял собою полупустой сад. В густой листве сверкнули кошачьи глаза. Раскинув руки и слегка поводя головой, Мигель пел:
Мне солнце не светит, не для меня звенит ручей, как жить мне на свете без милой моей.Он поднял глаза и улыбнулся. Раздались дружные аплодисменты.
— С каким чувством!
— А теперь выпей глоток. Смочи голосовые связки.
Послышался смех Марияйо. Фернандо сказал ей, что у нее голос, как у иностранки, «ну, там, итальянки или вроде того».
— Да откуда ты знаешь, какие голоса у итальянок?
— Представляю себе. Вот слушаю тебя и представляю.
Оба засмеялись.
— Какая дружная компания! Поглядите только.
Взгляд Рикардо был устремлен на лампу в центре сада: мотыльки, бабочки, темные жуки роем кружились вокруг нее. Девушки из Легаспи спорили, которая из них больше загорела.
— А какая вам разница?
Сакариас опирался спиной о живую изгородь, раскачиваясь на стуле. Голова его утопала в листве.
— Да дело не в загаре, а в упрямстве, — ведь ты никак не хочешь признать то, что всякому бросается в глаза.
— Ну ладно, Федерико, посмотри вот и сравни мою руку и ее.
— Меня вы в это дело не впутывайте. Обе загорели хорошо — и обе прекрасны.
— Ясно, он не хочет сказать, чтобы не обидеть тебя.
— Может, кончите, а?
— Тут все дело в упрямстве, остальное неважно. Просто зло берет, что есть на свете твердолобые люди.
— Не говорите вслух такое! — закричал Сакариас. — Не хочу ничего подобного слышать! Это все равно что при больном раком говорить о его болезни!
Кто-то спросил, который час. Сакариас схватил Мигеля за запястье, прикрыв циферблат.
— Безумный, как ты можешь в такой момент играть подобной игрушкой! Это же никелированная смерть!
— Ладно, Сакариас, мы ценим твое остроумие. А теперь отпусти-ка.
— Сурово.
— Что поделаешь.
Сакариас, улыбаясь, повернулся к Мели:
— Ужасная личность. Порабощает! Скажи, ну можно так жить на свете? Немыслимо! Это вредно и для здоровья, и для всего прочего. Ну как можно!
Она сказала:
— Послушай, вы возвращаетесь в Мадрид поездом?
— Мы? Конечно, поездом, как же еще?
— Не знаю, глупый вопрос, не обращай внимания. И когда будете в Мадриде?
— Ну смотри: если отсюда поезд отходит в двадцать два тридцать, да еще добавь двадцать минут на опоздание, значит, без десяти одиннадцать… Ты что смеешься?
— Ничего, ты такой симпатичный, так интересно говоришь… — Она замолчала и с улыбкой смотрела на него. — «В двадцать дна тридцать». Ох, силен…
— Ну вот, ты уж и издеваешься. Слова сказать нельзя, вы сразу набрасываетесь, как шакалы. — Он горестно покачал головой. — Посмотрите, как ей весело. Пустячок, а человек уже счастлив!
— Ой, Сакариас, бог с тобой, я не издеваюсь, честное слово, ты совершенно не прав, просто меня насмешила эта точность, понимаешь, мне так понравилось, как ты это сказал…
— Ну как я это сказал? Как?
— Не могу объяснить, да и что за вопрос! Манера, что ли? А больше тут и объяснять нечего. Мне понравилось, как ты сказал, показалось забавным. Что еще ты от меня хочешь?.. Ну, послушай, в общем так: тут нечего и понимать, а если ты и этого не понимаешь, значит, совсем дурачок, и, пожалуйста, не заставляй меня говорить еще, не то я тебе и не такое скажу, если начну дальше объясняться.
— Как же мне не спрашивать, раз в твоем объяснении я вообще никакого смысла не вижу.
— Тогда тем более, вот по этой самой причине, да к тому же все это глупость одна, если я сама не знаю, зачем это сказала и что хотела этим сказать, и вовсе ничего не знаю…
— Теперь ты не горячись, да и с чего?
— Меня зло берет.
— Да почему?
— Почему? Кто его знает. И откуда мне знать? И не все ли равно?
— Тогда почему ты со мной так разговариваешь?
Мели посмотрела на него, опустила глаза и сказала:
— Не знаю, Сакариас, я дура, всем давно известно, что мне нравится, когда терпят мои фокусы, понимаешь. Должно быть, из-за того, что я девушка благородного рода и считаю, будто…
— Ой-ой-ой-о-о-ой, остановись!.. Стой, детка, не разгоняйся так, прошу тебя! Ты вошла в раж, что за дикость! Кидаешься с неба прямо в ад, минуя чистилище. И как круто поворачиваешь, с ума сойти! Так и полпокрышки можно на асфальте оставить при каждом повороте, честно, не преувеличиваю.
— Так вот, не сомневайся, все так, как я сказала… меня разозлит что-нибудь, а я вымещаю это на ближнем. И знаю ведь, что это так. Ну хорошо, вот теперь… Даю тебе слово, что теперь мне хочется плакать… Сакариас, почему ты не треснешь меня?
Марияйо уперлась локтями в стол, залитый вином, и сказала:
— А он прав! — И подперла голову руками. — Ты подумай, вот и сейчас совсем про время забыла. Помнишь не помнишь, а жить только сейчас начинаешь, правильно? Завтра-то ведь все опять по новой.
Фернандо сказал из-за ее спины:
— Такова жизнь, солнышко, не надо ее переворачивать. Хорошие минуты проходят быстрей, чем плохие. Но от этого они не перестают быть хорошими!
Марияйо взглянула на него:
— Что в них хорошего? Только все ждешь чего-то, вот и все хорошее.
— Ты увидишь, в следующее воскресенье, — вмешалась Мария Луиса, — понимаешь, в следующее воскресенье мы снова приедем сюда и устроим такую гулянку, каких свет не видывал.
— Все равно ничего не изменится, следующее воскресенье пройдет, как и это. С чего ему длиться дольше?
Появилась луна, она поднималась над оградой, как огромная, заглядывающая внутрь сада мертвая голова, и постепенно проступали ее вечные, неизменные черты.
— Да, а вот мы, по крайней мере, не можем позволить себе забыть обо всем, — сказала девушка из Легаспи, — нам обязательно надо знать, который час. В пять минут одиннадцатого, сами понимаете, — прямым ходом на станцию.
— Ну вот еще! — запротестовал Федерико. — Что за спешка? Зачем нам стоять двадцать минут, глядя друг на друга, пока не появится поезд? Не надо бежать: кто вперед кинется, тому потом остальных дожидаться, так что ни к чему торопиться.
— Ладно, ты делай что хочешь, а я в пять минут одиннадцатого отсюда испаряюсь. У меня никакого желания нет опаздывать на последний поезд, который наверняка будет битком набит, уж я это знаю.
— Ничего не случится, если ты его и пропустишь: уедешь на следующем, в четверть двенадцатого.
— Какой умный! Смеешься, что ли?
— А что, тебе так важно вернуться к определенному часу?
— Вот чудак! Спросишь моего отца, он тебе ответит.
— Значит, строгий у тебя старик, а? Поколотит?
— Ну, не зною, я его никогда не доводила.
— Старый, видать. Небось носит фланелевую фуфайку?
— Слушай, над моим отцом ты лучше не смейся, понял?
— А что плохого я сказал?
— Посмейся еще, и я тебя припечатаю бутылкой, болван!
Луна освещала и тех, кто сидел за столом возле стены, куда из-за густой листвы не проникал электрический свет. Мели откинулась назад так, что глаза ее снова оказались в тени, а лунный свет заливал ее фигуру. Она закинула руку за спинку стула. Сакариас в темноте шарил, отыскивая среди листьев руку девушки.
— Надо, чтобы воскресенья были в два раза длинней остальных дней недели, — сказал Самуэль, — правда, Марияйо? Скажешь нет? Пока этого не сделают, ничего путного не будет.
— Лучше в три. Чтоб стали такими же длинными, как будни. Тогда еще куда ни шло.
— Ну, вы нахалы, вам подавай все сразу.
— Не все, но кое-что.
— Какие претензии, безобразие! — сказал Фернандо. — Слушай, у тебя такая мрачная жизнь там, где ты работаешь? Я-то думал, что в барах весело.
— Сказал тоже! Весело — это если со стороны глядеть. А если изнутри — ад кромешный. Жуть, ты себе представить не можешь.
— Я вижу, осточертело тебе там!
— Сыта я, сыта по горло всем. Тебе этого не понять. Слава богу еще, что я вспоминаю об этом только вот в такие дни. На неделе все забывается, потому и тяну лямку.
— Значит, сама этого хочешь, — улыбнулся Фернандо. — Ты — такая девушка… Смотри, как все просто: подцепляешь какого-нибудь богатенького, а потом — немножко удачи, немножко риска, и он тебя избавит от всех забот, навсегда. И будешь жить, как говорится, a la gran dumón[27].
— Ну-ну, не рассказывай мне сказки. Это уж совсем из другой оперы. Незачем мне подцеплять богача.
— Я только советую.
— Спасибо, обойдусь и так. И брось эту тему, если не хочешь со мной поссориться.
— Я пошутил. Что я — сам не понимаю? Но с твоим-то личиком…
— Ну, знаешь что, я же тебе сказала.
— Что это вы, уже ссоритесь? — сказала Мария Луиса. — Скоро же!
— Ну да, — ответила Марияйо, — ты бы послушала, что тут плетет этот тип! — И она взглянула на Фернандо, слегка улыбнувшись. — Мыльные пузыри пускает!
— Ты — ангел! — сказал Фернандо.
Остальные приставали к Лолите, чтобы она станцевала.
— Поздно уже!
— Да хватит еще времени.
— А что, она умеет танцевать?
— Она-то? Огонь, сам увидишь!
— Ну давай, Лолита, твой номер. Чтоб закончить праздник как положено! Пусть посмотрят.
— Пускай про тебя узнают и в Легаспи, детка! Быстренько на сцену!
— А где ей танцевать?
— Надо попросить ее как следует.
Все захлопали в ладоши, и Лолита залпом допила вино. «Ну ладно, посмотрим, что получится!» Раскрасневшись, она влезла на стол, приказала убрать стаканы и бутылки: «Уберите все из-под ног!»
— Давай! Вот это девчонка!
Очистили стол. Все смотрели на Лоли, она показала им, в каком темпе хлопать в ладоши, попробовала ногой, не качается ли стол.
— Вот это девчонка, а остальное — ерунда!
Теперь все хлопали в лад. Лоли оглядела парней, протянула руку Рикардо. «Поднимайся сюда!» Тот не захотел:
— Да я не сумею…
— Тут нечего уметь! — настаивала девушка. — Залезай, не ломайся!
— Говорю тебе, не могу, моя радость, я сегодня уже достаточно потрудился.
— Ну как вы, мужчины, боитесь опростоволоситься, это же надо!
Федерико вызвался заменить Рикардо: «А я не подойду?» Его товарищи помогли ему взобраться на стол.
— Давай с этим!
— Федерико не подведет, поверь моему слову!
Лолита повернулась лицом к Федерико и снова задала темп хлопающим в ладоши. Когда хлопки стали дружными, она начала танец. От ударов ее каблучков по доскам стола в лица зрителей летела пыль. Федерико двигался в такт, принимая нужные позы, головой он задевал побеги жимолости, вившейся по проволоке, и волосы его растрепались. Две огромные тени дергались на кирпичной стене дома, возле окна Хустины, доставая головами до крыши. Потом Лолите помешали туфельки, и она, не прекращая танца, скинула их одну за другой на землю. «Гениально!» Теперь она танцевала босиком. Эхо хлопков отражалось от стен, от бронзовой лягушки, патефона и пустых столиков. В центре сада плясала под навесом лампочка в покрытом пылью «тюльпане», потому что провода качались от сотрясения навеса, и все тени в саду тоже плясали. Босые ступни Лолиты ступали в разлитое на столе вино, черная юбка разлеталась веером, едва не задевая лица зрителей и открывая на мгновение ее белые ноги и красный купальник. Вдруг она поскользнулась, попав ногой в смоченную вином грязь, и полетела, тяжело дыша и смеясь, но Мигель и Сакариас успели подхватить ее на руки. Она хохотала так, что не могла даже встать, и заявила, что не ступит на землю босыми ногами, потому что галька будет щекотать ей пятки, а она и так умирает со смеху.
«Ой, уписаюсь!» — без конца твердила она. Ее пытались успокоить. Вбежала Фаустина и, заметив следы ног на столе, сказала:
— Знаете что, можно, конечно, шуметь и веселиться как угодно, но влезать ногами на стол, за которым едят, это уж никуда не годится, понятно? Где же ваше воспитание, если мне второй раз приходится указывать вам то на одно, то на другое? Я вижу, вы хотите, чтобы я пошла и позвала мужа! Так что извольте вести себя как следует! Да что за компания такая, надо же, будто мне и делать больше нечего, как следить тут за вами вроде няньки какой, только этого мне и недоставало!.. — И вернулась в дом.
У стола кто-то сказал:
— Я знал, что так получится. Нельзя такие штуки отмачивать в этих местах. Люди…
— Эта тетка — само пугало собственной персоной: в жизни не видал такой безобразной сварливой ведьмы, черт ее дери!
— Она у себя дома. Кажется, тоже надо учитывать, я так думаю.
— Это заведение всегда открыто для публики!
Лолита кричала:
— Хочу туфельки! Пусть мне дадут мои туфельки!
Стали искать по саду ее туфли.
— Смотря кого считать публикой. Не всякого можно отнести к этой категории, понимаешь? Кое-кого надо из нее исключить… Ну-ка, что там такое с Лоли?
Она внезапно расплакалась. Никак не могли найти вторую туфлю.
— Ну вот, я осталась босая! Потерялась туфелька — и пускай, не ищите, пусть пропадает, я осталась босая, ничего не поделаешь!.. Приду я домой, мне откроют дверь и увидят, что я… Мать спросит, а что я ей скажу, что это шутка, ну да, шутка, что ж за шутка такая, — нет у меня выхода… Приличная девушка не возвращается домой босиком, не теряет свои туфельки!..
Мария Луиса обняла ее и принялась успокаивать.
— Успокойся, Лолита, сейчас ее найдут, ну, неужели ты не понимаешь, что устраиваешь нам глупую сцену? И уж совсем ни к чему эти слезы и твои причитания! Ты же выставляешь себя на посмешище! Неужели непонятно? Найдется твоя туфелька, вот увидишь…
— Ну, детка, ты и задаешь нам жару в последний момент!
Лолита положила голову на колени подруги и бормотала:
— Мне все равно без разницы нисколько я не беспокоюсь… я ей скажу мама бей меня пока не устанешь… Скажу мама я потеряла туфельку когда плясала во время пьянки ты меня бей а я все равно буду опять плясать и показывать ноги… ты меня бей и увидишь завтра и послезавтра и послепослезавтра ты бей меня трепли мамочка а я буду танцевать самбу завтра и послепослепослезавтра и парни будут целовать меня в кино и я буду развлекаться без конца…
Наконец туфля нашлась. Лукас присел около Лолиты:
— Давай обую, принцесса.
Девушка посмотрела на него:
— Лукитас, голубчик, большое спасибо… Я — как тряпка… — Она засмеялась. — Клянусь тебе…
Лолита дала обуть себя. Потом ее затошнило, Мария Луиса и Хуанита повели ее к курятнику.
— Она выпила, а потом взялась отплясывать, выделывать разные там фигуры, чего еще можно было ждать, представляешь, что у нее внутри получилось, — ужас!
Возвращаясь к столу, она пожелала идти сама, оттолкнула руки подруг, которые поддерживали ее.
— Я еще не разучилась ходить! — сказала она им. — А вы как думали? Терпеть не могу, когда ко мне лезут помогать, помогать по всякому поводу, когда надо и не надо, до чего нудные люди. — Она повернулась лицом к столу. — И все-то вы — пескари несчастные: когда девушке нутро выворачивает, после того как она вас развлекала, вы на нее глазеете, издеваетесь и насмехаетесь… — Она подошла в столу, села и, смеясь, посмотрела на всех. — Ну, что сидите, как сычи? Никто ничего придумать не может, чем закончить праздник?
В лунном свете стояли люди на берегу и глядели все в одну сторону. Они шли по суше вровень с пловцами и теперь столпились у водохранилища, почти в самом конце острова. Там, где Тито и Паулина вышли на берег, никого не было. Он схватил свои брюки, которые лежали на земле, и, держа их в руках, побежал. Они бежали мимо белесых стволов деревьев, темных фигур людей, стороживших пожитки и пытавшихся разглядеть, что же делается на мысу.
Из темноты выскочила собачонка, облаяла бегущую Паулину, а Тито опередил ее уже шагов на десять. Он слышал, как она звала его, задыхаясь:
— Подожди меня, Тито, подожди…
Камешки и сучки впивались в подошвы босых ног. Человек сто, а то и больше, сгрудившись, загораживали от них реку. Они прокладывали себе дорогу локтями, мокрые, протискиваясь сквозь толпу. Все молчали. Тито шел впереди, Паулина следом.
— Не толкайтесь, — сказал кто-то, — все хотят посмотреть.
Тито не ответил. Взял Паулину за руку, и вдвоем они протиснулись в первый ряд. Здесь музыка слышалась еще отчетливей, разносясь по глади водохранилища, и от воды исходил слабый отраженный свет ламп, горевших возле закусочных. Напротив, шагах в пяти — десяти, белела над водой узкая полоска бетонной дамбы, отгораживающей водохранилище. Там виднелись теперь головы трех или четырех пловцов. Паулина крикнула: «Себастьян!» Шумел водоспуск. Люди вплотную придвинулись к воде, так что невозможно было пройти к мысу по берегу, и Паулина и Тито шли прямо по воде. Они прошли перед фронтом неподвижных лиц, обращенных к реке и освещенных луной и дрожащими отблесками ламп. Немного ниже образовался кружок: обступили раздетого мужчину, присевшего на корточки у самой воды. Это был Себастьян. Паулина опустилась на колени рядом с ним:
— Себастьян!
Он не ответил. Слышно было, как тяжело он дышит. Себастьян сидел, обхватив ноги и уткнувшись в колени лицом. Паулина запустила пальцы в его мокрые волосы и приподняла голову, чтобы посмотреть в лицо:
— Себас!
В темноте она едва различала его черты. Она крепко вцепилась ему в волосы и чувствовала, какая тяжелая у него голова. Понятно было, что он плыл до полного изнеможения. Она обеими руками стиснула его голову и прижала к груди. Чьи-то колени упирались Паулине в спину. Их окружал темный частокол ног, оставляя им совсем маленький кусочек пространства. Паулина чувствовала, как ее ноги перепутались с чужими ногами, топтавшимися по песку. С трудом подняла она глаза и увидела лица стоявших вокруг людей, оцепивших их плотным полукругом, открытым только в сторону реки. Тито стоял спиной к ним, четко выделяясь на фоне освещенной воды. Паулина уткнулась в затылок Себаса и крепко прижалась. Музыку выключили. Люди выбегали из закусочных на дамбу, там чернело все больше силуэтов. Правее, начиная от боковой дамбы, вода была скрыта густой тенью. Паулина почувствовала, как ее трогают за плечо, подняла голову — какая-то женщина спросила, кивая в сторону реки.
— Ваша родственница?
Лица женщины было не разглядеть.
— Она с нами приехала сюда.
Женщина кивнула головой: «Вон что!» — и снова стала смотреть на реку. Видимо, закрывали водоспуск, потому что шум воды становился все слабее, потом заглох совсем. Стало тихо, и только шелестел шепот в толпе. Кто-то пояснил, что водоспуск надо было закрыть, иначе пловцов могло бы затянуть туда и они не сумели бы вытащить тело на берег. Внезапно Паулина почувствовала какое-то общее движение, и частокол ног вокруг них пришел в движение. «Вон, вон вытаскивают!» Они не смогли подняться, толпа опрокинула их в неожиданном порыве, им наступали на ноги и на руки, перепрыгивали через них, обсыпая песком. Тито громко звал их. Наконец они поднялись и побежали вместе со всеми. Пловцы подплывали к берегу, поддерживая тело на поверхности и толкая его, будто лодку. Толпа заговорила, и снова им троим пришлось прокладывать себе путь в усиливавшейся давке. Народ сгрудился на мысу. Отсюда по правую руку от водохранилища видны были освещенные закусочные, расположенные за глухим рукавом реки, через который был переброшен дощатый мостик. Одна за другой вырастали на дамбе тени, а многие, видимо, бросились бежать к роще, поскольку ветхие доски мостика отчаянно скрипели. Внезапно голоса смолкли, и когда тело подтащили к берегу, воцарилась тишина. Все отчетливо услышали усталый голос:
— Приподними ее за руку, Рафаэль.
При свете, падавшем из закусочных, вода в реке вновь обрела глинистый оттенок, тот самый красноватый тон, какой был днем. «Господи, какое несчастье!» — вздохнула какая-то женщина. Паулина прижалась к Себасу. Вдруг, словно испугавшись чего-то, обернулась. Позади — темная стена деревьев, притихшая роща, а дальше — мост, луна мирно светит на кирпичи сводов; по насыпи, прорезающей пустошь, кто-то ехал верхом. Негромко попросили посторониться: появились две треуголки, жандармы пробирались сквозь толпу. Они подходили к тому месту, где на песке лежало тело Луситы.
Кто-то выслушивал ее. В первом ряду полукруга стояли дети, мальчики и девочки уставились на обнаженное тело утопшей. Мокрое тело, положенное на бок, блестело в лунном свете. Лица не было видно, оно оказалось в тени и к тому же закрыто волосами.
— Не толкайся, ты! — сказал один мальчишка.
— Это не я, меня тоже толкают…
Дети пятились назад, насколько могли, будто боялись переступить невидимую черту на песке, как бы незримый круг смерти.
Жандармы вошли в круг, бросили беглый взгляд на труп.
— Почему с ней ничего не делают? — сразу же спросил жандарм постарше, обращаясь к пловцу, которого звали Рафаэлем.
Тотчас поднялся другой, тот, который выслушивал, и сказал, откинув со лба мокрые волосы:
— Бесполезно. — Он все еще тяжело дышал. — Я — студент-медик.
— Понятно, — сказал жандарм. Он снова взглянул на труп, снял треуголку и покачал головой: — Вот несчастье. Такая молодая. А каково родителям?
Тито стоял впереди, руки его висели, как плети. Рядом с ним — Паулина, она искоса глядела на Луситу, словно боялась повернуться к ней лицом, руку она положила на плечо Себасу.
— Кто-нибудь знает ее? — громко спросил жандарм, снова надевая треуголку.
Через несколько секунд услышал рядом:
— Мы.
— Вы оба?
— Мы трое, вот еще он.
Жандарм посмотрел на Тито, который машинально ткнул себя пальцем в грудь.
— Она приехала с вами, правильно?
— Да, сеньор.
— Невеста? Сестра?
Они отрицательно покачали головой.
— Значит, друзья, — заключил жандарм, рубанув ладонью воздух.
— Да, сеньор, — сказал Себас.
Паулина задрожала и заплакала в голос, уткнувшись в грудь Себаса. Разговоры в толпе стихли, словно люди хотели получше расслышать плач, они вставали на цыпочки и вытягивали шею, силясь разглядеть, кто там плачет. Пловцы глядели в землю. Пожилой жандарм вздохнул:
— Такие дела…
Второй жандарм глядел на полураскрытую ладонь Луситы и носком сапога касался ее пальцев. Пожилой сказал уже твердым голосом:
— Та-ак… Значит, вы трое никуда отсюда не уходите, ясно?
Потом обернулся к пловцам:
— Теперь вы и вот этот молодой человек, который говорит, что учится на врача, также будьте добры остаться. И еще… кто-нибудь из тех, кто присутствовал при этом. — Он оглядел полукруг. — Ну, вот вы двое. Ладно, пусть четверо, хватит. Я прошу вас остаться и дать показания судебным властям.
Затем, повысив голос, обратился к толпе:
— Остальных прошу разойтись! Расходитесь по своим местам все, кого мы не пригласили остаться! Пожалуйста, освободите берег! По своим местам!..
Он дважды хлопнул в ладоши. Молодой жандарм встрепенулся и пришел на помощь товарищу.
— Проходите, проходите, пошевеливайтесь… — И стал легонько подталкивать в спину тех, кто стоял поближе.
— Я же и так ухожу, зачем еще толкать.
— Поторопитесь, поживей.
Народу уже оставалось немного, последние человек сорок уходили в темноту рощи. Девять человек — два жандарма, четыре пловца, Тито, Паулина и Себастьян — остались на берегу, возле тела Луситы, освещенные светом фонарей у входа в закусочные на противоположной стороне узкого рукава реки. Еще мокрые полуголые тела белели на свету, а в тени казались совсем черными. На дамбе теперь виднелось лишь шесть-семь силуэтов. Пожилой жандарм посмотрел на Тито и Себастьяна и сказал:
— Вот что, послушайте, — пусть от каждой группы по одному человеку сходят за своей одеждой и одеждой товарищей, чтобы все оделись.
Один из четырех пловцов посмотрел на свои мокрые, прилипшие к телу брюки.
— Да, и кто из вас пойдет, — добавил жандарм, обращаясь к Себасу, — пусть захватит все вещи пострадавшей, понятно?
Паулина, совсем обессилевшая, опустилась на песок. Села, поджав ноги, и все плакала, но уже потише, уткнувшись в колени Себастьяна. Снова открыли водоспуск, загрохотала вода. Из рощи донесся громкий голос, звавший Тито и Луситу. Это был Даниэль, меж деревьев показалась его тень. Подбежав, остановился как вкопанный у трупа.
— Это Луси… — пробормотал он. Поднял голову, увидел Тито: — Тито!
Тот подошел к Даниэлю и обнял его:
— Даниэль, будь оно проклято, Даниэль!..
Он прислонился лбом к плечу товарища и стонал от горя и ужаса.
— Зачем надо было этому случиться?.. Совсем недавно мы там, втроем… А теперь видишь, что случилось, будь оно проклято!.. А матери, что мы скажем ее матери? Что мы скажем ей, Даниэль? Что?..
Даниэль глядел из-за плеча товарища на тело Луси и молчал. Снова послышался плач Паулины. Пожилой жандарм подошел и оторвал Тито от плеча Даниэля.
— Держись, парень. Случилось несчастье, надо его пережить. Будьте мужчинами. Возьмите себя в руки и ступайте за вещами, идите. Еще простудитесь, схватите воспаление легких, кому это надо. Ступайте. И возвращайтесь побыстрей.
Тито отвернулся и вытер слезы ладонями, потом он и Даниэль пошли за вещами. По дороге к ним присоединился Рафаэль, он молча шагал рядом с Даниэлем. В роще, должно быть, никого уже не оставалось: не слышно было голосов, под деревьями царила тьма, лишь кое-где белели пятна лунного света, пробивавшегося в просветы между деревьями. Вдруг меж стволов шевельнулась человеческая тень: «Эй, это вы?»
— Это я, Хосе Мариа, — откликнулся Рафаэль. Затем повернулся к Тито и Даниэлю: — Наш товарищ, если надо будет вам помочь, позовите.
— Спасибо, — сказал Даниэль. — Управимся.
— Как хотите.
Рафаэль остался с товарищем, Тито и Даниэль пошли дальше.
— Ну, что там? — спросил Хосе Мариа.
— Мы ее вытащили мертвой.
— Это я уже знаю. А эти кто такие?
— Надо все собрать и нести туда.
— Да скажи, кто эти ребята?
— Эти двое? Они приехали вместе с утонувшей. Совсем растерялись.
— Представляю себе. А как это случилось?
— Слушай, потом будешь расспрашивать. Сейчас надо собрать все вещи и отнести туда.
— Все? А почему все? Они что, сами не могут прийти?
— Не могут, конечно, не могут. Понимаешь, нас четверых жандармы попросили дать показания судебным властям.
— Так бы и сказал. А то — откуда мне знать? Ну, тогда это дело долгое, пока они выполнят все формальности…
— Наверно.
Они подошли к месту, где лежали их вещи.
— Слушай, нам хоть разрешат позвонить домой?
— Думаю, разрешат. Ну, Хосе Мариа, давай собирать шмутки.
Тито и Даниэль не сразу отыскали место, где провели день, они заплутались в темноте. Потом Тито зацепился за что-то ногой, слабо блеснул алюминиевый судок.
— Здесь, я нашел.
Прислонившись к стволу дерева, под которым они сидели втроем, он опустился на землю. Подошел Даниэль:
— Ты что, Тито?
Тот лежал ничком, уткнувшись в ворох одежды.
— Ну вот, опять? Вставай!
— Больше не могу, Даниэль, клянусь тебе, не могу, я совсем развалился…
Даниэль наклонился и потряс его за плечо:
— Ну, соберись как-нибудь, что теперь поделаешь, думаешь, другие не переживают?
— Другие! Ты же не знаешь, ты ничего не знаешь! Ничего!.. В жизни ноги моей не будет в этом месте, клянусь тебе! Никогда не стану я купаться в этой чертовой реке! Я ее ненавижу! Ты слышишь, Даниэль, никогда, проживи я хоть сто лет!..
Голос его звучал глухо, он говорил, уткнувшись в одежду.
Когда Тито и Даниэль пошли за вещами, пожилой жандарм сказал молодому:
— Слушай, прежде всего я схожу тут неподалеку, позвоню, чтобы приехали власти, понятно? Ты оставайся здесь и, когда принесут одежду, забери все вещи погибшей и набрось на нее что-нибудь, чтоб не лежала раскрытая.
— Хорошо.
Себастьян сел на песок рядом с Паулиной. Двое пловцов тоже сели лицом к реке, обхватив ноги руками. А тот, что учился на врача, стоял возле трупа, шагах в десяти от остальных, и о чем-то думал. Иногда он приседал на корточки, что-то разглядывая, но жандарм сказал:
— Оставьте. Отойдите оттуда. — И махнул рукой.
Сам он прохаживался взад-вперед по берегу, засунув большой палец под ремень карабина. Паулина вся дрожала.
— Мне холодно, Себастьян, ужас, как холодно.
Она прижималась к жениху, пытаясь согреться. Себас набросил ей на ноги брюки Тито, валявшиеся на песке.
Пожилой жандарм уже перешел на ту сторону по дощатому мостику, до которого от мыса было не более полутора десятков шахов. Теперь он шел по берегу в обратном направлении, через участок, заросший бурьяном, мимо шелковицы, направляясь к террасе на бетонной набережной, где находились закусочные. За столиками — скатертей на них уже не было — сидело всего две семьи. Жандарм зашел в один из трех павильонов. В помещении висел густой табачный дым, ровной пеленой окутывавший все предметы: в желтом свете ламп он стирал черты лиц у сидевших за столиками, приглушал блеск бутылочною стекла, сверкание никелированных подносов и небольшой кофеварки «Экспресс»; в дыму все расплывалось — картинки на засаленных картах, на рекламных объявлениях и цветных календарях. Народу было полно, но мадридцев уже почти не осталось. Просто воскресная пьянка местных жителей. На кухне что-то жарилось, пахло подгоревшим оливковым маслом.
— Аурелия, мне нужно позвонить по телефону, если ты не возражаешь.
— Звони, звони куда хочешь.
— Спасибо.
Жандарм снял треуголку, положил на стойку и направился к телефону. Он покрутил ручку, и, когда послышалось урчанье аппарата, многие замолчали, чтобы узнать, о чем пойдет речь.
— Алло, у телефона Гумерсиндо, жандарм. — Он заткнул второе ухо пальцем. — Слушай, Луиса, срочно дай мне Алькала-де-Энарес, служебный разговор с сеньором секретарем суда, и вот что: если его нет дома, скажи телефонистке, чтоб разыскала немедленно, понимаешь? — Пауза. — Что? Тебя это не касается, потом узнаешь. — Он оглянулся на сидевших за столиками. — Ну конечно, что-то случилось! Не собираюсь же я его с праздником поздравлять! — За столиками засмеялись, он снова стал слушать. — Что-о-о? — Тут он слегка улыбнулся. — Слушай, девочка, я тебе в деды гожусь, нечего со мной заигрывать, а давай-ка быстренько соедини меня, поняла? Звони мне сюда… А?.. Ну, ты же знаешь, к Аурелии. Вешаю трубку.
Повесив трубку, жандарм вернулся к стойке, где оставил свою треуголку.
— Что тебе налить? — спросила женщина.
— Воды.
— Налей из кувшина, вон он, за тобой. — И кивнула на подоконник. Потом добавила: —А ведь сказать по чести, не дело это — держать столько времени человека в таком виде, пока они соизволят явиться. Чего проще было бы принести тело сюда или еще куда-нибудь, чтоб все сделать как положено, чинно и благородно!
— Такой уж порядок. Мы должны оставить тело как есть и никого к нему не подпускать.
— Плохой порядок. Нельзя держать человека в таком виде.
— Да им-то что, мертвым, они ничего не чувствуют и не переживают, — вмешался посетитель, который слушал, облокотившись о стойку.
— Этого ты не знаешь, — возразила женщина, — все равно им или не все равно. Но даже если и все равно, это нехорошо: мертвого надо так же уважать, как и живого.
— Нет, не так же, а больше. Больше надо его уважать, чем живого, — сказал жандарм. — Ему причитается больше уважения.
— Конечно, — сказала Аурелия, поворачиваясь к посетителю. — Вот послушай, допустим, оскорбляют твоего отца. Когда тебе будет обиднее: если он жив или если уже умер?.. Беги, Гумерсиндо, тебя соединили.
Зазвонил телефон, и жандарм поспешно снял трубку.
— Слушаю!..
В павильоне стало еще тише, все повернулись на стульях, чтобы услышать Гумерсиндо.
— Слушаю! Сеньор секретарь?..
Кто-то из сидевших за столиками в самом дальнем углу шикнул на пьяную компанию, чтобы не мешали слушать разговор.
— Сеньор секретарь, говорят из Сан-Фернандо-де-Энареса, жандарм Гумерсиндо Кальдерон к вашим услугам!.. Что вы говорите? — Пауза. — Да, сеньор. — Он покивал головой. — Да, да, сеньор, из патруля на реке Хара… Что вы говорите?..
Теперь слушали все посетители, игра была прервана, карты лежали рубашками кверху на мраморе столика.
— Докладываю, — продолжал Гумерсиндо, — что здесь сегодня вечером произошел несчастный случай, утонула молодая девушка, по предварительным данным проживавшая в Мадриде, которая участвовала в купанье со своими… Слушаю, сеньор секретарь! — Пауза. — У плотины, да, сеньор, неподалеку от… — Снова пауза. — Хорошо, сеньор секретарь! — Пауза. — Конечно, понял, сеньор секретарь! Да?.. — Он слушал и кивал. — Да, да, да, сеньор… До скорой встречи, сеньор секретарь, к вашим услугам.
Немного подождав, он повесил трубку. Разговоры за столиками возобновились. Жандарм вернулся к стойке, взял свою треуголку и надел ее.
— Спасибо, Аурелия. — Он вышел из павильона.
Тито и Даниэль несли одежду. В роще к ним присоединился Рафаэль с товарищем, которые успели уже одеться. Выйдя из-под деревьев, они увидели силуэты оставшихся на мысу: все сидели, только жандарм шагал взад-вперед по берегу. Хосе Мариа подошел взглянуть на труп. Жандарм сказал:
— Передайте мне вещи… — и кивнул на Луситу. — Ее надо прикрыть.
Одежду свалили в кучу на песок, и Даниэль, присев на корточки, принялся разыскивать вещи Луси.
— Отойди, Тито, мне ничего не видно…
Он поднимал одежду к свету, который шел от закусочных, чтобы разглядеть, и наконец нашел свернутые все вместе вещи Луситы.
— Давай сюда, — сказал жандарм.
Пока сверток переходил из рук в руки, он развернулся и выпали босоножки и белье.
— Осторожнее, — сказал жандарм Даниэлю. — Подними. Ничего больше нет?
Уже возвращался пожилой жандарм, слышно было, как скрипели доски мостика.
— Еще что-то должно быть, по крайней мере сумка и судок.
Даниэль снова стал рыться. Себастьян и Паулина искали свою одежду.
— Вот они. Кажется, все.
Молодой жандарм принял вещи. Второй уже подошел к толу и платьем накрыл Луситу с головой. Платье было из набивного ситца, красные цветы на желтом фоне. Ноги оно не прикрывало.
— Посмотри в сумке, нет ли еще чего-нибудь.
Молодой жандарм нашел полотенчико в синюю полоску и передал его Гумерсиндо, который закрыл им ноги Луситы. Потом сложили в сумку босоножки и белье, поставили ее судок рядом с трупом.
Даниэль спросил:
— Надо мне, наверно, подняться наверх предупредить остальных. Как вы думаете?
— Спроси сначала у этих, разрешат ли.
— Да, конечно.
Гумерсиндо подошел к молодым людям, громко сказал, обращаясь ко всем:
— Послушайте меня: я только что связался с властями, с секретарем суда, и доложил о случившемся, он сказал, что сеньор следователь и он сам прибудут сюда максимум через три четверти часа. Я сообщаю вам об этом для того, чтобы вы не проявляли нетерпения и знали, как обстоят дела. Вот и все. Можете одеться.
Пятеро пловцов стали разбирать свою одежду. Что-то упало на мокрый песок, блеснул никель — из брюк выпала губная гармоника.
— Ты смотри, вон что нашлось! — сказал один из них.
Наклонился, поднял гармонику и постучал ею о ладонь, стряхивая песчинки. Тот, который был в мокрых брюках, вытащил из кармана едва начатую пачку «Честерфилда».
— Вон сколько пропало, жалко, — сказал он, показывая товарищам раскисшие сигареты.
— У тех вон потери побольше.
— Это верно.
Он швырнул сигареты в воду, потом стал на берегу отжимать свои брюки, глядя, как пачка разваливается и медленно плывет к плотине.
Паулина сказала:
— Мне страшно идти одной, Себастьян. Пойдем со мной, постоишь поблизости, пока я переоденусь за деревом. Одна я боюсь.
Они вдвоем пошли к роще, а Даниэль заговорил с Гумерсиндо.
— Вы знаете, с нами приехали еще ребята, и сейчас они ждут нас там, наверху. Я хочу пойти сказать им, ведь они ничего не знают, предупредить, если можно.
— Как вы сказали, где они?
— В кафе по ту сторону шоссе, знаете?
— Да, да, у Маурисио. — Жандарм задумался, вытащил часы. — Ладно, идите, но только быстренько, туда и обратно, поняли? — И показал на часы: — Пятнадцать минут я вам даю на оба конца, не опоздайте, а то, может, вдруг сеньор следователь приедет, а вас еще не будет. Договорились?
— Не беспокойтесь.
— Тогда идите. Быстро!
Даниэль повернулся и пошел к мостику. Тито, уже одетый, лег на бок, подперев голову рукой. Студенты курили, стоя на берегу и глядя на огни, отраженные в воде.
Владелец губной гармоники спросил:
— А каким транспортом мы сможем вернуться в Мадрид?
— Боюсь, что никаким, когда окончится вся эта процедура.
Рафаэль поднес часы к глазам, повернув руку к свету.
— Четверть одиннадцатого, — сказал он, — до последнего поезда осталось пятьдесят минут. Этим придется очень уж торопиться, чтобы отпустить нас вовремя на поезд.
— Не попадем, — сказал студент-медик.
— Ну так вот: либо ночевать в поселке, либо топать на своих двоих, третьего не дано.
— Пешком? Ну, ты даешь.
— А сколько по шоссе?
— Семнадцать километров.
— Не так уж много. От силы три часа ходьбы.
— Да еще при луне, — сказал студент-медик, оборачиваясь, чтобы взглянуть на нее, — по ночному холодку прекрасно можно дойти.
— Допустим, тут все кончится к двенадцати — в три дома.
— Я вообще не понимаю, Хосе Мариа, — сказал Рафаэль, — почему бы тебе не уехать. Тебе ведь не нужно давать показания. Дурака сваляешь, если не пойдешь на поезд.
— Я остаюсь с вами. Вместе приехали, значит, всем должно быть одинаково.
— Ну, как знаешь, твое дело. Мы не обидимся, если ты уедешь.
Паулина и Себастьян уже оделись и сели рядом с Тито. Себастьян прижался лицом к коленям, Паулина склонила голову ему на плечо.
Хосе Мариа сказал:
— Вот что надо, так это предупредить домашних. Кому-нибудь из нас позвонить домой, а там пусть предупредят остальных, как вы думаете?
— Ну вот ты это и сделай, ты свободен. Жандарм только что ходил звонить. Спроси у него, откуда можно.
— Я спрошу. Должно быть, в каком-нибудь из этих павильонов.
— Наверно. Ты все номера помнишь?
— Не трудитесь звонить ко мне в пансион, не надо, — сказал тот, у которого были мокрые брюки. — Не думаю, что кого-нибудь обеспокоит мое отсутствие.
— Хорошо. А какой твой номер, Луис?
— Мой? Двадцать три, сорок два, шестьдесят пять.
Хосе Мариа отошел, твердя про себя номер телефона. Вскоре они увидели, как он разговаривает с жандармами, — тот, что постарше, давал ему пояснения, указывая рукой.
Луна стояла уже высоко над равниной, и по ту сторону плотины, внизу, блестела извилистая лента Харамы, временами прячась меж холмами и снова появляясь, становясь все тоньше к югу, пока не терялась вдали, за последними холмами у горизонта.
Заскрипели доски мостика под ногами Хосе Марии. Паулина вздохнула.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил Себастьян, поднимая голову.
— Ну как я могу себя чувствовать? — ответила та чуть не плача. — Хуже некуда.
— Да, понимаю тебя.
Себастьян снова опустил голову, на плече у него беззвучно рыдала Паулина.
Жандармы прохаживались взад-вперед по песку, не отходя далеко. Тито казалось, что в свете, падавшем с набережной, он видит только один силуэт.
Тень проходила туда и обратно над прикрытым трупом Луситы. На той стороне, на террасе, у закусочных, несколько лампочек внезапно погасли.
— Ну, конец нам! — воскликнул владелец губной гармоники.
Жандармы на мгновение остановились, оглянулись на погрузившуюся в темноту террасу и снова принялись молча вышагивать. Теперь видны были только две горящие лампочки возле закусочных, да еще из дверей павильона на черную ленту набережной падала желтая полоса света. Кто-то вошел в эту дверь, заслонив свет, должно быть, Хосе Мариа. На мысу осталось совсем мало света. Лишь лунное сияние алюминиевой белизной дрожало на песке и обрисовывало фигуры людей, разбрасывая по земле молочно-белые пятна и полосы, будто кто-то брызнул на землю известкой.
Паулина два раза чихнула. Себас вытащил из сумки полотенце и набросил его невесте на плечи. Она взяла концы полотенца и стянула их на груди. Полотенце было влажное.
— Все здесь влажное!.. — пожаловалась она.
Говорила Паулина тихо и в нос, потому что много плакала. Она похлопала себя по плечам и, все еще дрожа от холода, продолжала:
— Нитки сухой не осталось… Господи, кругом сырость!.. Какое несчастье!.. — И снова разразилась рыданиями. — Я больше не могу, Себастьян, не могу, не могу… — твердила она и рыдала, уткнувшись в полотенце.
— Сами-то мы, — сказал Лусио, — гроша ломаного не стоим, даже и полгроша, когда надо что-то сделать. Но вот опыт, это да, — тут он улыбнулся, — кое-каким опытом мы с вами, молодыми, можем поделиться.
— Ты — конечно! — откликнулся Маурисио. — В самый раз бы тебе школу открыть — глядишь кто-нибудь и станет слушать.
— А что, и не сомневайся!
— Еще бы! У тебя к концу дня накапливается столько новостей! Жаль, что ты никто. Все пропадает ни за понюшку табаку.
— Ты не насмехайся, — улыбнулся Лусио. — Речь не о том, что я лучше других, тут дело в возрасте.
— В возрасте! Хорош будет тот, кто поймет твои мудрые советы буквально. Броситься под поезд — и делу конец.
— Мне кажется, ты не уважаешь старость. Что же ты оставляешь старикам?
— Помалкивать и дать жить другим. Больше ничего. Пусть вперед выходит молодежь. Не думай, что жизнь не изменилась. То, чему мы подчинялись, уже сколько лет как сошло на нет!
— Полегче, полегче. В конце концов человеческие заблуждения остаются такими же, или кажутся такими же.
— Ну да, вот ты попробуй обращаться с ними, как раньше, и увидишь, как сядешь в лужу.
— Но послушай, если бы кто-то придерживался хороших советов и не ошибался так, как ошибались до него, разве не меньше ему досталось бы синяков, кто бы он ни был?
Маурисио, улыбаясь, согласился:
— Вот это точно. Тебя можно брать в пример, только если поступать наоборот: учиться у тебя, как не надо делать. Тут ты, безусловно, прав.
— Слыхали? — обратился Лусио к присутствующим. — Как вам это нравится? Стоит себя грязью облить, как он уже с тобой согласен. Но вот что, Маурисио, я-то имел в виду только те беды, что выпали на мою долю, не надо путать. Одно дело сказать, что такая дорога нехороша из-за того, что ты повстречал на ней свору злых собак, другое — раскаиваться в том, что ты избрал именно ее. Тут большая разница.
— Да вы не очень-то его слушайте, сеньор Лусио, — прервал его Чамарис. — Пусть-ка он лучше нальет нам на дорогу по стаканчику, как это полагается, потому что пора уже уходить. — Тут он взглянул на мясников: — Верно?
— Да, да, — сказал Клаудио. — Мы тоже пойдем.
— Уже? — спросил Лусио.
Маурисио стал наливать вино.
— Пора. Нас ждут ужинать, — ответил Чамарис. — А как вы думаете? У вас семьи нет, а сами-то вы можете святым духом жить, с утра до вечера ничего, кроме жидкого, в рот не брать, вот и решили, что мы тоже способны на такое? Ошибаетесь.
— Пусть ваши домашние поужинают и ложатся спать, — сказал Лусио. — На то и воскресенье, чтобы мужчина поразвлекся. Настоящий мужчина домой в воскресенье не вернется, пока не опустеет карман.
— Только не этот, — возразил низенький мясник, указывая на Чамариса. — Он так не может. Стоит ему задержаться, ну, минут на десять-пятнадцать сверх назначенного часа, — сразу пришлют за ним нарочного, тут как тут и явится девчушка, вот как сегодня днем. — Он обернулся к Чамарису. — Правильно я говорю, любимчик своей семьи?
— Ну что из того? Они так делают, потому что не могут без меня и скучают. Как и положено. Оно и лучше, а то у иных как бывает: чем реже муж появляется дома, тем спокойней и веселей кажется ему жена, — ведь не надо целый день терпеть его присутствие.
— Так это ж и есть свобода в браке, — возразил мясник. — Ни больше, ни меньше. Просто молод ты еще, оба вы зеленые, как говорится, но будет время, не беспокойся, придешь и ты к этому и все сам поймешь.
— Ему даже лестно, — вмешался, смеясь, Клаудио, — ему лестно пока что, когда за ним посылают, — дескать, папочка, пойдем домой и всякие такие штучки.
— Еще как лестно! — подхватил первый мясник. — Так и тает от удовольствия! По лицу сразу видно. Но подожди, пройдут года, не так уж и много, начнет женушка у тебя расплываться, и увидишь, все пойдет иначе, сам увидишь. Тогда, голубчик, тебе только того и надо будет, чтобы тебя оставили в покое, понимаешь? Семейный долг свой выполнил и — будьте здоровы, мои милые. Вот как будет.
— Бог с вами! — сказал Лусио. — Вы, никак, хотите расстроить семейное счастье нашего друга?
— Мы? Да что вы, куда там. Попробуй расстрой. Когда у человека молодая жена, никакая на свете сила его не образумит. И думать нечего.
— Конечно, — поддержал коллегу Клаудио. — Он в своей Росалии души не чает. Его от нее за уши не оттащишь.
— Может, хватит? — запротестовал Чамарис. — Слишком, кажется, долго я служу вам темой для разговора. Довольно вы меня пощипали, смените пластинку. Да и пора уже идти. Что с меня причитается, Маурисио?
— Да, да, он прав, пусть отдохнет до завтра.
— С тебя девять пятьдесят.
Чамарис искал деньги между листками блокнота в захватанной желтой обложке. Кока-Склока все еще листал воскресный номер «АБЦ».
— Там, в саду, поют, — сказал Кармело, обращаясь к Маурисио; глаза его загорелись, он слушал, повернувшись лицом к коридору.
— Слышу.
Маурисио дал Чамарису два реала сдачи. Мужчина в белых туфлях уставился в пол, держа левую руку на выгнутой спинке стула Лусио.
— До завтра, — попрощался Чамарис.
С ним вышли оба мясника.
— До свидания.
— Доброй ночи, сеньоры.
— До завтра.
— До свидания.
Они ушли в темноту.
Алькарриец продолжал свое:
— Вот я и говорю, дон Марсиаль, шутки шутками, а я уж не раз подумывал, не собрать ли мне пожитки и не махнуть ли с семьей в Америку.
Пастух сказал:
— Куда тебе!
— На словах — куда угодно! — крикнул Кока-Склока. — На деле — никуда.
— Помолчи ты, рахитик. Неужели нельзя поговорить серьезно?
— Ха-ха, серьезно! Скажет тоже! — смеялся инвалид. — Он хочет, чтобы мы приняли всерьез его планы отправиться в Америку, ты слыхал? Ничего себе серьезный разговор! Да тут лопнешь со смеху!
— Ты-то что знаешь?
— Что я знаю? Видали его? Откуда мне знать! И это ты говоришь мне? Да сколько лет слышу одно и то же? Как себя помню, ты всем рассказываешь эту сказку. И хочешь, милый мой, чтобы тебя принимали всерьез? Ты уже отплывал в Америку побольше раз, чем сам Христофор Колумб!
— Это еще ничего не значит, — вступился дон Марсиаль. — Бывает, жуешь, жуешь какую-нибудь мысль, пока не разжуешь как следует. А когда никто уже этого не ожидает — бац! — и все в порядке!
— Ну да, как же, жди. Скорей пойдут мои ноги, как бы тяжелы они ни были, чем этот дядя стронется с места, попомни мое слово. Фантазия это все, игра воображения у него под кумполом.
— Так оно и есть, — подтвердил пастух. — Это все котелок его гудит и гудит, не переставая, вроде как осиное гнездо. Сам-то он, может, и верит в то, что говорит, но уж нас этой сказкой не убаюкает, мы ее наизусть знаем. Уедет он, как же, дожидайтесь.
— Да послушай, я же не отрицаю, что иногда задумываешь что-нибудь, лишь бы душу отвести, отключиться от своих забот, — ответил алькарриец. — Но только не пустые это мечтания. Как знать, может, если долго бить и бить в одну точку, в конце концов продолбишь дыру. И тогда как бы вам не опростоволоситься. Так что на вашем месте я бы поостерегся клясться и божиться.
— Не будь я Амалио, если тебя не похоронят здесь! Верно?
— Верней не бывает, — подтвердил Кока-Склока. — Какие тут могут быть сомнения? Готов дать расписку.
И все засмеялись.
— Много вы знаете! Насквозь все видите. Только во мне-то вы ошибаетесь, совсем вы меня не знаете, это уж мне поверьте.
— Ничего, — вступился дон Марсиаль. — Пришла им охота немного потешиться на ваш счет, они нарочно пытаются вас разозлить. Не обращайте внимания на все их шуточки да прибауточки.
— А я и не обращаю. Будто я не понимаю, куда они клонят. Только разозлить меня им не удастся. Дудки, не на того напали!
— Просто любят они придираться, больше ничего. Ну-ка, кто из нас не подумывал в какой-то момент об Америке более или менее серьезно?
— Вот видите? Значит, не такая уж это пустая мысль. Вопрос только в том, как на это решиться.
— Только в этом, правильно. Немало надо мужества, чтобы сделать такой шаг в жизни. Собраться с духом, взять да и сделать.
— Конечно. Кто не понимает, как трудно оторваться от места, где ты родился и прожил столько лет? Легко сказать — покинуть здешние края и здешний народ, каков бы он ни был, хорош или плох, но ты так или иначе всю жизнь с ними уживался! А тут вдруг с бухты-барахты отправляйся на чужбину, в такие места, которых ты сроду не видал даже на картинке и не имеешь никакого понятия, что там за народ, какие там нравы и обычаи. Тут всякий призадумается, если это, конечно, не отчаянный какой-нибудь, которому все нипочем.
— Самое трудное — свыкнуться с этой мыслью, — ответил дон Марсиаль. — А потом, как прибудешь туда, тоже поначалу растеряешься — кто это может с налету разобраться в том, что видит в первый раз? Но, я думаю, понемногу начнешь понимать что к чему и волей-неволей приноровишься к обстоятельствам, станешь на ноги. Нужда быстро всему научит, и будешь во всем разбираться не хуже местных.
— Еще бы, конечно. И говорить-то привыкают по-иному, слышал я эмигрантов, которые так и не могут вспомнить, как нужно говорить по-кастильски. Скажет что-нибудь на людях — смех один.
— Ага, что-то вроде этого показывают в фильмах с Кантинфласом[28] или с Хорхе Негрете[29], верно?
— Точнехонько. Как в этих лентах. Поначалу без хохота и слышать-то не можешь. В точности как в кино, никакой разницы. И это еще несмотря на то, что наши приехали из Венесуэлы, а эти, с лент, Кантинфлас и Негрете родились в Мехико, от Венесуэлы, как известно, очень-очень далеко, и не по той мерке далеко, к которой мы здесь, в Испании, привыкли, а по тем понятиям, которые там у них, то есть черт знает как далеко. А разговор везде почти такой же, не отличишь. В общем, как я понял, там наш испанский переломали совсем.
— И смотри-ка ты, как это прилипает! Все начинают говорить одинаково.
— Ну, знаете, если б только в этом была вся сложность, я завтра же сел бы на пароход. Пусть бы потом всю жизнь всё не так говорил, и пусть бы надо мной народ потешался, когда вернусь…
— Это я понимаю, — прервал его Амалио. — Подумаешь, новость сообщил! В том-то как раз и вся штука, что не так все просто, дело это тонкое, щекотливое. Я к тому и вел. Осложнений не хочет никто. Вот потому-то и знаю, что никуда ты не уедешь.
Кока-Склока опять стал читать газету.
— Ладно, погоди, настанет день, когда мне все осточертеет, вот тогда ты и скажешь, уеду я или нет, — возразил алькарриец. — До сих пор, кроме нужды, ничего я в жизни не видел, и теперь — никакого просвета, так что скоро, вот увидишь, переплыву я эту большую лужу, и навсегда кончатся все наши невзгоды и бесконечные неудачи.
— А что ты найдешь там, по другую сторону большой лужи, как ты говоришь? Ты, видно, думаешь, там чудеса в решете тебя ждут, не успеешь с парохода сойти.
— Хуже, чем здесь, не будет. В этом я уверен.
— Ну надо же, как люди сами себя обманывают, — воскликнул пастух. — Думают, стоит уехать куда подальше и тут же их житье само по себе станет лучше. Чем дальше, думают, отобьются от своего стада, тем счастливее будут жить. Подумаешь, переплыть лужу! Только как бы быстро ты ее ни переплыл, оказывается, не такая уж это лужа, а порядочный кусок моря, не так-то просто через него перескочить, и уже только из-за этой воды ты не сможешь вернуться, если там у тебя ничего не получится. Не знаю, и что вы думаете об океанах, так о них рассуждаете, будто, подумаешь, ничего не стоит проглотить какой-нибудь из этих океанов, раз — и готово.
— Никто так не думает. Я говорю только, что в Америке все иначе. В Америке…
— Ладно, не распинайся… — прервал его пастух. — Про то, как там в Америке, расскажешь мне, когда вернешься оттуда, хорошо? Если, конечно, когда-нибудь уедешь и тебе повезет и если ты вернешься и, вернувшись, еще застанешь меня в живых. Давай так и договоримся. А сейчас — поменьше сказок. Будет лучше и тебе и мне. Мои мозги и так здорово поджаривает солнце, которое печет голову с утра до вечера, пока я гоняюсь за овцами по этим богом проклятым пустошам.
— Ну и жарься тут всю жизнь, мудрец доморощенный. Так тебе и надо, и хорошо бы, ты еще лопнул, как каштан на углях, тогда перестал бы думать, что умнее всех!
— Я не говорю, что знаю больше того, что знаю на самом деле. Я только не ношусь со всякими глупыми баснями, как те недоумки, которые воображают, что все хорошо в дальних краях и чем дальше от родимых мест, тем легче живется. Работать надо везде, и чтобы кому-нибудь из нас заработать деньжат, надо гнуть спину, и никаких других способов нет, что тут, что в Америке, что на луне, если б можно было туда забраться. Без работы бедняку вроде нас с тобой нигде не прожить. Вот это я знаю твердо. И если некоторые привозят из Америки больше денег, чем увезли с собой, так знай, что они вылезали там из кожи и надрывали кишки точно так же, как это делают в Мадриде или где еще, а сами сбивают с толку людей, задуривают им голову. Жирные куски — не для тех, кто живет своим трудом, ты о них и не мечтай. Вот как, если без брехни. И как бы ни припекало, как бы ни жгло мне загривок в здешних адовых полях, я по-прежнему знаю, что в Америке ничего не потерял и что прожечь меня глубже, чем здесь прожгло, нельзя.
— Ты гляди, как он наскакивает, а? — воскликнул Кока-Склока, поднимая голову от газеты и улыбаясь. — Ай да Амалио, вот это оратор!
— Зануда он высшей марки, — сердито сказал алькарриец. — Хорошо еще, что я его знаю и не собираюсь принимать к сердцу его речи. Как и твои: вам обоим только бы довести меня до белого каления своими шпильками и подкусываниями. Но шалишь: терпения у меня хватит.
— И горе вам, если у вас его не хватит, — сказал дон Марсиаль. — Вон тот, кто там сидит, — и, протянув руку, он указал пальцем на Коку-Склоку, — вот этот. Это — самое вредное насекомое на сто тысяч гектаров вокруг него. С ним надо обходиться без всякой жалости: взять розгу и стегать, да покрепче! Всыпать как следует. И уверяю вас, я — единственный человек, который дружен с этим раздавленным навозным жуком, одетым в человеческое платье, который зовется Марсело Кока, а прозывается Кока-Склока, Слепень, Огрызок и Марсианин, и каких только еще прозвищ ему не надавали за его жизнь…
— Надо же! Достал из нафталина старое тряпье!.. — крикнул Кока-Склока. — Я, обладатель всех этих титулов, позабыл их, а он помнит. Какой ты чудесный друг, Марсиаль! Другого та-ко-го не сыщешь: ты бережно хранишь в памяти все ласкательные имена, которыми награждали твоего маленького обожаемого Кокиту! Подойди ко мне, подойди, я тебя облобызаю!..
— Он еще и смеется! Глядите, как ему весело, как он радуется, хоть и прикован к своему стулу!.. Вот он, глядите!..
Все четверо рассмеялись. Послышалось тихое грустное пение — это алькарриец запел тем особым фальцетом, каким поют в его краях, протяжно и монотонно:
Серая куропатка — красный гребешок. Серая куропатка — поймать ее не мог…— Ну, запел жаворонок в поле! — сказал пастух про алькаррийца.
— Сегодня он в ударе, — засмеялся дон Марсиаль. — Поет тихонечко, но с душой.
— Так поют у нас, — ответил алькарриец, скромно потупившись.
Вошел мужчина в перепачканной известкой одежде, поздоровался.
— Привет, Макарио, — отозвался хозяин.
Кока-Склока крикнул:
— Грека, Грека! Откуда ты в такой час? Разве не знаешь, что работать по воскресеньям запрещено?
— Другого выхода нет. Надо пользоваться. Изворачиваться, как можешь. Хватать, где удастся. Нужда заставляет — вот и работаешь.
Он не выговаривал «р», этот звук получался у него картавым, похожим на «г». Кока-Склока его передразнил:
— Это очень дугно, надо делать пегегыв в габоте хотя бы в воскгесенье. Нельзя так терзать себя, не то в один прекрасный день сердце откажет. Тогда — крышка!
— Если уж оно откажет, значит — все, — ответил Макарио. — Тогда спасайся, кто может, то есть настанет их черед, их и жены, перебиваться, изворачиваться и существовать как-нибудь. А пока выдерживаю, для меня ничего другого не остается, только физическая работа.
— Сколько их у вас? — спросил дон Марсиаль.
— Пять, к полдюжине идет.
Кто-то присвистнул.
— Значит, шестой уже в проекте? — спросил шофер.
— Ну да, если ничего не случится, будет шесть.
— Ничего не случится, можете не беспокоиться, — сказал Лусио, улыбаясь.
— Да я и не беспокоюсь. Ничего не случится. Выскочит и этот, как все его братья и сестры. Бог даст, ничего не случится.
Он говорил это, весело ворочая глазами, будто крутил их.
Все рассмеялись. Только мужчина в белых туфлях спросил вполне серьезно:
— Значит, пока что все появлялись на свет? И не было никаких недоразумений?
— Смотря что вы называете недоразумениями. Родиться — родились все, ни один там не остался.
Слова Макарио снова всех рассмешили.
— Доброе семя, ничего не скажешь!
— Разве только во мне дело? Что вы! Она тоже, со своей стороны, старается, как может, она — вроде тех породистых кур, которые выращивают всех, кого высидят, ни один не пропадет.
Дон Марсиаль заметил:
— А хорошо бы еще троих-четверых, правда?
— Это как посмотреть… Кто его знает.
— Чего тут смотреть — конечно, хорошо, — убежденно сказал пастух. — Надо же как-то увеличивать доходы. Пройдет несколько лет, и увидите, какая будет красота: один жалованье принесет, другой, — песеты так и потекут в дом. Для бедняка это самый верный способ бороться с нуждой. Вы правильно делаете, да, правильно, сеньор.
— Это если со мной не случится того, что предсказал Кока, если прежде я сам не загнусь от такого приращения семьи. В этом случае — а такое вполне может быть — боюсь, не придется мне увидеть собственными глазами ту красоту, которую вы только что описали.
Кока-Склока откликнулся со своего стула:
— Ладно, я беру обратно свое предсказание, не расстраивайся. Чтоб дожил ты до ста лет и не оплешивел.
— Ну, столько мне и не надо. За глаза хватит и восьмидесяти. Больше желать — это уже жадность.
Дон Марсиаль повернулся к Коке-Склоке и показал на свои часы:
— Милый мальчик, погляди, который час. Мне, во всяком случае, пора идти, так что, если хочешь, чтоб я тебя отвез…
— Ну подожди немного, в самый интересный момент ты вдруг заторопился. Не вредничай.
— Я не могу дольше задерживаться ни на минуту, меня ждет дон Карлос. Если хочешь, оставайся, но тогда уж добирайся до дома сам.
— Да нет, я поеду с тобой, раз тебе так приспичило. Дай мне хоть допить этот стакан, а? Чтоб не работать рычагами, я на все готов. Жду не дождусь того часа, когда я буду моторизованный и не придется мне больше рассчитывать на свои руки или зависеть от других.
— А что это значит быть моторизованным? — спросил мужчина в белых туфлях.
— Ну, знаете, сейчас ведь придумали мотороллеры и всякие другие штучки, вот и я надумал моторизоваться, чем я хуже других. В том смысле, что я хочу приделать моторчик к моему драндулету и тогда буду носиться метеором, как и полагается в атомный век. Я уже каждый месяц понемножку откладываю, чтоб вы знали. Надо только изучить техническую сторону вопроса, решить, какой моторчик и как его приспособить. Тогда увидите: я буду бегать быстрее вас всех.
— Это ты хорошо придумал; если денег хватит, остальное — ерунда.
— Вот уж будет на что посмотреть: ты носишься туда-сюда по улицам Сан-Фернандо и по окрестностям на своей таратайке: трр-трр-трр… — закричал алькарриец.
— Ты, наверно, думаешь, что я не видал таких колясок с моторчиком? Погоди, придет зима, и еще попросишь у меня прокатиться. И все вы будете кричать, чтоб я остановился, подождал вас, когда выйдем прогуляться на Главное шоссе.
— Пошли, Кока, пожалуйста, не задерживай меня.
— Вот пристал! Ну ладно, вытаскивай меня отсюда.
Алькарриец взял за спинку стул, на котором сидел Кока, и отодвинул его от столика. Инвалид протянул руки, дон Марсиаль нагнулся и взял его под мышки:
— Иди, сыночек… — сказал он женским голосом, подражая ласковой матери. И легко поднял его.
— Получи, мамочка!
Раздался звонкий звук пощечины, которую Кока залепил своему другу.
— Ну и ну! — воскликнул алькарриец.
Присутствующие рассмеялись. Дон Марсиаль, у которого покраснела щека, пояснил:
— И приходится терпеть. Разве поднимется рука на такое вот?..
И он показал всем, приподняв повыше, скрюченное тело: голова без шеи, втиснутая в грудную клетку, руки почти нормальной длины, несоразмерные по отношению к туловищу, и безжизненные, атрофированные ноги, болтавшиеся как плети, оттянутые тяжестью безобразных черных ботинок.
— Спокойной ночи, сеньоры, — сказал он, сидя на руках у дона Марсиаля.
Вдруг он потянулся к Макарио и ухватил его за отворот куртки:
— Иди-ка сюда, плодовитый папаша, — смеясь, закричал он и потянул Макарио к себе.
— Чего тебе? Отпусти!
У Макарио под курткой и рубахи не было: голая безволосая грудь. Кока-Склока с силой дергал его за отворот куртки, запачканной известкой.
— Ну же, Грека! — говорил он. — Повтори-ка: «Ехал Грека через реку…» Послушаем, как ты это скажешь!
— Да брось ты свои шуточки! — запротестовал дон Марсиаль. — Отпусти его!
— Ну, слышишь? Тебе говорят, отпусти!
Кока-Склока замахнулся левой рукой:
— Дать тебе, что ли? Сейчас ты у меня схлопочешь!
Все засмеялись. Макарио пытался вырваться из рук инвалида, но тот вцепился изо всех сил и продолжал дергать его:
— Ну же, давай; «Ехал Грека через реку…» Быстро скажи!
Дон Марсиаль тоже качался от резких рывков инвалида, как и Макарио.
— Да отпусти ты его, чертово семя! — вышел из себя дон Марсиаль. — У меня руки устали тебя держать! Из-за тебя я опоздаю! Отпусти его! Отпусти, не то я тебя брошу!
— Ну пусть он скажет! Давай, скажи! Скажи!
— Не приставай, Кока! Не старайся, ничего я не скажу. Отпустишь или нет?
Кока-Склока отпустил лацкан.
— Ну ладно, Грека, не хочешь брать у меня уроки… Никогда в жизни не научишься произносить «р»! Не видать тебе успеха, ничего ты не добьешься, никем не станешь! Никто и никогда тебя не вытащит из темноты, в которой прозябаешь сейчас! Так на веки веков и останешься деревенщиной!..
Макарио, освободившись от Коки, отошел к остальным. Все смеялись. Дон Марсиаль с инвалидом на руках дошел уже до дверей, на пороге обернулся:
— Видали, какое вредное насекомое? А я его ношу на руках, будто это невинный ангелочек! — Он покачал головой. — Доброй ночи всем!
И шагнул через порог, но тут Кока-Склока вцепился в косяк и в занавеску и задержал дона Марсиаля, подтянувшись на руках и повиснув на занавеске. Через его плечо он прокричал:
— Ехал Грека через реку! Ехал Грека через реку!..
Дон Марсиаль тащил его, пытаясь оторвать от двери, а Кока-Склока кричал и бился у него на руках, занавеска тянулась за ним в ночную темень, пока не выскользнула из рук инвалида. Покачавшись, она, наконец, спокойно повисла. С улицы донесся голос дона Марсиаля:
— Господи боже, ну что за зловредная букашка! За что мне такое наказание?..
Он усадил Коку-Склоку в его кресло. В последний раз донеслось:
— Ехал Грека!!
И дон Марсиаль покатил кресло по дороге.
— Ну и чертенок этот Кокита! — заметил шофер. — Сегодня он, видать, хватил лишнего…
— Какое там лишнего! — сказал Маурисио. — Он всегда такой взбалмошный, даже когда вовсе и не пригубит.
Мужчина в белых туфлях сказал:
— Бедняга. У него только и удовольствия в жизни, что поднять шум. А что еще? Весь интерес в том, чтобы побыть на людях и сцепиться то с одним, то с другим, пошутить, поскандалить.
Подошли Макарио и пастух. Лусио сказал, указывая на Макарио:
— Он его из себя вывел с этим «р» и стишком про Греку.
Макарио ответил:
— Видели, как он пристал и как заупрямился? И не говорите, немало мне стоило от него отделаться.
— Ну да. Он думает, вы так и будете повторять для него этот глупый стишок, только чтоб посмешить его, как ребенка.
— А он не так далеко и ушел от ребенка, — заметил мужчина в белых туфлях. — При его увечье человек в своих поступках и желаниях только и может уподобиться ребенку.
— За это ему все прощается, — сказал Макарио, — за то, что он такой, какой есть. Ну и, конечно, сам по себе он забавный и симпатичный, этого у него не отнимешь. Даже при том, что сегодня он оторвал мне пуговицу, — он шарил глазами по полу, — когда дергал за куртку. Да еще обозвал деревенщиной. — Тут он перестал искать пуговицу и поднял голову. — Так я и есть деревенщина, кем же мне еще быть?
Его уже не слушали. Говорил Лусио:
— Такое увечье я считаю самым большим несчастьем, которое могло бы со мной случиться. Не знаю, что может сравниться с этим. Я предпочел бы десять раз вновь пережить все мои беды, только бы не стать таким, как он. Я хочу сказать, лишь бы тело мое оставалось, какое оно есть. Пусть любой смертельный недуг, но чтоб я оставался собой, как говорится. Я даже простой зубной боли, какая бывает у каждого, панически боюсь, боюсь больше, чем всех хворей и напастей, которые рыщут по свету, отыскивая, на кого бы обрушиться.
— Да, конечно, — вступил в разговор Кармело. — Хуже зубной боли нет ничего. Самая страшная ночь — это когда разболится зуб. Не помогут ни таблетки, ни компрессы, ни коньяк, не отвлечет ни сигарета, ни журнал, ни радио, ни что другое. Остается только уткнуться в подушку и страдать, пока не настанет утро, а потом галопом скачешь к зубодеру. Правильнее сказать — к стоматологу, как написано на дощечке, прибитой к дверям. Так что щипцы — и вон, конец всем мученьям. Самое верное дело. Это единственное, что помогает от зубной боли, а всякие там успокоительные, полоскания — все ерунда, только щипцы и спасают.
Он посмотрел на лица собеседников и умолк. Потом взглянул на свои пальцы, выглядывавшие из рукава, и стал с любопытством наблюдать за пальцами, как за живыми существами, которые шевелились сами по себе, теребя медные пуговицы мундира. В саду шумели все громче. Амалио сказал:
— Там веселятся вовсю.
— Молодость, — откликнулся алькарриец. — Все мы так или иначе прошли через это.
Макарио сказал:
— Вот именно. Несознательный возраст. Безумствуют себе и знать ничего не хотят.
Наступила тишина. Наконец шофер сказал:
— Сеньор Маурисио, налейте-ка нам на дорожку. Пора уж и по домам.
Маурисио взял бутылку и принялся наполнять стаканы.
— Пейте… — И посмотрел на дверь.
Вошел Даниэль, спросил:
— Они там?
Все посмотрели на него.
— Скажите, они еще не ушли?
— Нет, нет, — ответил Маурисио. — Они еще там. Что-нибудь случилось?
— Да, несчастье.
Он быстро прошел через зал и скрылся в коридоре.
— Глядите-ка, кто пришел! — воскликнул Лукас, увидев Даниэля.
— Давно пора! — крикнул Фернандо. — Все пришли?
— Мы уж уходить собрались.
— Мигель! — сказал Дани. — Можно тебя на два слова?
Все забеспокоились.
— А что случилось?
— Мне надо поговорить с Мигелем.
Тот вышел из-за стола. Даниэль взял его под руку и вывел на середину сада.
— Что такое? — сказала Алисия. — Так таинственно.
— Хочет нас заинтриговать.
— Нет, я уверен, что-то случилось. Что-то серьезное. По нему видно!..
Все замолкли, глядели на тех двоих, о чем-то тихо говоривших под лампой. Даниэль стоял спиной. Вдруг они увидели, как лицо Мигеля исказилось ужасом и как он, схватив Даниэля за плечи, встряхнул его. «Алисия, сюда! Все идите сюда! — крикнул он. — Случилось ужасное несчастье!» Все бросились к ним, обступили. Мигель глядел в землю, все застыли в молчании, ожидая, что он скажет.
— Скажи ты…
Мели принялась кричать, хватая за руки то того, то другого, требуя, чтобы они все им сказали наконец, все сказали, что бы там ни случилось. Даниэль опустил голову: «Лусита утонула в реке». Все содрогнулись. Бросились к Даниэлю: «Но как? Как? Скажи, ради бога, как это могло случиться?..» Вцепились в него, тянули его за рубашку: «Даниэль!..» Мели сжала руками голову: «Я знала, знала, что это Лусита! Я знала, что это Лусита!..»
— Недавно. У плотины. Они купались.
— Надо идти вниз, — сказал Мигель.
— Кто-то из девушек, что приехали с вами? — спросил стоявший позади парень из Аточи.
— А ну тебя… — отмахнулся от него Фернандо. — Идем, Даниэль, идем сейчас же туда…
Они кинулись к двери. Мели хотела пойти с ними.
— Не ходи, — остановил ее Сакариас. — Лучше не ходи. Это произведет на тебя ужасное впечатление.
— Что?.. — сказала она, глядя ему в глаза. — Мне не ходить,? Да что ты говоришь, Сакариас? Как это я ее не увижу!.. Ведь всего каких-то… — И она зарыдала. — Совсем недавно, боже мой, совсем недавно она была с нами!.. Как это мне не ходить!.. Как не пойти!..
Ребята из Легаспи принялись собирать вещи.
— Мы не пойдем, — сказал Лукас. — Зачем?
— Да, нам лучше уехать. Мы еще успеем на поезд. Забирай патефон, и пошли.
Марияйо подошла к Сакариасу.
— Иди с ней, Сакариас, — сказала она. — Обо мне не беспокойся, побудь с ней, идите. Я поеду с Самуэлем и этими ребятами. В самом деле…
Он посмотрел на нее:
— Спасибо тебе, Марияйо.
— Не за что. Как же иначе? — сказала она и отошла.
Сакариас и Мели направились к реке вслед за Мигелем, Алисией, Фернандо и Даниэлем. Остальные стали собираться на станцию вместе с парнями и девушками из Легаспи, сложили вещи и медленно пошли по коридору. Поскольку первые четверо прошли мимо стойки не задерживаясь, Маурисио спросил у тех, что спешили на поезд:
— Что случилось, ребята?
— Утонула в реке девушка, — ответил парень из Аточи.
— Черт побери, вот беда-то! — воскликнул алькарриец, качая головой.
— Которая из девушек?
— Не могу сказать, я ее не знал. Она приехала с ними. Наверное, они ее знают, — указал он на Самуэля и Марию Луису.
— Не та, что приехала на мотоцикле?
— Что? На мотоцикле? Нет, ту зовут Паулина, — ответил Самуэль. — А эта — пониже, у нее каштановые волосы…
— В голубом платье?
— Ой, не знаю, в чем она была, я сегодня ее не видел. Звали ее Луси…
— В голубом была Кармен, — вмешалась Мария Луиса. — Нет, не она.
— Эта девушка была, ну, как вам сказать, тоненькая, с лицом таким немного… нет, не знаю, какие приметы вам назвать…
— Скажите, сколько мы вам должны? — спросил Федерико.
Маурисио обернулся к нему:
— Что вы брали?
Пастух не переставая качал головой:
— Боже мой! Ни один праздник не проходит спокойно! Всегда должно случиться что-нибудь, чтоб испортить и нагнать тоску. Ну откуда можно было ждать…
Сакариас и Мели догнали Даниэля и других уже за виноградниками. Шли молча и быстро, почти бежали. Мигель повернул было к лестнице с земляными ступенями, по которой они поднимались днем, но Даниэль остановил его:
— Не сюда, Мигель, с другой стороны.
Они пошли к закусочным и деревянному мостику, проскрипели под ногами доски, и они очутились на мысу. Показались темные силуэты, прежде всего заметили жандармов. Мели увидела лица, когда их осветила луна. Навстречу им направилась Паулина.
— Алисия, Алисия! — воскликнула она и, обняв подругу, снова разрыдалась.
Подошли к телу Луситы.
— Не приближайтесь, — сказал пожилой жандарм.
Но Мели уже склонилась над Луситой и открыла лицо. Себас стал рядом с Мигелем и крепко сжал его руку, не говоря ни слова, прижался лбом к плечу товарища, который глядел на труп. Жандармы поспешили к Мели, один из них поднял ее за руку.
— Отойдите, сеньорита, разве не слышали? Нельзя трогать.
Она в ярости обернулась, рванула руку:
— Отпустите меня! Не прикасайтесь! Оставьте меня в покое!..
Все стояли вокруг тела, глядя на лицо девушки, почти скрытое волосами. Только Тито остался лежать на песке, приподнявшись на локтях. Мели снова склонилась к лицу Луситы.
— Будьте любезны повиноваться мне, сеньорита, отойдите от погибшей. — Жандарм снова взял ее за руку. — В противном случае…
— Отпустите меня, грубиян, скотина!.. — плача, крикнула она и стала вырываться, колотя свободной рукой по державшей ее клешне.
— Без оскорблений, сеньорита! Придите в себя! Не заставляйте применять к вам другие меры!
Все подошли к ним.
— Людишки вы, вот вы кто! — кричала Мели, снова вырвавшись. — Людишки! Видишь, Сакариас, видишь, какие они?
Плача, она уткнулась ему в плечо. Шел поезд: белый луч прожектора, ряды освещенных окон, мелькавшие высоко на мосту.
— В таком случае, сеньорита, — сказал жандарм по имени Гумерсиндо, вытаскивая из кармана записную книжку, — сейчас же сообщите ваше имя. Вы узнаете, что такое неподчинение властям.
Второй жандарм приблизился к трупу и снова закрыл лицо. Подошли студенты.
— Простите, одну минуту, — обратился к Гумерсиндо студент-медик. — Вы, может быть, скажете, что не мое это дело… Но должен обратить ваше внимание на то, что девушка сейчас от сильного потрясения…
— Да, да, я согласен с вами: она взволнована и все прочее. Но это не дает ей права оскорблять кого бы то ни было. Тем более нас, представляющих здесь то, что мы представляем.
— Я это понимаю и совершенно с вами согласен, — ответил студент примирительным тоном. — Единственно, что я хочу сказать, так то, что естественно и извинительно человеку в подобных условиях потерять контроль над собой, тем более девушке, в состоянии нервного шока…
— Но вы также должны понять, что мы здесь выполняем постановление, специальную инструкцию относительно того, как действовать в подобных случаях, и ответственность наша велика, так что нам вовсе ни к чему неповиновение и сопротивление, которое оказала нам эта сеньорита.
— Никто с этим не спорит, мы совершенно с вами согласны, я просто хотел попросить вас о снисхождении, чтобы вы учли, под каким впечатлением она сейчас находится, ведь в таком состоянии девушка не может отдавать себе отчет в том, что говорит. Только об этом и идет речь, мы просим извинить ее и не принимать к сердцу ее слова.
— Да, да, ясно, что мы здесь лишь выполняем свой долг, но вы заметьте — дело это очень серьезное, как вы сами понимаете, а вот не все и не всегда знают, насколько оно серьезно и что мы при исполнении служебных обязанностей, а раз их на нас возложили, это, наверно, тоже не зря, а, как вы думаете? А некоторым кажется, что это игрушки, верно? И не понимают, что совершают преступление, ни больше ни меньше, как уголовно наказуемое преступление, вот что. Вот и посудите, можем ли мы позволять… — Он убрал записную книжку в карман: — Ладно, на этот раз ей сойдет, а наперед пусть думает. Надо немного прислушиваться к словам, которые произносишь. Простое волнение не дает права говорить что попало. Так что я вас предупредил.
— Ну хватит, — вмешался второй жандарм. — Теперь отойдите все отсюда, и не будем нарушать порядок. Шагайте.
— Будьте добры, — сказал первый жандарм, — разойтись по своим местам. И держитесь как положено, соблюдайте уважение к бренным останкам жертвы, а также к представителям власти. Сеньор следователь, должно быть, скоро уже прибудет.
Все отошли, встали вокруг Тито. Мели уже успокоилась.
— Это те ребята, которые бросились в воду спасать ее. Они сделали все, что можно, но было уже поздно, — вполголоса пояснял Себастьян.
Даниэль сел на песок рядом с Тито. Снова заскрипели доски мостика, вернулся Хосе Мариа.
— Мы пошли окунуться, — продолжал Себас, — смыть с себя грязь и пыль, так, зайти и выйти. Она первая пожаловалась, что ее раздражает грязь и песок. — Он обхватил голову руками. — И надо же было, чтоб мне пришла в голову эта злосчастная мысль! Как вспомню об этом, Мигель, убил бы себя, ей-богу!.. Хочется биться головой о стену, клянусь тебе. — Он помолчал и закончил потухшим голосом: — Хоть бы уж этот следователь приехал.
Все вокруг него молчали, глядя на реку, на редкие далекие огоньки. Хосе Мариа, ходивший звонить по телефону, уже подошел к своим друзьям.
— Все в порядке, — сказал он. — Я ничего не стал рассказывать, сообщил только, что мы приедем поздно, что опоздали на последний поезд. А рассказывать всего не стал, чтоб зря не всполошились.
— Правильно сделал. Ты же знаешь, что такое родители: скажи им только «утонул», они сразу начнут строить глупые предположения и не успокоятся, пока не узреют тебя. Расскажем завтра.
— А эти откуда взялись?
— Только что пришли. Тоже, видно, друзья девушки.
— Понятно.
Жандармы снова принялись расхаживать взад-вперед.
— Пока ты звонил, тут снова чуть не вышла заваруха.
— А что?
— Да ничего особенного, этих деятелей оскорбила одна из девушек, они не позволили ей открыть лицо мертвой и взглянуть на нее. Вздумали схватить ее за руку, а она чуть не кинулась на них, как пантера, обругала так, что один жандарм уже вытащил записную книжку, хотел записать ее имя, да вот он вступился и отговорил — настоящий дипломат.
— Слишком уж они держатся за инструкцию. Не возьмут в толк, что люди-то не каменные.
— Да и у них работенка незавидная, — сказал владелец губной гармоники. — Потому и лезут в бутылку из-за пустяков. Веселенькое дело — дежурить у трупа, отбывая номер до конца, и все за те же деньги. Так что сами понимаете.
— И это верно. Слушайте, есть у нас еще сигареты?
Тито и все, кто был с ним, сели. Только Мигель и Фернандо оставались на ногах. Сакариас, сидя рядом с Мели, глядел на тени, возникавшие в лунном свете, руками он пересыпал песок.
— Никак не могу поверить! — сказал Фернандо. — Бывают вещи, которые не можешь представить себе, какими бы реальными они ни были. Так и здесь: все ясно, я вижу собственными глазами, но не могу себя убедить, что это так, не умещается в голове.
Мигель молчал. Сакариас поднял руку, и песок посыпался между пальцами. Там, где стояли студенты, светился огонек, который двигался от одного к другому: они прикуривали.
— Утром такие веселые приехали…
— Так уж жизнь устроена, — сказал Макарио, — что в какой-то момент, когда этого меньше всего ожидаешь, возьмет вдруг да и трахнет тебя по голове. Ни о чем не беспокоишься, и вдруг — раз тебя дубинкой по голове!
Маурисио кивнул, соглашаясь:
— Да, действительно, кто мог сказать этой девушке, когда она утром вошла сюда, что уже больше домой не вернется, что останется здесь навсегда?
— На веки веков, аминь, — сказал пастух. — И кто мог сказать отцу, когда он провожал ее на пикник, что видит дочь в последний раз, что в последний раз целует ее?
— Вот именно! Именно об этом я сейчас думаю! — глухим голосом воскликнул мужчина в белых туфлях. — Я думаю о родителях, которые так внезапно потеряли дочь, в одно мгновение, раз — и никого нет… Вот она была, и нет ее — исчезла, будто молния. Когда такое случается из-за болезни, долгой ли краткой, все равно, конечно, тяжело, но это совсем другое дело. А тут, что говорить, еще утром видел ее здоровой и веселой, чего доброго, поставил для нее прибор к ужину, как вот сейчас наверняка сделали родители этой девушки, и ни минуты не сомневаешься, что она жива, а вот в одну секунду, мгновенно — бац! Телеграмма, записка, телефонный звонок… И ее уже нет. — Он сделал жест, как бы подводя черту. — Вот что меня ужасает.
— Все верно, — заметил шофер. — Страшное дело.
Мужчина в белых туфлях продолжал:
— Вот почему, когда кто-то умирает и начинаются охи да ахи, «бедненький» да «бедняжечка», я всегда задумываюсь: а как же те, что остаются? Ведь вот кому действительно больно, вот кого проняло до самых печенок! Их-то и надо жалеть. Я согласен, что девушка испытала страшную муку, это понятно, но сейчас-то она уже отмучилась, для нее все кончено. И сочувствовать теперь нужно не ей, а родителям, тем, кому еще долго будет больно, по-настоящему больно.
— Ну как можно говорить такое! — возразил алькарриец. — Как можно все переворачивать! Что уж так жалеть родителей: они свой век прожили, и от жизни им ждать почти что нечего. Иное дело молоденькая девушка, которая только начинает жить, только начинает входить во вкус жизни. Что из того, что она уже не страдает? Все равно она оставила этот мир, когда жизнь в ней кипела, когда ей только бы жизнью и наслаждаться. Вот чего жаль, и беда эта побольше, чем то горе, что ожидает ее родителей, во сто крат больше! Такое и сравнивать нельзя!
— Нет, дружище, тут мы с вами не сойдемся. При всем к вам уважении я смотрю на это дело с фактической стороны. Один факт, каким бы прискорбным он не был, уже свершился. Другой — растянется надолго: родители горевать будут до конца своей жизни.
— Э, нет, сеньор, это уж оставьте! Вы не берете во внимание такой вещи: родители, как бы им ни было тяжко сегодня, через восемь, десять, ну, сколько угодно месяцев или даже лет, если хотите, успокоятся, забудут о дочери, станут жить, как прежде, разве не так? А вот к девушке то, что было прежде, уже не вернется, то, что она потеряла, ей никогда не вернуть, смерть отняла у нее все, для нее все кончилось сегодня. И никто ей жизни не вернет, разве не так? А все остальное рано или поздно возвращается в прежнее русло.
— Да нет, это не так, ясное дело, не так, — сказал Кармело. — Тут не за что ухватиться. С какого бока ни посмотри, все равно плохо, как на кооперативной ферме. Плохо и лучше не будет. Такая же штука вот и с этой лютой смертью, чего уж хуже.
Алькарриец продолжал, обращаясь к мужчине в белых туфлях:
— Если б речь шла о какой-нибудь трясогузке, клянусь, я бы с вами согласился. Но когда речь идет о молодой девушке, как вот сегодня, тут дело поворачивается совсем по-другому. Ничего похожего.
— Вот чего бы я не стал говорить так уверенно, — сказал Лусио, — так это что жизнь молодым милее, чем старикам. Мне-то кажется, что чем ты старше, тем тебе жизнь дороже. К старости от нее много уже не возьмешь, тут я согласен, но кто вам сказал, будто за ту малость, что нам остается, мы не цепляемся куда крепче, чем в молодости за то многое, что нам было дано?
Мужчина в белых туфлях слушал с одобрением и собрался было ответить, но его опередил шофер, прервавший дискуссию:
— Ладно, при всем при том я и так пробыл с вами дольше, чем собирался. Давно уж нацелился уходить и все еще здесь. Так что ваш покорный слуга желает всем спокойной ночи и убегает. Мы в расчете?
Маурисио кивнул, и шофер быстро осушил свой стакан:
— С богом.
— До завтра.
— Завтра не приду, — обернулся он с порога, — послезавтра, наверно, тоже. Поездка в Теруэль, так что до среды, а может, и четверга сюда не загляну.
— Тогда счастливого пути.
— Благополучного возвращения.
— Спасибо, до свидания.
Шофер вышел.
— У этого тоже собачья жизнь, — сказал Лусио. — Черт-те что! Сегодня в Теруэль, завтра — в Сарагосу, послезавтра — в тартарары. И так без остановки.
— Ну, не скажите! — возразил Макарио. — Этому живется — лучше не надо. Хотел бы я так пожить. Мне бы хоть краешком глаза взглянуть на разгульное житье, какое он ведет в этих столицах. — Он произносил «кгаешком» и «газгульное». — Он там не теряется, я-то уж знаю. Шоферы — все равно что моряки, сами понимаете.
— Я этому не верю. Глупости, ну, выпьет водочки, что ж тут такого?
— Как бы не так, водочки! Я вам вот что скажу: хотел бы я на эту жизнь посмотреть, водочку он там пьет или еще чем занимается. Да и правильно делает, какого черта, если организм выдерживает? Мы все на коротком поводке или просто горемыки, потому что не хватает у нас духу наплевать на совесть и урвать от семьи какие-нибудь жалкие пять дуро. Тут нам за ним не угнаться. Кто как живет, в этом все дело.
— Послушай, Макарио, — прервал его Маурисио, — он мой клиент, и мне не нравится, что ты о нем здесь распускаешь слухи. Так что прошу тебя, прекрати эти разговоры.
— Ну конечно, он — единственный, кого мы здесь не обсудили.
— Я знаю, люди любят посудачить друг о друге, — сказал Маурисио. — Только учтите, в этом доме каждый завсегдатай — особа неприкосновенная. Всякий, кого я допускаю сюда, с той минуты, как он принят, может быть вполне уверен, что имя его будут здесь уважать как при нем, так и в его отсутствие. Тебе такая гарантия тоже дана, и тебе она приятна, верно? Так не нарушай ее в отношении других.
— А мне наплевать, что обо мне говорят, — засмеялся Макарио. — Всякое заведение теряет половину своей прелести, если там не соберешь сплетен, не почешешь язык.
— Мне можете об этом не говорить, — с горечью произнес мужчина в белых туфлях, — этой самой прелести у меня в салоне мужских причесок хоть отбавляй. Но вот мне от этой прелести, клянусь вам, проку никакого. И если бы все заведения, открытые для публики, как гигиенические, так и увеселительные, придерживались бы правил Маурисио, то этим воспитывалось бы уважение к гражданину. И от этого отношения в обществе между людьми не стали бы хуже, поверьте мне, они просто стали бы более культурными.
Из коридора появилась Фаустина:
— Маурисио, а куда ушли эти молодые люди? Выхожу я в сад прибрать за ними, думаю, совсем ушли, и вижу их велосипеды, в такой-то час.
— Несчастье у них случилось, разве не знаешь? Утонула одна девушка.
— Да что ты говоришь! Которая? Они же все были тут, в саду!..
— Нет, Фаустина. Они не все поднялись сюда, некоторые остались у реки.
— Ах, господи боже мой!.. — покачала головой Фаустина. — Какая беда! Хотя можно было ожидать… Приехали кто как, делали что вздумается… Как тут не быть беде? И гляди, какое страшное несчастье случилось, какой ужасный случай! Нет, я не удивляюсь, нисколько не удивляюсь… Видит бог, мне жаль девушку, но я не удивляюсь, могло случиться что-нибудь и похуже… — И снова скрылась в коридоре, продолжая ворчать.
— Интересно посмотреть на их лица, когда они вернутся обратно, — сказал Лусио.
— Так вы их увидите.
Стало тихо.
Заговорил Маурисио:
— Река эта — предательская. Каждый год кого-нибудь уносит.
— Да, каждый год, — подтвердил пастух.
— И всегда кого-нибудь из Мадрида, — заметил алькарриец. — Вот в чем штука; обязательно из Мадрида, других не признает. Вроде только мадридцы ей по вкусу.
— Вот именно, — согласился Макарио, — здешних, похоже, она знает и не связывается с ними.
— Скорей они ее знают и понимают, что с ней шутки плохи.
— Это верней будет, — сказал Амалио, пастух, — конечно, верней. Река она и есть река, очень ей нужно кого-то знать и с кем-то считаться. Правильно вы сказали. В разгар лета она такая, как сейчас, вроде и воды-то в ней кот наплакал, но ей это нипочем: пусть хоть треть воды в ней осталось — на тебе! — ухватит за ногу и заглотнет. Да еще как быстро, жадно, будто с голодухи. И кого она ухватит как следует, того из ее пасти не вытащит сам Тарзан с его гривой, ножом и штанами из тигровой шкуры. Ни за что!
— Что и говорить, — добавил алькарриец, — дорогонько обходится мадридцам неуважение к реке. Научатся плавать в бассейне и приезжают практиковаться на Хараму: ну, пустяки, она такая мелкая, бассейн и то в два раза глубже, вот и забывают, что в лесу и звери есть. Ну да, она мелкая, конечно, она летом мелкая. Только не знают они, что у здешних вод есть и руки и когти, словно у живой твари, и что река эта может схватить человека и заглотнуть его в мгновение ока, — вот чего они не знают.
— Это тебе не бассейн, — сказал Амалио. — Тут омуты, держи ухо востро! Смотри куда угодишь! У этих вод семь слоев со всякими ямами, водоворотами, двойным течением. Река — она как живая, в ней хитрости больше, чем у лисы, и коварства столько, будто в русле ее сплетаются не струи, а змеи. Это тебе не человек. Такой реке доверяться нельзя, она с подвохом. — И пастух засмеялся.
Алькарриец сказал:
— Зимой, зимой бы им приехать да посмотреть на нее, когда она взъяряется и нападает, тогда бы знала, с кем имеют дело.
— Хорошо сказано, — заметил пастух. — Приехали бы в марте, когда вода поднимается и река раздувает шею, как бойцовый петух перед дракой. Паводок так и гудит, и она уносит твой огород со всеми яблонями и глинобитными стенами, со всем, что там, за стенами, было, а потом, когда отхлынет, голое место останется — все равно что пляж, и нужны тут одни разноцветные навесы да будки, модные теперь в дачных местах, скажете — нет?
Присутствующие засмеялись, алькарриец пояснил:
— Ну как же у нее нет ни рук, ни когтей, когда она даже выворачивает из земли деревья? Разве вода сама по себе может такое?
— Не может, понятное дело, — подтвердил Амалио, пастух.
Он замолчал и с улыбкой всех оглядел. Обеими руками он опирался на посох, прижавшись к нему впалым животом, скрытым под необъятными штанами из желтоватого вельвета. Когда он стоял так, опершись на посох, плечи у него поднимались, так как роста он был невысокого, и под рубашкой проступали ребра и ключицы. Плоская голова уходила в плечи, и улыбка растягивала все его лицо, как бы сдавленное широким большим лбом сверху и квадратной, как у лягушки, челюстью снизу.
— Свирепа, ох как свирепа, когда разбушуется, — говорил он, опираясь на посох и слегка раскачиваясь. — Хоть и не из больших, но все же река, не ручей, нет, не ручей. Как в марте начнет вздуваться, так и закипит кровавыми струями, забурлит, будто похлебка на большом огне, и потащит на себе ветки и кусты, которые, как живые, ворочаются и прыгают на воде, понесет и виноградные лозы, и большие деревья, и мертвых животных — кошек, собак, зайцев со вздутыми, как шар, животами, и овец, и даже коров, потом она их, когда надоест тащить на своем хребте, оставит вонять на берегу, и нет скотины, поминай как звали. — Он все больше горячился. — Утащит у тебя овцу в Сан-Фернандо и отдаст ее на жаркое компании бездельников в Васиамадриде, снесет старую мельницу в верховьях и смирненько крутит всякие самые новые машины на фабрике, где крупу рушат, аж в самом Аранхуэсе. Поди потом угадай по отрыжке этих бродяг из Васиамадрида, мою овцу они съели или еще чью! Да и на здоровье, прах их побери! — Пастух засмеялся. — Коль река унесла у тебя что-нибудь, не горюй: внизу кто-нибудь выловит, кому повезет. Она у кого-то отнимет, кого-то одарит, наделает шума — сама себя и развлечет.
— Ну, знаете! — сказал Лусио. — Вы, кажется, хотите сделать Хараму такой многоводной, какой не сумели ее сделать самые большие дожди.
— Да, я тоже думаю, что нынче вечером у нас получился слишком уж высокий паводок, — улыбаясь, подтвердил Маурисио. — Если в августе она такая, то в феврале унесет всю провинцию. По-моему, вы самую малость преувеличили.
Пастух засмеялся:
— Конечно, вам просто так показалось. Все дело в том, как рассказать: если к какой-нибудь цифре добавить нолик-другой…
— Я вижу, вам нравится ее вздувать, — сказал Лусио. — Вы говорите, что река вас приводит в ярость, а сами воодушевляетесь и еще как распаляетесь, когда о ней рассказываете. Видно, в конце-то концов вы ей верите, правда?
— С надлежащим уважением, — ответил пастух, — и на расстоянии. Ополоснуть ноги да посидеть на берегу — вот и все доверие, которое я ей оказываю. А на что я люблю посмотреть, так это на первый ее наскок, когда она разъяряется, как бык, и набрасывается на все, до чего может добраться, я такое не раз видел. Зрелище это, честно скажу, мне по душе. Особенно первый наскок. Здорово!
— Должно быть, когда вы без овец.
— Конечно, скотина в загоне. Нет уж, пока я пастух, в Васиамадриде баранинки больше не поедят, даю вам слово.
— Интересно, как овцу могло унести так далеко, пусть даже при самом большом паводке. Как это случилось?
— Очень просто, — ответил, смеясь, пастух. — Во-первых, они такие тощие, крупный кузнечик и то больше потянет, а во-вторых, я все выдумал. И выдумывать это мне пришлось потому, что хозяин стал от меня требовать, чтоб я нашел овцу, которую унесла Харама, и показал ему шкуру, когда еще непогода не кончилась. И ругался последними словами. Я, конечно, ответил, что хорошо, мол, сейчас иду, пошел и взял колоду карт, да и просидел до самой ночи, а утром явился к хозяину серьезный, как король треф, и рассказал, что овечка пошла на обед бродягам в Васиамадриде, а шкуру ее продали за гроши первому встречному. Хозяин-то и принял все за чистую монету, — мол, что поделаешь, бог с ней, больше искать не надо. Он остался в полной уверенности, что так и было, потому что в деле совсем ничего, ну ничего не смыслит, а я преподнес ему этот бред с самым серьезным видом. Вот и вся история.
Мужчина в белых туфлях поднял голову:
— Вы нас очень развлекли, Амалио, порассказали про року и про все эти штучки, но сегодня она кому-то принесла большое горе.
— Так уж водится, — сказал пастух, — кому радость, кому слезы. Иначе и не бывает: одно и то же кого-то рассмешит, а кого-то заставит плакать. И на Хараме это не впервой, так бывало испокон веков. Сюда давным-давно приезжают купаться, еще войны в помине не было, а уже приезжали, так что это вошло в обычай с доисторических времен, и каждое, каждое лето тонут то три, то четыре мадридца. Как давно вы в Косладе?
— Скоро будет четыре года.
— Значит, провели здесь, по крайней мере, три лета, считая и это, а скажите, было ли хоть одно, когда кто-нибудь из мадридцев не погиб от руки Харамы? Несчастье это старое, всем известное, почти привычное дело. В этом году выпало оно на сегодня. Видать, дожидалось этого дня.
— На какой выпало, на тот и пришлось, — сказал Лусио. — Как номер в лотерее.
— Ну да. Только река все равно свое возьмет, — продолжал пастух. — И если б настало время, когда люди отказались бы входить в реку, она сама бы вышла искать людей.
— Это верно, она так бы и сделала, — согласился алькарриец.
Пастух засмеялся:
— Вот страх-то! Река оставила свое русло и гонится за тобой, извиваясь, как змея. Вы испугались бы, сеньор Лусио?
— Я слишком черствый стал. Она меня тут же выплюнула бы.
— Как знать, может, жесткий петух как раз ей по вкусу, — сказал алькарриец и зевнул.
В наступившей тишине Кармело взял свой стакан и отхлебнул. Лусио сделал знак Маурисио, чтобы тот наполнил стаканы.
— Каждый раз вы запаздываете, — сказал Маурисио мужчине в белых туфлях. — Допейте, я налью еще.
— Не надо, Маурисио, не наливайте мне больше, — отказался тот. — От таких дел и пить-то охота пропадает.
— Как хотите, — сказал Маурисио, убирая бутылку.
— От каких дел? — спросил Макарио.
Мужчина в белых туфлях посмотрел ему в глаза.
— Вот от таких, — и кивнул в сторону двери. — От этих самых.
— А, понятно.
— Глупо, конечно, но на меня это действует, — пояснил он, как бы извиняясь, — когда такое случается рядом с тобой, хоть ты и не имеешь к этому никакого отношения. Эту девушку я даже не видел, но вот прошли мимо меня ее товарищи — и этого достаточно, чтобы настроение у меня испортилось до утра. Что-то вроде дурного привкуса во рту, что ли, не знаю даже, как объяснить.
— Я понимаю, — сказал Макарио. — Это зависит от того, насколько ты впечатлительный. Одни больше — другие меньше. Есть такие, которые любят поглазеть на раненых или погибших в автомобильной катастрофе, а другие — наоборот, видеть такое не могут, вот вроде вас.
— Ведь каждый день читаешь в газетах о разных происшествиях со всеми подробностями — и хоть бы что, — продолжал мужчина в белых туфлях. — А вот когда сам соприкоснешься хоть… самую малость, мимоходом, как я сегодня, и уже ты под впечатлением, и дрожь пробирает, от которой никто тебя не избавит. Это вроде дурного знака, вот именно — вроде дурного знака.
— Да, да, я представляю себе, — сказал Макарио, уже не слушая собеседника.
— Например, сегодня я не смогу ужинать, вот до чего подействовало, — сказал напоследок мужчина в белых туфлях. — Испорчен ужин.
Следователя он увидел среди танцующих. Его русая голова возвышалась над всеми. Играли самбу. Следователь тоже заметил его и ткнул себя пальцем в грудь, как бы спрашивая: «Меня ищете?» Секретарь суда кивнул. Следователь, остановившись, извинился перед своей дамой:
— Прости, Аурорита, вон я вижу секретаря, пойду спрошу в чем дело.
— Ради бога, Анхель, не надо извиняться. Долг — прежде всего. — И она сдержанно улыбнулась.
— Спасибо, Аурора.
Он отошел, обходя танцующие пары, и остановился у кадки с пышной пальмой, где стоял секретарь. Тот сказал:
— Можно было и не спешить так, закончить хотя бы танец.
— Да уж все равно. Ну что?
— Позвонили из Сан-Фернандо, утонула девушка.
— Ну надо же! — поморщился следователь. — А кто звонил?
— Патруль.
Следователь посмотрел на часы.
— Хорошо. Вы взяли машину?
— Да, сеньор, она ждет. Машина Висенте.
— Черт возьми! Это ж черепаха.
— Другой не было. По воскресеньям, сами знаете, и такси не сыщешь, тем более сегодня, в первый день охоты на перепелов.
— Ладно, я пойду скажу, что уезжаю. Подождите минуту.
Пересек зал и подошел к столику:
— Мне очень жаль, друзья, но я должен вас покинуть.
Взял со стеклянной столешницы блестящую зажигалку и пачку сигарет «Филипс».
— А что случилось? — спросила девушка, с которой он танцевал.
— Утонул человек.
— В реке?
— Да, но не в Энаресе, не здесь, а в Хараме, в Сан-Фернандо.
— И ты, конечно, должен ехать туда немедленно?
Следователь кивнул. На нем был темный костюм и гвоздика в петлице.
— Что за дурной вкус тонуть в такой час, да еще в воскресенье, — сказал один из сидевших за столиком. — Сочувствую тебе.
— Он сам выбрал себе такую профессию.
— Так что до завтра, — сказал следователь.
— Подожди, у тебя тут еще есть. Допей, — предложил мужчина в очках, протягивая ему высокий бокал, в котором плавал ломтик лимона.
Следователь взял бокал и выпил до дна. Оркестр умолк. К столику подошли девушка в голубом платье и молодой человек в светлом костюме.
— Анхель уходит, — сказали им.
— Да? А почему?
— Его призывает долг.
— Вот досада, очень жаль.
— Мне тоже, — сказал следователь. — Счастливо повеселиться.
— До свидания, Анхелито.
— Всего хорошего. — Помахал им рукой, повернулся и пошел через танцевальную площадку к секретарю. — Я готов, — сказал он, не останавливаясь.
Секретарь направился за ним по широкому с лепным потолком коридору в вестибюль. Старый швейцар в ливрее с галунами и золочеными пуговицами отложил сигарету, завидев их, и устало поднялся со своего плетеного кресла.
— Доброй ночи, сеньор следователь, всего вам наилучшего, — сказал он, открывая стеклянную дверь с матовыми буквами.
За их спиной снова заиграла музыка. Следователь на мгновение оглянулся.
— До завтра, Ортега, — сказал он швейцару и вышел на улицу.
У тротуара стояла темно-коричневая «балилья». Шофер без пиджака прислонился к крылу. Поздоровавшись со следователем, открыл им дверцу. Прежде чем сесть, следователь задержался и посмотрел на ночное небо. Потом, согнув свое длинное тело, он сел в машину. За ним влез секретарь, и шофер захлопнул дверцу. Справа они увидели лицо швейцара, который глядел на них через стеклянную дверь с огромными матовыми буквами: «Казино де Алькала». Шофер обошел машину сзади и сел за руль. Он не сразу тронул с места, а сначала прогрел мотор. Потом плавно отпустил сцепление, и машина двинулась вперед.
Следователь сказал:
— Висенте, когда поедем мимо моего дома, пожалуйста, остановитесь на минутку. — И обернулся к секретарю: — Нужно дать знать матери, что мы уезжаем, пусть ужинают сами, не дожидаясь меня.
Проехали Пласа-Майор. Никого. Только тонкий силуэт Мигеля де Сервантеса на пьедестале, в шляпе с пером и при шпаге, посредине сквера под мирной луной. Из баров лился свет и табачный дым. Внутри смутно виднелись человеческие фигуры, сгрудившиеся у стойки. Автомобиль остановился.
— Висенте, — сказал следователь, — будьте добры, скажите горничной, что мы уезжаем в Сан-Фернандо и там можем задержаться на час-другой.
— Хорошо, сеньор следователь.
Шофер вылез из машины и позвонил. Немного погодя дверь открылась, и он стал говорить со служанкой, фигура которой четко вырисовывалась в освещенном изнутри проеме дверей. Он уже передал, что было велено, когда позади служанки показалась женщина постарше, которая, отстранив девушку, вышла на улицу и подошла к машине.
— Ты хочешь уехать совсем голодным, сынок? — спросила она, наклонившись к окошку. — Перекуси хоть немного. И вы тоже, Эмилио. Пойдемте в дом.
— Спасибо, сеньора, я уже поужинал, — ответил секретарь.
— Ну, тогда ты один. Куда спешить?
— Нет, мама, спасибо, но я не голоден, в казино перекусил. Когда вернусь. Оставь мне ужин на кухне.
Шофер сел на свое место. Сеньора недоуменно развела руками:
— Ну как же так? Когда ты вернешься, все будет холодное, ни вкуса, ни пользы. Это никуда не годится. Но раз ты не хочешь, поезжайте, поезжайте. Что с вами поделаешь! — И отошла от машины.
— Ну пока, мама.
Заурчал мотор.
— До свидания, сынок. — И вновь наклонилась к окошку, чтобы разглядеть секретаря. — До свидания, Эмилио.
— Доброй ночи, сеньора, — отозвался тот.
Шофер включил вторую скорость, выехав на середину мостовой, а дверь дома в это время закрылась. Потом он включил третью и выехал из-под арки на Мадридское шоссе. Слева в лиловато-молочном ореоле лунного сияния чернело огромное опрокинутое корыто холма Сьерро-дель-Висо.
— Вы предупредили эксперта?
— Да, сеньор. Он сказал, что приедет попозже на своей машине или сразу же, как мы ему позвоним.
— Хорошо. Значит, молодая девушка, да?
— Так я понял из разговора по телефону.
— Подробностей он не сообщил? Она — мадридка?
— Да, сеньор, он сказал, что она из Мадрида.
— Конечно, в воскресенье там все запружено мадридцами. В котором часу это случилось?
— Не могу сказать точно. Он позвонил в начале одиннадцатого.
Теперь они ехали прямо навстречу огням Торрехона. Следователь вытащил сигареты:
— Хотите, Висенте?
Шофер протянул правую руку через плечо, не оборачиваясь.
— Спасибо, дон Анхель. Вытащите сами.
Следователь вложил ему сигарету между пальцев.
— А вы, Эмилио, малым порокам не подвержены?
— Большим — тоже, спасибо, не курю.
Слева они видели залитую лунным светом долину реки Энарес, впадающей в Хараму. Секретарь покосился на гвоздику в петлице пиджака следователя. Огонек зажигалки осветил салон автомобиля. Шофер склонил голову набок, чтобы прикурить от зажигалки, которую держал перед ним следователь, и в то же время не спускал глаз с брусчатки, освещаемой фарами машины. Вдали, слева и чуточку сзади, смутно виднелись выступающие друг над другом плоскогорья, которые в лунном свете почти не выделялись на потускневшей, словно запыленной голубизне неба. Склоны плоскогорий цвета слоновой кости выдавались над равниной, словно лопатки на спине самой земли. Вдруг машину сзади ярко осветили. Прозвучал громкий, требовательный сигнал, и свет сместился влево, запели на брусчатке новенькие протекторы. Через секунду промчался мимо них вытянутый, прилизанный «крейслер», и два красных огонька стремительно умчались вперед.
— Американцы, — сказал шофер.
— Кто ж еще, — подтвердил секретарь.
— Да я номер разглядел. Так можно ехать хоть на край света.
— Конечно, так можно.
— Пока мы добираемся до Сан-Фернандо, они уже опять будут в Мадриде. Если, конечно, не разобьются в лепешку о какой-нибудь придорожный столб.
— Быстрей гонишь, скорей остановишься, — поддержал секретарь.
— Вот в чем наше преимущество: в коробке из-под хихонской халвы мы такой опасности не подвергаемся, — сказал шофер. — Должно же быть и у нас хоть что-то хорошее.
— А как же!
Следователь молчал. Проехали развилку, слева осталась дорога на Лоэчес, и въехали в Торрехон-де-Ардос. В пределах городка на шоссе было довольно светло от огней, еще горевших в домах, тут и там попадались люди, уступившие дорогу машине. Группы людей сидели в ряд или кружком у дверей закусочных. В раскрытые двери виднелись броские картинки календарей на ярко-синих стенах. Осталась позади колокольня, на ее черепичной крыше голубел лунный свет. Угловатая тень фронтона накрывала крыши домов. Дальше шоссе шло по равнине, спускавшейся к Хараме; за серебристой лентой реки виднелись вдали редкие огни Кослады и Сан-Фернандо. Шоссе, обсаженное деревьями, тянулось по прямой до Пуэнте-Вивероса. Переехав мост, они свернули с Главного шоссе и поехали по дороге на Сан-Фернандо-де-Энарес. Машина подпрыгивала на выбоинах и рытвинах. Следователь спросил:
— Жандарм сказал вам, где именно это произошло?
— У плотины.
— Вы знаете, Висенте, как спуститься к плотине?
— Да, сеньор.
У переезда шлагбаум был открыт. Машина проковыляла через пути. Впереди, по левую руку, силуэты высоких деревьев закрывали виллу Кочерито из Бильбао, только кое-где меж ветвей поблескивала крыша.
— Это уже девятый утопленник, которого я осматриваю на Хараме, — сказал следователь.
Шофер сокрушенно покачал головой.
— Вернее, восьмой, — поправился следователь, — потому что нельзя считать утонувшей ту девушку, которую жених сбросил с железнодорожного моста, помните, Эмилио?
— Да, помню. Года два назад.
Они снова повернули налево, проехали мимо виноградников, затем спустились направо, к закусочным возле плотины. Машина остановилась под большим деревом, несколько человек вышли из павильонов, а некоторые встали в дверях, чтобы посмотреть, кто приехал. Почтительно посторонились, пропуская следователя. От яркого света он прищурился. Висенте остался у машины.
— Добрый вечер.
Сидевшие за столиками умолкли и обернулись к вошедшим. У следователя были светлые, слегка вьющиеся волосы, и ростом он был намного выше секретаря и всех, кто стоял у стойки.
— Как поживаете? — спросила его Аурелия.
— Хорошо, благодарю вас. Скажите, пожалуйста, где находится жертва происшествия?
— Тут неподалеку, сеньор следователь, — ответила она, показывая рукой в сторону двери и налево. — Почти напротив. Отсюда было видно. Только перейти через мостик. Или же… Эй, Эрнесто! — крикнула она в сторону кухни.
Тотчас из-за колыхавшейся мешковины, которая заменяла здесь дверь на кухню, появился мальчик.
— Сними фартук и проводи сеньора следователя, — сказала Аурелия. — Быстро!
— Спасибо, не стоило его беспокоить.
— Еще чего не хватало!
Мальчик снял фартук.
— Да, вот что, сеньора: там, внизу, освещения нет, не так ли?
— Точно, сеньор, точно.
— Тогда не могли бы вы одолжить нам электрический фонарь?
— Электрический? Нет, сеньор, у меня такого нет. Я бы с радостью. — Она на мгновение задумалась. — У меня есть масляные фонари, такие четырехугольные. Могу дать, если вас устроит. Сейчас разыщем.
— Что ж, пусть будет масляный фонарь, — сказал следователь, — лишь бы светил.
Аурелия мгновенно обернулась к мальчику:
— Ну, ты слыхал? Быстренько в погреб, найди фонарь и сейчас же обратно. Там их два, возьми тот, что поновей. Бегом, понял!
Мальчик побежал.
— И сотри с него пыль! — крикнула она ему вдогонку. Затем обернулась к двери в кухню: — Луиса, Луиса!.. Принеси поскорее кувшин с оливковым маслом и новые фитили, они на полке, возле вытяжки!
— Сейчас, мама, — ответил молодой голос из-за дерюги.
Аурелия повернулась к следователю:
— Сейчас все сделаем.
— Большое спасибо, сеньора. Дома у меня есть карманный фонарик, но… — И он пожал плечами.
— Мы тут чем можем… Вы же знаете. Для вас нам никогда не трудно. — Она помолчала, потом продолжала, качая головой: — Жаль, всегда видим вас здесь только по таким печальным случаям, вроде сегодняшнего. Мы бы очень рады были принять и обслужить вас при других обстоятельствах, не таких, какие вас сюда приводят.
— Да, по такому случаю, как сегодня, вам бы лучше вообще меня не видеть.
— Конечно, сеньор следователь, конечно. При всем нашем к вам уважении — не видеть лучше.
— Разумеется, — рассеянно ответил следователь.
— Я хочу сказать, что все это вовсе не мешает вам как-нибудь в воскресенье приехать сюда с друзьями, чтоб мы могли принять вас, как нам хотелось бы. Не все же…
— Как-нибудь соберемся, большое спасибо.
Девушка принесла оливковое масло и фитили.
— Будем ждать, сеньор следователь. Принесла? Поставь тут. Интересно, о чем там мечтает этот бездельник? — Она заглянула в погреб: — Эрне-е-е!! Эрнесто! Что ты там делаешь? Почему застрял, хотела бы я знать?
Послушала, что тот ответил, потом сказала:
— Быстро неси сюда, как есть! Не понимаешь, что ли, сеньор следователь ждет?!
Она вернулась за стойку.
— Вы уж извините, сеньор следователь, от этого мальчишки столько же проку, как от картинки на стенке. Без конца с ним воюю.
— Ничего, не беспокойтесь.
Появился мальчуган.
— Я тебе велела пыль смахнуть, урод ты несчастный, а не начищать его до блеска, как церковную чашу! Давай его скорей сюда, горе ты мое!
Один из посетителей, стоявших у стойки, вступился за мальчика:
— Ты сама, Аурелия, своими бесконечными окриками сбиваешь мальчишку с толку.
— Помолчи-ка!
— Так мальчика не воспитаешь. Ты его только запугиваешь.
— Слушай, ну кто тебя спрашивает?
— Меня это возмущает, черт побери! — Он хлопнул ладонью по стойке и ушел.
— Гляди-ка ты! — сказала Аурелия, обращаясь ко всем стоящим у стойки. — Видали? Не постеснялся и сеньора следователя…
Те посмотрели на нее ничего не выражающим взглядом, промолчали. Аурелия пожала плечами, открыла фонарь и вытащила квадратную жестяную банку для масла.
— Разрешите, я вам помогу, — сказал секретарь.
— Вы запачкаетесь.
— Давайте я вытащу старый фитиль. Мне это интересно.
Аурелия сняла крышку с фитилем и отдала ее секретарю.
— Пожалуйста. Тут все грязное. Месяцев восемь уже не пользовались. С зимы.
Она принялась протирать тряпкой нижнюю часть банки, а секретарь палочкой вытолкнул из трубки, вставленной в крышку, остатки старого фитиля. Потом Аурелия взяла новый фитиль.
— Разрешите?
Секретарь отдал ей крышку, и она заправила в трубку новый фитиль. Залила масло в банку, пальцем сняв каплю с горловины кувшина. Надела крышку, проверила, хорошо ли закрылось. Поставила банку в специальное гнездо, сделанное в днище корпуса фонаря. Один из посетителей чиркнул спичкой и поджег фитиль.
— Прекрасно! — сказал следователь, когда фитиль загорелся.
Аурелия закрыла фонарь, огонек между четырьмя стеклами стал светить ярче. Подняла фонарь за ручку и подала его мальчику:
— На, держи, ты его понесешь. Гляди не урони!
— Не обязательно ему идти, — сказал следователь. — Мы сами понесем фонарь.
— Оставьте! Сами понесете! В таких нарядных костюмах. Мальчик понесет, не надо вам пачкаться. И пусть он идет с ним впереди, тогда будет видно, куда ступать, а то там дорога плохая.
— Тогда пошли. Большое спасибо, сеньора, скоро увидимся.
Следователь обернулся к сидевшим за столиками:
— Всего доброго.
В зале послышалось невнятное бормотание. Аурелия проводила их до порога.
— Вон там, понимаете? Только перейти мостик. А на той стороне вы сразу увидите патруль. Мальчик вас проведет.
— Понятно, — сказал следователь, пускаясь в путь.
Секретарь взял из машины папку с бумагами и одеяло. Они прошли под большим деревом, закрывавшим луну и покрывавшим все вокруг своей густой тенью. Выйдя из-под дерева, пошли по узкой тропинке среди бурьяна и ежевики, идти пришлось гуськом. Мальчик шел впереди, стараясь как можно выше держать фонарь, который в его худой и длинной руке раскачивался на ходу, за ним чернел коротенький силуэт секретаря, лишь блестели розовая лысина и очки в металлической оправе, последним шел высокий светловолосый следователь, который немного поотстал и теперь широко вышагивал длинными молодыми ногами. Вышли на берег высохшего рукава, и в нескольких шагах от мостика секретарь остановился.
— Подожди, мальчик.
Тот встал. Секретарь обернулся к следователю.
— Сеньор следователь.
— Что такое, Эмилио?
— Я постеснялся сказать вам раньше, дон Анхель, вы не поглядели на ваш лацкан?
— Нет, а что? — И, наклонив голову, увидел гвоздику. — Черт возьми, вы правы. Совсем из головы вылетело. Спасибо, что вовремя предупредили.
Он подошел к секретарю поближе, подставил ему грудь.
— Будьте добры, отцепите. Изнутри приколота двумя булавками.
— Мальчик, посвети-ка.
Парнишка повиновался и поднял фонарь, насколько позволял ему рост; при свете фонаря волосы следователя отливали золотом. Секретарь, глядя в очках на лацкан пиджака следователя, все никак не мог управиться с булавками. Наконец они были извлечены, и следователь вытащил цветок.
— Спасибо, Эмилио. Идем дальше.
Три фигуры гуськом прошли по мостику. Мальчик по-прежнему шел впереди с фонарем, качавшимся в его вытянутой, худой и длинной руке. Следователь, который шел последним, бросил цветок в ил, доски скрипели, прогибаясь под ним. Когда они сходили с мостика, в свете масляного фонаря сверкнула прорезиненная ткань треуголки жандарма Гумерсиндо, вышедшего им навстречу.
— К вашим услугам, ваша честь.
Песок приглушил щелканье каблуков.
— Добрый вечер, — сказал следователь. — Посмотрим тело.
Они подошли к берегу. Все встали и молча окружили труп. Грохотал водоспуск. Следователь взял мальчика за плечи.
— Подойди поближе, голубчик, стань здесь. Держи фонарь повыше. Не бойся.
Мальчуган вытянул голую руку прямо перед собой, удерживая фонарь на весу над трупом.
— Приступим к осмотру, откройте, — сказал следователь.
Молодой жандарм выступил вперед.
— Постойте, не вы. Секретарь.
Тот наклонился над трупом, поднял платье и полотенце, которыми он был прикрыт. Голубоватую белизну кожи оттенял черный купальник. Следователь наклонился и осмотрел тело.
— Положите на спину.
Секретарь приподнял труп, перевернул его. К левому боку прилипли песчинки. Следователь отвел волосы с лица.
— Дай-ка мне фонарь.
Взял фонарь из рук парнишки и поднес его к лицу Луситы. Зрачки были мутны, как покрывшиеся пылью осколки зеркала или маленькие кусочки жести. Рот открыт. Губы вытянулись, и рот походил на рыбий. Следователь поднялся.
— Когда вы сюда пришли?
— Мы, ваша честь?
— Да, конечно.
— Мы, ваша честь, пришли сюда в тот самый момент, когда эти молодые люди вынесли на берег пострадавшую.
— В котором часу?
— Примерно в двадцать один сорок пять.
— Так. Значит, без четверти десять, — сказал следователь. — А о ком вы говорите?
— О нас, сеньор, — выступил вперед тот, что был медиком. — О нас четверых.
— Хорошо. Она купалась с вами?
— Нет, сеньор следователь. Мы бросились в воду, услышав, что зовут на помощь.
— Вы с берега видели, как это произошло?
— Было уже темно, сеньор. Видно было только какое-то движение на поверхности воды.
— Кто звал на помощь?
— Вот этот сеньор и эта сеньорита, они были в воде.
Следователь обернулся к Паулине и Себастьяну. Потом снова спросил студента:
— Вы можете определить расстояние, которое было в тот момент между ними и пострадавшей?
— Я думаю, метров двадцать.
— Не меньше?
— По-моему, нет, сеньор.
— И в воде не было никого, кто находился бы ближе к пострадавшей?
— Нет, сеньор следователь, больше в реке никого не было.
Следователь обратился к Себастьяну:
— Вы в принципе подтверждаете то, что говорит этот сеньор?
— Да, сеньор следователь.
— А вы, сеньорита?
— Тоже, — сказала Паулина, опуская голову.
— Не надо говорить «тоже», скажите: да или нет.
— Да, сеньор, да.
В ее голосе слышались слезы.
— Благодарю вас, сеньорита. — Следователь повернулся к студентам. — Кто из вас первым приблизился в воде к пострадавшей?
— Я, сеньор, — ответил Рафаэль. — Я наткнулся на тело у самой поверхности.
— Так. И в тот момент вы не могли определить, есть ли у пострадавшей признаки жизни или нет?
— Мог, сеньор, никаких признаков жизни не было.
— Благодарю вас. Пока что все. Прошу всех, кто со мной сейчас говорил и кого раньше опрашивали жандармы, не уходить. Если кто-то желает сделать какое-либо заявление motu proprio[30], также прошу остаться. — И обращаясь к секретарю: — Секретарь, займитесь переноской трупа и соберите вещи, принадлежащие пострадавшей.
— Хорошо, сеньор.
— Можете попросить трех-четырех молодых людей помочь вам в этом. Отнесите тело к дому Аурелии, пока не прибудет служитель морга. Жандарм!
— Слушаю, ваша честь.
— Позвоните по телефону служителю морга. Сейчас же. Скажите, чтобы немедленно ехал сюда и пусть встретится со мной.
— Слушаюсь!
— Нам надо как можно скорей отправить труп на судебно-медицинскую экспертизу.
К секретарю подошли Рафаэль и его товарищи. Тот, что был в мокрых брюках, сказал вполголоса:
— Давайте мы вам поможем, если не возражаете. Те ее знали, им трудней это сделать.
— Хорошо, помогите вы. Пойдемте. Мальчик, подойди, посвети.
Мальчик поднял фонарь, а секретарь развернул одеяло, которое принес с собой, и расстелил его рядом с телом Луси. Затем Рафаэль и студент в мокрых брюках перекатили труп на середину одеяла, закрыв его сначала с одного бока, а потом с другого.
— Вот так.
Секретарь принял от жандарма сумку и судок Луситы, а также взял ее платье и полотенце.
— Это все, что у нее было?
— Да, сеньор.
— Тогда пошли, но несите осторожно. Ты, мальчик, иди с фонарем первым, как шел с нами сюда. Сеньор следователь!
Следователь, смотревший на реку, обернулся:
— Готовы? Хорошо. Жандарм, позаботьтесь о том, чтобы все, кого я назвал, следовали за нами. Идемте.
Четверо студентов подняли тело. Владелец губной гармоники следил, чтобы середина одеяла не прогибалась, и поддерживал тело. Они молча двинулись в путь вслед за мальчиком, который нес фонарь. За ними шли следователь и секретарь, потом — друзья Луситы и последним, заложив большой палец правой руки под ремень карабина, шел жандарм. Осторожно перешли мостик, а потом те, кто нес труп, едва смогли пройти по узкой тропинке среди зарослей ежевики. Мальчик, чтобы лучше освещать этот трудный путь, повернулся к ним и шел теперь задом. Шипы и колючки цеплялись за одежду. Когда наконец добрались до большого дерева, вперед вышел следователь.
— Остановитесь здесь ненадолго. Я сейчас же вернусь.
Труп положили на землю между столов и стульев, которыми была уставлена маленькая терраса под деревом. Подошел Висенте, шофер, поглядеть на тело, слабо освещенное двумя еще горевшими лампочками. Подтянулись и остальные. Все ожидали следователя. Шагах в десяти от них бледный свет выхватывал из темноты оба механизма водоспуска: огромные зубчатые колеса, закрепленные на высоких железных балках в том месте, где кончалась набережная. Оттуда и доносился грохот падающей воды. Следователь столкнулся с пожилым жандармом, который вышел из закусочной.
— Дозвонились?
— Так точно. Он сказал, что сейчас же приедет.
— Хорошо, — сказал следователь, заходя в павильон. — Сеньора!
— К вашим услугам, сеньор следователь, — услужливо заспешила она, вытирая руки о фартук.
— Видите ли, мне нужно поместить куда-нибудь останки пострадавшей до приезда служителя морга.
Аурелия посмотрела на него в нерешительности.
— Сюда? — тихо спросила она. — Но, сеньор следователь, тут же еще полно посетителей…
— Я понимаю. Но ничего другого придумать не могу.
— Поймите меня правильно, сеньор следователь, если бы речь шла только обо мне… Если бы никого не было…
— Решайте сами. Обязать вас я не в силах. Вы вправе отказать в гостеприимстве телу пострадавшей.
— Ой, что вы, сеньор, разве я могу так поступить! Какой ужас! Так тоже нельзя, сеньор следователь. Я ведь это сказала только из-за посетителей, поймите меня…
— Сеньора, — прервал ее следователь, — причины тут не важны. Вы не обязаны давать мне объяснения. Меня только интересует, разрешаете вы или нет.
— А что мне прикажете делать, сеньор следователь? Как я могу закрыть перед ней двери? — Она подняла глаза. — Вы припираете меня к стенке…
— Мне очень жаль, сеньора, моя работа как раз и состоит в том, чтобы припирать людей к стенке. Иначе я не могу. Укажете место?
— Место? Может, отнести ее в погреб, как вы думаете? Это там. — И показала через плечо большим пальцем на дерюжную занавеску у себя за спиной.
— Отлично. Спасибо. Пойду скажу, чтобы несли. — Он вышел. — Можно нести. Хозяйка вам покажет, куда положить. — Повысил голос и поднял палец: — Жандарм! Пойдете с ними. Остальные подождите здесь.
— Слушаюсь, ваша честь.
Это ответил молодой жандарм. Следователь кивнул. Потом, пятясь, вошел в павильон, за ним шли пятеро, они несли труп.
— Немного приподнимите. Осторожно, здесь ступенька.
Все сидевшие в павильоне встали, обнажили головы. Молча стояли, повернувшись лицом к пострадавшей, которую проносили мимо них. Один из посетителей наспех перекрестился, звучно чмокнув свой большой палец.
— Сюда, — сказала Аурелия. — Тут шесть ступенек. — Она показала на вход в погреб за стойкой. — Постойте минутку.
Аурелия соединила концы гибкого провода, свисавшего со стены, и в погребе, за занавеской, служившей дверью, вспыхнул свет. Она поспешно отодвинула ее и держала, пока несли тело Луситы по ступеням и не прошли вслед за телом следователь, секретарь и жандарм. Они оказались в искусственном гроте, выдолбленном в известняковом основании высокого холма, который служил дому задней стеной. Грот уходил в глубь известняка метров на восемь-десять и имел метров пять в ширину и столько же в высоту, свод был обработан очень грубо, как, впрочем, и стены. Но неровную поверхность скалы упрямо белили на протяжении кто знает скольких лет, так что слой известки сглаживал теперь выступы и углубления. Тело Луситы опустили на землю.
— Вы останьтесь, остальных прошу выйти на улицу.
Пока его товарищи выходили, Рафаэль окинул глазами свод. Там и сям белизну побелки нарушали зеленоватые пятна сырости, с них свисали длинные пряди мха. Аурелия все еще стояла в проеме двери наверху лестницы из шести ступеней, вырубленных в скале, по которым они спустились в грот.
— Еще одна просьба, сеньора: нам нужен стол и три стула, если вы будете так любезны.
— Ваше слово для меня закон, сеньор. Сейчас принесут.
Следователь вытащил сигареты.
— Мы постараемся отпустить вас как можно скорей. Надо только выполнить необходимые формальности. Курите?
— Спасибо, сейчас не хочу.
У стены стояли три огромные бочки, несколько бочонков и тянулась вереница больших глиняных кувшинов, в глубине, по углам, видны были балки, печные трубы, черные от сажи, дроковые веревки, козлы, забрызганные алебастром, и доски для лесов, которые ставят каменщики; на земле кверху килем лежала старая лодка с покоробленными пересохшими боками, торчала железная печка, тут же — несколько сломанных стульев, тачка, дверь, бидоны и множество маленьких банок с краской. Рафаэль помог дочери Аурелии и мальчику внести стол и зеленые складные стулья. Стол поставили посередине погреба — девушка внимательно смотрела, как бы не ошибиться и установить его как раз под лампой. Вернулась Аурелия, на ходу разворачивая газету.
— Вы уж извините, сеньор следователь, но сегодня у меня не осталось ни единой чистой скатерти. В воскресенье пачкают все, какие есть. Было бы больше, и те бы запачкали. — И расстелила на столе газету.
Девушка и мальчик вышли.
— Так что не осудите, придется уж вам обойтись газетой.
— Спасибо, не беспокойтесь, — сказал секретарь. — Вполне обойдемся.
— Если еще что понадобится, вы знаете, где я. Просто покричите, я тут, за этой занавеской.
— Хорошо, хорошо, спасибо, — сказал следователь, и в голосе его слышалось нетерпение. — Пока больше ничего не надо.
— Ну, чтоб вы знали.
Аурелия снова поднялась по ступеням, опираясь руками о колени, и скрылась за дерюгой. Секретарь посмотрел на следователя:
— Точь-в-точь донья Лаура.
Оба улыбнулись. Молодой жандарм разглядывал хлам, сваленный в кучу в глубине грота. Следователь погасил сигарету о пузатый кувшин.
— Садитесь, пожалуйста.
Рафаэль и секретарь сели по обе стороны стола. Жандарм выковыривал что-то из пыли прикладом карабина. Это оказалась жестянка — старый автомобильный номер. Секретарь разложил бумаги. Следователь остался стоять.
— Ваше полное имя?
— Рафаэль Сориано Фернандес.
— Возраст?
— Двадцать четыре года.
— Социальное положение?
Секретарь записывал:
«Затем был допрошен свидетель, который заявил, что он — Рафаэль Сориано Фернандес, двадцати четырех лет от роду, холост, по роду занятий — студент, проживающий в Мадриде на улице Пеньяскалес, дом номер один, восьмой этаж, центр, грамотный, к уголовной ответственности не привлекался; упомянутый свидетель, будучи проинструктирован, предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний и приведен к присяге, заявил: „Перед лицом высоких блюстителей закона обязуюсь говорить правду…“»
— Итак, Рафаэль, скажите мне, как вы впервые узнали о происшествии?
— Мы услышали крики на реке.
— Хорошо. Скажите, вы установили причину этих криков?
— Да, сеньор, мы прибежали на берег, а крики все еще раздавались, и я увидел, что кричат два человека, которые стоят вместе в воде.
— Пострадавшая тоже кричала?
— Нет, сеньор следователь, если бы пострадавшая кричала, мы смогли бы отличить одни крики от других. Они были здесь, а она — там, то есть расстояние между ними было достаточное, чтобы не спутать их голоса, если бы девушка тоже кричала, я хочу сказать — эта, — и он кивнул головой назад, указывая на тело Луситы, которое лежало у него за спиной.
— Так. Значит, вы сразу же увидели в воде и пострадавшую, правда?
— Не так хорошо, как тех, ее почти не было видно. Но спутать это нельзя было ни с чем.
— Хорошо, Рафаэль, а какое расстояние, по-вашему, было в этот момент между нею и ее друзьями?
— По-моему, двадцать — двадцать пять метров.
— Хорошо, скажем, двадцать. Теперь, пожалуйста, расскажите, что произошло дальше.
— Ничего особенного, сеньор следователь. Значит, увидели мы девушку… Какое там девушку, мы тогда не видели, кто там, мы это узнали потом, а в тот момент мы только видели, что кто-то барахтается в воде…
Жандарм теперь спокойно стоял рядом с прикрытым телом Луситы, слушая Рафаэля. Секретарь записывал: «…различили человека, барахтавшегося в воде…» Следователь слушал стоя, опершись рукой на одну из больших бочек. Жандарм зевнул и поднял взгляд к потолку. Возле лампочки блестела на свету паутина.
Затем следователь спросил:
— Скажите, пожалуйста, как по-вашему, то, что вы видели, позволяет вам утверждать, не боясь ошибиться, что речь идет о несчастном случае, в котором никто не повинен, имея в виду при этом, что неосторожность также может быть поставлена в вину.
— Да, сеньор следователь, то, что я видел, дает мне достаточно оснований утверждать, что речь идет о несчастном случае.
— Хорошо. Большое спасибо. Вы свободны.
Секретарь написал: «Изложенное выше подтверждаю своей подписью».
Из-за занавески донесся голос:
— Разрешите войти, ваша честь?
— Можете идти. Кто там? Входите! Да, пошлите сюда, пожалуйста, вашего товарища, того, который говорил со мною на берегу.
— Да, сеньор, сейчас же ему скажу. Доброй ночи.
— Всего хорошего.
Из-за занавески появился какой-то человек с шапкой в руке. На лестнице он разминулся с Рафаэлем.
— Добрый вечер. Я служитель морга. Жду ваших распоряжений, сеньор следователь.
Он остановился в трех шагах от столика.
— Я вас узнал. Добрый вечер.
Человек подошел к столу.
— Послушайте, — продолжал следователь, — я пригласил вас, чтобы просить подготовиться к приему бренных останков девушки, утонувшей сегодня вечером. Мы скоро выедем, постарайтесь, чтобы все было готово, понимаете?
— Да, сеньор следователь. Все будет, как вы сказали.
Секретарь обернулся к выходу. По ступенькам спускался студент-медик.
— Хорошо, и, пожалуйста, не ложитесь спать, пока не прибудет судебно-медицинский эксперт. Обязательно.
— Да, сеньор следователь.
— Это все. Идите. Чем быстрей, тем лучше.
Спустившись с лестницы, студент ждал, не глядя в сторону стола.
— Тогда до свидания, сеньор следователь.
— До встречи. Подойдите, пожалуйста, садитесь.
Студент-медик, подойдя к столу, поздоровался со следователем легким поклоном. Служитель морга скрылся за занавеской.
— Ваше полное имя?
Секретарь записал в протоколе:
«Затем перед следователем предстал свидетель, заявивший, что прозывается и является доном Хосе Мануэлем Гальярдо Эспиносой, двадцати восьми лет от роду, холост, по роду занятий студент, проживает в Мадриде, на улице Сен-Бермудес, дом номер сто тридцать девять, четвертый этаж, корпус „Е“, грамотный, к уголовной ответственности не привлекался; упомянутый свидетель, будучи проинструктирован, предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний и приведен к присяге, заявил: „Перед лицом высоких блюстителей закона обязуюсь говорить правду…“
По существу дела: находясь на отдыхе с друзьями в день расследуемого происшествия неподалеку от места, именуемого „Плотина“, примерно без четверти десять вечера услышал крики о помощи, доносившиеся с реки, и с тремя своими товарищами бросился на помощь и увидел с берега, что, по-видимому, тонет человек примерно в тридцати пяти метрах от того места, где находился свидетель со своими друзьями, и не менее, чем в двадцати метрах от того места, откуда доносились упомянутые выше крики о помощи. Сочтя ситуацию угрожающей, незамедлительно бросились в воду свидетель Хосе Мануэль вместе с упомянутыми тремя его товарищами с целью прийти на помощь утопающему и поплыли к тому месту, где перед тем видели тонущего. Прибыв на это место, однако, утопающего не увидели, поскольку его снесло течением, и невозможно его было обнаружить, из-за чего не смогли немедленно извлечь из воды; свидетель показывает, что усилия его и его друзей, направленные на то, чтобы обнаружить утопающего, были безуспешными, и свидетель утверждает, что к нему и его товарищам, когда они находились в воде, присоединился еще один молодой человек, в котором он узнал одного из звавших на помощь и которому предложил немедленно отказаться от участия в спасении, поскольку тот плавал очень плохо, но последний не согласился и продолжал плыть, пока не выбился из сил. Через несколько минут была наконец найдена пострадавшая, и первым ее коснулся предыдущий свидетель Рафаэль, по призыву которого данный свидетель присоединился к нему вместе с остальными, в тот момент находившимися в воде, и тут же было обнаружено, что пострадавшая признаков жизни не подает, и ее доставили на берег, где положили на песок. На каковом берегу свидетель Хосе Мануэль, считая себя компетентным, поскольку является студентом-медиком, произвел осмотр и сразу убедился, что пострадавшая мертва. На вопрос сеньора следователя о том, может ли он с достаточной уверенностью утверждать, что речь идет о несчастном случае, не предполагающем вины третьих лиц, свидетель ответил утвердительно.
Изложенное выше подтверждаю своей подписью…»
— Благодарю вас, — сказал следователь. — Нет необходимости допрашивать двух других ваших товарищей. Вы все четверо свободны, можете уезжать, когда хотите.
— Ну, если мы больше не нужны…
— Нет. Всего наилучшего.
— Доброй ночи, сеньор следователь, доброй ночи.
Секретарь кивнул головой. Студент стал подниматься по лестнице.
— Да, простите, позовите сюда, пожалуйста, девушку. Ту, которая была в воде.
— Понял. Тотчас пришлю, сеньор следователь.
Студент исчез за занавеской.
— Хорошо бы девушка не заставила нас потерять много времени. Кажется, она не в самом лучшем виде для допроса.
Следователь снова закурил.
— Женщины! — сказал секретарь, качая головой.
Следователь пускал дым и разглядывал свод, потом сказал:
— Хороший получился погреб. Не так-то просто, наверно, было вырубить его в скале.
— Видно, сделан очень давно, — сказал секретарь. — Кто знает, сколько ему лет.
— Возможно, и веков.
— Может быть, и так.
Помолчали. Потом следователь сказал:
— Прохладное место, а?
— Еще бы. Летом только в таком месте и жить. Если бы у меня дома…
— Что и говорить. Я бы тоже. При нынешней погоде редко сыщешь такое место.
— Пожалуй, и вовсе не сыщешь… — И посмотрел наверх.
Занавеска отодвинулась.
— Вот и девушка, — сказал секретарь.
Следователь растоптал сигарету. По ступенькам спустилась Паулина. В руке она держала мокрый платок и шмыгала носом. Следователь остановил взгляд на мужских брюках, морщившихся под коленками, они были велики Паулине и висели на ней мешком.
— Я к вашим услугам, — сказала она тихим голосом, когда подошла к столу.
Скомканный платок она прижимала к носу.
— Садитесь, сеньорита, — сказал следователь. — Что с вами случилось? — мягко спросил он, показывая на ее брюки. — Вы потеряли вашу юбку на реке?
Паулина растерянно оглядела себя.
— Нет, сеньор, — ответила она, поднимая голову, — я так и приехала.
Губы у нее совсем побелели, глаза — покраснели. Следователь сказал:
— Простите, я было подумал…
Он смотрел на свод погреба, сжимая и разжимая кулаки. Наступило молчание. Секретарь уткнулся в бумаги. Паулина села.
— Я к вашим услугам, сеньор, — повторила она слегка в нос.
Следователь снова посмотрел на нее.
— Итак, сеньорита, — сказал он как мог мягче, — мы постараемся особенно вас не затруднять. Вы не будете нервничать, а я только попрошу вас ответить на мои вопросы. Не беспокойтесь, их совсем немного, я понимаю, в каком вы состоянии. Пожалуйста, скажите, как ваше полное имя?
— Паулина Лемос Гутьеррес.
— Сколько вам лет?
— Двадцать один год.
— Вы работаете?
— Помогаю матери по хозяйству.
— Где проживаете?
— Улица Бернардино Обрегон, дом номер пять, недалеко от Ронда-Валенсия. — И она оглянулась на дверь.
— Не замужем?
Она покачала головой.
— Умеете читать и писать?
— Да, сеньор.
— Под судом, конечно, не находились?
— Что? Нет, сеньор, я — нет.
Следователь подумал и спросил:
— Вы были знакомы с пострадавшей?
— Да, сеньор, я была с нею знакома. — И опустила глаза.
— Скажите, она вам не родственница?
— Нет, нет, просто подруга.
— Можете назвать ее имя и фамилию?
— Полное имя? Да, сеньор: Лусита Гарридо.
— Второе имя не помните?
— Второе?.. Нет, никогда не слыхала. Я бы вспомнила.
Следователь обернулся к секретарю:
— Не забудьте потом установить ее полное имя. Может, кто-нибудь другой здесь знает. — И снова обратился к девушке: — Лусита… А как полностью?
— Наверно, Лусия. Должно быть, Лусия. Да мы-то ее всегда звали Луситой. Или еще короче — Луси.
— Хорошо. Вы знаете, где она проживала?
— Минуточку… Улица Каравака, дом девять.
— Она работала?
— Да, сеньор. Этим летом она работала в компании «ИЛСА», торговала мороженым. Ну, таким, порционным, понимаете? Ну да, в киоске напротив метро, в Аточе…
— Понятно, — прервал ее следователь. — Сколько ей было лет?
— Двадцать один год, как и мне.
— Понятно, сеньорита. Теперь перейдем к происшествию. Постарайтесь рассказать мне по порядку все, как было, не упуская ни одной мелочи. Спокойно, не волнуйтесь, я вам помогу. Ну, начинайте.
Паулина поднесла ладони ко рту.
— Если хотите, подумайте. Только не торопитесь. Мы подождем. И не расстраивайтесь.
— Понимаете, сеньор следователь, мы перевалялись в пыли… они говорят, давайте окунемся, смоем грязь… Я не хотела, так им и сказала, что в такой час, уже поздно… а они все свое, что, мол, глупости, что может с нами случиться… И так настаивали, что я согласилась, и мы пошли в воду втроем… — Она почти плакала.
Следователь прервал ее:
— Простите, кто был третий?
— Тот, с кем вы говорили там, на берегу, Себастьян Наварро, он мой жених. И вот они и я, — я еще им сказала, не будем заходить далеко… — Она заплакала. — Не будем заходить далеко, а он: не бойся, Паулина… Мы были вместе, мой жених и я, а потом — где Луси? Это я ее хватилась. Да вон она, не видишь, что ли? А вода такая темная, я ее зову: Лусита! Чтобы шла к вам, что она там делает одна… А она не отвечает, мы ее зовем, а она, наверно, уже тонула… Я опять ее зову и тут кричу, боже мой, Лусита тонет! Не видишь, она тонет?! Я ему кричу, и мы оба видим что-то ужасное, сеньор следователь, ей, как видно, попала в рот вода, и она не могла ни позвать нас, ни сказать ничего, а только шевелилась так и так… это ужасно, махала только руками так и так… Мы стали кричать, кричать… — Паулина снова заплакала. — Потом слышим, бросились ее спасать, и я обрадовалась, сейчас ее вытащат, спасут, даст бог, подоспеют вовремя… И Себас, мой жених, он почти не умеет плавать, поплыл им навстречу… А ее уже и не видно, река текла быстро, унесла ее на глубину, к плотине… А я, бог ты мой, какой страх был, они ее все не находили и не находили, было так темно, и ее не видать… — Она окончательно разрыдалась, уткнувшись в скомканный платок, который все время держала в руках.
Следователь встал позади нее и положил ей на плечо руку:
— Успокойтесь, сеньорита, успокойтесь, ну…
Они в последний раз взглянули на море света: вдали мерцали бесчисленные огни муравейника, среди них вспыхивали синие, красные, зеленые огни торговых реклам, башни высотных домов вздымались плотными тенями, словно пики горной цепи, длинные вереницы фонарей тянулись вдаль, к полю, и терялись в черноте земли, над городом стоял фиолетовый нимб, будто купол из распыленного света. Они спустились с плоскогорья, и последний склон Альмодовара остался за их спиной. Теперь лишь луна, поднявшаяся довольно высоко, освещала поля. Брошенный в борозде велосипед они нашли по блеску никелированных частей. Сантос взял велосипед и, ведя за руль, направился к дороге. Кармен обняла его, прижалась, спрятала лицо у него на груди.
— Что случилось? — спросил Сантос.
— Ничего. Приступ нежности, — засмеялась она.
— Поехали, поехали, уже поздно.
Сели на велосипед. Когда выехали на Валенсианское шоссе, Сантос вдруг налег на педали, и они помчались на большой скорости. С ветерком пролетели Вальекас, улицы были уже пустынны. Снова выехали на шоссе, Вальекас остался позади, в лунном свете городок показался Кармен одним цельным силуэтом, четким, словно отлитым из гипса — сплошная ломаная линия крыш. Велосипед мчался, подпрыгивая на брусчатке шоссе.
— Как здорово, Сантос! Давай, жми!
Он чувствовал волосы Кармен у своего лица. Въехали на Вальекский мост, и девушка, изумленная обилием народа, огнями кинотеатров, баров и городским шумом, спросила:
— Что это?
Сантос притормозил, прилаживаясь к уличному движению.
— Это? Вальекас-Сити, пограничный город, — ответил он, смеясь.
Он лавировал, объезжая людей, заполнивших улицы.
Студенты ушли. Друзья Луситы молча сидели на стульях на террасе, под одной из еще горевших лампочек. Сидели, уткнув лицо в руки, скрещенные на столе. Сакариас смотрел на пожилого жандарма, который разговаривал с шофером Висенте. Из-за шума воды не слышно было, о чем они говорят. Оба стояли на дамбе, возле зубчатых колес, которые управляли затворами водоспуска. Шофер вытащил из кармана пачку сигарет, но жандарм отказался, он при исполнении служебных обязанностей. Внизу бурлила мутная вода.
— Да черт бы их побрал, эти обязанности! — сказал шофер. — Ну и служба у вас! Чего только вам не приходится терпеть.
— Сейчас нельзя: как выйдет сеньор следователь да увидит, что я курю, возьмет на заметку — и вот тебе проступок. Дождусь, когда все это кончится.
— Знать бы когда!
— Такие дела идут своим чередом, тут спешить не надо.
— Да я и не спешу. Какая может быть спешка в нашем, шоферском деле. По должности не положено. Жди и жди. Когда едешь, и то приноравливайся к машине. Она, знаете, больше семидесяти не дает, а ее прутом не подстегнешь. Так что и ей спешка заказана. Да оно и спокойнее, верно?
— Действительно, это так. Поспешишь — людей насмешишь.
— Вот именно. Дома у меня спрашивают: когда вернешься? Бывает, что и точно знаешь когда, но я все равно отвечаю: не знаю. Зачем им лишнее беспокойство причинять? Случись какая-нибудь поломка, авария, и ты знаешь, что никто тебя не дожидается и не думает; ах, что там с ним случилось!
— Конечно, при той жизни, которую вы ведете, так лучше, — ответил жандарм Гумерсиндо без особого интереса. Помолчав, добавил: — А теперь вам наверняка придется ехать в морг. Кому же еще?
— Я уж и сам опасаюсь. И это мне вовсе не по душе.
— Да почему? — возразил Гумерсиндо. — Обыкновенное дело. Мнительность, и больше ничего. Какая разница — живых возить или мертвых.
— Мнительность это или как вы там ни назовите, только мне далеко не все равно. Как и всякому, наверно, если говорить начистоту. — Он бросил окурок в черную воду и медленно выпустил дым, потом добавил: — Кому интересно возить в судке остывшую еду. Я-то в этом не нахожу никакого удовольствия.
В прямоугольнике света, падавшем из двери заведения Аурелии, Гумерсиндо увидел знакомый силуэт треуголки своего напарника, который выглянул, чтобы позвать Себастьяна. Тот прошел меж столиками и вслед за жандармом вошел в закусочную. Гумерсиндо возобновил прерванный разговор.
— Живые — опаснее, — сказал он. — От них только и жди неприятностей. А мертвецы, бедняги, плохого не сделают.
— Согласен, только все их побаиваются, а это что-нибудь да значит. У всех к ним одинаковое отношение.
— Я бы лучше согласился возиться с мертвыми, чем вечно воевать со всякими злоумышленниками да получать нагоняи от начальства. Поменял бы не глядя, честное слово.
— А я бы нет. Смейтесь не смейтесь, а со мной странная штука получается, когда я сталкиваюсь с покойником. Это уж точно, не раз со мной такое было. Знаете, что я чувствую, когда случается везти мертвое тело? — Тут он сделал паузу. — Мне кажется, будто сиденье остается грязным, след на нем, понимаете, какая глупость? И я даже не могу прикоснуться к нему, мне страшно, ну, как бывает с мышами или змеями, такая же мнительность или что там еще. И это чувство я испытываю потом много дней. Но в конце концов, конечно, забывается.
Жандарм покачал головой:
— Все это от воображения. У каждого свои причуды.
— Вот потому-то я и не люблю ими заниматься. Не то чтоб особая неприятность от них была, когда их везешь, это ведь совсем недолго, но потом много дней еще вспоминаю, что он вот тут сидел, и будто бы от него пристало что-то к сиденью, неизвестно что, а вот не идет все это из головы, и конец.
— Ну, если умер от заразной болезни, это еще понятно. Но здесь-то…
— В том-то и штука, — сказал шофер, — что для меня все покойники вроде бы заразные.
— Ерунда, предубеждение, надо только подумать, рассудить трезво, и можно от этого избавиться.
— Все это так, не спорю, но только чем глупее и бестолковее какая-нибудь мысль, тем труднее выкинуть ее из головы. Вот что такое эта самая мнительность, понимаете?
Друзья Луситы, притихшие, подавленные, неподвижно сидели за столиками. Вышел мальчуган и стал собирать столы и стулья, сложил их и убрал в сарай возле дома. Терраса опустела, остались только столы и стулья, занятые друзьями погибшей. Потом вышла дочь хозяйки, взяла метлу и принялась сметать затоптанные бумажки, кожуру от фруктов и бумажные салфетки, пустые пачки, окурки, пробки от бутылок из-под пива, оранжада и кока-колы, картонные подносы и расплющенные коробки из-под пирожных, скорлупу земляных орехов, клочки газет — все вперемешку с пылью, — следы прошедшего праздника. Девушка сметала мусор в небольшие кучки у края дамбы и сталкивала их метлой с цементного цоколя в воду. Мгновение они еще белели в стремительном потоке, а потом исчезали в темном водовороте водоспуска.
Снова вышел молодой жандарм, за ним — Себастьян и Паулина. Жандармы обменялись несколькими словами и громко объявили, что все могут уходить, что сеньор следователь всех отпускает. Молодые люди устало поднялись; тут же появился мальчик и убрал последние столы и стулья.
— А нам велено спуститься туда, — сказал молодой жандарм пожилому.
Висенте остался на террасе один. В закусочной уже почти никого не было, когда жандармы прошли в погреб.
— Ждем приказаний, ваша честь.
— Вы их отпустили?
— Да, сеньор.
— Хорошо, подождите здесь.
Следователь взял сумку и вещи Луситы и сказал секретарю:
— Теперь займемся этим.
Секретарь записал: «Затем приступили к осмотру, перечислению и описанию предметов одежды и личных вещей, принадлежавших пострадавшей, которые оказались следующими…»
Следователь открыл сумку и начал диктовать:
— Сумка матерчатая, платье из набивной ткани, шейный платок из того же. — Он складывал на стул предметы, которые называл. — Пишите: белье, два предмета. Записали? Теперь пара босоножек из… пластика, носовой платок, полотенце белое в синюю полоску, пояс пластиковый красный. — Следователь остановился. — Да, и купальный костюм, который на ней. Теперь посмотрим, что там еще. — Он сунул руку в сумку, где забрякали какие-то вещицы. — Гребенка, судок алюминиевый, вилка обыкновенная, салфетка, зеркальце, банка крема, предохраняющего от солнечных ожогов. — Он клал предметы в той последовательности, в которой называл их, на стол, возле бумаг секретаря.
Потом немного помолчал, пытаясь открыть маленький кошелек.
— Так, значит, кошелок замшевый голубого цвета, — высыпал содержимое кошелька на стол. — Посмотрим, что тут есть. — Сосчитал монеты. — Пишите там же: семь песет и восемьдесят пять сентимов мелочью, почтовая марка. — Он снова остановился, что-то рассматривая, и продолжал: — Брошка в виде собачьей головы. Добавьте в скобках: ценности не имеет. Губная помада и пять фотографий, — сосчитал он, не останавливаясь. — Кажется, все. Проверьте по списку на всякий случай.
Следователь закурил сигарету. Прошелся. Секретарь проверил список.
— Все правильно. Не пропустили ничего.
— Тогда едем. Собирайтесь. А вы можете нести наверх останки пострадавшей.
Жандармы подняли тело Луситы и вынесли его на террасу.
— Несем вам подарочек, — прошептал пожилой жандарм шоферу, когда они были уже возле машины.
— Что поделаешь! — вздохнул тот, открывая дверцу.
Труп поместили на заднем сиденье. Вышли Аурелия и следователь.
— Садитесь назад, к пострадавшей, — сказал следователь секретарю.
— Ну, вы уже знаете, сеньор следователь, — сказала на прощанье Аурелия, — что если захотите как-нибудь приехать, мы будем очень рады принять вас… И что…
— Хорошо, большое спасибо за все, сеньора, до свидания, — ответил следователь, садясь в машину.
— Какие будут приказания, ваша честь? — спросил пожилой жандарм.
— Никаких. Можете возвращаться к обычным обязанностям. Всего хорошего.
Хлопнули дверцы, и Висенте занял свое место.
— К вашим услугам.
— До свидания, сеньор следователь, — сказала Аурелия. — И помните…
— Прощайте, — резко прервал следователь.
На террасу вышли хозяйская дочка, мальчуган и еще два-три человека. Жандармы стояли почти по стойке «смирно», пока Висенте разворачивался. Он включил фары, свет выхватил из темноты зубчатые колеса водоспуска, гладкую поверхность водохранилища, мыс и мостик, стволы и кроны деревьев в роще, потом склон холма, огромную шелковицу и дорогу. Висенте дал газ, и машина взяла короткий подъем и поползла к виноградникам, обдав пылью и оставив позади неподвижные фигуры жандармов, стоявших навытяжку и отдававших честь. Проехав мимо виноградников, машина повернула влево и выехала на дорогу к Сан-Фернандо. До поселка не было и километра. Горели лишь уличные фонари, и светились еще двери некоторых закусочных. В машине молчали. Свернули по одной из улиц еще раз влево и выехали на большую круглую площадь, окруженную низенькими домами, с памятником и фонтаном посередине и одинокой сосной. По другую сторону площади открылся выезд из поселка, мимо монастыря и большой усадьбы, — к реке. Кладбище было внизу, не более чем в ста метрах от Харамы. На шум мотора выбежал служитель морга и открыл калитку. Висенте остановился на дороге. Следователь и секретарь вышли.
— Ну как, у вас все готово?
— Да, сеньор следователь, все в порядке.
— Тогда берите.
Служитель помог секретарю, и вдвоем они перенесли тело и положили его на мраморный стол. Потом сняли купальник. Секретарь продиктовал сведения о Лусите; составили и подписали документ о сдаче трупа в морг. Наконец секретарь забрал одеяло и купальник, и все трое вышли из помещения, оставив тело Луситы распростертым на столе. Служитель погасил свет и закрыл дверь на ключ.
— Ну, врачу уже есть чем заняться, — сказал следователь.
— Да, сеньор следователь. Счастливого вам пути.
— Спасибо. С богом.
Служитель закрыл калитку, и «балилья» снова стала подниматься к Сан-Фернандо, потом свернула на Алькала.
Они поднимались по склону к кафе. Шум водоспуска у них за спиной становился все глуше. Тито и Даниэль шли последними, перед ними — Сакариас и Мели. Когда все вышли на шоссе, Фернандо подождал их и сказал:
— Сакариас, ты ведь можешь ехать на ее велосипеде.
— Я об этом думал. Но что делать с ним потом?
— А-а… Не знаю. Не знаю, что мы будем делать. Но…
— Помолчи, Фернандо, — сказала Мели, — оставь ты это, ради бога, потом что-нибудь придумаем.
Тито догнал их.
— Нет, Мели, — возбужденно сказал он, почти прокричал, — надо теперь об этом думать, теперь! Кто пойдет сегодня и скажет ее матери? Кто? Кто явится к матери с ее велосипедом?
Они остановились на шоссе.
— Не кричи, Тито, прошу тебя, — плачущим голосом умоляла Мели, — не надо сейчас об этом, успеем еще подумать, не терзай ты мне душу!..
— Надо об этом думать, Мели, сейчас надо думать! Ну, кто ей скажет, кто?
— Тито, успокойся, — вмешался Даниэль, — что толку расстраиваться раньше времени.
— Но пойми ты, Даниэль, я просто в отчаяние прихожу, как подумаю, что надо идти к ее матери…
— Придется пойти, — сказал Сакариас.
— Да, Сакариас, — ответил Тито, — я тоже понимаю, что надо ей сказать. Вся штука в том, как? Ну как ей сказать?
Они двинулись дальше.
— По-моему, как ни скажи матери, что ее дочь умерла, все будет ужасно, — заметил Сакариас. — Нет тут выбора.
— Я просто в панике, — стонал Тито, — в панике!
— Ну, оставь… — сказала Мели. — Мы все пойдем, сколько нас тут есть. А сейчас не надо, пожалуйста.
— Да, надо идти всем вместе, — решил Тито. — Всем вместе. Иначе я не смогу.
— Никто бы не смог, — сказал Даниэль. — Если бы мне одному пришлось идти, я не смог бы даже подняться по лестнице, сбежал бы.
Мигель, Алисия, Паулина и Себастьян дожидались их уже возле кафе.
— Пусть кто-нибудь вынесет вещи, — сказал Себас, — мы положим их в коляску. Ждем здесь. Мне не хочется входить, если вы не против.
— Не беспокойся, — сказал Сакариас, — мы все сделаем сами.
Паулина осталась с Себастьяном. Остальные вошли. Мигель сказал:
— Добрый вечер!
— Ну как? Как дела? — спросил Маурисио. — Если бы вы знали, ребята, как мы вам сочувствуем в этом несчастье. Надо же было напоследок случиться такому, господи боже мой!
Мигель посмотрел на него, хотел что-нибудь сказать, но не знал что. Наступило молчание.
— Бывает и такое.
— Да. Будьте добры, получите с нас. Мы уезжаем.
— Сию минуту. Может, вам что-нибудь нужно…
— Спасибо, — ответил Мигель. — Мы пойдем заберем велосипеды.
— Подождите, я зажгу свет.
Мужчина в белых туфлях уставился в землю, алькарриец — в стакан. Кармело заглядывал каждому в лицо, пока они один за другим проходили мимо него в коридор. Когда они возвращались с велосипедами, в дверях кухни показались обе женщины, и Фаустина сказала:
— Боже мой, что за пикник у вас получился… Господи, такая молодая девушка! Вы даже не знаете, как нам ее жалко!
Фернандо собрал судки, которые Маурисио уже выставил на стойку. Остался один Мигель со своим велосипедом, он дожидался, пока Маурисио подсчитает, сколько с них. Наконец он расплатился и вышел. Себастьян завел мотор.
— Ждите нас у поворота с автострады, на углу улицы Картахена! — прокричал Мигель Себастьяну в промежутке между выхлопами мотора. — Понял? Там и поговорим!
— Хорошо!
Себастьян тронул и выехал на дорогу. Макарио и Кармело вышли к двери посмотреть, как они уедут. Алисия вздохнула:
— У кого еще хватит сил крутить педали до Мадрида?
— Хочешь не хочешь, а ехать надо.
Мотоцикл умчался, и теперь стало видно, как повернулся свет его фар при выезде на шоссе. Даниэль сел на велосипед последним, и все молча и быстро поехали. Макарио и Кармело вернулись к стойке.
— Бедняги!
— Они любили ее, — сказал Кармело. — Заметно, что все любили эту девчушку, которая утонула. Кто больше, кто меньше, но все плакали, это видно по лицам. Хорошо поплакали, и не только девушки, но и некоторые парни. Когда плачет мужчина, значит, его проняло как следует, перевернуло ему все нутро. — Он скрючил пальцы и поднес руку к животу.
— Неожиданное несчастье огорошит самого крепкого, — сказал пастух, — особенно если случается в праздничный день, когда человек весел и беззаботен и думает только о том, чтобы провести этот день интересно, как они говорят, лихо, вот и получается, что они вроде бы с неба падают сразу в преисподнюю.
Алькарриец сказал:
— С мадридцами такое частенько случается, и все из-за того, что в праздники на них удержу нет. Всякие происшествия бывают, когда они развлекаются, а не во время работы. И смертей по праздникам бывает больше, чем в будни. Вот как они проводят праздники.
— Это верно, — согласился пастух. — Забавы ради хотят луну с неба достать, ну, конечно, срываются и сами падают. Будто с ума посходили, все им невтерпеж, вынь да положь, такие отчаянные, что какой уж тут порядок, суматоха одна да неразбериха.
— И мне они кажутся такими, — заметил алькарриец.
— Ну, не стоит преувеличивать, любят они всякие пикники и забавы, только и всего. В Мадриде чего не найдешь.
— Мадрид — это самое лучшее, что есть в Испании, — вмешался Кармело, подкрепив свои слова категорическим жестом.
— Самое лучшее, — не спеша сказал Лусио, — и самое худшее.
Макарио допил свое вино.
— Ладно, — сказал он, — я думаю, сегодня мы всего навидались. Кто идет домой?
— Все, — ответил пастух. — Во всяком случае, мы с ним. — И потянул за рукав алькаррийца.
— Погоди немного, — возразил тот. — Ну кто нас гонит?
— Да нет, не гонят, сказано — домой, и все тут. Завтра рано вставать. Овечки только по холодку и едят. Чуть запоздаешь их выгнать, не притронутся к траве, жарко им, хоть и голодные. Завтра в пять, сам понимаешь, немного похлебки, чашку кофе — и пошел пятки бить о камни. Ты мою жизнь знаешь. Так что идем, Лиодоро, не задерживай меня, я имею право поспать.
— Ладно, приятель, ладно! Вот допью только. Гляди, какой ты себялюбец: из-за того, что тебе рано вставать, всех спать загоняешь. Пусти, порвешь мне рубашку, чем я тогда свое грешное тело прикрою!
Тот отпустил его, и он обернулся к Маурисио:
— Сколько с меня?
— Четырнадцать стаканчиков, — посчитал в уме Маурисио, — четыре двадцать, все.
Алькарриец вынул из карманчика на поясе одно дуро.
— Ваш покорный слуга тоже уходит, — сказал Кармело.
Все четверо расплатились.
— Спокойной ночи.
— До завтра, друзья.
— Прощай, до завтра.
Остались Лусио и мужчина в белых туфлях.
— И обязательно поужинайте сегодня, обязательно, — сказал Макарио мужчине в белых туфлях.
— Там видно будет, — сухо улыбнулся тот. — Прощайте.
Четверо ушли. Наступило долгое молчание. Мужчина в белых туфлях переступал с носков на пятки, не отводя взгляда от своих ног. Маурисио облокотился на стойку, подперев щеки ладонями, и голова его походила на огромный орех. Уставился в одну точку. Лусио поднял глаза к желтому некрашеному потолку, который в середине прогибался, словно какой-то огромный живот. Из трещины торчала щепа. Ставни были выкрашены в свинцово-серый цвет. Ножки столов выглядели слишком тонкими под толстыми мраморными досками. Полки, уставленные бутылками, казалось, вот-вот обрушатся на Маурисио. Вокруг лампочки вились маленькие темные мотыльки. За дверью в лунном свете виднелась полуразвалившаяся труба старой фабрики в Сан-Фернандо. На литографиях ничего нельзя было разобрать, потому что при электрическом свете они отсвечивали. Узкий дверной проем позволял видеть толщину глинобитных степ.
— Послушай-ка, а почему этот Оканья каждое лето приезжает к тебе?
— Ну приезжает, — ответил Маурисио. — А что ты спрашиваешь об этом сейчас?
— Да так, вспомнил. Значит, он тебя уважает?
— Наверно, уважает, — вмешался мужчина в белых туфлях, — раз уж сюда ездит. Для него немало потерять такое воскресенье, когда работы завались, при его-то выводке…
— Он хороший парень, — сказал Маурисио. — По-настоящему хороший.
— Это сразу становится ясно, как послушаешь его.
В разговоре человек себя показывает.
— Видно, хороший человек, несмотря на фамилию, — сказал, улыбаясь, Лусио. — Фамилия у него не ахти.
— Фамилия?
— Ну да — Оканья[31], как же еще, вам она ничего не говорит, а мне — много.
Маурисио, подняв голову, улыбнулся:
— А, понятно.
Помолчали. Снова заговорил Лусио:
— Дочка твоя рассказала нам, как вы подружились в больнице.
— Мы скрашивали друг другу больничную жизнь, помогали справиться с болезнью.
— Не очень уж страшной.
Снова тишина.
— А вы не ужинаете, Маурисио?
— Немного позже.
— Ради нас не задерживайтесь. Я уже ухожу.
— Нет, нет, не беспокойтесь. Мы же свои люди, я вам доверяю. Просто мне еще не хочется.
— Ну да, чего вам торопиться: завтра когда хотите, тогда и встанете.
— Я-то знаю, — вмешался Лусио, — что с ним сегодня. Он учуял чечевицу, так же как и я, и знает, что будет на ужин, а это его ничуть не прельщает. Так, что ли, Маурисио?
— Должно быть. Никогда я по этой чечевице не страдал.
— А ведь в некоторых домах это блюдо номер один. Ты, я вижу, разборчивый сеньор.
— Летом это блюдо тяжеловато, — заметил мужчина в белых туфлях.
И вдруг он передернулся.
— Что с вами? — всполошился Маурисио.
Мужчина в белых туфлях с трудом перевел дух:
— От одного упоминания… о еде. Я представил себе чечевицу… Видите? Такая ерунда! Говорил я вам, что слаб на это дело…
Лусио и Маурисио взглянули на него: он был очень бледен.
— Вы уж меня извините, — сказал Лусио, — никак не думал, что доставлю вам такую неприятность…
Тот держал руки возле горла и глубоко дышал. И вдруг его снова схватило, еще сильнее. Он зажал рот и выбежал за дверь. Маурисио пошел за ним. Послышался прерывистый кашель. Потом мужчина в белых туфлях вернулся, вытирая рот наглаженным платком, который не успел даже развернуть. Лусио спросил:
— Вывернуло?
Мужчина в белых туфлях кивнул.
— Ну, значит, избавились от всего дурного.
— Выпейте воды, — сказал Маурисио, возвращаясь на свое место за стойкой.
— Вот видите, какой спектакль я вам устроил на прощанье, — сказал мужчина в белых туфлях. — Такая досада! — Он грустно улыбнулся. — Меня нельзя никуда пускать.
Выпил глоток воды из стакана, который поставил перед ним Маурисио.
— Ну вот еще! Что за глупости! Чем вы виноваты, если на вас несчастные случаи производят такое впечатление?
— Вам лучше?
— Да, Лусио, большое спасибо. Извините меня.
— Будет вам! — сказал Маурисио. — Как будто человек может управлять такими вещами. Забудьте, пожалуйста, об этом.
— Ерунда получилась. Просто смешно. — Он немного помолчал в нерешительности. — Что ж, сеньоры, ввиду достигнутого успеха разрешите откланяться. Не буду вам больше докучать.
Маурисио рассердился:
— Да какая муха вас укусила? Из-за такого пустяка вы хотите уйти! Не валяйте дурака. Надо же, что ему в голову пришло! И думать не смейте!
— Да нет, и поздно уже, — упорствовал мужчина в белых туфлях. — Видно, первый час. — Он потрогал часы, не глядя на них. — До Кослады — кусок порядочный, а луна, того и гляди, зайдет, сейчас полнолуние. Успею ли я добраться до дома? Ведь придется в темноте шагать, по нашей-то дороге.
— Ну ладно, как хотите, — сказал Маурисио. — Раз так, ничего не поделаешь. Главное — не ломать ноги.
— Сколько я должен?
— Шесть сорок.
Мужчина в белых туфлях вытащил из заднего кармана потемневший от времени кожаный бумажник и вручил Маурисио семь песет, добавив при этом:
— Вот что… Если можно, я бы просил никому не рассказывать про эту глупость, ну, что меня вырвало. Мне даже как-то неприятно подумать, что кто-то узнает. Хорошо?
— Знаете что, — сказал Маурисио, — вы меня обижаете такой просьбой. Мне даже странно, что это говорите мне вы. Во-первых, вы не знаете своих друзей. А во-вторых, не знаете моего обычая: в моем доме никого за глаза не обсуждают. Ясно? Тут вы дали маху. Держите шестьдесят. — И протянул ему сдачу.
— Простите, Маурисио, еще раз извините, — сказал мужчина в белых туфлях, принимая мелочь. — Сегодня я что-то все говорю невпопад. Видно, не в ударе. Может, высплюсь и завтра проснусь другим. — Он спрятал бумажник. — Значит, до завтра, спокойной ночи.
— До свидания, — ответил Маурисио. — Вам не в чем извиняться. И пусть луна вам светит до самого дома.
— До завтра, — попрощался Лусио.
Мужчина в белых туфлях мгновение постоял на пороге, глядя, высоко ли луна. Потом обернулся и с серьезной улыбкой сказал:
— Дойду еще при луне. Всего. — Поднял руку и вышел.
— Ну и парень! — сказал Лусио, когда тот ушел. — Клянусь, он мне нравится.
— Человек он что надо, — неторопливо вымолвил Маурисио. — Подумать только, как его огорчило, что он потравил. Я даже удивился.
— Это задело его самолюбие, — сказал Лусио. — А в общем — кто его знает. Может, ему показалось, что для воспитанного человека такое непозволительно. Что-нибудь вроде этого.
— Я знавал и других людей, с которыми бывало точно так же. Если что-нибудь случается, они становятся как больные. Хоть бы этот случай их и не касался.
— И я таких встречал. Это люди впечатлительные, у которых сильные ощущения действуют на какой-нибудь орган, ну, там на печень, на желудок или еще на что-нибудь.
Внезапно появилась Хустина:
— Отец, вы сегодня не собираетесь ужинать? Все остыло. И плита уже совсем погасла, разогреть не на чем.
— Поужинаю, не беспокойся.
— Ну, мы с матерью ложимся спать. Так что управляйтесь сами. — Резко повернувшись к Лусио, она продолжала: — А вы что тут делаете до сих пор?
Голосу она постаралась придать побольше строгости.
— Я ждал, чтоб ты пришла, моя хорошая, и сама меня выставила за дверь.
— Ладно, ладно! Я думаю, что уже хватит! — Она провела ладонью у горла. — Насиделись!
— Так что? Ты меня выставляешь за дверь?
— Я? Боже упаси! Это дело отца. А еще лучше, если вы сами уйдете, как положено.
— Ты здесь главнее отца. Во всяком случае, для меня.
— Конечно, конечно. Отца, я вижу, вы покорили. Он уже не может ни поужинать, ни закрыть кафе, ни пойти спать — ничего. И все ради того, чтобы любоваться вами. Вы что же, думаете, все могут питаться воздухом, как вы, наподобие индийских факиров?
— Клевета, Хустинита, — рассмеялся Лусио. — Я ем, как все, только распределяю еду по-другому.
— То-то вы и стали как пугало! И нечего звать меня Хустинитой, я вдвое тяжелее вас. Ладно, — сменила она тон, — оставайтесь тут вдвоем и делайте, что хотите. Я пошла спать. До завтра, отец.
— Спокойной ночи, Хусти, отдыхай, дочка.
— А мне?
— Вам? — улыбнулась Хустина, сверху вниз глядя на сидящего Лусио. — А вам и «спокойной ночи» не скажу. Вы даже этого не заслуживаете. — И скрылась в коридоре.
Лусио потянулся:
— Что ж, дружище, послушаюсь я твою дочь. Пойду домой. Завтра у меня дела.
— У тебя?
— Удивляешься?
— Ну и ну, еще бы!
— Я не хотел тебе говорить, пока не буду знать наверняка, но, раз уж проговорился, скажу. Так, знаешь, ерунда, случайная работенка, на которую я наткнулся на днях.
— Тогда выкладывай.
— Да просто надо сделать замес-другой, то тут, то там — в окрестных деревнях. Булочки, торты и тому подобное, понимаешь? Есть один человек — кондитер, который ходит с праздника на праздник, он и приглашает меня в помощники. Месяца на полтора, дней по пять в неделю в каждой деревне. Завтра я первый раз встречусь с ним, и если увижу, что он — ничего, решусь. Ну, что скажешь?
— Да хорошо. Если дядька порядочный, ты неплохо заработаешь.
— Насчет денег я особенно не рассчитываю, много не будет. На вино да на табак — и то неплохо, верно? Единственно, чего я опасаюсь, — это своего возраста. Дядька этот меня в глаза не видал, и ему про мои годы не сказали. Договаривались пока что через третьих лиц. Поэтому я и боюсь: а ну как он от меня откажется, захочет молодого, который попроворнее.
— Да нет, не думаю. Тут важно умение. Разве дело в возрасте? Чем человек старше, тем больше у него опыта.
— Дай-то бог. Я бы с удовольствием. Уж не знаю, сколько лет вот эти руки не замешивали тесто. Ну вот, я тебе сказал, теперь пойду, и быстро. — Он уперся руками в колени, стараясь подняться. — Должно быть, уже поздно, и тебе пора ужинать.
Он встал.
— Без десяти час, — сказал Маурисио.
Лусио потягивался, одергивал брюки, сгибал в коленях ноги, затекшие от долгого сидения.
— Ну, пока, до завтра.
— Удачи тебе. Потом расскажешь.
— Конечно. Если только все это не окажется мыльным пузырем. Спокойной ночи.
Лусио вышел на дорогу и, встав у обочины, долго мочился, а луна уже почти касалась горизонта над холмами Кослады. Он услышал, как Маурисио за его спиной запирал дверь, и, когда он тронулся в путь, прямоугольник света, падавший из двери, уже исчез. Дорога вела меж оливковых деревьев до первых глинобитных стен Сан-Фернандо, снизу доносился шум воды у плотины, который внезапно стал глуше, когда Лусио достиг первых зданий. Это были совсем новенькие домики, кирпичные и нештукатуренные, большинство из них еще пустовало.
______________
«…Она снова входит в зону третичных отложений, и в Мехорада-дель-Кампо слева в нее впадает Энарес. В Васиамадриде принимает воды Мансанареса с правой стороны, ниже моста у Арганды; а у Титулсии в нее впадает ее левый приток — Тахунья. Она питает водой большой оросительный канал, именуемый Реаль-дель-Харама, и, наконец, в долинах Аранхуэса впадает в Тахо, который несет свои воды на запад, в Португалию, к Атлантическому океану».
Примечания
1
«Иностранная литература», 1966, № 9.
(обратно)2
См.: Камило Хосе Села. Семья Паскуаля Дуарто. Улей. М., «Прогресс», 1970, 1980 (2-е изд.).
(обратно)3
Дуро — денежный знак, равен пяти песетам.
(обратно)4
Сабас — уменьшительное от имени Себастьян.
(обратно)5
Мели — уменьшительное от имени Амелия.
(обратно)6
Тито — уменьшительное от имени Альберто.
(обратно)7
Во многих странах прививку оспы принято делать не на руке, а на бедре.
(обратно)8
Альпаргаты — матерчатые туфли на веревочной подошве.
(обратно)9
Паэлья — популярное блюдо испанской кухни из риса, мяса и овощей, род плова.
(обратно)10
Эстер Вильямс — американская пловчиха, рекордсменка 30-х годов.
(обратно)11
«Куин Мэри» — британский океанский лайнер, спущен на воду в 1936 г.
(обратно)12
Канте хондо (глубинное пение) — группа народных андалусских песен древнейшего происхождения (сигирийя, солеа, поло и др.); канте фламенко — более поздние андалусские песни (малагенья, петенера, гранадина и др.); отличаются друг от друга манерой исполнения.
(обратно)13
Булериа — народная андалусская песня, которая исполняется в быстром ритме под хлопки в ладони.
(обратно)14
Флета Мигель (1897–1938) — знаменитый испанский певец.
(обратно)15
Вероника — прием в тавромахии, при котором тореро ждет нападения быка, растянув перед собой плащ двумя руками.
(обратно)16
Хуана Безумная (1479–1555) — королева Кастилии с 1504 г., жена Филиппа Красивого (1478–1506); по преданию, сошла с ума от ревности.
(обратно)17
Асторга — город на северо-западе Испании.
(обратно)18
Хеди Ламар (наст. фамилия Кейсслер; род. в 1915 г.) — голливудская киноактриса чешского происхождения, звезда в 30–40-х годах.
(обратно)19
Большое спасибо (нем.).
(обратно)20
Шарло — так во Франции и Испании называют знаменитого комического киноактера Чарли Чаплина.
(обратно)21
Алькарриец — житель горного района.
(обратно)22
Гардель Карлос (1903–1935) — аргентинский певец, знаменитый исполнитель танго.
(обратно)23
Ногастый — прозвище, которым дразнили испанцев на Кубе в XIX в., в особенности во времена борьбы за отделение от Испании.
(обратно)24
Новены — церковные службы, повторяющиеся девять дней подряд.
(обратно)25
«Профиден» — название зубной пасты со смешным рисунком на тюбике.
(обратно)26
Убит (нем.).
(обратно)27
На широкую ногу (искаж. фр.).
(обратно)28
Кантинфлас (наст. имя Марио Морено; род. в 1911 г.) — знаменитый мексиканский комический актер.
(обратно)29
Хорхе Негрете (Хорхе Альберто Негрете Морено; 1911–1953) — мексиканский киноактер, певец.
(обратно)30
По собственному побуждению (лат.).
(обратно)31
Оканья — город неподалеку от Толедо, печально знаменит своей тюрьмой.
(обратно)
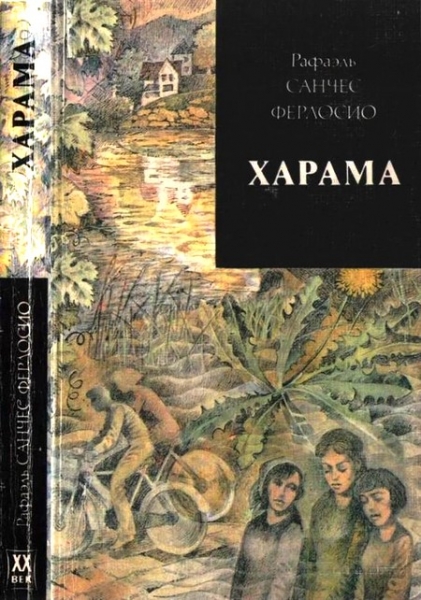

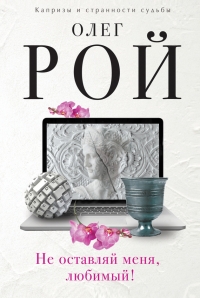




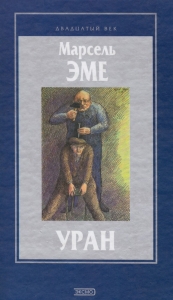
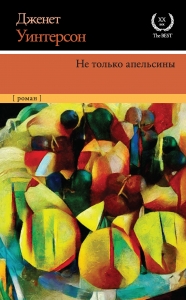


Комментарии к книге «Харама», Рафаэль Санчес Ферлосио
Всего 0 комментариев