Владимир Мощенко Голоса исчезают – музыка остается
© Мощенко В., 2015
© ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015
Глава 1. Джезказган. Степлаг. ЗЭК № СО-654
1
«Здесь шахт копры, породы глыбы, конвоя палец – на курке… А вы ноктюрн сыграть смогли бы в утробе штрека на кирке?» Невооружённым глазом видна истинная поэтичность этих строчек. Но многие ли ответят, кто их автор (особенно сегодня)? Увы! Да, поэт, если применить метафору обожаемого им Маяковского, и сам, как я понял, не очень-то верил, что когда-нибудь обнаружатся «железки строк», ему принадлежащие. Им, как поэтом, заброшенным в казахстанские дебри, мало кто интересовался: «Пишу я стихи. От стихов – ни мышиного писка: застыли, тихи, только в копиях машинописных». Уже поседевший и «придавленный всякими болячками», он прислал мне горестные, угловатые строки, резанувшие по сердцу не одного меня безысходным предощущением: «Никого не кляну, покаяний не жду. Неприкаянный, окаянный, я пишу это всё в девяностом году, неопознанный нуль безымянный». Он ничуть не ошибался в том, что никто перед ним и не собирался каяться, но был совершенно несправедлив в оценке своего литературного дарования и всего созданного им в поэзии и в прозе. Помню, как я читал и Александру Межирову, и Владимиру Соколову его стихотворение «Перед боем», датированное маем 1942 года и возникшее на Северо-Западном фронте, с такой концовкой: «Я присяги своей не нарушу. И не буду растяпой в бою. Ты поверь, старшина: я не струшу! Только я перед боем не пью». Их оценка была очень высокой. «Чьё это?» – спросили они. И я ответил:
– Юрия Грунина.
Он прислал мне из Джезказгана небольшую свою книгу «Спина земли», изданную крохотным тиражом в Астане (1999. Алем). На последней странице бумажной обложки книги – его портрет. Взгляд исподлобья, твёрдый, исполненный мудрости и неиссякаемой, вечной печали, углублённый в себя, не столько в будущее, сколько в своё прошлое, сравнимое во многом с кругами ада; его крутой лоб пересекает не морщина, а колючая проволока. В книге на титульном листе – автограф, где, кроме комплиментарных слов, воспроизводить которые нет никакого смысла, было сказано: «…моему дорогому „джезказганскому земляку“ с бесконечной симпатией. Юрий Грунин». Чтобы повести речь о Юрии Васильевиче, чей облик и чьё творчество просто потрясли меня, нужно ответить на вопрос: почему «джезказганскому земляку»? Для этого вернусь в июль 1941 года.
И начну я, пожалуй, с того дня, когда за мной в школу, во дворе которой уже было выкопано бомбоубежище, весело обживавшееся на переменках ребятнёй, чуть ли не прибежал мой отец, совсем не по-обычному растерянный и бледный. Он – неслыханное дело – вошёл прямо в класс в своей железнодорожной фуражке, даже не поздоровался с учительницей и велел мне:
– Давай собирайся. Побыстрее.
Он, не переставая, отирал рукавом пот с лица.
Мы жили тогда в Артёмовске (местные жители, особенно пожилые, называли его по-старому, по-дореволюционному – Бахмут), на Ворошиловской, почти сплошь одноэтажной, пыльной и начисто лишённой садов и скверов в отличие от большинства других улиц. От школы к нам – пять минут ходу, не больше. Отец, пока мы шли, сказал, что, как стало ему сегодня известно, наши родичи в Харькове погибли во время бомбёжки, и вообще там множество людей погибло. Я ездил к этим родичам в прошлом году на три дня; они работали на окраинном ХТЗ (тракторном заводе), искренне удивлялись моей наивной местечковости, часто, к моему удовольствию, катали меня на «своём» трамвае (кстати, трамвайные трёхкопеечные билетики я хранил как редкость в альбоме для марок).
С первого дня войны мы, не сговариваясь, выходили во двор в сумерках и, бывало, вслушивались, как немецкие самолёты, гудя в ночи, не спеша, будто куражась, двигались в сторону Никитовки и Горловки, где было очень много шахт и заводов, и вслед за тем на горизонте в темени вспыхивало в разных местах зловещее, пугающее пламя. Эхо взрывов к нам не доносилось.
Кто-то возмущался:
– Во, гады. Ничего не боятся. Почему их не сбивают? Почему?! Что, у нас зениток нету?
– Зенитки есть, – следовал ответ. – Предатели тут окопались, и диверсантов полно. Они фонариками фрицам показывают, куда бомбы сбрасывать. Я бы их сам расстрелял, бандюков, или повесил бы.
Никто не возражал.
И вот, едва поспевая за отцом, я услыхал от него, что нам надо спешить, что через четыре часа отойдёт эвакоэшелон с семьями путейцев. Времени у нас было в обрез. Но я всё же успел попрощаться с нашим ближайшим соседом, Никитой Алексеевичем, который преподавал в пединституте латынь, играл на пианино и слыл в городе оригиналом и обладателем лучшей коллекции джазовых пластинок. Он пил водку с сожителем моей бабушки гитаристом Пантюшей. И, кажется, пьянка длилась с вечера, и собутыльники-лабухи к ним наведывались.
– А нас, музыкантов, – сказал совершенно спокойно Никита Алексеевич, – отправят на фронт послезавтра – у всех повестки. Пантюша твой тоже отбывает со мною. Оно, пожалуй, и к лучшему. А то бы загремели как миленькие, куда Макар телят не гонял. Считай, нам повезло. – И добавил: – Ну, поцелуемся, что ли. Ведь не увидимся больше. Помнишь, как говорил Гектор Андромахе? Нет? Я же тебе сто раз читал! «Никто не избегнет своей судьбы: ни храбрый, ни трус». А сколько тебе стукнуло? Девять?
– Да. Вы же знаете.
– У тебя, юноша, всё впереди, тебе ведь ещё жить да жить. Расскажешь об этом дне своим детям и внукам. Иди, твои уже на выходе. Вон, дверь закрывают. – И вздохнул. – А зачем закрывать её? Надеются, что эта война через месяц-другой закончится? По-моему, ошибаются. А что, твой отец не вернётся сегодня домой?
– Не вернётся. Сказал: посадит нас в вагон – и сразу же, бегом на пункт сбора. Ладно, я тоже побежал…
– Обожди, – сказал Пантюша, от которого за версту разило спиртным, кучерявый, с аккуратной рыжей бородкой. – Я тоже тебя облобызаю. Бабушку твою, Анну Марковну, предупредить не успели. Вот незадача… Телефонов-то у нас нету. Мы люди маленькие. – Он сблизил большой и указательный пальцы. – Такие вот. Бестелефонные. Не проводит Марковна вас. Плакать будет всю ночь. Да. Подарил бы я тебе гитару… хм, да разве тебе дадут взять её с собой; на фронт я её возьму, если разрешат. Ну, брат, – решительно произнёс он, – долгие проводы – долгие слёзы. Ступай с Богом.
Я его впервые увидел плачущим. Странно, он никогда не плакал, даже когда его лупила моя бабушка почём зря. Это из-за водки, подумалось мне.
Нам было разрешено иметь при себе документы, причём – на каждого, справки с отцовской службы (обязательно!) и всего лишь два чемодана на всю семью. Было очень тепло, но мама надела на меня и на моего трёхгодовалого брата Бориса пальтишки, а свитера велела держать мне в руках. Мы и не протестовали, не до того нам было, бежали вслед за родителями, спотыкались на каждом шагу. У нашего эшелона в цепочку стояли несколько милиционеров в форме и вохровцы из управления дороги: пропускали только своих – приказ им такой был дан. Желающих покинуть город, не имевших никакого отношения к железной дороге, набралось очень много, а значит, были там и рыдания, и проклятия. А я, признаться, по-мальчишечьи радовался переменам, сдуру ощущал себя Робертом Грантом с яхты «Дункан» и Диком Сендом со шхуны-брига «Пилигрим», тому, что нам предстоит долгий путь, что я увижу новые края и меня ждут необычайные открытия.
Отец помог разместить наши вещи в товарном вагоне; мы всё-таки припозднились, и нам достался угол у стены – то есть самое плохое место. Все говорили, что семья начальника дороги Петра Фёдоровича Кривоноса расположилась то ли в первом, то ли во втором вагоне (пассажирском), – это как-то приободряло отъезжающих. Прощались, не притворяясь, будто уже скоро, завтра-послезавтра, опять будем вместе. Отец перекрестил нас, чего я от него никак не ожидал, да ещё сделал он это без оглядки, как бабушка. За цепочкой вохровцев я заметил протрезвевшего Пантюшу: он пытался угадать, в каком мы вагоне, и на всякий случай махал «динамовской» кепочкой. На первой же остановке нам доставили в вагон белый свежий хлеб, копчёную колбасу и клюквенную пастилу; больше подобная щедрость, к сожалению, не повторялась ни разу.
Что было потом? На станции Лиски нас бомбили. Все выскочили наружу, чтобы спрятаться под вагоном. Горели цистерны; от вокзала ничего не осталось. Въедливая гарь не давала дышать. Я уже не чувствовал себя ни Робертом, ни Диком. Хотелось убежать подальше от этого пекла куда-нибудь в степь, где ещё недавно так знакомо пахло чабрецом и нежной, серебристой полынью. К рассвету пути расчистили. Слава Богу, никто из эшелона не погиб. Когда лязгнули нещадно буфера и опрокинулось стоявшее у буржуйки цинковое ведро с водой, я ощутил небывалое счастье: я жив, все живы! Эшелон от станции к станции двигался быстро, но подолгу стоял на самих станциях, иногда по двенадцать-четырнадцать часов. Выходили, выкапывали в огородах свёклу, помидоры, картошку, капусту – в общем, что под руку попадалось; из нескольких припасённых кирпичей сооружали подобие печки, куда бросали всё, что могло гореть, варили супы и борщи. Дымок от этих «печек» волновал необыкновенно. После таких остановок кое-кого не досчитывались: появились отставшие от эшелона. Затем появились первые умершие – в основном маленькие дети. Поезд (по какому-то оговорённому сигналу) останавливался в степи всего на десять-пятнадцать минут; наскоро выкапывалась могилка – и усопших ребятишек опускали в неё в посылочных ящиках…
А мы ехали всё дальше и дальше. Уже где-то отцепили пассажирский вагон с семьёй Петра Кривоноса, чтобы она, по свидетельству информированных людей, сразу же направилась скорым поездом прямо в Алма-Ату: начальство всё-таки. Пётр Фёдорович – генерал-директор тяги II ранга, знаменитый на всю страну стахановец и Герой Соцтруда. Мы же, остальные, забрались прямо в какую-то тьмутаракань. Бесконечные пески, хилые растения, верблюды. Днём – жара, как стемнеет – холодает. Однажды ночью где-то остановились, и надолго, до утра. Обходчики с маслёнками проверяли буксы, стучали молоточками по колёсам. На нас смотрели без всякого интереса – как люди, привыкшие ко всему.
Их спросили:
– Где это мы?
Они ответили, что это Жарык.
– Тут нам и вылазить?
– Не-а, не тут. Ваши три вагона будут ещё дальше двигаться.
– Да куда же дальше-то?
– В Джезказган. Будто бы так. А вы что, не слыхали? Там в шахтах копают медь. – И сами спросили: – Среди вас, наверно, есть враги народа?
Мы возмутились:
– Какие враги народа?! Откуда?!
– Почему же тогда вас гонят в Джезказган, на край света? Там зона, там лагеря…
2
И вот он, этот самый край света.
Когда-то впервые оказался здесь и Юрий Грунин, которому посвящена эта глава моей повести. Судьба, к счастью, подарила мне заочное знакомство и переписку с этим удивительнейшим человеком. Из неё-то я и узнал, как произошла его встреча с Джезказганом. Пусть пока помолчит девятилетний мальчишка, чтобы мы услышали голос Юрия Васильевича.
Он писал, какое удручающее впечатление произвела на него эта terra incognita – пустыня Бетпак-Дала (Голодная Степь) с леденящими душу зимними буранами (снег ложится уже в октябре!) и палящим летним солнцем, самым подходящим пристанищем для Степлага, который, как говорил он, «заставил меня признаться: „что не жду никакого чуда, что погасла моя звезда, что везут меня ниоткуда, что везут меня в никуда“», что выбросили его сотоварищи на глинистой почве Сарыарка, то есть Жёлтого Хребта, а ещё точнее – Жёлтой Спины мелкосопочника.
Если и напоминала эта земля, как говорили романтики, уснувшего батыра, то батыра «обнажённого, с вытянутыми вдоль туловища руками», «распластавшегося ничком, бесчувственного ко всему»; «на его кое-где поросшей растительностью спине бугрятся мышцы, повторяющие собой рельеф лопаток, рёбер; тянется гряда позвонков… Каким ветром, откуда и зачем занесло на эту огромную спину маленького, ничтожного муравьишку?»
Грунин, живописец и поэт, даёт точную картину «края света», где он оказался по воле Сталина, о котором так вдохновенно пел акын: «Хотел я с солнцем тебя сравнить – не смог я с солнцем тебя сравнить». Одним, говорит Ю. В., – 1937 год, другим – ордена. В тридцатых «ретивый русскоязычный поэт-переводчик поведал миру от имени восточного поэта о том, что Сталин светлее солнца, и покатил он из Средней Азии в Кремль за орденом Ленина». А тут, Господи Боже… «Безводная полупустыня, старые шахты с почерневшей от времени деревянной обшивкой, приземлённый одноэтажный посёлок <…>. А за посёлком – глухая каменная, вперемежку с кирпичной, саманной и деревянной, ограда лагеря, и больше нигде ни жилья. <…> Ещё до войны „степной интернационал“, свезённый сюда, под присмотром конвоя обнёс себя стальной паутиной колючей проволоки. Здесь работали в шахтах и умирали от истощения и силикоза…»
Вот где мы, эвакуированные, покинули вагоны (от эшелона их осталось три – всего-навсего; остальные давно отцепили, а нас прицепляли в хвост к другим поездам). Ну вот, прибыли наконец. Темнело, становилось холодно; пришлось надеть пальтишки. Нас пересчитали какие-то люди (некоторые из них – с винтовками и фонарями) – вроде военных, что ли, проверили наши документы и объявили, что это, мол, действительно особая зона, но никто нас, эвакуированных, трогать не собирается. А жить, сказали нам, будете в тех четырёх домах, рядом со станцией.
– Их построили для вас зэки.
Незнакомое слово почему-то испугало меня.
Я спросил у матери: кто они такие, зэки? Она закрыла мне рот ладонью. Кто-то поинтересовался, куда же отсюда идёт дальше железная дорога. И прозвучало слово: никуда, тупик здесь. А кроме этих домов, больше ничего нет? Есть: столовка (талоны на первое время получите), и школа-семилетка есть. И всё? Не всё: километрах в десяти отсюда – соцгородок, там все должны отметиться, и лагеря исправительно-трудовые[1] невдалеке, рядом с которыми шляться вам не рекомендуется. Не положено – зарубите на носу. Сказано это было очень строго. Чтоб не сомневались.
На следующее утро, запомнившееся необыкновенной кроваво-красной зарёй[2], я вышел из нашей неказистой двухэтажки и осмотрелся. Метрах в двухстах обнаружилась столовка, над крышей которой из трубы валил сизоватый дым. Ветерок донёс оттуда запах готовившейся еды – кажется, щей. Сладостнее запаха я не знавал, даже готовка в дороге не так сводила меня с ума.
И как раз в эти минуты мимо столовой проходили под охраной конвоиров и овчарок заключённые: их частенько, как я убедился вскоре, водили из лагеря разгружать пульмана или, наоборот, заниматься погрузкой. Неожиданно из строя выскочили двое обезумевших бедолаг и тотчас рывком бросились к помойке, чтобы добыть картофельные очистки; на них тут же заголосили овчарки, а вертухаи принялись бить их нещадно по головам и спинам прикладами винтовок. Больше всех лютовал узкоглазый и дюжий рябой конвоир, которого подначивали дружки-садисты:
– Ну-ка, Аблай, врежь гадам, врежь, чтобы не залупались!
Одному из несчастных удалось подняться с земли и, харкая кровью, согнувшись в три погибели, втиснуться в строй, замерший и безмолвный. Второй зэк так и остался лежать неподвижно в луже; за ним через полчаса прибыла пустая полуторка, куда его и забросили, будто бревно.
Эта пора не прошла для меня бесследно и аукнулась в стихах и повестях; они-то и обратили внимание Юрия Грунина. Потому и назвал он меня своим земляком и радовался, как мне кажется, общению со мной (хоть и на расстоянии). В одном из первых писем Ю. В. спросил у меня разрешения использовать для эпиграфа к пятнадцатой главе своего романа «Живая собака» четыре моих строчки об отрочестве: «Я ещё ничего не теряю. Я ещё не любую строку, не любые слова доверяю по ночам своему дневнику». Они понадобились ему для откровенного разговора о довоенных годах. «Страшное слово – самоубийство, – писал он. – В особенности если какая-то проблема мучит несовершеннолетнего оболтуса – просто я имею авторское право называть себя так, как мне заблагорассудится. В пору своего несовершеннолетия я вёл дневник и загадывал о самоубийстве, прикидываясь на людях балагуром. А на самом деле в том возрасте иные личные проблемы кажутся неразрешимыми. Но эту трагедийную мысль, навеянную мистикой Есенина и Маяковского, я стеснялся доверять даже дневнику». Он настойчиво отгонял от себя эту мысль, страшился её дьявольских глубин. Не забыл, видно, как бабушка в детстве читала ему Евангелие, а он задавал ей бесчисленные вопросы, подчас, как он говорил, даже кощунственные. Бабушка усмиряла внука напоминанием о существовании всемогущего Бога и на примерах образно и ярко иллюстрировала мальцу это могущество: «Вот рассердится Бог, захочет – ноги отнимет, захочет – язык отнимет».
К сожалению, без неприятностей не обошлось. Как рассказывает Ю. В., когда ему было лет шесть, он перенёс сильнейший испуг: «В ногу мне попала швейная игла, причём никто – и я тоже – не знал об этом. Однако сильная боль дала себя знать; я вспомнил, что воткнул иголку в дощечку, а теперь этой иголки нет. Перепугал родителей. Игла медленно ходила в ноге от щиколотки вверх до коленного сустава (где ногу мне перевязали). Пришлось делать операцию…» Отсюда – заикание. Мы ещё припомним эту иглу в дальнейшем рассказе. В шестом классе Юра Грунин, блиставший успехами в рисовании, начал писать стихи, поражаясь этой своей способности. Он смотрел на себя как на отступление от общепринятого, бредя дореволюционным Маяковским и его «Человеком»:
Как же себя мне не петь, если весь я — сплошная невидаль, если каждое движение моё — огромное, необъяснимое чудо.А ещё – «Флейтой-позвоночником»:
Всё чаще думаю — не поставить ли лучше точку пули в своем конце. Сегодня я на всякий случай даю прощальный концерт.«Однако, – заметил Ю. В., – „концертов“ давать не приходилось. Правда, хотелось на школьных концертах прочесть свои или чужие стихи, как это делали другие». Но он заикался, стеснялся и вообще не слыл весельчаком.
Грунин и впоследствии не так-то уж просто сходился с каждым встречным-поперечным, даже с людьми известными, и не готов был вот так, запросто открывать душу, измотанную джезказганскими буранами и слепящим летним зноем, снами о симбирском детстве. Видно, с избытком накопилась горечь разочарований, утрат, в том числе любви, возникшей как редчайший цветок на выжженной почве Степлага. Даром ли у него родилось:
Полюбив меня из жалости — безрассудно, сумасбродно, всей душой ко мне прижалась ты, а ушла бесповоротно… Что-то в памяти разжижено, что-то вымылось бесследно. Я люблю тебя пожизненно. Не кори меня посмертно.Журналисты, бравшие у него интервью, отмечали, что к нему трудно было подобрать «ключи», потому что он всё меньше рассказывал о себе, а всё больше советовал искать ответы в его стихах.
Ему было присуще угрюмство, гениально опоэтизированное Александром Блоком, величайшим знатоком «сокрытых двигателей» выдающихся людей. Эту черту характера поэта Грунина заметил и Дмитрий Быков в еженедельнике «Собеседник» (№ 30, 1999), специально к нему ездивший в Джезказган: «С ним всё уже случилось, поэтому ни напугать, ни заинтересовать, ни даже соблазнить его славой уже нельзя. Среди разговора он вдруг спрашивает: „Так я и не понимаю, зачем вы приехали?“ Можно было бы сказать, что причина одна – на мой вкус, он один из крупнейших русских поэтов двадцатого века, и тексты его должны в сокровищницу этого века войти».
И тот сказал: «Я никогда не умел и не хотел себя навязывать».
Кому, как не Юрию Грунину, были предельно ясны мои строчки, продиктованные джезказганским детством: «Скажи, зачем из рук Аблая ты принял в юрте пиалу…» Да, отозвался Юрий Васильевич, тут ни прибавить ни убавить, на своей шкуре всё испытал. Может быть, наше общение и сподвигло Грунина напечатать в республиканском русскоязычном журнале «Нива» главу из «Жезказганских зарисовок», посвящённую всему этому (распечатка её у меня появилась благодаря хлопотам дочерей Ю. В. – Юлии и Ольги – и самой редакции).
Выражая им горячую благодарность, привожу здесь эту публикацию вместе с портретом автора, не нуждающимся ни в каких комментариях.
Более полувека я живу в Джезказгане, считаю его своим родным городом, пишу о нём. Джезказган вошёл в историю XX века и как город меди, и как космическая гавань, и как регион Степлага (кстати, первоначальная причина моего пребывания здесь). Вошёл Джезказган и в русскую поэзию. Время от времени в российской периодике появляются стихи о нём.
Журнал «Дружба народов» (№ 3, март 2000 года) открывается шестистраничной подборкой стихов московского поэта Владимира Мощенко, давнего члена Союза писателей СССР. В предисловии к стихам известный поэт Александр Ревич пишет: «Поэзия Владимира Мощенко – акт художественного дара и детской Веры. Встреча с ней возвышает и просветляет».
Одно из стихотворений я хотел бы сразу же привести здесь:
ПО ПУТИ В СОЦГОРОДОК
Вот ветер был за Джезказганом! Мы с мамой шли в соцгородок. И в этом воздухе стеклянном Уже я двигаться не мог. И вьюга мне глаза колола И люто била по ногам. А в это время наша школа В тепле читала по слогам. Я стал почти что как ледышка. Вокруг синё. Хоть волком вой. И вдруг я вижу: рядом – вышка, На ней – в тулупе часовой. Он закричал: «А ну, отрава! Погибель ищешь пацану? С дороги повертай направо. Давай скорей, не то пальну!» И тут я слышу голос зэка: «Ведь там сугробы, душегуб!» У пожилого человека Чернели корки вместо губ. Стоял он около подвала. И свирепел собачий лай. А мама до смерти устала. – Стреляй, – сказала. – Ну, стреляй![3]Прочитал я эти строки – словно с другом встретился. Написал несколько строк в «Жезказганскую газету», отнёс вместе с текстом стихотворения. Газета напечатала, и я её со своим письмом к Мощенко отправил в «Дружбу народов». Спросил поэта о пребывании в Джезказгане, полушутя поинтересовался ударением в фамилии: «Мощенко, как Зощенко, или Мощенко, как Шевченко?». О себе написал только то, что «около подвала» мог стоять и я, и у меня тогда «чернели корки вместо губ» – всё предельно ясно. А о том, что пишу стихи, упоминать не было причин. Его краткий ответ располагал к продолжению знакомства. Вот его письмо:
«Уважаемый Юрий Васильевич,
прежде всего искренне благодарю Вас за внимание к моей скромной персоне, за то, что совершенно неожиданно моё слово благодаря Вам отозвалось в Джезказгане, куда судьба забросила меня, второклассника, осенью сорок первого, во время эвакуации. Кстати, поделюсь с Вами намерением в ближайшую неделю закончить повесть „В Боровом в сорок втором“, где речь идёт об одном священнике, дьяконе, который служил в соответствии со своим саном в Новом Иерусалиме, под Москвой, а потом, как и многие, был арестован, попал в джезказганский лагерь, чудом остался жив и, освободившись, уехал к племяннице в Бурабай (там, на виду у красавицы Синюхи, я прожил целый год, ставший для меня особенным, незабываемым). Действие разворачивается довольно драматическое, порой трагическое.
Не сомневаюсь, что Вы, Юрий Васильевич, – интереснейший и благороднейший человек, чья весточка и чьё доброе слово стали для меня дорогим подарком.
Что же рассказать Вам о себе? Если в двух словах, то всё укладывается в одно предложение, включающее в себя бахмутское детство, эвакуацию, солдатчину в Нахичевани-на-Араксе, работу спецкором в газете ЗакВО „Ленинское знамя“ (в Тбилиси), Литинститут, командировку на два года в Будапешт, добывание военного стажа и… досрочное увольнение в отставку в звании полковника, всякие написанные мною книги, в том числе переводы, обращение в последние годы и к таким жанрам, как проза и критика… Понимаю, как это странно и недосказанно выглядит, но даже в двух томах не сумел бы сделать это лучше.
Моя фамилия звучит, как у Зощенко, которого обожаю.
Посылаю Вам книжечку „Родословная звука“.
Ещё раз – сердечное спасибо.
Дай Вам Бог здоровья и счастья.
Вл. Мощенко20.06.2000».Портрет автора напомнил мне одну из фотографий молодого Мандельштама: пропорциями лица, и каким-то отстранённым от жизненной суеты взглядом, что ещё более усилило мою симпатию к Владимиру Николаевичу, – я увидел в его взгляде пожизненный магнетизм Степлага. А книжечка «Родословная звука» сама раскрылась на развороте, проколотом скобкой-скрепкой, – там, словно мистика, оказалось стихотворение без заглавия, посвящённое Осипу Эмильевичу:
* * *
Мы живём, под собою не чуя страны.
Осип Мандельштам Итак, графа: особые приметы. Оставим без вниманья этот взгляд. Так смотрят перед гибелью поэты, Ничтожные, когда они раздеты. …С горбинкой нос, а также лысоват. Грудь и живот, напротив, волосаты. Вот отпечаток пальца. Вот цитаты. И что смеялся? Постарел. И нищ. Здесь нет ещё одной – последней – даты. Но всюду здесь сиянье голенищ.И опять, словно мистика: я люблю Мандельштама, ему посвящена глава «Век-волкодав» моей поэмы «По стропам строк» – с тем же самым эпиграфом «Мы живём, под собою не чуя страны». Ну как после всего этого мне не полюбить Мощенко? Пришлось сознаться, что и я пишу стихи и прозу. И отправил ему свою повесть о Степлаге «Спина земли» (она была опубликована в 1999 году в двух номерах «Нивы» и в том же году вышла книжкой в издательстве «Алем» в Астане). И заодно попросил посоветовать, в какой российский журнал мне обратиться со своими стихами. Ответ пришёл сразу же.
«Дорогой Юрий Васильевич!
Прежде всего – по поводу Вашей просьбы. Я разговаривал о Вас с заведующим отделом поэзии, членом редколлегии „Дружбы народов“ Владиславом Николаевичем Залещуком. Сказал самое главное. Договорились, что Вы пришлёте на его имя свои стихи и сошлётесь на меня. Если он отберёт что-нибудь (а на это мы и будем надеяться), то я напишу предисловие к подборке.
Спасибо за книгу „Спина земли“, в которой Вы, как и всюду, предстаёте человеком необычным, несомненно одарённым, про которого – вопреки Вашим строчкам – нельзя сказать, что не ждать ему никакого чуда, что погасла его звезда, что он – из „ниоткуда“ и держит путь в „никуда“. Может быть, чуть позже я напишу об этой книге статью. Во всяком случае, желание такое есть.
А пока мне хотелось бы посвятить Вам одно из стихотворений последних лет:
* * *
Юрию Грунину До чего ж облупился наличник! Стёкла выбиты. Кухня пуста. Я люблю этот мир, как язычник, Обретающий веру в Христа. На крылечке прогнившем – картонка. Здесь бутылки – каких только нет! Там, где прежде висела иконка, В полумраке колеблется свет. Я люблю этот мир, где разбито Не одно лишь в окошке стекло, Где в примёрзшее к почве корыто Столько ржавой воды натекло.Завтра вечером еду на десять дней в Переделкино. Вернусь – напишу более обстоятельно.
Ещё раз – спасибо за „Спину земли“. В ней – и судьба, и душа. А ещё, как сказал мой любимый Володя Соколов, в ней „мечется тень поэта…“.
Желаю Вам побольше здоровья.
Вл. Мощенко.9 авг. 2000 г.».Стихотворение, посвящённое мне, удивило меня самим фактом посвящения: оно было написано до нашего заочного знакомства, и вдруг теперь посвящается мне. Но, наверное, поэт уловил моё постоянное состояние души[4]: за мою жизнь «в примёрзшее к почве корыто столько ржавой воды натекло» – это я и есть то самое корыто, примёрзшее к Джез казгану.
И я написал ответное стихотворение, его опубликовала региональная жезказганская газета «Подробности»:
СОКРОВЕННАЯ ПРАВДА
Владимиру Мощенко В ружейном патроне скрыт будущий выстрел. В бумажной купюре скрыт золота звон. А что у поэта в дороге небыстрой, где золото пули, чем выстрелит он? Строка – его золото: выстрелом в сердце. В своё, коль строка его боли полна. Строка подтверждается жизнью и смертью. А если сфальшивит, то грош ей цена. Где правда? Иль в Ветхом и Новом Заветах? В заклятых запретах закрытых дверей? Бессмертная правда – в стихах у поэтов опалы, изгнания и лагерей, всех этих заложников злости и власти — тюремных загонов, замков и штыков, — чтоб не было ярких, без лести и сласти, солёных от слёз и от пота стихов. И ты, как старатель в своем Эльдорадо, не думай, что легче, а что тяжелей, — ищи, где она, сокровенная правда, найди – и в достойную форму отлей.И снова я написал письмо и отправил с газетой Владимиру Николаевичу, и снова получил ответное письмо:
«Дорогой Юрий Васильевич,
извините, ради Бога, за долгое молчание. Всё думаю, как Вы там в своём далеке. Напишите, пожалуйста, о своей жизни: каков сейчас город, с кем встречаетесь, работаете ли над чем-нибудь. Интерес у меня к Вам огромный, поэтому главная просьба моя: живите как можно дольше и будьте здоровы (хотя бы относительно).
За период август – сентябрь – начало октября я написал новый вариант повести „Ода Фелице“, который будет напечатан в ближайшие два месяца в одном из „толстых“ журналов, рассказ „Камень упал на кувшин“, а самое главное – книгу стихов „Вишнёвый переулок“. Там есть боровской цикл – его-то я Вам сейчас, прямо в этом письме, и представлю. Вдруг да понравится что-нибудь.
Что касается повести „В Боровом в сорок втором“, то после Ваших писем и Вашей книги „Спина земли“ я сказал себе: „Отставить!“. То есть будет лишь один Джезказган. Кроме того, у меня появилась идея ввести в повествование Ваш образ – в той мере, в какой это диктуется ходом событий. И поверьте, что он будет согрет теплом моего отношения ко всему, что связано с Вашей судьбой. Какие у Вас есть соображения по этому поводу?
Теперь перехожу к стихам.
Храни Вас Господь, дорогой Юрий Васильевич!
Ваш Вл. Мощенко.9. Х.2000.P.S. Колоссальная просьба к Вам. Мне нужно что-нибудь связанное с описанием природы Джезказгана, истории, географических особенностей. Может быть, Вы поможете с этим?
Послали ли Вы свои стихи в „Дружбу народов“ Владиславу Николаевичу Залещуку с напоминанием о том, что я это реко мендовал?[5]»
Наша переписка продолжается. Владимир Николаевич прислал мне подборку новых, ещё не опубликованных стихов, в них присутствуют и казахстанские эпизоды. Я попросил у поэта разрешения показать его стихи редакционному совету „Нивы“ – и с его согласия отправляю стихи Владимира Мощенко в наш журнал. Путь этих стихов: Москва – Жезказган – Астана. А я в данном случае просто почтальон Печкин. Но как член редакционного совета журнала – за их публикацию!»
3
Да, наше заочное знакомство продолжалось. Юрия Васильевича, по его словам, тронуло восторженное, братское к нему отношение Александра Межирова и Александра Ревича, которому, кстати, он завидовал, потому что тому удалось бежать из плена и, пройдя трибунал и штрафбат, вернув в конце концов офицерское звание, принять участие в Сталинградской битве. А о поэме Ревича «Начало» он писал мне, что его впечатлили строчки оттуда о родной земле, «безоружной, на поруганье оставленной без единого выстрела, без единого взмаха клинка», о безумном приказе эскадронам идти в атаку на немецкие танки, о том, что, «может быть, легче – пулю в лоб», чем эти пылящие колонны, эти согнутые плечи и колени «попавшей в плен, в полон разоружённой пехоты».
Как это могло случиться, думал Грунин, почему всё так произошло? Спустя десятилетия он продолжал размышлять: «Четвёртый курс художественного училища я окончил в 1941 году уже в дни вой ны, мне только что исполнилось двадцать. Зачем я отказался от пятого курса и пошёл добровольцем в армию, имея в военном билете запас второй категории? Зачем я с детства писал стихи и к девятнадцати годам добрался до публикаций в московских журналах, живя в Казани, в общежитии училища? Зачем я хорошо учился? Зачем по немецкому у меня все годы стояло „отлично“, и, к удивлению учительницы, я переводил из учебника стихи Иоганнеса Бехера на русский язык?..»
Ответ на эти вопросы предельно ясен. Он спрашивал меня: «Как я мог не пойти в военкомат и не попроситься на фронт? Не зря сказано: жизнь и судьба…»
Грунин ознакомил меня со своим интервью, опубликованным в местной прессе и многое объясняющим: «Май 1942 года, Северо-Западный фронт, Новгородская область. Пехотный полк 55-й стрелковой дивизии – полк, преобразованный из недоучившихся курсантов дивизионной школы младших командиров. Наступление на деревню Васильевщина, занятую противником, захлебнулось встречным огнём. Из остатков роты, вернувшейся на свои позиции, сформировали взвод; этот взвод на следующий день пошёл вперёд в направлении невидимой нам деревни. Мы пробирались по пустому полю, не засеянному в этот зловещий год, то короткими перебежками, то ползком; противник вешал над нами осветительные ракеты. Мы, которые с винтовками, были в первой цепи. Позади нас шли автоматчики. Они как бы прикрывали нас, но мы знали, что по отступающим без приказа автоматчики открывают огонь. Вероятно, первая цепь продвигалась быстрее, чем рассчитывала наша артиллерия: мы оказались её мишенью. Последнее, что я увидел впереди себя, – взрыв, похожий на огромный огненный веник. Звука разрыва я уже не слышал. Очнулся я на рассвете следующего дня от холода и боли в ушах. Какая-то вялость во всём теле. Сначала вернулось зрение, потом слух – услышал немецкую речь. Оказалось, что я лежал в десятке метров от позиций противника. По всей вероятности, взвод попал в плен или отступил, оставив меня на поле боя. Меня подобрали штурмовики эсэсовской дивизии „Мёртвая голова“, направили в прифронтовой рабочий лагерь военнопленных в деревню Малое Засово…»
В немецком концлагере ему удалось не утратить не только способности сочинять стихи, прежде всего ночью, но и ни одной строки не утерять. Запоминал. Записывать было нельзя (иначе страшная кара), да и на чём?! Это спасало. В сорок третьем он так думал о своих строчках: «Здесь и ненависть, и молитва. Песня-летопись говорит вам: да осветятся, встанут судьбы, как свидетели и как судьи. Я шепчу стихи, угасая, но свечусь ещё верой смутной, что в стихах своих воскресаю – это суть моя, это суд мой».
И всё же одолевала горькая тоска – она прослеживается хотя бы в «Мостах»:
Я шел на войне сквозь кусты Чужими глухими местами, чтоб к счастью разведать мосты. А счастье лежит за мостами. …………………………………… Но слева и справа, пусты, Застыли погосты с крестами, и взорваны кем-то мосты. А счастье лежит за мостами. И я не твержу про мечты потрескавшимися устами — в душе сожжены все мосты. Да было ли что за мостами?Грунин в своей прозе скуп на рассказы о «пелене плена», но не то – в стихах. Там он себя не сдерживает, находит слова, схожие со сквозными ранами. «…Долгий день томлюсь по хлебу я. Караваем – солнце летнее. Плен – как пелена нелепая, полоса моя последняя…» Отчаяние толкало иных «проклятых и убитых» (по определению Виктора Астафьева) на строй столбов, обнесённых колючей проволокой, чтобы «тело – в землю, душу – небесам». Поэт понимал, как виновата его Родина, те, кто на вершине власти ежедневно давал клятву: «Мы войны не хотим, но себя защитим, – оборону крепим мы недаром. И на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом!» Тем не менее его тоска по Родине – достояние подлинной художественности, она не может не волновать; он верит, что поражения обернутся победой, – и эта вера пронизывает все его стихи той концлагерной поры. И его обращение к России красноречиво: «Ты меня человеком сделала, ты мне столько дала тепла! В этой буре, как лист от дерева, оторвали меня от тебя. <…> Игом, войнами, горем меченой, быть Россией тебе навек. Но не быть тебе онемеченной, пока русский жив человек!» Вот она, его тогдашняя интонация – интонация несломленного и непокорённого воина. И – пометка: «1943, дер. Малое Засово, лагерь военнопленных». А рядом, словно ария князя Игоря, – и гнев, и стремление обрести свободу: «Ярость копится подспудная. Прочь, бессилие обидное! Плен – как самое паскудное, плен – как самое обидное». Чтобы понять человеческую, поэтическую сущность Грунина во всей её сложности и трагичности, мы должны запомнить эти строки.
Нетрудно представить, что чувствовал он, когда «пелена плена» рассеялась и Юрий вдруг оказался среди своих! Но радость длилась недолго, совсем недолго. Он-то не был для освободителей своим. Вначале, пишет он, я был рабом Гитлера, и вот теперь стал рабом Сталина. Получилось: из плена – в плен.
И вновь – мучительнейший вопрос: зачем? «Зачем я три года плена хранил переднюю корочку своего комсомольского билета? Зачем я так подробно рассказывал следователю свою довоенную биографию? Ведь всё это в 1945 году в репатриационном лагере № 211 германского города Бютцова на следствии и суде обернулось против меня!..» Не таким представлял он 1945-й в своих мечтах. У него даже было стихотворение с таким названием и с эпиграфом из Маяковского: «Не надо. Не просите. Не будет ёлки». Вот строки оттуда: «Ёлку б? Не надо. Не будет ёлки – ни ёлочных игл, ни святочных игр. Будут иглы колючей проволоки с играми колющих снежных игл. Вечер – свечи б? В ослепшем вечере даже огарка не будет здесь. Нам и праздновать будет нечего – и нечего есть».
Ему дали «только» десять лет, не пятнадцать каторжных, зашифрованных как «КТР» и обрекавших каторжан при режиме рабского труда и голода на неизбежную, медленную смерть. Правда, ему объяснили знающие люди, что такие, как он, – пополнение сырья конвейера смерти: живые – в шахты, мёртвые – во рвы. Рановато радоваться. И, услышав приговор, Грунин произнёс про себя есенинское: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» Эта строчка вскоре стала эпиграфом к его пронзительному стихотворению:
Родина, все эти годы снилась ты. Ждал я, что к рукам твоим прильну. Родина, по чьей жестокой милости мы сегодня у тебя в плену? На допросах корчусь, как на противне. Что ни ночь – в ушах свистящий шквал: – Ты – предатель, изменивший родине!.. — Только я её не предавал. Офицер, собой довольный, розовый, чуть взбодрённый, оживлённо свеж, мягко стелет нежными угрозами: – Ты узнаешь, что такое СМЕРШ! «Смерть шпионам» – воля повелителя. СМЕРШ – как смерч, основою основ. О, триумф народа-победителя с тюрьмами для собственных сынов! Слушали в строю ещё на фронте мы чрезвычайный сталинский приказ: каждый, кто в плену, – изменник родины. Плен страшнее смерти был для нас. Где же он, предел сопротивления в следственной неправедной войне? Что же здесь творят во имя Ленина? Жизнь моя, иль ты приснилась мне?В лагере военнопленных у гитлеровцев под Старой Руссой он носил номер 320. Немцы, писал Грунин, считали нас унтерменшами, то есть недочеловеками, безликими живыми трофеями, пронумерованным подвижным инвентарём. А что потом, после того, как пришло освобождение? Полная ясность наступила, когда Юрий с товарищами по беде был брошен в Усольлаг по злополучной 58-й статье. Там номера он не получил; предстоял путь куда-то дальше. Ехали в телячьих вагонах, двери которых откатывались редко, и зэки спорили, так сказать, по-пастернаковски: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» Иногда какой-нибудь из подвыпивших охранников снисходил к их просьбам и милостиво удовлетворял зэковское жгучее желание быть причастными ко времени. А перед этим на пересылке в Соликамске, на берегу Усолки лагерники со стажем иронизировали, что для «номенклатурной» 58-й открыты ворота четырёх зверских лагерей (Грунин пишет: «Их географические названия выплёвывались в рифму: Норильск – Магадан – Тайшет – Джезказган»). А как ехали? «Мы почернели от немытья и отросших бород, валяемся вповалку по всему полу вагона. Развлечений, кроме битья вшей, никаких, а к голоду как-то привыкли за лагерные годы. Один раз в сутки откатывается дверь, выдаётся баланда и горбыли[6], и – ауфвидерзэен! Хорошо хоть никакой параши нет – просто дыра в полу вагона, из которой холодный ветер свистит в голую поносную задницу – кто кого пересвистит».
Двигался эшелон по ночам, днём торчали в тупиках. Подобным образом везли их из Германии. Кое-кто догадался, заглядывая в зазор между дверью и стенкой вагона: это Казахстан, потому что кругом – пустынная степь. «8 апреля 1949 года, – вспоминает Юрий Грунин, – и привезли нас в этот самый Джезказган, что значит по-казахски „медная копь“. Это был Особый лагерь № 4, Степной лагерь, аж в рифму: Особлаг Степлаг, а ещё звонче – спецлаг Степлаг…» Здесь-то он и стал номером СО-654, что расшифровывалось «как С-14654: „С“ – это, вероятно, спецконтингент, или Степлаг, вроде паспортной прописки, а буква „О“ – очередная тысяча заключённых. <…> Номера, номера… И у немцев мы носили номера. Я уже был старым лагерником с семью годами неволи: плен, репатриационный лагерь, тюрьма и следствие, ещё одна тюрьма – пересыльная – в германском городе Торгау, эшелон заключённых „на родину“ – в Усольлаг. И уже пришло в привычку сравнивать лагерные условия двух систем: гитлеровской и сталинской». И к этому прибавил с горечью: «Лоскуты с номерами на куртках делали нас в глазах охраны инвентарными роботами – без имени, без лиц, без мыслей. А сами номера-мишени наводили их на мысль о стрельбе по этим мишеням».
Лагерный загон, куда попал Грунин, открыл ему глаза на всё, «чтобы я закрыл их навсегда», оставшись роботом № СО-654. А хоронили здесь, говорит он, с пробитыми черепами – для «подстраховки», без гробов; зарывали, как скот в скотомогильниках. Одним словом, лагерная пыль, по выражению «Пениса в пенсне», как окрестили маршала Лаврентия Берию. В письмах Ю. В. – эхо тех бесконечных дней, а в своих снах он опять и опять укладывал мостовую, подносил кирпичи для кладки стен какого-то дома, видел под ногами крутые деревянные подмости с поперечными брусками-ступенями; за спиной – «коза», нечто вроде этажерки-рюкзака с грузом кирпичей; «пот разъедает глаза и шею. Иду, пошатываясь, но тяжесть обеспечивает устойчивость при подъёме. Возвращаться вниз, хоть и с пустой „козой“, почему-то труднее, и ноги теряют уверенность, и головокружение, увы, не от успехов. В глазах – калейдоскоп, а сердце – как кузнечный горн. Дотянуть бы до вечера…» И всё-таки Грунин, чтобы выжить, находил в себе силы для шутки. Маяковский призывал «класть в коммунову стройку слова-кирпичи», а зэк № СО-654 отвечал на это: «Снова завод на работу зовёт: с ночи в печи горячи кирпичи! Утром любовно я глину мешу, утрамбованную в формах ношу».
4
Я послал Юрию Васильевичу в Джезказган свою поэму «Флейта Федуты», которую посвятил ему. Он догадался, каким был мой замысел. «То, что стихотворчество заменено у вас музыкой, – писал он, – правильно: тут и Моцарт, и его борьба с Царицей Ночи, борьба Добра со Злом; многое вызвало отклик у меня в душе». И верно: письма Грунина, его стихи и проза легли в основу этой поэмы. «А вот рожок – и где-то вдалеке: река, окоп, и вскрик предсмертный чей-то, и взрывы бомб, и „мессеров“ пике, и две ракеты – в небе и в реке, и немцы – в двух шагах, и флейта с несыгранной сонатой в вещмешке… Чем был Степлаг? Клубком буранных зим. Тут каждый день прощались все со всеми. Копали медь – и в язвах, и в экземе. Ах, если б не Гоглидзе Серафим! Он говорил: „Ко мне поедем, в Греми“. На нарах вы „Одойю“[7] пели с ним, где камнепаду вторил водопад: „На лучшее надейтесь. Слёз не лейте“. По-русски, по-грузински – невпопад. Один – комроты, а другой – комбат. Вы Серафиму Моцарта на флейте играли – чаще что-то из сонат…» «А насчёт Серафима, насчёт грузинского братства, – соглашался Грунин, – действительно к месту!»
И с любовью писал о молодых грузинах, которые прибыли вместе с ним с этапом и с которыми он пахал в одной бригаде, – о Тенгизе Залдастанишвили, Гиви Магуларии и Отиа Пачкории. «Их иронически окрестили юными ленинцами: студенты факультета философии Тбилисского университета, они установили отклонения политики товарища Сталина от марксистско-ленинской теории построения коммунизма – и засомневались в гениальности своего великого земляка. И каждому из них припаяли по двадцать пять лет лагерей. Умные ребята, эрудированные. Любят свою Грузию – её культуру, литературу, язык». Дружба Грунина с ними крепла с каждым днём. «Как-то заговорили о графике шрифтов – греческого, готического, древнерусского. Друзья показали мне грузинский шрифт, ни на какой из упомянутых не похожий. И приохотили меня начать учить их язык. Учить язык – это не только слушать и говорить, но и читать и писать». Тогда-то Юрию впервые открылась поэзия Грузии – и в первую очередь лирика Николоза Бараташвили. Сильнейшее впечатление на него произвело стихотворение «Мерани»[8]. Он перевёл его на русский язык, стараясь передать, как тошно ему в неволе, как дорого заплатил бы за то, чтобы из неё вырваться и чтобы не было ему препон, как свободолюбивому и крылатому Мерани…
Это никак не соответствовало философии зэка, изложенной Груниным коротко и предельно ясно: «Один Аллах на небе, один Сталин на земле. Сталин – законодатель всего на свете. Из этого рабства вырваться некуда, есть только единственный путь – подниматься вверх по спинам других рабов, становиться над ними: их надсмотрщиками и конвоирами, блюстителями режима…» Становиться теми, кто был пожизненно прикован к таким, как Грунин, к тем, кого осудили за генетику, кибернетику, философию, поэзию, прозу, искусство, за собственное мнение, «да просто за принадлежность к интеллигенции, которую всегда ненавидели как вождь мирового пролетариата, так и превзошедший его ученик». В Степлаге Грунин оказался рядом с множеством незауряднейших, талантливых людей – «от самых простых умельцев до писателей, художников и докторов наук». Столько, сколько их было сконцентрировано в лагере, он, по его признанию, в будущем уже не встречал.
Один из них – поэт Вадим Попов, по свидетельству Грунина, сдружившемуся с ним в Джезказгане, «высокий, в очках, весь в номерах СЭ-765». Сблизились сразу. Грунин обратил внимание на Попова, когда тот читал кому-то гумилёвских «Капитанов»: «Или бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвёт пистолет…» Заметив Юрия, Вадим осёкся, но будущий приятель продолжил с тем же пафосом: «Так, что сыплется золото с кружев, с розоватых брабантских манжет». Так вот они нашли друг друга. Позже Ю. В. напишет: «Встань в стих, СЭ-765! А ты, СО-654? Два зэка в изолированном мире и две души в своей заветной лире…» И ещё: «Судьбина сурова. Бесстрастна судьба. Вадима Попова я знал, как себя. Он метко заметил, нам дал по мозгам дыханием меди спецлаг Джезказган». Вадим воевал, окончил рабфак, хотел стать врачом; но был арестован. В «Спине земли» сказано: «За что? За резкие реплики, за английский язык, за иностранные монеты. Яркая личность – не вписывался в габариты прокрустова ложа комсомола, в котором он не состоял». Вадим Попов, как и его верный друг Георгий (так он называл Грунина), остался навсегда верен теме Степлага. Это ему принадлежат строки, обращённые к Джезказгану: «Сколько братских могил ты скрыл! Их, рыча, экскаватор срыл, и в степи замело их след, будто прошлого вовсе нет. А теперь устроен мой быт, Жезказган почти позабыт, всё идут и идут года, как идёт на-гора руда». Грунин очень любил стихи Вадима об их лагерной «тусовке»:
Подогретый общим интересом, на грядущий неспокойный сон нам читает лекции профессор — он теперь зэка Эфроимсон. Только нам он дорог без протекций. Разгоняет и тоску, и грусть, да вдобавок после этих лекций Гумилёва шпарит наизусть. И сидим на лекциях на этих, впитывая каждый взгляд и звук. Нам читает лекции генетик — доктор уничтоженных наук.У Попова и Грунина была своя компания, да ещё какая. Иногда им удавалось собираться вместе, читали стихи – свои и чужие, пели тихонько под гитару, добываемую из КВЧ (культурно-воспитательной части), грустили, мечтали. Грунин, бывало, рисовал портреты товарищей по неволе, чаще всего шаржированные и исполненные дружеской улыбки. Два из них – это композитор Бруно Дементьев, близорукий очкарик, «высокий, сутулый, курносый, скуластый». А многим ли известно, что Бруно – автор популярной в стране песни «Огонёк» – «На позиции девушка провожала бойца…»? Вряд ли. По радио объявляли: слова, мол, Михаила Исаковского, а музыка народная. Вот так. На пластинках имя композитора похоронила чёрная и жирная типографская полоска… Задача у иродов была такая – уничтожить не только человека, но и имя его. А вот это – шаржированный портрет Генриха Маврикиевича Людвига, немца, известного советского архитектора. К нему Грунин относился чуть ли не по-сыновьи, доверял во всём и читал ему новые стихи, находившие благодарственный отклик. Однажды Людвиг подарил молодому стихотворцу свою фотографию, на обороте которой написал: «Юрию Грунину. Писатель – не только бесстрастный свидетель истории, но и её судья». Грунин ответил ему такими стихами: «Вы правы, профессор, – мы все здесь свидетели. Свидетелей было легко посадить. И всё же мы встанем – мы, наши дети ли – и станем историю миром судить». В грунинскую компанию попадали далеко не все желающие. Вокруг да около неё ходил бывший член Союза писателей СССР Матвей Талалаевский. Доверия у Ю. В. он не вызвал, да и не у него одного. Причина, по словам Ю. В., была такова: «Ни он сам, ни его стихи мне не понравились: стихотворец среднего, безликого дарования с признаками совподхалимства и совкарьеризма. Я ему своих стихов не читал – мы побывали на разных полюсах и мировоззрения, и поэзии». Вот таким Грунин был во всём!
5
Книга «Спина земли» далеко не в полной мере соответствует заявке, данной в сочувственном предисловии Зинаиды Чумаковой, где сказано, что это – лирико-эпическая повесть о восстании заключённых-степлаговцев (начавшемся в 3-м лагерном отделении, в посёлке Кенгир). Я, говорил Грунин, действительно представил читателю сорок глав по числу дней Кенгирского мятежа, этого «сабантуя», но это и повесть о сугубо личном, о моей Ганне Рамской, Анне, о несбывшейся моей мечте; кроме того, задача моя состояла в том, чтобы на примере Степлага показать читателю сталинские лагеря как барокамеры перехода из одного биологического состояния человека в другое – из жизни в смерть (почти каждое утро, когда заключённых поднимали на работу, в бараке оставались на нарах покойники) – и вместе с тем доказать: зэки 58-й – не биомасса, это люди, причём люди нередко с обострённым чувством собственного достоинства, несломленные и даже талантливые, способные на беззаветную любовь, которая в тех бесчеловечных условиях неизбежно была обречена.
Главы, где даётся картина восстания, важны в первую очередь для характеристики личности Грунина – человека и писателя. «Спина земли» была создана им уже после того, как солженицынский «Архипелаг ГУЛАГ» стал всеобщим достоянием. А именно в этом знаменитом, титаническом труде (том третий, часть пятая, глава двенадцатая) большое место уделено кенгирским событиям. Юрий Грунин не мог не заметить: «Я пишу свой вариант „Сорока дней Кенгира“ – после Солженицына. Это всё равно что писать свой вариант „Войны и мира“ после Льва Толстого…» Напрасный труд? – спрашивает он и себя самого, и своего читателя. И отвечает: «Всегда, когда меня что-то угнетает и я не могу избавиться от безысходности, я изливаю свои мысли в какую-то литературную форму – в стихи, дневники, статьи – и мне становится легче. Поэтому я всё-таки пишу свой краткий вариант „войны и мира“ между палачами и их жертвами. И после Александра Исаевича пишу свои заметки о сорока днях Кенгира». И вот что особенно важно в понимании феномена Юрия Грунина: «Да простит меня великий писатель, если моё восприятие кенгирского мятежа не во всём совпадает с изложением, взглядами и выводами Солженицына (курсив мой. – В. М.)».
И далее. Солженицын пишет: «Что за ощущения могут быть те, которые рвут грудь восьми тысяч человек, всё время и давеча и только что бывших разобщёнными рабами – и вот соединившихся и освободившихся, не по-настоящему хотя бы, но даже в прямоугольнике этих стен, под взглядами этих счетверённых конвоиров?!» И уточняет: «Бревном они рассадили ворота хоздвора, хлынули туда, а оттуда рельсом сделали пролом и в женскую зону (были с ними и молодые из Пятьдесят Восьмой)». Но Грунин не был бы самим собой, если б умолчал здесь о своём несогласии – даже и с самим Солженицыным. Нет, говорит он, нет, Александр Исаевич, ведь не так обстояло дело. Это правда, что были мужчины (и было их немало), которые «сбивали замки с бараков, выпускали женщин на общее гулянье или оставались с ними в секциях бараков». Однако, уверен Грунин, не совсем верную информацию получил автор «Архипелага ГУЛАГ». «Вероятно, – пишет Ю. В., – кто-то из фанатиков или „героев“ задним числом» выдал писателю такую информацию. Суть в том, по его твёрдому убеждению, что «ни в первый день, ни во второй, ни в сороковой – единства пяти тысяч шестисот (не восьми тысяч! – В. М.) заключённых не было. Мужчины „пятьдесят восьмой“ едва сдерживали анархию блатных. Из двух тысяч четырёхсот женщин не менее половины старались в этом буревороте не участвовать, и многие из них за все сорок дней „сабантуя“ не попали в поле зрения мужчин: не так уж много мужчин общались с женщинами…» Живя в Казахстане, Ю. В. было нелегко следить за всей российской периодикой, за вышедшими книгами, где идёт речь о тех событиях. Его интересовало главным образом не то, что журналисты написали со слов рассказчиков, «додумывая за них разные разности, а то, что написали сами очевидцы». А он-то и есть очевидец. Он стоит на том, что молодые воры и бандиты совершили свой бросок через три стены, «но у них не хватило логики вычислить финал. Их вела слепая похоть».
Как видим, у Грунина сугубо свой взгляд на кенгирскую трагедию. Из сегодняшнего дня трудно окончательно судить, насколько он прав (и во всех ли деталях). Тем событиям дано множество оценок. Одну из них я слышал по радио «Эхо Москвы», и там говорилось, что восстание началось после Пасхи, когда колонна ребят поздоровалась со встречной колонной молодых женщин: «Христос воскресе!», а те ответили: «Воистину воскресе!» и когда мир тут же был прострелен автоматной очередью. И в этом аду, как в исторической драме, «тот, кто был влюблён через письма, записочки и короткие взгляды через колючую проволоку, кто был заочно обвенчан священниками всех имевшихся в зоне конфессий, – все они наконец смогли подержаться за руки любимых. Стены, разделявшие мужскую и женскую зоны, стены, разделявшие судьбы, упали…» Танки, автоматы, безнаказанность и человеконенавистничество обрушились на любовь. Та радиопередача свелась к выводу: «История Кенгирского восстания – это урок того, какой мощной может быть „сила бессильных“; то, что поначалу кажется безнадёжным поражением, в длинной перспективе оборачивается победой. <…> Кенгир – восстание Любви – было одним из тех исторических шагов, что в конце концов привели к независимости. СССР разрушила любовь. Любовь к Свободе».
Грунин соглашается: любовь в известном смысле – пароль восстания. Но, помимо всего прочего, она у него, как всегда, интимно окрашена. Когда впоследствии он начал писать исповедальную повесть «Тебе жена надо?» (в первой редакции она называлась «Моя золотая Казань»), ему понадобилось предуведомление: «В Казани познал я первую женщину – поздний старт моего звериного гона с неведомым ранее торжеством освобождающейся плоти. Ооо! Эта радость давала ощущение счастья, наполняла душу и разум оптимизмом, энергией, верой в собственную удачливость и даже значимость. Нет, не скрываю и не раскаиваюсь: этот временами и обстоятельствами перерываемый гон был стимулом моей жизни – с тщательно маскируемым честолюбием. (Синечулковая читательница, ты шокирована скоропалительным стриптизом авторской совести? Прости, я тороплюсь – у меня впереди очень мало возрастного времени. А ты лучше не читай дальше, потому что дальше – больше! Ведь в подзаголовке указано: повесть – исповедальная). Жизнь в моём тогдашнем восприятии – это казан, кипящий котёл женского магнетизма, где я, как гоголевский Хома в „Вие“ натужно пытался очерчивать себя воображаемым меловым магическим кругом неприкосновенности-невинности девственника. Очерчивать… О черти! Недочертил. Казань – моя сладкая жизнь».
Таков переданный Груниным максимализм юности, таково увеличительное стекло, состоящее на службе его писательства. А в его летописи кенгирского «сабантуя» – совсем другие краски и совсем иная интонация. Там нет «гона», там – любовь, выстраданная и неповторимая, потому что возникла она в Степлаге и освятилась атмосферой мятежа, когда на каждой вышке вместо одного часового стояло четверо: трое с автоматами и один с пулемётом. И сердце «резонировало толчками в мозг, озвучивая два слога: А-ня…» Это самые сильные, трогательные, светлые страницы «Спины земли». Здесь даже лексика не такая, как в остальных главах. «Ничего другого не существовало – только одна она, Ганна Рамская. Я смотрел в яркие чёрные звёзды её радостных глаз, обводил своим взглядом контур её манящих губ – и был счастлив этим». Режим в лагере в первые дни мятежа был прежним; неминуемая кровавая расплата за него лишь ожидалась; и они выходили из бараков, в то время как «все мужчины остались со своими давними или новыми подругами», выходили в ночь; «она проводила меня до границы хоздвора. Остановились в темноте, всматриваясь друг в друга. И в едином порыве слились в объятии и долгом поцелуе. В первом поцелуе».
После беспощадного подавления мятежа Анну, не терпевшую устных сантиментов, расконвоировали для отправки с эшелоном на Дальний Восток в порт Ванино. Остальное – грустно, как всё до ужаса неизбежное, что заставило Грунина признаться: «Я потерял веру в любовь. Наверное, навсегда».
6
В стихах Грунина отчётливо заметна характерная для русской поэзии разудалая печаль, надрывно-весёлое отчаяние. Недаром несколько раз он цитировал в письмах золотые строки Блока, покорившие его. Например, такие:
В бесконечной дали коридоров Не она ли там пляшет вдали? Не меня ль этой музыкой споров От неё в этот час отвели? Ничего вы не скажете, люди, Не поймёте, что тёмен мой храм. Трепетанья, вздыхания груди Воспалённым открыты глазам. ………………………………….. Никого ей не надо из скромных, Ей не ум и не глупость нужны, И не любит наверное тёмных, Прислонённых, как я, у стены… …………………………………. Сердце бьётся, как птица томится — То вдали закружилась она — В лёгком танце, летящая птица, Никому, ничему не верна…Помню, каким печальным было письмо, завершившееся блоковским криком, летящим через десятилетия и века: «…И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводи все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко, у Царских Врат, Причастный Тайнам, – плакал ребёнок о том, что никто не придёт назад».
Я спросил Юрия Васильевича, почему он не делает попытки перебраться в Россию из Джезказгана, и сравнил его с певцом Вадимом Козиным, не покинувшим Магадан, хотя отсидки у того давным-давно закончились. Грунин пообещал вскорости ответить на этот вопрос подробно: дескать, соберусь с мыслями. Однако он не ответил. А прислал нечто под названием «Шиворот-навыворот». Обозвал себя старым графоманом и ёрничая похвастался: «В ящике моего стола лежат красные корочки членского билета Союза писателей СССР и голубые – Союза писателей Казахстана, одинаково ненужные сегодня, в 2000 году. А в шкафу стоят пять моих книжек, изданные в Алма-Ате, Астане и Томске, – не более нужных, чем красные и голубые корочки. – И уже серьёзно добавил: – У меня есть более нужные корочки: пенсионная книжка и удостоверение участника войны». И были у него берущие за душу строки: «Доживаю свой век в Казахстане я. На руинах Степлага, как в храме, стою».
Ещё в 1955 году он писал в «Обманной радости»:
Разгремись, му-зы-ка! Отчекань счастье! Я теперь – не зэ-ка! Наше – вам, здрасьте! Вы-пи-та доза та, сброшена сбруя. Ем и пью досыта. И с княжной сплю я. Но не ждёт к пирогам мать моя сына. Мне пять лет «по рогам»: стало быть, ссыльный. Мой кошмар, отвяжись, отмени званье! Не пущаете в жисть? Ну и хрен с вами!Пришлось мне с вопросом, заданным Грунину, обращаться к его дочери Юлии Юрьевне. Вот что она написала:
Трудную Вы мне задачку задали, дорогой Владимир Николаевич, попробую ответить.
Не всё знаю, мала я была, да и когда выросла, Ю. В. не любил разговоров о своей жизни.
Итак, моя версия: Отец вышел из лагеря в 1955 году, но у него была ещё ссылка на пять лет в Джезказгане (ныне Жезказган), так что он не мог сразу уехать в Россию. Грунину даже с родителями удалось повидаться только через год после освобождения, когда он ездил в Ульяновск в 1956 году (то ли ссылку через год отменили, то ли разрешили съездить в отпуск – точно не знаю). В Джезказгане у отца была работа, семья, комната в коммуналке; он постоянно был на учёте в КГБ. Стоило Грунину где-то опубликовать стихотворение, как в редакцию приходили рекомендации больше не печатать этого автора; это продолжалось десятилетиями. Более одного раза ни в одном журнале или газете невозможно было напечатать ни слова[9].
После коммуналки в 1964 году, перед моим рождением родители перебрались в отдельную двухкомнатную квартиру в сталинской двухэтажке по улице Гагарина в центре города; в этой самой квартире отец и умер. Сейчас там живёт мама (Грунина Анна Павловна).
В 1972 году Грунин попытался перебраться в Россию. Он поехал в родной Ульяновск, стал жить с родителями, устроился на работу архитектором. Грунин проработал в Ульяновске год и уже собирался нас туда перевозить, но ему вежливо предложили уволиться, намекнули, что так было рекомендовано свыше. Вернулся в Джезказган. Снова работал архитектором, потом ушёл в Казхудфонд художником-оформителем, участвовал в разных поэтических конкурсах и художественных выставках. Деревянные скульптуры Грунина побывали и за пределами Джезказгана, это были и республиканские выставки в Казахстане, и московские. Я не помню отца скучающим или бездельничающим, он всегда был чем-то занят. Наша домашняя библиотека до сих пор располагается на стеллажах, которые сделал отец, а раньше почти вся мебель в квартире была самодельная. Он всё время что-то рубил, пилил, строгал, рисовал, печатал на машинке, делал чеканки и макеты, что-то чертил…
В 1979 году родители разошлись, отец переехал в однокомнатную квартиру. Этот развод мы все пережили трудно. Года через полтора сестра Оля привезла свою маленькую дочь в Джезказган (их семья жила в Гагарине Смоленской области), мы пригласили отца в гости; с тех пор отношения снова потеплели, мы опять стали одной семьёй (по крайней мере, я так чувствовала), хотя родители продолжали жить отдельно, но постоянно общались, помогали друг другу.
Грунин по натуре был одиночкой и жаждал свободы. Друзей у него было немного. Лагерные друзья разъехались кто куда. Лучший друг Вадим Попов жил в Москве. Профессор архитектуры Генрих Людвиг, писатель Камил Икрамов – тоже в Москве. Были друзья и в Грузии, и в Прибалтике, и в Германии. А в Джезказгане отец больше всех уважал бывшего лагерника профессора-востоковеда Д. С. Смирнова, который умер ещё в семидесятые годы, но Грунин до самой смерти часто вспоминал его, он как будто не договорил с Дмитрием Сергеевичем и постоянно сокрушался, что такого человека больше нет. У мамы на стене и сейчас висят две картины Дм. Смирнова, подаренные отцу. У отца были приятели по литобъединению «Слиток», творческая интеллигенция Жезказгана, поэтесса Зинаида Чумакова (это благодаря ей удалось издать в Казахстане первые отцовские книжки), редактор Нина Барбутько – именно она взялась еженедельно печатать в газете «Подробности» отцовский роман «Живая собака» и допечатала его до конца, несмотря на возмущённые письма «доброжелателей» и звонки сверху с советом не печатать Грунина, – а ведь на дворе был уже двадцать первый век. Ещё был скульптор Леонард Ядринцев, художники, режиссёр местного театра, сотрудники университета, библиотекари, журналисты… А ещё были женщины, отец был страшно влюбчив, и женщины его тоже любили.
После 86 лет Грунин начал заметно сдавать, он несколько раз ломал то руку, то ногу, он совсем плохо видел. Мы убеждали отца, что им с мамой необходимо съезжаться, но Грунин до последнего продолжал заниматься литературой в своей однокомнатной хрущёвке; он привык к одиночеству и не хотел менять свои привычки. Осенью 2010 года отец пришёл к маме на обед, а обратно уходить уже не стал, он уже и сам понял, что нельзя жить одному. Так что последние три с лишним года отец снова жил в нашей старой квартире на Гагарина, одной из последних улиц, оставшихся не переименованными в казахские названия…
А вслед за этим посланием – ещё одно, коротенькое:
Владимир Николаевич, у меня ко вчерашнему есть добавление. Получила сегодня письмо от Ольги (я ей тоже отправила свои ответы на вопросы, она старше меня и лучше всё это помнит), вот что она пишет: «Юля, ты всё верно описала, только отец поехал в Ульяновск, кажется, в 1971 году. В Ульяновске наш отец работал в институте «Ульяновскгражданпроект», хорошо вписался в тамошний коллектив, печатался в многотиражке Ульяновского автозавода, участвовал в городском литобъединении, до тех пор пока редактору многотиражки не рекомендовали прекратить печатать Грунина, а директору института – уволить его. Ещё можно упомянуть, что оба дома на улице Гагарина, где мы жили (сначала коммуналка, а потом отдельная квартира в соседнем доме), строили заключённые, в том числе отец…»
В подарок Юлия и Ольга прислали мне изданную ими с помощью компьютера брошюру, куда вошли главы из поэмы Юрия Грунина «Фантасмагория бытия». На первых трёх страницах – небольшое предисловие, написанное самим поэтом-художником. Вот отрывок оттуда: «Театр начинается с вешалки, книжка начинается с обложки. В данном случае – с обложки работы автора. Название поэмы вписано в падающий чёрный крест. Падающий крест – это состояние души автора, пришедшего к атеизму. А само название поэмы есть часть жизни автора, испившего эту фантасмагорию бытия. Скупая чёрная графика подчёркивает контрастность содержания поэмы и жизни автора. Поэма автобиографична, этим оправдывается автопортрет на обложке. Бесконтурный мягкий овал головы символизирует хрупкость, эфемерность жизни автора, а гротескно подчёркнутые глубокие морщины – не только борозды возраста, но и следы поисков смысла жизни. В конечном счёте, падающий крест на обложке стремится обрушиться на голову его ниспровергателя». Тут же и взволнованная оценка Дмитрия Быкова: «Ваша новая поэма блистательна – грешно, впрочем, говорить в Ваш адрес какие-то комплименты, и не знаю, нуждаетесь ли Вы в них, когда пишете на таком пределе откровенности и на таком лирическом напряжении. Эта вещь чрезвычайно серьёзная».
Поэму продувает, без всякого сомнения, сквозняк гениальности. Жаль, безмерно жаль, что всё это до сих пор не издано достойным тиражом в книге хорошего, солидного издательства. Надеюсь, читатели не осудят меня за желание поместить здесь начальный отрывок из поэмы, способной тронуть души истинных ценителей поэзии. Итак…
В мире – август, в радости и в горе. День восходом солнца осиян. Предо мною Северное море, надо мною неба океан. Прошлое перечеркнуть крест-накрест, зачеркнуть крестом всю цепь невзгод? В мире – август, августейший август. Век двадцатый. Сорок пятый год. С Волгою и родиной в разлуке, на чужом германском берегу я лежу, крестом разбросив руки, обрести покоя не могу. После плена, после одичанья ждём у моря мнимых перемен. Нас освободили англичане, крест поставив на немецкий плен. Был я пленным, был я, не забыл я. Никогда б не вспоминать о том… Чайка над волной раскрыла крылья, осеняя мир своим крестом. Мне бы так вот, вскинув руки в небо, вознестись крестом в родную даль. А ещё – в стихах хотелось мне бы вычеканить всю свою печаль. Будущее пленных, покажись мне! Что грядёт, кому какой исход? Чайка – ввысь, крестом, живинкой жизни. Ну а пленных – в лагерь иль в расход? Знать бы наперёд, какие муки умертвят надежд моих росток. Я застыл, крестом раскинув руки. Ноги к морю, к солнцу, на восток. Жизнь в воспоминаньях пронесётся, прошлого разверзнутся пласты. Впереди меня – над морем солнце. Позади меня стоят кресты. Оглянусь – не с сожаленьем острым, не с молитвой на пустых устах: вместо тех, кто начал Drang nach Osten, лишь кресты да каски на крестах. …Вы меня поймите, не осмейте, я юрок-вьюрок из дальних мест — верещу о жизни, не о смерти, лишь в себе самом несу свой крест. Не погиб меж Сциллой и Харибдой, столько повидав смертей одних! Не поник меж Правдою и Кривдой, — уцелел, чтобы страдать от них. Ах, война и плен, мой ад кромешный. В море – тишь. Но где же в мире тишь?.. Жизнь моя – крест четырёхконечный, мне судьбой навязанный фетиш. Просто крест – он мой близнец сиамский. Прост как перст, упрям и прям, как пест. Окровавленный дохристианский крест – орудье казни, грозный крест. Символ смерти – или символ веры? Стала чья-то память коротка? …Древний Рим, древнее нашей эры. Рабства гнёт. Восстанье Спартака. А потом, от Капуи до Рима, вдоль дороги, где в пыли кусты, словно в страшном сне – необозримо встали в строй кресты, кресты, кресты. На крестах – с обвисшими телами мёртвые распятые рабы… Римские властители, тираны — проклинаю чёрные их лбы! Нелюди, садисты, изуверы — Зрелища творили из смертей. Крест есть смерть. Причём тут символ веры? Крест был силой тех, кто всех лютей. …В мире – август. Самолёт, злой символ, четырёхконцовый чёрный крест, дьявольскую смерть над Хиросимой сбросит вниз, сжигая всё окрест… Я ж, того не зная, в смерть не слягу, крест живой, не разревусь в соплях… …Нам – этап, всё ближе к Усольлагу, к танкам, что ворвутся к нам в Степлаг. Засифонит жисть такую клизму, что – хоть стой, хоть падай, но держись. В унисон комизму-коммунизму стоном пробренчит жестянка-жисть.…Юрий Васильевич, в чьей душе блуждала иголка боли и памяти (см. строки о симбирском детстве), всё время писал и писал книгу своей жизни, писал всегда, чем бы ни занимался. Он мечтал о большом романе. 29 октября 2000 года он поделился со мной своими планами и, как всегда, сомнениями. Сказал, что ничего не сочиняет, поскольку не умеет сочинять, да и не хочет. Всё у него – «фактография, без вымышленных событий и имён». Себя он величал живой собакой. Почему? Он пояснил: «А „живая собака лучше мёртвого льва“ – это парафраз апофегмы из Ветхого Завета: Книга Екклесиаста, глава 9, стих 4». Для названия сгодится! «В рукописи, – сообщал Ю. В., – в заготовках – вторая, срединная часть романа, самая трудная. И роман ли это – или трилогия? И успею ли? Вот такая история. Вот такая мистерия».
Всё успел Юрий Грунин – в той мере, какая была ему отпущена её величеством судьбой. И это стало у него жизнью в самобытном слове. «Спину земли» он завершил поминовением тех, с кем делил свои надежды и страдания в неволе. «О, сколь многих на спине земли мы почитаем живыми, а они мертвы. И сколь многих во чреве земли мы считаем мёртвыми, а они живы. Хотя бы в чьём-то сердце. В моём». Он ушёл к тем, кому посвятил Post Scriptum, – к Вадиму Попову, Генриху Людвигу, Дмитрию Смирнову, Ганне Рамской. Теперь мы причисляем его имя к этому списку – имя большого поэта. Это им сказано:
…А угодил я в царство мрака, в загон, где был на всё запрет — в ярь сюрреального ГУЛАГа: ни то ни сё – на десять лет. Ах, тили-тили, трали-вали, чтоб от темна и до темна батрачить на лесоповале: ждёт лес родимая страна! Но мы – из плена, не пугливы: нам ад не внове на земле… А вы ноктюрн сыграть могли бы по грудь в сугробе на пиле?Он сыграл!
И созданное им останется в истории многострадальной отечественной литературы, которая сумела наперекор всему выжить в ранней и поздней иммиграции, в немецких концлагерях и в родимом ГУЛАГе, в психушках и под безжалостным прессом цензуры. Он обращался к Родине: «Не знаю, каким заклинанием дойдёт до тебя эта весть – успею ли перед закланием сказать тебе: я ещё есть». Юрий Грунин есть – и сегодня, и завтра, и, дай Бог, пребудет всегда.
Глава 2. Все началось с Тбилиси
Нет, гора, твоей пташки: в полёте сгорела, Или вьюга пронзила бедняжку насквозь. Вот она и коснулась в пространстве предела. Может быть, ты мне скажешь: так что же стряслось? Мурман Лебанидзе[10]1
В моих записках нет приключений (как разумеет их иной любитель мемуаров). Это, предупреждаю, ни в коем случае не похоже, допустим, на «Замогильные записки» Франсуа Шатобриана или на «Исповедь курильщика опиума» Томаса Де Квинси. Недаром, взявшись за дело, я тут же припомнил слова моего почти однофамильца Михаила Зощенко (в чьей фамилии – золото высшей пробы) из его «Страшной ночи»: «А весёлого читателя, который ищет бойкий и стремительный полёт фантазии и который ждёт приятных подробностей и происшествий, автор с лёгким сердцем отсылает к иностранным авторам». Я отдаю себе отчёт в том, что Грузия сегодня – иностранное государство, но для меня она – с её людьми, музыкой, речью, горами, реками, с домом, где я когда-то жил, – всё та же, прежняя, своя, ибо моя молодость возвысилась ею. Здесь, в записках, я пытаюсь хоть как-то ответить на вопрос, заданный когда-то лириком Мурманом Лебанидзе малой пташке, которая сгинула, коснувшись в полёте предела пространства: «Так что же стряслось?» Что с нами происходило? Что с нами произошло?
И продолжу я, пожалуй, рассуждением о том, что счастливы (без всяких оговорок) мы бываем, увы, не так уж долго. Какой-нибудь миг. Этот миг, слава богу, был и у меня. Во всяком случае, как мне кажется, всё об этом свидетельствует. Тогда, совсем молодым (прямиком с солдатской службы, только-только с берегов Аракса, с окружённой дикими горами Нахичевани, откуда по солнечным дням хорошо виден Арарат со всеми его рафинадными зазубринами), я жил в Грузии, я жил Грузией. Кстати сказать, далеко не каждому из нас дано взять в толк, что именно, не обнаруживаясь очевидным образом, навсегда уплывает из наших рук на переломе дней. Все по-разному переживают такие утраты и упущения.
Классическим стал образ кинто – классического бездельника и мошенника – в шароварах, роняющего товар с огромного табахи (деревянного блюда) на землю и бросающегося лихорадочно его собирать, чтобы немедля вновь водрузить на место.
– А что? Разве было что-то?
Он улыбается, нисколько не смущаясь.
И ты в ответ улыбаешься. На то он и кинто. Подумаешь, чепуха какая. Большего горя не видал?!
У меня получилось так, что перед самым отъездом в длительную командировку в Венгрию, в Будапешт (в Южную группу войск) я провёл пару дней рядом с Военно-Грузинской дорогой, а именно – рядом с Гуд-горой, справа от которой стремительно проваливалась в тартарары пропасть глубиной, пожалуй, с километр (а по её дну нёсся пенистый поток легендарной Арагви с голубовато-серебристым дымом над нею). Но большую часть времени я был в окрестностях села Земо Млети (о, о нём можно долго говорить!) – там, где древняя крепость своею башней бросает вызов времени и где крестьяне, посылая в разведку цепкие кустарники и деревья, отвоёвывают землю у каменистых гор. Тогда-то у меня, на секунду ощутившим себя фельдъегерем в почтовой оказии, охраняемой конвоем казаков и пехотинцев с пушкой, родились такие строчки: «Расшифрую все горные знаки я – и не сделаю наоборот. Дай сегодня мне песню Акакия – чтоб не портил её перевод».
И тут до меня дошло, что всего этого в моей жизни никогда больше не будет, что на пиросманиевском полотне «Ишачий мостик» не останется ничего, кроме несущихся во тьму чёрных птиц. Простите меня, дорогой батоно Нико, что я столь беспардонно, ради красного словца, воспользовался вашей картиной, – но вы ведь догадываетесь, для чего мне это потребовалось. Я иногда сталкиваюсь во сне вовсе не с тбилисскими кварталами советской поры, а с уголками Старого Города, который с гордостью и не без основания именовался вторым Парижем. Даром ли Осип Мандельштам в двадцатых годах в своих заметках о Грузии счёл важным сказать, что там «стоном стоит клич»: «Мы не азиаты – мы европейцы, парижане!»
Надеюсь, что я стал-таки писателем, которого читают. И уверен: этого бы не произошло, если бы судьба не подарила мне Грузию.
Произошло невероятное. Как говорится, прихоть колеи полнолуний. Уже перед самым концом солдатской службы в Нахичевани-на-Араксе меня направили по какой-то надобе артвооружения в десятидневную (о господи!) командировку в штаб Закавказского военного округа, в Тбилиси, о котором Иосиф Гришашвили, размышляя о судьбе родного караванного города выдохнул незабываемо: «Вот зрелище – глазам раздолье!»
Там мне посчастливилось встретиться с главным редактором республиканской «Литературной газеты» – то деловитым и вечно, как на пожар, куда-то спешащим, то вдруг на миг-другой уходившим в себя – Иосифом Нонешвили, которому я посвятил незатейливые стихи, ему очень понравившиеся: «…очь. И, побрякушки слов забросив, трезво примем правила игры. И поэт по имени Иосиф вышлет строчку с грохотом Куры». Я посылал ему письма; он, бывало, отвечал (на редакционных бланках; текст – машинописный, отпечатанный секретаршей).
Он встретил меня на площади Ленина, возле штаба ЗакВО, вернее, на углу, возле популярнейшей хинкальной – да так, будто мы были с ним знакомы давным-давно, взахлёб рассказывал о недавней поездке в Египет и Индию. Мы шли по проспекту Руставели. Я не верил происходящему. Этот город казался мне блистательным центром поэзии, литературной Меккой. Теперь я понимал причину захлёбывающегося тона Якова Полонского, который принялся было «наскоро» описывать Льву Сергеевичу Пушкину свои впечатления от города над Курой в «Прогулке по Тифлису». В итоге у Полонского, к счастью, получилась блистательная поэма, в которой оглушителен выдох неподдельного восторга: «Тифлис для живописца есть находка!» – и жалоба: «Не могу дорисовать картины!» (Не хватает, мол, красок, хотя с красками всё было в полнейшем порядке…) – и далее (как заключительный аккорд и клятва): «Но, признаюсь вам, надо жить/ В Тифлисе – наблюдать – любить —/ И ненавидеть, чтоб судить/ Или дождаться вдохновений…» Чего-чего, а вдохновение в Грузии можно было черпать полными пригоршнями. Именно это имел в виду Борис Пастернак в заметках о Николае Бараташвили, припомнив то, что манило Пушкина и Лермонтова к грузинскому Кавказу: «Сверх пёстрой восточной чужеземщины, какою встречал их Тифлис, они где-то сталкивались с каким-то могучим и родственным бродилом, которое вызывало в них к жизни и поднимало на поверхность самое родное, самое дремлющее, самое затаённое».
Здесь помпезно, сменяя друг друга, проходили декады культуры, и на них слетались отовсюду тогдашние «звёзды» искусства; грузинская поэзия благодаря вдохновению московских переводчиков завоёвывала сердца миллионов читателей – ничуть не меньше, чем грузинские вина и грузинское кино. Это был праздник с великолепными афишами, пышнейшими банкетами, самый разгар праздника, которого не случалось прежде и которому, как ни жаль, впредь уже не дано повториться – ни-ког-да.
Мы шли по красавцу-проспекту с Иосифом, и его буквально через каждый шаг останавливали, раскланивались с ним. Он тут же забывал обо мне, заводил длиннющие разговоры с ахами и охами – вай ме, вай ме, вай ме; а что оставалось мне: я лишь отдавал честь проходившим мимо бесчисленным офицерам.
Известность и слава Нонешвили были поразительны, но я не хотел торчать столбом возле оперного театра или подвальчика «Воды Лагидзе», поскольку боялся встречи с патрульными.
Иосиф запретил называть его по отчеству (Элиозовичем) и на «вы»:
– Ты что, с ума сошёл?!
Из-за чего я прямо ошалел.
Потом его внезапно озарила какая-то идея, и мы направились прямиком на улицу Луначарского, 7, к Михаилу Кузьмичу Головастикову, полковнику, главному редактору окружной газеты, молодому ещё, но седовласому, по-рязански голубоглазому. Я понятия не имел, чем всё это может кончиться. Мы договорились с полковником, что я вскоре, уже в октябре, уйдя в запас, перееду сюда на работу спецкором. Чтоб подкрепить соглашение, Михаил Кузьмич налил нам с Нонешвили по стаканчику пятизвёздочного коньяка. Его не смутило, что я был в солдатской форме со скромными лычками на погонах с пушечками.
А вечером Иосиф повёл меня к себе домой. Из окна его шикарной квартиры открывался во всём блеске вид на Мтацминду с могилами Грибоедова и Нино Чавчавадзе и храмом Святого Давида. Я был в полном потрясении. Пятилетний сынишка Иосифа, оставшись на минутку без присмотра, нарисовал на стене карандашом то, что видел постоянно, – гору и нечто, похожее на фуникулёр.
– Сынок, так ты художник? – изумился гордый отец. – Надо будет сохранить эту наскальную живопись.
А после этого начался пир – с огромными гроздьями винограда, кукурузными лепёшками, лобио, фаршированными баклажанами, сациви, чахохбили, чанахи, рыбой-соцхали, кинзой, базиликом, соленьями – мжавеули, нескончаемым кахетинским… Я был вымотан, усталый до крайности, переполнен невероятной, просто бьющей наповал многокрасочностью Тбилиси – и после второй рюмки чачи я вырубился, успев вымолвить: «Виноват… пардон…»
2
В ту пору я считал Нонешвили едва ли не первым стихотворцем Грузии. Я узнавал его поначалу с голоса талантливейших переводчиков, для которых грузинская поэзия дала возможность раскрепоститься и окунуться в праздник «оттепели». Как сказала мне Белла Ахмадулина, далеко не все хозяева-тбилисцы понимают, чему так радуются гости-стихотворцы и почему таким жаром раскрепощённости и вседозволенности обдают их подстрочники, то, что и было названо ею «самым родным, самым дремлющим, самым затаённым». Я читал в переводе Беллы стихи Иосифа:
Вот я смотрю на косы твои грузные, как падают, как вьются тяжело… О, если б ты была царицей Грузии — о, как бы тебе это подошло!.. Хатгайский шёлк пошёл бы твоей коже, о, как бы этот шёлк тебе пошёл, чтоб в белой башне из слоновой кости ступени целовали твой подол… —и чувствовал, какая дерзкая надежда на свободу – и творческую, и гражданскую, – какая жажда взаимности водили рукой несравненной Ахмадулиной.
То же самое и в то же самое время услышал я и от Евгения Евтушенко, совсем юного, но уже приобретшего поистине громкое имя. Непривычен! Дерзок! Шагает не в ногу! «Комсомольская правда», самая популярная в те годы газета, обрушилась на него с разгромной статьёй «В погоне за дешёвым успехом». Вы посмотрите, как этот Евтушенко говорит о советском народе?! «Гремя своими вечными веригами, ты шёл во имя чести и любви… Тебя, Россия, сделали великою великие страдания твои!» И ведь это всё о ком? О народе-победителе-первооткрывателе-богатыре?! Обвинили Евтушенко и в попытках возвратить мещанскую поэзию, в «сердцеедстве», подчёркивании своей необычности, в стремлении «взобраться на пьедестал в надежде собрать вокруг себя кучку озадаченных ротозеев», огорошить их пошлостями своей любовной лирики (в пример приводились даже вот такие грустные строки: «Как стыдно одному ходить в кинотеатры, без друга, без подруги, без жены, где так сеансы все коротковаты и так их ожидания длинны!..») Распространялась глупейшая эпиграмма: «Где Евтушенко – там скандал. Так имя он себе создал». Но не «скандалы» были виной его фантастического успеха. Виной были сами стихи. Его публикации в журналах и газетах вызывали читательский ажиотаж. Это было так же полновесно и громко, как победы Михаила Таля, устраивавшего землетрясения в шахматном королевстве (того, кстати, тоже называли фейерверочной ракетой).
Именно там, в Грузии, второй колыбели русской музы, в благословенном 1959-м я открыл для себя уже прославленного поэта, не умещавшегося «в жёстких догмах», «то ли бога», «то ли грешника», требовавшего, чтобы граждане послушали его, по-родственному принятого и обласканного острыми на глаз и слух Галактионом Табидзе, Георгием Леонидзе и Симоном Чиковани. Слово его зазвучало для меня по-настоящему даже не с «Третьего снега», а с того дня, когда с Карло Каладзе и Демной Шенгелая я поехал по ненадёжному серпантину, почти лишённому асфальта, высоко в горы, в Тианети, и там в магазинчике типа сельпо Карло Ражденович спросил, нет ли у них сборника «Лук и лира»; на удивление, нашлось семь экземпляров – и все они стали нашей добычей. Читали вслух по очереди, не пропускали ни оригинальных стихов, ни переводов, а поздним вечером под луной немногословный Шенгелая встал над бесконечным, богатым столом (прямо рядом с речкой) и произнёс тост «за станцию Зима, которая подарила нам поэта на все времена».
Однажды Нонешвили позвал меня на творческий вечер Евгения Евтушенко в Тбилисский университет. «Я буду вести этот вечер», – сказал он с гордостью. Самая большая аудитория была битком набита и наэлектризована. Многие девушки пришли с букетами цветов. Кажется, в тот раз впервые прозвучали евтушенковские строки: «О, Грузия! Нам слёзы вытирая, ты русской музы колыбель вторая. О Грузии забыв неосторожно, в России быть поэтом невозможно». В самом конце Нонешвили пошутил: дескать, это не вечер – это День поэзии! Так и родилось тогда у него стихотворение с этим названием, переведённое виновником торжества:
…Когда ты вовсе изнемог от слёз, сомнений и от того, что ты не Бог и ты не гений, но от своих земных грехов прорвёшься в небо песнею, — тогда настанет день стихов, настанет День Поэзии!Несмотря на то, что Иосиф был прописан, как почти все остальные, в нашей стране, «сталинским солнцем согретой», мне нравились нестандартные его строки с мольбой об отпущении грехов от имени человека, не побоявшегося украсить орнаментами церковь Кошуэты; тут были и бирюза портрета Бараташвили, и ветер вин и фруктов, веющий из Алазанской долины, и речка Квирила, и высоко над нею – крепость Моди Нахе, и безмолвствующие часы в комнате Акакия, и мцхетские ворота, думающие о Светицховели и древнем Армази (многое из этого было подарено русскому читателю в прекрасных переводах Михаила Синельникова)… И только впоследствии до меня дошло, что всё это сочеталось в Иосифе с верой в гений товарища Сталина и необходимость проводимых им репрессий. Это он в знак протеста против хрущёвских «нападок» на вождя читал на историческом митинге 7 марта 1956 года стихи, воспевавшие тирана.
С лёгкой руки Иосифа и прозаика Эммануила Фейгина (автора повести «Мальчик пляшет под дождём») мне, застенчивому юнцу, удалось войти в литературную среду Грузии, часто бывать в республиканском Союзе писателей, где я не раз сталкивался с самим батоно Галактионом. Слово «сталкивался» я употребил не случайно: такое сильное впечатление производил на меня всем видом Табидзе, ярчайший представитель «Синих Рогов». Действительно, даже его гибель вызвала у кое-кого зависть. («Цвет обещала малейшая завязь. Кто ж не завидовал жизни твоей? Но ведь и смерть твоя вызвала зависть. Горькая участь великих людей…» – Фридон Халваши.)
Несколько великолепных переводов из лирики Табидзе были сделаны Александром Цыбулевским – поэтом-тбилисцем, которому не требовались подстрочники; вот хотя бы один из них:
Так лодочник у старого причала… Душа так душу, руку так рука… Я сразу вас узнал, мои начала, Река и лодка, лодка и река. Давнишние… Душа их забывала, И всё-таки надёжно берегла. О, это ощущение штурвала И юности святые берега! Теперь бы в лодке (это не причуда) Сто лет проспать, воспрянуть ото сна И поглядеть на мир – как и откуда Здесь воцарились солнце и луна.Воздействие поэзии и облика Галактиона было почти физическим: жизнь и смерть у него всегда преодолевали железную стену соцреализма.
…Лес костями звенит – и безумие в звоне: Бездыханные дни канут раз навсегда! Оттого, как во сне, мои синие кони К вам прискачут. Да вы уже мчитесь сюда!Узнав о самоубийстве Галактиона, я не смог опубликовать в нашей газете некролог (это было запрещено), зато посвятил его памяти стихотворение, которое мне удалось довести до конца лишь в 2004 году: «Так земля загрустила о небе, что рванулась вослед за тобой. И весна, и „циспери канцеби“[11] вдруг утратили цвет голубой. Хоть безумная тайна раскрыта, тут же новая встала за ней. Перепачканы кровью копыта уносящихся синих коней…» Для меня безмерно дорога оценка, которую дал моей переводческой работе Александр Ревич («Воля „свободного поля“». «Дружба народов». № 5. 2012): «…Потому-то вслед за этим разделом (стихи, посвящённые Грузии. – В. М.) в книгу включены переводы из замечательных грузинских поэтов – Галактиона Табидзе, Важи Пшавелы, Симона Чиковани… Стихи по-русски воспринимаются не как переводы, а как поэзия русского поэта. Так всё естественно и прозрачно. До чего пронзительно звучит конец стихотворения Важи Пшавелы „Песня“: „Поток, гудя набатно, вспухнет. Кого-то позовёт. Кого? Скала на дно ущелья рухнет… Жаль: не увижу ничего“. А знаменитые стихи Галактиона Табидзе „Мэри“ и „Синие кони“! По-русски это лучшее из переведённого Галактиона. Как прекрасно заканчивает Владимир Мощенко стихотворение „Синие кони“: „Ты бесчинству тумана не крикнешь: „Доколе?!“ Здесь на дыбе проклятья промёрзли гробы. Это ветер грохочущий – синие кони. Это круговороты штормящей судьбы“».
Логотипом моего тогдашнего бытия, освящённого молодостью, стали слова Гоглы Леонидзе: «Стих и юность – их разделить нельзя, их одним чеканом чеканили».
По правде сказать, юность у меня была, что называется, в самом разгаре, а вот до настоящего, моего стиха было ещё очень далеко.
Но поразительно то, что, такие львы, как Демна Шенгелая, Карло Каладзе, Алеко Шенгелия, брали меня с собой в поездки, в горы, на встречи с читателями. Общение с этими тяжеловесами стоило многого. Мы дружили с Отаром Чиладзе, у нас были доверительные отношения. Мы спорили с ним о Есенине и Тихонове, а чаще всего – о Лермонтове, которого он переводил на грузинский. В те поры и возникли мои строчки: «Я был до ужаса обычен, к тому ж ещё косноязычен, но отчего-то мне везло. Меня не отвергали боги – Хута, Резо, Алеко, Гоги. Я с ними пил в Сабуртало. Я знал, что рано или поздно обман разоблачится грозно и спросят: „Кто ты же ты такой?“ Я с ними пел. И песни эти мы продолжали в Тианети, где трогал я луну рукой…»
3
В начале шестидесятых я написал стихи, которые неожиданно были опубликованы в центральной печати, и мне даже прислали похвальный отзыв главного редактора. Стихи эти я посвятил Иосифу Гришашвили – после того, как мне посчастливилось прочитать его «Прощание со старым Тифлисом» в переводе Бориса Пастернака (в переводе поистине гениальном). А вскоре в нашей газете появились и другие мои стихи (на что я, понятное дело, никак не рассчитывал):
Ели на проспекте Руставели, Вы ещё сильней поголубели, Потому что сутки напролёт После небывалых потрясений, После смертной стужи дождь весенний, Оттепель почуяв, льёт и льёт. Нет вопросов прежних: «или – или»! И сказал Иосиф Гришашвили, Что дорог непроходимых нет, Что с утра придёт теплынь в Коджори, Что заглянет к людям прямо в Гори Ласковое солнце Кобулет.Эпиграфом стояли слова Гришашвили: «Вот где и мы по заслугам получим» (об этой строчке речь – впереди). В редакции эпиграф сняли. А ответственный секретарь Борис Виссонов, хоть и покачал укоризненно головой, но препятствовать не стал. «О природе – это хорошо, – сказал он. – Будь здоров!» Мой приятель Гоги Мазурин, редактор издательства «Заря Востока», руководитель русской секции при СП Грузии, заместитель главного редактора журнала «Литературная Грузия», проиграл мне поход в духан: он сомневался в том, что эти строки увидят свет, сказал после публикации, дескать, стихотворение произвело весьма хорошее впечатление на Иосифа Григорьевича; тот, мол, даже удивился – что вдруг ты его здесь вспомнил?.. Гоги посоветовал: ты же, дескать, ведёшь в своей газете рубрику «Слово писателя» (под лозунгом «Наказам партии и Родины верны») – так что тебе и карты в руки, повстречайся с ним, возьми у него интервью, он не откажет: редчайшей душевности и скромности человек, да к тому же он – владелец неслыханных кладов. Эти клады, признаюсь, заинтриговали меня, но Гоги не объяснил, в чём тут смысл: «Сам узнаешь».
Мы с Иосифом Григорьевичем договорились о встрече. Он сразу узнал меня по фамилии.
– Помню, помню. Читал «Вечёрку». Буду ждать.
Только впустил он меня в квартиру, поразившую множеством прекрасных картин, как тут же раздался пронзительный телефонный звонок – скорее всего, междугородный. Гришашвили, просияв, попросил прощения, кивнул, чтобы я проходил в его кабинет, в котором висел портрет очень красивой женщины (почти в профиль), чьи большие выразительные глаза были горделиво и мечтательно устремлены куда-то, в недосягаемую высь, демонстрируя божественную власть вдохновения. Через несколько минут разговор закончился, и Гришашвили присоединился ко мне.
– Это жена, – сказал он. – Кетуша. Она на гастролях. Говорит: всё у неё в порядке. Слава богу!
Да, это была его жена – Кето Джапаридзе.
А он продолжал, всё ещё находясь под впечатлением разговора с нею и помолодев сразу лет на десять – не меньше:
– О ней можно написать книгу. И, поверьте, читать такую книгу будут с большим интересом. В её голос был влюблён Акакий Церетели. Он посвятил ей замечательное стихотворение. Конечно, лучше всего, если бы она сама села за письменный стол, чтобы рассказать о своей жизни, о своей карьере. Я её тыщу раз уговаривал. Не соглашается. Говорит, что у неё терпения хватает на одно письмо – и то, если оно короткое. Жаль. Рассказала хотя бы о бабушке по материнской линии, Манико Кипиани. Да она поэмы заслуживает, бабушка! Вот кто научил петь маленькую Кетушу. Лучшей певицы, чем калбатоно Манико в Хашурском районе не было! Кетушин отец, Константин Джапаридзе, к ним часто присоединялся: он играл на кларнете – и как играл! Представляете, Кетушины брат и сестра, Реваз и Тинатин, тоже были музыкально одарёнными: его красивым баритоном все восхищались, а малышка играла на арфе. Ну, как это вам?! Вообще-то Кетуше везло. Её отдали в тифлисскую дворянскую гимназию – а там учителем музыки и руководителем хора был – поверите ли? – Захарий Палиашвили! «Откуда у тебя такой голос, милая девочка?» – спросил он. И ей, совсем ещё молодой, на каком-то концерте доверил арию из своей оперы «Абесалом и Этери»…
– Я слышал о вашей жене, – отозвался я. – И её слушал, и не один раз. У неё прекрасный голос, да к тому же, как говорят знатоки, это бельканто. Кето Джапаридзе – большое имя.
Он был польщён, как будто я похвалил его.
– Вай ме! Вы так думаете? Вы разбираетесь в этом?
– Стараюсь. Больше всего в её исполнении мне нравятся романсы. А это правда, – спросил я, – что она родилась в Квишхети?
– Правда, мой дорогой. А что?
– Я влюблён в Квишхети, в его Боржомское ущелье. И уверен, что там Кура, как нигде, просится в стихи. Мы были там в Доме творчества с Володей Соколовым.
Набравшись храбрости, я прочитал несколько строчек, привезённых оттуда: «…И я боржомом чачу запиваю и слушаю гремящую Куру, предательство в горах я забываю и забываю даже, что умру. Ведь я боржомом чачу запиваю…»
Гришашвили улыбнулся:
– Чачи у меня нет. А вот кофе будем пить. Раньше я чаем увлекался, но Кетуша приучила меня к кофе: она в этом деле большой специалист.
Мы пошли на кухню, блиставшую чистотой и порядком, где я убедился, что он и без жены ловко и охотно управляется со своим хозяйством. Он быстро водрузил на стол несколько видов сыров, деревенский окорок, зелень и принялся готовить кофе…
А я достал из папочки «болванку» будущей статьи, которая предназначалась для его подписи, – и сразу почувствовал, что вся эта моя задумка – чушь несусветная, что автора для нашей газеты здесь я не приобрету.
– Вы хотели что-то показать? – спросил Гришашвили, косясь на мою «заготовку».
– Ну… это болванка, как мы в редакции говорим, а вы внесёте в неё всё, что посчитаете важным и нужным… И, наоборот, ненужное зачеркнёте. Мы всегда так делаем…
Он дважды погружался в чтение, на что ушло минут пятнадцать-двадцать. Я следил за выражением его бледного, не очень весёлого лица, не скрывавшего отвращения, поглядывал на его голову с крутым лбом, на остатки седовато-тусклых волос. Чем дольше он читал, тем тоскливее и гадливее становилось у меня на душе. О господи, в моей «заготовке» столько пошлости, штампов, дешёвого патриотизма!
Но Гришашвили воздержался-таки от гнева. Ничего не объясняя, он вернул мне злополучные листки.
– А где вы живёте? – спросил он, чтобы поскорее «перейти к другой теме». – В каком районе?
– На Авлабаре, – ответил я, радуясь, что буря миновала и скандала не последует. – Между больницей Арамянца и Навтлуги. На Черноморской.
Гришашвили оживился.
– Молодой человек, оказывается, мы с вами земляки.
Он действительно был родом с Авлабара. Именно с этим районом он чувствовал особую, кровную связь, помнил все подробности детства, прошедшего там, внимательно слушал, будучи подростком, ашугов, без которых и праздник не считался праздником; а как восторгался он старинными «харахурами» – вещицами, продававшимися на базарах – зачастую почти даром. Никак не могу пройти мимо его воспоминания: «Между грудами овощей, фруктов, среди лавок с роскошными персидскими коврами бродят горцы, увешанные оружием; букинист с кипою книг, туго перетянутых ремнём, вглядывается в толпу… Турки и арабы молча следят за прилавками, дымят кальяном, перебирают янтарные чётки. Над раскалёнными торнэ – пекарнями вьётся сизоватый дымок. Пахнет горячим хлебом, пряностями и ещё чем-то квашеным». Чаще всего в отрочестве Иосиф стремился попасть на Майдан, где не смолкала ни днём, ни ночью разноязычная речь, поскольку с незапамятных времён тут и было перекрестие дорог из Азии в Европу (и наоборот), где встречались пёстрые, попадавшие на полотна художников караваны, а вместе с ними – не похожие друг на друга культуры и религии.
Я узнал, что Гришашвили работает над монографией о Саят-Нове.
– Он ведь тоже авлабарский, – сказал Иосиф Григорьевич.
Позже я прочитал «свидетельство» самого Саят-Новы[12]:
Где ж родился Саят? Сказал тот – Хамадан, Этот – Нид. Нет, отец мой из дальних был стран, Жил в Алеппо, а мать – авлабарка; мне дан Свет в Тбилиси – свою в нём нашёл я судьбу.И похоронен этот легендарный поэт у входа в собор Святого Геворга в Тбилиси…
В основе создания монографии, несомненно, – личностный импульс, и он играет далеко не последнюю роль. Гришашвили находил в судьбе Саят-Новы, поэта XVIII века, много общего со своей судьбой. И Саят рос в семье ремесленника. И он сызмала добывал хлеб насущный, приставленный к ткацкому цеху, чьи промыслы располагались прямо на улицах. А ткачи по прихоти судьбы были людьми необычными: ловко сочиняли песни, сами же пели их, подыгрывая себе на разных струнных инструментах. И приезжали они сюда из разных уголков Закавказья. Незаметно для самого себя Саят во всей полноте овладел армянским, грузинским, азербайджанским, их диалектами, стал свободно говорить на фарси и даже на белуджском. И стихи у него появлялись необыкновенные, и на кеманче и чонгури он играл, как настоящий музыкант, и голос у него был, по свидетельству современников, чарующий. Так же, как и я, говорил Гришашвили, Саят норовил слушать ашугов, среди которых встречались весьма одарённые, – и все они были влюблены в город, давший им кров, тепло, признательность, и, конечно же, в свой Авлабар с его Майданом, узкими, горбатыми улочками и закоулками, дрожками, арбами, блеяньем жертвенных ягнят, кувшинами с вином, ветхими балкончиками, криками детей, запросто понимавших друг друга, ишаков, запахами невиданных блюд… Гришашвили не мог представить себе свой Авлабар, свой Тбилиси без ашугов.
С подкупающей сердечностью, подробно, тонко и проникновенно говорится им в уникальнейшем, ставшем библиографической редкостью повествовании[13] о милом его сердцу старом Тбилиси: «Не один путешественник ходил зачарованный по узким и кривым улицам, не один пытался постичь тайну жизни, что течёт вопреки всем законам и правилам, и не раз „азиатский Тифлис“ пробуждал вдохновение чужестранца». Его отцом был мелкий ремесленник, едва сводивший концы с концами, болезненный, но весьма начитанный, грамотный, знавший наизусть множество стихов и песен. Может быть, как раз его слова приводит в своём повествовании Гришашвили: «А теперь расскажу тебе о библиотеке старого города. Ты должен знать, что мир грузинских книг велик, древен и многообразен, их биография удивительна. В коротких тревожных перерывах между войнами создавались шедевры нашей словесности». Вместе с ним маленький Иосиф постигал красоту слова в «Великом моурави» и «Мудрости вымысла». Кстати, рано догадался Иосиф, что «красота – для жизни, а не для музея».
Увы, рано познал он и много чего другого, вкусив горечь безотцовщины. Пришлось бросить гимназию, самому добывать себе хлеб и деньги на книги, без которых он не мог жить, довелось ему быть «мальчиком» у хозяина, иногда доброго, иногда и не очень. Он выглядел гораздо старше своих лет, отличался сообразительностью, тягой к творчеству. Это и помогло юноше устроиться наборщиком в типографию. Тогда-то он и принялся сочинять что придётся, в том числе и водевили, которые сам же ставил в драмкружке, созданном им в ремесленном квартале. И произошло чудо: его пригласили в Тбилисский театр. «Как в романе!» – говорил Гришашвили. Он сперва не поверил, что приглашение – не шутка.
– О, – улыбался он, рассказывая об этом, – актёром я стал не сразу: сначала мне довелось поработать суфлёром. Главное – что мир искусства взял меня в плен. И стихи я писал чуть ли не каждый день. Меня уже начали печатать, появились неплохие рецензии.
А когда Иосифа, заметив его несомненный талант, позвали в Гори, в редакцию газеты «Картли», он не стал раздумывать, сразу же согласился – тем более, что в ней сотрудничал великий Важа Пшавела, чьей поэзией он восхищался.
Иосиф Григорьевич сказал мне:
– Я учился у него не только музыке, инструментовке стиха, но и сплаву в стихе драматизма, трагизма и веры во Вселенский Разум. Меня поражали его мощные строки, обращённые к Арагви – попробуйте перевести их для русского читателя: «Здесь, рядом с горами, встречая зарю, несчастные песни, несчастный, творю. Глазами и сердцем я сызмальства там, и тень сумасшествия шла по пятам. Вот так и умру я, видать по всему, и все эти камни я в душу приму».
Обращаясь к этому гению, воспитаннику горцев – пшавов и хевсуров, он называл его почтительно по имени-отчеству: Лука Павлович, на что тот усмехался, но без всякой снисходительности. Пшавела одобрительно отнёсся к поэтическим опытам Гришашвили, отметил его лирико-эпический темперамент и «широкое дыхание» и предсказал ему скорую большую удачу. Он был хорошим педагогом, потому что долгое время со славой учительствовал в селе Тонети (недалеко от Манглиси). Молодой поэт неосознанно нашёл себя в стихии грузинского символизма, родственного символизму общеевропейскому. Знатоки замечали, что в его поэтике раннего периода есть мотивы, присущие, например, Владимиру Соловьёву, а я в нашем с ним разговоре даже привёл в пример такие соловьёвские стихи, как: «Вся в лазури сегодня явилась…», «Милый друг, иль ты не видишь…», «Под чуждой властью знойной вьюги…» Иосиф Григорьевич ответил: «Что ж, может быть». Но ответил, если честно сказать, уклончиво. Характерно для той поры стихотворение Гришашвили «Твоя шея» (1919):
Твоя шея… Сравнили её с тростником — Этим дивом машракским, с причудой шарбата. Нет! В ней – мрамор. Мечтается мне о таком, Потому что им радуга в высях богата. И кувшину хрустальному шея родня. Но отыщется мною получше картина: Это профиль твой – тотчас сразил он меня, Будто высекся небом самим лебединно. Два-три раза встречались с тобою – но впредь Мой рассудок хвалёный навеки утерян. Своей смертью теперь не смогу умереть — Дорогая, я знаю, я в этом уверен. Театральная ложа… Я вижу: ты в ней. И гляжу на тебя я, безвольно немея. Гаснет свет – ну а ты всё видней и видней. Ты – мой жемчуг, моя дорогая камея. И на креслах – твой отблеск, предвестник поэм, Отблеск взоров твоих, до того благосклонных, Что сейчас будешь кланяться – этим и тем, И ловить буду нежность я в этих поклонах. А теперь на меня ты наводишь лорнет. Чародейка, скажи мне: ну что тебе надо? Что ж, в упор погляди. Но, пожалуй, что – нет, Нет, не выдержу этого жадного взгляда. Ожерелья твои горячи, словно страсть. Надо мной ты – лучась, каждый миг хорошея. Мне б губами к груди твоей дерзко припасть, Мне б на этой лебяжьей повеситься шее!По этим строчкам нельзя не заметить, что он всячески истреблял анемию слова, избегал недоговорённостей и условностей, уходя всё дальше от устоев символизма европейского и русского толка. Наверно, такие вот «вольности» и дали повод критикам в первых большевистских журналах и газетах упрекать Иосифа Гришашвили за то, что его «несомненно талантливое» творчество, «к сожалению», носит печать мировоззрения, сложившегося в период после реакции 1905 года, когда большая часть интеллигенции отошла от идеалов революционного движения, и что поэтому его поэзия выражает «упадочнические настроения» и «насыщена эротическими мотивами». Скорее всего, имелись в виду, в частности, стихи (посвящённые, очевидно, Софико Чиджавадзе, женитьбе на которой воспрепятствовали её родители, выдав дочь за другого человека, увёзшего её с собой за границу), которые мне хочется дать в подстрочнике, чтобы сохранить их первозданность, нерв и энергетику: «Блуд одолеет тебя,/ предчувствую это./ Паденье твоё предвижу./ Тело твоё грациозное/ чьим-то рукам достанется./ Ты падёшь, как Бианка, – / мучусь и уже не сомневаюсь./ Паденье твоё – что за грязь,/ с кем ещё такое приключится?/ Отзовёшься, как дешёвка, на чью-то страсть./ Кто ещё так низко падёт?/ Груди твои обвиснут, будто увядшие гроздья./ И куда ни позовёт тебя эта пагуба,/ побежишь, как дворняга,/ и блудом подгоняема будешь./ И так затоскуешь по юности,/ когда душа раскрывалась/ отзывчивей роскошного тела./ И возопиешь, что любовь ни во грош ты не ставила,/ – на что надеялась?/ что приключилось с тобой?/ для чего загоралась?/ и это – мечта твоя?/ Но встречу тебя, царица моего сердца,/ на улице припёртой к стене,/ – я прильну к тебе губами/ и поцелуями очищу тело твоё от плевков./ Не услышишь упрёков, ни единого слова худого./ Прижму тебя к себе, к сердцу,/ самый несчастный и самый счастливый,/ закрою глаза, и зарыдаю,/ и скажу, что, как прежде, тебя люблю./ Подойди же, протяни мне руки и поверь:/ смирюсь, что не был я первым,/ позволь мне быть у тебя последним».
Это, как мне кажется, перекликается с «Рыжей красоткой» Аполлинера, чей лирический герой «пал», сражённый волшебством женственности – и пьянящей, и жалкой, и доступной. К Иосифу Гришашвили ревнители новой, большевистской морали не желали снизойти. А вот к его французскому собрату Гийому Аполлинеру, бывшему на войне артиллеристом и пехотинцем, раненному на поле сражения в голову и «трепанированному под хлороформом», читающий мир Запада был преисполнен сочувствия: «Ведь этих медных прядей пыл,/ как молния чей свет застыл,/ так пламенеет луч случайный/ на золотистой розе чайной,/ что ж смейтесь надо мной вы ближние и все на свете люди,/ ведь обо многом я не смею вам сказать,/ а обо многом вы и слушать не хотите,/ так снизойдите же ко мне»[14]. И снисходили. А Гришашвили, нежно прозванного многими у себя на родине «поэтом поцелуя», прощать не хотели.
В Грузии утверждалась невиданная эра. Поэту навсегда запомнилось 25 февраля 1921 года: в этот день в Тбилиси вошли части 11-й Красной армии.
– Я был тогда в Гори, – вспоминает Гришашвили. – Слухи с быстротой молнии носились по городу, с улицы на улицу, из дома в дом. Уже 16 февраля дошла весть, что красноармейцы перешли нашу южную границу через Красный мост и овладели селом Шулавери. Многие у нас восторгались мужеством кахетинских добровольцев, которые пытались сопротивляться, и их командиром Степаном Ахметели. Кровавые бои шли на подступах к Тбилиси, у села Табахмела: юнкера с шестью пулемётами и четырьмя пушками, как рассказывали, бились чуть ли не до последнего. Но ничего не помогло. Грузинская Демократическая Республика пала…
Этот натиск 11-й армии вдохновенно воспел Николай Тихонов, который, однако, никак не мог не понять, что значит для русского поэта Грузия. Его строки из «Гомбори» в моей злополучной «болванке» Гришашвили подчеркнул красным карандашом: «…Ты ищешь в прошлом с лёгкой дрожью, – явись опять, зелёный зной, – год двадцать первый встал и ожил над Мамисонской крутизной. О, сколько слёз и сколько жалоб на старом Грузии пути. Ночь меньшевистская бежала, к Батуму крылья обратив. <…> Тобою, Киров, как знамёна, снега Осетии зажглись, когда, не спешась, эскадроны переходили в них на рысь…» Были у Тихонова и такие строки из «Цинандали»: «…Предо мною, у пучины виноградарственных рек, мастера людей учили, чтоб был весел человек».
– Мне известны такие учителя, – вздохнул однажды Иосиф Григорьевич. – И розги их мне известны – слыхал…
То была эра, остро нуждавшаяся в «пролетарских поэтах», готовых прославлять в «маршах энтузиастов» «страну героев, страну мечтателей, страну учёных». И всякое лыко в борьбе с несогласными годилось в строку – тем более, что «поводы» для этого Гришашвили, надо признать, давал. Впору сослаться на воспоминания, оставленные профессором Иосифом Мегрелидзе (в «Сабчота хеловнеба») и доктором филологических наук Русуд ан Кусрашвили (в её интервью журналу «Тбилиселеби»). Здесь идёт речь о том, что Иосиф Гришашвили всегда находился в состоянии влюблённости (надо же, какой грех!), ина че у него не было стимула к творчеству. Его первая любовь – актриса Ольга Лежава. Второй любовью поэта была, как мы уже говорили, Софико Чиджавадзе. Потом он был влюблён в некую актрису из Потийского театра. Затем Гришашвили сблизился с талантливой поэтессой Мариджан, автором замеченного критикой сборника «Коралловые чётки», горячей покло нницей Анны Ахматовой. Мариджан Иосифом посвящались редкие по силе чувства стихи. Один из таких сонетов был переведён Осипом Мандельштамом (ок. 1921):
Ты так бледна, мой друг, что всякий говорит: Ты уподобилась сентябрьских дней прохладе, Ты сеешь тишину и робость в каждом взгляде, Враг бережёт тебя и ненависть щадит. Когда же кашель твой до слуха долетит, Ты, нежная, спешишь к кладбищенской ограде, — Люблю сильней, чем смерть в кумирах и в плеяде, Царица ярая, любви холодный щит. Быть может, до моей, до роковой поры, Ты, утомлённая, под складками чадры Укроешь скромных черт святое благородство, — Молю тебя, мой друг, смягчи моё сиротство Соседством сладостным: пусть свежие бугры — Твой и поэтов холм – хранят любви господство.В пору написания процитированного стихотворения и ему подобных поэт особой духоподъёмности, вызванной событиями в России и в Грузии, мягко говоря, в себе не ощущал. Напротив! Может быть, поэтому утверждалось, что с наступлением большевизма он «почти перестал писать стихи», что эпоха советского строительства чужда его творчеству. Вот с какой беспощадностью и непримиримостью громил Иосифа глава грузинской ассоциации пролетарских писателей Бенито Буачидзе[15] в статье 1933 года «Закат творчества»: «…Сейчас Гришашвили может считать свой поэтический путь вполне исчерпанным и законченным. Лирика его в нашей литературе умерла, и поэзия его в советской действительности является анахронизмом. Гришашвили остаётся только греться в лучах былой славы. <…> У Гришашвили есть ещё много поклонников среди значительных слоёв отсталого мещанства. Там он ещё пользуется влиянием. Необходимо уничтожить это влияние как среди читательских слоёв, так и среди писательства. Такая борьба обязательна и имеет своё оправдание». Кстати сказать, поэт никогда и не скрывал, что не принял Октябрьскую революцию, – и это обстоятельство долго висело над ним дамокловым мечом в годину репрессий. Обвинения терзали его душу: он догадывался, чем это кончается. На память ему, подвергавшемуся нападкам неуёмных хулителей, приходил, по его признанию, гнев Важи Пшавелы, который дал отповедь своим врагам в стихотворении «Орёл»:
Тоска орла израненного гложет. Пришлось ему сражаться с вороньём. Подняться хочет – и никак не может. Зовёт его напрасно окоём. Елозит по земле крыло… Опять я В кровищи весь. И ваша правда: плох. Вороны, вашим матерям – проклятья. Опять застали вы меня врасплох. Коли б не так – уж взвился бы теперь я, Уж как бы закружились ваши перья!У Иосифа вырвался горький вопрос: «С кем разделить мне мою незванность?» Но он ошибался: его имя становилось всё более и более известным. Гришашвили не скрывал гордости, что в переломные, трудные для него годы был замечен и Борисом Пастернаком, и Осипом Мандельштамом, не говоря уж о своих земляках – истинных любителях великой грузинской поэзии. С Мандельштамом и его женой, гостившими в Грузии, Гришашвили познакомился то ли летом, то ли осенью 1921-го, но скорее всего – когда пришла весть о гибели Николая Гумилёва. «Помянули его от всего сердца». Вспомнили, что в 1900–1903 годах Гумилёв жил в Грузии, куда его, болезненного мальчика, из Царского Села увёз отец, морской врач[16]. Мандельштам утверждал, что тут-то, в Грузии, среди гор «и проснулась у мечтательного и романтичного Коленьки тяга к поэзии». Именно в Тбилиси и явился миру Гумилёв со своими первыми напечатанными стихами: «Я в лес бежал из городов, в пустыню от людей бежал. Теперь молиться я готов, рыдать, как прежде не рыдал. Вот я один с самим собой… Пора, пора мне отдохнуть. Свет беспощадный, свет слепой мой выпил мозг, мне выжег грудь…» Мандельштам подарил Иосифу Гришашвили свои книги «Камень» и «Tristia»; он быстро понял, сколь высоко значение грузинского поэта-собрата. Своеобразие интонационно-образного богатства этого тонкого лирика было подчёркнуто им уже в переводе (того же года) стихотворения «Перчатки»:
…Я навёл на гору стёкла моего бинокля, Вижу: горы от тумана совсем поблёкли. Я собрал цветов отряды с радугой в подмогу И воздушную построил лестницу-дорогу. Из тумана, вышитого на горной палатке, Солнечными ножницами выкроил перчатки. У луны взял ниток, чудесного шёлку, Золотую у ручья одолжил иголку, Из бассейна брызнул водой лепестковой — И перчатки милой в подарок готовы…Многокрасочность, национальный колорит палитры Гришашвили, его интонацию и невесёлые (вопреки ухищрениям тихоновских «мастеров») настроения, продиктованные «сплошной лихорадкой буден», по выражению «агитатора, горлана, главаря» Владимира Маяковского, донёс до русского читателя с потрясающим мастерством, огромной любовью, сочувствием и бережностью Борис Пастернак.
Прежде чем перейти к переводам, предоставлю слово Аиде Абуашвили, чья статья «Пастернак и Грузия. Диалог поэтов» обращает на себя внимание глубиной анализа. В частности, здесь говорится: «В знаменитой книге Пастернака „Стихи о Грузии. Грузинские поэты. Избранные переводы“ (1958), знаменитой тем, что издана в Грузии уже в пору начала гонения на Пастернака (в 1957 году уже издан за рубежом „Доктор Живаго“, в 1958-м же Пастернак получит Нобелевскую премию), – так грузины решили поддержать поэта, – вот в этой самой книге помещено (в пастернаковском переводе) стихотворение Иосифа Гришашвили „Прощание со старым Тифлисом“ (1925). „Прощаться“ со стариной, с историческим прошлым поэтов заставляли уже с середины двадцатых годов, заставляли переключаться на индустриальную новь. Примечательно, что как раз в Тифлисе (в Грузии) в 1924–1925 годах Есенин прощался со своей „золотой бревенчатой избой“, с русской деревней, ну а Гришашвили – со старым городом (Тифлисом). Старый Тифлис – это целый мир, и Гришашвили – признанный его певец».
А теперь – вот что говорит по этому поводу (Тбилиси-Цагвери, 1926–1927) сам Гришашвили: «Я… Тбилиси люблю. <…> И велика ли беда, если ненадолго я сбегу от дневного света и запрусь в древнем книгохранилище? <…> Я Тбилиси люблю – семицветную радугу. Мне удалось подобраться к ней, приподнять завесу над тайной, сокрытой завесой времени. И прорвался на волю кристально-чистый родник – источник волшебной поэзии. Я припал к нему жадно, не оторвать, и струя его отныне течёт в моих жилах. <…> И говорю вам, друзья мои, братья-писатели грузинские: не отдадим Тбилиси археологам, сами его раскопаем, оживим, вдохнём вольного воздуха. <…> В жизнь вторглась техника; новый дух, новое мышление, одним словом, новый человек с новой конструкцией психики. Он вторгся как-то вдруг, с ходу, и с той же внезапностью исчез из литературы настрой романтического духа. Но… Я Тбилиси люблю. Люблю эту колыбель поэзии, беспечную богему, трепетное сердце Грузии, это… начало и конец моего существования». Иосифу Гришашвили зачастую бросались в глаза метаморфозы, «болью отзывавшиеся в сердцах грузин». Недаром он ищет поддержку в поэзии Ильи Чавчавадзе, который горевал по поводу каждодневных утрат его отчизной яркой самобытности, и ссылался на его слова: «Не тянет меня в Тбилиси, не тянет, не лежит у меня сердце к родному городу, изменился он, будто все тбилисцы снялись с мест и ушли, и явились вместо них пришельцы невесть с каких краёв».
Обращаясь к читателю, способному понять его с полуслова, Гришашвили говорит, как дорого всё вчерашнее, найденное им в «старинном Тифлисе», в долгих блужданиях по древним кварталам, и по Сирачхану – легендарному винному ряду, озарённым яркими очагами былого, как он прощается с утерянным, с отнятым навеки, не уставая дивиться даже таким обычнейшим вещам, как «бурдюки в духанах, и чианурам, и чарге»[17], цеховым объединениям ремесленников – амкарам…
И если к древностям забытым Я нежности тебе придам, Легко поймёшь, каким магнитом Притянут я к его вратам. И ты поймёшь, за что нападок Я у поэтов не избег И силами каких догадок Я воскрешаю прошлый век.Не Пастернаку ли, взявшемуся за перевод, были близки эти мотивы? Не он ли во «Втором рождении», а именно в «Волнах», погружённый в стихию Грузии, писал: «Ты рядом, даль социализма. Ты скажешь – близь? – Средь тесноты, во имя жизни, где сошлись мы, – переправляй, но только ты. Ты куришься сквозь дым теорий, страна вне сплетен и клевет, как выход в свет и выход к морю, и выход в Грузию из Млет…»? Эту даль, не ставшую близью, этот новый строй, курящийся «сквозь дым теорий», ему припомнили. Критические вопли рапповцев смахивали на свистопляску, устроенную по случаю идеологического «падения» Иосифа Гришашвили. В «Литературной газете» от 23 апреля 1932 года был вынесен приговор: «“Волны“ – это окончательная формулировка всего пройденного поэтом пути. И если вчера ещё Пастернак мог быть попутчиком, то сегодня в наших условиях классовой борьбы он перестаёт быть попутчиком и превращается в носителя буржуазной опасности». А поистине стукаческие обвинения, предъявленные руководителем литкружка «Вагранка» критиком Алексеем Селивановским[18] к Пастернаку, вполне могли бы быть адресованы Гришашвили: «…Для поэта только один путь – путь к социализму. Но на этом пути перед Пастернаком возникают многочисленные препятствия. Он расстаётся с прошлым, жалея и грустя о нём, ибо практика пролетариата ещё не стала кровным делом Пастернака <…>. Это – грустное прощание с прошлым, это – признание бессилия индивидуализма…».
Вот почему, согласимся, более подходящего по всем параметрам переводчика для гришашвилевского «Прощания» и придумать было нельзя – и так трогательна, так убедительна интонация стихотворения:
…Я жду мелодии знакомой С конца дороги проездной, Но ветер, не достигнув дома, Её проносит стороной. Взамен шикасты[19] пара высвист И частый стук по чугуну. Напев, будивший вихрь неистовств, Как в клетке соловей, – в плену. С кем разделить мою незванность? Я до смерти ей утомлён. Меджнун без Лейлы, я останусь Предвестником иных времён. Старинный мой Тифлис, не надо! Молчу, тут сил моих предел. Но будь в преданье мне в отраду Таким, как я тебя воспел…Два года спустя Борис Пастернак перевёл ещё одно знаменательное стихотворение Иосифа Гришашвили – «Судьба гения на тифлисском рынке», в котором – неиссякаемая, саднящая печаль по поводу того, что лучшие творения художников слова, «Грузии голос на рынке толкучем» не востребованы новым временем, с иронией названным «продавцом дальнозорким», «что на торгах, фолианты маклача, редкости распродаёт за бесценок». В одном из таких голосов поэт пророчески услышал голос писателя Михаила Джавахишвили, после имени которого и возникла трагическая строка: «Вот где и мы по заслугам получим».
Здесь надо открыть «Литературную энциклопедию. 1928–1938», где некий Г. Т-ли клеймит Джавахишвили, с симпатией рисующего деклассированного грузинского интеллигента, напуганного Октябрьской революцией и не способного отдаться социалистическому строительству, а клеймя, припоминает все «грехи», которые приписывались, кстати говоря, и Гришашвили.
Иосиф Григорьевич не мог забыть день 22 июля 1937 года, когда поэт Паоло Яшвили, чьи друзья Тициан Табидзе и Николо Мицишвили были репрессированы и расстреляны, в ожидании неминуемого ареста застрелился в здании Союза писателей. А четыре дня спустя, говорит Гришашвили, 26 июля президиум Союза осудил Джавахишвили как врага народа, шпиона и диверсанта, подлежащего физическому уничтожению; писателя пытали в присутствии Лаврентия Берии и казнили в конце сентября, конфисковав его имущество, уничтожив его архивы, а его вдову отправив в ссылку. Потому-то столь трагично и мистично звучит строка: «Вот где и мы по заслугам получим», а вместе с нею – последние строфы «Судьбы гения»:
О, неужели затем нас призвали, Чтобы и нас ожидало такое? Так же ли тлеть на базарном развале Писанному и моею рукою? Волком весь день пробродил я, сражённый, Злой, как Шамиль, и с тоски безъязыкий. Сердце ж глухою цвело белладонной, Выросшею на баштанах Бесики.«Вакансии поэта» (по меткому выражению Бориса Пастернака) нередко по злой воле Сталина оставались пустыми. Одни, несогласные с властью или просто невиновные, были уничтожены, превращены в лагерную пыль, другие «писали в стол», третьи канули в неизвестность. Режиссер фильма «Покаяние» Тенгиз Абуладзе говорил: «Пришедшее к власти зло – это тупик, разрушительное социальное зло, пришедшее к власти, – это тупик». Он доказал: рядом с тираном Варламом Аравидзе не может быть самим собой талантливый художник – такой, как Сандро Баратели. Быть самим собой – преступление. По личному указанию Варлама у Сандро конфискуют картины, а его самого увозят – и больше Баратели не вернётся домой, в город, объятый ужасом. Гришашвили познал на себе, что такое деформация личности поэта в атмосфере всеобщего страха. Меняется по тональности даже его любовная лирика. Это хорошо заметно хотя бы по стихам, переведённым Анной Ахматовой:
…Пусть только сердце, милая, захочет, Я берег подарю тебе высокий, Где море светозарное бормочет, Прибой кудрявый, сонный и широкий. Я всё могу, поверь мне, я могучий. Во мне любви и красоты начала, И, если мне захочется, из тучи Могу простое сделать покрывало… И я могу, любимая, чтоб слово Извечные законы изменило, Чтобы оно торжествовало снова, Остановив закатное светило… Я весь иной во власти вдохновенья, Я – мост между землёй и небесами. Всему, что сердцу дорого в творенье, Я господин, когда дышу стихами!Ясное дело, здесь Гришашвили – не господин над формой, потому что он лукавит: слово не могло изменить установленные властью законы ГУЛАГа, да оно и ему самому не подчинилось, ибо было лишено творческой энергии. Он всё чаще обращается мыслью к злоключениям Саят-Новы, который подвергался преследованию пошлых завистников, изобличённых им лихоимцев-придворных, превративших его любовь к знатной женщине в трагическую, сделавших всё возможное, чтобы царь Ираклий II изгнал ашуга – и тот был пострижен в монахи. Но ГУЛАГ и подвалы, где расстреливают, – не монастырь. И поэтому Гришашвили поспешил заявить, что он меняется, что он изменился: «Я весь иной во власти вдохновенья». Не любовь тут виной – страх! Оттого и переводчица (да не какая-нибудь!) находится в плену непроходимых штампов. Дальше – больше. 12 марта 1950 года в день выборов в Верховный Совет СССР поэт опубликовал обращение к Сталину:
Ты вестник мира и добра, Хвала твоей судьбе! Не только наши голоса — Жизнь отдадим тебе[20].Автор вот таких строчек был, что называется, ко двору. Они были тотчас замечены, по достоинству оценены. Но они же ранили сердца множества его друзей и восторженных почитателей, огорчили их, хотя им были известны десятки примеров того, как «в буднях великих строек» «ломался» не один одарённейший писатель. Среди жизненных дат И. Г. выделяются особо такие: 1944 год – орден Трудового Красного Знамени, 1950 год – Сталинская премия, 1959 год – звание народного поэта Грузинской ССР. К этому ещё прибавим звание академика.
И всё же… Чем щедрее власть одаряла Гришашвили наградами и званиями, тем глубже уходил он в прошлое, с которым, казалось бы, распростился навсегда. Потому-то и взялся он за свою искромётную монографию о Саят-Нове, за исследования об Александре Чавчавадзе (о котором в некрологе было сказано: «Служба потеряла в нём достойного генерала, Тифлис – примерного семьянина, Грузия – великого поэта»), об Илье Чавчавадзе, об Александре Казбеги (разоблачителе беззаконий царских чиновников и феодалов, создателе популярных образов благородных, мужественных крестьян, лишения и преследования которого привели к тяжёлой душевной болезни, одиночеству, нищете и смерти), о грузинском театре. С завидной энергией раскапывал он неистощимые клады народного творчества, вошедшие в бесценную «Литературную богему старого Тбилиси». В послесловии к этому труду он писал: «Я не стану вас уверять, что открыл гениев – пусть лавры раздаёт тот, чья должность – их раздавать. Я что – комитет по лаврам? Нет и нет. Но я насладился плодами прекрасного дерева, которое почему-то считают дичком, – и я постарался развеять этот предрассудок. Это дерево живёт и переживёт многие деревья, и вкус его плодов неповторим!» Вот они, клады. Поэт стал удачливым добытчиком. Потому и сказано им было: «Я жадно ищу благородные тбилисские слова, лелею их, как рассаду нежнейшего цветка, и сажаю там, где нет равнозначного слова…»
Иосиф Григорьевич Гришашвили умер в 1965 году и похоронен в пантеоне у храма Святого Давида Гареджийского на горе Мтацминда.
Его Кетуша – замечательная певица Кетеван Джапаридзе – ушла из жизни через три года. Говорят, что на поминках по ней поставили пластинку, на которой она записала песню «Генацвале» на стихи мужа в своём исполнении.
4
С самых начальных дней моей жизни в Грузии шефство надо мной взяли атлет-борец с виду Георгий Мазурин и статный красавец Армен Зурабов (автор книг повестей и рассказов «Каринка», «Клёны», «Ожидание», популярной пьесы «Лика»), тоже работавший в издательстве «Заря Востока». Армик стал редактором моего первого сборничка, названного мною «Встречный ветер»; оформляла книжицу молодая художница Динара Нодия, изобразившая на обложке синих лыжников на снежных склонах Бакуриани; в спешке она дала название совсем иное – «Навстречу ветру», из-за чего я расстроился. Но не о моей книжке речь – о Зурабове. Он не побоялся уже во второй половине пятидесятых взяться за избранное Тициана Табидзе, которого, кстати, мечтал нарисовать Гоги Мазурин, да так и не успел. Одним из самых счастливых моментов в жизни вдовы Тициана – Нины Александровны (Макашвили) и Зурабова был тот, когда они встретились: она – с подстрочниками стихов своего мужа, а он – за редакторским столом. Насколько имя репрессированного поэта и всё, что с ним связано, даже в конце 50-х не рекомендовалось к тиражированию, свидетельствует немало фактов. Вот хотя бы такой. Анаида Бесташвили в «Дружбе народов» (№ 3, 2000) пишет: «Свои воспоминания Нина Александровна начала в октябре 1934 года. Понадобилось 55 (!) лет, чтобы они вышли в свет. И ещё десять – чтобы книга появилась на русском языке. У рукописи, прошедшей через много рук, была какая-то роковая судьба. Все, включая могущественного друга Грузии тех лет Николая Тихонова, восхищались, но твёрдо говорили: не сейчас, лет эдак через 50, может быть…»
Легко догадаться, что даже в Грузии, где многое «позволялось», даже в пору «оттепели» далеко не каждый в издательстве стремился редактировать книгу Тициана. А Зурабов, взяв рукопись, сказал: берусь! Он говорил мне, какое волнение испытал тогда. И ещё говорил, что Нина Александровна во всём достойна своего мужа, умевшего заглянуть вперёд и советовавшего не искать его сердца в стакане вина. Она жила в те дни на улице Чавчавадзе, в квартире, где всё напоминало о строчках, известных многим и по переводу на русский язык Бориса Пастернака:
Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут Меня, и жизни ход сопровождает их. Что стих? Обвал снегов. Дохнёт – и с места сдышит, И заживо схоронит. Вот что стих.Борис Леонидович по-братски любил и Тициана, и её, Нину, и их дочку Ниточку. После ареста Табидзе он регулярно присылал семье друга деньги, а вместе с деньгами – слова ободрения. Вот ещё одна трогательная деталь: умирая, Пастернак срочно вызвал в Москву Нину, потому что верил: с ней ему будет легче…
Когда избранное Тициана готовилось к печати, я встретился с Симоном Чиковани на родине Важи Пшавелы, в одном из самых прекрасных мест на земле, и услышал, что Тициан Табидзе – настоящий пророк и что он как крупный художник предвидел, наподобие Гумилёва, свою гибель.
Единственное, что не удалось поместить Зурабову в книгу, которая (подумать только – в пятьдесят седьмом!) стала одним из шедевров «Зари Востока», – это письма, в том числе от Андрея Белого и Бориса Пастернака, о чём Армен сожалеет до сих пор.
А в редакции моей газеты по-своему отнеслись к событию. Были разговоры о том, что «вседозволенность» до добра не доведёт: мол, зачем нам, скажите на милость, «царей усыпальница», намёки на разрушение храмов («Если церковные своды обвалятся, сразу Куру заградят, как плотиной», рыдающие тари, загнивающие плоты, поклоненье Николе, Бальмонт, кажущийся «Христом, идущим вослед за ветром…») Редколлегия даже отклонила рецензию на книгу, написанную ведущим грузинским критиком Бесо Жгенти…
Мы с Арменом Зурабовым до сих пор остаёмся приятелями. И всё же самая тесная дружба у меня была с Мазуриным. Почему? Не знаю. Я прибыл в Тбилиси из Нахичевани-на-Араксе в поношенном бушлате, гимнастёрке, солдатских бриджах, кирзовых сапогах, нелепой панаме и с тощим вещмешком. В первую же нашу встречу (с подачи Нонешвили) Гоги дал мне в долг деньги «на обустройство» («Да не кочевряжься, дурачок, бери») и нашёл «угол» у знакомых за какие-то копейки (на улице Военной, которую давным-давно уничтожили). Он не был автором газеты, в которой я работал, больше того – тематика её была для него органически чужда. Процентов пятьдесят моих переводов для «Зари Востока», а то и больше, он как редактор этого издательства заставлял переделывать или вовсе отвергал. Внешне мы отличались друг от друга разительно: я был худой и длинный, а он – метр с кепкой, как говорят, да ещё плотно-приземистый (шёл слух, что он был боксёром то ли в тяжёлом, то ли в полутяжёлом весе). Стихи его не приводили меня в восторг. Наизусть я помнил лишь восемь строк из куцей его книжки с почти ранне-некрасовским названием «Дороги и мечты»:
Тишина на ветках голых грустью прошлого лежит, мокрых листьев жёлтый ворох ливнем наскоро прошит. Склон горы поблёк и выцвел. За дождями солнце спит. Лань печальная копытцем небо в луже шевелит.Но в Георгии Мазурине (с этим соглашались многие) было что-то трогательное, притягательное, безгрешное, что ли, располагавшее к беспредельному доверию.
Об этом я постарался рассказать в романе «Блюз для Агнешки». Там я выразил и своё преклонение перед его матерью – грузинкой Марией Санадзе, в которой переплетались крестьянские, картлийские корни и тбилисская вышколенность, а также хлопотливая простота виноградаря и утончённость тбилисской горожанки, знакомой едва ли не со всеми знаменитостями и уж точно со всеми республиканскими музеями и их содержимым. Женат Гоги (счастливо или несчастливо – бог весть) был на Марии Гельви (француженке по отцу), матери его Маришки; её переводы с грузинского заставляли подозревать в ней незаурядный писательский дар. Называли её почему-то не Марией, а Мариной, и не было секретом, что она терпит Тбилиси исключительно из-за мужа (кстати, после ранней его смерти, после двух его тяжёлых инфарктов, она тотчас перебралась в Москву – и пропала). Я не мог не написать о том, что Мазурин, кроме всего прочего, был знаменит и опекой над городским юродивым Кикой.
– Приглядись, – говорил он, – Кика-то – вылитый Никита Сергеевич!
Гоги приглашал бедолагу к себе домой и ещё куда-нибудь, чтобы угостить хачапури и хинкали, выпить с ним кружку-другую пива, рюмочку чачи, дарил ему пиджаки и брюки, поражался его странным высказываниям (например, таким: «Людей убивают чаще, чем даже собак», «Братья разводятся, как муж с женой, только еще хуже: как разведутся, так и кровь прольют», «Танцы – от дьявола, а пение – от Бога»).
Была у Мазурина (для многих непонятная) дружба с монахом Рафаилом (в миру – Русланом Карелиным, который позже стал архимандритом и известным самобытным церковным писателем). Сблизились они, кажется, в Сухуми, где Карелин служил в храме Святого великомученика Георгия Победоносца, в селе Илори, недалеко от Очамчири. Как это произошло – мне неизвестно, а хотелось прознать. Мазурин говорил, что монах этот отличался строгостью, тягой к уединённости, но его подкупило творческое начало в Гоги, любовь к классической философии и особенно то, что Мазурин окончил факультет живописи в Академии художеств Грузии, писал стихи и о стихах, немало поколесил и походил пешком по Дальнему Востоку и Западной Сибири.
Гоги в свою очередь высоко отзывался о писательстве сухумского монаха, его стиле. Я разделял мнение Мазурина. Вот, к примеру, абзац из «Тайны спасения» архим. Рафаила: «Необычен рассвет в горах. Его нельзя передать красками на полотне; его можно только увидеть своими глазами. На востоке появляется светлая полоса над горами. Сначала она неясного цвета, как волны весеннего разлива реки; затем становится голубой, потом – алой. Кажется, что заря разрывает чёрный полог ночи и, сверкая радугой цветов, поёт свою песнь, подобную гимну победителя. Вершины гор как бы пробуждаются ото сна, а ущелья и пропасти, представлявшиеся ночью чёрными тенями, отбрасываемыми горами, клубятся туманом, – как будто из бездны поднимаются волны сизого дыма. Небо в эти минуты похоже на голубой топаз, затем на лазурит. Встаёт солнце в короне лучей, и мнится, что по голубому лазуриту текут потоки расплавленного золота. Утро в горах чем-то напоминает творение мира, а вид пустынных гор – то время, когда земля ещё не была осквернена грехом. Здесь особая красота – задумчивая красота камней, кажущихся огромными цветами, выросшими в сказочном саду. В ущелье гор всегда тишина, но тишина особая, певучая, оттеняемая шумом ветра или звуком серебряного ручейка, который вьётся, как кружевная вязь, среди камней и валунов. Кавказ называют царём гор; а монахи и отшельники, живущие в его пещерах, – это приближённые и друзья царя. Им он открывает ворота своих каменных дворцов, их одаривает своим вековым сокровищем – безмолвием, где исчезает само время и сердце чувствует дыхание вечности».
Думая о дружбе этих людей, я случайно отыскал записки одной из учениц Гоги, которая посещала возглавляемую им русскую секцию при Союзе писателей Грузии, и порадовался её благодарной памяти: «Учителям доставалось не меньше, чем ученикам. Странно, что я долго не могла найти Георгия Мазурина в Интернете ни среди поэтов, ни среди художников, ни среди „великих“, ни среди „знаменитых“, ни среди „никаких“. И столь неожиданно, как и долгожданно <…> – copy right 2012 на сайте русской православной церкви „Храм великомученицы Анастасии Узорешительницы в Тёплом Стане“, задушевные воспоминания о нём архимандрита Рафаила (Карелина). И в то же время предвзято несправедливое о нём – у Станислава Куняева в книге „Жрецы и жертвы Холокоста. Кровавые язвы мировой истории“. <…> Георгий Александрович Мазурин… Военный лётчик в неполные семнадцать лет, боксёр полутяжёлого веса (второе место в РСФСР), художник-передвижник, уехавший на ГУЛАГ, чтобы рисовать советских политкаторжан. <…> У него не было денег на краски и холст, и он рисовал на картоне…»
Об этих «картонках» – несколько слов в дополнение. Однажды меня пригласили в гости к одному академику, любителю редкостей и классической музыки, – пригласили таинственно, попросив «не распространяться». Поэт Александр Цыбулевский сообщил по секрету: Гоги будет показывать свои картины. Что-то такое об этих картинах доходило до меня, но слухи были слишком туманные. С такими вещами тогда не шутили. «Рецензии о вернисаже в данном случае не напишешь», – добавил Шура. И догадка оказалась верной. Я заново открыл для себя Гоги. Эти холсты выбросить из памяти было невозможно! Первое, что бросилось в глаза, – беспомощное, растерянное, искривлённое лицо Кики. Мазурин изобразил его на зелёном шаре, до ужаса неустойчивом, теряющем опору. Шар вертелся, но не так, как тот, песенный, голубой, который над мостовой совершал вальсированные обороты, помогая кавалеру украсть барышню, – этот, зелёный, будто сама тоска, вертелся со страшной силой, всё ускоряясь и ускоряясь. Ещё секунда – и Кика, нелепый своей похожестью на Хрущёва, будет сброшен в никуда, в тартарары. И потому он отчаянно хватается за ненадёжную, бугристую почву. Кто-то ойкнул: ведь эту выставку Мазурин развернул рядом с проспектом Руставели, в двух шагах от республиканского КГБ. Каждая из картин тянула на лишение свободы.
«Тройка» – исчадия ада посылают на смерть в каком-нибудь чекистском подвале ни в чём не повинного юношу. «Реабилитированный» – тень с огромными глазами, в которых навеки застыл ужас. «Портрет Сталина» – одинокий и оттого ещё более страшный палач с почти парализованной рукой. И опять портреты – сплошь женщины-зэчки. Вопль попранной женственности, неудовлетворенного материнства… И вопль этот для меня, для неисправимого фаната античной литературы, переплетался с трагедийным плачем убитой горем еврипидовской Агавы:
Тебя я мёртвого в руках держу! О, как могла бы бережно, мой милый, К груди своей тебя прижать, оплакать… О, образ окровавленный, о, члены, Изборождённые… Каким мне саваном тебя покрыть? Чьи руки верные тебя омоют?..А вот и Берия: улыбающийся, сияющий Лаврентий Павлович соорудил из детского конструктора виселицу и… подвесил за шею Петрушку…
Далее ученица Мазурина пишет: «Этот человек не укладывался в прокрустово ложе ходячих заповедей и доктрин, но покорял великодушной дерзостью таланта. „Мысль – то же действие“, – любил повторять он, оставляя за вами право выбора. Он учил не ждать наград за выстраданные истины, ибо саму возможность познания считал наилучшим вознаграждением. Наградой за эту неуёмность был инфаркт – один, потом второй… Но всё равно он продолжал драться – он боролся за дорогое ему живое Слово, за человеческое право на исключительность, на Судьбу».
А что же в «Жрецах и жертвах Холокоста»? Здесь Мазурин убог и смешон. Он назван авантюристом, в послевоенной юности тачавшим модные туфли для тифлисских красавиц. «Кроме „бессмысленного слова“ и романов с балеринами Гоги Мазурин увлёкся ещё одним пагубным проектом: он решил стать знаменитым живописцем и нарисовал темперой на картоне несколько десятков картин, разоблачающих сталинские преступления. Пирамиды черепов, наподобие верещагинских, колонны арестантов, шествующих из лагерных ворот, вышки с охранниками, собаки-овчарки на снегу, тулупы конвойных – со всем этим модным джентльменским набором плакатных ужасов Мазурин отправился в Москву и даже добился выставки то ли в Доме литераторов, то ли на Кузнецком мосту. О выставке что-то лестное было сказано по вражескому „Голосу Америки“. Выставку посетил сам Константин Симонов. Шестикратный лауреат Сталинской премии прошёлся по ней с трубкой в зубах, одобрительно покачал головой и исчез. На этом попытка Мазурина ухватить за хвост жар-птицу славы закончилась. Опечаленный Мазурин вернулся со своими картонками в родную Грузию. Я встретил его в Москве перед отъездом сильно пьяного в баре Дома литераторов. Крупный, телесный, с лицом и подбородком, как будто вырубленными из смуглого камня, с гривой чёрных, жёстких, словно конская грива, волос, с манерами неутомимого брачного афериста, он захотел в хрущёвскую эпоху задолго до Тенгиза Абуладзе с его „Покаянием“ разыграть антисталинскую карту. Но столько тогда появилось игроков более талантливых, более изощрённых, нежели этот тифлисский провинциал! Недоумение было написано на его лице: как же так? Вроде приняла его либеральная Москва с распростёртыми объятьями и вдруг охладела? Может быть, потому, что картон – материал не для вечности, и писать на нём все равно, что на заборе? Мы выпили по рюмке и попрощались без лишних слов, я не стал ему говорить, что его „окна РОСТА“ всегда были мне не по душе. Зачем сыпать соль на раны».
Сколько живу – оплакиваю ранний уход Гоги, словно только вчера мы похоронили его. Мазурину посвящены стихи и воспоминания разных людей, в том числе таких, как Владимир Соколов, трёх Александров – Эбаноидзе, Межирова, Ревича, трогательный «Плач по Мазурину» Сергея Алиханова, а также мои стихи из книги «Оползень»:
Гоги побледнел: «Совсем раскис. Виновата, кажется, дорога…» Глянул на развалины Корого, Пошатнулся, выронил эскиз. «Если что… Марине передашь, Чтобы здесь искала трёх монашек…» И подумал, что суёт в кармашек Дар Гудиашвили – карандаш. «Забери холсты… они в Ваке… Кой-кого сбивал я с панталыку. Разыщи юродивого Кику: Для него одёжка – в сундуке…» Девочка несмело подошла, А за нею – с осликом старуха. Башни Калакети и Иухо Уплывали в небо из села.Совсем недавно у архимандрита Рафаила (Карелина) я нашёл запись его давнишней беседы с Мазуриным – и не удержался, решил обязательно процитировать, что говорил «в те баснословные года» незабвенный Гоги: «Я учился в художественной академии, и тогда пришла мне мысль, что лица людей надо писать, употребляя зелёную краску. Меня обвинили в сюрреализме и исключили из академии. Теперь вот я думаю, как нарисовать картину звёздного неба; я хочу это сделать, хочу найти цвета, но у меня ничего не получается. Обычный тёмный фон и жёлтые точки от золотистого до кровавого цвета – это не ночное небо, а скорее жуки, которые копошатся в чернозёме. Я пробовал рисовать небо багряным цветом, а звёзды – зелёным, но это вызывало какое-то чувство тревоги, – как будто смотришь на агонию больного: багряный цвет поглощал звёзды и казался заревом пожара. Я пробовал применить принцип негатива, написал фон золотистым цветом, а звёзды – чёрным, но вышло ещё хуже: когда посмотрел на рисунок, то показалось, что огромные стаи ворон кружатся над землёй. Решился я на другое: одухотворить звёзды и написать их похожими на человеческие лица; и опять неудача, – я увидел перед собой парад отрубленных голов. Тогда я попробовал изобразить звёзды в виде светящихся многоугольников, но это оказалось холодной абстракцией, какой-то геометрической игрой воображения. У меня нет денег, чтобы купить несколько холстов, и я стираю одну картину, чтобы написать на её месте другую. Затем я подумал изобразить звёзды с длинными заострёнными лучами, которые пронизывали бы всю картину, но получилась какая-то сеть, подобная паутине. Затем я хотел изобразить звёзды как вспышки электричества на стыке двух проводов, – и опять вышло не то: это были не звёзды, а искры бенгальских огней, которые зажигают дети на ёлке. Я решил изобразить звёзды в движении, начертав их траектории в виде пересекающихся эллипсов разных цветов, но на картине вышло оперение каких-то сказочных птиц. Я так и не нашёл красок для бесконечного. Я стёр последний рисунок, загрунтовал холст, и теперь хочу нарисовать какой-нибудь пейзаж для продажи…»
А несколько позже, в ту пору, когда Карелин принял монашество, он случайно встретил Мазурина, перенёсшего два тяжёлых инфаркта. Гоги знал, что третий окажется смертельным.
– Я думаю, – сказал он Карелину, – ты хочешь спросить меня: остался ли я таким же безбожником, как прежде, или поверил в Бога? Пока отложим этот вопрос; я хочу сказать тебе о другом. Последнее время меня преследует мысль, которую я не могу отогнать: что находится за пределами видимого мира, там, выше звёзд? Я думаю, что не верю в Бога, но иногда мне кажется, что обманываю самого себя; я ловлю себя на том, что часто в разговоре стал произносить слово «Бог», а почему – не знаю сам.
Будущий архимандрит ответил:
– Потому что звёздное небо стало для тебя встречей с тайной.
Ушёл Мазурин очень рано и как-то незаметно…
А когда пришла весть о его кончине, архимандрит написал: «Я узнал о смерти Георгия Мазурина из некролога, напечатанного от имени Союза писателей Грузии. Там были слова: „Он ушёл от нас, но с нами остались его стихи и полотна“. Я подумал: нет, он унёс с собой от вас ещё нечто сокровенное – предчувствие тайны вечности, о которой забыли вы. Нашёл ли он ответ на роковой вопрос, – что находится выше звёзд, – об этом знает только его последний спутник – ангел смерти. Может быть, в тот вечер, когда умер Мазурин, какой-нибудь ребёнок смотрел на небо и видел, как упала звездочка, блеснув и исчезнув во тьме».
Лучше не скажешь.
5
…Осень 1910 года, на пороге зимы. Газета «Киевские вести». В ней – объявление: «Малый театр Крамского. Сегодня, 29 ноября, «Остров искусства» – вечер современной поэзии сотрудников журна лов «Аполлон», «Остров» и др. Михаила Кузмина, графа Ал. Н. Толстого, П. Потемкина и Н. Гумилева при участии Ольги Форш, Вл. Эльснера, К. Л. Соколовой, Л. Д. Рындиной и др. Гг. Яновские и г-н Аргамаков от участия в вечере в последний день отказались, и устроители долгом считают о том уведомить, прося желающих получить обратно деньги в кассе театра. Начало – ровно в 8 1/2 ч. вечера». Инициатором и организатором вечера был герой этого очерка Владимир Яковлевич Эльснер, чья молодость подобна авантюрному роману. Во многом, говорил он, я равнялся (может, невольно) на своего кумира – Гумилёва, чья строфа из «Романтических цветов» стала для него чем-то вроде творческого маяка: «“Что ты видишь во взоре моём, в этом бледно мерцающем взоре?“ – „Я в нём вижу глубокое море с потонувшим большим кораблём“». Что-то притягивало этих непохожих людей друг к другу; тут была не одна лишь привязанность амбициозного киевлянина Эльснера к создателю школы акмеизма. По свидетельству вдовы поэта Бенедикта Лившица Екатерины Константиновны, Эльснер познакомился с Гумилёвым в 1909 году в Киеве в салоне-мастерской Александры Экстер, русско-фран цузской художницы-авангардистки, дружившей с Пабло Пикассо и Гийомом Аполлинером. В её доме по Университетской улице, 6, часто бывала Анна Ахматова, тогда ещё Аня Горенко, чьи огромные сине-зелёные глаза и, как многие говорили, горбоносый патрицианский профиль заставили художницу взяться за портрет молодой поэтессы. В знак признательности и памяти возникло посвящённое художнице стихотворение «Старый портрет», в котором обращают на себя внимание строки, словно сказанные самой себе: «И для кого твои жуткие губы стали смертельной отравой?» В них – явный намёк на нескладные отношения между Ахматовой и Гумилёвым. Его стихи ею были приняты, а он сам не раз отвергался. Эту драму Эльснер наблюдал вблизи, сочувствуя приятелю, доведённому чуть ли не до попытки самоубийства.
Слушая рассказы Владимира Яковлевича о той поре, я думал о том, как тяжко, как некомфортно ощущать себя среди гениальных сотоварищей-небожителей таланту эльснеровского уровня («великому второго сорта», как с иронией говаривал Александр Межиров). Силовое поле гения может быть в какой-то мере пагубным для души того, кто в своём творчестве не в состоянии подняться выше среднего уровня. Не отсюда ли раздражительность в характере В. Э., ощущение недоданности? Но, повторяю, он искренне сочувствовал Николаю Степановичу, ни разу и ни в чём не изменил ему. И именно Володеньку Гумилёв, приехав в Киев, позвал в апреле 1910 года на тайное венчание с Анной Андреевной и попросил его быть шафером на свадьбе.
Приятелям-поэтам ещё неведомо было, что большой корабль действительно будет проглочен свирепой пучиной революции, а другой, меньший, чудом выплывет на поверхность, найдёт-таки убежище в Тбилиси, и его грудь не отыщет пуля, отлитая человеком от «раскалённого горна».
Гоги Мазурин как редактор «Зари Востока» нередко встречался с вспыльчивым и обидчивым Владимиром Яковлевичем Эльснером, о котором в Тбилиси ходили легенды. В. Э. называл себя «осколком Серебряного века» – без всякой иронии, с гордостью. С ним была знакома и мать Мазурина, удивлявшаяся: «Это чудо, что Эльснер жив, что его не расстреляли. Уму непостижимо». Причины удивляться были. Революцию он не принял. В Гражданскую войну В. Э. оказался на службе у Деникина, возглавлявшего после бегства на Дон из Бердичевской и Быховской тюрем Белое движение. Поэт Эльснер был направлен в специальное агентство, занимавшееся расследованием «большевистских злодеяний», пропагандой и агитацией среди населения. Ему часто приходилось писать прокламации, направленные против «красного террора». Кое-где в них им ввёрстывались даже стихотворные строчки. Весной 1920-го Деникин покинул Россию, чтобы проделать невесёлый путь несдающегося пораженца из Константинополя в Лондон, Брюссель, Париж, Будапешт, Прагу и далее – до США. А вот Владимир Яковлевич нашёл себе пристанище в Тбилиси. «Молюсь за этот город, – признавался он, – ведь именно ему я обязан спасением». Писатель Феликс Зинько говорил, что Эльснер в роковых тридцатых руководил литературным объединением при республиканской газете «Молодой сталинец». Одновременно ему доверили преподавание… «коммунистической эстетики» в консерватории. «Представляю, что он плёл лабухам, потому что антисоветчиком был ярым» – изумлялся Зинько.
…И однажды Мазурин спросил меня:
– Ты об Эльснере что-нибудь знаешь?
Я признался, что почти ничего, одни сплетни.
– Ладно, – сказал Гоги, – попрошу, чтобы он принял тебя. Не пожалеешь.
– Но он ведь старый чудак, – возразил я.
– Не такой уж он и чудак, – насупился Мазурин. – И не такой старый. Пастернак, бывая в Тбилиси, часами разговаривает с ним. Это что-нибудь значит?!
Тут уж нечего было возразить. Это меня убедило. Если сам Пастернак! Прежде чем заявиться к Эльснеру, я «вооружился» кое-чем с помощью Гоги и выучив наизусть некоторые оригинальные стихи Владимира Яковлевича (не переводы) дореволюционного периода, наиболее мне близкие – например: «И ночь, и вечер ближе гранями. Ворота раньше на крюке. И небо сполохами ранними играет в стынущей реке». Это было по мне! В его квартире я искал сходство с той, что была некогда описана им: «Моё окно глядит на небеса. По рёбрам крыш, мотая галуны, в него врываются рога луны; а днём – галдящих галок голоса. На подоконнике с моим гербом: (о том, конечно, лира и амур) – отатуированный том Рембо и жирный лист желанных корректур». А вообще-то квартира напоминала библиотеку – так в ней было много книжных стеллажей.
Не стану скрывать: Эльснер показался мне дряхлым старичком. Интересно, что тбилисец Феликс Зинько задолго до этого воспринял его точно так же: «Став членом литобъединения при газете „Молодой сталинец“, я познакомился с его руководителем Владимиром Юрьевичем Эльснером. Маленький серый старичок, сохранивший какие-то остатки былого изящества, он умело вёл наши сборища. Пот ом уже, сблизившись с ним лично и став бывать у него дома, я узнал, что он был дворянином, активно работал в знаменитом журнале „Аполлон“, объездил всю Европу, все её художественные галереи, знался чуть не со всей литературной Россией начала нашего века». А кроме того, Эльснер показался мне жёлчным, недоверчивым и хвастливым. Из-под длинного больничного его халата выглядывали несвежие штрипки от солдатских кальсон. На самом деле он был большим обиженным ребёнком. Некоторые его строчки отличаются детским восприятием мира; ну, скажем: «На полке недописанный сонет, где не хватает рифмы на „ужу“, и словари… Клянусь, о нет, я с ними дружбы больше не вожу!» В первую же минуту, не подавая сухой руки, он сказал:
– Вы книги воруете?
Я стушевался.
Заметив моё смятение, Владимир Юрьевич пояснил (уже чуть мягче):
– У меня утащили второй том «Антологии современной поэзии».
Убедившись, что я – человек тёмный и что на моём челе ничего не отразилось, добавил:
– Антология была выпущена мною в Киеве ещё в 1909 году. И составлена мною.
Кстати, на то время это была самая полная (четырёхтомная), весьма популярная антология, в которую вошли большие подборки стихотворений поэтов-модернистов.
– Она, – сказал Владимир Яковлевич, – и дала Александру Блоку повод упомянуть меня в своих дневниках и назвать «киевским издателем».
И посмотрел в потолок.
Но он не стал вспоминать о том, что тот же Блок в тех же дневниках даёт ему нелестную характеристику: «Эльснер – „выездной лакей“ (Пяст) из Киева». И наверное, правильно сделал, что не стал: Блок-то ссылается на поэта Владимира Пяста.
Погоревав пару минут о потере, Эльснер сказал:
– Впрочем, идёмте-ка чай пить. Или вы только водку дуете?
Старец, вздыхал я, развалина, как от него древностью веет (а ему-то было всего семьдесят четыре… всего…) Впоследствии, думая о нём, я почему-то прокручивал в памяти последнюю строфу из его «Задворков»: «Вечерний звон. Две крысы в синем гриме помои пьют с прогнившего полена. Тень Иова встаёт и долго славит имя, запечатлённое на этих кучах тлена». Пардон, пардон, дорогой Владимир Юрьевич, думал я. У нас мало кто так умеет: нет той свободы. Я смотрел на него, разинув рот. Говорили, что он колесил по миру не меньше Гумилёва (а может, и больше), окончил как минимум Сорбонну и Кембридж, был рикшей, кули, докером, мачетеро… В издательстве «Заря Востока» вышли две книжки с его стихами, где речь шла об экзотике азиатских и африканских стран.
– Вам понравилось? – напрямик поинтересовался он, когда мы принялись пить чай («извините, не крепкий, писи сиротки Хаси») и есть хачапури, которые я притащил в немалом количестве из подвальчика «Воды Лагидзе».
Понравилось ли мне? Я попытался ответить, но он перебил меня:
– Не трудитесь объясняться. Вам, конечно, подавай художественные образы. «Зима была такой молоденькой, такой весёлой и бедовой, она казалась мне молочницей с эмалированным бидоном». Ну как же, как же. А вы вначале научитесь писать без этих самых выкрутасов. Интеллект чтобы снаружи был. Не прячьтесь за безделушками, молодой человек. У нас об этом и с Межировым был разговор. И он, представьте себе, не спорил со мной. Я и Ахматову учил писать, – добавил он дерзостно – может быть, для самого себя неожиданно. – Ну, Анна Андреевна, бывало, прислушивалась к моим советам. Серьёзно. И Блок со мною считался. А вам бы всё спорить!
Я и не собирался спорить. Потом, спустя десятилетия, сообразил, что правильно поступил. Ведь кое-что у Владимира Эльснера стало классикой. Вот хотя бы его перевод «Повешенного Пьеро» Рихарда фон Шаукаля:
На безлюдном, тихом перекрёстке, Белый, ты висел на фонаре. Дальних звёзд едва мерцали блёстки, Бледный месяц таял при заре. Отпечаток затаённой боли Сберегли ещё черты лица. О твоей, паяц, печальной доле Плакали два нежных бубенца. Ах, из петли я тебя не вынул, Лишь руки коснулся ледяной — И, должно быть, ветер передвинул Тень, что жутко выросла за мной.Я молчал. А он вновь поинтересовался:
– Вы читали «Выбор Париса» и «Пурпур Киферы: эротика»[21]?
– Это что?
Он снисходительно задержался острым взглядом на моём глупом лице.
– Это? Книги. Мои. Они были изданы в Петербурге. В 1913-м. – И вдруг: – Вы небось ни одной девки не пропускаете? Да не тушуйтесь, право. Что там. Такой юный. Я и то… – Он не завершил фразу. – Знаете, воздух Грузии… он такой… Пожалуй, возьму и напишу книгу о Грузии, о том, как она меня спасла. Или уже поздно? Не та подъёмная сила…
И почесал одну ногу другой, и при этом какая-то из штрипок развязалась.
Действительно, воздух вокруг Владимира Юрьевича теперь был наэлектризован эротикой. До самого конца он имел право заявить, что его «уже издалека щекочет жало неубывающих, упорных ароматов», и раздевать, хотя бы в грёзах, «див из прачечной», которые «сливают потоки пенных вод жемчужно-синих».
Всякий раз, провожая меня и убедившись, что я ничего не стянул с книжных полок, он предлагал мне послушать его перевод (самый первый в России!) «Пьяного корабля» Артюра Рэмбо.
– Вы не против?
Я, естественно, не протестовал. И слушал его, переполненный эротикой, голос:
Сливаясь с пучиною всё неразлучней, То встретил, что ваш не изведает глаз, — Пьянее вина, ваших лир полнозвучней Чудовищ любовный, безмолвный зкстаз!..Первая моя встреча с Эльснером произвела на меня очень сильное впечатление.
– Ну, как он тебе? – спросил меня Мазурин.
– Ходит за мной следом, бдит, чтобы я чего не утащил, – ответил я.
– Не верю, что это для тебя главное, – сказал Гоги. – Это так, ерунда. Ты ещё не раз попросишься к нему в гости.
И он оказался прав.
Глава 3. Несбывшаяся сирень Владимира Соколова
1
И ещё: если Тбилиси, то непременно – Владимир Соколов.
Как же без Володи?! Хочу видеть его молодым, но уже познавшим успех, славу, с которыми его поздравила литературная Грузия. Символично, что издательство «Мерани» выпустило его книгу «Я тебе изумляюсь, Тбилиси». Он до самого конца был предан тверской земле, своему родовому гнезду («потому что я свой человек там, где в озеро падает снег, где колодезный кличет журавль: Лихославль, Лихославль, Лихославль»). И, если одолевала тоска, летел, когда ещё леталось и не пресекалось дыханье, туда, «где, испытанье выдержав на ветхость, желтеет каждый болдинский листок, как библиографическая редкость». Но он не мог представить себя и без Тбилиси, в котором у него было немало друзей и читателей, любил этот город не из-за пышных празднеств, приёмов, застолий на лоне роскошной природы и в духанах. Он любил его тайны – а он всегда их искал, любил разгадывать их, говорил: здесь особая музыка во всём – в тесных двориках и под крышами старинных храмов и над ними; на Мтацминде она – одна, а по дороге на Мцхету – совсем, совсем другая; нужно только уметь её слушать и слышать. Снова и снова повторяю соколовские строки:
Тбилиси! Туманная рань! И вдруг ослепительный день. Балконов твоих филигрань, Извилисто-тонкую тень Бросающая по стене… Тбилиси, ты снишься и мне. Тбилиси, о, как я плутал. Я слышу походку свою. И вдруг тишина! Я стою В слезах обнимая платан. Мне помнить уже суждено, Пока я не глух и не слеп, Твой тёплый лаваш и вино, Упавшее розой на хлеб.Уверен: наша жизнь так устроена, что шаги Володины до сих пор слышны везде, где он плутал, а на платанах – его невысохшие слёзы. Нужно только суметь увидеть. Потому непередаваемо тяжко читать у него: «Два дуба темны, как ворота, распахнутые навсегда… Здесь явно отсутствует кто-то, и кто-то стремится сюда…» Примеряясь к неизбежному будущему, он пытался успокоить нас: «И впредь да будет незаметным моё отсутствие».
Нет, Володя. Заметно. Да ещё как.
…Из приёмной главного редактора – Инесса, секретарша:
– Тебя спрашивают.
(Боже, когда это было!)
– Кто спрашивает?
– Не знаю. Звонок междугородный. И плохо слышно.
Звонил Соколов:
– Я из Квишхети. Взял путёвку – и сразу сюда, в Дом творчества. Если сможешь – приезжай. Директор не возражает. Мы уже договорились с ним. Ну как?
Обрадовался я необыкновенно. Я знал (без подробностей), какие страшные муки выпали на его долю (он тогда работал секретарём секции поэтов Союза писателей под руководством Ярослава Смелякова). О случившейся трагедии рассказал мне Александр Межиров в очередной приезд в Тбилиси:
– Я как раз был там, на Ломоносовском, в это время. Буба пригласила меня и Галю Евтушенко.
Буба – так с детства называли Володину жену болгарку Хенриетту Попову. Я видел её несколько раз, когда бывал в Москве, в ЦДЛ с Соколовым и в Литинституте, где она преподавала болгарский язык. Володя излучал счастье; жена у него была красавица, она ему подарила сына Андрея и очаровательную дочку Снежану; его поэзия была замечена и получила признание у читателей; у него появился дом в Болгарии, а ещё – машина и новая двухкомнатная квартира в большом доме рядом с кинотеатром «Прогресс». В этом же доме проживал и Ярослав Смеляков. У Соколова я встретил его лишь однажды, и он показался мне запущенным, неухоженным, мрачным, хотя у него была заботливая жена Татьяна Стрешнева. Он вышел из кухни со стаканом коньяка, сел на диван и стал говорить о чём-то с Володей. Я даже не поверил, что это он – автор «Любки Фейгельман», «Хорошей девочки Лиды», гениальных строк «День – в чертогах, а год – в дорогах, по-мужицкому широка, в поцелуях, в слезах, в ожогах императорская рука». Евтушенко, считающий Смелякова одним из своих учителей, в антологии «Строфы века» писал о нём: «Это был талантливейший и несчастнейший поэт. <…> Узкоплечий, угловатый Ярослав – колючее растение пустырей и городских свалок».
В межировском рассказе было невероятное. Смеляков отослал Соколова куда-то в Сибирь, в командировку, чтобы как можно дольше оставаться наедине с Бубой, отдавшей ему сердце в знак сострадания к его лагерному прошлому. А когда Володя вернулся, она открыла ему то, что было известно многим, не щадя его и ничего не скрывая, хотя он умолял: не надо подробностей! Он не мог вынести всё это в одиночку и поехал в другой конец Москвы – к матери и сестре. Буба тут же направилась к Смелякову в надежде получить поддержку и новый завтрашний день. А он, сказал Межиров, не стал её слушать, обматерил и выгнал вон; Буба позвала меня и Галю по телефону, вышла встречать нас, но без ключа и захлопнув дверь; с ней творилось что-то несусветное; она проклинала себя и Смелякова, твердила беспрестанно: «Он обесчестил меня»; нас позвала к себе на восьмой этаж жена Василия Ажаева, уложила её в постель: «Пусть придёт в себя. Бедняжка…»; я вышел в коридор покурить, и вдруг выбегает Галя: «Идём скорее, смотри, Бубы нет в постели, а окно – боже, гляди – открыто!..»; выглянули в это распахнутое окно – а она распластавшись на земле лежит, не двигается… Межиров не сомневался, что Володя едва жив остался, всё никак не мог прийти в себя. Мало того, Соколова стал преследовать секретарь Московского отделения Союза писателей генерал КГБ Ильин, который созвал срочное, экстренное заседание парткома, где выступил с заявлением: «Соколов довёл до самоубийства гражданку Болгарии! Значит, его психика ненормальна, он сам ненароком последует примеру жены – и мы должны принять меры!» Постановили: исключить Володю из Союза писателей, положить в психбольницу. За Володей тут же начали охоту психиатры и кэгэбисты. Травля шла по всем правилам, детально описанным в десятках книг.
Обратимся к дневнику Володиной сестры – Марины: «Надо было официально подтвердить, что брат нормальный. Врач пришла очень быстро и поставила диагноз: „У Владимира Николаевича предын фарктное состояние“. Прописала лекарство и уколы и ему, и маме, так как она плакала на крик. Надо сказать, что с утра уже у нас был народ. Поэт Михаил Луконин и вдова Владимира Луговского не отходили от Володи, пришли поэт Юрий Левитанский и его жена Марина, подруга Хенриетты, в коридоре сидели на подоконнике Галя Евтушенко и Александр Межиров, были ещё люди, которых я забыла со временем, а то и вообще не знала. Брат написал письмо и попросил, чтобы я отнесла его в болгарское посольство и отдала Венетте, подруге Хенриетты. Он рассказал, где находится посольство, на каком этаже комната Венетты, какая дверь по счёту от входа. На моё счастье, Венетта оказалась на месте, и я передала ей письмо. На другой же день был звонок из Болгарского ЦК партии в наш Центральный Комитет, те немедленно позвонили в Союз писателей и приказали прекратить преследование поэта Владимира Соколова. Тем не менее утром В. Н. Ильин успел прислать машину из „психушки“, санитары грохотали в дверь, но мы им не открыли…»
Отголоски тех трагедийных событий можно отыскать в стихах Соколова. Но – лишь отголоски. «Я славы не искал. Зачем огласка? Зачем толпа вокруг одной любви?» Он считал невозможным посвящать читателей в детали личных драм, поскольку совсем не в них суть его поэзии, вернее – они поэзии вообще противопоказаны. Вот у него и вырвалось в пушкинском цикле:
«Натали, Наталья, Ната…» Что такое, господа? Это, милые, чревато Волей Божьего суда. Для того ли русский гений В поле голову сложил, Чтобы сонм стихотворений Той же надобе служил? Есть прямое указанье, Чтоб её нетленный свет Защищал стихом и дланью Божьей милостью поэт.А боль ещё долго давала о себе знать, потому что разве можно, как писал Соколов, забыть «о колоде, лёгшей на прах моих мук». По горячим следам возникли стихи о предательстве – «Воспоминание о кресте», полные горькой сумятицы, осознания того, что он «из родных был выведен в изгои», что в его «дому ветра заголосили», что мелькнула мыслишка: взять бы и «как дым, метнуться вверх от этих душ и чисел?»
Но я был слаб. И руку на себя Поднять не смел. Она как плеть висела. И мысль пришла: всё, чем живу, любя, Обидеть так, чтоб хоть шурупы в тело Ввинтили мне всем миром: что там ждать! А вдруг не станут – как, зачем, откуда? Пойти в Горсправку? Объявленье дать? «Мне тридцать три. Я жив. Ищу Иуду».Порой он проговаривался: «Ты камнем упала, я умер под ним./ Ты миг умирала, я – долгие дни./ Я всё хоронил, хоронил, хороним/ друзьями – меня выносили они./ За выносом тела шёл вынос души./ Душа не хотела, совала гроши./ А много ли может такая душа,/ когда и у тела уже ни гроша». Душа эта долго пребывала «не на месте»: «Там жёлтая глина, там воздух сырой, там люди сговорчивей между собой». Меня потрясала и до сих пор потрясает заключительная строфа этого стихотворения: «Кто звёзды попутал, кто карты смешал? Кто Боженьке в ухо чего надышал? Я что-то не помню – за что бы с меня – дарованной ночи, дарёного дня». Может быть, даже это казалось ему слишком. И, оставаясь всё-таки Божьей милостью поэтом, он надеялся, что первая капель «меня другим застанет и что зелёный шум появится во мне». И подтвердил, что главный мотив его лирики – жизнеутверждающий: «Холодный, ясный час. Горит зари полоска. Зачем я пил вино, и плакал, и шумел? Я вовсе не хотел такого отголоска, такой тоски в себе я вовсе не хотел».
2
Надо ли объяснять, что его звонок из Квишхети доставил мне огромную радость.
Через день я был у него. Он тут же подарил мне свою новую книгу, которая была передана мною в его 80-летний юбилей в районную библиотеку «Лефортово» (а в книге автограф: «Спасибо за приезд…» и т. д.).
Да, так вот – Квишхети. Голубые горы. Боржомское ущелье.
Мы часто спускались вниз, к Куре. Её бурное течение, её шум успокаивали его, и к нему, как мне казалось, возвращались счастье, полнота жизни.
Тем более, что в его жизни появилась Эля, Эльмира Славгородская, его русая землячка. Именно сюда, в Квишхети, приедут они через пару лет, и она запишет в своём дневнике: «В Дом творчества мы приехали 31 июля на пригородном поезде. Пропустили остановку и прыгали на ходу с поезда, как гангстеры. Я бросила сумку, зажмурила глаза и прыгнула. Было страшно, у меня мелькнула мысль, что я расшибусь о камни, но не умру. Володя бросил чемодан и прыгнул уже на полном ходу. Нас, хромающих, встречала делегация из пяти человек. Сняли нам чудесную комнату с верандой, недалеко от Дома творчества. По преданию, здесь жили Брики: Лиля и Ося. Когда тепло, я сплю на веранде. Сейчас девять часов вечера. Темно. Моросит. Туман. На террасе кипит чай. Вчера был дождь, была гроза, мы сдвинули кровати на середину, чтобы не капало. У нас двор покатый. Видны горы. Здесь прекрасно. 9 августа приезжал Алеко Шенгелия. Ездил навещать свою мать. Работал с Володей над подстрочниками. <…> Вечером 18 августа к нам приехали гости: Амиран Гобискория и его жена Русико. Говорили о литературе. Володя сказал: „Для меня литература – это лес, поля, воздух, птицы, а поэзия – это любовь, это женщина. И если её нет, то зачем «мокрые щепки», «гудки паровозов»? Ездили с Амираном Гобискория и его женой Русико в Боржомское ущелье и Бакуриани. Пили воду из первоисточника…»
Не так уж трудно представить всё это. Володя нуждался в Большой Любви, и не вина Эли, что им пришлось в конце концов расстаться. Зато была высечена божья искра, очистился горизонт – и появились стихи, достойные встать в один ряд с образцами любовной лирики мирового уровня: «Селигер», «Хотел бы я долгие годы на родине милой прожить…», «Этих первых узнаю заморозков речь я…», «Боже, как это было давно», «Застава», «Нет сил никаких улыбаться…» Ну и, конечно, гениальный «Венок»: «Вот мы с тобой и развенчаны. Время писать о любви. Русая девочка, женщина, плакали те соловьи…»
Но всё это будет не сейчас. Сейчас мы сидим на оголившихся корнях, опустив в холодную воду босые ноги. Он рассказывает о том, как близкий ему поэт Реваз Маргиани на днях возил его к другому, более знаменитому ущелью – Дарьяльскому. Там, сказал он, вдоль него – много крепостей, а одна из них, Дарьяльская, стоит на скалистой горе, над левым берегом бешеного Терека.
– Догадываешься, – спросил Володя, – о ком я думал?
– О Лермонтове?
– Ну да.
Догадаться было не так уж сложно: Лермонтов посвятил именно этому ущелью свою «Тамару»:
В глубокой теснине Дарьяла, Где роется Терек во мгле, Старинная башня стояла, Чернея на чёрной скале. В той башне высокой и тесной Царица Тамара жила: Прекрасна, как ангел небесный, Как демон, коварна и зла…– Как это тебе? – спрашивал Володя. – «Чернея на чёрной скале»!
По пути в Дом творчества мы, не сговариваясь, повернули к маленькому рынку возле железнодорожной платформы, взяли бутылку чачи, малосольные огурцы, сулугуни и кукурузные лепёшки свежайшей выпечки, завёрнутые в чистенькую марлю. А потом, поднимаясь в гору, Володя снова вернулся к Лермонтову, рассказал, что в отрочестве, в Лихославле, задумал написать пьесу о том, как на балу у графини Лаваль, в её особняке на Английской набережной в Петербурге, произошла ссора Лермонтова с Эрнестом Барантом, сыном французского посла при дворе Николая I, как Барант крикнул: мол, в своём отечестве я нашёл бы верный способ кончить это дело, а поэт ответил, что у нас, в России, следуют правилам чести так же строго, как и везде, и мы не позволяем себя оскорблять безнаказанно; вот и состоялась за Чёрной речкой на Парголовской дороге дуэль – сначала на шпагах, затем в ход пошли пистолеты; великий Мишель после осечки у Баранта выстрелил в воздух, так что никто не пострадал.
3
Не зря Соколов возвращался стихами к тому, что когда-то пробуждало у него неодолимое желание сочинить пьесу. Это стало едва ли не сквозным мотивом его лирики, отозвалось в строчках 1956-го: «К нам приходят ночами Пушкин, Лермонтов, Блок. А у них за плечами столько разных дорог. <…> И часами глухими над безмолвием крыш долго, досветла, с ними ты о чём говоришь?» А вслед за этим – сразу же знаменитое:
Когда стреляют в воздух на дуэли, Отнюдь в обидах небо не винят, Но и не значит это, что на деле Один из двух признал, что виноват. И удивив чужого секунданта, И напугав беспечно своего, Он, видя губы белые Баранта, Пугнул ворон. И больше ничего. Ведь ещё ночью, путаясь в постели, Терзая лоб бессонной маетой, Он видел всю бесцельность этой цели. Как всю недостижимость главной, той. Заискиванье? Страх? Ни в коем разе. И что ему до этого юнца? Уж он сумел бы вбить ему в межглазье Крутую каплю царского свинца.Моя близкая подруга Марианна Роговская-Соколова, о которой я скажу чуть ниже, в интервью, опубликованном в «Литературной газете», убедительно подтвердила, как была органична, важна лермонтовская тема в Володином творчестве: «Планетарная тоска переливается во властную думу о Родине, страстную, странную к ней любовь-благодарность, любовь-боль, любовь-тоску. (Вспомним лермонтовское „Люблю отчизну я, но странною любовью“). В одном из лучших стихотворений лермонтовского цикла Соколова „Тоска по Родине“ мы опять не ощущаем разделяющей грани – чью душу, Лермонтова или Соколова, щемит эта надрывная тоска по Родине».
Для «тихой лирики» эти стихи – всё равно, что вкрутить в патрон, рассчитанный на сорок ватт, двухсотсвечовую лампочку. Воспеваются ничем не замаскированные мятеж, дух отрицанья, дух сомненья. Вы думаете: это всё – о прошлом? Слушайте тогда:
…Мы жили яростно и глухо, Всё видя, но не на виду, На площадях людского духа Двенадцать месяцев в году. Мы грустной тешились химерой, Что всё вернётся к декабрю, Чиновники и офицеры… Ропща на трон… Служа царю. А Лермонтов, откинув бурку, Мишень для этих и для тех, Слал на почтовых к Петербургу В железных рифмах гнев и смех. И сердце обливалось кровью, И твёрже становилась речь, Но горе с первою любовью, — Её вовек не уберечь. Он жил и сам не как хотелось, Но поступал, как сам хотел. Его любили мы за смелость Высоких слов и честных дел, За то, что ясными глазами Он проникал и в грудь земли, Ах, даже и за то, что сами Такими быть мы не могли…Тогда, в Квишхети, надолго задумавшись, он неожиданно сказал:
– Я вот всё думаю, какая убийственная рифма: «Мишель – мишень»!
Грузия помогла Соколову, с детства бредившего великим поэтом – Невольником Чести, окатив его, как и Лермонтова, дарьяльской волной. Типично соколовскими, пружинно-сжатыми стали «Пятигорские стихи», которые я бы назвал поэмой из-за развития в них сюжетно-образной структуры; их дактилический строй лишён всяческой натуги. Здесь Лермонтов, «мой герой, поэт и деспот», – жертва «родного ада» с его «кодексом вахтпарада», преодолев косность и тлен действительности, «крутым и пылким», «некрасивым и насмешливым, сбившим фуражку на затылок» навсегда остаётся «юным юнкером». Интонация стихотворения диктуется полётом, стремительностью, далью с её «мглой и яркостью». «Не в музейном пыльном кивере, не в странице шелестящей, я его увидел в кипени, сломя голову летящей. Я в бессмертно наплывающем, романтическом тумане ощутил его товарищем и Сомненью, и Тамаре. Тень героя… От лица её повторяю вслед за тенью – щит и шпагу отрицания он держал как утвержденье». Такой же вдохновенной энергией и поэтической дальнозоркостью отличается ещё одно стихотворение этого же (если можно так сказать) цикла «Машук оплыл – туман в округе…», где, вопреки утверждению Соколова, и его строки рвались «по швам от страсти»! Вот вам, пожалуйста, и «тихая лирика», родоначальником которой его окрестили.
В Квишхети он прибыл с книгами Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы». Отвлекаясь от чтения, он всё глубже и глубже развивал тему поэтики этого пророка русской революции (по определению Д. С. Мережковского). Всю жизнь он не расставался с его творчеством, и я уверен, что оно сыграло большую роль в становлении Соколова как выдающегося художника слова, живописателя двориков, улиц, переулков родных городов, ещё не обезображенных новостроем, и, конечно же, природы – и российской, и болгарской, и закавказской, как радетеля за страдающего человека. Как-то часа в два ночи он пришёл в мою комнатку, сел с краю на кровать и стал читать вслух пронзительный зов старца Зосимы: «Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его… Любите всё создание Божье, и целое, и каждую песчинку. Каждый листок, каждый луч Божий любите, любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будем любить всякую вещь и тайну Божию постигать в вещах… Землю целуй и неустанно, ненасытно люби, всех люби, ищи восторга и исступления сего. Омоч и землю слезами радости твоей и люби сии слёзы свои. Исступления же сего не стыдись, дорожи им, ибо оно есть дар Божий, великий, да и немногим даётся, а избранным».
Чуть ли не до утра говорил он о своём Достоевском, о его Петербурге, о его живописи и философии.
А занялся рассвет – сказал:
– Идём ко мне. Посиди у меня пару минут. – В его комнате горела лампочка под невзрачным абажурчиком, облепленная со всех сторон мотыльками. Он открыл тумбочку, вытащил оттуда бутылку с прозрачной чачей. – Будешь? Ну, как хочешь. У меня не идут из головы стихи Лёни Тёмина: «Разбивается сердце, когда не под силу одолеть ему тяжесть обиды и бед. И уходит в себя человек, как в могилу, и, затихнув, живёт ещё множество лет. А бывает – дробится на мелочи быта и пустеет – могущее космос вместить. Но снаружи не видно, что сердце разбито, и кругом говорят: меньше надо бы пить…»
4
Он уже ощущал в себе приступы «русской болезни». Как-то я полюбопытствовал, годы спустя, когда он успевает писать стихи, и он, не задумываясь, ответил: ты бы, мол, лучше спросил, когда я успеваю пить. Ну вот… Он опять поставил бутылку, но не в тумбочку, а под кровать.
– А цикады? Слышишь, как свиристят?..
Из Квишхети – и его шедевр «Цикады».
Без таких стихов нет русской поэзии.
Я думал – рассветные птицы поют, А это цикад свиристенье. Внушает им пенье их тёмный уют, Дрожащие ночью растенья. А я пробудился. Как будто в окне Большая заря наставала. А было черно. И подумалось мне: Лишь этого недоставало. Но так и случилось. В оконный проём Шумели кусты-невидимки. И думал я долго о прошлом твоём, Что в бедной скрывается дымке. От этого зябко щемило в груди, И будущее закрывалось Всем тем, что угасло давно позади, Но всё ж позади оставалось. И всю эту влажную южную ночь С открытыми спал я глазами. И было уже мне мириться невмочь С бездомными их голосами. Но вот они смолкли, зажав в кулачке Рассветной росинки монету… И снилось тебе о домашнем сверчке, Которого всё ещё нету.У Владимира Соколова немало превосходных переводов с грузинского (кое-какие, к сожалению, остались не доведёнными до конца). Евгений Витковский в своей антологии «Строки века – 2» верно заметил, что грузинские поэты были счастливы, если Володя, чья популярность ширилась с каждым днём, брал у них подстрочники, консультировался с ними по поводу тонкостей ритма, интонации, неясных для него словосочетаний. Одной из его удач в этой работе были переводы из Ладо Сулаберидзе. Вот хотя бы «Западня», и первые строчки здесь такие: «Вспомнится – подступят к горлу слёзы. Ничего уже не изменю». Это очень близко к моему нынешнему, стариковскому восприятию прошлого…
5
А как прошла наша первая встреча? Мне в редакцию позвонил Шура Цыбулевский:
– Давай выходи к книжному магазину напротив оперного театра. Мы с Володей Соколовым тебя ждём. Хочу, чтобы вы познакомились.
Через пять минут я уже пересёк проспект Руставели и был рядом с ними. Так вот он какой, Соколов. Элегантный. Без намёка на небрежность, хотя почти мальчишка, лишь на четыре года старше меня. Уже тот, кто в золотое время суток ждёт золотого слова («потому что не до шуток в пятьдесят шестом году»). Не терпящий пошлости, насилия над собой, умеющий слушать нищих, но не пустословов. Он был не из тех, кто легко сходится с любым человеком. Если кто-то очень не нравился ему из-за глупых шуток, лицемерия, банальщины, он прямо говорил:
– Вы мне неинтересны.
А если (например, в ресторане ЦДЛ) его намёк «не понимали», сам поднимался из-за стола и пересаживался за другой стол.
Он спросил, как величать меня по отчеству.
– Николаевич, – ответил я.
– Надо же, – попытался улыбнуться он. – И я – тоже. И коллекционирую Владимиров Николаевичей. В этой коллекции уже – Ильин, Войнович и Корнилов.
Пошли в подвальчик «Воды Лагидзе». Взяли хачапури по-аджарски и пару бутылок шампанского. Здесь было прохладно, нешумно и уютно. Володя присматривался ко мне. И попросил Шуру:
– Прочитай, пожалуйста, свой последний перевод. Ну да, из Морица Поцхишвили. По-моему, очень сильно.
Тот охотно согласился.
И я услышал:
Последнее стихотворенье Своё – никому нарасхват! Так пулю, попав в окруженье, Себе оставляет солдат. И я называюсь солдатом И не покоряюсь врагу. Последняя пуля – стаккато, Её для себя берегу. И солнце – моё песнопенье, Во тьму переходит – любя. Последнее стихотворенье — Последняя пуля – в себя.И Володя вдруг поинтересовался:
– А Шуру печатают в вашей газете?
Нет, Шуру у нас категорически не печатали – ни одной строчки, даже его переводы были под запретом. Главный называл его декадентом. У него на то были свои причины. Ведь Цыбулевский смолоду хлебнул лиха: его выдворили из Тбилисского университета за недонесение о «подрывной» деятельности подпольной студенческой организации «Смерть Берии»; хуже того, «дело» Шуры в сорок восьмом рассматривал военный трибунал войск МВД, приговоривший его к десяти годам лагерей. В уже упоминавшейся книге «Жрецы и жертвы Холокоста», между тем, говорится о нём едва ли не презрительно: «В те времена Шура Цыбулевский, возможно, следуя своему кумиру Осипу Эмильевичу, изо всех сил убегал от хаоса иудейского, сгустки которого, как я понял впоследствии, живут в душе почти что каждого еврея. И проза, и стихи его были трогательно несамостоятельны, похожи своей бессвязностью и разноцветностью на переливы калейдоскопа, наполненного осколками стекла, обрывками получувств и ощущений, в которых то и дело вспыхивали мандельштамовские искорки». Что тут скажешь…
Владимир Соколов нашёл бы – что сказать. Обратимся к отрывку из его поэмы «Алиби»: «Мы, пленные, стараемся равняться,/ друг друга выпираючи вперёд./ А рядом вишни, яблоневый сад,/ искусственный бассейн, флагшток, палатки./ „Р-равняйсь!“ – как на линейке. Здесь вчера/ был пионерский лагерь. СТЫД. Жара./ И так по-свойски, буднично: „Евреи/и коммунисты, шаг вперёд“. И Додик,/ как кто-то рядом, сделал шаг. Вперёд./ Тогда я тоже сделал шаг вперёд…»
Помимо Соколова, высокого мнения о Шуре были и Межиров, и Белла Ахмадулина. Белла подарила Цыбулевскому и Гие Маргвелашвили стихи:
Я знаю, всё будет: архивы, таблицы… Жила-была Белла… потом умерла… И впрямь я жила! Я летела в Тбилиси, где Гия и Шура встречали меня. О, длилось бы вечно, что прежде бывало: с небес упадал солнцепёк проливной, и не было в городе этом подвала, где б Гия и Шура не пили со мной. Как свечи, мерцают родимые лица. Я плачу, и влажен мой хлеб от вина. Нас нет, но в крутых закоулках Тифлиса мы встретимся: Гия, и Шура, и я. Счастливица, знаю, что люди другие в другие помянут меня времена. Спасибо! – Да тщетно: как Шура и Гия, никто никогда не полюбит меня.Соколов сказал мне, что и Булат Окуджава относился к Шуре по-братски, любил и его самого, и его стихи. Именно Цыбулевскому посвятил он свои широко известные песни «На фоне Пушкина снимается семейство» и «Былое нельзя воротить». А Евгений Евтушенко, который дружил с Шурой, с радостью включил его стихи в антологию «Десять веков русской поэзии», сопроводив их сочувственной заметкой об авторе и такими вот строчками: «Он ни троцкистом не был, ни эсером, а всенациональная душа бессталинским была СССРом, Пшавелой и Ахматовой дыша». Я не мог не вспомнить Цыбулевского в романе «Блюз для Агнешки» и, кроме того, помянул его в стихах:
Ну открой же тайну мне, открой. Ну хоть намекни, по крайней мере: Где же ты? В ущелье над Курой? В Вардзии? И скрылся там в пещере? Но в какой? Хоть строчкой подскажи. Может быть, напрасны эти страхи. В городе подземном этажи Возвели давным-давно монахи. Ты любил в духане пить вино — Так зачем же засиделся в келье? Там погасли свечи. Там темно. Чем тебя прельстило подземелье? Этот факел не тебе несут. Надо поскорей перекреститься. Ты у фресок – там, где «Страшный суд», Где Тамара всё ещё царица.Мы часто бывали втроём – Володя, Шура и я. Володе нравилось, что Цыбулевский в своих стихах, будто в консервных банках, хранил… дым домашних очагов. «Можно различать оттенки запахов», – говорил он. Это была высокая похвала, а Володя не очень часто хвалил стихотворцев! Его привело в восторг Шурино высказывание: «Гром. Гром покатил. С чем его сравнивали до колесниц, до телег? – ведь не с чем! И колесо выдумали, и колесницу изобрели благодаря грому…» И с первого раза запомнил его строфу: «Ах, боже мой, и всё-таки я жил неизречённо и огня боялся. И рифмовал счастливый звук: кизил. И палочки кизиловой касался». Что-то родственное виделось Соколову в этих стихах. Он расспрашивал Шуру о студенческой организации «Смерть Берии», о том, как проходил суд военного трибунала, что скрашивало Шурину зэковскую жизнь. Ведь целых восемь лет несвободы!
6
Эти разговоры и сподвигли его на откровенные рассказы о себе. Да, житьё-бытьё ему никогда не казалось малиной. В конце 30-х годов арестовали его отца, Николая Семёновича, инженера, знатока поэзии, эрудита. За что арестовали? Да вот обвинили его в том, что он – организатор контрреволюционных мятежей в тверских колхозах. А вслед за ним – ещё одно горе: был арестован Михаил Козырев, брат Володиной матери, Антонины Яковлевны, – талант каких мало, сказал Володя, его книги с сатирическим уклоном и захватывающим сюжетом шли нарасхват; он входил в группу писателей, объединившихся при кооперативном издательстве «Никитинские субботники», а вместе с ним там были Сергей Городецкий, Викентий Вересаев, Михаил Булгаков, Осип Мандельштам, Михаил Пришвин, Павел Антокольский – ведь неплохая компания, да? Вся страна распевала песни Михаила Яковлевича «Газовая косынка», «Называют меня некрасивою», «Эх, Андрюша». Его расстреляли. Обыкновенная история.
– А пишущая машинка Михаила Яковлевича, – сказал Соколов, – досталась мне по наследству. Я на ней печатал свои первые стихи.
Но этой машинке Володя не доверил слова, которые в 1949 году (когда партийная критика, стремясь разорвать в клочья Бориса Пастернака и Анну Ахматову, обрушилась на лирику вообще) оставил среди своих студенческих конспектов (конспирация!) запись: «Поэзия одного человека гибнет для всех». Это так поразило его, что он содрогнулся: «Но ведь этот вечер, весь в огнях, голосах, деревьях, – всем! всем! всем!» Забегая вперёд, скажу, что он, кто хотел на родине милой долгие годы прожить («любить её светлые воды и тёмные воды любить»), многое, как его великие предтечи – Чаадаев, Пушкин, Лермонтов. Тютчев, отрицал в своём Отечестве, не надеясь на скорые – и счастливые ли? – перемены. В 1988 году, перед самой «перестройкой» в стихотворении, посвящённом актёру Валентину Никулину, он выразился со всей откровенностью:
Я устал от двадцатого века, От его окровавленных рек. И не надо мне прав человека, Я давно уже не человек. Я давно уже ангел, наверно, Потому что, печалью, томим Не прошу, чтоб меня легковерно От земли, что так выглядит скверно, Шестикрылый унёс серафим.Этот выстраданный мотив преследовал его, хотя причину печали далеко не все разумели или мирились с нею. Он удивлялся тем, кто не понимает, что происходит на нашей земле. Он собирался написать «пленительную книгу о лепестках, ресницах и зрачках» – но в его «Пришельце» «“Увы, увы“, – кричит ночная птица в саду промокшем у монастыря». И поэт, вышедший на свободу «из бытия или небытия, из дома… из тюрьмы…», отвыкший от своего имени, рискующий лишиться рассудка («казалось, я с ума сойду вот-вот») в мире «каких-то служб <…> и просто непонятных махинаций», «где чудом голову я не сложил», «где логика почти на всё готова, раз отрубают голову за слово», сам вслед за ночной птицей кричит привыкшим ко злу людям: «Я так устал на вас похожим быть, к тому ж за годы, что я здесь бытую, вы и меня сумели убедить, что нет меня, что я не существую». Он убеждается, что Человек у нас, в двадцатом веке, веке-насильнике, покуда не опознан, поскольку не слишком значителен для верхов. И задаёт ошеломляющий вопрос: «Зачем тебе энергия, рубильник? Чтоб делать пеплом всё, что говорит?» В «Алиби» он продолжает прощаться: «Мой век, тебе давно не по себе! Зачем ты вёл борьбу со мной в себе? <…> Прощайте все! Мне некуда бежать. Я остаюсь от холода дрожать. Здесь я наедине с двадцатым веком. Здесь он во всей открытости своей, такой, как есть, на родине моей, где каждый пятый – вор или калека». Велика боль поэта, говорящего о своей родине, где ждут нашего появления на свет, «когда мы были только сочетаньем Звезды и Праха, Крови и Мечты. Потом мы станем чьим-то причитаньем иль немотой… Россия, это ты!» И до чего же страшный и горький следует вопрос: «“Дед, что здесь было?“ – „Здесь была Россия“. – „Старик, ты спятил. Я же русский сам. Я знаю, где она!» – „Её скосили. До зёрнышка всё выбрали. Дотла. Спалили храмы. А колокола расплавили. И только звон остался“».
7
Но вернёмся в Тбилиси. Вернёмся в тот день, когда Цыбулевский позвал нас к себе. У него дома творила новые миры странная и прекрасная Гаянэ Хачатурян. О ней спустя десятилетия я тоже написал в «Блюзе для Агнешки»: «Когда-то, в день знакомства, она подарила свою фотографию, сделанную Параджановым. И сказала: редко кому дарю, но ты – мой брат. Двоюродный. А кто же родной? Шура, конечно. А фото, спросила она, тебе нравится? Не то слово, сказал я, гениальный персонаж, и фотограф – гений. Шура уловил эти слова и уколол: графоманим понемногу? Но вот по сути-то, добавил он, верно. Гаянэ, шепнул мне Соколов, трогательное существо. И верно, пожалуй, она была не от мира сего, бедствовала – и всё равно не жаловалась. Да и на что ей, такой художнице, жаловаться? Тарковский, говорят, посвятил Гаянэ стихи. Надо бы найти их. Она сама была поэзией. Её картины завораживали. „Вуаль вино“. „Слон – пурпурный смычок“. „Шествие апельсинового дня“. „Утром: шорох фиалки“. „Вечером: арфовая ночь синего ореха“. А здесь, у Цыбулевского, выражая преклонение перед Шурой, украшала Гаянэ фресками стену лоджии. Одна за другой появлялись голубоватые девушки, которые готовы были пришпорить своих голубоватых коней…» Соколов продолжал восторгаться! И, неожиданно задумавшись, сказал, что ему надо бы найти какую-то девочку – лет десять назад «Пионерская правда» напечатала её стихи:
Вы войдёте в сад, товарищ Сталин, Где курчава зелень и густа. И сорвёте ягоду устало. Ведь давно не ели вы с куста.Володя искренне беспокоился об этой девочке. Чувствуете, говорил он, какой болезненный укол в детских строчках!
Вечером мы пришли в гостиницу «Сакартвело». И, несмотря на поздний час, он захотел побывать на улице Чавчавадзе.
– Пойдём, покажешь дом, где живёт вдова Тициана Табидзе. Её ведь, кажется, Ниной Александровной зовут? Не каждому поэту Бог даёт такую подругу…
Из сегодняшнего дня отвечаю ему: конечно, не каждому, но тебя Господь не обошёл Своей милостью; Он дал тебе Марианну: благодаря и ей твоя «несбыточная сирень» ни на миг не увядает; ты Марианну предвидел, долго и тяжко шли вы друг к другу.
Их небывалый роман, их любовь тронули сердца миллионов людей – телезрителей и читателей. В «Литературной газете» (27 октября 2010 года) в разделе «Юбилярий» я опубликовал «Венец для Марианны»:
«Меньше всего мне хочется, чтобы эти строки смахивали на оду, на панегирик, но стремление к чему-то величальному, исполненному нежности и лирики, по правде сказать, невольно толкает под локоть: ведь речь идёт о Марианне Роговской-Соколовой, с именем которой наш замечательный русский поэт, когда-то мечтая о её балконе, был готов выпить росы „за ваши Анютины глазки“, женственности которой, её красоте и многочисленным талантам телевидение, радио, газеты, иллюстрированные журналы часто посвящали трогательные передачи, интервью, статьи. И ещё одна важная причина тяги к „высокому штилю“: я был шафером на свадьбе у Володи Соколова, моего знаменитого и давнего (с тбилисских благословенных времён!) друга, и Марианны Роговской, сразу же завоевавшей и моё братское сердце. Я увидел её впервые в Володином запущенном, холостяцком доме близ Склифа, на улице с каким-то богоборческим названием: изящная и утончённая, она, надев резиновые салатного цвета перчатки, прибиралась, мыла посуду и окна, чтобы в квартирке стало светлее и уютнее[22]. И представьте: я уже не беспокоился за судьбу родного мне человека, в ком душа росла, „не убывая, как цветы, что некому дарить“. Он от этого очень страдал: жизнь часто обходилась с ним немилостиво. Теперь было кому дарить богатства этой души. Не одни лишь цветы. Он, совершенно не сентиментальный, в ту пору болел (я и пришёл его проведать), но глядел он, как бы вопрошая: ведь и верно она лучше всех? И – вслух: она покажет тебе, какое у неё потрясающее генеалогическое древо.
Да, конечно, уже потом, спустя годы, появятся великолепные телевизионные фильмы „Мастер и Марианна“ Юрия Полякова, „Однажды я назвал себя поэтом“ по сценарию самой Роговской-Соколовой, „Весна в Лаврушинском“ Аркадия Бедерова (и мн. др.), где сверкнул золотом ключик, открывший заветную дверь в страну Творчества и Любви, где, по словам соколовской Музы, „всё освещено солнечным светом и высшим смыслом“. А тогда… тогда все были живы и здоровы, и после загса мы в Измайловском парке заходили то в один ресторанчик, то в другой, а к вечеру поехали ко мне[23], где ждали нас подарки, присланные грузинскими друзьями, – и чурчхела, и мачари (вино, которому не исполнилось и семи дней), и многое другое. Той ночью я записал в дневнике, как Марианна стала самым юным директором Музея Чехова, расположенного в здании на Садовой-Кудринской (в надежде на лучшие времена приобретённом некогда Антоном Павловичем). В записи были и такие слова: „Очаровательная и романтичная, она сама как будто вышла со страниц чеховских книг, поклявшись никогда с ними не расставаться“.
Так бывает, что автора до конца, до самой сердцевины узнаёшь по его творениям. То же самое произошло и со мной, когда я увидел по ТВ её фильмы об Антоне Павловиче: „Всего четыре года“, „Сахалинские страницы“, „Посылаю Вам пьесу…“, „Последний сад“. Этот „Последний сад“ и дал название удивительной книге Марианны. Эти фильмы трогали до слёз, вызывали бесчисленные отклики.
Вот так они и жили вдвоём – Поэт и его Муза. Что и говорить, домашние хлопоты отнимали у Марианны немало времени и сил, но Володя не позволял жене уйти в них с головой, вдохновлял её на новые литературные подвиги, – и она росла как литературовед, сценарист, переводила болгарских, польских, македонских, грузинских поэтов и в результате издала в 1990-м книгу переводов «Я увидел тебя».
…Мы с Володей, помолодевшим и похорошевшим (от болезни – ни следа), ездили в его родные места, к Селигеру, и всё это время он говорил о Марианне, говорил, как обычно, без пышных метафор, но в каждой его фразе нетрудно было различить цветение ауткинских, ялтинских садов. Это всё потому, что его дом преобразился. В нём была она! Он это предвидел: „Я буду рад, слегка отъехав, что Дом, не зная почему, стоит задумчивый, как Чехов, и улыбается всему“. Их миры воссоединились, отчего обрели вечность и беспредельность. Им бы жить двести, триста… нет, тыщу лет – и всё равно не исчерпалось бы то, что их так объединяло и украшало. Их – вдвоём! – никогда не забудут потаённые московские уголки, дым мегрельских, кахетинских, имеретинских очагов, ветхие балкончики Метехи в Тбилиси, болгарская речка Тополница и тропинки Булонского леса, и Люксембургский сад, где они вели беседы о будущем России, о родном Володином дяде по линии матери, писателе Михаиле Козыреве, настоящем красавце, сыне лихославльского кузнеца, арестованном „органами“ весной 1941-го и сгинувшего в саратовских застенках.
“Вот бы воскресить его, воздать ему должное!“ – вздыхал Соколов. Об этой мечте всегда помнила Марианна. И, уже после того как Володи не стало, ей удалось сдвинуть глыбу, лежавшую на памяти Михаила Яковлевича <…> Она открыла для себя его в основном сатирические книги, надолго запрещённые и забытые. А то, что открыла, решила сделать достоянием читателей. И засела за работу, дав ей соколовский эпиграф (“Нет школ никаких, только совесть да кем-то завещанный дар“) и грустное название – „Таянье славы“. Господи, как жаль, что Володя не прочитал книгу Марианны, особенно последних строк: „Хочется верить, что после таяния, как всегда в природе, начнётся плодотворное, неодолимое цветение“!
8
Я помню тот печальный день в Переделкине, когда Володя и Марианна пришли на поминки трагически погибшего большого поэта Бориса Примерова. Жаль, что слова Соколова, произнесённые им тогда, никто не записал. Они были поразительными. А с каким чувством прочитал он наизусть пронзительные строки Примерова:
Я умер вовремя – до света, И ожил вовремя – к утру. А рядом проходило лето В бредовом затяжном жару. А рядом солнце проползало На животе, в репьях, во рву И воспалённым, жёлтым жалом До смерти жалило траву. О бедная земля – как сушит Вдоль, поперёк и снова вдоль! Как бороздит виски и души Горячая, сухая боль. Иссохшие уста – и только. Глаза тоски – невмоготу… И степи, серые как волки, Крадутся к мёртвому пруду, Где на краю, в краю безвестном, В репьях, во рву, на самом дне, Всего на расстоянье песни Лежу от жизни в стороне.Мне кажется, что Соколов уже тогда чувствовал свой уход, в его голосе ощущалось астматическое задыхание, но он до конца дочитал стихи Бориса. Надо было видеть, как Марианна смотрела на своего Володю, вся – тревога, вся – любовь, вся – преданность. Этой любви и этой преданности надо бы посвятить большую книгу. Если б не Марианна, если бы не поддержка её добрых друзей, не был бы так быстро открыт музей Владимира Николаевича Соколова при библиотеке в Лефортове, не проводились бы регулярно Соколовские чтения в день рождения поэта и в день его памяти, не выходили бы в наше кризисное время его бессмертные книги…
Она не ищет следы прошлогоднего солнца. Они – рядом с ней, и она озарена этим солнцем. Сколько, говорите вы, ей лет? Да не смешите меня. Марианна молода, как молода сама Поэзия. И как бы ни шла, я уверен, что она – в полёте. А всё вокруг – „словно сонмы существительных в ожидании глагола“».
Но мы должны вернуться в тот, далёкий уже, тбилисский вечер, когда Володя Соколов долго вглядывался в тёмные окна табидзевского дома, читал без запинки стихи Тициана Табидзе в пастернаковском переводе, опершись на платан, который возникнет в его строчках в стихотворении «Тбилиси! Туманная рань!..»
…Недавно мы с Марианной вспоминали давнишнюю раннюю весну, тбилисскую улицу Камо, 2, улицу прямо-таки фешенебельную, изящную, расположенную на берегу Куры. Ладо Сулаберидзе и Резо Маргиани звонили чуть свет и вскоре приезжали к Володе и к ней; завтракали на балконе гостиницы. Появлялась и жена Маргиани – Нина, русская по национальности, но говорившая по-русски с трогательным акцентом. Она знала наизусть «всего» Реваза, и ей больше всего нравились стихи о птицах, словно бы нарисованных близ отрогов Кавкасиони (такими неподвижными они казались), и о девяти юношах, погружающихся в сырой туман зелёной, самой зелёной в мире Гвалды. Какая-то печаль появлялась в её глазах, когда она обращалась к строчкам своего мужа, где говорилось о ненадёжности, быстролётности мига под родной кровлей и звучала просьба, обращённая к минуте, чтобы та не загасила вдруг искорку жизни. К компании присоединялся Отар Нодия, руководитель главной редакционной коллегии по художественному переводу и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Грузии. Ладо говорил Соколову: прочти, мол, что-нибудь… ну… к случаю… И Володя читал: «Люблю, когда друзья мои в Тбилиси в пылу беседы общей за столом заговорят, до звона речь возвысив, своим почти орлиным языком». И всех приглашали в ресторан. Внизу, под балконом, стояли наготове несколько машин…
Володя был непоседой, его постоянно тянуло сюда, чтобы «жить в горах легко и гордо», а отсюда – домой, чтобы писать о том, как «дул ветер в феврале в Тбилиси, гремя железом листовым. Гремели форточки. И листья, гремя, неслись по мостовым». И однажды, весной, после звонка Нины Маргиани пришлось лететь для прощанья с Ревазом, певцом родного села Мулахи, неприступного Легазариели, каменных хребтов Ушбы, волн Энгури. Безутешная Нина, поддавшись внезапному горестному порыву, открыла все окна, и балконы её опустевшего дома висели над Курой и смотрели во все стороны света. Володя с Марианной, оплакав Резо, сходили и на могилу поэта Леонида Тёмина, который умер в Тбилиси в день своего пятидесятилетия (он бежал из Москвы, от своего юбилея). Помянули Лёню, и Володя Соколов прочитал его строки: «Кардиолог! Ты прав: ни к чему мелодрама, и „разбитое сердце“ – чувствительный бред! И у Гамлета чудная кардиограмма, если он умирает четыреста лет».
И опять мысленно возвращаюсь я к тому вечеру, когда мы вошли с Володей в гостиницу «Сакартвело» и в глаза нам бросилось строгое предупреждение рядом с выключателем: «Уходя, гасите свет!»
– Вот глупость! – сказал он. – Нельзя этого делать.
Он не выключил после себя свет. А Марианне я посвятил стихи:
Что в Лаврушинском сейчас? Как живёшь ты, Марианна? Снишься мне – и всякий раз Неожиданно и странно. В Переделкине твоём — Всплеск кленовых междометий. Но идём мы не вдвоём: Рядом с нами некто третий. С нами он – и там, где Блок, Пусть невидимый – до срока. Значит, я не одинок. Значит, ты не одинока.Владимир Соколов остался верен себе до самого конца.
Глава 4. Запёкшаяся капелька слезы
Мне слышен треск сгорающей лозы, И женский плач летит во все края, И в каждой винной капле вижу я Запёкшуюся капельку слезы… Александр Межиров(«Слово на кахетинском празднике») Он учил меня Блоку и женщинам, картам, бильярду, бегам… Евгений Евтушенко(«Автор стихотворения „Коммунисты, вперёд!“»)Здесь никак не обойтись без недавней публикации Зои Межировой-Дженкинс – и пусть это будет чем-то вроде третьего эпиграфа. Итак:
ФАРФОРОВАЯ ЧАШЕЧКА
Она, как ни странно, вспоминается, когда я думаю о дружбе Александра Межирова с Владимиром Мощенко.
Хрупкая, элегантная, – для чая или кофе, сделанная из тонкого фарфора, та чашечка и сейчас с нами, привезённая в далёкую страну. Не разбившаяся во время межконтинентального перелёта. Как особый Знак, кажется, не подвластный времени и пространствам.
Когда-то давно Владимир Мощенко пришёл к нам со своей женой в квартиру на Красноармейской улице и принёс этот изящ ный подарок. Сидели, как всегда в те годы бывало в московских квартирах, на кухне, ужинали и, конечно, говорили о поэзии.
Дружба поэтов была многолетней, – с Грузии. С 1959 года. Они познакомились в Тбилиси у прозаика Эммануила Фейгина. И с тех пор, невзирая на трагический отъезд Александра Межирова в страну другого полушария и до дня захоронения его праха на кладбище подмосковного Переделкино, их связывала крепкая нить нежного товарищества, внимания и заботы, глубокого интереса друг к другу.
Владимир Николаевич, переживая этот отъезд, скучая, звонил Межирову в Штаты. Делились новостями. Читали стихи. Но горечь расстояния уже довлела над этими беседами.
На вечере памяти А. Межирова в ЦДЛ в сентябре 2009 года Мощенко с лёгким недоумением и присущей ему скромностью сказал, что его удивлял постоянный интерес Межирова к нему, удивляло, как тот его «вычислил». Межиров любил общение с Владимиром Николаевичем, тосковал по нему, когда долго не разговаривали, – привлекал шахматный ум Мощенко, особое, редкое по мудрости, видение жизни и мира, в сочетании с лирическим характером души, который навсегда, несмотря на иную, кажется, резко противоположного плана профессию, неотвратимо замкнул его на стихах. Межирову они нравились, и моя мама рассказывает, как ещё в Москве, любя строки Владимира Мощенко, считая его талантливым, Межиров говорил, что тот пишет всё лучше и лучше.
«Не скрою, меня трогало дружеское, искреннее участие Межирова в моей судьбе», – написал Владимир Николаевич в замечательных воспоминаниях о Межирове в журнале «Дружба народов» (№ 9, 2013). Тот открывал и ему значительных авторов, которые в те годы были неизвестны даже многим литераторам, дарил копии их книг, а порой и сами эти редкие книги, как внимательный, деликатный наставник, интересовался мнением о прочитанном.
Шахматы, один из видов великой Игры, интересовали Межирова всегда. Даже нет, не просто интересовали – волновали. Ведь так любимый им бильярд, да и игра в карты, которой Межиров профессионально обучался с двенадцатилетнего возраста, тоже несут в себе шахматные ходы. Недавно в Москве выдающийся игрок, первый кий Советского Союза, тоже друг А. Межирова, Ашот Потекян говорил мне о том, что бильярд – это настоящая таблица Менделеева, бездна, в которой есть всё и которую невозможно описать. Думаю, каждый шахматист смог бы сказать это и о межзвёздной области шахматной доски.
Познакомившись с Мощенко, прекрасно игравшим в шахматы, и впечатлившись его натурой и образом, Межиров написал стихотворение «Шахматист»: «Он свободные видит поля, а не те, на которых фигуры». Никогда не играя в шахматы, я недавно по-настоящему поняла значение этого пластичного поэтического свидетельства, советуясь с высокопрофессиональным шахматистом, опять же другом А. П. Межирова, Ильёй Журбинским, об одной непростой жизненной ситуации. Рассказала ему только о «фигурах» на поле моей истории; он ответил советом взглянуть на её «свободные поля». Это и принесло разгадку. И тогда я снова обратилась к стихотворению «Шахматист», хоть и прекрасно его помнила. Но прочитала на сей раз уже по-другому. Это стихотворение всегда присутствовало во всех межировских избранных, малых и больших. Включила и я его, составляя «СТО стихотворений» А. Межирова, которые вышли в ноябре 2013-го к его 90-летию в серии, учреждённой незабвенным Станиславом Стефановичем Лесневским (издательство «Прогресс-Плеяда»), об уходе которого продолжает страдать сердце, не смирившись с безжалостной реальностью его недавней кончины.
Привлекала Межирова и «одинокая и гордая свобода» Шахматиста, его не сконцентрированность на «суматохе житейской и спешке». «Воля свободного поля» манила и как иносказание в тяжкие дни несвободы страны. Это отмечает и Евгений Евтушенко, говоря в статье из своей антологии «Десять веков русской поэзии» «Благоговейный человек», посвящённой Мощенко, о необычности его образа в эпоху жестокого зажима.
Может быть, джаз – иная страсть Владимира Николаевича, тоже был для него и остаётся тайным Полем Свободы? О Мощенко говорили как о «благородстве в погонах». Каждому понятно, что это необычайная и драгоценнейшая редкость. Помню, как на поминках Межирова в Москве, у меня дома, на той же улице Красноармейской, при огромном стечении народа, приехавшего из Переделкина 25 сентября 2009 года после захоронения праха (был в тот день на поминках и Владимир Мощенко), Надежда Кондакова обратилась к нему с воодушевлённым, искренним тостом, сказав о его неоднократной помощи самым разным людям, когда он ещё не ушёл в отставку, как полковник милиции. А ведь для этого, видимо, тоже нужны – и шахматный ум, и лиризм души.
Лиризм той прекрасной чашечки, когда-то подаренной нашей семье Поэтом и Шахматистом, хрупкий фарфор которой никогда для нас, уверена, не разобьётся.
1
…Проходная Кремлёвской больницы. «Вы к Антокольскому?» – спрашивает вышедшая навстречу медсестра. «Д-да, – отвечает Межиров, – он ждёт нас». А я задаю глупейший вопрос: «Ну, как Павел Григорьевич? Лекарства помогают?» Та не ответила, и мы двинулись вослед за нею. «В-володя, – прошептал Межиров, – в-вы что? От восьмидесяти лет лекарств не бывает». И вот мы в уютной палате у тяжело хворавшего Антокольского, который в сорок седьмом, по его словам, с удовольствием и чистым сердцем помог своему Сашеньке, ученику-фронтовику, студенту Литинститута издать первую книжку «Дорога далека», подвергшуюся вполне объяснимым нападкам за слишком «личное» отношение к теме войны. Павел Григорьевич, обрадовавшись гостям, по-хозяйски велел медсестре приготовить чай и кофе, достал из тумбочки бутылку коньяка, яблоки, шоколад и с юношеским задором, без раскачки стал читать стихи о грешной земной любви, о горбоносом попугае, а затем заставил Александра Петровича прочитать что-нибудь из нового: «Саша, уважьте старика». Впрочем, он нисколько не сомневался, что мы горячо отвергаем это словечко – «старик» (влюбчивый подросток сохранился в нём до последнего дня). И тогда впервые прозвучали строки из «Бормотухи», ещё (как я теперь понимаю) незаконченной, зато с чеканными отдельными главками: «Любой народ – народ не без урода… Но целиком… На уровне народа… Что говорить об этом… А толпа на уровне толпы всегда жестока – готова растоптать её стопа не только очевидца и пророка…»
И Антокольский сказал: «Да, это ваши стихи. Вы будете всегда на слуху. Вас будут поносить и возносить». Он не ошибся. Поэзия Межирова стала бесспорной классикой.
Вот почему так невероятны, ошеломляющи его зимние портлендские строки, где подводятся в горьких раздумьях, смахивающих на душевный надлом, итоги жизни и творчества «…Невостребованный дар. Невостребованна мысль старика в сторожке тёмной». Почти всё – как у любимого им Евгения Баратынского, который усомнился в своём даре и рассчитывал лишь на благосклонность потомков. Но – почти. Никакой надежды на понимание. На грани отчаяния. И вырывается раз за разом: «И это всё совпало с немотой…», «Встал и вышел из дома не в дверь, а в окно», «Воткнута в бабочку игла, висок почти приставлен к дулу…»
Дорога поэта была не только далека, но и полна драматизма, как иллюстрация к истории русской и советской литературы, к русской истории вообще, ибо она «угрюма, на себе замкнутая, смутна, вся она – раскол – от Аввакума вплоть до Горбачёва-Ельцина», и, значит, дорога эта не уникальна и не исключение из правил. Вот и возникает вопрос: не приспела ли пора издать книгу воспоминаний об Александре Петровиче Межирове, русском поэте и переводчике, лауреате Государственной премии СССР (1986), лауреате Государственной премии Грузинской ССР (1987), лауреате премии имени Важи Пшавелы независимого СП Грузии (1999); добавлю к этому награду президента США Клинтона. Представляю, с какими трудностями столкнётся составитель этой давно ожидаемой книги. Страсти вокруг имени и личности Межирова не стихают до сих пор и вряд ли стихнут (так оно и положено у нас, да, наверно, не только у нас, если разговор заходит о крупном, неординарном поэте, чьё творчество и чья биография никого не оставляют равнодушным).
Всё написанное Межировым и в России, и в США свидетельствует: он, как всякий человек, который «у памяти в залоге», прекрасно сознавал, что перемежаются восторженная хвала и яростная хула в его адрес, что немало таких хулителей, с ходу выносящих ему «приговор жестокий, исключающий любое алиби». Его поэзия – акт осознания своего несовершенства и покаяния перед Богом и людьми. Порой ему хотелось казаться безразличным к нападкам, и это заставляло его обращаться из-за океана к своему читателю и собеседнику: «Прими мою неправоту – не верь людскому пересуду…» Сюда можно присовокупить давнее: «Когда стихи прочтёте, понятней станет вам».
Однажды в нефтяной гавани Батуми я увидел на октябрьском рассвете, когда шёл в кофейню Анартироса, как на сваях пристани в беззвучном плеске колыхались, будто изумительной красоты бахрома, наросты мембранипоры. Рядом со мной остановился старый морской волк в штормовке и (разумеется!) с трубкой в зубах, заметил, чем я заинтересовался, и сказал мне как давнишнему знакомому: «А-а, это что, генацвале, это мелочь, а вот посмотрел бы ты на днище большого корабля – вот что дико обрастает такой гадостью, а случается, что попадает и внутрь судна – по трубам, когда приходится забирать забортную воду, чтобы охлаждать машины». Потом я где-то прочитал, что эти самые трубы постепенно заселяются едучей мембранипорой, от которой нелегко избавиться.
К чему это я? Вот чем-то вроде такой неистребимой липучки из смеси морских желудей, асцидий, мшанков вопреки своей воле и великие поэты обрастают сплетнями и наветами. Чем значительнее имя, тем их больше, тем они крикливей, ярче, забористей. Появляются книги, в лучшем случае, наподобие вересаевских «Пушкин в жизни», «Гоголь в жизни». Есть более пристрастные творения о Маяковском, Есенине, Олеше, Ахматовой, (которой, между прочим, приписывали связь с Николаем II и Блоком). Даже один из самых талантливых учеников Межирова не преминул написать об игре поэта со страхом (как мере мелоса), сделав ударение на том, что этот «страх всё менее „державный“ и оправданный по мере ветшания империи, деградировал до конкретной боязни наказания за совершённый поступок (дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек)». Жаль, что это цитируется рядом с высказываниями злопыхателей, в том числе с письмом Межирову от бывшего приятеля, а затем – откровенного врага: «Мне жаль книг, подаренных Вам. Я ошибся, говоря о том, что Вы любите русскую поэзию. Это не любовь, скорее ревность или даже зависть. Не набивайтесь ко мне в учителя. Вы всегда в лучшем случае были лишь посредником и маркитантом, предлагающим свои услуги». На что А. М. был вынужден ответить – без проклятий и с высоты своего жизненного опыта:
Эта истина слишком стара, С ней давно примириться пора: Человек никогда не прощает Причинённого кем-то добра, Потому что добро унижает. В мире зло велико и добро велико, Зло, как это ни странно, Прощают довольно легко, Без усилий и даже заране, — В этом люди вполне христиане. Я тебе подарил только звук, Только собственный звук, не заёмный, Только сущность поэзии тёмной, И за это, любезный мой друг, На меня ты обрушился вдруг С двух, в игре тренированных, рук — В отработанной стойке погромной.О душевном разладе и горьких разочарованиях Межирова в последние его годы в Штатах мы нередко говорили с Александром Ревичем, который искренне сострадал собрату. В статье «Воля свободного поля» о моём избранном («Дружба народов», № 5, 2012), ведя речь о сочувственном отношении А. П. ко мне, Ревич заметил: «…Межиров пишет метафорически, имея в виду художественную природу поэта, способного твёрдо знать, что за кирпичной мусорной грудой на „свободном поле“ пустыря, в чертополохе бродит мёд. И это – Межиров, махнувший на себя рукой в конце жизни и признавшийся, что перед ликом величайшей русской поэзии, которую он боготворил, он – „несостоявшийся поэт“».
А ведь ещё в сорок седьмом сразу после выхода в свет сборника «Дорога далека» Сергей Наровчатов приветствовал приход в поэзию истинного таланта и предрёк неугасание межировским синявинским кострам и перебомблённому рубежу! И действительно: в стихах Межирова «синявинская чёрная вода под снегом никогда не замерзала». Вспомним: «Он стал поэтом той войны, той приснопамятной волны, которая июньским летом вломилась в души, грохоча…» Наровчатову вторил Евгений Винокуров, который не мог не заметить, что уже в ранних стихах приятеля-фронтовика «его нельзя было спутать ни с кем», что у него с явным новаторством сочетаются и трагедийность высокого полёта, и державинская взволнованность – таковы, мол, отличительные черты межировской интонации.
2
Эту, связанную с новизной формы и содержания, интонацию, сильнее всего проявлявшуюся в стихах даже той, послевоенной, поры и в их авторском – завораживающем, колдовском – чтении, я не мог не обнаружить, когда мы познакомились с Межировым в 1959-м в Тбилиси, прекраснейшем «маленьком Париже», раскинувшемся над Курою, полном особенного, именно тифлисского тепла и таких же особенных, пряных запахов древности и юности. Притягательной магии этого города в пору «оттепели» посвящено множество великолепных поэтических и прозаических страниц. В предисловии к моему роману «Блюз для Агнешки» Василий Аксёнов недаром воскликнул: «А где лучше можно было разморозиться от вечного советского страха, чем в древнем караванном городе, чьё имя как раз и говорит о тепле?!» Мой герой готов был поклясться, что именно на грузинском языке впервые прозвучали слова о том, как блажен человек, которого любят Музы, – и всё из-за того, что тбилисский сентябрь, утверждаясь в своих правах, распахнул перед страждущими пришлецами свои тайны, и узкие улочки, и тесные дворики, и их плывущие в безоблачном небе балкончики, резко приблизил Салалакский хребет, а солнце, не столько знойное, сколько слепящее, делало всё возможное, чтобы на фоне развалин древней Нарикалы мелькали свадебные наряды невест, и возле крепости скалистые горы противоположных берегов в такие моменты едва ли не касались друг друга, и время сходилось в одной точке.
У Межирова появилось здесь новое поэтическое дыхание; любая мелочь в быте и природе вызывала восторг своей художественной необычностью, будто явилась, как не раз говорил он, с полотен Нико Пиросмани или из коллажей Сергея Параджанова. «О, на какой загубленной лозе возрос коньяк, что стоит восемь гривен?!» Его поражала вечность, запечатлённая в органичнейшем слиянии древности и современности: «В чём тайна тайн архитектуры храма? Через фонарь в округлом потолке на человека небо смотрит прямо и с храмом человек накоротке. <…> Смотри, как много навалило снега. Верийский спуск. Зима, зима, зима». То была ещё одна крутая, ведущая кверху, ступенька в жизни и поэзии Межирова.
Тбилисские стихотворцы со стопками подстрочников буквально выстраивались в очередь к нему. Всему виной – ранняя его известность, легенды о нём (да, они всегда сопровождали «фантазёра и мечтателя» с «окраин города Колпино», накопившего «много самых весёлых и грустных историй» и выдумывавшего «небылицы»). Ясно было: не только война открыла имя Межирова. Звук, добытый в ней, был подтверждён Грузией. Тем не менее за пиршественными столами он воздерживался от захлёбывающихся, восторженных тостов. В ответ на признание и тепло он, не падкий на словесный рахат-лукум, отряхнувший «прах грозы летучей» и оставшийся «жить на всякий случай», пощажённый войной, не опускался до дежурной лести. Таков уж был его характер. Уже в семидесятых Межиров признался: «Медлительно грузинское застолье, нетороплива тостов череда. И только он один, – свихнулся, что ли, – в их ритм не попадает никогда. И только он один, не совпадая с грузинским ритмом тостов, напролёт всю ночь, – безумец, голова седая, – за рюмкой рюмку превентивно пьёт».
Об этой особенности А. П. мне говорил талантливый и рано покинувший нас поэт Александр Цыбулевский: «Мы были с Сашей и с ещё несколькими поэтами в Рустави. Ну, к ночи приспело застолье – как же иначе. Дошла очередь до Саши провозглашать тост. А он – ни в какую: я, говорит свои мысли изложу в стихах, скоро их закончу…» Несколько раз мы собирались втроём за бутылкой доброго кахетинского: Межиров с Цыбулевским и я. А. П. любил Шуру, видел в нём родственную душу, прошедшую сквозь ад, боялся за него, как за самого себя. Однажды, когда мы попрощались с Шурой, он, глядя ему вослед, прочитал наизусть (о, такой памяти, как у Межирова, не найти) его строфу из «Маргариты»: «Перед смертью утешить вас нечем, всё же прав был какой-то индус: снова в облике мы человечьем будем лихо закручивать ус…» И сказал мне угрюмо, что это, увы, самообман. Ничего не будет «снова». Ничего. И зашёлся в кашле из-за проглоченного табачного дыма. А что касается предчувствий Цыбулевского, то они его удручали. Читая межировские строчки: «И каменный путь грохотал под копытом, и билось вино в бурдюке недопитом», я отчего-то был уверен, что это – о нём, о Шуре, у которого всё осталось – «недо», «недо», «недо»…
И всё-таки Межиров ошибался. Всё будет снова. И, словно бы споря с ним, я написал о Цыбулевском, поражённый его самой горькой строкой («И странно слово вдруг: исход»): «…Ты любил в духане пить вино. Так зачем же засиделся в келье? Там погасли свечи. Там темно. Чем тебя прельстило подземелье? Этот факел не тебе несут. Надо поскорей перекреститься. Ты у фресок – там, где „Страшный суд“, где Тамара всё ещё царица».
Услышав эти строчки, А. П. кивнул головой: «Помнить – святое дело».
3
Гражданская, поэтическая позиция Межирова недвусмысленно изложена в стихах «Тбилиси. 1956. Март». Если Николай Заболоцкий (в ученическом следовании за которым его упрекали иные недоброжелатели) – в знаменитом «Казбеке» (1957) – как бы издали всматривается в того, «кто блистал и царил», кто в «дыхании молебнов и кадил» был и чужд, и враждебен («А он, в отдаленье от пашен, в надмирной своей вышине, был только бессмысленно страшен и людям опасен вдвойне»), то Межирову уже не нужны иносказания, и он разворачивает, пружиня каждую строку, ужасающую картину:
…И непонятен и бесцелен Поток бушующий людской. Шли дети тех, кто был расстрелян Его бессмертною рукой. Нам не забыть об этих войнах, Нам не забыть его идей, Его последних, бронебойных Карательных очередей. Он, ни о чём не сожалея, Под крики «Сталину – ваша![24]» Бьёт наповал из мавзолея, Не содрогаясь, не дыша.В этом столпотворении, проклинавшем ХХ съезд и Хрущёва, как известно, были маститые Ираклий Абашидзе и Иосиф Нонешвили, оглашавшие площадь одами в честь «великого и мудрого». Но они поостыли впоследствии и никогда не упрекали Межирова, одаряя его своим благорасположением.
4
Впервые я встретил его в редакции журнала «Литературная Грузия», чьи вольности потрясали воображение читательской аудитории: тут, к примеру, публиковались большие подборки из архива Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой. С Межировым, попивая кофе, вёл неспешный разговор литературовед и критик Гия Маргвелашвили, человек необыкновенного обаяния, ведущий рубрики «Свидетельствует вещий знак». (Кстати, о Гие в Тбилиси я не слыхал ни одного дурного слова, и все его литературные и человеческие привязанности, идейное направление журнала, которое он долго формировал, свидетельствуют о нём. Каково же было моё изумление, когда я прочитал в уже упоминавшейся книге «Жрецы и жертвы Холокоста»: «Ближайшим другом Цибулевского[25] был Гия Маргвелашвили, маленький, лысенький, усатый человек с кругленьким брюшком и походкой Эркюля Пуаро из известных фильмов. Почему он считался в Грузии выдающимся критиком и вообще властителем дум, приезжим людям понять было трудно, поскольку Гия в 60-е годы почти не писал ничего примечательного. Но когда он приподымался над застольем в белой рубашке с волосатой грудью и озирал орлиным взором сквозь толстые линзы своих очков наши восторженные лица, все замирали в ожидании устного шедевра, который будет сотворён на наших глазах. Многих изощрённых и вдохновенных витийствующих трибунов я слышал в дни тех незабвенных кутежей – и Бесо Жгенти, и Ота ра Чиладзе, и Резо Амашукели, но этот невзрачный на первый взгляд грузинский еврей превосходил их всех в ритуальном священнодействии». В этой характеристике – убийственная ирония, неприязнь, защищённая невозможностью ответить самого Гии, давным-давно ушедшего от нас.
Но дальше – ещё язвительнее, да просто разоблачительно: «…Злые грузинские языки в минуты редкой откровенности говорили мне, что у красноречивого Гии рыльце в пушку, что в конце сороковых годов, в эпоху борьбы с космополитизмом, молодой критик, успешно делавший карьеру, написал какую-то <курсив мой. – В. М.> статейку, в которой приклеил ярлык космополита к славному облику своего учителя Павла Антокольского, талантливо и обильно переводившего в послевоенные годы на русский язык лучших поэтов Грузии». Вот так, ни больше ни меньше[26].
Меня удивило, что Межирова в беседе с Гией Маргвелашвили ничто не заставало врасплох, его эрудиция просто поражала, он без запинки читал Тициана Табидзе в пастернаковском переводе. При этом он не улыбался, не шутил, будто пытаясь внешне соответствовать автопортрету 1956 года: «…Прости меня за леность непройденных дорог, за жалкую нетленность полупонятных строк, за эту непрямую направленность пути, за музыку немую прости меня, прости…»
Познакомил меня с Межировым там же, в «Литературной Грузии», Эммануил Фейгин, автор популярного романа «Мальчик пляшет под дождём», фронтовик, почти что мой сослуживец, потому что он постоянно сотрудничал в нашей окружной газете, охотно выезжал в майорском обмундировании на учения в Ахалкалаки, на Пушкинский перевал, в район Ленкорани. (Замечу, что в этой газете в тридцатых годах работал знаменитый Рюрик Ивнев, выпускник Тифлисского кадетского корпуса, эгофутурист и имажинист, а после моего отъезда в Венгрию здесь отбывал краткосрочную «воинскую повинность» Евгений Евтушенко.)
Мы заявились домой к Фейгину. Он заставил меня почитать стихи, посвящённые ему:
В Тбилиси старом дождь идёт Который день. Июль пристыжен. И звон монет, и звон булыжин — Бегут ручьи за поворот, Туда, к Сионскому собору, Не в будущее, в старину. И я в их музыке тону. Тут в детство впасть, пожалуй, впору. И мне теперь тринадцать лет. Грохочет гром – а я не глохну, Я молнию схвачу – не охну. Я мокну, я полураздет. Пусть хлещет ливень утром ранним, Пусть он загнал в подъед мушу. А я наивен, я пляшу: Я не убит ещё, не ранен. Так, может, в хашную пойдём, Так, может, ты меня уважишь И там, за столиком расскажешь, Как мальчик пляшет под дождём.Жена Фейгина, Сима, ушла в оперный театр; ему самому пришлось готовить ужин. Он предложил нам сразиться в шахматы. А. П. согласился:
– Хорошо. Давайте по рубчику за партию.
Эмма стал его отговаривать:
– Ты что? Володя – кандидат в мастера.
Ответ был кратким.
– В-всё равно.
Он вставил в мундштук сигарету и сделал ход… b3. Играл он на уровне пятого или четвёртого разряда. Я давал ему фигуру вперёд – он отказывался, азарт брал верх. Не верил, что теорию надо знать. Сели ужинать, и он сказал:
– Приезжайте в Москву, за мной – реванш, будем играть по трёшке.
Вернулась из театра Сима, вся сияющая, и возвышенно произнесла: мол, какая музыка была! А вскоре появилось гениальное межировское стихотворение «Музыка», ставшее одним из самых цитируемых:
…Солдатам голову кружа, Трёхрядка под накатом брёвен Была нужней для блиндажа, Чем для Германии Бетховен. <…> Стенали яростно, навзрыд, Одной единой страсти ради На полустанке – инвалид И Шостакович – в Ленинграде.Это один из примеров того, как был прав поэт Евгений Винокуров в давней оценке Александра Межирова: «Сдержанная экспрессия, точная подробность, „жёсткость“ формы и в то же время лирический „захлёб“» – вот что составляет межировскую манеру.
5
В те дни я записал в дневнике: «Мне в редакцию от Фейгиных позвонил Межиров. Спрашивает: не хочу ли я съездить с ним в Чиатуру; приглашает Григол Абашидзе: это его родные края. И – с подвохом: не смущает ли меня, что Г. А. – лауреат Сталинской премии? Ехали часа три. У Г. А. собственный шофёр. Молчаливый, погружённый в себя. Вдруг перед нами распахнулось ущелье; посередине его – речка Квирила (убежавшая Квирила о Риони говорила). Скалы с двух сторон. От речки в гору поднимается Чиатура. Очень живописно, всё просится в какой-нибудь экзотический фильм. Повсюду – воздушно-канатные дороги и чумазые шахтёры. И, конечно, традиционные угощения с морем имеретинского вина. Г. А. здесь почитают, гордятся им. Всё это походило на праздник. Нам показали в селении Кацхи купольный храм Мацховари Х-ХI века (А. П. был в восторге от сохранившейся кое-где росписи), средневековую крепость и пещеры Джарбели. На обратном пути А. П. поинтересовался: доволен ли я. Он много курил, щурился из-за дыма, благодарил Абашидзе…» Каково же было моё потрясение, когда я услышал от него «Бессонницу», полную драматизма, но не ощущения праздника: «Хоронили меня, хоронили в Чиатурах, в горняцком краю…»
Он жил, если так можно сказать, на пределе, хотя это далеко не каждому бросалось в глаза. Драматичным был чуть ли не каждый его миг.
Однажды, спустя очень много лет, я приехал к нему в Переделкино (он тогда обретался там в двухэтажном жэковском доме, в тесноватой коммуналке, по-приятельски общаясь со всеми соседями); у него – Владимир Высоцкий, который очень высоко ставил Межирова. А. П. как-то говорил мне о нём: «Володя, как все великие люди, по сути, одинок».
Уж он-то, автор строк: «Одиночество гонит меня от порога к порогу…», понимал, что это такое. И продолжал в том смысле, что это состояние пугает Высоцкого, не даёт ему покоя, заставляет одолевать свой главный, неотступный недуг, что-то корёжит его, не даёт уснуть, держит в постоянном напряжении, и он звонит даже среди ночи: «Можно приехать?» «К-конечно!» – отвечал ему Межиров, и тот ловил такси, ехал через всю Москву и Подмосковье, врывался с потоком свежего воздуха, наотрез отказывался от спиртного («С этим я завязал»), беспрестанно пил чай и пел под гитару свои новые песни, которых было не счесть.
В ту ночь Высоцкий сказал мне, когда А. П. вышел в кухню помыть посуду:
– Он хочет спасти меня, а сам неприкаянный – не меньше, чем я. Может, и больше.
Под конец Высоцкий по просьбе Межирова спел «В Тбилиси – там всё ясно, там тепло…» и, поставив гитару к ногам, уговорил А. П. прочитать нам «Бессонницу»; не удержался, снова взял гитару и подыграл ему. Жаль, что это не было записано на плёнку!
Межиров знал Грузию сокровенно, глубинно – потому, скорее всего, что был любим ею и любил её, сопереживал ей.
Прошедший сквозь великую войну, Я знаю цену этому вину Не как историк, а как винодел, Который прожил в Грузии века, На Тамерлана с яростью глядел, А в этот день помолодел слегка.Пожалуй, тогда, в те благословенные дни, общаясь с ним, я понял, как должна поэтическая строка выискивать на шумном Авлабаре в вечернем блеске трамвайной дуги кристаллик соли на спине битюга, быть с теми, кто «на склон из ассирийского района выносят гроб с водителем такси», слышать, как, сопровождая процессию, «сирены воют. (Господи, спаси!) И горестно поют, и разъярённо». Через его поэзию у меня в пятидесятых-шестидесятых годах произошло второе, более интимное открытие Тбилиси, настолько органично впитала она в себя «военный госпиталь в Навтлуге, трамвайных рельс крутые дуги», «подъём Чавчавадзе сквозь крики: бади-буди, мацони, тута…», набитый битком автобус, который «в нос шибает и дышит в затылок чахохбили, чачой, чесноком», «луны бутылочное дно над городом Галактиона», «горы около зари», падающий вниз, к Куре, Театральный переулок, «Верийский спуск в снегу», кафе «Метро», заставляющее признать, что «свет фонаря в любом убогом храме куда светлей, чем свет из этих стен», то, как над Курою – «перезвон и перезвяк»: «первый лист упал с чинары». Сколько раз я проходил мимо вот этой старинной церкви, но и подумать не мог, что она перестанет быть безымянной после встречи с Межировым – и откроется самым потрясающим образом: «Когда над храмом с грохотом теснится и зажигает молнии гроза, я вижу не иконы, а бойницы и амбразуры, а не образа». Эти строки меня чем-то смущали, но я тогда не понимал – чем. А поняв – не перестал ими восхищаться.
Я специально брал командировку и ехал (уже один) в Чиатуру, чтобы отыскать то место, где рядом с шахтёрским посёлком, по словам А. П., «молния с неба упала, чёрный тополь спалила дотла и под чёрной землёй перевала глубоко свой огонь погребла». Я не испытывал никакой грусти, наоборот – ликовал, потому что верил стихам: «Я сказал: это место на взгорье отыщу и, припомнив грозу, эту молнию вырою вскоре и в подарок тебе привезу». А спустя десятилетия всё это прорвалось у меня в «Трёх сонетах». Вот первый из них:
Тепло из дома ветер выдувал. Была Солянка заполночь метельной. Спросили Вы: «Погреемся в котельной?» Я спать хотел, но мы пошли в подвал. Ведь я в командировке двухнедельной Был в Чиатурах, лез на перевал, Который в недрах молнию скрывал Из Вашей строчки. Ну а здесь в нательной Рубахе местный встретил нас Сократ. Тряс Вашу руку. Был безмерно рад И «оджалеши» и «киндзмараули». Вы были с ним, ей-богу, наравне — И под конец не наливали мне, А может, на меня рукой махнули.6
Не скрою, меня трогало дружеское, искреннее участие Межирова в моей судьбе. Как-то раз Иосиф Нонешвили сказал по телефону:
– Саша посвятил тебе стихотворение.
– Да?!
– Клянусь, кацо. И оно сегодня напечатано в «Советском спорте».
– При чём здесь «Советский спорт»?!
Потом я догадался, что это была хитрость, манёвр, рассчитанный на то, чтобы ввести в заблуждение цензоров, – поэтому стихотворение и называлось «Шахматист». И речь там не столько обо мне и о шахматах, сколько о самом главном для А. П., – о свободе.
А у Мощенко шахматный ум — Он свободные видит поля, А не те, на которых фигуры. Он слегка угловат и немного угрюм, — Вот идёт он, тбилисским асфальтом пыля, Высоченный, застенчивый, хмурый. Видит наш созерцающий взгляд В суматохе житейской и спешке Лишь поля, на которых стоят Короли, королевы и пешки. Ну а Мощенко видит поля И с полей на поля переходы, Абсолютно пригодные для Одинокой и гордой свободы. Он исходит из этих полей, Оккупации не претерпевших, Ибо нету на них королей, Королев и подопытных пешек. Исходить из иного – нельзя! Через вилки и через дреколья Он идёт – не по зову ферзя, А по воле свободного поля. Он идёт, исходя из того, Что свобода – превыше всего, — И, победно звеня стременами, Сам не ведает, что у него Преимущество есть перед нами.В первой редакции предпоследняя строфа была иной: «Он, из этих полей исходя, через вилки и через дреколья в бой идёт не по зову вождя, а по воле свободного поля». Новый вариант, по-моему, более органичен.
7
А. П. сразу же сразил меня своим иконописным (да-да) ликом. (Правда, тут нужно вспомнить о «поправке» Марка Соболя: ему было угодно увидеть у него «глаза падшего ангела».) Потряс он меня и неистребимым ужасом в глазах, который тщетно пытался скрыть за вежливой улыбкой. Может быть, он продолжал «подрываться на пехотной мине», как тот «русский пехотинец-рядовой»? Вызывают сомнение строки: «…И впервые за четыре года (курсив мой. – В. М.) почему-то стало страшно мне». Нет, это чувство не удалось вытравить ему в себе, оно подспудно сопровождало его едва ли не всю жизнь. Он знал, что происходит в стране Сталина, он был историком в полном смысле слова. «…Но минул срок синявинских болот, остались только гильзы от патронов. Теперь мы спорим ночи напролёт, вагон вопросов с места трудно стронув. <…> Мы спорим, загораясь, как огонь, опасности таятся в наших спорах, как будто мы с ладони на ладонь вблизи огня пересыпаем порох».
Однако это был не тот страх, о котором шла речь в бесшабашной статье в «Литературной России» (№ 49, 07.12.2007) под заголовком «Испуг на всю жизнь»: дескать, Межиров «мог бы стать просто потрясающим поэтом. Но он так и не пробился в первый ряд. Наверное, потому, что ещё в молодости больше чем поэзию полюбил самого себя. Как поэта его сгубила фальшь и трусость <…>. В 1948 году Межиров ещё бы смог преодолеть страх. Нужна была только сила воли. Но тогда не хватило духа…» И откуда такое вот лихачество? С чего бы это? Тем более, что дальше в статье приводятся воспоминания Межирова: «Уже была зима… Я перешёл в составе маршевой роты Ладожское озеро. Навстречу гнали детей – словами это выразить невозможно. Я увидел мёртвый Ленинград. И впервые увидел, что дворники не работают. Город был вмёрзший в лёд совершенно. Штабелями лежали трупы. И я попал в 1-й батальон 864-го полка 189-й дивизии 42-й армии. Всё это я помню абсолютно ясно. Меня назначили пулемётчиком, вторым номером. Это значит – надо таскать тяжёлый станок. А так как я не богатырского склада – я об этом никому никогда не рассказывал, потому что был убеждён, что мне просто никто не поверит… Я попал в пехоту – в глухую оборону, предельно сближенную с немцем: 60 метров, 100 метров, 200 метров, 300 метров… Это был февраль 1942 года. Перед нами стояли эсэсовские батальоны». Далее в статье, как ни странно, – цитата из Наровчатова о межировских синявинских кострах и шалашах и его уверенность, что «за ними не встанут, как у других, стены и башни европейских столиц, неудержимый размах освободительного похода, война замкнётся на себе самой в его стихах. Трагедия найдёт свою первую и постоянную опору». А что противостоит этому в литроссовской публикации? А вот что – бездоказательное мнение: поэт «показывает человека, безмерно испуганного войной (?! – В. М.), но бодрящегося в каждом заключительном катрене».
Тем не менее замеченный мною ужас в глазах ещё довольно молодого А. П. был именно тот, что исследуется датчанином Сёреном Кьеркегором[27] и связан с постоянным осознанием неординарной личностью своей – не чьей-то, своей – вины, когда Я неизбежно «рассыпается в песок мгновений» (поскольку, по мнению философа, это осознание оказывается предпосылкой духовности и необходимости обращения к Богу). Так как же можно утверждать, что Межиров полюбил самого себя «больше, чем поэзию»?! Я уж не толкую о том, что он якобы не стал поэтом первого ряда (это вообще чушь несусветная, недостойная для того, чтобы стать основой для дискуссии).
8
Я чувствовал уже тогда, в Тбилиси: что-то всё время не давало покоя Межирову. Тут было и вечное, характерное для большого художника-мыслителя, осознание своего несовершенства, ведь не зря он часто повторял слова Баратынского из «Недоноска»: «Как мне быть? Я мал и плох; знаю: рай за их волнами, и ношусь, крылатый вздох, меж землёй и небесами». Характерно, что этому стихотворению А. П. целиком посвятил занятие в своём семинаре на ВЛК[28] (он пригласил меня принять в нём участие).
Откровенность стихов Межирова – довольно редкая вещь в нашей поэзии. Он нисколько не лукавил, когда говорил: «Я построил дом, но не из брёвен, а из карт, краплёных поперёк». У него легко прослеживается навязчивый мотив – вот такой, например: «За мной земной неправый путь, судья Всевышний надо мною». Слабая личность не станет корить себя за грехи истинные и мнимые. Слабый поэт не в состоянии находиться в силовом поле такой рисковой метафорики. Да и согласимся, что весьма рисковое занятие для поэта – охотиться за звуком «собственным, незаёмным». Того и гляди сорвёшься на мотоцикле (если бы мотоцикле метафоры!) с цирковой стены. Межировский ужас заражал и меня, когда я слушал слова, полные откровения: «Он стар, наш номер цирковой, его давно придумал кто-то, – но это всё-таки работа, хотя и книзу головой». Отсюда – и мотив покаяния. «Был больше всех греховен и порочен и перед всеми виноват кругом…»
…Дневниковая запись:
«Звонил Межирову в Штаты.
Спрашиваю: как вы там?
– Т-там, с заметной иронией отреагировал он, вложив в это словцо своё толкование, там, как вы говорите, всё по-прежнему, если не считать, что старость захватывает всё большее пространство внутри меня; Орегон с Портлендом на месте, вижу реку Уилламет, и горы вижу – Маунт-Худ и Сент-Хеленс, и даже вулкан Адамс иногда можно разглядеть.
Потом – какие-то пустяки в разговоре.
И вдруг – „Снился мне сегодня ваш Сало Флор, он мне поставил мат в четыре хода, и во сне его матч с Алехиным будто бы состоялся, будто бы войны не было… Вам повезло, что вы так долго дружили с ним. Да, великий был человек, этот Флор. Сколько его уже нет? Он был женат, кажется, на племяннице Есенина?“ – Пауза. И – со вздохом: „А что если стихи прочитаю, не накладно ли это будет для вас?“
Тогда-то я и услышал: „Кто я такой? Секрета в этом нет. И уж теперь тем более не тайна, что я – несостоявшийся поэт, поэт, не состоявшийся случайно…“
У меня сердце сжалось, дыхание перехватило. Ведь он, как любят выражаться краснословы, – поэт Божьей милостью. Жаль, что мы не рядом! Захотелось и выругаться, и обнять его. Не он ли с завидной самоиронией написал: „…И думает: „Ослаб. Совсем не те удары. Винты совсем не те. Усталым стал и грузным, как будто в темноте шар на столе безлузном“».
Такая вот запись.
Заокеанское отсутствие Межирова угнетало меня. Я привык к его советам (нередко наивным – при всей его житейской мудрости и энциклопедичности), к его обманчиво-бесхитростному взгляду, к тому, что он где-то рядом, что он по пятницам часто забирает меня с собой в Переделкино и мы заходим в шикарный по тем скудным временам (70-80-е!) гастроном на Арбате с тыла «Праги», отовариваемся в нём, прихватывая три-четыре бутылки водки, которая будет разливаться им строго поровну – ни каплей меньше, ни каплей больше – и выпиваться из керамических стакашек до самого донышка (тут он необычайно строг – «война приучила»); привык я и к тому, что минут через двадцать, после пары рюмок, он отключается – и то ли уходит в себя, то ли ненадолго засыпает, а утром ест свою замоченную с вечера овсянку («ок-к-копный нефрит»). В этих коротких его отключениях, спасительном броске в дрёму я вижу некое братское доверие. Очнувшись, он произносит:
– О-о, В-в-володя…
Он уверен, что никакого удивления с моей стороны не будет. И тут же – вопрос, вроде такого:
– В-вы «Избяные песни» Клюева прочитали?
Редчайший сборник он мне давал «на пару деньков».
– Я всю книгу переписал, – отвечаю. – Пишущая машинка испортилась.
– О-о, вашей рукой водила рука гения.
Наверно, доволен, что моя «Оптима» вовремя вышла из строя. И читает, будто не был только что в отключке и словно это он сам сочинил, клюевские строки. Читает с такой потрясённостью, с такой влюблённостью в каждое слово – заслушаешься. Лицо у него становится едва ли не детским.
И подумаешь вдруг совсем о другом: да ведь передо мною – мальчик, тот самый, живший на окраине города Колпина, заслуживший прозвище лгунишки и накопивший множество самых весёлых и грустных историй. И действительно, я не раз был свидетелем того, как мальчика, которому довелось пройти всю войну, обвиняли в тяге к фантазиям. Мгновенные, колпинско-мальчишеского окраса житейские сценарии Межирова – то, что он хотел бы поправить в своей жизни, подредактировать; зато его поэзия безгрешна во всех отношениях.
Позже, в двухтысячном, он задал вопрос с напрашивающимся ответом: «Что истине родней – перебелённый текст иль черновик в столе корявый и случайный?» Примерно в тот же период он написал великолепные, чуть ли не прощальные, стихи, где обратился к своим судьям (друзьям и недругам) как поэт: «Над ним одним дыханье ада и веющая благодать. Обожествлять его не надо. Необходимо оправдать». Именно как Поэт (с большой буквы) обратился. У него были сложные отношения с Беллой Ахмадулиной, но он часто повторял её строчки из «Тоски по Лермонтову»:
…Стой на горе! Я по твоим следам найду тебя под солнцем возле Мцхета. Возьму себе всем зреньем, не отдам, и ты спасён уже, и вечно это. Стой на горе! Но чем к тебе добрей чужой земли таинственная новость, тем яростней соблазн земли твоей, нужней её сладчайшая суровость.Ему неведомо было, что на чёрной полосе его жизни отпечатаются, словно о нём сказанные, слова Беллы: «…Меж тем, как человек великий, как мальчик, попадал в беду».
9
Я частенько по-свойски, чуть ли не по-родственному заходил к Межирову на дачу. Не забуду, как ему выделили участок для строительства – по правде говоря, чуток узковатый, что приводило его в замешательство. Для «ревизии» и окончательного решения он пригласил на «военный совет» меня и маму Евгения Евтушенко – Зинаиду Ермолаевну, мудрую и очаровательную женщину, перед которой с непередаваемой «старорежимной» интеллигентностью преклонялся Межиров и которая и вынесла окончательный вердикт:
– Оставьте свои сомнения, Саша. Участок для вас вполне нормальный: вы же сад разбивать не будете, и огородом не станете заниматься. И до нас вам – всего-навсего сто метров; ходить будем в гости друг к другу, чаи будем гонять.
Мы с А. П. поднимались на второй этаж (пристроенный им впоследствии по собственной инициативе, на свои деньги), где расположился шикарный бильярдный стол. Межиров гордился им («шесть луз, резина и сукно, три аспидных доски»): «На нём играли мастера Митасов и Ашот, Эмиль закручивал шара, который не идёт. Был этот стол и плох и мал, название одно, но дух Березина слетал на старое сукно».
То и дело Межиров расспрашивал о гроссмейстере Флоре:
– Как там он? В карты по-прежнему режется? Да, это игрок!
Не могу здесь не припомнить строки Достоевского из письма Н. Н. Страхову (1863 года из Рима) по поводу своего «Игрока»: «Я беру натуру непосредственную, человека однако же многоразвитого, но во всём недоконченного, изверившегося и не смеющего не верить, восстающего на авторитеты и боящегося их. (…) Главная же штука в том, что все его жизненные соки, силы, буйство, смелость пошли на рулетку. Он – игрок, и не простой игрок, так же как скупой рыцарь Пушкина не просто скупец. (…) Он поэт в своём роде…» Межиров и сам был типичным игроком – и был уверен, что без этого качества художник теряет многое, едва ли не всё: «Вскоре сделался он игроком настоящим, а это многократно усиленный образ поэта…»
Он боготворил игрока, который «идёт не по воле ферзя», ставил на первое место свободу выбора – и свободу вообще, славил мастеров – «особую поросль» («мы такое видели, поняли, прошли, – пусть молчат любители, выжиги, врали»). «Вы правы: война загнала Флора к нам, – писал мне Межиров, когда я служил в Будапеште, – иначе и не скажешь. Спасаясь от гетто, он всё равно претерпел оккупацию – только иного рода, но всё равно для него гибельную, и его превратили в подопытную пешку. Хорошая квартира? В самом центре Москвы? Это, конечно, здорово, но для Флора без большого шахматного мира это, по-моему, крайне мало. Когда-то, в Тбилиси, мне пришли в голову строчки: „В квадрате чёрном жизнь кипит чужая. Ад городит. Взыскует благодать…“ Выделите курсивом „чужую жизнь“ – и это будет относиться и к Флору».
Игроцкую ипостась А. П. отметил и Евгений Евтушенко в юности прошедший «межировские уроки» и посвятивший ему в знак благодарности свои «Свадьбы», где «слова неоткровенные о том, что не убьют». Он признал: «Да, у Межирова и у других поэтов-фронтовиков бывали нервозно ревностные моменты по отношению не только ко мне, но и ко всему нашему поколению». Что было, то было. Из песни слова не выкинешь: Межирова задевали за живое иные мастера-стихотворцы, располагавшие для выступлений перед массами дворцами культуры и дворцами спорта, придумавшие, «не жалея времени и сил», «множество затейливых игрушек – Буратин, Матрёшек и Петрушек», да к тому же вдунувшие души в их «бунтующую плоть», ведь не зря они, идолы и кумиры на час, «выщербили пошлостью свой нож», и у них не было болельщиков, поскольку у них не было боли. Иное дело, говорил Межиров, – подлинный игрок: «Когда мне ломали шею, о рёбрах не говоря, мне больно – ему больнее, о, как я его жалею, сочувствую я ему, великому Хемингуэю, болельщику моему».
Но вот Евтушенко – чему я неоднократный свидетель – он выделял, верил в его высокое призвание уже с пятидесятых годов, охотно читал наизусть его стихи, был благодарен ему за поддержку. Когда переделкинец Александр Жаров, сосед Межирова по даче, в роскошном китайском халате подходил к забору и предлагал заработать «большие деньги» за текстовки к агитплакатам, выходившим миллионными тиражами в Политиздате, А. П., заикаясь больше обыкновенного, самым интеллигентным манером ссылался на занятость и отказывался. Он жил другой жизнью. С другими, в основном молодыми, людьми. Он звонил мне и с тревогой сообщал:
– А знаете, у Жени в Тбилиси случился инфаркт глаза!..
Ну и т. д., о чём не стоит здесь упоминать, но что свидетельствует о крепнущей взаимной симпатии. Между тем в цитированной уже литроссовской статье рассказывается о «сумасшествии» Межирова, «свихнувшегося на зависти и ненависти к Евтушенко». Что за бред! Вернёмся хотя бы в пятидесятые, когда были написаны строки: «…Нас комбаты утешить хотят, говорят, что нас Родина любит. По своим артиллерия лупит. Лес не рубят, а щепки летят», из-за чего в идеологических верхах разгорелся сыр-бор: как так, что за клевета, что за подрыв основ! В антологии «Десять веков русской поэзии» Евтушенко вспоминает: «Меня несколько раз исключали из Литературного института. В 1956 году – за поддержку первого антибюрократического романа „Не хлебом единым“ Владимира Дудинцева на его публичном шельмовании в Центральном Доме литераторов. Там я прочитал новое ещё никому не известное стихотворение Александра Межирова „Артиллерия бьёт по своим“. А чтобы не навредить автору, сказал, что оно было найдено на поле боя в документах убитого юноши. Межиров слушал вместе со всеми, а наедине заметил: „Ну что ж, в этом есть правда… Все мы убиты на этой войне“».
Именно Евтушенко Межиров попросил написать предисловие к своему избранному (самому первому, в 1972-м). Предисловие той поры, войдя в новое избранное, дополнилось в 2008-м заключительным абзацем: «Без благодарности к фронтовой плеяде в России не может быть новых великих поэтов. Но Межиров оказался не только поэтом этой плеяды и не только Двадцатого Века. Он давно предугадал многое уже случившееся в Двадцать Первом Веке и предупредил о многом, что нас ещё ждёт. Это редкая, по нынешним временам самоуверенно расхлябанного стиха, книга-учебник поэтического мастерства и выверенной неслучайности Слова».
И добавлю: вот редчайшая по нынешним временам преданность подлинной поэзии и подлинной мужской дружбе.
10
Я счастлив, что мы с Межировым были друзьями, но мы с ним никак не могли перейти на «ты». Что-то мешало. Он настаивал, я отказывался. Кто виноват – не знаю. Потом он пояснил:
– Всё просто. Вы держите в голове, что я старше вас на Отечественную войну.
Кстати, чуть позже это стало стихотворением. Не одному мне не удавалось быть с ним на более короткой ноге. Многие другие тоже терпели фиаско. Ревич, его ровесник, так и остался с ним на «вы».
Сколько раз доказывалось, что межировская поэзия, понюхавшая на войне пороху, но однажды позвавшая «коммунистов вперёд», лишена религиозного чувства, не дышит истинной верой. Если б так, откуда бы у него взялись горькие мотивы покаяния, столь характерные для него: «А дальше… Боже! Стыд и срам…», «Страшного мне не избегнуть Суда, – и прегрешений моих вереница вытянется беспредельно, когда время прервётся, пространство продлится». Самоцели здесь нет и быть не может никакой. «Неужели Божья воля – то, чему названья нет!» Это – «как одна молитва чудная». Впрочем, художник и тут остаётся художником: «Вопрос пробуждения совести заслуживает романа. Но я ни романа, ни повести об этом не напишу». Совесть – как «рыжее пламя во ржи», которое «за конницей гонится». Межиров, по его признанию, благодарил судьбу за то, что ему выпало переводить с грузинского (а именно Ираклия Абашидзе) стихи с голосом Руставели, голосом, раздающимся то у стен Крестовского монастыря, то в самом этом монастыре, то в оливковом иерусалимском саду, то у колокольни, то в белой келье, то у Катамона, то в глухой пустыне. И не мог отказать себе в праве включать этот плач как свой собственный в последние книги. Раскаяние далось нелегко, но оно неизбежно для Межирова и очевидно наподобие «меча, воткнутого в скалу по рукоять». Это раскаянье хлынуло мощнее родниковой струи: «Зачем богоотступничество мне в вину вменяют и грозят расплатой, когда на свете о моей вине Ты ведаешь один, мой Бог распятый?» Оппоненты Межирова высокомерны и шовинистичны в оценке русского поэта, нашедшего покаянные строки, кои им и не снились: «Я пришёл к Тебе с мольбой всех времён и поколений, Пантократор! Пред Тобой опускаюсь на колени». Как-то, ещё в молодости, Межиров в запале воскликнул: «О, какими были б мы счастливыми, если б нас убило на войне». Слава богу, что война пощадила поэта и он дал нам возможность увидеть увиденное им самим. А это, честное слово, не так уж мало. Многого в нашей поэзии не появилось бы, если б не межировская лирика шестидесятых и семидесятых, если б не его «Календарь». С ним будем мы «умирать от воспоминаний». Вот, дорогие мои, «какая музыка была, какая музыка играла»!
Эта музыка, разумеется, нисколько не волнует признающих лишь одну стойку – ну да, «погромную», забывающих, что два народа-изгоя, «единые и в святости, и в свинстве, не могут друг без друга там и тут и в непреодолимом двуединстве друг друга прославляют и клянут». Межиров не боится, что его упрекнут за строки, пришедшие к нам из-за океана, из Штатов, где он был вынужден жить:
Не вечно достоевским бесам Пророчествовать и пылать. Хвала и слава мракобесам, Охотнорядцам исполать. Всё на места свои поставлю, Перед законом повинюсь, Черту оседлости прославлю, Процентной норме поклонюсь. В них основанье и основа Существованья и труда. Под их защитой Зускин снова Убит не будет никогда.Но чтобы всё это было яснее и не вызывало кривотолков, необходима строфа из знаменитого стихотворения «Москва. Мороз. Россия…»: «Был русским плоть от плоти по мыслям, по словам, – когда стихи прочтёте, понятней станет вам».
11
…Одним из самых горьких моих дней стал день прощания с прахом Межирова, привезённым в Москву из Америки дочерью Александра Петровича – Зоей, которую он безумно любил и которая оправдывает его любовь и его надежду. Для большого поэта время прервалось и пространство продлилось…
К переделкинскому кладбищу съехалось очень много людей, состоялась поминальная служба в Пятипрестольном храме Преображенья. Из головы и из сердца не выходило: «Паровозов хриплый хохот, стылых рельс двойная нить. Заворачиваюсь в холод, уезжаю хоронить». Когда мы бросили последнюю горсть земли в могилку неподалёку от входных ворот, разразился страшный ливень, небо стало аспидно-чёрным. Это произошло мгновенно. Мистика. Просто мистика.
Межиров ежедневен и ежечасен в русской словесности. На надгробном памятнике я бы выбил его бессмертные стихи:
Снова будут грозы, будет снег, Снова будут слёзы, будет смех Всюду – от Десны и до Десны, Вечно – от весны и до весны.Будут.
Снова.
Всюду.
Вечно.
Дай-то Бог, дай-то Бог.
Глава 5. Одинокий бегун на длинные дистанции
Никакого «было не существует, только – «есть».
Уильям Фолкнер1
У Василия Аксёнова, по его признанию, была мечта написать книгу (возможно, роман), где он собирался воскресить те солнечные времена, когда Тбилиси вдруг стал блистательным центром поэзии, литературной Меккой. Мне уже довелось говорить, что здесь помпезно, сменяя друг друга, проходили Декады культуры, и на них слетались отовсюду тогдашние «звёзды» искусства; грузинская поэзия и проза благодаря вдохновению московских переводчиков завоёвывали сердца миллионов читателей – ничуть не меньше, чем грузинские вина и кино; то был праздник с великолепными афишами, пышнейшими банкетами, самый разгар праздника, которого не случалось прежде и которому, как ни жаль, впредь уже не дано повториться.
Как мог остаться в стороне от всего этого автор «Звёздного билета»?! Его приглашали так же настойчиво, как и Евгения Евтушенко, и Александра Межирова, и Владимира Соколова, и Беллу Ахмадулину… да, Беллу, чья фамилия, по Аксёнову, превращается просто в возглас восторга – Аххо! – и чьи «Сны о Грузии» взволновали его до слёз:
Ни о чём я не жалею, ничего я не хочу — в золотом Свети-Цховели ставлю бедную свечу…В сборнике статей и интервью «Квакаем, квакаем» он писал: «Сталина давно уже нет, идут исполненные робких надежд годы „оттепели“. А где лучше можно было разморозиться от вечного советского страха, чем в древнем караванном городе, чьё имя как раз и говорит о тепле?»
(Из дневника: Читал черновик этого очерка Виктору Есипову, которому Аксёнов, как вечному поверенному, беспрекословно доверял – в том числе находясь вне России – заниматься устройством своих непростых литературных дел. В этом месте Витя прервал моё чтение:
– У тебя наверняка нет 133-го номера журнала «Грани» за 1984 год.
– Точно: нету. А что здесь?
– Здесь? Васина статья «Прогулка в Калашный ряд». У нас она не публиковалась. Возьми оттуда вот этот кусок: он прямо просится сюда; без него никак нельзя.
И я взял с благодарностью:
«Грузия – источник христианской веры для России, не менее важный, чем Византия, она и сейчас там живее, чем где-либо, недаром в грузинских стихах Ахмадулиной столько раз встречается слово Господь, всякий раз низводимое к строчной букве грязной советской цензурой.
Грузия – карнавал, заговор средиземноморских весёлых плутов против одолевшей орды марксизма.
Белла – ренессансное дитя; поэтому, тяжко страдая от утечки российского (советского) „ренессанса“, она всякий раз бежит в Грузию.
…от нежности всё плачет тень моя, где над Курой, в объятой Богом Мцхете, в садах зимы берут фиалки дети, их называя именем „Иа“… О Грузия, лишь по твоей вине, когда зима грязна иль белоснежна, печаль моя печальна не вполне, не до конца надежда безнадежна…И Грузия отвечает всеми остатками своего рыцарства. Помню, в конце 60-х годов в тифлисских застольях всякий раз наступал торжественный момент, когда пили за „нашу девушку в Москве“. У националистов среди портретов выдающихся грузин висел портрет Ахмадулиной: „наша дэвушка“. Однажды марксистский князь давал обед в Кахетии. Белла сидела по правую руку князя-секретаря, принимая его льстивые речи, а на другом конце огромного стола сидел ещё один москвичишко, так называемый поэт, пропахший ссаками сучёнок-сталинист. Желая тут потрафить кахетинцам и заслужить стакан на опохмелку, поэтишко привстал над коньяками и тост за Сталина как сына Сакартвело скрипучим голосом провозгласил. Гульба затихла и грузины смолкли, усы повесив, шевеля бровями, продажностью московского народа в который раз в душе поражены. Тогда над шашлыками и сациви вдруг Беллина туфля промчалась резво, великолепным попаданьем в рыло ничтожество навек посрамлено. „Все пьём за Беллу“, – князь провозглашает, и весь актив, забыв про сталиниста, второй туфлёй черпая цинандали, поплыл, врастая в пьяный коммунизм.
“Сны о Грузии“ – самый внушительный сборник Ахмадулиной, том в 541 страницу, из них чуть ли не треть – переводы из Бараташвили, Галактиона Табидзе, Симона Чиковани, Отара Чиладзе… Среди карнавального шума сделана была серьёзная и в высшем смысле профессиональная работа, иные стихи стали русскими шедеврами, сохранив свою грузинскость»).
Для меня очень важно ещё и то, что в этом отрывке – во весь рост фигура и самого Аксёнова.
Но вот ещё один отрывок из дневника, самый недавний:
«Только что стараниями Виктора Есипова и издательства „Эксмо“ появилась книга Аксёнова „Одно сплошное карузо“, в которую вошли никогда ранее не издававшиеся эссе, рассказы и дневники Василия Павловича. Здесь очень много Грузии, страны, защищённой горами от полярного ветра, много чисто аксёновского, несколько шаржированного Тбилиси, который сквозь бензин активно благоухает цветущим миндалём. Здесь я увидел на проспекте Плеханова ту, уже давнюю, манившую и пугавшую старорежимными тайнами гостиницу „Рустави“, где Вася читал мне совершенно новые стихи Беллы (в том числе её переводы из Отара Чиладзе: „Я попросил вина и пил, был холоден не в меру мой напиток. В пустынном зале я делил мой пир со сквозняком и запахом опилок…“, пошутив при этом, что зал – явное преувеличение (но всё равно красиво и точно), рассказывал о Георгии Владимове, на тот момент заведующем отделом прозы „Нового мира“… Ну и, конечно, намекнул, что его горло пересохло и без запинки выдал на-гора классические и вдохновляющие строки:
…Кахетинское густое Хорошо в подвале пить, — Там в прохладе, там в покое Пейте вдоволь, пейте двое, Одному не надо пить! В самом маленьком духане Ты обманщика найдёшь, Если спросишь «Телиани», Поплывёт Тифлис в тумане, Ты в бутылке поплывёшь…В „Одно сплошное карузо“ эти строчки не могли не войти…»
В книге «Квакаем, квакаем», говоря о моём «Блюзе для Агнешки», он «с радостью» находил в романе среди вымышленных персонажей имена реальных людей, которых и он встречал в те годы в тбилисских застольях: Иосиф Нонешвили, Эдик Елигулашвили, Гоги Мазурин, Шура Цыбулевский… В одном интервью В. П. признался: «Я вообще очень люблю Грузию. Я когда-то провёл в ней очень интересные молодые годы, имел массу друзей, они были немыслимо забавные – богема. Тбилиси… Шляние по этим кварталам, сидение на террасах и болтовня, выпивание вина; водки почти не было, а вот вино, вино… совершенно другое опьянение, какое-то восторженное».
Так уж совпало, что день нашей первой встречи с Аксёновым был моим едва ли не последним днём в Тбилиси, где я прожил почти десять самых счастливых лет: у меня уже были оформлены все документы на выезд, в загранку, в длительную служебную командировку. Именно в Тбилиси, как писал обо мне Аксёнов, возникла идея проникновения дальше, за пределы, пусть в социалистическую, но всё-таки Европу, в Будапешт, где, конечно, на каждом перекрёстке есть кафе и там играют комбо блестящих джазменов, венгерских вариантов Джона Колтрейна и Стэна Гетца. Раннее утро я отметил походом в хашную, расположенную на небольшой площади недалеко от музея Нико Пиросмани, потом оттуда (не понимая: то ли мне грустить, то ли в воздух чепчики бросать) спустился прямиком к духану у самого берега Куры, сидел там часа три – и спохватился: «Но ведь надо попрощаться с моим Гоги. Иначе я не имею права уезжать: себе не прощу». Я купил оплетённую золотистой лозой бутыль кахетинского и отправился к Мазурину (человеку «неизвестной национальности», по словам бдительного Станислава Куняева). Здесь я и увидел Аксёнова, растиражированного на весь мир самым востребованным журналом «Юность». Это он запечатлел кусочек неба, похожий на железнодорожный билет, пробитый звёздным компостером! Он произносил тост за узкие, горбатые улочки старинного города, а ещё – за хрупкие балкончики, бесстрашно и романтично нависшие над обрывами с выставленным на показ бельишком.
– Где ты пропадал? – набросился на меня грузный Гоги. – Докладывай.
Я, как умел, принялся рассказывать о своей поездке на праздник Ломисоба.
У Васи разгорелись глаза. Он требовал подробностей.
Уже смолоду он поклонялся им. Для Аксёнова деталь в литературной работе была основой основ образности. С каким удовольствием повторял В. П. ослепительную находку Олдоса Хаксли, рисующего древнее пианино, один из первых «бродвудов» георгианской эпохи, под открытой крышкой которого скалились жёлтые клавиши, будто зубы старой лошади! В таких случаях Аксёнов восклицал: «Это ли не перл? Увы, современная проза, как свинья, равнодушна к россыпям подобных сокровищ». Он не скрывал от читателей, что, побывав в юности в квартире Пушкина на Мойке, не обнаружил ничего особенного, кроме… умывальника, неизгладимо, навсегда оставшегося в его памяти. Но умывальник-то этот не простой – кругельсонговский, мраморный, с фарфоровой, в цветах и фазанах, раковиной. На нём, этом роскошном пушкинском бытовом предмете, и держится вся художественность трогательной новеллы.
Ну а я, вдохновлённый солнечным кахетинским, докладывал о своём.
Пасанаури. Это здесь, увековеченные Николаем Заболоцким, «на двух Арагвах пели соловьи». Рядом – гора Ломиси (два с половиной километра высотой). У подножья – храм Святого Георгия. Первая среда после Троицы. Народ валит сюда валом. Пожалуй, со всех окрестностей. Все нарядно одеты. Возбуждены. Смех, крики, песни, блеянье баранов, которых принесут в жертву.
– Языческий обряд, что ли? – спрашивает Аксёнов.
Я отвечаю: скорее всего – да, отголосок.
И бегло описываю двух священников, проходивших мимо, недовольных, сердитых. Один из них в сердцах махнул рукой: ничего, мол, не попишешь, пусть им…
А ближе к вечеру мы повели Аксёнова в Чугурети, к Цыбулевскому – надо было показать, как художница Гаянэ Хачатурян украсила своими дивными фресками Шурину лоджию. Голубые девушки и голубые кони поразили Васю. Он не забывал их (это я точно знаю) чуть ли не до конца жизни.
2
Вторая встреча с В. П., ставшая началом нашей долгой дружбы, произошла много лет спустя случайно и благодаря Гале Евтушенко, давней соседке Майи (Маяты), самой большой Васиной любви. Мы пили чай у неё на крохотной кухне (при огромнейшей тем не менее квартире), спорили о «Людях лунного света» Вас. Вас. Розанова, и тут она вспомнила:
– Ой, я ведь обещала Васе, что позвоню ему, когда вы придёте… Познакомлю заодно.
– С Аксёновым? Мы познакомились с ним ещё в Тбилиси.
– А… ну да, мне что-то такое Межиров об этом говорил. А теперь Васю выручать надо. Гаишники права у него то ли отнимают, то ли уже отняли. Поможете?[29]
Я отправился в комнату, где до этого рылся в куче (почти сплошь запиленных) фирменных джазовых пластинок, оставшихся в наследство от Евгения Александровича, предназначенных ею на выброс как ненужное барахло (её волновала только классика). Галя, кстати, говорила, что я такой же ненормальный, такой же джазонутый, как Вася. Прервав моё занятие, она сообщила, что он вот-вот будет здесь. И проворчала:
– Вечно скорость превышает. Лихач. Это ему урок. Но выручить его необходимо.
Войдя, Аксёнов остолбенел, заметив меня.
– Гамарджоба, кацо! Привет авлабарцам. Сколько лет, сколько зим! Так это ты меня спасать будешь? Вот не предполагал. – И спохватился: – А почему же мы в ЦДЛ не сталкивались?
– Служба, – ответил я. – Тягомотина. Я в ЦДЛ раз в году бываю.
Он не стал с ходу рассказывать мне о своих неприятностях, причинённых ему ГАИ, и неожиданно для меня предложил:
– Айда в «Иллюзион». Маята отказалась. Билеты вот они, при мне. Через десять минут начало.
– А что за фильм?
– «Судьба солдата в Америке».
Я сказал, что видел эту картину шесть раз, но с радостью составлю ему компанию.
– А я пятнадцать раз смотрел, – укоризненно произнёс Аксёнов. – И опять иду. Малыш Джеймс Кэгни – титан. Чудо! А мысль там какая?! Уложить всех вокруг себя куда проще, чем договориться…
До «Иллюзиона» (кинотеатр – в том же здании-высотке, на Котельнической, рядом с роскошным гастрономом, которого уже нету), ходу – три-четыре минуты. Но за это время Вася успел упомянуть, что настоящее название фильма – «Ревущие двадцатые», что советские прокатчики – идеологические бандиты, подтасовщики.
– Суки! – добавил он сердито.
А когда сеанс завершился и мы, оглушённые, шли обратно, я прочитал ему свои стихи «Трофейные фильмы» с такими строчками:
Как богато мы, нищие, жили! Ты почти что босой – всё равно Для тебя Тито Гобби и Джильи. Это юность. И это кино. ………………………………….. Славлю щедрости кинопроката За влюблённую насмерть трубу, За судьбу фантазёра-солдата С верой в женщин и с пулей во лбу.Аксёнов пожалел, что я не посвятил ему это стихотворение.
– Мне это было бы по душе, – сказал он. – Мои мотивы.
Разумеется. Это перекликается с его «Песней петроградского сакса образца осени пятьдесят шестого»: «Я нищий, нищий, нищий… И пусть теперь все знают – у меня нет прав! …Боже праведный, мне двадцать лет, а скоро будет сорок! Я тоже донор, и кровь моя по медицинским трубкам вливается в опавшие сосуды моей земли! И пусть все знают – я скорее лопну, чем замолчу! Я буду выть, покуда не отдам моей искристой крови, хотя я нищий, нищий, нищий…» Должок я вернул впоследствии, получив в подарок от него старинный роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки» с эпиграфом: «Дорогой Володя! Вот то, что я навольтерьянил. Читай и вольтерьянь стихом. Твой Вася». Вот и свольтерьянил я стихотворением «Листопад всея страны», ему посвящённым, с такой концовкой:
Да не будь настороже: Дремлет в старом гараже Воронок всея державы. Дремлет старый воронок. Стар и я. И одинок. Буквы ржавы. Ноты ржавы.Он возразил:
– Не дремлет – и не мечтай. На то он воронок! Старый запросто меняется на новый.
Однажды едва ли не в полночь, незадолго перед отлётом в Биарриц, он позвонил мне:
– Пишу предисловие к твоему роману. Пишу – и вспоминаю наш с тобой поход в «Иллюзион».
– Ну и ну… – ответил я растерянно.
Подходящих слов у меня не было.
– К утру, – пообещал он, – закончу. Пришлю тебе по имэйлу. А теперь слушай…
И принялся читать из книги: «Эпоха трофейных фильмов! Даже у тебя, козявка, есть возможность пересечь все границы. Запах свежайших пирожных „наполеон“ и компота из сухофруктов. Всё это приготовлено услужливыми частниками (скоро их время закончится). Нетерпение в каждом жесте счастливчиков, которым достались билеты. Отстояв в очередях, мы входили победителями то в „Пионер“, то в „Спартак“, где когда-то, до войны, рокотали, щебетали, признавались в любви струны Пантелея Савельевича, и на нас обрушивалась „Чаттануга Чу-Чу“. Эй, машинист, поддай-ка жару, поехали, поехали, поехали! Вверх, вверх, вверх! В горы! Элегантный, невозмутимый, гениальный Гленн Миллер посверкивал стёклышками очков, и мы замирали от предвкушения чудес. Всем нам просто не верилось, что джаз может так переворачивать душу…»
Наш поход в «Иллюзион» отразился и в прозе Аксёнова следующим образом: «Я смотрел „Путешествие будет опасным“ не менее десяти раз, „Судьбу солдата в Америке“ не менее пятнадцати раз. Было время, когда мы со сверстниками объяснялись в основном цитатами из таких фильмов. Так или иначе, для нас это было окно во внешний мир из сталинской вонючей берлоги. (…) Один из моих сверстников, будучи уже высокопоставленным офицером советских ВВС, как-то сказал мне: „Большую ошибку допустил товарищ Сталин, разрешив нашему поколению смотреть трофейные фильмы“».
3
Кто же такой сей продвинутый высокопоставленный офицер советских ВВС?
Чтобы узнать это, нужно обратиться к самой для меня дорогой из всех аксёновских книг – «В поисках грустного бэби».
Дело здесь не в литературных и несомненных её достоинствах (есть у него вещи и куда сильнее). Суть в том, что в ней, в частности, звучит ода в честь свободолюбивого джаза, который побратал нас с В. П.
Этой музыкой была загромождена от пола до потолка аксёновская квартира в писательском доме на Красноармейской улице. Мы, правда, сидя на кухне и попивая кофе с коньяком, находили возможность потолковать о литературе. Вася обожал поэзию (и русскую, и зарубежную), знал её, пожалуй, не хуже маститого литературоведа.
Но очень часто в наши «беседы на кухне» вторгался Аксёнов-младший – Лёха, который затем достиг баскетбольного роста; он самозабвенно оглушал окружающих (соседей – в первую очередь) ударной установкой, где были в полной исправности тарелки, в том числе вкрадчиво шипящая crash, барабаны snare drum, high tom-tom и middle tom-tom ну и, естественно, bass drum. И поглядывал на нас: каково? Ждал похвалы. И надеялся, что Фрэнк Синатра позовёт его к себе в Америку, в свой оркестр.
– В меня пошёл, – горделиво говорил Вася. – Он уже, считай, профессионал.
А Лёха в такт своим тарелкам заорал:
А у нас в России джаза нету-у-у, И чуваки киряют квас…Меня он уважал вовсе не за литературные доблести, которых, естественно, не было, а за то, что я мог ответить на многие его вопросы: «Что такое бибоп?», «Что такое граунд-бит?», «Что такое драйв?» и т. п. Ставил на свою вертушку диск Бадди Рича «Winter Nights» и восхищался:
– Качественная музыка! Вам нравится, Володя?
Восхищаться юный драммер научился у своего отца. Они и внешне были похожи.
(Из дневника: Ночной Васин звонок:
– А ты слушаешь сейчас Уиллиса Конновера?
– Спрашиваешь!..
– А каков Пол Дэзмонд?! А?!
– Да…
– Не разбудил, старик?
– Что ты!)
Мне не надо стараться, воспроизводя прошлое; спасибо Васе: он блистательно воссоздал те дни и те страсти в «Грустном бэби», упомянул даже о далёком прошлом, о том, что мы оба были вовлечены в увлекательный бизнес «джаз на костях» – то есть обменивались рентгеновскими снимками и последними музыкальными новостями. Большое место отведено моим встречам с ним и его ненаглядной Майей у меня дома, когда я жил возле Измайловского парка. То было время после сильнейшего идеологического взрыва, наделанного выходом в свет «Метрополя». Думаю, нет смысла останавливаться на подробностях начавшегося шабаша: расставлены все точки над «i». «Меня уже тогда[30], – вспоминает В. П., – далеко не все друзья приглашали в гости». Боялись, что попадут в немилость и власти начнут их преследовать. Один из почитателей Аксёнова в предисловии к третьей части «Зеницы ока» честно признаётся, как в 1980-м, заметив В. П., поднимавшегося по лестнице в кинотеатре «Октябрь», где проходил джазовый фестиваль, не решился подойти и поздороваться с ним: «Уже было известно, что он уезжает».
Конечно, Аксёнов, «присвоивший» мне в повести для «отвода бдительных глаз» и «маскировки» звание генерал-полковника (да ещё ВВС!), не был бы Аксёновым, если б он на этих страницах кое в чём не «загибал, как другой на свете не умел», не прибегал к гротеску и молодецкой иронии. Удивительный, нереальный у него генерал-полковник! Ну вот хотя бы: «Если он и слышал о моих делах, то уж только краем уха. В ушах у него и в самом деле не очень-то много места было для посторонних звуков. Он всю жизнь был джазоманом и всегда напевал, насвистывал или просто пальцами постукивал по столу в такт джазовым мелодиям типа: I’m beginning to see the light или Those foolish things[31]».
Хотите верьте, хотите не верьте, продолжает В. П., наивное командование не ведало об этом увлечении офицера стратегической авиации, предназначенной, в конце концов, для бомбардировки страны джаза, то есть Соединённых Штатов Америки. Мало того: генерал у него передвигается по столице нашей Родины не в роскошном лимузине, а… пешком. И увидел его В. П. не в Генеральном штабе, а в… подземном переходе на Манежной площади! Как простого пешехода. Оказывается, у генерала даже (!!!) кое-что имелось из продуктов для друзей: не бедствует, видите ли, генерал, не стоит в очередях за харчами!
«Приходи, – сказал он мне, подмигивая, – есть чем угостить».
Вот так…
В конце книги указано: июль 84, Вермонт – июль 85, Париж. В ту пору ему, представившему вашего покорного слугу своим читателям как «советского генерала со здоровенными звёздами на плечах», ещё не было известно, что я, не дослужившись до пенсии, с помощью ходатайства Союза писателей СССР ушёл в отставку, на вольные, как говорили, хлеба и перестал носить полковничьи погоны, о чём я ещё когда-нибудь расскажу подробнее, потому что история эта сама по себе забавна. Аксёнов в этой книге (с неподражаемым, величайшим трубачом Майлсом Дэвисом на обложке), вышедшей в Москве в издательстве «Текст» в девяносто первом, называет меня генерал-полковником Генкой Кваркиным. А уже 12 июля 1992-го на титульном листе книги он внёс, так сказать, поправку: «Генерал-полковнику Мощенко-Кваркину от его друга мл. лейтенанта мед. сл. в отставке В. А.».
(Здесь звучит «Ода радости»…)
В. П. был человеком заботливым (по своей инициативе прислал мне однажды в Боткинскую больницу для консультации знаменитого профессора-уролога, с которым учился в мединституте), был отзывчивым на шутку, умевшим смеяться, но ненавидящим дурашливость, глупость и – прошу простить меня за канцеляризмы – щепетильным, принципиальным. «Таинственная страсть (роман о шестидесятниках)» – свидетельство того, каким было мужественным и ранимым сердце Аксёнова (потому-то и произошла с ним «чисто житейская катастрофа»). Часто, ещё до выдворения из Союза, он говорил, если что-то (не в его вкусе) с кем-то случалось:
– Старик, надо определиться. – Ему нравилось это слово: «определиться». Он со значением произносил его. – Как думаешь: можно ли с этим человеком вести себя по-прежнему, будто ничего не произошло? Так ведь произошло, случилось ведь, уже не всё по-прежнему. Да, да, не всё!
У него это очень здорово выходило: вроде с налётом иронии, с улыбкой, которая топорщила его усы (типичный красавец-герой из вестерна – только-только примчался из диких и душистых прерий с горячим кольтом в кобуре), но чувствовалось: он словно перечеркнул в рукописи одну из самых удачных страниц. А потом ещё одну. И ещё одну…
В «Таинственной страсти», последнем романе, потрясают его слова, обращённые к популярнейшему поэту, чьи песни, обогащая автора, гремели на весь Союз и которого он считал близким: мол, ты, дружок Р. Р., бросившийся в партию от беспартийной богемы, потащился совсем в другую сторону, «почти столь же немыслимую для всех, сколь и Радио „Свобода“». И – его ужас: «Разве так судьбу берут за лацканы»?
А как надо брать – на этот вопрос он сумел дать сотни, тысячи ответов. Кто хотел – находил. Желающих было – сотни тысяч.
Раскидывавший руки для объятия при виде, казалось бы, утерянных друзей (ну чистый чувак из нашей джаз-банды, вернувшийся из Нью-Йорка на лето в Москву, на Котельническую набережную, к Яузе под окном, а никакой не профессор института Кеннана, университета Джорджа Вашингтона, Гаучерского университета и университета Джорджа Мейсона, переводчик нашумевшего у нас со страшной силой «Рэгтайма» Эдгара Лоуренса Доктороу, никакой не живой классик русской литературы), он мог тем не менее не подать руки такому количеству персонажей времён до– и послеперестроечных, что их перечисление заняло бы место поболе этой статьи. Он избегал их, как тень Короля Датского, не пожелавшего откликнуться на голоса смалодушничавших Горацио, Марцелла и Бернардо в первой сцене «Гамлета». Верно подметил Марцелл, когда призрак брезгливо скрылся:
Ушёл! Напрасно мы, раз он так величав, Ему являем видимость насилья; Ведь он для нас неуязвим, как воздух, И наше нападенье – лишь обида…4
Думаю об Аксёнове – и почему-то невольно думаю о нескончаемой молодости.
Он никогда не расставался с нею, как бы дорого это ни давалось, её высокая волна поднимала его, придавая новизну всему, что вокруг, и ликовала, бурлила в каждой его новой вещи, в каждой строке и в прямом общении с людьми. Васе хотелось, чтобы читатели разделили эту радость, приобщились к ней. Я сказал ему, что впервые ощутил это по многим ранним вещам. Вот хотя бы – «Как жаль, что вас не было с нами», где юная любовь, и чисто аксёновское море, и ресторанчик на берегу с джазиком (трое молодых людей, которых тянуло на импровизацию, – труба, контрабас и аккордеон – и рояль – старик, воспитанный совсем в иных традициях).
В. П. позабавило, что название этой повести в разговоре с кем-то я почему-то нечаянно «пристегнул» к фолкнеровскому рассказу «Полный поворот кругом». Даже поспорил на эту тему, доказывал недоказуемое.
Вася хохотал:
– Промазал!
Но ты смотри, убеждал я, там – то же буйство души, в которой «ни одного седого волоса»; этот мальчишка лейтенант Хоуп, этот ребёнок около шести футов роста, похожий на девушку и вечно поддатый, обижающийся на подколки лётчиков-пижонов и, не осознавая своего юного героизма, торпедирующий немецкие суда («бобры», как окрестил их Хоуп) – до чего же он твой с его полной, абсолютной независимостью, своеволием, дерзостью, музыкой спятившего мира!
– А что, – вдруг согласился со мной Вася, – пожалуй, ты прав, скорее всего, так оно и есть на самом деле, да и куда ж нам без Фолкнера; недаром Андрюша Тарковский поставил радиоспектакль по этой новелле и провёл идею: ни на кого не надейся, пока ты молод, от одного тебя, морячок, всё зависит!
В замечательной, страстной книге, посвящённой Майе[32], он чуть ли не кричал, доверясь ритмическому строю: «Пятнадцать лет долой! Я снова пьян, я снова молод, я снова весел и влюблён. Чувствую каждую свою мышцу, а неизвестный молодой мир зовёт под своды своих древних колоннад, под балконы и на водосточные трубы, меня, ТАИНСТВЕННОГО В НОЧИ…»
Открываю эту обжигающую книгу – а там (о Господи!) всякий раз всплывает красным карандашом (давным-давно) подчёркнутая мною строчка:
«ЗНАКОМА ЛИ ВАМ ФОРТЕПИАННАЯ ПЬЕСА „ВОСПОМИНАНИЕ О МОЛОДОСТИ“?»
Строчка-ожог (таких у Аксёнова не счесть)!
Да как же забудешь эту невероятную пьесу?
И как забудешь, например, тот синий и прозрачный, морозный вечер в Красной Пахре: …уже за окнами – огни, и вокруг – сверкающие сугробы, а над высоким холмом – затейливый звёздный узор имени проживавшего здесь некогда светлейшего Александра Арчиловича из древнейшего царского рода Багратида[33]. Вот и срифмовалось: Грузия и Красная Пахра!
Ну а путь сюда? Не из той ли пьесы это?
…В гости к Аксёнову приехала из Токио застенчивая, но деловитая Йоко-сан, которая вознамерилась перевести на японский «Завтраки 43-го года», «На полпути к луне», «Папа, сложи!» и другие рассказы. С нею прибыли её муж, молчаливый и ничему не удивляющийся хрупкий потомок самураев, и сын Лео, названный в честь величайшего автора «Анны Карениной». Договорились 7 ноября повезти гостей на дачу, полученную некогда от правительственных щедрот Романом Карменом.
Надо было видеть, как Васята с Маятой, рассаживаясь по своим машинам, смотрели друг на друга, – он и она (пока ещё – но уже ненадолго – Майя Кармен)!
Как они были неисправимо молоды, как они были неотразимы, как безнадёжно влюблены друг в друга и как друг без друга обходиться теперь просто не могли, – он, типичный герой великолепного вестерна, и она – словно творение кисти одновременно и Боттичелли, и Кустодиева. Я догадывался, почему он к нескольким (!!!) главам «Золотой нашей железки» поставил эпиграфом одну и ту же строфу Бориса Пастернака, перед которым преклонялся[34]:
О, если бы я только мог Хотя отчасти, Я написал бы восемь строк О свойствах страсти.Повторяю – к нескольким!
Ну, теперь ясно, откуда взялось это ожоговское признание: «Он вдруг забыл страшное слово „совокупление“, забыл и сам себя, Самсика Саблера, забыл и Марину Влади, и Арину Белякову, и джаз, и Сталина, и Тольку фон Штейнбока, и, всё это забыв, взял женщину и ринулся вместе с ней с крутизны в тёмный тоннель, загибающийся, как улитка». Эта страсть зашифрована в европейских подстрочниках той же самой «Золотой железки», где, прорывая дамбу пустынных улочек готического града, холодного неба и башни под ним, на воле оказывается поэзия любви, не нуждающаяся в запятых и точках (не до них!): «ты подбегаешь и вот уже рядом со мной твой золотой мех и бриллиантовые волосы и встревоженные глаза и мягкие губы ты моя девочка моя мать моя проститутка моя Дама и ты уже вся разбросалась во мне и шёпот и кожа и мех и запёкшиеся оболочки губ и влажный язык <…> всё успокаивает меня и засасывает в воронку твоего чувства…»
Итак – вперёд!
Васята и Маята условились: каждый поедет на своей машине: оба – водилы. Майя возьмёт с собой Васину переводчицу с мужем и свою дочь Алёну; а вторую машину заполнят мужики: мы с В. П., Майин внук Ванечка и чувствовавший себя везде вполне комфортно семилетний самурай Лео.
Калужское шоссе. В. П. ведёт машину совсем не как лихач; впрочем, он следует за Маятой и несколько раз повторяет:
– Друг Бруно мне верен, как горечь во рту.
– Откуда это? – спрашиваю.
– Из «Преследователя», – отвечает, – из Хулио Кортасара; там ещё фразочка убойная: «Она злая на меня, потому что я потерял свой саксофон… А сакс самый паршивый был…» Ты эту повестушку должен выучить, как «Отче наш»: поэзия – сплошняком.
Мотаю на ус.
Сыплет первый настоящий снег, будто январский, чтоб трудящиеся веселее и бодрее шагали по Красной площади. Впрочем, демонстрация уже закончилась, все торопятся к домашним очагам, к теплу: пора отметить праздничек. Однако постепенно я переключаю внимание на пацанов. И есть отчего! Большеголовый, гривастый японский львёнок о чём-то спорит с Ванечкой. На родном японском языке! Ну а Ванечка упирается, не соглашается ни в какую, доказывает что-то своё. Естественно, на великом и могучем.
Вася толкает меня в бок:
– Старик, они прекрасно понимают друг друга! Заметил? Им не нужен переводчик. Вот это сюжет! Эту сценку грех не использовать.
И пока жарилось мясо, пеклись огромные картофелины, накрывался стол, Ванечка и Лео продолжали яростный диспут, махали руками, ревели от обиды и тут же хохотали, будто дело только что чуть ли не доходило до рукопашной. А третьим – и не лишним – в их компании был красно-чёрный Васин сеттер Ральф. Отец Лео всё это время цедил из гранёного стакана водку, словно там был коктейль, и не морщился.
Вася сказал своей переводчице, показывая на её супруга:
– Такие мужчины и делают себе харакири – и при этом улыбаются.
– Да, он такой, – подтвердила Йоко-сан застенчиво.
А тот, догадавшись, что речь идёт о нём, задумчиво и чисто произнёс по-русски:
– Спасибо.
Вылазка наша удалась. Малолетние воины храпели. Им вторил, сидя за столом, хрупкий папа гривастого Лёвушки. Остальные согрелись и делали вид, что слушают музыку, которая звучала из колонок, установленных ещё Романом Лазаревичем. То был Бен Вэбстер со струнными.
– Ты не против, – говорит В. П., – если мы проведаем гениального артиста? Он тут поблизости, в двух шагах.
Я не возражаю. Я категорически – за. Это означает встречу с Гердтом!
(Из дневника. Пусть это будет как эпиграф к нескольким последующим абзацам. Разговаривал только что с вдовой Зиновия Ефимовича – Татьяной Александровной Правдиной. Искренне восхищаюсь её вчерашним телерассказом о Рине Зелёной, полным деталей и образным, – и сразу переходим к В. П. О, восклицает она, Зяма считал Васю вперёдсмотрящим на пути развития нашей словесности, одним из самых выдающихся «шестидесятников»; для Гердта все праздники пахли Васиными апельсинами из Марокко. Кстати, из этой повести я часто цитировал в кругу близких людей вот такое место: «Синоптики предсказывают безветренную погоду. „Больше верьте этим брехунам“, – ворчат на „Зюйде“». Татьяна Александровна общалась с красавицей Майей ещё до знакомства с Аксёновым. А к Васе, говорит она, мы привязались моментально. И долго рассказывает, как проводили они время втроём где-то под Таллином. Вася любил Таллин, с которым у него был «бурный роман в дождях», любил вдыхать его особый сланцево-кондитерский запах и особенный, «не советский» запах его журналов и газет, любил его кафе… И ещё он любил Гердта, каким тот был в Таллине, его голос, которым говорил для советского кинозрителя Генрих II в фильме «Лев зимой», голос, созданный Всевышним для бесконечного чтения бессмертных стихов и прозы. Читал он, говорит Т.А., не переставая и вдохновенно, и пояснял: «Это моё угощение. Так что, дорогие мои, угощайтесь…» Гердт и Т.А. были в Штатах в гостях у Аксёнова и Майи. Встречал их в Вашингтоне в аэропорту Ванечка, который, если б так ужасно не сложилась его судьба, мог бы стать выдающимся американским поэтом. Вася представил Зиновия Ефимовича своим студентам. Надо ли добавлять, какое это было для них для всех событие!)
…Мы вваливаемся в дачные хоромы Зиновия Гердта, и у того – слёзы в глазах: так он рад видеть Васю. Своего Васю. Бежит навстречу трогательным скоком.
– Ну что там, осенний твой лес гремит жестью ржавых банок?
Ни дать ни взять Виктор Михайлович Кукушкин из «Фокусника». Даром ли им сказано было: «Уметь любить чужой талант – это тоже талант». Прижимается к холодному Васиному тулупчику, пахнущему чистейшим снегом и овчиной.
– Вы уже наклюкались, ребята? В порядке?
– В полном. Даже перебрали малость.
– Нет, нет, не перебрали, – настаивает Гердт. – Ещё по рюмашке, а? Татьяна Александровна, Танюша, – обращается он к жене, – ты нас угостишь? Отменная настойка.
– Хорошо! – соглашается Вася. – А потом – Пастернак?
И наконец наступает блаженнейший миг: Гердт, насупив кудлатые брови, подперев кулаком подбородок, приступает к чтению (а это он умел делать, как никто другой, – и хоть до самого утра!):
Я – свет. Я тем и знаменит, Что сам бросаю тень. Я – жизнь земли, её зенит, Её начальный день.Каждый день В. П. был начальным.
Всё – с новой страницы.
Редко кто из нас, транжир, дорожил такой божественной удачей, таким везением, как неиссякаемый талант и неиссякаемая молодость. Аксёнов же наслаждался каждой её секундой – и не постарел нисколько до последнего своего часа, пока не отключилось сознание. И любой день, любой час, любая минута его переполнены были вдохновеньем, работой, морозной свежестью, помноженной на радость от того, что он, зачатый «двумя врагами народа, троцкистом и бухаринкой в постыдном акте», выжил наперекор всему и мог крикнуть на весь свет: «Мужчина я! Я сын земли великой!»
5
Но вернёмся всё же к «Грустному бэби»…
Мы ехали с Васей на его зелёной «Волге». Стоя в пробке, он затронул странную для меня (на ту пору) тему: хорошо, что мы родом – не москвичи, что вот он (как изложено им в «Досье моей матери») родился в Казани, на улице тишайшей, звавшейся Комлевой в честь местного большевика, застреленного бунтующим чехословаком, что дом его смотрел в народный сад, известный в городе как Сад Ляцкой… В его словах уже намечались контуры и «Зеницы ока», и «Ленд-лизовских», и других – хоть и светлых, но явно горьковатых – вещей, и я отчётливо видел его мальчонком, Акси-Вакси, уверенным в том, что его родители действительно уехали в долгосрочную командировку на Дальний Север, примкнув к героям-полярникам, и то, как носился он по таинственным углам грязного мира, ощущая в себе нечто щемящее, будто заброшенный щенок, или бессмысленно-дерзновенное, точно у несущегося в неизвестном направлении бродячего пса. Придёт срок – и он, не склонный к громким фразам, напишет: «…мы, тогдашние дети, подсознательно испытывали ощущение полной заброшенности».
– А ты? – говорил он, стоя перед светофором, не поворачивая ко мне лица, – и тебе, если можно так сказать, повезло: ты стал бы другим, если б не был бахмутским пацаном, не замерзал в военную зиму в Джезказгане рядом со Степлагом, не голодал невдали от самой, по твоим словам, красивой во всём мире горы Синюхи в Боровом, не загибался курсантом в пекле Нахичевани-на-Араксе; за это судьба отблагодарила тебя, подарив Тбилиси, а ещё Будапешт, где судьба свела тебя с совершенно другим образом жизни, с такими джазменами, как контрабасист Аладар Пэгэ, художниками-авангардистами, писателями-диссидентами.
С чисто аксёновским азартом за кружкой пива в Домжуре мне и Алёше Баташёву, воспетому им в шестидесятых в журнале «Юность» (это было почти стихами, в которых модно экипированный Алексей тёплыми синими московскими вечерами со своим золотым саксофоном, призванным быть голосом страстной любви, утверждает дух непослушания и стремления свинговать за милую душу), рассказывал, как много значило в его жизни то, что в Казань его детства с берегов Хуанпу прибыли джазисты-«шанхайцы» во главе с Олегом Лундстремом, которые «рассосались» по ресторанам, кинотеатрам и клубам и частенько, хлебнув стакан водки и перемигнувшись с публикой, «вдруг выдавали свой свинг, растягивая перед местной жалкой молодёжью огромные медные закаты внешнего мира».
О моём же бахмутском детстве (за что я Аксёнову безумно благодарен) он написал нечто похожее: «В жалких коммунальных квартирёнках, в гнилых хибарах, на подванивающих дворах, под запылёнными и прокопчёнными платанами шла жизнь работников железнодорожного узла и их семейств. И всё это к тому же было разъедено коростой НКВД, постоянным наблюдением и сыском, арестами, расправами, а также и добровольным стукачеством. Казалось бы, „оставь надежды всяк сюда входящий“, – и вдруг происходит какой-то сдвиг, и ты видишь, что эта коммуна – отнюдь не собрание роботов соцсоревнования, а некое довольно хаотическое сообщество соседей, в которых живы и дружба, и лирика, и, как ни странно, любовь к музыке – совсем не к маршевым ритмам, а к синкопическим подскокам джаза. Сдвиг этот случается в тот момент, когда удивительно молодая и любвеобильная бабушка Мити Чурсина, Анна Марковна, натыкается на сидящего под деревом бродягу в заграничном пальто. К вящему удивлению читателя, бродяга оказывается никем иным, как паном Наделем – осколком роскошного европейского джаз-оркестра под управлением Эдди Рознера. Ещё совсем недавно этот польско-еврейский коллектив играл в ночных клубах весёлого Берлина…»
Чем больше ожогов, которыми нещадно жалит нас жизнь (уже и в детстве, и в отрочестве!), тем лучше – если, увы, так можно выразиться – для будущего писателя, – утверждал Аксёнов, тормозя перед светофором. А как иначе, продолжал он, добывается собственная интонация? По-другому не бывает.
Васин сеттер Ральф всё пытался лизнуть мою шею. Псу было безразлично, к кому ластиться. Ему хотелось целоваться. Я и догадаться не мог, что непоседливый Ральф всего через пару дней врежется на бегу, со всего трёхгодовалого восторга и собачьей страсти в корявое дерево рядом с гаражом во дворе Красноармейской улицы и из-за этого вскоре погибнет…
Ну а в тот день, в блаженном неведеньи, мы ехали (кажется, «Пурпурного легиона» тогда ещё не было) к кому-то за какими-то джазовыми дисками и ещё в другое место – за игрой «Монополия», присланной по Васиной просьбе из Франции специально для меня. И В. П. вдруг начал читать наизусть мои новинки, которые вошли в «Антологию джазовой поэзии» журнала «Новый мир»: «Армстронг» и «Мистер „Матовый звук“». Несколько раз (без всяких подсказок) повторил то, что довелось ему услышать от меня лишь однажды:
Подносит он к губам трубу. Сверкает запонка в манжете. Предугадав свою судьбу, Не так уж просто жить на свете.В тот момент я не подумал о том, что он каким-то образом предугадал свою судьбу, богатую на разлуки (В. П. признался, что эмиграция сродни собственным похоронам, что с первого дня прибытия на Запад и потом, во время трёхмесячных скитаний по Европе, и сейчас, в американском самолёте, его не оставляло ощущение «раздавленной бабочки»). Только читая его «Новый сладостный стиль», я понял, как умел В. П. предугадывать будущее и, конечно, то, что уж никак не обойдётся без горьких нот в период пространственно-временного пересечения двух виртуальных миров.
А тогда я просто поразился: надо же, запомнил эти мои строчки! Такой, без преувеличения, феноменальной памятью обладал, как мне кажется, в числе немногих счастливчиков Александр Межиров. Но куда больше поразило меня, что стихи чудом оказались в «Грустном бэби»! И всё это – на фоне раблезианского музыкального пиршества. «Армейские антрекоты» – так, мелкая деталь. Антуража ради. Не в них суть. Звуки квадрофонической системы, «предмета неслыханной гордости», обрушивались на присутствовавших из всех углов; из заветных картонных ящиков с осторожностью и опять же горделиво извлекались одна за другой фирменные пластинки, которых ни в каком, даже московском, Военторге ни за какие деньги не купишь. Чтобы торжественная процессия королей и герцогов американского джаза не прерывалась, генерал Генка щедро демонстрирует свои драгоценности, хвастается ими. Откуда они, эти диски, у него, в самом деле? Загадка?
Ответ ошеломляет: «Совершенно очевидно было, что генерал поддерживает прочные связи с миром музыкальной фарцы». Каково?! И не просто генерал – генерал-полковник! И вот вам аксёновское крещендо: «Генка Кваркин имел страсть к высоким децибелам и не ограничивал звуковых возможностей своей аппаратуры. Никаких разговоров за ужином, разумеется, не велось. Знаками мы спросили мадам Кваркину, как она с этим справляется[35]. Она молча вынула и показала нам на ладони специальной конструкции ушные затычки».
А в общем-то, если вычленить «генеральский» прикол, всё это похоже на правду. И верно, ел я в таких случаях мало, и сидел с туманной улыбкой на лице[36], и только лишь глазами выпрашивал восхищения «в ключевых моментах пьес». Было, было…
И то, что следует дальше, – чистая правда. И стёба здесь нет, и русский дух здесь, и Русью пахнет.
«Когда возникла пауза, моя жена неопределённо вздохнула. Генка положил ей ладонь на плечо.
– Не вздыхай, Майечка, это ещё не всё. Сейчас ещё будет Джонни Ходжес, а потом немного Каннонбол Эдерли.
После ужина, провожая нас к машине, он спросил:
– Ну как?
– Здорово, – сказал я. – Между прочим, знаешь, Генка, через месяц я уезжаю из России.
– Слышал, слышал, – кивнул он.
– Не исключено, что я буду жить в этой стране, – сказал я. – Буду слушать всю эту братию живьём…
Он посмотрел на меня, потом отвлёкся взглядом в небо, за плоские крыши подмосковного жилого массива, где среди тяжёлых ночных туч виднелся вытянутый длинным и нелепым крокодилом проём закатного неба».
«Подмосковный массив» – это расположенный совсем рядом с Шоссе Энтузиастов, переполненным согбенно-серыми тенями каторжников, микрорайон Ивановское, где здания, по мнению часто у меня бывавшего Володи Соколова со своей Марианной, – «как близнецы, а хотят, чтобы их узнавали». Что касается меня, то, прощаясь с Аксёновым и глядя на это закатное небо, я пытался угадать, как встретит Америка Васю, и завидовал тому, что он всенепременно будет там шататься по джазовым местам (например, Джорджтауна), будет заходить в «Чарли», чтоб послушать обожаемого им Мэла Торме… Уже после перестройки, приехав на лето в Москву в ореоле невиданной славы и почитания, он рассказал мне, что не только слушал Мэла Торме, но и общался с ним чуть ли не по-свойски и хочет посвятить ему новеллу или главу в каком-нибудь романе.
– Ты знаешь, – спрашивал Вася, – какое прозвище у Торме? Нет? „Бархатный туман“! А из какой он семьи – знаешь? Ну правильно: иммигрантской, его еврейские папа и мама драпанули из России, как твой кларнетист Оська, земляк Бенни Гудмена, из Белой Церкви. Торме – умница, каких мало, автор пяти книг, певец, пианист, композитор, аранжировщик, ударник-виртуоз, киноактёр. Любитель присказок в паузах концерта, он однажды обратился напрямую и ко мне. Я никак не ожидал. Уже не такой рыжий, но всё ещё прыткий, энергетики в нём было – дай Бог каждому из нас. А как он потрясающе исполнял Эллочкин репертуар! Это надо было слышать и видеть. Публика визжала от восторга…
Интересно, удалось ли Васе осуществить эту задумку, есть ли в его рукописях что-нибудь о легендарном «Бархатном тумане»?
Но уж точно известно, что он со свойственной ему живостью написал, как, пройдя ещё пару сотен метров от «Чарли», покупал за пятнадцать долларов стул и дринк в «Блюз Алли» и сидел там, едва ли не упираясь коленкой в башмак легендарного Вуди Германа, с которым когда-то выступал Фрэнк Синатра, или совсем как завсегдатай мог завалиться в ресторанчик «Одна ступенька вниз» и поболтать там с Янушем Маковичем и Лэсом Мак-Эном… «Писатель должен есть много джаза, часто и много, большие сочные ломти настоящего джаза» – так, по словам В. П., по-приятельски убеждал его в подвальчике токийского джаз-клуба «Сэто» Кобо Абэ.
Напрасно, напрасно убеждает читателя Аксёнов, что Генка Кваркин, дескать, не завидовал ему в миг прощанья, не жаждал слушать этих гигантов живьём и видеть их обычными, вроде меня, грешного, субъектами: пусть, мол, мой мир остаётся в целости и сохранности, пусть эти звёзды будут недоступны, «где-то там, за закатом, чтобы оттуда шли эти звуки…» Нет, нет: из-за страсти к джазу Генка завидовал другу, хотя всё же тревожился за него. Мне ли не знать, что Генка был преисполнен зависти?!
* * *
Прочитав, проглотив «Грустного бэби», я ещё раз подумал о том, что там, за бугром, он боялся, как бы по «книге об Америке» меня не «расшифровали где надо», не наказали, не исключили, не уволили, не растоптали или ещё что-нибудь такого-этакого не придумали. Отсюда – и Кваркин (как джинн из бутылки), и столь высокое генеральское звание. Но всё это, впрочем, походило на советский анекдот военной поры: «Он сидел в Севастополе у Н-ского моря». Стихи-то принадлежали не кому-то, а именно мне! «Расшифровать» автора при мало-мальской литературной эрудиции заинтересованных лиц – не пара ли пустяков?
– Так они ведь поэзию неохотно читают, – позднее объяснял мне свою «оплошку» В. П. – Тем более о джазе. Ты о них слишком хорошо думаешь.
6
И – отдельно о «Новом сладостном стиле».
Аксёнов несколько раз допытывался, что я думаю об этом романе. Видимо, не только у меня. Чувствовалось, что это для него особая книга. Он волновался. Я догадался – почему.
АЯ – так часто В. П. называет Александра Яковлевича Корбаха, своего главного героя, чья судьба напоминает его собственную. Всё тут (в пределах художественности и аксёновской манеры) доподлинно, абсолютно всё узнаваемо, и хотя миг безжалостно бежит за мигом, уничтожения действительности нет как нет, потому что искусству в данном случае удалось «открутить назад» и поймать, казалось бы, неуловимое. Не «что-то», как скромно предполагает автор, а суть. У нас создаётся ощущение, что мы нередко сталкивались с АЯ то в ЦДЛ, то в Доме кино, то в ЦДРИ (он и в самом деле был набит своими стихами, «как рождественские гуси начинкой»), подпевали его песням – образцам искусства чердачно-подвальной Москвы: «Гей, Россия, родина наша превеликая… Гой, страдалица наша, молчальница, тянешь лямку ты вдоль своих берегов…» Ну да, мы знали наизусть и певали не единожды его «Чистилище», «Фигурное катание», «Сахалин имени Чехова», «Шведский бушлат», «Балладу Домбая» и «Балладу Бутырок», нас удивляло всё, чем одарял людей его талант, но мы вовсе не удивлялись, когда его нашумевший спектакль был запрещён и бесхозные «Шуты» продолжали играть свой мюзикл в каких-то клубах на задворках, куда, конечно, съезжалась «вся Москва».
Боже, как узнаваемо! Встретясь с одной гэбэшной наёмной тварью уже в Америке, АЯ спросил, сколько ей платят за работу, и получил в ответ плевок: «Много! Я богаче вас всех, мудрецы сионские!.. Думаете, уже развалилась крепость социализма? Рано радуетесь! В перестройке мы очистимся от еврейской грязи!.. Мы вам не простим попыток повернуть историю вспять!» Я сказал Васе: ты просто большой молодец, что и не собирался полемизировать, пускать в ход факты и логические рассуждения. Меня брало за душу то, что в романе всё время звучит какой-нибудь джазовый инструмент и страницы полны музыки, поэтической импровизации. Это и есть новый сладостный стиль, сказал я, стиль, утверждающийся в прикосновении к литературной сцене Флоренции XIII века, к чудесам двух юных Гидо – Гвиницелли и Кавальканти и такого же юного Данта.
– Значит, музыка не обрывается? – спросил (как бы с надеждой) В. П.
– Нет, ни в коем случае. Не обрывается.
– Пусть даже и насильственно?
– Именно так. Музыка – это любовь. Ты тысячу раз прав! Это послевоенный блюз, это звёздная соль и лунная яичница, это лимонно-грейпфрутовые аллеи, в которых живых легенд – не перечесть, и Грегори Пек (да-да, тот самый) скажет: «Я вижу, у вас серьёзная любовь, ребята»; это нелепо размахивающая махровыми крыльями тайна, пытающаяся присоединиться к клину гусей и тающая в сумерках.
– А почему, – говорит В. П., – в твоём голосе жуткая печаль?
(Спустя каких-то лет десять, 7 июля 2009 года, для интернет-портала «Стихи. ру» я написал: «Жаль, что Вася сам на себя накликал беду. История литературы не единожды предупреждала: строка мистична, не надо будить лиха, не надо предрекать себе гибель. Николай Гумилёв, например, накликал беду своим „Рабочим“: „Пуля, им отлитая, отыщет грудь мою, она пришла за мной. Упаду, смертельно затоскую“… Вот и Василий Аксёнов в „Новом сладостном стиле“ предсказал на исходе прошлого столетия, что произойдёт с ним».)
– А потому, – отвечаю я, – что печалью полны твои слова в завершающих главах.
Я обратил на это внимание в статье «Русско-американские горки жизни АЯ». Там сказано было: «Аксёнов доказывает, что пресловутое чеховское ружьё, которое висит на стене, совсем не обязательно должно выстрелить. Этому сюжетному ужу не дано пролезть в какую-нибудь щель романа. Да и зачем бы, если в финале появляется принадлежащее музею мумифицированное (в слое окаменевшего мёда) тело кожевника Зеева Кор-Бейта с обломком копья в левом подвздошье – двухтысячелетний Сашин двойник (в романном Саше Аксёнов видел самого себя), и АЯ, „трясясь, как от хлада могильного или от вулканического жара“, понимает: это лежит он сам, это его лицо. Зачем ружейный выстрел, если в ход идёт куда более сильнодействующее средство. Вначале Саше Корбаху показалось, что его подбросило куда-то вверх, на гигантскую высоту («оставшись там, он видел, как опадают вниз его бедные останки, и чувствовал немыслимую жалость к тем, кто уцелел»). А в музее… Нельзя без содрогания читать это: «Там внизу лежал он сам. Это было его собственное лёгкое и мускулистое тело, и даже ноготь большого пальца правой ступни был копией его собственного ногтя, когда-то названного археологическим. Самое же главное состояло в том, что у Зеева Кор-Бейта было лицо Александра Корбаха. Только лишь над левым углом нижней челюсти отслоился кусочек щеки и была видна кость, все остальные черты в точности повторяли лицо АЯ (…). Отплывая и приближаясь, маячила перед ним ошеломляющая маска шутовского хохота, точь-в-точь как та, что появлялась у него самого в моменты театрального восторга. Он и сам теперь отплывал и приближался, отплывал и приближался, это я, значит, это я сам тут и был, значит, это я сам тут и был в образе этого певца Саши Корбаха… И отплывал, и приближался, и отплывал».
И мы вслед за одной из героинь повторяем: «Боже, Боже мой! Сашка, это ты?» Несмотря на огромное количество мёда, вытекшего при землетрясении из древней амфоры, мы берём в толк, сколько горечи в сладостном стиле. Этим и замечателен лучший роман Василия Аксёнова. «Что-то – это ничто почти, телефон на закрытой почте. Почти – это всё…»
Но мне сегодня саксофонист Олег Сакмаров подарил свою запись: ты читаешь что-то такое, ложащееся под грустную музыку. На диске – весь этот вечер. Пусть ты и отплыл, но ты ПРИБЛИЗИЛСЯ.
И будешь становиться всё ближе.
7
Но не этим хочется закончить мне этот очерк. А вот чем – зарисовкой из жизни.
Он позвонил мне, когда стало темнеть, закапал дождик и запаутинили зарницы.
Звонок как нельзя был кстати. Я только что кончил читать его «Логово льва». В этом рассказе меня отчего-то смутили слова, относящиеся вовсе не к нему: «Острее других он понимал неокончательность реального мира, зыбкость его предметов и в поисках иной сути уходил дальше других».
Я безотчётно отнёс эти слова на его счёт. Не знаю – почему.
Вася был мне бесконечно дорог. Без всяких обиняков в «Рождённом в джазе» он написал: «Мощенко происходит от слова „мощь“; значит, на джазовый манер я могу называть его Mighty Vlad». Пусть перебор – всё равно греет сердце.
Он говорит:
– Привет. Маята знает, что ты ко мне присоединишься завтра.
– Как там она?
– Да ничего. Куксится. Плакала вот – в подушку…
– Из-за чего?
– Да мало ли из-за чего. Не может забыть гибель Ванечки и Алёны. Да и я ей, сам понимаешь, не всегда в радость[37].
Конечно, молчим минуту-другую. Потом Вася говорит:
– Маята сказала, что ты спрашивал меня днём.
– Спрашивал. Через месяц-другой буду у дочки в Испании, в Овьедо…
– Передавай ей привет. Овьедо, кстати, – это совсем рядом с Биаррицем. Давай приезжай вместе с ней на её «Форде».
– Это вдоль Бискайского залива?
– Конечно. Три-четыре часа езды. Никаких пробок, удобно. – И без всякого перехода предложил: – Ты утром бегаешь? Присоединяйся ко мне.
– Нет, я и в армии кроссов не любил. Ленюсь. И настроение – на нуле.
– Зря ленишься и киснешь. Приезжай часов в восемь на Котельническую. Здесь не так загазованно. Побежим вдвоём. Бесплатно даю уроки бега.
– Так ведь дождик…
Он расхохотался по-своему, по-аксёновски.
– Ничего с тобой не станется. Утром будет ясное небо. В таких делах я никогда не ошибаюсь.
– Но ты ведь убеждал меня, что бегаешь, чтобы насладиться одиночеством.
– Это верно, убеждал. А зову я тебя потому, что мне не нравится твоё настроение. Всё. Договорились. У меня есть чем заняться.
В. П. оказался прав. Рассветное небо было почти ясным. Враждебной мороси и слякоти как не бывало.
– А что у тебя за лапти? – поинтересовался Аксёнов, углядев меня среди прохожих. – Хоть бы кроссовки какие-нибудь взял. Не на прогулку ведь явился. Не думал, что ты такой лентяй. Твой любимый Джеймс Джойс сначала делал вид, что бегает, – вспомни «Портрет художника в юности»: там он себя изобразил хиляком Стивеном Дедалом. А потом взялся за ум и мог любого перегнать – иначе бы не соорудил «Улисса».
Хоть он шутил, я пристыженно опустил глаза.
И спросил у него наконец, сказал самое главное:
– Что означают поиски иной сути среди зыбких предметов мира?
– А это и есть бег на длинные дистанции, – ответил В. П. (разумеется, ёрничая). – Без него лучше не браться за большие романы[38]. – И попрощался: – Пока. Ты в своих бразильских мокасинах шлёпай-ка лучше на троллейбус.
И опять спросил:
– Тебе нравится вот это: «Или так и надо ближним, так и надо без следа, как идущим накрест лыжням, расходиться навсегда». По-моему, бред.
– Это Уткин?
– Он, голубчик. Разве лыжня – не след? Ну, Бог с ним. Будем расставаться, но не навсегда.
И побежал трусцой в сторону Большого Устьинского моста.
Никто из редких прохожих не обращал на него внимания.
А я стоял, пока он не скрылся из виду.
И всё-таки, что это такое «поиски иной сути»? И зачем ему на ум пришло: «Может, так и надо ближним…»?
Через полгода после этого у меня появились стихи, в которых была перекличка и с этой нашей утренней встречей, и с нестандартной, то есть в том понимании, что не очень советской мыслью, вдруг пришедшей в голову Кириллу Илларионовичу Смельчакову из Васиного романа «Москва Ква-Ква». Мысль такая вот была: «А кто сказал, что человек рождается для счастья? Быть может, он рождается как раз для горя? Вот всем нашим детям вдалбливают в головы посредством речевой и наглядной агитации основательную в её оптимизме цитату, и даже мой сын Ростислав частенько её повторяет: „Человек рождён для счастья, как птица для полёта!“ А ведь с тем же успехом можно сказать, что человек рождён для горя, как птица для полёта. Кто сказал, что с горем не поднимешься так высоко, как со счастьем? Быть может, именно в перемежении горя и счастья и заключается полёт человека? Счастье подбрасывает толчком, горе держит тебя в своём постоянном потоке. Подумав так, он почувствовал удивительную бодрость и пришёл к итогу данного мыслительного процесса: жив!» Прочитать эти стихи Василию Павловичу я так и не успел, потому что, ощутив разрывающую сердце боль, он резко остановил свою машину… Но здесь я их всё-таки процитирую.
ЛИСТОПАД ВСЕЯ СТРАНЫ
Вас. Аксёнову Листопад всея страны. Стали ночи холодны. Нет духана. Нет зурны. Нету Галича струны. В том кафе – другие струны. Где же барды? Где их страсть? Ветер сам – как слово «красть». Звуки ржавы и чугунны. Нам уроки все – не впрок, Хоть кровав любой урок. Что ни век – всё поперёк. Знаю, будто вор в законе, Что и тополь, и ветла — Всё раздето, всё – дотла, Что предательски светла Ночь в Нагатинском затоне. То-то рады топтуны, Сыска младшие чины, Хоть и бодрствовать должны, Даже в тень свою не прячась. Окна. Меньше в них огней. Стало быть, вокруг темней, Ну а мы с тобой – видней, Не утратившие зрячесть. И баржа. И воздух спёрт. Лунный серпик башней стёрт. И глотает Южный Порт Звон последнего трамвая. Глянь-ка, здесь опять Москва — Словно рифма для «ква-ква», Сонная, полуживая. Скоро Новый год уже. Надо быть настороже: Дремлет в том же гараже Воронок всея державы. Неприметный номерок. Дремлет старый воронок. Стар и я. И одинок. Буквы ржавы. Ноты ржавы.И ещё.
Отчего-то, взявшись за эти страницы, я тотчас представил не нечто солнечное, подобающее случаю, а совсем-совсем наоборот: печальный, панихидный Московский Дом композиторов. Был хоть и торжественный, но пасмурный день, и это подчёркивалось, например, отрешённостью и потерянностью Людмилы Гурченко, будто ослепшей и прошедшей мимо нас, утиравшей слёзы. Мы стояли с Аксёновым, прощаясь с 90-летним королём джаза Олегом Лундстремом. И неожиданно Василий Павлович прошептал: мол, Лундстрем – никто иной как Кандид той поры, когда «оттепелью» и пахнуть не могло; мол, он – один из тех, кто, невзирая ни на что, возделывал наш сад вместе с другими великанами, потому что и сам был большим художником. То же самое я говорю сейчас о нём, о Василии Аксёнове. И всё это – в сопровождении джазовых хитов, записанных на диске, который прилагается к роману «Редкие земли». И я жду, что вот сейчас, вот-вот зазвучит «Блюз для Васи».
Глава 6. Дай бог нам всем так «мазать»
1
Я уже говорил в предыдущей главе о том, какое впечатление произвели на меня опубликованные в шестидесятых годах в журнале «Юность» мятежные строки Василия Аксёнова об Алексее Баташёве, первого джазомана страны, про которого ходили легенды: да это, мол, ходячая джазовая энциклопедия, да это же друг и Дюка Эллингтона, и Дэйва Брубека, и Оскара Питерсона… Конечно, тут были преувеличения, перехлёсты, но и правды было тут немало. Многим тогда запомнились эти почти стихотворные аксёновские строки в популярнейшем журнале. В них Алексей Баташёв, для меня таинственный и непостижимый, полными надежды на лучшие времена звуками золотого саксофона оглашал синеву весенних, почти летних московских вечеров, утверждая право человека на любовь, сострадание и – самое главное – на свободу, на страстное нежелание подчиняться диктату казарменного искусства.
И вот Аксёнов, когда у нас зашла речь о Баташёве, удивился:
– Как, ты с ним не знаком?! Удивительно. Ну, это легко поправить. Иду звонить ему.
Через пару часов мы были в ресторане Дома журналистов. Присутствие там двух столь знаменитых людей вызвало прямо-таки ажиотаж.
Аксёнов сказал:
– Володя служил в Будапеште в шестидесятых годах. Там было где послушать хороший джаз. У него и написано про это немало. – И обратился ко мне: – Прочитай для Алёши «Весёлый барак».
Я не заставил долго ждать себя:
Говорит он: «К чёрту экивоки. И скажу я, лабухи, вот так: Мы – джазмены, Мы – в Восточном блоке, Но зато как весел наш барак. Пропущу-ка я стаканчик виски. Чей заквас во мне? И вправду: чей?» И ответил сам же по-английски: «Все мы – от цыганских скрипачей». Летом он Граппелли слушал в Ницце. Дал зимою в морду стукачу Розочка горит в его петлице. «Я напился. Я играть хочу. Чардаш? Нет. Ведь ночь – для „Звёздной пыли“. Выпьем мы да унесёмся вдаль!» До сих пор в «Савое» не забыли, Как смеялся плачущий рояль.2
В общем, в тот день для меня Алексей Николаевич Баташёв стал просто Лёшей. О начале нашей дружбы я рассказал в одной из своих прозаических вещей, где главный герой гитарист Митя Чурсин приходит в гости к Алексею. Пришёл к нему и я. Он в те поры работал в НИИ «Теплоприбор», худощавый, но ладный, крепкий (он был мастером спорта по плаванию) и щеголеватый, что правда, то правда. Проживал Лёша на улице Чайковского, в Алябьевском особняке, в типичном московском дворике, вместе с бабушкой Юлией Петровной, матерью Марией Васильевной, женой Машей и только что родившейся дочкой Ксюшей. Разговорились по душам. Мне стало известно, как начинал юный саксофонист Алексей Баташёв, как он играл в оркестрах Министерства иностранных дел и какого-то закрытого НИИ и как внезапно «завязал» с музицированием: Стеном Гетцем, мол, стать не выйдет, выше себя прыгнуть не дано. Но максималистом был смолоду. Сдал инструмент, а по ночам, говорил он, снится звук, и какой звук!
– Вася ещё до нашего знакомства говорил, что ты много стихов написал на нашу тему. Прочитай что-нибудь. «Весёлый барак» я уже знаю. А ещё что-нибудь?
– Хорошо. Ну вот, пожалуй…
В гостинице, дружок, не то что старой, — Изглоданною временем, – запой, Что я простился с джазовой гитарой, Как ты недавно – с джазовой трубой. Идёт гармошка прямиком к затону. За ней «КАМАЗ» поехал к гаражу. Зарёкся я и струн уже не трону. Нарочно синий бантик завяжу. Пойдём-ка за гармошкою вдогонку Теперь надежды нету никакой. А музыка под силу – цыганёнку, Пусть даже с изувеченной рукой. Братишка младший Скрипача На Крыше, Да разве знал он в таборе о том, Что вознесётся Музыкою Свыше Над Сеной, над любым её мостом! Ты пой, что я лопух, что я бездарен. Я перекати-поле. Я никто. И ты не Брубек – и, однако, барин. И подаёшь ты Брубеку пальто. И станет видно кларнетисту Пете, Что ты уж не порхаешь налегке. Ты исчезаешь, будто звук в кларнете, В последнем «Новогоднем огоньке». Да, я никто. Вот и прощай, дружище. Пусть дюковский уходит караван. …Гостинный двор в Кобыльем Городище. Уже давно погас телеэкран.– Обо мне, что ли? – спросил Баташёв. – На меня намекаешь?
– Господь с тобой, – ответил я. – Ты ведь не трубач. Ты у нас обладатель золотого саксофона, оглашающего…
– Ладно, ладно, – прервал он меня.
И захохотал. Должен отметить: так, как Лёша, никто не хохочет. На всю катушку! До слёз иногда…
У нас не было «разведки боем», потому что он принял меня (может, с Васиной подачи) сразу, что-то такое разглядев во мне. В моей книге, где о нём шла речь, он так же легко сошёлся с главным героем, Митей Чурсиным, и по-свойски заявил ему:
«– Парень ты вроде ничего, но одет – хуже не придумаешь. Неужели в Тбилиси нельзя прилично экипироваться? Ты же музыкант. Многие тебя хвалят.
– Какой я музыкант? Газетчик.
– Ну а я – инженер! – отрезал Лёша, не уточнив при этом, что остался среди тех, кто предан музыке Луи Армстронга, Джона Колтрейна и наших энтузиастов и кому столпы официальной культуры хотят вытереть сопли белоснежным носовым платочком, но кто плюёт на их мнение».
Он носил костюм, лихо сшитый Марией Васильевной, вот только над покроем они колдовали вдвоём. Костюм был что надо, с секретом – не фирменный, и тем не менее шик-модерн, однобортный, с тонкими лацканами, из тёмно-серого материала, издали похожего на дакрон и купленного „по случаю“ самим Лёшей. В таких нарядах щеголяли тогда американцы, имевшие отношение к джазу, с которыми он дружил, не опасаясь последствий.
3
Алёша родился во внутренней тюрьме ОГПУ. Младенцем спал в платяном шкафу, в его нижнем ящике, где прежде хранилась обувь. Там ещё пахло ношеными ботинками и туфлями, и этот затхлый, кислый запах долго чудился мальчику. Пролетарский меч не обошёл стороной Лёшиного отца, Николая Александровича Баташёва, выпускника Санкт-Петербургского института гражданских инженеров императора Николая I, очень доброго и гуманного начальника, архитектора от Бога, симпатичного и отзывчивого человека. Алексей показывал отцовскую уцелевшую записную книжку: адреса встреч и разлук, программки спектаклей, бесценные фотографии. Николай Александрович, молодой, загорелый, сияющий, запечатлён среди научно-технических работников на самых разных конференциях и съездах…
Однажды я с приятелем пришёл к Баташёвым и застал там (вот уж причуда!) нью-йоркский джазовый квартет в полном составе.
– Может, не вовремя? – усомнился я, готовый немедленно ретироваться.
– В самый раз! – весело ответил Лёша. – Если тесноты не боитесь, добро пожаловать. Ребята прибыли к нам в страну прямо с европейских гастролей.
Те заулыбались не по-нашенски широко, как люди с другой планеты, где жаркое солнце не заходит, пожалуй, даже по ночам. Здороваясь, они не оставляли попыток сфотографироваться с маленькой Ксюшей. Сильное впечатление производил их руководитель, трубач Идрис Сулейман (от рождения – Леонард Грехэм, выходец из Санкт-Петербурга, штат Флорида), круглолицый, со щеками, как у Диззи Гиллеспи, с большим, выпуклым лбом, носом-картошкой, округлым подбородком. Его лицо словно было вылеплено из разных сферических фрагментов. Пианист Оскар Деннард представлял собой тип академического учёного и поражал изысканным галстучком. Резко отличался от него басист Джамиль Насер – прежде всего азиатской внешностью и бородкой кустиками (мальчик в гостинице сказал о нём: «Дядя с усами на подбородке»). А ударник Эрл Смит покорял всех своей тактичностью и покладистостью. Это был сухопарый, отменно подтянутый щёголь.
– Как они здесь оказались? – спросил я.
– Не поверишь, – ответил Баташёв. – Я и сам не поверил, когда услышал от них: прибыли к вам, в вашу Страну Советов, чтобы получить её гражданство, работу и чтобы здесь навеки поселиться. Я просто обалдел. Насчёт навеки, говорю, это не по моей части, а вот поселить в гостинице «Украина» попробую.
– Ты не шутишь? – сказал я в изумлении.
– Какие там шутки! Они признались: когда мы, дескать, покидали Нью-Йорк, то прощались с ним, надеясь больше никогда не возвращаться, ну и, естественно, плакали. Жёнам и детям велели ждать вызова в Москву.
– Что же толкнуло их на такой шаг?
– Наша пресса, которая распространяется в Штатах, и передачи советского радио – вот что. В общем, «я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Они и клюнули. Им невдомёк, что произошло с «Колыбельной» в фильме «Цирк».
– А разве что-нибудь особенное произошло?
– Так ты не в курсе… В фильме идёт речь о страшной доле негров в Америке и о бедных негритятах. А колыбельную пел Соломон Михоэлс. Он держал в объятиях младенца Джима Паттерсона[39]. Цензоры вырезали и брезгливо выбросили в мусорный бак этот эпизод. Понял? А Идрис на своём стоит: «У вас больше перспектив, чем у нас, в Штатах». Хоть кол на голове теши…
(Заметки на полях рукописи: кортасаровскому Джонни в «Преследователе», в свой черёд, казалось, что кругом – поля с зарытыми урнами. Попробуй переубеди!)
– И что же дальше? – спросил я.
А дальше – уму непостижимо. Не отказываться же, когда такие музыканты просят тебя помочь. Баташёв ходил вместе с Сулейманом в приёмную Верховного Совета, в Министерство иностранных дел на Смоленской площади, в МВД на улице Огарёва. Экзотический вид тёмнокожего трубача вводил чиновников в состояние шока. Они порой забывали дружески улыбаться и наверняка принимали американских музыкантов за свихнувшихся кретинов, переглядывались, о чём-то шептались. А как они отфуболивали Идриса!
Видать, особое подозрение вызывал у них Алексей. Не шпион ли он, этот Баташёв? Допытывались, какой у него резон хлопотать за этих идиотов. Записывали серию и номер его паспорта, домашний адрес. А он, хоть и знал заранее, каким будет результат, не увиливал от выполнения своего долга. Четвёрку, наконец, допустили в ЦК КПСС: туда докатились слухи о чрезвычайном происшествии. И дали здесь окончательный ответ: укажите, дорогой мистер Идрис, любое место на глобусе – и мы вас туда отправим. Бесплатно. Не из-за джазменов же портить отношения со Штатами. А ежели кого-нибудь из наших туристов в отместку задержат, а? Да и давно ли случай с «У-2» обернулся грандиозным скандалом? Были бы птицы поважнее – овчинка стоила бы выделки…
– И когда ребята отбывают восвояси? – спросил я.
– Уже скоро. Я их пригласил до отъезда прийти к нам на открытие джаз-клуба. Это будет гвоздём программы!
Я ушам своим не поверил.
– Джаз-клуба?!
– По сути – да. А официальное название такое: джазовая секция молодёжного музыкального клуба.
Вечером мы поехали на Раушскую набережную, 14. То было трёхэтажное здание ДК энергетиков рядом с МОГЭСом, осенённым сияющим лозунгом: «Коммунизм – это Советская власть плюс электрификация всей страны». Баташёв, не скрывая гордости, показывал свои богатства: фойе, колонны с лжекоринфским ордером, капитель растительного характера, обилие мрамора, большой и малый залы…
– Как тебе это удалось? – допытывались дорогие гости.
Тот довольно усмехнулся.
– А у меня, – сказал Лёша, – имелись на руках «теоретические» козыри…
– То есть?!
– Слыхали про ленинскую концепцию «о двух нациях и двух культурах в буржуазном обществе»? Вот ею я и побивал идеологических королей. В горкоме комсомола, где с удовольствием приняли наказ старших товарищей взять под опеку «ниву культуры», согласились с моим лукавым доводом: есть джаз буржуазный, коммерческий, с одной стороны, а с другой – пролетарский, с перчиком. И мне дали добро.
4 августа 1960 года – вот дата! Наш первенец распахнул свои двери. Но это неточно сказано, потому что аншлаг был полный и калиточку пришлось захлопнуть. Нетерпеливая публика, не попавшая в ДК, раз за разом предпринимала попытки перелезть через ворота. Лёша чувствовал себя именинником. Если не ошибаюсь, на открытие клуба пришли кинорежиссёр Андрей Тарковский и скульптор Эрнст Неизвестный. Именно там я познакомился и с русым крепышом и мечтателем Алексеем Мажуковым, которого ждала слава популярного композитора и которому предстояло почти четыре года проработать пианистом в оркестре Эдди Рознера.
Отовсюду доносилось: «Ведь вот как повезло!»
Был во всём этом и некий «комсомольский уклон», да тут уж ничего не попишешь. Старались не обращать внимания.
Легко простили и опоздание на целых два часа Сулейману, Деннарду, Насеру и Смиту. Идрис перед выступлением квартета что-то меланхолично говорил – кажется, благословлял, и Лёша с женой переглянулись, почувствовав в его словах (неуловимое для публики) недоумение.
А в глазах у него стоял вопрос: «Почему эти парни мной пренебрегли?» Ничего не сведущий в политике, он мало что понял. Ведь он был всего-навсего трубачом, который прославился, влившись в начале сороковых с группой молодых музыкантов стиля боп в новый оркестр Эрла «Фаты» Хайнса, а потом отправившись в Нью-Йорк для сотрудничества с самобытнейшим пианистом Телониусом Монком, чьи взгляды на джаз разделяли далеко не все. Сулейман стал знаменитым. Он объявился в Москве как признанный мастер, как удачливый участник оркестров Каунта Бейси и Лайонела Хэмптона.
– А сейчас, – объявил залу Идрис, – наш квартет исполнит свою версию «Подмосковных вечеров».
Сулейман улыбнулся, услышав свист одобрения.
Он очень хотел угодить советским парням. Он прощался с ними. Его версия была просто превосходной. Кто-то пытался подпевать: «Трудно высказать и не высказать…»
А Лёша говорил тихонько друзьям:
– Как думаете, в чём заключается самая гениальная функция джаза?
– Раз ты так спрашиваешь, у тебя, значит, готов ответ. Давай, не томи.
И Баташёв сказал:
– Джаз всегда будет оставаться чудом живой музыки. Ясно? Он по природе своей противоречит чудовищному принципу: один, указуя, пишет – другой, исполняющий, читает. Ну, допустим, читает следующее: «Сия пьеса исполняется в среднем темпе, в размере четыре четверти; в первом такте труба делает четвертную паузу, затем играет четвертями до-ми-фа и весь второй такт тянет ноту соль…»
Он ударил меня крепкой ладонью по колену.
– Вдумайся, именно таким могло бы стать начало описания пьесы Джеймса Блэка «Когда святые маршируют»!
– Да, – откликнулся мой Митя. – Чушь какая-то.
И принялся вместе со всеми аплодировать группе Идриса Сулеймана (вчерашнего Леонарда Грэхема).
4
Дорогой мой Лёша!
Разве не соблазнительно писать о тебе, о мире Алексея Баташёва, разбираться, почему у тебя одинокое сердце и почему, закрывая глаза, ты слышишь низкий шёпот тенор-саксофона, дальнее пение высокой трубы с сурдиной и то приближающиеся, то удаляющиеся шаги контрабаса? Это не всё, говоришь ты, добавь сюда дымок сигареты (это всё же киношно и «в образе»), не забудь о стакане виски со льдом (или, на худой случай, пива), о тёмном сгорбленном силуэте погружённого в себя трубача. Ладно, соглашаюсь я, не забуду. Это действительно впечатляет. Это как во многих джазовых программах, где утверждён свой музыкальный герб, а именно «Take The «A» Train» Эллингтона. А наши остряки переводят по-своему: «Садись в поезд! А?!» Три-четыре такта – и мы вступаем в империю джаза. А теперь силуэт самого необычного и загадочного трубача – Мистера Сдержанная Нежность – вживлён в литературу. И, значит, благодаря тебе создана изящная словесно-джазовая заставка.
Что ж, таким образом, мы положили начало нашему повествованию. Важно, прерываешь ты меня, чтобы не вышел панегирик. Я – того же мнения. Сегодня я созрел для этого рассказа (благодаря тебе – тоже). Но в полной мере он удастся лишь при одном условии, если я перестану солировать и если мы с тобой составим дуэт.
– Дуэт?! – спрашиваешь ты.
Ну да, отвечаю я. Дуэт. Его ждёт от нас с тобой рижский журнал «Джаз-квадрат», в своём роде единственный в стране. Главный редактор прочитал некоторые главы моего романа «Блюз для Агнешки» и дал добро. Разве он не звонил тебе? – спрашиваю я. Звонил, отвечаешь ты, можно попробовать.
Вслед за кортасаровским Бруно из гениального «Преследователя» я самым искренним образом готов заявить: мои познания в джазе и преданность ему позволяют мне скромно определить границы собственных возможностей и отдавать себе отчёт в том, что я не одолею некоторых слишком сложных материй. Дуэт – чем плохо? Можно сказать – по законам джаза.
По рукам, говоришь ты, меня это устраивает, потому что барабаны, слава Богу, будут молчать. Бывают моменты, когда следует обходиться без ударной установки. Оскар Питерсон это хорошо понимал, не правда ли? Вспомни, например, его диски, записанные Норманом Гранцем на «Пабло» в одном случае с трубачом Роем Элдриджем, а в другом – с контрабасистом Нильсом Педерсеном. Принципиально – никаких барабанов. Кстати, я оставляю право вернуться ещё раз к Питерсону.
Конечно! – восклицаю я. Без этого никак не обойтись, это потрясающая история. Но пока что давай вернёмся к тебе. В «Призыве судьбы», итальянском фильме конца пятидесятых годов, строгая учительница музыки, глядя поверх пенсне, спрашивает очаровательного вундеркинда, будущего дирижёра:
– Имя?
– Роберто, – откликается он.
– Фамилия?
– Бенци.
– Родился…
– Конечно! – радостно подтверждает мальчик.
Авторы этого фильма потратили немало плёнки, чтобы убедить зрителей, какие тяжкие испытания выпали на долю Роберто. Им и в голову не приходило, что примерно в то же время родился ты – и родился во внутренней тюрьме ОГПУ. Ах, какая потрясающая «находка» таится здесь для режиссёра и для оператора! Младенец, спящий в платяном шкафу, в его нижнем ящике, где прежде хранилась обувь… А всё потому, говорю я, что пролетарский меч не обошёл стороной твоего отца, Николая Александровича Баташёва. Не обошёл, подтверждаешь ты, и с твоих слов я узнал, что был он выпускником Санкт-Петербургского института гражданских инженеров императора Николая I, очень добрым и гуманным начальником, архитектором от Бога, симпатичным и отзывчивым человеком. Погоди, говоришь ты, что-то ищешь на полке одного из стеллажей и вот уже показываешь отцовскую уцелевшую записную книжку, его фотографии: вот Николай Александрович, молодой, загорелый, сияющий, запечатлённый среди научно-технических работников на самых разных конференциях и съездах…
Гляжу на тебя и думаю: а ведь нет никого, кто младенчество своё провёл в шкафу, в ящике для обуви! А кругом – вертухаи да колючая проволока. Какой страшный упрёк стране, где малыш появился на свет! Стране, которая потом сопротивлялась любой твоей попытке окончательно вылезть из этого ящика, освободиться от слежки и цензуры, от закалённых идеологических топтунов и воздеть к небесам саксофон как самое лучшее средство для общения с ними, с небесами…
Минутку, спохватываешься ты, минутку, стоп, ещё миг – и заработает ударная установка, а мы с тобой так не договаривались: пусть сегодня «горячий» джаз уступит место «прохладному»; пусть задумчивое фортепиано «пролистает» уцелевшую записную книжку моего отца, «переберёт» адреса его встреч и разлук, программки спектаклей, на которых он побывал, книги, которые он читал и перечитывал, – в общем, всё, что было его жизнью, зимы и вёсны, осенние и летние деньки, оказавшиеся такими короткими, такими мгновенными…
Спасибо тебе, говорю я, ты напомнил мне моё детство, мой Бахмут, ещё довоенный, не изуродованный войной; Боже, как мы любили июньские вечера, акации в голубой темноте, будто белые мазки экспрессиониста чеха Богумила Кубишты, наш парк невдалеке от «Артёмуглегеологии», его пирамидальные тополя, клёны, скамейки со спинками и без, а самое главное – эстрада, освещённая изнутри, и на ней – музыканты, их четверо: пианист, кларнетист, гитарист и барабанщик, больше всего запомнившийся мне: белобрысый, гибкий, как лоза на ветру, я даже имени его не забыл: Эдик Белоцерковский, и они, представь себе, притворяясь, что в программе – песенки из советских кинофильмов, играют самый что ни на есть настоящий джаз, о чём мне сказал сожитель моей бабушки Пантюша, человек авторитетный в этом деле, ибо он-то и играет на гитаре там, на эстраде, и совсем не подозревает, что многих из них вскоре заметут и сгинут они бесследно, а ему на войне голову сложить предстоит; может, потому и такая щемящая у них музыка, берущая за живое, и в ней, друг мой Алексей Николаевич, – и судьба твоего отца, и наши судьбы – да, и наши.
5
Об этом хорошо сказано нашим общим приятелем Лёшей Кабаковым, классиком уже, в повести «Кафе „Юность“». В кафе этом – уже другое время, уже дружинники строгие с комсомольским блеском в глазах, а в нашем парке – никаких дружинников ещё не было, но бдительные люди всё замечали. Я об этом Кабакову рассказывал, когда он работал в редакции популярнейших «Московских новостей». Он мне подарил штук пять-шесть снимков с джазовых тусовок; на них и ты есть, и Вася Аксёнов, и уже ставший классиком молодой Лёша Козлов.
В своём кабинете Кабаков читал мне кое-что из своего «Кафе»; особенно близким показалось то место, где ребята дают – и, раз-два-три-четыре, раз-два-три, раз, и пошли, по теме сперва, по теме, «ин э мелотон, ин э мелотон, ин э мелотон, вау-вау-ува, прошлись все по теме, и в унисон с Конём, и в сторону отхилял Ржавый, отстегнул дудку, положил на свой стул рядом с кларнетом и флейтой, стал тихонько в уголке за фоно, в тень за сраным раздолбанным пианино, какой там рояль в кафе „Юность“, с какой горы, а Конь уже дует вовсю, сначала по гармонии, нормально, а вот уже и похитрей, и едва ли не по ладу, обгоняя эпоху, засаживает эрудированный Конь, что ему вест коуст, что ему Дэвис, он уже и кое-что похитрее слышал, чем Диззи, он уже и Фергюссона знает, и снимает дай Бог, и дует, и выходит на свист, на писк, на ультразвук, на самый заоблачный верх, где один только октябрьский ветер да пяток гениев…»
Да, говоришь ты, время здесь совсем иное, а твой парк – в довоенном времени, но ребятам и в Бахмуте по-своему, с помощью музыки хотелось вырваться в заоблачную высь, это нетрудно представить себе; я хорошо вижу твоего Пантюшу и то, как приходит он с гитарой в летний кинотеатр, чтобы озвучить немой фильм, понимаю, почему его синкопы в ритме вальса или танго завораживали публику, и фильм уже никому не казался немым… Я не могу сдержаться и цитирую античную лирику: «Звонкою лирной игрою чаруемы, гибкие деревья на вещее чело склоняли тени…»; сам замечал мальчонкой, как женщины, не стесняясь нисколько, хлюпали носами, да и мужчины были близки к этому; вот так терзал Пантелей души каждой своею нетрезвой струною; он тоже вздыхал, играя, – разве мог я не заметить этого? И добавляю: где достойные, подходящие краски, чтобы описать те благословенные мгновенья, когда после заключительных кадров и слова «Конец» на слепнущем экране вдруг, как всемирный потоп, обрушивалась белая акация заодно с ярчайшим светом зажёгшихся электроламп, обрушивалась прямо на нас, на скамейки, на распахнувшиеся воротца, уже покинутые билетёршами, и когда всем, ошарашенным, и подавленным, и возвышенным, хотелось быть незащищёнными детьми…
6
А каким же инструментом, говорю я, передать тревогу ночей начала тридцатых годов, когда карающий пролетарский меч завис над головами людей, прежде всего талантливых и энергичных? Твой отец, Николай Александрович, имел несчастье появиться на свет одарённым щедро и всесторонне. Сослуживцы всегда величали его архитектором от Бога. Он построил прекрасные дома в Петербурге и Нижнем Новгороде, а главное – был добрым и гуманным начальником, симпатичным и отзывчивым человеком. Право, недостает саксофона, твоего саксофона, самого первого и самого рыдающего, который и появился в твоей судьбе, может быть, для того, чтобы ты выразил свою печаль, оплакал свои горькие утраты.
…Ах, Алексей Николаевич, как проник в наши сердца благородный Сэмми Дэвис, помянувший со слезами на глазах беспутного и гениального, обречённого на погибель и на бессмертие саксофониста Паркера и спевший с оркестром Каунта Бейси «Блюз для мистера Чарли»! У нас же пока нет блюзов, посвящённых близким, родным людям.
Увы, соглашаешься ты, нету, хотя они нужны, да ещё как; многим бы я их посвятил; символично, пожалуй, что я родился в тюрьме, в городе, названном именем пролетарского писателя, ненавидевшего джаз. Для иных этот факт мало что значит. А для меня это глубоко символично. Тут уж никакой иронии судьбы! Размышляю о месте своего появления на свет Божий – и просто не могу пройти мимо «исторической» статьи Горького, о которой вспомнили большевики, протрубив поход против космополитизма и заставив детишек учить её в школе. Я кое-что написал в своей жизни, но едва ли не наибольшее удовлетворение принесла мне моя очень маленькая «пьеса для радио», озаглавленная «О музыке тонких». Может, процитируем её? Непременно, говорю я. Вот она, «пьеса», буквально несколько строчек: «Телефонный звонок. Голос с сильным грузинским акцентом: „Алло, Сталин слушает. Кто это?» В трубке – окающий, нижегородский басоне: «Это Горький. Писатель пролетарский. Я из Италии, с острова Капри». – «Ну, что там у вас?» – «С продуктами хорошо. Еды много. Да только все обжираются непотребно. И всюду – джаз. Даже по радио. А я его никак понять не могу». – «Это музыка толстых, Алексей Максимович. А вы у нас худой совсем. Приезжайте. Мы разберёмся». Трубка повешена. Короткие гудки. Горький, как известно, приехал. И с ним разобрались».
Тебе, напоминаю я, не могли не припомнить твоё отношение к основоположнику социалистического реализма, верно? И постарались это сделать, так сказать, в нужном месте и в нужное время. Было такое, говоришь ты, ещё как было. Но об этом – попозже, в свой черёд. А сейчас – о чуде, о том, что в 1939-м отца неожиданно освободили, причём посоветовали не крутиться под ногами, сматываться. И мы, не теряя ни одного лишнего дня, направились в Москву. Может быть, мне ещё удастся написать рассказ или повесть о переживаниях мальчика, который испытывал радость, вдруг очутившись в столице, в знаменитом алябьевском особняке. Само собой, чуть ли не на чердаке, а не в барских покоях. Но тем не менее. Я ловил обрывки фраз в разговоре взрослых о том, что тут будто бы бывал сам Пушкин, а Гоголь читал здесь вслух «Мёртвые души». Вот какие тени разгуливали по нашему особняку! У меня, продолжаешь ты, чешутся руки описать Новинский бульвар, его дома, его липы, его вывески, его стенды для газет, его пешеходов – всё, что характерно для предвоенного времени. Мне бы воспеть шикарный гастроном на Смоленской и содержимое наших книжных шкафов! Каких только книг у нас не было! Отдельное слово я должен сказать о старшем брате, о Славе. Он позволял мне крутить ручки радиоприемника СИ-235. Надо ли объяснять, что это такое? Ну и самое основное – патефон, гордость брата, его пластинки, аккуратно уложенные в специальные чемоданчики и в роскошные альбомы.
Вот-вот, подхватываю я, недаром тогда пели: «У меня есть дома патефончик… Он меня когда-нибудь прикончит!»
И что, ты запомнил названия тех пластинок? Представь себе – запомнил, говоришь ты, и названия, и всю эту музыку, и как я впервые услышал слово «джаз». Иначе бы я не сумел через бездну времени написать в новой книге «Баташ»: «При соприкосновении стальной или пальмовой иголки с крутящимся диском рождалась музыка, от которой что-то внутри начинало пульсировать, трепетать, а после того как пластинка кончалась, в ушах ещё долго держалась память о звуке, и это хотелось повторять и повторять». А ведь ты поэт, замечаю я, звук для тебя – постоянный предмет вдохновения, нечто вожделенное, неуловимое, ускользающее. И тут мы с тобой родственники, чему я несказанно рад. Скорее всего, не случайно одну из своих книг я назвал «Родословная звука» – и сделав это, ощутил своё бессилие удержать на бумаге услышанное или увиденное. Не случайно появились у меня и такие строчки:
Подносит он к губам трубу. Сверкает запонка в манжете. Предугадав свою судьбу, Не так уж просто жить на свете. Играй, как Господу молись, Играй, как будто рвёшь оковы, И тем, кто закрывает высь, Скажи трубой своей: «Да что вы?!» …И всё накалено вокруг. Свистят фанаты оголтело. Негромкий голос. Хриплый звук. И что? Вот в этом-то и дело? А рядом саксофона медь — Соперница, но и подмога. А ты? И ты умеешь петь? Умеешь петь? Побойся Бога.«Взрывая, возмутишь ключи», – досадовал Федор Иванович Тютчев, может быть, лучше всех понимавший, что взрывать всё-таки надо, чтобы не жить лишь «в самом себе» и не мириться с тем, что «мысль изречённая есть ложь». Момент взрыва – особенный момент. «Чему дано произрасти? // И вновь крута реки излука. // Как страшно вдруг произнести // то, что пока ещё вне звука…» Момент взрыва сугубо индивидуален, непостижим, это подарок неба, он всегда нов, всегда свеж, всегда неповторим. На чём же зиждется он, похожий во всём на первую любовь, ежесекундно требующую новизны и доказательств? Ты прав: на импровизации, которая не уживается с догмами и несвободой. Столпы тоталитаризма ненавидели и ненавидят её, дарящую нам ЗВУК. И борьба их, нужно признать, приносила свои плоды. Навязанные ими вкусы, освящённая ими официальная эстетика делали своё дело, отвращали очень многих от этой музыки. Кому не доводилось наблюдать, как колтрейновский саксофон причиняет чуть ли не физическую боль человеку, воспитанному на сознании того, что «песня строить и жить помогает», что «она, как друг, и зовёт, и ведёт!»
Да это водится не только лишь среди наших «совков». Самоутверждение крупного, самобытного джазмена не обходится без страданий. Взрыв есть взрыв. Известно, что ударник Джо Джонс, чертыхаясь, протестуя против манеры молодого Чарли Паркера, швырнул с грохотом свои тарелки и убежал прочь. А Чарли, в свою очередь, признавался: «Я уже просто не могу переносить стереотипные гармонии…» У трубача Диззи Гиллеспи это чувство выразилось в куда более драматичной форме: он пырнул ножом приютившего его руководителя оркестра, который не выносил новшеств этого строптивца. Это классические примеры, говоришь ты. Идёт сражение за звук. Правда, в этом сражении далеко не все средства хороши. Есть музыканты, которые играют соло на фоне заранее составленной фонограммы, словно позабыв о старом добром способе «оплодотворения» джазовой идеи. Чтобы привлечь внимание публики, они выбирают вещи знакомые, ностальгические. Ну а партнёры… на кой они им, если имеется «alter ego», второе «я», если к услугам нашего исполнителя – фонограммка с «электроникой». Но их опередил Леонид Осипович Утёсов: вспомни хотя бы его пресловутый «разговор» с патефоном, на котором крутилась пластинка с репликами, предварительно записанными им же самим.
7
Ну, что ж, Алексей Николаевич, пора нам выпить по стаканчику «Лыхны». Давай за то, что мы уцелели, хотя жили по армейским законам нашей страны. И что здесь обкрадывали нас, я сообразил не в молодости, чуть позже, когда три раза подряд прочитал роман Джеймса Джонса «Отныне и вовек» (в первом, тогдашнем, издании он почему-то назывался «Отсюда и в вечность»). Помню, мы, солдаты-артиллеристы, лежали в ущелье под звёздами недалеко от Нахичевани-на-Араксе, а рядом с нами располагались гаубицы. Если бы кто-нибудь сказал нам, что нас обделили, мы бы просто не поверили. Духовно отъединиться друг от друга – это было в порядке вещей. Не могли же мы в сокровенную минуту, положив под головы скатки, петь строевые песни! Мы же, чёрт подери, не герои Джеймса Джонса. У тех были и ярость, и обида, и боль, и кое-кому из них на смерть предстояло идти, но их везде и всюду сопровождали и гитары, и труба, и они сходились, настраивались на музыку, которая им была очень нужна. Она их спасала, возрождала, возвращала им человеческое достоинство. Пели, к примеру, блюз «Шоферская судьба»:
Валит с ног усталость… дорога далека!.. И баранку крутит… шофёрская тоска… Ни семьи, ни дома… нечего терять… Грузовик, дорога… и тоска опять…Доиграв, переходили к следующему блюзу, «Красавице из Сан-Антонио», и все слушали, подпевали. Для чего они играли? Возможно, чтобы сохранить уютное тепло? У них были вещицы на все случаи жизни. Кончалась муштра, кончалась работа – и они садились в кружок. Блюз-то старый, а звук всегда свежий, взятый прямо из сердца и из воздуха, скрашивающий бытиё. Они играли «Сент-Луи-блюз», «Бирмингем-блюз», «Батрацкую судьбу», «Мемфис-блюз», «66-й маршрут», «Тысяча миль» – и каждый раз, по настроению, не так, как вчера, уже по-иному. Кларк вёл тему и пел, а Эндерсон давал себе волю в вариациях. Как сокол, прикованный цепочкой к перчатке охотника, вариации то залетали вперёд, то отставали от темы, то вились вокруг неё. То был джаз, «настоящий медленный негритянский джаз», именно такой исполнялся в пивнушках Бруклина, на Пятьдесят второй-стрит.
Здорово, говоришь ты, это великолепная иллюстрация того, что джаз неисчерпаем. В меня вселяет надежду мощная струя устной сферы в музыке, ведь если останется одна письменная музыка, она непременно превратится в мёртвую, как стала мёртвой латынь, на которой давным-давно никто не разговаривает. Большая Музыка пройдёт в своё будущее по джазовому мостику. Джаз спасёт ее. Кларки и эндерсоны постоянно будут искать свой звук, сходясь у своих костров, настраивая свою струну. Как раз такой звук и заворожил меня, когда вертелись пластинки моего братишки Славы. И не отпускал, произношу я с пониманием и солидарностью, не покидал тебя никогда, не давал покоя. Ты решал, как служить ему, как стоять на его страже. У тебя была тысяча причин, чтобы не стать человеком джаза. Альтист Жижи Грайс, говоря об одарённости Чарли Паркера, заметил: «Если бы он стал жестянщиком, то, уверен, и в этом деле он совершил бы нечто значительное». Примерно то же можно сказать о тебе.
Барабан опять слышится, прерываешь ты меня. Никакого барабана, спешу я отпарировать. Только факты. Кандидат в олимпийскую сборную страны по плаванию. Преуспевающий физик, инженер, изобретатель. Любимец самого Льва Давидовича Ландау и самого Андрея Дмитриевича Сахарова. Но, как известно, от судьбы не уйдёшь. Ты был приговорён к джазу. Дитю «оттепели», юноше с восторженным, но недоверчивым взглядом, как сказал Асар Эппель в предисловии к твоей повести «У каждого мальчика был отец», ничего не оставалось, кроме как стать бойким московским лабухом. Страсть как не хотелось жить по-прежнему, и это объединяло всех «шестидесятников». Именно в такие дни у тебя появился тенор-саксофон. Ты с ним не расставался, с ним ты вошёл в семью московских джазменов, о которых впоследствии напишешь в своих книгах – и напишешь не как сторонний наблюдатель.
Мне рассказывали очевидцы, как ты начинал, с каким энтузиазмом играл в оркестрах Министерства иностранных дел, а также в одном из закрытых НИИ, как тебя опекали их руководители – трубач, саксофонист, аккордеонист, аранжировщик Николай Артамонов и композитор, трубач Виктор Зельченко. Говорили и о том, как ты пристрастился к джаз-вокалу. Не умолчали о печальном для тебя дне (а произошло это в 59-м), когда ты заявил: «Всё, не буду больше выступать». Не светит, мол, стать звездой, выше себя не прыгнешь. Никакие уговоры не помогли. С сочувствием вспоминают, как ты сдал инструмент и ушёл из оркестра. А по ночам, конечно же, тебе снился звук…
Боже мой, откликаешься ты, какой звук! Безумно хотелось играть. Но меня не прельщала участь неудачника. Впрочем, был один великий неудачник, портрет которого нарисовал Пабло Пикассо, горемыка, о котором я всегда думал, как будто речь шла о родственнике, и которого напрочь забыло отечество. Ясное дело, говорю я, ты имеешь в виду Валентина Парнаха. Он перекликается с тобой из прошлого, потому что Провидением ему было поручено решить поистине сверхзадачу. Трудно представить себе более наивного человека, чем этот поэт, танцор, хрупкий эксцентрик, вздумавший вдруг оставить Париж и, как только в России пришёл конец гражданской войне, закупивший полную экипировку для джаз-банда (саксофон, банджо, ударная установка, набор сурдин и т. п.), севший вместе со всем этим добром в пустой вагон и отправившийся в Москву. Ну скажи мне, разве неведомо ему было, что Россию терзал Антихрист? Разве он был так слеп, что не углядел трагедии исхода из страны многих из тех, кого считали гордостью нации? Он ещё ходил в парижский «Трокадеро» на «Джазовых королей» Луиса Митчела, когда в Совдепии происходили события, о которых писал историк русского зарубежья Петр Ковалевский: «…покинуло Россию после революции 1917 года около миллиона людей. В мировой истории нет подобного по своему объему, численности и культурному значению явления».
Нет, возражаешь ты, всё это Парнах видел и понимал. Но он был помешан на джазе; именно он впервые написал слово jazz по-русски и вознамеривался открыть эту неслыханную музыку соотечественникам. Его ничего не останавливало. Окружающие обращали внимание на то, что Господь не наградил Валентина Яковлевича богатырским здоровьем. Рассматривая его фотографию, я с состраданием качал головой: до чего болезненным был этот веснушчатый еврей с рахитичным черепом – типичная жертва будущих освенцимов. Вместо того чтобы идти на смертельный риск, Парнах мог бы на берегах Сены заниматься литературным трудом. И небезуспешно, соглашаюсь я. Его сын, Александр Валентинович, давал мне читать рукописи и книгу отца, который в течение многих лет впечатляюще писал об инквизиции, переводил на русский язык произведения узников средневекового религиозного террора, уничтоженных либо за принадлежность к еврейству, либо за сочувственное отношение к нему. Парнах готовил академическое издание их стихотворений и поэм. Нет, конечно, от меня не ускользает то, что ты с некоторой долей иронии относишься к джаз-бандскому инструментарию Валентина Яковлевича, его исполнению экзотического танца «Жирафовидный истукан», выступлениям оркестра под его руководством, который, между прочим, сотрудничал с театром Всеволода Мейерхольда. Доля иронии? Это есть, признаёшься ты, но всё-таки я стремился уяснить, благодаря каким средствам Парнаху удавалось завладевать вниманием своих слушателей, зрителей и читателей. Особенно потрясло меня, что у него необыкновенно сильна вера в бессмертие звучащей музыки – именно звучащей, а не зафиксированной в нотном письме. Находки этого первопроходца сенсационны. Это и посвящённые новой музыке абсолютно новые слова, новые ритмы стихотворных фраз, небывалые аллитерации, это и фантастическая прозорливость его теории джаза, его предсказаний.
Удивляет и то, что Валентин Яковлевич добивался своего, преодолевая, казалось бы, непреодолимые барьеры. Ему приходилось, волей-неволей, участвовать в работе «Пролеткульта», чтобы отстоять своё любимое детище. Занятие, прямо скажем, на грани стресса. Принимал он участие и в официальных карнавальных шествиях на Сельскохозяйственной выставке, опять же невольно подыгрывая вкусам люмпена. Да и оркестр его не становился более профессиональным, частенько не справлялся с джазовыми мелодиями, проваливался. Бывало, что начальство велело играть музыку не «заграничную», а сочинённую, допустим, «товарищем Карташёвым», товарищем проверенным и идейно непорочным. К тому же консерватория возмущалась по поводу парнаховских экспериментов. Безобразие, мол. И уже к середине двадцатых годов энтузиазм российского джазового пионера иссяк.
8
А что, спрашиваю я, джазу в СССР тогда грозила смертельная опасность? Отнюдь, отвечаешь ты. Ведя своё «расследование», я обнаружил крайне любопытный факт. Оказывается, летом 1924-го оркестрик Парнаха играл для делегатов V конгресса Коминтерна, включив в свою программу целый ряд джазовых боевиков. И делегаты горячо приветствовали это выступление. У них были свои далеко идущие планы. Они ждали от американских коммунистов доклада о готовности заложить фундамент для присоединения к Советскому Союзу некоей «республики» на юге США в так называемом Чёрном Поясе, где без джаза не представляли себе жизни. Книги, которые я доставал, свидетельствовали, однако, об иных реалиях. Скотт Фитцджеральд помог мне по-новому посмотреть на начало XX века с его войнами и революциями, надеждами и разочарованиями, острыми переживаниями рубежа старого и нового времени, всем тем, что породило неведомый доселе тип людей, превративших двадцатые годы в джазовую эпоху. Я словно бы видел их перед собой, этих людей, безумствовавших во имя эмоциональной раскрепощённости, отказывавшихся играть по нотам, дерзких и далеко не всегда счастливых. «Нам хотят вытереть сопли белоснежным носовым платочком, – говорили они, – а мы плюём на чопорность и сдержанность официальной культуры». Конечно, можно было и посмеяться над комедией, разыгранной американскими и советскими прохвос тами-«теоре тиками» на потребу Коминтерна, можно было и назвать шизофренией их желание разделить джаз на буржуазный, коммерческий, сладенький, пресный – с одной стороны, и пролетарский, горячий, с перчиком, близкий по духу блатному одесскому фольклору – с другой. Можно позлословить и по поводу идиотизма Кремля, проглотившего эту «утку». Но для меня уже в пору моей молодости важно было взять это на вооружение, потому что я поставил перед собой почти недостижимую цель – открыть джаз-клуб, и сознавал, какое сопротивление встречу. Следовало иметь на руках «теоретические» козыри (вроде ленинской концепции «о двух нациях и двух культурах в буржуазном обществе»), чтобы бить идеологических тузов.
Твои козыри сработали, восторгаюсь я. Ещё как сработали! – подтверждаешь ты. И слава Богу, что наш праздник в тот августовский день освятили лихие ребята Идриса Сулеймана. Мы чувствовали себя в тот день именинниками. Нам подфартило.
Был во всём этом и некий комсомольский уклон, да тут уж ничего не попишешь. Старались не обращать внимания. «Эстафетную палочку» получили из рук нью-йоркского квартета, а не из райкомовских. А что, спрашиваю я, солидные дяди вас не беспокоили?
Ну как же, говоришь ты, ведь они отвечали за «ниву культуры», они опекали нас, душой болели, чтобы «сопливые мальчишки» не озорничали, они не скупились на советы и наставления, которые попахивали нафталином.
Ну и мальчишки, говорю я, все как на подбор! Ненавижу перечисления, но сейчас готов сделать исключение, ведь какие имена! Тромбонист Константин Бахолдин, саксофонисты Сергей Березин, Георгий Гаранян, Алексей Козлов, братья Геворгяны – пианист Женя и контрабасист Андрей, ударники Валерий Буланов, Александр Гореткин, трубач Владик Грачёв, пианист Николай Громин, кларнетист Александр Зильбершмидт. Был и Игорь Берукштис, которого потом объявят политическим перебежчиком. У них, у этих ребят с Раушской набережной, пришедших на открытие долгожданного своего клуба, было всё впереди – находки и потери, взлёты и падения, известность и забвение, родина и чужбина, музыка и какофония.
Жизнь, вспоминаешь ты, всё-таки не скупилась на улыбки. Чем не Событие – Всемирный IV фестиваль молодёжи и студентов в Москве. Каждый день – дискуссии о путях и судьбах джаза. Я встречался с гостями фестиваля – биг-бэндом Мишеля Леграна, польским секстетом Кшиштофа Комеды, австралийским диксилендом «Южный крест», итальянским ансамблем «Нью-Орлеан Рома», исландским квартетом Гунара Ормслева… Вот тогда-то я и оценил песенку из музыкального ревю, написанную Айолой и Дэйвом Брубеками и спетую Луи Армстронгом:
Теперь Госдепартамент ценит нас: Ведь лучший контактёр сегодня – джаз. Что джазовые ритмы для людей? Мы с ними стали ближе и родней. «Обмен культурный» – это ли не джаз!9
Вот мы с тобой, говорю я, дуэтом исполняем мою работу – и мне становится всё яснее, почему ты стал музыковедом, джазовым писателем. Добывая хлеб свой насущный инженерским и изобретательским трудом, выставляясь на ВДНХ, ты как критик никем не ангажировался, на вопрос: «Вы от кого?» спокойно отвечал: «От самого себя!», мог позволить себе постигать «свободное искусство свободных людей». И признаюсь тебе, я очень жалею, что не посещал твои уроки, когда ты был преподавателем в Московской джазовой студии во Дворце культуры «Москворечье», где возглавлял кафедру всемирной истории музыкальной импровизации, читал курс гармонического ориентирования. Право, жалею, может быть, мы бы уже тогда «стали ближе и родней», как пел Сачмо. Я бы по-братски обнял и расцеловал тебя, узнав, что ты вместе с самим Уиллисом Канновером награждён польским орденом Культурной Заслуги. Уиллис, говоришь ты с особенным выражением, и я понимаю, почему ты так говоришь, с ним я сблизился в 67-м на Таллинском джазовом фестивале, куда он приезжал со своей женой Ширли, красавицей и умницей. Они здорово смотрелись. В Нью-Йорке они жили около Центрального парка. Раз в неделю Канновер ездил дня на три в Вашингтон и готовил там девятнадцать программ, в основном для «Голоса Америки». Попутно заезжал на Росслин-стейшн в Арлингтоне, на почту, чтобы забрать свою корреспонденцию.
У него была колоссальнейшая коллекция джазовых дисков. Когда он перевозил её в Вашингтон, пришлось заказывать трейлер. Уиллиса, начавшего свою деятельность на праздничном вечере в канун Нового, 55-го, года, сделало знаменитым среди американцев эхо широчайшей известности в Восточной Европе. Мало кто знал, что он был поэтом, написал триста прекрасных лимериков, один остроумнее другого, в основном посвящённых джазу. Мы встречались с ним – и он читал мне новые свои стихи. Он говорил тебе, спрашиваю я, что у тебя на родине всё будет о’кей, так ведь? Так, отвечаешь ты, он был оптимистом. Ему было невдомёк, что у нас не перевелись ответственные лица, разделявшие тревогу, которая прозвучала в 67-м в газете китайских коммунистов «Женьминь жибао»: «Ныне в Советском Союзе полный разгул джазовой музыки. Советская ревизионистская печать заявляет, что советский джаз не уступает западному. Это поистине верх подлости!» Никакого «разгула», извинившись, прерываю я тебя, не наблюдалось, но «ревизионисты» действительно были, и первым среди них считали именно тебя. Это отчётливо наблюдалось на заседании Комиссии эстрадно-инструментальной музыки Московского отделения Союза композиторов РСФСР, которая 13 января 1969 года обсуждала твою уже подготовленную издательством «Музыка» к печати монографию «Советский джаз». Такой книги у нас никогда не было. Но её ждали. И как ждали! В мире вообще обострился интерес к джазовым изданиям, за которые брались чаще всего люди «со стороны», без специального образования, зато фанатично преданные предмету своей страсти. Немногим известно, что популярный американский хоккейный обозреватель Айра Гитлер неожиданно сменил «ориентацию» и стал не менее популярным джазовым критиком. Правда, в Штатах недостатка в таких писателях не ощущалось. А вот в странах «социалистического лагеря»…
Но тут необходимо уточнение. В Польше, Чехословакии, Венгрии и ГДР кое-какие послабления всё-таки были. Обратимся хотя бы к судьбе твоего старшего друга – Юзефа Бальцерака. Флотский офицер, участник второй мировой войны, тяжело раненный в одном из боёв, он, обосновавшись в мирной жизни, начал изучать историю джаза, писать о нём. Его работы привлекали внимание очень многих поклонников джаза, никому и в голову не приходило, что у пана Юзефа нет музыкального образования. Его квартира напоминала джазовый музей, где первое место занимали специальные энциклопедии, книги, альбомы, фотографии, грампластинки, письма кумиров – как раз то, что положило начало журналу «Джаз», выходившему с 1956 года в Гданьске. В шестидесятых редакция переехала в Варшаву и обосновалась в одном из помещений оперного театра. Бальцерак сделался заметной фигурой. Элегантный, утончённый, французистый, с хорошо посаженной головой и волнистыми волосами, он производил на окружающих самое выгодное впечатление. Вторым сотрудником редакции была его супруга – пани Станислава. Вдвоём они выпускали журнал, который широко расходился и в Польше, и за рубежом. В Советском Союзе за ним охотились, спешили выписать его на почте. По этому журналу люди учили польский язык. Польские журналы вообще пользовались у нас необычайным спросом, потому что несли информацию, которую нельзя было отыскать ни в «Правде», ни в «Известиях», ни в «Комсомолке». Это и привело к появлению на телевидении «Кабачка «Тринадцать стульев»» – пожалуй, самой любимой у телезрителей программы.
Но одно дело – Польша, другое – СССР. Столпы советской культуры «сурово насупили брови», когда возникла твоя монография о советском джазе. Они никак не могли не знать, что о тебе ходили легенды. В Штатах твоё имя вызывало изумление и любопытство. Прошёл слух, что с тобой захотел познакомиться сам Леонард Фэзер – автор знаменитейшей джазовой энциклопедии. Захотел, восклицаешь ты, и не стал откладывать дело в долгий ящик: он разыскал меня еще в 62-м, предложил дружбу, ходил ко мне в гости. Вот-вот, говорю я, а помимо того, было известно, что к тебе потянулись и польские мастера джаза, которые в ту пору развернули небывалую активность и которые, кстати, помогли выпустить у себя на родине (тоже в 62-м) пластинку секстета Вадима Сакуна под названием «Господин Великий Новгород». На оборотной стороне альбома было напечатано посвящение: «Баташёву – музыканту и знатоку, которому советские джазмены очень обязаны». В этот секстет, кроме пианиста Сакуна, входили трубач Андрей Товмасян, саксофонист Алексей Козлов, гитарист Николай Громин, контрабасист Игорь Берукштис и ударник Валерий Буланов…
10
Заговорили о твоём праве на вступление в Союз композиторов. Заговорили, я бы сказал, настойчиво. Горячо отстаивая это право, доктор искусствоведения Валентина Джозефовна Конен, автор нашумевшей книги «Пути американской музыки», писала о тебе как о «выдающемся деятеле в сфере джаза», «талантливейшем, смелом, упорном пропагандисте джаза и организаторе», доказывала: «Ему больше, чем какому-либо другому музыковеду, обязаны мы тем, что джаз в нашей стране не угас в годы гонения на него, а развился в искусство, находящееся на мировом уровне»; что же касается монографии «Советский джаз» и твоих многочисленных работ и статей, то, по мнению Конен, они отличаются «глубоким и тонким пониманием джазовой специфики и самостоятельным мышлением…».
Итак, прения начались, и уже с первых минут стало ясно: на пути монографии выставлен мощный заслон. Четверть века спустя, рассуждая о том, откуда берётся свинг, ты в шутку скажешь: «Да, ребята, джаз – дело тёмное». У членов комиссии же никаких сомнений, в общем и целом, не было. Едва ли не в первом выступлении ты услышал до боли знакомое:
– В этой книге дважды появляется имя политического перебежчика Берукштиса. Неужели автор не сознаёт, что его «объективность» в данном случае совершенно неуместна?
А чуть позже:
– Находясь во власти тенденциозных, узкогрупповых взглядов, он ещё больше запутал и без того сложные явления в советском джазе 30-40-50-х годов. Книга эта антиисторична, неверна по своей методологии.
А кроме того, доказывалось:
– Автор злоупотребляет иностранными терминами. Если есть в русском языке достойная замена, лучше не употреблять иностранных витиеватых слов.
Били прямой наводкой.
– На кого рассчитана книга, кому она адресована? Если её будут читать любители музыки, которые не очень знакомы с теорией музыки, то она им ничего не даст. Если же её будут читать знающие музыканты, то, надо сказать, что таких музыкантов не очень много. Одна из самых неприятных ошибок автора – это его кредо: «В настоящее время джазовая музыка достигла такого уровня, на котором она смогла выйти за узкие рамки эстрадно-развлекательного жанра».
Воспитывали:
– Работая над книгой об истории советского джаза, надо прежде всего исходить из идейных, социальных и национальных различий…
Особенно бескомпромиссной была критика в твой адрес в связи с тем, что ты посягнул на статью «О музыке толстых»:
– Что бы ни цитировал Баташёв как негатив, как вредное по отношению к жанру джаза у того же Горького, цитата, которую Баташёв хотел взять себе в помощь, чтобы убедить читателя, в моём представлении бьёт обратно по Баташёву!
Да, говоришь ты, мой выпад против статьи Алексея Максимовича просто вывел из себя многих членов комиссии. А у меня к нему были весьма серьёзные претензии. Я ещё школьником недоумевал, ради чего Алексей Пешков отказался от своего имени и от своей фамилии. Тебе же известно, какое значение я придаю цепочке от сыновей к отцам и от отцов к дедам, которая уходит в бесконечное прошлое, уходит, никогда не прерываясь. И я считал, что Горький, пойдя на такой шаг, предал своих родителей, предал своих предков, отсёк свои собственные корни. Меня подмывало спросить членов комиссии, вставших стеной на его защиту: «Откуда имя Максим? От максимализма? Но почему, уважаемые вершители судеб, „Горький“, а не „Злобный“? Разве от его иных страниц не веет злобой, взращённой комплексом неполноценности? Разве не передалась она, эта злоба, и вам, и не только вам?»
Меня приводило в негодование то, что даже ребятишек, не имевших никакого представления о джазе, заставляли наряду с «Челкашом» и «Буревестником» учить это «нетленное» горьковское произведение. В нём, вмешиваюсь я, редкостная фрейдистская ярость и одновременно беспомощность, удручающая недостоверность: «…вдруг в чуткую тишину начинает сухо стучать какой-то молоточек, – раз, два, три, десять, двадцать ударов, и вслед за ними, точно кусок грязи в чистейшую, прозрачную воду, падает дикий визг, свист, грохот, вой, рёв, треск…». А что удивляться, разводишь ты руками, слух у Горького был отвратительный, о чём свидетельствовали люди, неплохо его знавшие. Создать точный музыкальный образ он был не в силах. Этот «молоточек» – ни к селу, ни к городу. Выдумка.
А вот ещё перл, обращаю я твое внимание: «…весь этот оскорбительный хаос бешеных звуков подчиняется ритму едва уловимому, и, послушав эти вопли минуту, две, начинаешь невольно воображать, что это играет оркестр безумных, они сошли с ума на сексуальной почве, а дирижирует ими какой-то человек-жеребец, размахивая огромным фаллосом». А известно ли тебе, спрашиваешь ты, что в этом месте в поздних публикациях фраза обрывалась и ставилось многоточие? Должно быть, издателям было неловко за Алексея Максимовича, и они пришли ему на выручку. Насчет фрейдистских штучек ты верно заметил. Здесь действительно «сексуальная почва» наличествует. И «безумство» имеется. Но в данном случае возникает подозрение, что оно поразило самого автора. Атакуя ненавистный ему джаз, напоминаю я, он обрушился даже на радио. Естественно, говоришь ты, ведь оно транслировало джаз. Вот как рубит с плеча Буревестник Революции: «Это – радио, одно из величайших открытий науки, одна из тайн, вырванных ею у притворно безгласной природы. Это радио в соседнем отеле утешает мир толстых людей, мир хищников, сообщая им по воздуху новый фокстрот в исполнении оркестра негров». Во-первых, каким образом он определил цвет кожи у джазменов? Во-вторых, откуда эта жестокость по отношению к природе? Молодец, мол, наука, насилующая сию притворщицу! Далеко ли отсюда до сталинско-мичуринских приказов: «Мы не можем ждать…»; «Взять их!» И, в-третьих, как автор столь «подробно» услышал радио, работавшее в недрах соседнего отеля?
Тебе было досадно не из-за одного себя. С помощью таких вот «профессионалов» перед «тлетворным влиянием буржуазной эстрады» был намертво опущен шлагбаум, хотя кто-кто, а они обязаны были знать, что к семидесятым годам в США насчитывалось 43 миллиона человек, умевших играть на музыкальных инструментах. Или их не занимало, откуда там тысячи инструментальных ансамблей, вплоть до духовых и симфонических оркестров в школах, университетах, просто по месту жительства, тысячи вокальных трио, квартетов, всевозможных хоров, джазовых коллективов, откуда красота, органичность и глубина гармоний и мелодий, такое качество музыки? И ты пришёл к горькому выводу: «В результате мы оказались лишёнными высококалорийной музыкальной пищи, что привело, увы, к признакам музыкальной дистрофии».
11
Но ты добился-таки своего! В 1972-м книга вышла. Чешский писатель-музыковед, автор множества работ, посвящённых джазу, Любомир Доружка откликнулся на это событие в пражском журнале «Мелодие» следующим образом: «Удивительно обширен материал, помещенный на 165 страницах текста. Он свидетельствует о том, что Алексей Баташёв провёл сотни часов в архивах, делая выписки из старых газет и журналов, просмотрел ворох программ и афиш того времени, не раз и не два брал интервью у ветеранов и нынешних представителей советского джаза, а затем тщательно переписывал их с магнитофонной ленты на бумагу. Пятьдесят лет советского джаза отражены в книге Баташёва в четких исторических рамках. Пионеры, основатели советского джаза и их последователи проходят перед нами как самостоятельные, ярко обрисованные фигуры. Но, вероятно, ещё более интересным и поучительным, нежели факты исторические, представляется «второй план» книги. Судьба джаза на его родине нам хорошо известна. Она описана очень подробно. Однако что же сталось с джазом, очутившимся далеко от родной почвы, в совершенно иных условиях, в том числе в условиях других национальных традиций? Какое лицо приобретал джаз в атмосфере времени, рождающего новые черты социалистического общества, подвергающего переоценке всю культуру в целом? Именно с этой точки зрения книга Баташёва ценна фактами, которые могут быть полезными и для нас». Любомир Доружка попал, что называется, в нерв. В этой книге, моментально исчезнувшей с прилавков, был самый настоящий мир богемы, мир несогласия, мир, которому чужды инструкции и указания.
Войдя в этот мир, я вдыхаю воздух первой половины двадцатых годов, получаю возможность побывать в Ленинграде, в теперешнем ресторане «Кавказский» и в театре «Летучая мышь», где выступал квинтет Эдуарда Корженевского и где присутствующих поражали пиротехническими эффектами: из раструба саксофона неожиданно вылетал фейерверк цветных бенгальских огней, освещая полутёмный зал всеми цветами радуги. Мне выдаётся пригласительный билет на премьерный концерт «Ама-джаза» под руководством совсем ещё юного Александра Цфасмана в Артистическом клубе – предтече ЦДРИ; вместе с молодым дирижёром Леопольдом Теплицким я лечу в командировку в Нью-Йорк, чтобы изучить музыку для иллюстраций к немым фильмам. С действующими лицами твоей книги я попадаю и в тридцатые годы. Надо ли уточнять, какими они были? Но тем не менее я вижу, как оркестр Александра Варламова, никого не страшась, равнялся «на заграницу», строил репертуар в расчёте на какого-нибудь крупного солиста; как в ресторане ленинградской гостиницы «Европейская» дебютирует джаз-оркестр первоклассного трубача Якова Скоморовского; как на афишных тумбах северной столицы пестреют рекламы лекций-концертов «Джаз на Западе»; как «весёлые ребята» Леонида Утёсова, влившиеся в «массово-песенное творческое движение» и подчинившиеся требованиям жанра эстрадного (!) ревю, ходили в кинотеатр «Колизей» слушать настоящий джаз – и было чему там завидовать: те, кто не сдался, делали всё, что хотели…
Книга предлагает мне пройти с джазменами «по путям-дорогам фронтовым», затем приводит меня в послевоенную Москву, в ресторан «Метрополь» и заставляет любоваться обосновавшимся там джазовым ансамблем, улавливать в игре музыкантов то филигранный стиль Тедди Уилсона, то манеру Коулмена Хокинса, то почерк Бена Уэбстера, то залихватские нотки Джимми Дорси. Не прохожу я и мимо Измайловского парка, на эстрадной площадке которого можно было услышать в добротном исполнении пьесы Дюка Эллингтона, Гарри Джеймса, Бенни Гудмена… О твоей книге заговорили. Повсюду слышалось: «Баташёв… Баташёв… Баташёв». На вечере в честь пятидесятилетия нашего джаза твоя монография в скромной голубой обложке нарасхват раскупалась внизу, в фойе, но для официальных лиц, для Союза композиторов тебя не существовало, они плевать хотели на твою заповедь: «Джаз – это способ поумнеть».
Умнеть не желали. Это лишний раз доказал приезд в Советский Союз в 75-м великого Оскара Питерсона вместе с Нильсом Педерсеном и Джейком Ханной. Есть несколько публикаций, где рассказывается о том, что произошло. Но первым, «по горячим следам», эту драму описал в статье всё-таки ты. Не забыл? Как же, откликаешься ты, попробуй забыть тот ноябрь, ту живую и волнующуюся очередь к кассам Театра эстрады (известные музыканты из государственных оркестров, джазмены, музыковеды, работники редакций, студенты, изучающие джаз), те противоречивые слухи: «Разрешат. Не разрешат. Приедет. Не приедет», ту печальную шутку: «Если бы сотрудники КГБ или милиции в три часа ночи приехали сюда и арестовали всю очередь, то с советским джазом было бы покончено раз и навсегда», те закономерные и тоже грустные предположения: «Билетики-то налево уйдут», «А куда же ещё, вон сколько «нужных людей», сколько секретарш, и жён, и любовниц, и торгашей». В те часы я думал и о бедолагах, которые пытались из разных отдалённых уголков страны поскорее примчаться в Москву, чтобы как-нибудь проникнуть на концерт или хотя бы из толпы фэнов поглядеть на своих любимцев. Действительность превзошла самые мрачные ожидания. Я был представителем международного журнала «Джаз Форум», и всё разворачивалось на моих глазах. Я встречал самолёт, на котором прилетел маэстро, планировал пригласить легендарное трио в гости к нашим джазменам – на неофициальный приём. И поразился – так были огорчены и хмуры Питерсон и его менеджер Норман Гранц. Посуди сам: представители Госконцерта на горизонте и не возникали! Оскар намеревался заявить им, что его доконало качество концертных роялей, предоставленных ему для выступлений в Ленинграде и Таллине. А тут ещё не совсем ясно было, какой отель приготовили прославленным музыкантам. Менеджер не очень-то любезно сказал: «Это что, нормальная ситуация? И вы считаете, что мы обязаны бежать по первому приглашению на какой-то подпольный концерт?» О финале этой истории знает весь мир. Питерсону и его команде были забронированы не апартаменты со «Стейнвэем», а третьеразрядная гостиница «Урал», которая неожиданно стала широко известной. Чего не скажешь о твоей статье «Оскар Питерсон, Норман Гранц и другие», говорю я. Хотя ты написал ее одним духом, без черновиков и правок, вечером того же дня. В ней ощущается даже прохлада ноябрьской ночи. Что же случилось с ней? Обычное дело, отвечаешь ты. К ней у нас отнеслись как к «заведомо ложным измышлениям». Опустился тот же самый шлагбаум. И тогда я решил послать свои впечатления от несостоявшегося концерта кумира нашей джазовой молодости в журнал «Джаз Форум», в Польшу, где были хоть какие-то либеральные лазейки в «народно-демократических» порядках. Но цензура и здесь оказалась бдительной, проявила «братскую солидарность». Так что статья ходила в польском самиздате.
Я прочитал её, говорю я, но, конечно, не в польском варианте, а в брошюре «Джаз для юных пианистов», выпущенной АО «Астра семь» тиражом всего-навсего пять тысяч экземпляров. И я позволю себе процитировать фрагмент из предисловия к статье: «Много лет спустя, уже в конце 80-х, будучи в Нью-Йорке, я купил за 55 долларов билет, чтобы послушать Оскара Питерсона в клубе „Блю Ноут“. С ним тогда были Рэй Браун, Бобби Дурем и Херб Эллис. Старик был уже не в той форме и в быстрых вещах, случалось, мазал. Хотя дай Бог так «мазать» его многочисленным подражателям! Его свинг, поющие и пляшущие фразы, его энергия, вся его музыкальная туша неслась, как атомный ледокол, и через два часа МОЯ рубашка была мокрой от пота. Ещё спустя час ожидания у двери артистической я попал к маэстро, мы вспомнили те два московских дня, и он выразил вежливую надежду, что ещё поиграет в Советском Союзе. Но стране с этим названием не суждено было дождаться одного из величайших пианистов XX века. Слава Богу, теперь в России выходят нотные записи музыки, рождённой его гениальными пальцами».
Я беру, продолжаю я, теперь уже старые, кажущиеся музейными (рядом с компакт-дисками) виниловые пластинки фирмы «Мелодия», «пластмассу», как мы острили, и читаю на оборотных сторонах альбомов твои аннотации. Это даже больше, это эссе-миниатюры, и их было за сотню. Это был новый жанр – «текст в трёх миллиметрах от музыки». Где ты странствовал в то время? Меня, отвечаешь ты, приглашали в Беркли, в лучшее джазовое учебное заведение. По контракту с 88-го по 92-й читал лекции в Вашингтоне, Новом Орлеане, Солт-Лейк-Сити, Ферренксе. Некоторые американские университеты предлагали постоянную работу. Горжусь, что я был одним из учредителей Международной джазовой федерации.
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич, говорю я, в каком-то телевизионном интервью назвал тебя марсианином. Может, оно и так, но нужно быть настоящим землянином, чтобы взвалить на себя обязанности председателя Координационного совета Союза литераторов РФ. Ты – автор проекта закона «О творческих работниках литературы и искусства». Ты, почти тридцать лет отдавший науке и промышленности, имевший рабочий день с восьми до пяти, два выходных в неделю и ежегодный отпуск, – ходатай перед Федеральным Собранием, представитель собратьев, которые за письменным столом – с утра до вечера, без выходных, без оплаченного отпуска, без всяких трудовых прав. Ну а как иначе, негодуешь ты, будто никто не слышал о ежедневном, порой многолетнем труде (стоя босиком, хотя и при семейном подряде супруги-переписчицы) над рукописью или партитурой. Если художник тридцать лет пишет «Явление Христа народу», то он трудящийся или нет? Временно неработающий Пётр Ильич Чайковский, живи он в наше время, трудовой пенсии не получил бы. А временно неработающий Баташёв А. Н., говорю я, совсем недавно представил Российскому Фонду культуры грандиозный проект «Джаз в России» – цикл концертов с комментариями. Точно, представил, молвишь ты, и в концертах согласились принимать участие корифеи и те, чьи имена пока мало что говорят.
А теперь, замечаю я, пора переходить к концовке главы, пора сказать о твоей квартире в трёхэтажном доме неподалёку от Солянки, где всё – как у пана Юзефа Бальцерака, но и не совсем так, где каждый предмет, каждая мелочь говорит о джазе – и файлы в компьютере, и книжные шкафы, и груды журналов, нот, альбомов, и коллекция редчайших пластинок с дарственными надписями музыкантов и композиторов, и прогибающий деревянные полки архив, и стены, заполонённые воистину историческими снимками, и письма друзей: «Привет, джазмен!» Мы пьём кофе в твоём кабинете; вечером нам предстоит встретиться в ЦДЛ с одним нашим другом – писателем и джазовой душой. Тебе не хватает времени, но ты не жалеешь его для близких, для юных покорителей джазовых вершин, которых ты ищешь, находишь и выводишь к зрителям в своей программе «Джаз-пик Алексея Баташёва».
Ну какой же ты марсианин, а? Увенчанный и обласканный, битый и непобеждённый, спортсмен с «бабочкой» на белейшей сорочке, ты всё тот же пижон с детской, застенчивой улыбкой.
Глава 7. На божественном уровне горя и слёз
Один воскликнет нагло и хитро: – Да, сотворил я зло, но весом в атом! Другой же скажет с видом виноватым: – Я весом в атом сотворил добро. Семён Липкин1
Семёна Израилевича Липкина поначалу я знал «издали». Межиров сказал мне, что это олимпиец, а такими словами направо и налево он никогда не бросался:
– Я вас представлю ему – вот только будет подходящий случай.
Но получилось иначе: меня с С.И. познакомила моя давняя, ещё со времён Литинститута, подруга поэтесса Инна Лиснянская, ушедшая к нему от своего первого мужа Григория (Годика) Корина, о котором я расскажу чуть позже. О любви Липкина и Лиснянской ходили легенды. Кто-то осуждал их, кто-то благословлял, а секции поэзии Московского отделения СП событие это было вообще «до лампочки»: там кипели иные страсти (нетрудно догадаться – какие) – достоевщина, одним словом. Годик горевал, даже пристрастился было к выпивке, но, сидя со мной за столиком в ЦДЛ, не осуждал Инну, не проклинал её и признавал, что там, у них – настоящая, большая любовь:
– Давай выпьем за них. За то, чтобы им обоим повезло.
А на глазах у него – слёзы.
Липкин, как я понял, ликовал, он так и писал в ту пору: «…Склонясь, я над тобой стою. И, тем блистанием палимый, вопрос, ликуя, задаю: – Какие новости в раю? Что пели ночью серафимы?»
Дела его литературные шли из рук вон неважно: не печатали, соглашались только на переводы с языков народов СССР. Поэтому в стихотворении «Любовь», говоря о неком гончаре (иносказательно), он признаётся: «И вдунул он в растерянности чудной своё отчаянье в её уста, как бы страшась, чтоб эта пустота не стала пустотою обоюдной». А далее – взрыв: «И гончара пронзило озаренье, и он упал с пылающим лицом. Не он, – она была его творцом, и душу он обрёл, – её творенье».
Такой счастливой до этого я не видел Инну никогда. Их любовь стала сквозной темой её стихов, стала причиной создания «Гимна», пронзительного лирического цикла, который посвящался неожиданному чуду в их жизни.
У тебя в глазах вековечный растаял лёд, У меня в глазах вековая застыла темь, По-научному мы как будто – с катодом анод, По-народному мы – неразлучны, как свет и тень. Я – жена твоя и припадаю к твоим стопам, — Увлажняю слезами и сукровицей ребра, Из которого вышла, а ты, мой свет, мой Адам, Осушаешь мой лоб, ибо почва в лесу сыра…Она дала мне экземпляр перепечатанных на пишущей машинке стихов Липкина, подготовленных им для… первого сборника (почему первого – объясню потом). Кроме того, показала книгу Анны Ахматовой «Стихотворения» (М., 1961) с потрясшим меня автографом: «С. Липкину, чьи стихи я всегда слышу, а один раз плакала»[40]. Оказывается, отношения Липкина с Ахматовой были давними[41] и отличались нежной заботой друг о друге и доверительностью. Об этом прежде, сознаюсь, мне не было известно.
Более или менее вооружённый, я, наконец, встретился с С. И. Олимпиец оказался довольно среднего роста, приземистый, не красавец вовсе, ничего богатырского, – но ведь это он, а не кто-то другой хлебнул войны полной мерой. В мемуарах им сказано: «Если не считать той мелочи, что я остался в живых, мне на войне не везло. Я её начал на Балтике, а там меня послали в морскую пехоту – в качестве корреспондента, конечно, но понимающие люди знают, что такое морская пехота на Ленинградском фронте. Пережив несколько месяцев блокады, я был временно откомандирован для работы среди войск нерусской национальности в 110-ю кавалерийскую калмыцкую дивизию, в июле 1942 года мы попали в окружение в районе Мечетинской, больше месяца наш разрозненный отряд блуждал в степях по немецким тылам, мы вышли из окружения в районе Моздока в августе, а потом я был направлен в Сталинград, в Волжскую военную флотилию, в труднейшую пору Сталинградской битвы находился на борту канонерской лодки «Усыскин», которая погибла; приходилось на бронекатерах переправляться и на правый берег, к полковнику Горохову на Рынок, и в родимцевский штаб в трубе. Однако все мои действия не были результатом моей личной смелости. Я не могу сказать о себе, что рвался в бой, – я просто подчинялся приказам…» Никакой патетики. Только не ясно разве, что за всем этим?
С. И. в общении не пытался произвести впечатление (ведь ему это было совсем ни к чему), зато поражал естественностью, чувством собственного достоинства, каким-то внутренним, загадочным огнём, который он, возможно, имел в виду, когда рождал строки:
В солнце я искал огонь, я искал огонь в кремне, В древних свитках так искал, что глаза почти ослепли. На исходе жизнь моя, и теперь открылось мне: Высшей мудрости огонь отыщу я только в пепле.Сразу же улавливалась глубочайшая погружённость Липкина, энциклопедиста и блистательного переводчика, в восточную философию и литературу.
Он не столько отвечал на многочисленные мои вопросы, сколько расспрашивал обо мне, его интересовала моя жизнь в Грузии, в Тбилиси, в Будапеште, уточнил: не мешает ли служба моей работе над стихами и переводами. И сказал с твёрдой уверенностью:
– Думаю, вы будете сочетать поэзию и прозу. Мне по душе ваши рассказы. Но вам нужно поскорее уходить в отставку: творчество требует полной независимости и свободы во времени и пространстве. – И обратился к Инне: – Покорми нас с Володей. – А затем – ко мне: – Инночка прекрасно готовит.
2
…Тропки переделкинского Дома творчества. Они совсем не те, что сейчас. Тогда всё было по-другому. Атмосфера была другая. Аура, как теперь говорят. Ощущалось дыханье Бориса Леонидовича Пастернака, потому что все деревья, все кусты со всей своей листвой притворялись его бессмертными строчками. Едва ли не каждое утро в те дни мы вдвоём выходили часов в семь из своих коттеджей (своей дачи у Липкина и Инны ещё не было). Семён Израилевич, как всегда, – с узловатой и отлакированной палкой, в неизменной бейсболке. Он улыбался. Если всходило солнце, то – ему, солнышку, а если накрапывал дождик, то и дождику. Вначале мы выходили из ворот за новым корпусом и по улице Серафимовича шли к даче Леонида Леонова, а то и дальше, к дачам Вениамина Каверина и Александра Межирова. Сперва его хватало на то, чтобы на ходу читать стихи – не свои, чужие (правда, понемножку), чаще всего – земляка своего Эдуарда Багрицкого, особенно гениальную поэму «Февраль» (вернее – отрывки из неё). До сих пор слышу его голос, смакующий строчки:
…Я, как сомнамбула, брёл по рельсам На тихие дачи, где в колючках Крыжовника или дикой ожины Шелестят ежи и шипят гадюки, А в самой чаще, куда не влезешь, Шныряет красноголовая птичка С песенкой тоненькой, как булавка, Прозванная «Воловьим глазом»…В «Феврале» Багрицкого, когда поэма попала ко мне от того же Липкина, я уловил знакомую музыку и сразу догадался, где она звучит: ну конечно же, в его «Технике-интенданте», тоже гениальной поэме; звучит она всё-таки по-своему, потому что вся, до краёв, переполнена жизнью, бытом – фронтовым и случайным захолустно-мирным, но подспудную родственность ощутить нетрудно. Здесь явная интонационная перекличка, которая не в состоянии перечеркнуть того, что отмечала критика, – новизны, своеобразия. И я процитировал вслед за С.И.:
Ты пьян от вина, от вкусной базарной еды, От весны, от ожиданья чего-то чудесного, От того, что ты в городе, где есть вино и бульвары, Где нет под тобой – седла, пред тобой – врага, Над тобой – начальника, нет ковыля и полыни. Вот сейчас Ты задумчиво спрыгнул с открытой площадки трамвая, Постоял и от нечего делать Вошёл в магазин, где на полках – книги, тетради Из обёрточной, серой бумаги, линейки, пеналы…– Ну да, – согласился Липкин, – вы правы, это как «гитара старая и как песня новая». Послушайте «Реквием» Моцарта – и там вы без труда уловите мотивы Гайдна. Музыканты соглашались со мной: это так. Но Гайдн остаётся Гайдном, а Моцарт – Моцартом. По-моему, вам известно: моя Инночка подметила, что «Реквием» Анны Ахматовой интонационно чем-то и явно, и неуловимо схож с музыкой Михаила Кузмина. Это и есть одна из великих тайн поэзии.
Он имел в виду эссе Лиснянской «Тайна музыки „Поэмы без героя“». Ещё до публикации эссе в журнале «Дружба народов» Инна говорила мне, что Кузмин (называя его дивным и возвратившим слово в музыку) ещё до Ахматовой явил миру уникальную по своему мелодическому строю, очертанию строфу; она имела в виду тайновдохновенный «Второй удар» из цикла «Форель разбивает лёд».
О перекличке поэтов в тысячелетиях и веках Липкин говорил и говорил всё утро. Для него было закономерно написание характерного для него стихотворения «Всё в мире музыка», где он настаивал на том, что «эта музыка сама сотворена, – и больше никакой не надобно работы. Зачем исписывать бумагу дочерна? К чему кощунственные ноты?» И уверял: «Умрёт ли музыка? Она всегда жива. Она слышна без пианиста». Тут, конечно, я с ним не согласился: без пианиста?! Ну, знаете ли…» Он улыбнулся:
– Да будет вам. Вы же прекрасно понимаете, в чём суть! Не вам ли принадлежат слова: «Там, по ту сторону строки, – Господня воля. Да, Господня».
Эти наши прогулки по утреннему Переделкину были для меня подарком судьбы. На ходу, когда было тихо, когда даже проходившие неподалёку электрички не так грохотали, С. И. выкладывал то, что сидя за столом с гостями не то чтобы утаивал, но не спешил выставлять на показ и словно вглядывался в туманную, загадочную даль. Фотографу-художнику Александру Кривомазову, как мне показалось, не всегда удавалось с диктофоном в руках разговорить Липкина. Тем более, что диктофон выходил из строя, и сам Саша, и Липкин с Инной сетовали из-за потраченного зря времени, из-за такой вот неудачи. Другое дело – разговор в движении. Оно доставляло ему наслаждение. И посох в его руке заставлял меня подозревать, что передо мной – патриарх, мудрец, поэт, воин, чей путь был «извилист и тяжёл», тот, кто видел казни и равнодушно реющих птиц «над расходящейся толпой».
Он рассказывал мне о Багрицком, о том, как тот по-отцовски опекал его, заставив в 1929 году уехать из Одессы в Москву, чтобы «не закисать в хохмочках, не куклиться, войти вослед за Исааком Бабелем в самую гущу литературных борений, но по-прежнему доверяться дрожжам украинской мовы». И, конечно, о Василии Гроссмане. О нём – с особой горечью, что подтверждается «Жизнью переделкинской»:
Прости меня, прости, прости, я виноват, Я в маскарад втесался пёстрый. А как я был богат! Мне Гроссман был как брат, Его душа с моею сёстры. Предмартовская нас тесней слила беда. Делили крышу и печали; Так почему же я безмолвствовал, когда Его роман арестовали? Всегда вини себя, а время не порочь. Ты будь с собой, а не со всеми. Ты лучших ждёшь времён, но истина есть дочь, В твоё родившееся время. Тебя пугает власть? Не бойся, ты силён, Пока для жизни предстоящей Есть Промысл о тебе и есть в тебе Закон, Возникший в купине горящей.Екатерина Короткова, дочь Василия Гроссмана, подарила мне в Доме творчества копию рукописи своей статьи, написанной для какого-то журнала. Там шла речь о том, что отец её печатался чаще всего в журнале «Новый мир» и, конечно же, отнёс «Жизнь и судьбу» главному редактору Александру Твардовскому, своему фронтовому другу. Тот вернул ему рукопись и предостерёг:
– Вася, спрячь и никому не показывай. А то какой-нибудь идиот напечатает, и тебе придётся очень плохо.
Но это, продолжала Екатерина Васильевна, было время «оттепели», время мягкой цензуры. И отец надеялся, что роман можно будет напечатать, хотя бы с некоторыми сокращениями. Он отнёс своё детище в «Знамя»; там, в редакции, его обнадёжили, а сами сразу же отнесли «опасную» рукопись в ЦК. Книгу арестовали! Это был тяжелейший удар. Отец сказал дочери:
– Лучше бы я умер.
А летом 1987-го, говорила она, я работала над первой рукописью «Жизни и судьбы» и готовила её к печати в журнале «Октябрь» в России. Сохранился даже черновик у отцовского друга в Малоярославце. Им пользовались, когда делали второе издание книги. Сохранилось у друзей и несколько экземпляров окончательного варианта. Один из них попал за границу. Поэт Семён Липкин отправил его туда через Владимира Войновича. Рукопись оказалась в Швейцарии, где была издана на русском языке.
Сам С. И. тоже рассказал об этом. Если, как он говорил, ему не везло на войне, то «другое дело – Гроссман[42]. Он подчинялся не сталинградскому военному начальству, а московской редакции. Никто на фронте не мог ему приказывать. Но он с жадностью и отвагой художника искал истину войны, искал её на той огневой черте, где смерть выла, пела над головой. Бог охранял его, он не был ни разу ранен. Его настигла не немецкая пуля, а другое страшное оружие». Теперь известно – какое именно. В заключительной части «Жизни и судьбы Василия Гроссмана» С. И. говорит: «…за полгода до ареста романа в моём распоряжении оказались три – по числу частей «Жизни и судьбы» – светло-коричневые папки. Обдумав дело со всех сторон, я решил упрятать папки в одном верном мне доме, далёком от литературы. В больничной палате, незадолго до смерти, Гроссман сказал мне и Екатерине Васильевне: „Не хочу, чтоб мой гроб выставляли в Союзе писателей. Хочу, чтоб меня похоронили на Востряковском еврейском кладбище. Очень хочу, чтобы роман был издан – хотя бы за рубежом“ <…>. Читатель, может быть, обратил внимание на такие строки моей книги: „Было бы лучше, если бы люди, каким-то образом сохранившие роман, нашли в себе смелость позаботиться о рукописи раньше“. Это был упрёк самому себе. И всё же в конце 1974 года я принял серьёзное решение. Я обратился к Владимиру Николаевичу Войновичу с просьбой помочь мне опубликовать роман Гроссмана. Я выбрал для этой цели Войновича потому, что был с ним в дружеских, да ещё и в соседских отношениях и знал, что у него есть опыт печатания за рубежом. Войнович охотно согласился. За тремя папками отправилась Инна Лиснянская (я благоразумно считал, что мне туда ехать не надо) и привезла их Войновичу. Войнович решил сфотографировать машинопись. Первая попытка оказалась неудачной. Но Войнович, как всегда, был настойчив, попытку повторил. Позднее я узнал, что он прибег к помощи Е. Г. Боннэр и А. Д. Сахарова. Роман вырвался из оков».
Как видим, настойчив был и Липкин. И в этом он тоже был весь.
3
Шли годы, и Липкин начал уставать от прогулок за пределами Дома творчества, и мы ограничились тропинками рядом с корпусами и коттеджами. Главное – что он любил рассветы; об этом времени суток у него написано немало. Назову хотя бы такие стихотворения, как «Утро (“Плавно сходят к морю ступени…“)», «Утро было холодно, ненастно…», «Утро возгласом извечным…», «Утро по дороге в лес». В них – вера в то, что день будет длинным, бесконечным. И тем не менее однажды у него вырвалось: «О чём же мысль пришла? О раннем // сиянии дерев и трав, // о бесполезном // раздумье, слитым с умираньем; // о том, что мир в себя приняв, // мы в нём исчезнем».
Таким и предстаёт передо мной Семён Липкин – принявшим в себя мир и в нём исчезнувший, хотя и не утративший ни одного своего доброго деяния, ни одной строки, дарованной ему свыше.
Во второй половине 80-х вышел «знаменитый» библиографический справочник «Писатели Москвы», купив который, я тотчас начал листать страницы на „Л“: есть ли там Семён Липкин и Инна Лиснянская? Их там не было! В общем-то я знал, что не найду их в справочнике, как, допустим, не смог бы отыскать целый квартал напротив памятника Пушкину в центре Москвы (с закусочной «Эльбрус», с кинотеатром «Хроника», с аптекой и уютнейшим кафе). Но квартал этот снесли, остался на его месте лишь сквозняк, а Липкин и Лиснянская существовали, жили – не когда-то, а сегодня, тем более – их поэзия. И всё-таки на официальных совписовских страницах между сведениями о Лимановой Г. Х. и Лисицком С. Ф., а также о Лисичкине Г. С. и Лисянском М. С. тоже болезненно ощущались два занозистых сквозняка, два ужасных пробела. Словно предвидя нечто несуразное в этом роде, совсем ещё молодой Липкин (в сорок четвёртом) восклицал: «О патефоны без пластинок!..»
Впрочем, поэта вообще не баловали, хотя, во-первых, его самобытный талант проявился очень рано и развивался, несмотря на всяческие препоны, а во-вторых, он – фронтовик. Тем не менее его боевые заслуги и несомненный поэтический дар в учёт издательствами брались крайне неохотно, а то и вовсе не брались. Приходилось заниматься в основном переводами[43]. Кстати, их поистине высокий уровень заставил говорить о себе. Это отмечали с восторгом его друзья по «Квадриге», куда, кроме него, входили «слагатель дивных строк», «искалеченный войной» Арсений Тарковский («Он как ребёнок был жесток, он как ребёнок был безгрешен»); Аркадий Штейнберг («художник и поэт, в стихах и в красках был южанин, но понимал он тень и свет, как самородок-палешанин», «был долго в лагерях…»); Мария Петровых – «дочь пошехонского священства», чей «муж-юноша погиб в тюрьме», та, что «шла по дороге безымянной, и в то же время был размах, воспетый Осипом и Анной». Вот таким было окружение Липкина. Об их содружестве – например, стихи Штейнберга:
Мы не одной и той же песней Взбаюканы от первых дней. Но встреча наша тем чудесней, И цепи наши тем прочней. Жизнь отковала эти звенья И закалила в добрый час И языку сердцебиенья Насильно обучила нас.О многом говорит тот факт, что первая книга Семёна Липкина («Очевидец») вышла в «Советском писателе», когда автору было уже едва ли не шестьдесят лет (!!). Критика относилась к его стихам брезгливо, недоброжелательно, обвиняя их одно время даже в «альбомности» и «враждебности». А тут ещё масло в огонь подлило его и Инино участие в скандальном «Метрополе», и недруги предрекали ему полное забвение. В это нелегко сейчас поверить, но так оно и было: утверждалось, что век его поэзии короток! С. И. ведал, какие они, лжепророки, в его восточных переводах им определено немалое место. В пику им (но, конечно, не только поэтому) Иосиф Бродский составил его книгу «Воля», которая появилась в начале восьмидесятых в США. Затем там же увидела свет новая книга «Кочевой огонь». Однако в ту пору, пору идеологического шабаша, Липкину грозили, что его стихи на родине действительно пересекутся с «линией небытия», что их не допустят к читателям.
О том, что подобное произойдёт, говорил мне перед своим выдворением из Советского Союза и выездом в Штаты Василий Аксёнов. Те времена, ознаменованные взрывом негодования, улюлюканьем по поводу появления «Метрополя», он вспоминает в книге «В поисках грустного бэби». Бывая у меня в гостях вместе со своей Майей, он сокрушался по поводу того, как могут пострадать Липкин и Лиснянская. Уверен, говорил он, что Липкину не позволят зарабатывать даже на переводных книгах. Он же сказал мне, что С. И. обратился с открытым письмом в секретариат Союза писателей СССР: Липкин тут обращает внимание чинуш, привыкших руководить пишущими, похожими друг на друга, как узоры на обоях, на то, что к его мнению прислушивались и Мандельштам, и Ахматова, и Гроссман, и Андрей Платонов, да и не одни они, – так почему бы, дескать, и секретариату не внять его письму. Обо мне, сказал Вася, Липкин написал, что, когда появился мой «Звёздный билет», Анна Андреевна заявила: «Талантливо! Это заговорило новое поколение». С. И. заметил при этом, что «Ахматова редко кого хвалила, она принимала далеко не всех литературных ровесников Аксёнова». Он заступается за талантливых Евгения Попова и Виктора Ерофеева, исключённых из СП якобы за то, что их приняли в Союз на основании журнальных публикаций, а не книг. «Меня, – пишет он, – в Союз приняла комиссия, возглавляемая Горьким, когда число моих лет равнялось 22, а число моих стихотворений, опубликованных в журналах, не достигало и этой цифры».
Телефон Липкина явно прослушивался. Он к этому отнёсся с мрачным юмором. Но и ответил на это: «В телефоне спрятан сыщик, и подслушивает он: может, вслух я согрешу. Я же только переписчик Завещавшего закон: Он диктует, я пишу».
С. И. пошёл в наступление, не страшась последствий. Он прошёлся и по газете «Московский литератор», в которой было напечатано заявление Сергея Михалкова: «Мне не понятна позиция С. Липкина. Представители национальных литератур, эпос которых он перевёл и которые ещё не вышли из печати, задумываются над тем, а не следует ли им обождать, пока найдётся другой Липкин!» Не совсем грамотно, но грозно. Заключение письма Липкина, человека верующего, таково: «Все авторы (альманаха. – В. М.) хотят каждый по-своему служить Богу, чьё имя – Правда, и не хотят служить дьяволу, чьё имя – Ложь».
Мимо позиции С. И. не мог пройти и Александр Солженицын, который обратил внимание на то, что «Липкина – ещё бы не тяготило его изневольное общественное молчание. <…> Тюремно-лагерно-ссыльная тема многократно прорывается в его стихи, протягивается сквозь».
Да, нешуточные дела были. Грандиозный скандал закончился тем, что Семён Израилевич и Инна, объявленные отщепенцами, вослед за Аксёновым вышли из Союза писателей, руководство которого делало вид, что этих поэтов как бы вовсе и нет.
4
А между тем разве могла существовать отечественная литература хотя бы вот без таких строк Липкина:
Я сижу на ступеньках деревянного дома, Между мною и смертью – пустячок, идиома. Пустячок, идиома – то ли тень водоёма, То ли давняя дрёма, то ли память погрома……Автор этих строчек родился в 1911 году в Одессе, кусты будяка которой вместе с ярко-красным вагончиком, пожелтевшими листьями акаций, морем, меняющим цвета, заросшими невысокой травой пустырями, пляшущим под дребезжанье запиленной иглы кожевенным цехом стали фактом его поэзии.
В одной из своих заметок С. И. пишет: «В сознании читателя Одесса утвердилась как город многокрасочной и нищей Молдаванки с её налётчиками и волапюком, город черноморских анекдотов и печально остроумных стариков, город Бабеля, Багрицкого, Олеши, Славина, Ильфа и Петрова. Меньше запомнилась Одесса как второй по величине и мощности русский порт, как город Новороссийского университета, блестящей разноплеменной интеллигенции, связанной с именами Пушкина, Гоголя, Бунина, Куприна, Бялика, Леонида Пастернака, Мечникова, Королёва, чайковцев, Желябова, город, где рядом с пьяным и трагическим Гамбринусом сверкал Гранатовый браслет, где происходили Сны Чанга и наступили Окаянные дни».
Удивительно ли, что своему одесскому детству Липкин посвящает строчки именно одесские:
Разбит наш город на две части, На Дерибасовской патруль, У Дуварджоглу пахнут сласти, И нервничают обе власти. Мне восемь лет. Горит июль. Ещё прекрасен этот город И нежно светится собор, Но будет холод, будет голод, И ангелам наперекор Мир детства будет перемолот.Ощущая себя «остывшею золой без мысли, облика и речи», Липкин неоднократно проделывал в послевоенных стихах путь к родному городу.
Ещё и жизни не поняв И прежней смерти не оплакав, Я шёл среди баварских трав И обезлюдевших бараков. Неспешно в сумерках текли «Фольксвагены» и «мерседесы», А я шептал: «Меня сожгли. Как мне добраться до Одессы?»Эти строки вмиг стали популярнейшими, настолько велика их художественная сила, их изобразительность, их страсть.
Вскоре после этого он написал об одесской синагоге, о её обшарпанных стенах, угрюмом, грязном входе, о том, как там, «на верхотуре, где-то над скинией завета мяучит кот». Тон вроде бы несколько ироничный, что-то вроде будничного. Вот, например, следующий портрет:
Раввин каштаноглазый — Как хитрое дитя. Он в сюртуке потёртом И может спорить с чёртом Полушутя.Но не по такому поводу брался за перо Семён Липкин.
Ему бы простили и Одессу, и даже синагогу («шум, разговор банальный, трепещет поминальный огонь свечей»), и даже раввина, только как могли простить пугающую тревогу, не случайно возникшую на празднике Торы, гневное недоумение: «И здесь бояться надо унылых стукачей?» – и молитву: «Я только лишь прохожий, но помоги мне, Боже, о, помоги!»
Тут и доказывать не надо: стихи эти были неизбежными прежде всего потому, что поэт без чьей-либо подсказки понял основное: «Пришёл сюда я поневоле, ещё не зная крупной соли сухого края, чуждой боли». После такого осознания поэтической сверхзадачи «чуждой боли» уже быть не может. Липкин никогда не возносился, он ни на секунду не смел позволить себе забыть: главное – «не золотые слитки, а заповедей свитки“, он оставался самим собой.
Я плачу. Оттого ли плачу, Что не могу решить задачу, Что за работою умру, Что на земле я меньше значу, Чем листик на ветру?5
Поэзия Семёна Липкина парадоксальна прежде всего по той причине, что его любовь к человеку, к людям проявляется как факт художничества тем явственнее, тем сильнее, чем ярче он показывает всё их несовершенство. Примеров тому несть числа.
Он привык летать в дурное место, Где грешат и явно, и тайком, Где хозяйка утром ставит тесто, Переспав с проезжим мужиком, Где обсчитывают, и доносят, И поют, и плачут, и казнят, У людей прощения не просят, А у Бога – часто невпопад…Этот «новый Овидий» не страшится петь «о бессмысленном апартеиде в резервацьи воров и блядей», не то что не страшится – наоборот, считает своим долгом только так слагать свои песни, беря пример с «блатной музыки», которая «сочиняется вольно и дико в стане варваров за Воркутой», ведь иначе нельзя прочесть книгу, данную Господом, «на рассвете доесть мамалыгу и допить молодое вино».
Липкину известна беда «забытых поэтов», умевших находить и краски для описания закатов и рассветов, и, кроме того «терпкость нежданных созвучий», испытывавших «восторг рифмованья»: увы, у них не хватило ума стать необходимыми людям, и они просчитались. Почему же просчитались? Они запамятовали вот что: «Говорят, нужен разум в эдеме, но нужнее – на грешной земле». Именно – на грешной!
Стихи Семёна Липкина мужественны (и это придётся ещё раз подчеркнуть в конце статьи), мужественны – потому что не пытаются ни единой буквой, ни единым звуком идти против истины, не всегда (далеко не всегда!) приятной для нас. Обратите внимание на «Телефонную будку» и не подумайте, что здесь речь идёт об обыкновенном «городском сумасшедшем», который непрестанно и «с напряжением вертит диск автомата». Это наподобие того сумасшедшего поэзия проламывается сквозь косность нашего окаянного бытия!
Толстым пальцем бессмысленно в дырочки тычет, Битый час неизвестно кого вызывая, То ли плачет он, то ли товарищей кличет, То ли трётся о трубку щетина седая. Я слыхал, что безумец подобен поэту… Для чего мы друг друга сейчас повторяем? Опустить мы с тобою забыли монету, Мы, приятель, не те номера набираем.Ещё более драматично это чувство выражено в «Комбинате глухонемых», стихотворении очень предметном, ярком, где наличествует и живая соль знойных городских улиц, и морская даль, и звон трамвая, и мастерская, в которой склоняются над шитьём сорочек артельщики, – и всё ради того, чтобы задаться тем же самым проклятым вопросом:
Ничего она не слышит, Бессловесная артель, Лишь в окно сквозь сетку дышит Полдень мира, южный хмель. Неужели мы пропали, Я и ты, мой бедный стих, Неужели мы попали В комбинат глухонемых?Но, к великому счастью, как уже говорилось выше, поэзия Семёна Липкина проникнута состраданием к ближнему – и не на словах, а на деле, в готовности сочувствовать, допустим, молодой женщине Марусе, у которой «случилось большое несчастье», поскольку у неё взяли мужа: он в субботу немного подвыпил, потом ему пришлось везти врача, и он заехал к любовнице, застал её с кабардинцем и в ту же ночь сгоряча поранил её. Конечно, «дали срок и угнали». Что остаётся Марусе? Известно – что: печалиться и любить, ненавидеть его и жалеть его. И это не просто пересказ, Липкин пересказов не признаёт; он воссоздаёт жизнь своей Маруси (она «в брезентовой куртке, в штанах»), воссоздаёт в строчках и строфах её, ни на что не похожий, особый, мир:
Из окна у привода канатной дороги Виден грейдерный путь, что над бездной повис. В блеске солнца скользя, огибая отроги, Вагонетки с породой спускаются вниз.А уже после того как эта действительность создана, следуют строки, которые можно с уверенностью считать поэтическим кредо Липкина:
Пусть три тысячи двести над уровнем моря, Пусть меня грузовик мимо бездны провёз, Всё равно нахожусь я на уровне горя, На божественном уровне горя и слёз.Вот оно, отличительное свойство этого поэта, в чьих книгах – «усталый облик правды голой, не сознающей наготы» и отвергающей «хитроискусную суету», и вот оно, робкое, но оттого и трогательное желание:
О, если бы строки четыре Я в завершительные дни Так написал, чтоб в страшном мире Молитвой сделались они, Чтоб их священник в нищем храме Сказал седым и молодым, А те устами и сердцами Их повторяли вслед за ним…Действенность таких стихов заключается не только в их нравственной позиции писателя, но и в поражающей воображение новизне, в виртуозной импровизации, опирающейся на самые неожиданные, а именно липкинские детали бытия. Тут уж никак не приходится говорить о традиционности стиха в известном, смахивающем на упрёк, смысле. Липкин следует одной традиции – традиции достигать первозданной свежести в каждой строке, раз за разом открывать и открывать мир. Вот он живописует старинную открытку:
Извозчики, каких уж нет на свете, Кареты выстроили – цуг за цугом, А сами собрались в одной карете, Видать, смеялись друг над другом…Картина эта поражает достоверностью, это кисть большого мастера.
Но, показывая нам, читателям, город, где происходит действие, дома, улицы, где «я проживаю, но другой, но лучший, но слепо верящий в святыни», Семён Липкин доказывает, что одних картин, как бы замечательны они ни были, мало, – необходимо ещё вскрытие сокровеннейших глубин души, обращённой к Всевышнему, и потому стихотворение кончается не столько проникновенными, сколько таинственными словами: «Там ни к чему умельца дар постыдный, и мне туда не шлют открыток».
Как доказано в «Беседе», «умельца дар постыдный» вызывает порицание Бога: «Пусть лукавил ты с миром, лукавил с толпой, говори, почему ты лукавишь с собой?» Вот почему так важны здесь вопрос стихотворца и ответ на этот вопрос:
– Я словами играл и творил я слова, И не в том ли повинна моя голова? – Не слова ты творил, а себя ты творил, Это Я каждым словом твоим говорил.6
Мера истинности, справедливости, любви и добра у поэта одна – это Бог, кто бы не поклонялся Ему – православный, католик, иудей, буддист, мусульманин…
Вот только две иллюстрации: «Одного лишь хочу я на свете – озариться небесным лицом, удаляясь под своды мечети, насладиться беседой с Творцом» («Ночь в Бухаре»), «Тени заката сгустились в потёмки, город родной превратился в обломки. Всё изменилось на нашей земле, резче морщины на Божьем челе» («Морю»). Липкин смотрит на Всевышнего сердцем и глазами человека каждой нации, каждой конфессии. В «Двуединстве» это проявляется наиболее впечатляюще:
Нам в иероглифах внятна глаголица. Каждый зачат в целомудренном лоне. Каждый пусть Богу по-своему молится: Так Он во гневе судил в Вавилоне. В Польше по-польски цветёт католичество, В Индии боги и ныне живые. Русь воссияла, низвергнув язычество, Ждёт ещё с верой слиянья Россия. Кто мы? Жнецы перед новыми жатвами, Путники в самом начале дороги. Будем в мечети молчать с бодисатвами И о Христе вспоминать в синагоге.Кажется, это уникальный случай в литературе!
Никто ещё с такой художественной убедительностью не говорил, что все мы, «Отца единого дети, свеченье видим одно, и голуби на минарете об этом знают давно».
Но и тут Семён Липкин не кривит душой, не собираясь обходить стороной мотив «теней заката» и городских обломков.
В слишком кратких сообщеньях ТАССа Слышу я возвышенную столь Музыку безумья Комитаса И камней базальтовую боль. Если Бог обрёк народ на муки, Значит, Он с народом говорит, И сливаются в беседе звуки — Геноцид и Сумгаит.Поэт напоминает, что рвы копали не «только нам» и не «только мы» полегли в карьерах, на нашем месте так легко оказаться любому, вот почему «Матерь Утоли Моя Печали не рыдала ль плачем всей земли?»
Да, здесь мы слышим «столь возвышенную музыку» с её «внезапно нахлынувшим понятьем Божества». Вместе с тем эта возвышенность обеспечена прозой жизни, иллюстрировать которую хочется без разбивки на строфы (из-за чего стих не утратит своей поэтичности): «Как тайны бытия счастливая разгадка, руины города печальные стоят. Ковыльные листы в парадных шелестят, оттуда холодом и трупом пахнет сладко». Эти парадные – на уровне лучших кадров Микеланджело Антониони и Федерико Феллини. А вот как мощно входят в наше воображение окраины Европы, «где на треснувшем глиняном блюде солонцовых просторов степных низкорослые молятся люди жёлтым куклам в лоскутьях цветных». Липкин без видимых усилий соединяет несоединимое – и не потому, что так ему хочется, а потому, что такова реальность. Она вся именно так скроена, и поэзия первой откликается на эту её особенность. К примеру, заходит разговор о Тянь-Шане: «Бьется бабочка в горле кумгана, спит на жёрдочке беркут седой». И вдруг… «И глядит на них Зигмунд Сметана, элегантный варшавский портной». «Откуда он взялся, этот Зигмунд?» – думает читатель. Так уж распорядилась судьба: не исчезнув в золе Треблинки, он попал сюда, и здесь всё рельефно, достоверно до мельчайшей чёрточки: «День в пыли исчезает, как всадник, овцы тихо вбегают в закут, зябко прячет листы виноградник, и опресноки в юрте пекут. Точно так их пекли в Галилее, под навесом, вечерней порой… И стоит с сантиметром на шее элегантный варшавский портной».
Вот так же, вживую, мы видим праотца нашего Адама, которого Ева укорила: «Зачем это нужно, – вздохнула жена, – явленьям и тварям давать имена?» И Еву не так уж трудно понять. Если б можно было ограничиться лишь наименованием тени, льва, сна, соловья, воды, ветра, тростника… Но ограничиться, на беду, никак нельзя. «Всеобщая ночь приближалась к садам. „Вот смерть“, – не сказал, а подумал Адам. И только подумал, едва произнёс, над Авелем Каин топор свой занёс“. С липкинской поэзией, пожалуй, то же самое. Перед нами волею автора «многоярусный, многодостойный… поднимается к нему Гуниб» – земля Шамиля. «На вершине гранитных громад ныне праздно зияют бойницы, там виднеется зданье больницы, рядом школа, при ней интернат». Ныне?! Нет, ныне «отсвет кровавый» не на одних лишь тополях, и бойницы праздно не зияют. Или вот такая история: «Писанье читает сапожник в серебряных круглых очках. А был он когда-то безбожник, служил в краснозвёздных войсках…» Всё бы ничего, да кончается эта история сокрушительным взрывом: «О если бы, пусть задыхаясь, сказать этой ранней порой, что в жизни прекрасен лишь хаос, и в нём-то и ясность и строй». Не обладая дерзостью подлинного художника, такого не напишешь. А как иначе выразить свою боль и боль близких тебе людей?
…Инна и Семён Израилевич пригласили меня в гости. У Липкина вышла книга «Семь десятилетий». Принимая её в дар, я сказал, что не могу и не хочу назвать эту книгу итоговой: даст Бог, будут ещё новые, и все мы будем их ждать. Увы. 31 марта 2003 года во дворе переделкинской дачи он упал рядом с порогом – и уже не встал. Инна показала мне это место. Уже тогда у неё зародились строки: «Ты бесшумно ушёл, как уходит лев, не желая почить в норе. И нашла я тебя между двух дерев. Я нашла на снежном дворе». Через год она издаст книгу «Без тебя»; её логотип таков: «А где упал, там незабудка расширилась. Как вещий глаз. Ты стал природою. И жутко мне на неё смотреть сейчас». Я тоже отозвался стихами на его уход:
* * *
У Маруси случилось большое несчастье…
Семён Липкин Ночь последняя, ночь Приэльбрусья И дождлива была, и черна. И брезентовой курткой Маруся Незнакомца накрыла вчера. Он не дышит, промокший до нитки. Шорох крыл. Кто же их распростёр? Всё предсказано: лучик карбидки, С гор спускающийся транспортёр, Даже вечность в потоке, рождённом Выше самых заоблачных скал… Незнакомец тот звался Семёном. Он, Маруся, Одессу искал. И нашёл. Больше нету загадки. Ты печаль у Эльбруса развей. Он исправить успел опечатки В этой книге рукою своей.Он имел право сказать: «Всегда вини себя, а время не порочь».
Это он, именно он, сказал мне, что на табличках древних шумеров была запечатлена жалоба: «Мир погряз во зле». Так что, добавил Липкин, у поэтов всех времён и народов задача одна и та же. И зиждется она на том, что «средь уродливых, грубых диковин, в дымных стойбищах с их тишиной, так же страстно и так же духовен поиск воли и дали иной».
За этой волей и за этой далью – очень многое, то, что стало поэзией Семёна Липкина.
Глава 8. Звёздные часы Александра Ревича
В ночь, когда нас бросили в прорыв, был я ранен, но остался жив, чтоб сказать хотя бы о немногом. Я лежал на четырёх ветрах, молодой, безбожный вертопрах, почему-то бережённый Богом. Александр Ревич«Поэма дороги»1
«Кто не вернётся с победою, тот не узнает о многом. Ведая или не ведая, все мы ходили под Богом…» Это Александр Михайлович Ревич последних десятилетий ХХ века, запечатлённый мною в послесловии к его первому избранному – «Дарованным дням»[44]. Им, в конце концов, была одержана победа. Им был обретён Бог. Читателю нетрудно догадаться, что у Ревича есть нечто общее с сочинителем, которому приписывает свой исполинский труд чудом уцелевший во время Варфоломеевской ночи гигант эпохи Возрождения Теодор Агриппа д’Обинье[45], обратившийся с напутственным словом к читателю созданных им «Трагических поэм». Ревич, как и этот выдуманный мировым гением сочинитель, был очевидцем невероятных событий и чудовищных преступлений, чью суть пытались и пытаются исказить, изуродовать и заглушить «безграмотные зубоскалы», «плюющие на веру» обманщики. Публикуя «сии писания» и призывая сочинителя на Суд Божий, Агриппа сам, по своей инициативе, считает необходимым разобраться в подробностях жизни сочинителя, в том числе таких, как служба в кавалерии, и участие в тяжёлых баталиях («стоя насмерть»), и ранения… Ну а как иначе, скажите на милость, постичь явление художника слова? Или тут бывают мелочи?!
В своих сонетах, предваряющих перевод великого текста «Трагических поэм», Ревич, русский поэт, «слагатель рифм, беспечный дуралей» (поскольку, заметим, Dei gratia[46]), не в силах противостоять напору собственного лирико-бытийного опыта, добытого в самом что ни на есть пекле «меж будущим и прошлым», где «половодья размывают даты и грани расплываются веков», где «веселья коротки, длинны печали» и где «спадают с глаз последние покровы». А он прекрасно знал, как «последние покровы» обмана «спадают с глаз». Потому-то так актуальны события, предстающие перед нами: «Вы говорите: даль веков. Да что вы! Для вечности такая даль мала. Ведь кровь, она такая ж, как была, обиды и страдания не новы».
Мы сошлись с ним во мнении, согласившись ещё в восьмидесятых, что в этом пекле были покалечены в духовном и творческом плане десятки, сотни писателей. Ревич читал наизусть раннего Николая Тихонова, его «Орду» и «Брагу», чаще всего – «Праздничный, весёлый, бесноватый, с марсианскою жаждою творить, вижу я, что небо небогато, но про землю стоит говорить». Каков?! Ведь прекрасен! И что произошло впоследствии? Ревич жалел по-своему Тихонова, а вместе с ним – и себя, тоскуя о потерянных годах: как художник времён «застоя» и более ранних он испытывал недостаток кислорода. В «Поэме дороги» он объяснит, где тут собака зарыта: его. раненого безбожника-вертопраха, почему-то сберёг на войне Господь. Почему-то… А почему, собственно? В 1960-м Александр Ревич попытался дать робкий ответ на этот вопрос: «Воет волк от голода и стужи, голосит по-волчьи на луну, тянет ноту он одну и ту же, как тянули предки в старину. Затоскует по лесам в неволе – по-медвежьи заревёт медведь… Человек… Он не ревёт, не воет – он однажды выучился петь».
С чего же началась эта музыка? В старом парке «Желязова Воля», у дома Шопена, Ревич догадался, что его «звонкой каплей апреля раннего в давнем детстве навеки ранило». А позже уточнил: «Возможно, выпал редкий случай».
В сорочке появился он на свет или без оной – неизвестно, но достоверно то, что младенца Алика в легендарном Ростове-на-Дону из родильного дома привезли в дом на Никольской улице, где не смолкали денно и нощно кабинетный рояль «Беккер» и концертное пианино «Рейниш». Это было, «когда пешком ходил под стол, когда отец мой безработный, служивший в белых, на беду, карябал на бумаге нотной под Баха фуги… <…> и на простуженном рояле зачем-то что-то подбирал». И, «что-то подбирая», отец, Михаил Павлович, бывший младший офицерский чин, пытался вложить в эти фуги все свои беды: отступление Добровольческой армии под натиском будёновцев, скитания по пустырям, по глухим просёлкам, мимо слободок и станиц, «в тряпье таком, как на самом жалком нищеброде, словно выбрался из-под земли, чёрный весь от копоти и пыли», ночёвки в стогах и оврагах. Бывали и такие мгновенья, когда малец «явно презирал отца за то, что в праздничной колонне не шёл он с флагом впереди, с кровавым бантом на груди и в проходящем эскадроне не восседал на скакуне, <…> что он живёт, как посторонний…» Пятилетнему Алику хотелось стать милиционером, и первые стихотворные строки он написал печатными буквами именно об этом: «На мне фуражка с красным козырьком, а в руке винтовка стальная. Я охраняю свой дом от жуликов и от Бабая». Написал, может быть, в тот день, когда заплакал, увидя портрет длинноволосого Блока. Ему показалось, говорил он, что это ведьма.
Прочитав стишок, отец наверняка усмехнулся: ведь до переезда в Ростов, до Гражданской войны, он мечтал стать композитором и, нередко голодая, учился вместе с Игорем Стравинским и Михаилом Гнесиным в Петербургской консерватории по классу композиции у Николая Римского-Корсакова, потом – по классу виолончели у Александра Вержбиловича. Он руководил церковным хором, обладал баритоном в четыре октавы. Но музыкантом не стал. Резко возражали родители. Поступил в технологический институт там же, в Петербурге. Не доучился. Ушёл. Свою жизнь он считал угробленной, бездарной… «Откуда мог я знать, пострел, как маялся отец без дел, с какою болью, побеждённый, на победителей смотрел, что в нём душа перегорела, когда с повинной головой пришёл из дальних мест домой, как чудом избежал расстрела…» К Михаилу Павловичу захаживал «наш сосед, полковник старый, Олег Петрович Лозовой…» Он тоже «привыкал к безделью, в застенке избежав свинца. Он к нам ходил с виолончелью и брал уроки у отца». К ним присоединялась мама, врач по профессии и большая любительница помузицировать.
Музыка… музыка… музыка…
А ещё брат отца, Матвей, он же Матео (артистический псевдоним), тоже баритон, профессиональный оперный певец. И ещё сестра их, Елена – чудный голос, итальянская школа. И, конечно же, ещё их двоюродный брат, Вениамин Сангурский, бас, и какой бас, знаменитость, его выступления вместе с Фёдором Шаляпиным в Казани и Тифлисе, оперные сцены Парижа и Милана. Ну… и для полноты картины, само собой, мощные аккорды южного говора (это же Ростов!), переплёски-выплески донских казачьих песен, мелодии украинской мовы – веселящего и жалящего «перця вiд щiрого серця», жалоб и надежд армянского дудука… А песни няни Татьяны, уроженки курского села! «Как я любил её за эти невыразимые слова, чья музыка во мне жива, покуда я живу на свете» («Поэма о доме»).
Девочки и мальчики, хихикающие над аистами, приносящими новорожденных, вы и вправду верите, что музыка, о которой мы толкуем, действительно в торжественной обстановке вручается добрейшей Музой тем, кого она выбрала и полюбила, вручается, по свидетельству великих наших классиков, в виде семиствольной цевницы, оживлённой божественным дыханьем? Джазовый трубач и певец Луи Армстронг не раз говорил, что самую лучшую музыку он слушал в Сторивилле, а Сторивилль – это нужда, беспробудное пьянство, грязь, вонь, крысы, проституция, наркомания… У нас, в России, была иная история, но грязи, свинства было ничуть не меньше. Малолетнего героя ревичской «Поэмы о доме» потрясали трагедии его города, «куда бежали всей деревней от голода и прочих зол». Несколько человек из семьи погибли в сталинских застенках. Родственница матери, Мария Маркус, была женой С. М. Кирова – за это и поплатилась. А что за монстр сапожник дядя Ваня, который избивал нянечку Татьяну (речь о нём – впереди)!.. Мальцу (взять хотя бы «Первомайскую поэму») приходилось с ужасом наблюдать то, о чём в армстронговском Сторивилле и слыхом не слыхивали.
Ревич абсолютно искренен, утверждая, что лучшим поэтом, пришедшим с войны, был Александр Межиров. Но жизненная школа и у того, и у другого была, в принципе, одна. 10 июня 1941 года девятнадцатилетний Саша Ревич окончил в Орджоникидзе пограничное училище. С двумя кубарями он прибыл в Одессу, где получил распоряжение явиться в понедельник за предписанием. Война разразилась на день раньше – в воскресенье. И… пошло-поехало. 9-й кавалерийский корпус. Отступление (ау, Михаил Павлович, привет от сына!), бои, опять отступление. Река Прут. На станции Березовка – форменный «котёл». Бредовый приказ кавалеристам: атаковать немецкие танки, идти на прорыв. Попал в плен. Бежал. У него спросили: «А почему ты не застрелился?..» Из особого отдела увезли в Каменск, за колючую проволоку. Три месяца отсидки, месяц – на формирование штрафбата. Скоротечный бой. Ранение. Приказ: «Возвращайся в строй, лейтенант». А там уж и Сталинградский фронт…
Вот что я узнал о детстве и юности моего любимого друга и поэта Александра Ревича, когда мы с ним познакомились. Рассказывал он так интересно, что жаль: не остался этот рассказ записанным на диктофоне.
2
В самом начале восьмидесятых годов из творческого объединения поэтов, где было невмоготу от демагогического смрада и «патриотического» выпендрёжа, не имевших никакого отношения к поэзии и патриотизму чаадаевского и лермонтовского толка, я «перевёлся» к переводчикам (тавтология – виноват!), стоявшим особняком и принявшим меня к себе, кажется, единогласно. Обо мне сказала пару сочувственных слов Ника Глен, сотрудница Худлита (она курировала там болгарскую литературу), прочитавшая мои переводы поэта-фронтовика Якова Мелия (с особенным чувством – строчки: «Мог ли пройти я, как штатские, мимо великолепных старинных зеркал: в белых галактиках синего дыма я и себя, и убитых искал. В Доме учителя нас не ругали и благосклонно смотрели на нас. Снились в ту пору Атени, Чаргали, ангел, покинувший иконостас»). Спрашивали меня почему-то не о моём сегодняшнем дне, а о литературной Грузии пятидесятых-шестидесятых, о моей жизни там в молодые годы. С Никой Николаевной мы быстро нашли общий язык ещё в Доме творчества «Голицыно», куда она нередко наезжала с символом серебряного века Эммой Григорьевной Гернштейн, уже грузной, но необыкновенно обаятельной, овеянной легендами о её дружбе с Анной Ахматовой и Николаем Гумилёвым и всегда открытой для общения. Кстати, и Ника была связана с Ахматовой, выполняла при ней секретарские обязанности, хранила её архив, а после смерти великой поэтессы ей доверили издание двухтомника Анны Андреевны.
Так вот, после того собрания мы зашли к Нике (многие звали её как бы одним нежным словом – Никаглен) домой, чтобы попить чайку. Здесь я и сблизился впервые с Александром Ревичем, фронтовиком, участником Сталинградской битвы – энергичным, ещё моложавым, наполненным до краёв всяческими занятными историями, поминутно тянувшимся за не набитой табаком курительной трубкой. Он без обиняков спросил:
– А Яков Мелия в самом деле воевал? – Получив утвердительный ответ, добавил: – У него свой мотив; ты молодец, что передал это.
Иногда Ревич сильно припадал на правую ногу: сказывалось серьёзное ранение (по-моему, в позвоночник). Мы с ним моментально перешли на «ты».
Ника, сидя на диване, гладила своего бассет-хаунда и слушала нас – вернее, Ревича, который, прочитав совсем недавно в оригинале (именно так!) великие романы Маргерит Юрсенар «Воспоминания Адриана», «Философский камень» и её замечательную эссеистику, восторженно отзывался об авторе – лучшей, на его взгляд, французской писательнице, радовался, что ему удаётся обмениваться мнениями о прочитанном с переводчиками Юрсенар – Юлианой Яхниной (которую ставил очень высоко) и Морисом Ваксмахером, своим приятелем. Говорил и о давней мечте – перевести на французский лермонтовскую лирику, что произвело на нас очень сильное впечатление.
После этого он довёз меня на «жигулёнке» до ближайшей станции метро. Я ему сказал, что он внешне смахивает на фернейского мудреца[47], а с годами будет точной его копией. Он недоверчиво ухмыльнулся и тут же, ступив на вольтерьянскую тропу, задал вопрос: а знаю ли я, кто перевёл на русский язык «Орлеанскую девственницу»; я удивился такой скорострельности, но ответил ему, что этим мы обязаны Георгию Адамовичу, Николаю Гумилёву и Георгию Иванову.
– Ты забыл Пушкина, – сказал он, по-детски обрадовавшись, что «подловил» меня.
– Да, – согласился я, – Александр Сергеевич перевёл первые двадцать пять строк.
– А чей перевод «Улисса» нравится тебе больше всего?
Я опять удивился. И опять ответил:
– Виктора Хинкиса.
– Мне тоже, – отозвался он. – Хинкис – гений. В тамиздате читал?
Вот такая викторина у нас состоялась. Потом я понял: он без этого не мог. Любой телефонный разговор, любая встреча оборачивались подобным «тестированием». Причём затрагивались разные темы – от оперного вокала до НЛО, от книг Василия Аксёнова и братьев Стругацких до письменности индейцев майя; всего не перечислишь. Лучшего собеседника пожелать было просто невозможно. И почти всегда он оказывался моим единомышленником.
Ну а уж если он не сходился со мной во мнении, им затевался спор, да такой, ей-богу, будто он вот-вот бросится врукопашную. Правда, «отходил» он сразу, мгновенно, начисто забывая о разногласиях. И ещё крепче обнимал меня при этом. Говоря позднее в своих воспоминаниях об Аркадии Штейнберге, он заметил чистосердечно: «Из-за явного несходства наших стихотворческих манер и поэтических пристрастий мы часто спорили и даже ссорились, однако я вынужден признать, что наши споры были для меня плодотворными. Со многими его суждениями с годами я был вынужден согласиться».
В нём был азарт – да какой! Я думал, что он по натуре – игрок (тем более, что он хвастался своими боксёрскими достижениями, ознаменовавшими его юность), но я ошибся: он не играл ни в карты, ни в шахматы, ни на бильярде. Зато спортивные передачи по телевизору, прежде всего бокс и футбол, смотрел хоть до утра, болельщиком был ярым и подкованным.
…Высаживая меня у станции метро, он заявил, не ожидая возражений:
– Ты умиляешься Гумилёвым, так вот, имей в виду: он – слабачок! Ну, скажи, что это такое: «Бродили с драконами под руку луны, китайские вазы метались меж ними…»
Я удержал дверцу машины.
– Ну и ну! – выдавил я из себя. – Это ты о ком?
– Что, тебе ещё раз повторить? И Мандельштам – слабак! Ты перечитай его – сам убедишься.
Не позволив мне возразить, он захлопнул дверцу: пока!..
Спустя десятилетия я прочту в его записках: «…Иногда заносило, одолевал бес противоречия».
3
Я горько пожалел, что его стихотворное творчество мне совершенно неизвестно, – и вину за это взял на себя. Ведь вот какой у него, выходит, счёт! Гамбургский! Ещё бы, если у него в слабаках Мандельштам ходит…
С тех пор мы с ним не виделись месяца три. Я узнал, что у него вышли в свет две книжки «След огня» (1970) и «Единство времени» (1976), критикой, как я убедился тут же, незамеченные, да и вообще не вызвавшие разговоров среди поэтической братии. Накинулся я на них с жадностью: интересовало, что поведал миру человек, прошедший сквозь кровавую бойню и ад штрафбата. Здесь у меня был свой прицел, помимо всего прочего. Во второй половине пятидесятых и в первой половине шестидесятых я служил в Тбилиси в редакции газеты Закавказского военного округа, и мне чудесным образом удавалось печатать некоторые «непроходимые» стихи поэтов-фронтовиков.
Правда, случались кое-когда неудачи. Помню, однажды утром я шёл в редакцию по проспекту Руставели мимо гостиницы «Тбилиси» и увидел за тамошним огромным стеклом первого этажа, где размещались столики симпатичного кафе, юную, но уже знаменитую Беллу Ахмадулину. Она тоже увидела меня. Помахала рукой: заходи. За столиком с ней сидел рыжий Сергей Орлов, бывший танкист, с бородой, скрывавшей след ожога. Познакомились. Он дал для газеты подборку. Спросил: мол, пройдёт? Я ответил утвердительно: какие тут могут быть сомнения. Ведь Орлов, не кто-нибудь. И был не прав! Меня принялись совестить: ты что, сам посуди: «Его зарыли в шар земной, как будто в мавзолей» – забыл, кто лежит в Мавзолее, – Владимир Ильич там лежит, а не простой солдат; настоящий ужас вызвали строки: «Вот человек – он искалечен, в рубцах лицо. Но ты гляди и взгляд испуганно при встрече с его лица не отводи», а также «Меня на Монпарнасе обожгла травинка человеческого света, ничем не истребимая дотла, как в тьме кромешной маленькая веха…» Ну и к чему здесь, упрекали меня, Монпарнас, и где свет человеческий, а где кромешная тьма – что за намёки?!
Война, как известно, исподволь меняла поэтический и жизненно-философский вектор фронтовиков. Они на своей шкуре испытали, как «артиллерия бьёт по своим», перед ними вставал «знак вопроса – исступлённо-дерзкий», из-за чего приходилось «переформировывать души» и сознавать, что «опасности таятся в наших спорах, как будто мы с ладони на ладонь вблизи огня пересыпаем порох» (Александр Межиров); забывали о парадности, барабанном бое, о «высоком штиле» и вводили в оборот немыслимое прежде, к примеру, вот такое: «Мне выпало горе родиться в двадцатом, в проклятом году и в столетье проклятом. Мне выпало всё. И при этом я выпал, как пьяный из фуры в походе великом. Как валенок мёрзлый, валяюсь в кювете. Добро на Руси ничего не имети», а сороковым годам было дано определение «роковые» (Давид Самойлов); не избегали понюхавшие пороху поэты самого страшного: «А мы отходим по степям Кубани: повозки, танки, пушки всех систем. И шепчем воспалёнными губами святой приказ 0227[48]» (Константин Левин).
Такая поэзия раздвигала творческие горизонты, учила мужеству формы и содержания, резко уходила в сторону от идеологического мейнстрима. Многое, очень многое из неё разошлось на цитаты. Это великолепная глава истории отечественной литературы.
4
А что внёс в эту поэтическую летопись Александр Ревич? Увлекающийся, цепкий памятью, падкий на парадоксы – что он внёс? Прямо скажу: не себя! Мне пришлось домысливать его военное прошлое, и я рискнул написать о нём такие стихи, не затрагивая болевых точек:
В этой строчке переводят стрелки: Отстают часы на пять минут. А в землянке после перестрелки Водку пьют и сухари грызут. Празднует душа, а больше – тело. Господи помилуй – пронесло. Ну, помяло малость, ну, задело — Да ведь не по первое число. Капитан стоит у патефона. Вот пластинки кто-то приволок. Значит, будет эта ночь бессонна — С козырною дамой без чулок. А девчонка подставляет щёчку: «Может, потанцуем, капитан?» Он ещё напишет эту строчку. Выстрелит ещё его наган. Рифмы в вальсе кружатся покуда, Чтобы слышно было из окна, Как беспечно звякает посуда, Как блатная музыка хмельна. В Кракове я встретил эту строчку, Где подковы в темени искрят. Так что возвращай долги в рассрочку, Если пощадил тебя штрафбат.Это, наверно, был вызов его тогдашней поэтической неоткровенности. Он сказал:
– Ну, ты босяк. По-моему, так и было…
Будучи честным в каждом своём написанном слове, он признался в статье «Цена жизни», что, по правде говоря, остался в долгу перед годами войны и перед собой на войне. «В 2004 году „Литгазета“ в рубрике „Победители“ опубликовала моё краткое интервью, где я рассказываю о том, что выпало на мою долю в годы войны. Вскоре я получил письмо от харьковского поэта Романа Левина, знаменитого „мальчика из Брестской крепости“, о трагической судьбе которого написал когда-то Сергей Смирнов. Переживший в детстве ужас сорок первого года, Роман Левин в этом письме говорит: „Читал твоё интервью к шестидесятилетию Победы, подумал, что почти ничего не знал о твоей военной судьбе. Воистину, ты не любил об этом распространяться в отличие от многих и меня грешного“».
Почему же так произошло? Всё шло вроде бы своим чередом. После войны – исторический факультет университета, Литературный институт, наставники – Василий Казин и Павел Антокольский (которого вышибли в ходе борьбы с космополитизмом). Оставшись без творческого руководителя, Ревич посещал занятия Владимира Луговского, уже не очень «хорошего», не всегда трезвого, на грани ухода из института. Выпускали молодого поэта Семён Кирсанов и Ярослав Смеляков. Было это в пятьдесят первом. Начались будни профессионального литератора. Упор, чтобы прокормиться и найти себя, был сделан на переводы (большой популярностью пользовалась так называемая советская «мистификация», подарившая читающей публике, к примеру, Джамбула и других акынов и ашугов).
В первых книгах Ревич всё-таки пытался, как умел, «распространяться» – чтобы не хуже, чем у всех, но делал это с некой натугой, исходя «из заданной темы», хотя война зверски испытывала его на прочность, растаптывала. Слова не обрели подъёмно-образной силы, в них отсутствовала вера в себя, победителя, и побратимов, раскрепощённость, готовность стать афоризмом эпохи, её поэтической формулой. У Юлии Друниной (да простят меня её почитатели) не было такого мощного дыхания, какое появилось у Ревича, когда настал его звёздный час, но – согласимся – без её хрестоматийной строфы не могли обойтись составители сборников, выходивших ко Дням Победы: «Я только раз видала рукопашный. Раз наяву. И тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». Конечно, строго говоря, это несколько умозрительно, зато вполне достаточно для впечатляющей формулы, выведенной поэтессой-фронтовичкой.
А вот у Александра Ревича в книге «След огня» ничего подобного вообще не найти. Он уже хорошо владел формой, чему способствовала, в частности, переводческая работа, а выше среднего, утверждённого идеологическими канонами, уровня подняться не мог. Словно бы ему, тогдашнему, посвящены знаменитые слова Бориса Слуцкого: «Широко известен в узких кругах, как модерн старомоден, крепко держит в слабых руках тайны всех своих тягомотин». Действительно, его «тягомотины» – трагедии и драмы – оставались под спудом, стих был лишён самого главного – тайны. Ревич частенько своим трогательным баритоном напевал Александра Галича, которого обожал и знакомством с которым гордился: «…Вот мы и встали в крестах да в нашивках, в нашивках, нашивках, вот мы и встали в крестах да в нашивках, в снежном дыму. Смотрим и видим, что вышла ошибка, ошибка, ошибка, смотрим и видим, что вышла ошибка, и мы – ни к чему!», не забывал Алик и галичские внешне ёрнические строфы, окрашенные гитарными переборами, о жутких тягомотинах: «…Нам этот факт Великая Эпоха воспеть велела в песнях и стихах, хоть лошадь та давным-давно подохла, а маршала сгноили в Соловках».
А вот ещё одна важная деталь – чем именно восторгался Александр Ревич в Илье Сельвинском, которого называл своим наставником и о котором опубликовал эссе «Седое с детства поколенье»: «…вернёмся к противостоянию поэт Сельвинский – советское государство. Об „Улялаевщине“ мы уже говорили. В ней поэт объёмно отразил страшную национальную трагедию (выделено мной. – В.М.): тогда, в гражданском шквале, худо пришлось всей стране, всему народу, независимо от классов, сословий и национальностей. Не могла партия победившего пролетариата одобрить такое произведение. А ведь „Улялаевщина“ наряду с „Тихим Доном“, – едва ли не лучшее произведение о Гражданской войне, наиболее ярко выразившее её ужас (выделено мной. – В.М.)». К сожалению, подобного художнического мужества Ревич, автор первых своих книжек, перенять у гениального учителя не рискнул. Впрочем, может, дело тут и не в пресловутом риске. Требовались какой-то перенастрой философско-творческого аппарата, готовность писать без оглядки. Не зря же Осип Мандельштам в «Четвёртой прозе» все произведения мировой литературы делил на разрешённые и написанные без разрешения.
Что знаменовало собой время появления первых книг Александра Ревича? То была пора выступлений перед лицом истории свидетелей от имени погибших в тридцатых и арестованных в пятидесятых – уже после войны, пора обращения к читающей России, вдохнувшей воздух «оттепели», пора наступления на читательские умы самиздата и тамиздата, «дела» Синявского-Даниэля, «Синтаксиса» Ал. Гинзбурга и эмигрантских «Граней», таких шедевров, как «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Архипелаг ГУЛАГ», «Матрёнин двор» и «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына, «Верный Руслан» Георгия Владимова, проза Андрея Платонова, Владимира Войновича, Сергея Довлатова, Юрия Домбровского, Виктора Астафьева, Юрия Казакова и т. п. Того, что оставляло в душах читателей неизгладимый след.
А вот «След огня», который Александр Ревич, по его словам, долго вынашивал, прошёл, если так можно сказать, бесследно. Он не потрясал, не будил воображение, не пробуждал желания повторять наизусть за автором его строки, ибо они, аморфные, едва ли не во всём соответствовали установленному стандарту. Открытия? Их не было. Здесь – вполне естественная радость оттого, что лирический герой остался жив, хотя, казалось бы, ему, по его словам, «некуда было деваться», «некуда укрыться» – «ни в камни, ни в траву». Часто наивная, нарочитая усложнённость ритмики и строфики не сказывалась на интонации, не располагала к откровенности, к новизне, пусть и непривычной и даже пугающей. Ничего не добавляет к широко известному, ставшему обыденным перечень того, что именно дрожит под огнём батареи («мой тротуар, мой двор, мои деревья» – перечень легко продолжить). В ход шло нечто растиражированное. Например: «Я остался жив не потому ли, чтобы ты, хорошая, жила», «Я топтал чужие огороды, чтобы кто-то их возделать мог». Пережитое уносится… в сон (!), зыбкий, убегающий от бреда-страдания: «…снятся сны неясные, их не переупрямить, нам снятся сны ненастные – предчувствие иль память». Вот только нет в стихах ключа к раскрытию образного значения и «предчувствия», и «памяти». Прозаичны, по сути, строфы «Поединка»: «Тебя пригнали. Меня не гнали. Я дома был. Ты в чужом дому. Мы с тобою встретились среди развалин, и врагами были мы потому. <…> Но о нашей встрече писалось в сводках, затаили дыхание материки. Ты вскинул оружье. Так, значит, вот как!..» Ни шагу – в сторону! Всё – по наезженной колее.
Вера Калмыкова в статье «Если душа родилась крылатой…»[49] проигнорировала, вольно или невольно, этот очевидный провал. Она настаивает на том, что «истинный поэт может видеть, как события его личной жизни складываются в единый контекст». А тот, на её взгляд, «приобретает общечеловеческий, общезначимый смысл. Понимание этого позволяет ощутить перекличку ранее написанного с поздним. В поэзии Александра Ревича множество подобных перекличек: так связаны единой темой книга „Прощание с веком“ и поэма „Начало“, от которой тянутся нити к поэме „Воспоминание о Златоусте“…» Хочется заявить: позвольте не согласиться. Вот как раз в поэме «Начало» – всё то, от чего впоследствии отказался поэт, отказался сознательно, решительно и бесповоротно. В ней и близко нет того, что сформировало феномен Ревича. Она вся – на тормозах, на том, что критики зовут непреодолённой прозой, беспредельно растянута, и автор-художник прибегает к услугам автора-документалиста, переходя на язык очерка (точнее – его подобия), чьи куски в чужеродной среде не могут не вызвать досаду у читателя. Вряд ли мы назовём поэзией, допустим, такой «протокол»:
«…Так мы шли на восток втроём. Третий прибился в дороге. Сказал, что из морской бригады. Пашкой звали. Немолодой. Усатый. Поначалу мы ему не доверяли, не говорили, кто мы. Дескать, рыли окопы. Гражданские, дескать. Мало ли кто ходил по дорогам.
– Где вы достали фашистский пропуск на имя Антона Лаптия?
– Я ведь уже говорил: дал хозяин в одном селе. Рядовой. Тоже был в плену, отпустили домой.
– А почему вы не ушли в партизаны?
– Степь, какие там партизаны? Ни гор, ни леса…
– Кто хотел, находил партизан. Степь – не довод».
Проза, хоть и приукрашенная «лирической орнаменталистикой» («подрумянками», как выразился Павел Флоренский в «Иконостасе»), сплошь и рядом таится также в рифмованных и ритмизованных строках – не только в одних «протоколах-отчётах». «Я никогда не бывал в аду, скоро туда войду. Собственно, ад уже начался – первый огненный круг. Нет обратных дорог, все отрезаны начисто. Что же нас ждёт в остальных кругах? Какая мука и страх? Пламя? Оно уже плещет. Петли? Ложатся на плечи. Будут котлы смолы, будут и печи…» Концовка «Начала», кроме всего прочего, свидетельствует о неполной самостоятельности автора, о мотиве, довлевшем исподволь над замыслом, – а именно мотиве блоковском (проистекающем из «Двенадцати»): «Берег. Азовское море. Туманное взгорье. Домики на косогоре. Шаг. Ещё. Под ногами ломается лёд. – Стой! Кто идёт?»
5
Для Александра Ревича включение поэмы «Начало» в избранное – иллюстрация не творческих достижений, а, напротив, путей к ним вместе с ухабами и колдобинами. Напрасно Вера Калмыкова не обратила внимания на то, что сам автор говорил об этом произведении в одном из интервью. Ал. Ревич не скрывает, что поэму, в необходимости которой он никогда не сомневался, убила проза. Однажды он понял: «Важнейшее, что случилось со мной в жизни: трагическое начало войны и плен, – в цикл (стихотворный. – В. М.) не влезает. И я попытался написать странную поэму – чуть-чуть склеенную. Сюжет раскололся: с одной стороны – эпизоды происходящего, и – где-то в будущем – обсуждение этих эпизодов во время протокола допросов. То есть я, по существу, попытался создать некую драматическую поэму. <…> Сельвинскому она очень понравилась. Он считал, что я его ученик. На самом деле – иное. Я потом понял одну вещь: поэма нужна, но очень короткая».
Разумеется, не в краткости одной суть. Нужна была ничтожная, но идущая от Провидения, «искорка», – редчайшая прихоть Судьбы, рождающая Художника, о которой столь проникновенно говорит Борис Пастернак в письме Р. М. Рильке: «Как исстари, так и теперь и здесь всё зависит от воли случая, которая, будучи воспринята глубоко и своевременно, приводит именно к недостающему преломлению (курсив мой. – В. М.). Тогда всё становится до глупости простым <…> и постигающим течение времени, свободным и роковым. Тогда заново становишься поэтом, после того, как восемь лет не знал этого обессиливающего счастья. Так случилось со мной в последние дни, а до того долгие восемь лет я был глубоко несчастен и всё равно что мёртв…»[50].
«Недостающее преломление» должно было осенить поэта Александра Ревича, который сознавал, что он отпугивает (именно так – отпугивает!) от себя чудеса. «Летит оса – кричу: „Летит оса!“ Садится дрозд на ветку – „Гляньте! Птица!“ Зарница вспыхнула – кричу: „Зарница!“ Роса горит – кричу: „Горит роса!“»; сознавал, что нельзя «пугать чудеса», что необходимо изжить очевидность во имя открытия своего мира со всеми его «тягомотинами».
Даже в первых двух своих книгах он предчувствует эту необходимость – и в такие миги не боится правды: «…Расстаёмся с позой. И каждый жест, и каждая из фраз вдруг обернутся третьесортной прозой, прочтёшь такую – забываешь враз. И прежде незаметные детали, и самые обычные слова вдруг стали оскорблять, коробить стали…» Пусть это ещё «спрятано» в «проходных» строчках (таких, как «никто не прав, никто не виноват»), но ведь горькое чувство авторской неудовлетворённости бросается в глаза, обещает перемены в будущем. Кое-где неожиданно обнаруживаются щемящие интонации Ревича поздних времён («Вы простите, милая пани, – не шепчу вам слов, как в романе, вам, влюблённой в пана Шопена, молодого, худого шатена. Стыдно мне, что такими словами вдруг унижусь пред гордой, пред вами…»).
6
Да и то надо взять в расчёт, что круг общения Ревича оказался, к счастью, как на заказ (сегодня о таком приходится лишь мечтать). Он был в приятельских отношениях с Сергеем Васильевичем Шервинским, Акимычем – Аркадием Штейнбергом, Николаем Глазковым, Львом и Софьей Славиными, Арсением Тарковским, Семёном Липкиным, Инной Лиснянской, Евгением Рейном, Ильёй Крупником, Евгением Войскунским, Ильёй Френкелем, и те, легко прощая его взрывчатость и противоречивость, принимали его безоговорочно и с благодарностью. Каждый из них был ему дорог. Об этом он писал хотя бы в стихотворении «Снова в Голицыне», посвящённом памяти Славиных: «Но дай нам встретить тех, кто вместе с нами делил печаль и радость заодно, кто нашими не становился снами, а наяву стучался к нам в окно. <…> Ах, дорогая Софа, славный Лёва, как нам сегодня вас недостаёт, ведь нам жилось, как говорится, клёво, хоть эта жизнь совсем была не мёд…» Когда кто-то из друзей уходил из жизни, на него обрушивалась горечь утраты, оборачивавшаяся стихами огромной силы, «со слезой», как любил он говорить. Вспомним хотя бы строки, посвящённые памяти Глазкова («…Ты хитрющим подмигивал глазом, ты дарил нам четыре строки и, готовый к дразнящим проказам, вечно с чёртом играл в дураки. Дело, друг мой, не в полном стакане, всё веселье мгновенное – прах, но коль держится мир дураками, так ведь умных полно в дураках. Что ж ты, леший, давно не приходишь? Заглянул бы на час или два. Может, снова по северу бродишь? Без тебя и Москва – не Москва»), Тарковского («…Вот они, знакомые черты, прежний голос твой, твой давний зуммер. До чего ж я рад, что это ты, что живой, что рядом, что не умер. Что-то ты сказал, но я не мог разобрать слова в застольном гаме, где ни слов, ни стихотворных строк. Что стихи? Бог с ними, со стихами»), Штейнберга («…От самого младенчества до гроба скитается душа в жару и холод. Что толку плакать, мы бродяги оба, есть молодость, и та – покуда молод. Смыкаются над нами воды Леты, холодные, как глубина колодца. Что толку плакать, мы с тобой поэты, есть песенка, и та – пока поётся»).
Да, далеко не сразу удалось Ревичу утвердиться «в звуке, в свете, в печали, в том, что волей Творца было Словом в начале и не знает конца». Мы уже убедились, что поначалу, как множество «слагателей рифм», он вёл поиски новизны, опираясь прежде всего на внешнюю стиховую структуру саму по себе, нарочито усложнённую метрику, интонационные перепады, которые должны были, по его убеждению, поражать и впечатлять читателя. Вместо того чтобы прыгать из окна за вечно ускользающим образом (вроде того полоумного, сиганувшего на крыльях с храмового купола), он бежал с самого верхнего этажа по лестничным пролётам, уверенный, что двери подъезда никогда не закрываются на замок. И продолжал бы ломиться в открытую дверь, если б его собственный мир однажды, «как невынутый осколок», не «шевельнулся под ребром».
О триумфальном шествии победителя речь, конечно, не идёт: в те поры никто и не помышлял ни о Перестройке, ни о Гласности, которым, вопреки отжившей идеологии, будет суждено наконец-то позволить поэзии религии, по выражению К. Н. Леонтьева (1887, Оптина Пустынь), вытравить из человека с широко и разносторонне развитым воображением поэзию изящной безнравственности. Придёт срок, и Александр Ревич вдруг совершенно по-новому посмотрит на книгу, которую ему предстоит написать: здесь не должно быть «кульминаций, завязок, развязок, как это бывает в искусных рассказах», здесь место – «только смятенью», «здесь только душа».
Происходили сдвиги.
У него всё закономернее появлялись строки и строфы, которые запоминались, поражали. «Чаще путь не доброволен, путь – приказ и приговор, путь минированным полем с проволокою в упор»; «Вот вокзалы, где надо прощаться, вот сады без плодов и без крон, вот квартиры, куда не стучатся, вот застолья в конце похорон»; «Я не могу свернуть на давний наш просёлок, на этот вязкий путь среди знакомых ёлок, где слева был закат и чёрный омут – справа, где всё гремит раскат проезжего состава…»; «На полузвуке голос горна умолк. Сигнал оборвала пробившая горнисту горло степного всадника стрела…»
Ревич всё дальше и дальше уходил, убегал от канонов. Его Орфей ничем не походил на общепринятый образ сладкоголосого певца: «Орфей был пьян. Он пил шестые сутки, как истинный фракиец и поэт. И с визгом разбегались проститутки, когда он бил фужеры о паркет, когда, оркестр кабацкий заглушая, истошно он вопил бессмертный бред». Поэт не только умолял: «Помилуй, нас, Господи Боже!», но и уточнял: «Дай глупцам Своё терпенье Божье, дай увидеть истину слепым». Оказывается, и во всеоружии поэтического мастерства, которое само по себе мало что значит, можно прозреть, принять в себя движение как музыку пространства. «Тело ветра» не ускользало от него и прежде, но сейчас ему открылся закон, по которому это тело изображается при важнейшем, понятном далеко не каждому условии: «очертания видим только в примятой траве».
7
Лирика Ревича прошла свою Перестройку, преодолела инерцию слова. Он стал достигать цели, тратя на это минимум строк, «где в каждом звуке, в каждом ладе – душа…», стал зависеть от прозы жизни. «Не думать никогда о чистогане, не дожидаться спелых виноградин. Не плачь, мой друг, ведь мы с тобой – цыгане, есть конь у нас, и тот чужой – украден». И верно, всё берётся у быстротекущего мига, берётся за-ради сотворения своих пространств, с пониманием того, что значит соотношение поэтической дерзости, с одной стороны, а с другой – «костей смиренных» и «сердца сокрушенного и смиренного»[51]. Уже и «Тарханская элегия», и особенно «Поэма позднего прощания» свидетельствовали о намечавшихся коренных сдвигах в поэтике Александра Ревича, где затеплились «огни церковных свечей» во имя того, чтобы и в лирике, и в поэмах, как говаривал Виссарион Белинский, выражалось главное в них – «горестная участь личности», которая воплощается через совместное движение времени и пространства.
Прочитав мой гоголевский цикл, Ревич обратил внимание прежде всего на такие строки: «Где ж ты, пламя? Хотя бы сегодня ударь. Только лижешь страницы по краю. На Васильевском острове старый фонарь умирает – и я умираю. Тот фонарь в окруженьи чудовищных плит. Запредельностью каждая дышит. Я хочу закричать – ну а будочник спит. На коленях картуз. И не слышит…» Его задели за живое эти плиты. Не с мостовой же они, говорил он, мистикой от них веет, жуткой безнадёжностью. И ответил мне двумя стихотворениями. В первом – предположил: «Мой друг, удручён ты чужою виной и веком, не щедрым на льготы». И наставил: «Но жизнь никогда не бывает иной, и круты её повороты, но круты её повороты, когда от копоти меркнут светила, и падает с неба не искра-звезда, а рушатся тонны тротила…» Во втором же – посоветовал беречь себя: «…открещиваюсь, но, похоже, напрасный труд, и всё смелей кривые вылезают рожи из всех отдушин и щелей, как Вий, глядят с телеэкрана, о правдолюбии орут, прикончат поздно или рано тебя, Хома, несчастный Брут, не слушай их речей, не надо, не содрогайся, не смотри, читай, не поднимая взгляда, свои молитвы до зари». Да вот сам успокоиться не мог – и думал о криворожих, и ощущал себя рядом с Осипом Мандельштамом, не ожидая ничего хорошего от завтрашнего дня: «…Перед дальней дорогой сидели, перед тем, как затерянный прах успокоится в дальнем пределе где-то там, у чертей на рогах».
«Недостающее преломление», о котором писал Пастернак, неотвратимо внедрялось в душу и, следовательно, в поэзию Александра Ревича, неся с собой смену некоторых смолоду приобретённых творческих пристрастий.
В формировании поэта колоссальную роль сыграла переводческая работа. Он жил (как, например, Тарковский и Липкин) на деньги от переводов, и всё же никогда не разделял мнение большинства своих собратьев, которые считали, что перевод – это донорство. Он брался за переводы великих поэтов. Он получал, чтобы тратить, и тратил, чтобы получать. Участливый Сергей Шервинский заметил в нём предрасположенность к непрерывной учёбе у иностранных поэтов первого ряда. И те действительно повлияли на творческое развитие Ревича. Среди них – Константы Ильдефонс Галчинский. Судьба подарила А. Р. дружбу с вдовой поэта. От Галчинского в немалой степени пошли раскованность, игра со словом. Ревич по-царски отблагодарил собрата. Переводы, сработанные им, необыкновенно точны, они передают всю искромётность, озорство и мудрость польского классика. Скажу без всякого преувеличения, что это жемчужины, это расширение границ переводческого искусства, которым так богата классическая русская поэзия.
Очень помог в становлении Александра Ревича и Поль Верлен, из западных поэтов наиболее близкий Борису Пастернаку (название книги «Сестра моя – жизнь» – по сути, верленовская строка: «La vie laide, encore c’est ma soeur»). Видимо, как считает Ревич, «моё внутреннее развитие, богостроительство совпало с интересом к его книге „Мудрость“». Он её всю перевёл. Аркадий Штейнберг по этому поводу сказал: мол, я догадывался, что ты способный, но не думал, что такой упрямец. Верлен научил Ревича видеть сквозь мир, научил импрессионистической атмосфере, «непреднамеренности».
Ну а Агриппа д’Обинье был с давних пор на прицеле у Ревича. В России Агриппу полностью не переводили, хотя это единственный поэт уровня Данте. У Шекспира, по мнению Ревича, нет такого напора, и Мильтон следовал за Агриппой, но писал лишь мистическую сторону бытия, то есть расписывал Священное Писание; у Агриппы это только одна ниточка его эпоса. Ревича донимала страсть – показать, как Агриппа пишет ветхозаветное и христианское Священное Предание, переплетая повествование с современной ему жизнью, по-дантовски помещая своих врагов в ад, расправляясь с религиозными и политическими врагами. Было дело, у Ревича спросили, зачем он взялся за перевод этого «тяжелейшего кирпича», на что он ответил: «Обычно переводчик вынужден дотягивать плохого поэта до своего уровня, вливать в него свою кровь и терять на этом. Когда я перевожу Агриппу, я должен дотянуться до его уровня. А это учение». Учиться Ревич не переставал никогда. Работая над Агриппой, замечал, как меняются его характер и почерк. Это не преувеличение. Тот же Борис Пастернак писал Р. М. Рильке: «Я обязан Вам основными чертами моего характера, всем складом духовной жизни. Они созданы Вами». Учась у Агриппы, Ревич выковывал также творческое упрямство.
И сказал вдобавок: «Стойкостью я, пожалуй, обделён не был, недаром с малыми потерями прошёл войну».
С малыми? Это поэтическая бравада – но весьма похвальная!
(…Несколько строк вдогонку. Когда вышла книга с «Трагическими поэмами» в издательстве «Рипол Классик», Александр Михайлович тотчас подарил мне её с таким шутливым автографом:
Дорогому Вове на здоровье, чтобы жил без лихорадки и гриппа.
Твой Агриппа.
Удостоверяет подлинность А. Ревич.)
8
Ревич в начале своего творческого пути убеждал нас, что «не хотел о войне», он «хотел о весне». Как бы там ни было, но должок за ним остался – и немалый. Его это терзало. Он сам об этом говорил и Липкину, и Тарковскому. В поэме «Начало» он обещал: «Жив останусь – вовек не пойду по льду, по морскому проклятому льду». Но пошёл всё-таки; ещё бы, такие вехи. Плен. Побег. Особый отдел (СМЕРШ). Штрафбат. Вернулся. Перед глазами поэта постоянно стояла страшная картина: «безоружная, на поруганье оставленная без единого выстрела, без единого взмаха клинка» родная земля за холмом, и давняя мысль: «Мне верит мой взвод, верю я командиру полка». Он вернулся, он нашёл в себе мужество и достойные краски, в тот край, в молодость, в тот самый ад, когда допекало так, что казалось: «Может быть, легче – пулю в лоб? – ни ожидания, ни муки. Может быть, лучше – навзничь в лог, раскинув ноги и руки?» И вырвались строки хрестоматийные по сути, без которых невозможно вести речь о творческой судьбе поэта. Звёздным часом отмечено у него 24 марта 1993 года, когда преломились время и пространство: «Время ринулось вниз по спирали, словно в штопор попавший пилот». Настоящего Александра Ревича мы увидели и услышали и в лирике этого периода, и в поэме «20 июня 1941-го», а также в «Поэме дороги», обретших свою музыку – музыку пространства. У Межирова была «тягучая нить молока», тянувшаяся «вдоль пульманов пыльных состава», у Ревича таких «забав» не было.
Каким был путь на войну? Воспользуемся на сей раз строфикой (для наглядности) и постараемся вникнуть в особенности сюжетной и метафорической пружины;
В окно вагона ветер резкий влетал, вздувая занавески, равнина, оттеснив леса, вращалась вроде колеса, звенели ложечки в стаканах, и слышались соседей пьяных из коридоров голоса, стучали невпопад колёса, им подпевал хриплоголосо нестройный хор о том, как «спят курганы тёмные», а следом — «шумел камыш», и с этим бредом — опять колёса невпопад, мелькали путевые будки, платформы, ветки чахлых крон, и пыльный харьковский перрон проплыл, как дым от самокрутки, и в будущее мчал вагон, оставив позади побудки, подъёмы, плац и полигон…В этом крутом жизневороте – окончательно сформировавшаяся способность изображать движение, без которого не бывает крупных (естественно, не по количеству строк) полотен. Я произвольно, проявив некое насилие, прервал цитату, хотя не имел никакого права останавливаться: ведь в самом тексте нет торможений, и всё здесь, связанное в тугой узел человеческого бытия, стремглав несётся до последней точки, которой не избежать и лейтенантику, и «девушке чужой, курносому русому ангелку», и пресловутой миргородской луже, ослепительно блеснувшей на пути следования поезда. Да и что тут вдаваться в подробности, когда с пушкинских ещё времён российская поэма держится на «тяжёло-звонком скаканье по потрясённой мостовой». Без него, без скаканья этого, действие фатально обескровливается, в результате чего получается нудное, бесконечно растянутое стихотворение.
«Скрипящий ремнями напоказ» юный лейтенант, ещё не попав на фронт, уже врывается (именно врывается, именно на полном ходу) в трагедию народа, в трагедию страны.
Мелькали встречные вагоны, телятники и пульмана, порою дух скотопрогонный врывался с ветром из окна, порой навстречу шли вагоны, такие же, как для скота, но проплывал квадрат оконный, где за решёткой темнота и лиц свеченье восковое, потом внезапно дым стеной и на площадке тормозной фуражки и штыки конвоя, вслед – едкий дым и зыбкий зной…Музыка движения такова, что читатель не успевает среагировать на звуковые чудеса последних (в цитате) четырёх строк (хотя… как не восторгаться тут: «…едкий дым и зыбкий зной»!). Казалось бы, всё неостановимо («Плыл мир, скрипели тормоза»), но поэзия как раз и пользуется этой скоростью, чтобы на контрасте зафиксировать самое основное и передать его «по цепочке»: «Конечно, в памяти короткой – вагон с тюремною решёткой, штык на площадке тормозной остались где-то за пределом, лишь на мгновенье между делом за маревом мелькнули белым, за душною голубизной…» Это очень напоминает «странный отпечаток неизбежной судьбы», о котором говорит Печорин в лермонтовском «Фаталисте». Разминулись два эшелона: один на войну, а другой – с зэками и их конвоирами.
«Странный отпечаток» – и на том, как в «Первомайской поэме» одновременно двигаются в разные стороны праздничные колонны с красными знамёнами и ликующей медью и совсем иная, скорбная колонна:
…И помню, замер я от звона, стального лязга кандалов. Кому взбрело на ум такое: на праздник, Господи прости, под сотнею штыков конвоя колонну узников вести?.. Брели сермяжные халаты под звон цепей, под лязг оков, ступали серые солдаты друг с другом связанных полков, как по Владимирке когда-то в цепях на каторгу брели рабы сермяжного халата, сыны моей родной земли.Отзвуки этого кошмара – даже в «Поэме о русском Париже» («тогда ещё шёл век двадцатый»), в трактире, «где две гитары на эстраде и „две гитары за стеной“», где «так на звук ложилось слово, что рядом, путаясь в словах, вдруг стали подпевать французы и все, пришедшие в кабак». Вот уж печаль (как не вспомнить: «Есть конь у нас, и тот чужой – украден»). «Под гитары пели внуки изгнанников страны моей». В данном случае вновь не только смещаются пространства, но и пересекаются времена. Вот чем оборачивается «вся эта скорость». Поэт и рад бы, как некогда, передвигаться по лону вод в чисто умозрительном ковчеге, да не выходит уже, – другие горизонты у него: «Мог бы я уйти за тот предел, слиться с бором, с лиственною кущей, но рукой зачем-то прикипел к поручню тюрьмы своей, бегущей в неизвестность…»
9
Вернёмся, однако, к нашему лейтенанту, к его бедам. Были скитания («Поэма дороги»). Как когда-то у отца, который, скрываясь от будёновцев, шёл с Кубани «с посохом корявым и мешком от станицы – по степи – к станице». До чего же болезненно это движение! Но всё равно безостановочно. Ещё более скоротечный и трагический характер приобретает оно, когда разговор заходит о сыне. Трудно не согласиться, что «мир широк, да некуда уйти от себя, от времени и дома». От дома – в смысле от России, конечно. «Двадцать с лишним лет спустя из плена» уже сын брёл «с посохом и торбою», «спал в омётах, зарывался в сено». Был трибунал. Заседал в нём, может быть, наш знакомый – дядя Ваня (из «Поэмы о доме»), истязатель нянечки, деревенской женщины Татьяны, мужик, любивший надевать по праздникам «шлем со звездой, бекешу с бантом», спешить навстречу «оркестрам, флагам и речам». Нетрудно представить, как он выкрикивает: «Сдался в плен и сдал своих солдат! …К высшей мере!.. заменить!.. штрафбат!..» Теперь-то, думается, в самый раз посмотреть на этого дядю Ваню глазами мальчика.
…однажды в полдень жаркий, в чьём солнце плавился квартал, при выходе из нашей арки я дядю Ваню увидал. Он шёл босой, в рубахе рваной, с подбитым глазом, в бороде, передо мной был взгляд стеклянный, каких не видел я нигде. Он шёл, меня не узнавая, он шёл, не видя ничего, и уходила мостовая из-под нетрезвых ног его.Никакой статики! Это движение сродни достоверности, подкрепляемой глаголами «увидал», «видел», «видя», всюду звучащими песнями тех лет: «Как машинист машиной правит, а кочегар баланду травит», «На бой кровавый…», «Мы в бой пойдём…», «Марш, марш, вперёд…», «Катюша», «Закурим по одной…», не песнями даже, а их обрывками, похожими на клочья паровозного дыма, которые рвутся встречным ветром. Уходящая из-под ног мостовая подчёркивает весь ужас происходящего: «Я снова мальчик, снова трушу, хотя всё знаю наперёд, когда Россия прямо в душу в дымину пьяная бредёт»…
Ну что ж, штрафбат, так штрафбат. Не в расход всё-таки. Казалось бы, скапустится в этом месте стих и утратит сумасшедшую скорость. Ничего подобного! Никаких остановок! События, требующие особых изобразительных средств, мелькают, мелькают, мелькают, не становясь от этого мельче, – напротив, центрифуга действия усиливает перегрузку.
Может, ещё вывезет кривая? Жизнь идёт, размерен стук колёс, мчит состав, дай Бог, не под откос, мчат вагоны, стук не прерывая, ничего, что за стеной конвой, что вокруг штыки заградотряда, слава Богу, кончено с тюрьмой, всем паёк положен фронтовой, живы все, чего ещё нам надо?И в этом селевом потоке «молодой безбожный вертопрах», воспринимающий за своей спиною конвойных как нечто само собой разумеющееся, счастлив оттого, что на «исходный выведут рубеж, а потом – наперевес винтовки и – на колья проволочных мреж без артиллерийской подготовки»!
Зачем же Верховному Главнокомандующему ради вот таких нужно было тратить снаряды? Это уже не «вертопрах», а поэт спрашивает, оглядываясь назад: «Чем вся эта скорость обернётся?»
10
Движение подчинилось перу Александра Ревича после того, как им была уловлена музыкальная, бетховенская и моцартовская одновременно, сущность хода истории и он ощутил нашу, несмотря на грехи наши, близость Сыну человеческому именно «в скорбях и боли»: «Мы все от плоти плоть, от кости кость и стискиваем зубы поневоле, представив, как вбивают первый гвоздь». От многого, что навязывалось прежними правилами «хорошего» литературного тона, пришлось ему отречься: «Когда нет жалости, какие там стихи! Устал я, милые, от всяческих ухваток, от силы напоказ, от прочей шелухи, от бега взапуски…»
Будучи истинным художником, Ревич признаётся в «Речи»: «Я смыслы образов и звуков множил, так семь десятков лет на свете прожил и только на восьмом заговорил». Вот она, важная, решающая веха в судьбе поэта, вот отчего «молодой безбожный вертопрах», «почему-то бережённый Богом», уцелел на войне. Музыка пространств переполняет все без исключения последние его стихи. Характерна в этом отношении «Электричка», в которой «мир отверстый, земной, заселённый» залит стремительным светом, чуть ли не эйнштейновским, воплощающимся в поэтическом звуке, из чего следует: «Ну и что же? – ты спросишь. Не знаю. Но в окне от столба до столба полевая мелькает, лесная сторона, придорожье, судьба». Судьба поэта Ревича. От судьбы теперь уже ничего неотделимо, ибо в дело вступило то самое «преломление», доступное лишь большим художникам. А какова плотность, какова художественная насыщенность его поэм, – притом, что в каждой не более 130–140 строк! Тем не менее на столь крохотном плацдарме свободно умещаются город детства с его площадями, улицами и переулками, подвал, в котором орудовал сапожник, вбивая ловко гвозди в каблуки, «игрушки резал мне из чурки, смешные разные фигурки», здесь же – гарцующий по брусчатке военный оркестр, и небо с аэропланами, и дворы с арками, и поля сражений, и чёрная птица «среди химер на Notre-Dame», и южный базар («… гляди во все глаза, тут столько и питья, и корма, а краски! – плахты и платки, дородных статей украинки, бутылки, сало, яйца, кринки, плодами полные лотки и горы красных помидоров. Тут к месту – лужа, в луже – боров. Ну чем не Миргород тебе?», а ещё слободки и станицы Кубани, и «кочки да хвощи», и туманы, и ветра, и дожди, и «мимолётные рощи», и болотца, и кукурузные заросли, и чертополох… Как раз то, что, ошеломительно проносясь мимо, не даёт ни единому лишнему слову встать поперёк, тормознуть сюжет.
Это безусловное, нуждающееся в глубоком, непредвзятом анализе достижение в нашей литературе. А вот по достоинству оценить такое достижение поэтический цех не торопился. У него, у цеха, свои соображения имеются. Ориентиры утеряны, и сплошь аномальные зоны. Все сёстры давным-давно получили по серьгам. Кто смел, тот и съел. А кто опоздал – не для тебя этот бал. Особенности эпохи в расчёт не берутся.
Межиров когда-то съязвил: «До тридцати поэтом быть почётно, и страх кромешный – после тридцати».
Но не так-то просто было делать вид, будто Ревич, если не касаться его завоеваний в области поэтического перевода, – явление заурядное, рядовое. Следовало найти компромисс, и тот был для всех очевидным: Ревича выдвинули на соискание Государственной премии как переводчика «Трагических поэм» Агриппы д’Обинье. И за то спасибо.
…Я умолял Ревича жить как можно дольше; здесь примешивался и эгоизм, если честно признаться: не было у меня в жизни более чуткого и совпадающего почти во всём со мною собеседника. А ведь недаром кто-то из великих сказал, что поиски любви – это поиски собеседника. Из всех хвороб мой друг-боец выходил победителем, хотя казалось, что вот на сей раз… – но нет, к счастью, он возвращался к жизни, полный планов и надежд, радующийся и солнцу, и дождю, и грозе с ливнем, и снегу, и новым книгам, и открытиям в науке.
И вдруг он стал мне звонить с одними и теми же словами: «Я опять упал… Не могу стоять… Я умираю…» Он несколько раз просил меня прочитать ему мои стихи, которые я посвятил памяти его дочери Леночке, ребёнком ушедшей из жизни. Мария Исааковна, Мурочка, жена А. М., отчего-то боялась этих стихов, предупреждала, что если я их опубликую, она с собой что-нибудь сделает. «Читай, – говорил Ревич. – Это сейчас для меня очень важно». И я читал:
* * *
А лошадка скакала, скакала, скакала…
Леночка Р. (когда ей было четыре года) Что приснилось тебе в колыбели — Вдруг привиделось, девочка, мне. И глаза у тебя голубели, Будто повод к Троянской войне. Здесь и почва предательски шатка. Но не плачь. Я тебе не солгу: Детским гением скачет лошадка, Не застрянет в грязи и в снегу. Будет сердце девчоночье биться, Если в вечность уходит строка. Не подкованы эти копытца. До свиданья, лошадка. Пока.Спасибо тебе, говорил он, а вслед за тем (как это было на него похоже!) – о тревогах сегодняшнего дня. Голос очень слаб. А какие слова!
– Обрати внимание на последний абзац моего предисловия к Агриппе. Вот у меня в руках эта книжка. Алло! Ты слышишь меня? Ну так слушай: «Как литератору, много лет переводившему стихи д’Обинье, а за последние семь лет, на исходе своей жизни завершившему перевод „Трагических поэм“, мне не сразу стало ясно это грозное сходство наших эпох. Хотелось бы, чтобы человеческая история, написанная замечательным французом, была поучительной для нас». Понимаешь, к чему я?
Из дневника.
«20. Х.2012. Написал Жене Евтушенко, что Алик очень плох.
21. Х.2012. Письмо от Е. Е.
САШЕ РЕВИЧУ
Слух проник и в Оклахому, что старейший наш поэт, с глаз России сняв трахому, благодатный дал ей свет. Непричёммнепридворевич! Саша Ревич – притворевич. Он во взрывчатый тротил даже старость превратил!22. Х.2012. Письмо в Талсу, Оклахома. Е. Е.
Женя, дорогой! Спасибо тебе. Как ты понял, Алик наш Притворевич был счастлив и поручил мне отозваться в том же духе, в каком я и постарался на скорую руку. Твои слова успокоили его, он сказал: пахнуло пряным воздухом Мтацминды и Коджор и солоноватым бризом Батуми и Кобулет. Он помнит то, что ты написал о нём в Антологии русской поэзии в статье «Драгоценно запоздалый», и прочитал слабым, дрожащим голосом самое дорогое для него оттуда:
…Разрешений нам не надо, даже если канонада, если танки прут по нам. Распрямляемся мы после, и чем более мы поздни, тем нужней всем временам. Запоздалого расцвета не бывает для поэта. К сроку – всё, что для людей. Ну а тот, кто к сроку вырос из всего того, что вынес, чем седей – он молодей.Подумали вдвоём и об ответе. Так и родилось:
Притворевич дал ответ: Сил на рифму нынче нет. И на прозу не хватило. Но скажи ему, что та Доброта и теплота — Повитуха для тротила.24. Х.2012. Письмо в Талсу, Оклахома. 22.44.
Женя, у меня печальная новость: сегодня в 20 часов скончался Ревич. Я ждал, что это случится вот-вот, но, как обычно бывает, кончина Алюни была для меня будто гром среди ясного неба. Последние дни он мне говорил, что во сне на него обрушивается ярчайший свет. И последняя книжка его называется «Перед светом». Жаль, он не увидит её. Послесловие к его избранному («Дарованные дни») я завершил такими словами: «Логотипом всего созданного Александром Ревичем вполне может быть эпиграф к его книге „Чаша“: „Беспроволочный телеграф души сигналы шлёт в распахнутую бездну, в иные времена. И пусть исчезну – ты, речь моя, исчезнуть не спеши“. Пленник эпохи, он воссоздал-таки „горестную участь личности“ и, говоря словами из его же стихотворения, „возвратился на свою Итаку“. В этих словах – отчётливейший гул движения „времён и пространств“. „Смутный путь, сомнительная эра, и куда кривая занесла! Что нам до Итаки, до Гомера! Но горят ладони от весла“. Что ж, такими мозолями можно гордиться». Царствие небесное нашему Алюне. Осиротил он меня. И не только меня. Извини, что пришлось сообщить тебе такую весть. Да куда ж деваться…
25. Х.2012. Письмо от Е. Е.
Володя! Произнеси это на панихиде от моего имени:
«Вроде неловко произносить такое сочетание – „завидная смерть“, а вот к уходу Саши Ревича это вполне приложимо. Его дарование не только полностью раскрылось и утвердилось именно в последние его дни, настолько высветилось не только для него самого и для тех немногих, кто понимает истинную цену Слова, но и для всех тех, кто успел раскрыть ещё свежие страницы его недавно вышедшего избранного „Позднее прощание“ и вдохнуть то, что они завещайно шелестят нам. Достаточно прочесть хоть однажды «Что нам до Итаки, до Гомера!..», чтобы уразуметь надысторическую силу понимания истории, позволявшую ему столькое в ней соединить в ещё не всеми открытое и запомненное, но предназначенное стать незабываемым. У тебя ещё будет непредставимо много учеников и читателей, Саша, если… если… будущие поколения России найдут в себе силы выполоть беспощадную, удушающую траву забвения и выращивать траву незабывания, которая ещё многое нашепчет нам, чтобы мы не потеряли в себе душу живую, ибо ПОКА НИЧЕГО И НИКОГО НЕ ЗАБЫВАЕМ – МЫ ЖИВЫ».
28. Х.2012. Письмо в Талсу, Оклахома.
Женя, дорогой! Вчера мы похоронили Алика Ревича. Вначале – отпевание в Знаменской церкви, недалеко от станции метро «Рижская», рядом с домом, где он жил. Впервые видел, как не мог сдержать слёз батюшка – отец Павел. Лёг в землю дорогой наш Притворевич на Ваганьковском. Потом были поминки в ЦДЛ. Вёл их я; народу было очень много. Я зачитал кое-что из некролога, который я дал в Литературку (будет напечатан в среду) и перешёл к откликам, пришедшим из разных стран по интернету, прежде всего – к твоему (выслушали в потрясении), присовокупив к нему всё, что сказано тобой об А. Р. в «Строфах века». Мурочка, вдова Сашина, попросила меня передать тебе благодарность и написать, как было дорого Алюне твоё внимание к нему. Я высказал намерение взять на себя подготовку книги воспоминаний о Ревиче…
* * *
И в заключение: ежедневно твержу как молитву завещанные мне Александром Ревичем строки:
Что толку в раскрытии чьей-то вины: в нападках то справа, то слева? Избави, Господь, от чумы и войны, сумы и тюрьмы, и от гнева.«Что толку плакать? – говорю я его словами. – Мы с тобой поэты».
Глава 9. Сретенье Светланы Кузнецовой
1
Глядела и знала – отныне Уж мне никуда не уйти, В окраинной этой пустыне, На этой земле отцвести. Светлана Кузнецова (80-е)В «Горьком чешском шоколаде» я уже говорил, что есть мистика, связанная с судьбой пишущейся книги: неизвестно откуда возникают яркие идеи, о которых прежде и не предполагал, появляются необходимейшие слова и образы, неожиданные материалы, дающие возможность переосмыслить сюжет и добиться впечатляющей достоверности. Так у меня произошло и на этот раз, когда я взялся за портрет Светланы Кузнецовой. Решающим, в каком-то смысле, толчком послужила монография «Русские напитки Руси»[52].
Вот уж неожиданность! В этом издании многие главы подкрепляются (конечно, не в смысле градусов) стихами великих поэтов, в том числе Пушкина (из «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова»). И здесь же, в почётном ряду, – «Кубок» Светланы Кузнецовой:
Вновь напомнит мне о проводинах, О несбывшемся позднем тепле Старый кубок на трёх карабинах, Что стоит у меня на столе. Кубок тот, что хотела когда-то За любовь я тебе подарить, Но иной получилась расплата, И не мне про неё говорить. Через долгую-долгую муку, Через век, что годов не считал, Я опять протяну к нему руку И почувствую грузный металл. И почувствую чью-то удачу, И почувствую чью-то беду, И вопросом себя озадачу: Что же я от него ещё жду? И какого ещё откровенья? И каких молодых соловьёв? Разве только хмельного забвенья, Красной влаги до самых краёв…Сказать бы мне, что это высшей пробы популярность, признание, но приходит на ум иное – горькие Светланины часы, тяга к этому кубку «на трёх карабинах», дарующему забытьё и робкую надежду, а потом… угасанье позднего тепла, проводины, раннее прощанье. Она хотела забвенья – и тем не менее осталась в каждом своём слове. И слово моё о ней началось с того, что я открыл книгу стихов Инны Лиснянской «Из первых уст», а в ней, между страниц, – фотография из нашего далёкого прошлого: Инна, её муж Гриша (Годик) Корин, Светлана и я (с гитарой в руках). Почему с гитарой? Я пел песни, которые нравились моим друзьям. Светлане больше всего – народная «Когда стану большая, отдадут меня замуж, отдадут меня замуж во семью большую…» Она говорила:
– Написать бы такую – и жизни не жалко.
Нравилась и моя, новогодняя, со Снежной Бабой: «Пусть мне даст метлу и ведро. Пусть зажгутся два уголька. Вот фамильное серебро – из соседского флигелька».
На обороте снимка – бледная карандашная надпись: «Сегодня ребёнку десять лет. Мы отмечаем юбилей. 18 октября». Выходит, было то в 1961 году. А ребёнком я называл дочь Инны и Гриши, Леночку (которой будет суждено стать Еленой Макаровой, известным писателем и куратором международных выставок), и она охотно откликалась на такое моё обращение, в ответ называя меня Володей.
В моей памяти особенно ярко запечатлелись два моих прилёта из Тбилиси в Москву. И один из них пришёлся как раз на 18 октября. ТУ-104 приземлился ранним утром во Внукове.
Из аэропорта – на такси! Спешил, будто на пожар. Туда, где обосновалась после приезда из Иркутска Светлана, я устремлялся, проявляя солдатскую находчивость, то есть всяческими правдами и неправдами. Главный редактор Михаил Кузьмич Головастиков особо не возражал, поскольку давал мне разные поручения, связанные со столицей, и я, понятное дело, был счастлив выполнить их, да ещё и проявить инициативу.
День был дождливый и ветреный, но это нисколько не отражалось на моём настроении – может быть, даже придавало остроту восприятия, даже праздничность происходящего. Светлана, когда мы с нею встретились, сказала, что я молодец, что Лена будет рада повидаться со мной, предложила поехать в центр за подарками; мы зашли зачем-то в «Детский мир» (возле него останавливался наш троллейбус – № 3), потом – в Елисеевский на улице Горького, купили там снеди, коньяку, шоколада. Ну а кроме того, в моей общежитской комнате имелся запас прихваченного из Тбилиси «оджалеши» и «твиши». Возвращаясь, мы через Бутырский хутор помчались к себе…
2
Я рассматривал фотографию, а в памяти – строчки Инны: «Не взыщите, – бутылка с запиской, люди добрые, к вам – не из моря, а из жизни, до боли вам близкой, из оттаявшего подзаборья…» А если точнее, то адрес этого «подзаборья» таков: Москва, Добролюбова, 9/11… Это было общежитие Литинститута. Самое что ни на есть обыкновенное. С вахтёрами внизу, злыми и добрыми. С коммунальными кухнями, туалетами, душевыми. С какими-то особыми запахами, описывать которые нет смысла. Ночами, как и везде в общежитиях, – пьяный ор, блатные песни, мат. Правда, есть и кое-что особенное. Кто-нибудь из одуревших и перепивших непризнанных пиитов, открыв настежь окно, орёт в мировое пространство:
– Бездари! Графоманы! Ничтожества!
Но почему-то круглый год в окрестностях этого здания полыхала несбыточная сирень (по выражению Владимира Соколова) и свирепствовал тополиный пух. Иным и не мог быть тот дом. В такие дома возврата не бывает. Я сказал бы, что это просто-напросто фантом, но он был населён людьми. Среди них (не чудо ли?) были в ту пору, как я понимал и верил, и гении-одиночки, самые настоящие гении. Они, как я видел, уже что-то почувствовали в себе – наверно, свою избранность.
Светлана и Инна Лиснянская были первыми из них, очень и очень немногих – даже во всей стране великой. Инна сумела выразить это: «Наконец-то я проникла в слово, в суть его – и в плоть его, и в дух. Наконец-то я уже готова это слово выговорить вслух». Такую же готовность уловил я и в нежно-зелёных (самых первых, 1962-го!) «Проталинах» Светланы Кузнецовой (книжица вышла под редакцией самого Александра Прокофьева!):
«Брови тоньше хвоинок сосновых И темней соболиных мехов». Сердце тянется снова и снова К неоконченным строчкам стихов. Позабыть бы давно их, и точка. Разве мало на свете других? Что мне в этих доверчивых строчках, Привезённых из дальней тайги?Позже Кузнецова никогда бы не зарифмовала «других – тайги». Да в этом ли дело? Хотя здесь, в книжечке, была дань «обязаловке» («Меня не сломать налетевшему горю. Я выстою в бурю, я с тучей поспорю! Ты слышишь, ты веришь? Нет, я не гордячка. Но я из Сибири, но я сибирячка!»), Светлана, несмотря на эту риторику, и вправду была дочерью тайги, и на её губах отчётливо чувствовался привкус «смолистых крепких почек».
…А вот ещё один мой прилёт из Тбилиси; это было как раз после того, как я на почте до востребования получил от неё перевернувшие мою жизнь строки:
А ведь я тебя забываю, совсем забываю. Забывая тебя, я душой убываю, душой убываю, Становлюсь я такой маленькой, что любая трава по пояс. Я билет покупаю, сажусь в самый дальний поезд. Я орехи щёлкаю, забавляю себя забавами. Слышишь, поезд гремит за твоими семью заставами. Ты с души моей семь печалей сними, Ты с души моей семь печатей сними, Ты семь дней и ночей надо мной ворожи, Семь заклятий на память мою наложи. Вечно помнить тебя прикажи, прикажи.Я дал ей телеграмму, что прилечу, но я никак не ожидал, что уже в девять утра она встретит меня в аэропорту. Накрапывал апрельский дождик, досаждал нахальный ветер – скорее всего, северный. А в Тбилиси установилась теплынь, всё цвело и утопало в ярчайшей зелени, особенно у древней Нарикалы, и даже вспененная Кура, тащившая кое-где огромные брёвна, не казалась зловещей, и в ней, «видно, от напора побелела чёрная вода».
Светлана всегда горячо настаивала на своей глубинной русскости, считала, что её выделяет среди прочих фольклорность стиха, его таёжный дух, его интонационный строй. Её лирика вплоть до семидесятых годов зачастую зиждится на этом «таёжном духе». Тут всему «закон – тайга»: «Её великие законы беру законом для себя!» Пожалуй, это уже как отличительный знак. «Если боль, в Сибирь ухожу», «Я пойду по той озябшей озими, по большой сибирской мерзлоте». Светлана не отказывала себе в удовольствии гордиться «оттого, что слегка раскосы у меня глаза по-сибирски». И в то же время я видел, что она выделялась среди любой толпы совсем не этим: легко могло показаться, что она только что из Парижа, где в лучших бутиках покупала одежду и обувь; у неё была горделивая, дворянская осанка, диктовавшая несуетность и взвешенность каждого устного слова. Ну и не забыть ещё её густющие серебристо-голубые волосы, юную женственность, воспетую импрессионистами. Недаром однажды Инна Лиснянская подметила: «Ну надо же, она действительно из таёжного угла, а какой врождённый аристократизм».
…Увидев среди встречающих Светлану, я, по правде говоря, растерялся и сказал первое, что пришло на ум:
– А мы с Алеко Шенелией и Гоги Мазуриным были вчера на Черепашьем озере, недалеко от Тбилиси…
Она тут же спросила:
– Тортиллу искали?
– Нет, за тебя пили.
– Ладно, ладно, а как ты себя чувствуешь? И почему так легко одет? У тебя что, нет лишних денег? Надо тебе сшить коричневый шарфик. Сейчас это модно. Завяжешь узлом на груди – научу. На Никитском, в магазине тканей, я заметила, есть подходящий материал.
Я действительно спустился с небес на землю.
«Я из семьи золотоискателей, я из очень хорошей семьи», – повторяла она. В этом не было нарочитости, рисовки, она гордилась своим происхождением, искренне считая, что выпал ей редчайший шанс, что повезло ей неслыханно. Тут не было никакой бравады.
Видно, мне не напрасно на долю досталось Это счастье – не счастье и угол – не дом. Я не зря из семьи, которой давалось Всё в жизни с большим трудом. Пароходы и пристани, сёла и прииски, Белый день среди ночи и ночь среди дня, Смех сквозь слёзы, печаль, прибаутки и присказки, И враги, и друзья, и большая родня.Насчёт «большой родни» – тут, очевидно, молодая поэтесса имела в виду земляков. А «смех сквозь слёзы» – ни прибавить ни убавить. Правда. У меня уже есть биография, говорила она, и, помню, добавляла, что это – как морозный розовый рассвет на белых палатках в тайге. О своей семье распространяться не любила. И лишь однажды, когда мы распили на ночь глядя две бутылки «Киндзмараули» в моей общежитской комнатке, вдруг стала, закрыв глаза, вполголоса рассказывать о чувстве собственного достоинства всё-таки не столь уж многочисленной её родни, о своём отце Александре Александровиче, потомке ссыльных поляков, которые дерзнули заявить о себе в 1830-м, чьё восстание совпало с холерными бунтами в Центральной России, и матери, Лидии Ивановне, ведущей род, по-моему, от декабристов Дмитриевых, обладательнице тончайшего эстетического вкуса, об уникальной домашней библиотеке, собранной в течение многих десятилетий, о первых Светланиных стихотворных публикациях в газетах и неожиданном письме от Александра Прокофьева – с такими словами, как «ты самородок» и «у тебя золотые горизонты», а также с предложением встретиться в Москве. Но о встречах с Прокофьевым – молчок, ни слова. «На этой теме – табу», – говорила она.
Через целую жизнь в «Кудеярском эпилоге» я пытался хоть как-то воскресить её облик в Наталье из Шемякинского рода, с которой моему герою, Илье Невьянцеву, довелось сблизиться на войне, в Афгане, и образ этот был начисто лишён слащавости.
Наталья говорит: «Или я не нравлюсь тебе?»
Он отвечает: «Нравишься. Больше, чем нравишься. Я тебя полюбил. Увидел – и полюбил. Вот беда в чём…» И дальше – она: «Полюбил? Какая же здесь беда? Это замечательно. Меня никто никогда не любил. Гладили как соболька, а пальцы берегли: зубов боялись». И ещё дальше: «При яростных вспышках молний ты совсем не такая, хотя и кажешься девочкой, скуластенькой девочкой. Ну так кто же ты? Скажи. Ещё есть время. Или его уже нет? Но ты, конечно, не скажешь… Молнии, одна за другой, выхватывают из темноты твои плечи, твои ключицы, нежный, уходящий в тень изгиб бедра, матовое свечение колена».
Мой герой просит:
«– Не уходи никуда. Сядь. Ты и вправду северянка?
– А разве не видно? Вся – в мать. Она хоть и крещёная была, а верила, что любая вещь обладает душой.
– Я тоже верю, – признался Невьянцев. – И у меня такое же чувство.
– Такое, да не такое. Для этого в семье охотников родиться следует. Моя мать, Абакаяда, не сомневалась, что у рек, у тайги, у зверей свои хозяева имеются. Духи, одним словом. Не афганские, конечно. – Она усмехнулась. – Я замечала, как матушка моя общалась со своими духами, просила их о помощи.
– А ты-то сама просишь?
– Может, и прошу, Илюшенька. Может, и прошу. Нас обращали в христианство, мы на иконы крестились с давних пор, а поглубже заглянешь – язычники. Что со мной отец только ни делал – не выбил дури этой… Я – таёжница-охотница. От меня соснами должно пахнуть…»
Светлана и позже признавалась:
…Зажигаю я на Святки Сине-чёрную свечу. Без опаски, без оглядки С силой тёмною шучу. Ставлю зеркало в оправе Из литого серебра. Неразумный разум вправе Ждать от нечисти добра. …………………………… Начинает нечисть чары Залихватским говорком. Подымает нечисть чары С заграничным коньяком…В «Кудеярском эпилоге» я был, пожалуй, не так уж далёк от истины, хотя мать Светланина, отнюдь не Абакаяда, замечательная Лидия Ивановна, учительствовала, преподавала русский язык в школе, где директорствовал её муж, Александр Александрович, втайне гордившийся тем, что он – из ссыльных («кровь поляка седого и татарская кровь»), и всё это – «над Витимом угрюмым, над таёжною далью», в центре Ленского золотопромышленного района, в Бодайбо. И отец, и мать в Гражданскую были на стороне «белых», у Колчака – это в тридцатых годах и заставило их бежать в глубинку из Иркутска.
«Проталины» привлекли любителей поэзии сразу же. А ведь это маленькая, совсем маленькая книжечка: в ней всего пятьдесят стихотворений. Чем же эти стихи тронули души читателей? Не сомневаюсь: не «сибирской темой», а самоцветным словом, его звучанием, магией, приобретённой в распадках, в тайге, в разгадке тайн Байкала, Саян и сибирских рек, которые наделили её жизнестойкостью и, увы, «пересыльной, нелёгкой судьбой», которая подспудно не давала ей покоя. Она заявила, что, найдя себя, уже не изменит себе.
Пусть давно унесена рекой шуга, Пусть до нашего прощанья полшага, Где-то там ещё, по тающему льду, Я иду к тебе, иду, к тебе иду! Ненадёжен лёд, дороженька узка, Мне другие не совет и не указ. Знать, они покой свой очень берегут. Ну и пусть себе сидят на берегу. Я иду! Над осторожными смеюсь. Я иду! И поскользнуться не боюсь. По последнему, по тоненькому льду Я в последний раз доверчиво иду.Она действительно нисколько не боялась поскользнуться, не доверяя осторожным, зато доверившись выпавшей ей на долю дороженьке, пусть даже ненадёжной (конечно!) и узкой. Стихи тут же положил на музыку Валерий Альтов (тогда – аспирант МЭИ, теперь – лауреат Государственной премии, доктор наук, физик); песня распевалась чуть ли не повсюду – по радио, на улицах, в застольях, её исполняли Алла Иошпе и Стахан Рахимов. По сути дела, Светлана Кузнецова, не сознавая того и чего так и не уразумел критик Вадим Кожин, стала в один ряд с поэтами-шестидесятниками, ломавшими заскорузлые стереотипы советского мейнстрима, что нередко оборачивалось против поэтессы и, больше того, встречалось в штыки.
3
Поэт Анатолий Преловский, Светланин земляк и друг, приятель Александра Ревича и мой, собирался издать книгу воспоминаний о Светлане, но, к огромному сожалению, ранний его уход, помешал осуществить этот замысел. Он говорил, что дебют Светланы Кузнецовой принёс ей немало огорчений. И писал в предисловии к «Соболиной тропе» (1983 год, Восточно-Сибирское книжное издательство), что помнит одно-единственное обсуждение её стихотворений в Иркутской писательской организации – «резкие отзывы, попытки назидания, недовольство и неправомочные обвинения в камерности. В общем, старшие поэты её не поняли, а не поняв – не приняли».
А Москва её приняла, поселив в литинститутском общежитии, где и произошла наша встреча. Вначале, сознаюсь, меня приворожила сама Светлана, а затем уж её поэзия. И немудрено. Господь наделил её не только редким талантом, но и редкой красотой. В своих мемуарах, говоря о нашей молодости, а также об Арсении Тарковском, Инна Лиснянская пишет и о Светлане: «Поначалу Тарковский со мной раскланивался, и только. Я это объясняла тем, что была невольной свидетельницей его короткого увлечения поэтессой Светланой Кузнецовой. <…> Раза три или четыре мы в ЦДЛ обедали втроём. К тому времени я уже знала и стихи Тарковского (“Перед снегом“). Недавно вышедшую в свет книгу „Земле – земное“ Арсений Александрович принёс в дар Кузнецовой, приличия ради подарил и мне. О чём разговаривали – не помню. Скорее всего – ни о чём, ибо Тарковский всецело, но галантно и ненавязчиво был сосредоточен на красавице Светлане, всегда одевавшейся во всё чёрное и красившей в то время волосы в цвет голубоватого снега».
«В то время…» На имя Светланы в общежитие приходили десятки писем и телеграмм с предложениями руки и сердца, нарочные доставляли на её имя изысканные букеты цветов с вложенными в них записками того же содержания. При мне (и ничуть не замечая меня) автор романа «Амур-батюшка» Николай Задорнов приезжал в наше общежитие к Светлане, чтобы попросить её выйти за него замуж… Изложив свою просьбу, он вышел из комнаты, сказав напоследок:
– Надумаете – позвоните. Меня легко найти.
– И так – чуть ли не каждый день, – вздохнула Светлана.
И в её вздохе не было притворства.
Её комната в общежитии не походила ни на какую другую. В ней почти всё было белого и чёрного цвета; на полу у кровати была расстелена волчья шкура; на столе и на полках – красные толстенные свечи в тяжёлых, из антикварного магазина, подсвечниках. Мы с нею играли в карты – и в дамский преферанс, и в канасту с двумя колодами и двумя джокерами в них. Она вечно была в проигрыше, хотя колдовала: «Чур – для меня! чур – для меня! чур – для меня!» В ней ещё гнездилась-таки язычница.
Есть древний закон. Как меня ни томи, Его уже не нарушу: Лишь тот свободен перед людьми, Кто дьяволу продал душу. Не скрою, что дьявол являлся мне, Прекрасен, высок и бледен, Но с ним мы, увы, не сошлись в цене, Видать, он был слишком беден.Всё же иногда, как мне чудилось, – сходились. После игры, длившейся до поздней ночи, Светлана доставала другие, чистые, карты и гадала мне, гадала по-своему – не так, как все, а я всё смотрел на её тонкие пальцы, унизанные драгоценными, старинными перстнями. Рядом с нею я вдруг стал улавливать в себе свою интонацию, свой звук, свою музыку: она, как никто иной, доказала мне, что это самое главное. Не словами доказала, чем-то иным – скорее всего, магией гениальной личности. Таково было воздействие на меня её поэзии, её женского, неповторимого обаяния. И я ей прочитал строчки, привезённые из Грузии: «Я был до ужаса обычен, к тому ж ещё косноязычен, но отчего-то мне везло. Меня не отвергали боги – Хута, Резо, Алеко, Гоги. Я с ними пил в Сабуртало». Последняя строфа была о ней: «И, отодвинув вдруг стаканы, я стал читать стихи Светланы про Енисей и про Байкал. Прости, но, может быть, впервые вникал я в строки снеговые, в пургу иркутскую вникал».
– Мне ещё никто не посвящал стихов, – сказала она. И, убрав карты в чёрный ларец, добавила: – Тебе надо перебираться в Москву. Это важно для нас обоих.
Наступило тяжкое молчание. Оно длилось очень долго. Я вспомнил нашу армейскую редакцию, визиты к окружному начальству, летучки, собрания, очередь на квартиру в военном городке. Прервав молчание, Светлана невольно пришла к выводу, неутешительному для меня:
– Нет, не дано тебе вырваться сюда из Тбилиси, силы у тебя не те, чтобы добиться московской прописки, а на роль лимитчика ты не подходишь.
И она была права. Что я мог на это возразить?
Действительно, как я мог одолеть стену, возведённую Кремлём?! Да никак. Юрий Левитанский, поэт-фронтовик, который защищал подступы к столице, и тот «жаловался»: «В Москве меня не прописывали». Он мне как-то при встрече посоветовал: тебе, мол, понадобятся, так сказать, обходные пути.
Свобода передвижения, свобода выбора местожительства были законодательно отменены партией и правительством. Светлана и сама это отчётливо понимала, не раз получая отказы в Моссовете и паспортном отделе на Лениградском шоссе, несмотря на то, что за неё хлопотал и Союз писателей, и лично герой соцтруда, лауреат Ленинской и Сталинской премий, член Ревизионной комиссии ЦК КПСС Александр Прокофьев, её крёстный литературный отец.
Оттого у неё и появлялись строки, исполненные горечи: «В поступках – сплошь одни ошибки. Куда ни сунешься – ухаб. И стынут мёрзлые улыбки на лицах толстых снежных баб». Всё это не могло не калечить наши судьбы. «Вот – тебе», – однажды тихо произнесла она и протянула для прочтения только что написанные стихи в самодельной, с сафьяновой цветной обложкой, тетради:
И мои, и твои следы Не сплетались чтобы, У тебя зелены сады, У меня – чащобы. За твоим окном – соловьи, За моим – соболи. Ты меня к себе не зови, Здесь печаль особая. Скоро вьюга снега совьёт. Не суди на слове. Мои соболи твоих соловьёв Переловят.И таких стихов у Светланы было много. В тон им я написал «Гадание Светланы» (у неё в 1982-м и 1989-м вышли в «Советском писателе» две книги в одинаковых чёрных обложках с этим названием).
Материнские карты разложит, И в глаза не посмотрит она, Только спросит, а вправду ли сможет С террикона скатиться луна. Карты старые, с прииска «Лена», Что король, что валет – всё одно. Возлежат таитянки Гогена На клеёнке. И тут же – вино. Как там карты сошлись? Ожидаю. «Да не жди. Пей вино, весельчак. Я, наверно, напрасно гадаю, Потому что всё ясно и так.Да, всё и так было ясно. Невозможно забыть, как у неё однажды вырвалось:
– Если мне, а не тебе, помогут прописаться в Москве, я буду знать, что это не твоя заслуга.
Светлана, по её признанию, всю жизнь жалела о сказанном. Может быть, и я жалел всю жизнь о несделанном, о неготовности к поступку.
4
Меня поразило в заметках Натальи Егоровой «Золотой самородок на соболиной тропе» такое вот наблюдение: «В чёрной своей комнате, в зыбкой своей судьбе Светлана Кузнецова разбрасывала красные карты на расстеленных сибирских мехах. Длилось гадание о любви. Но в порушенном мире – живёт порушенная любовь. Ранняя лирика С. Кузнецовой переполнена светлыми чувствами. В поздней любовной лирике традиционные мотивы подчёркиваются явными нотами жестокого романса. Собственно, то, что принято называть любовной лирикой, заменяется полной её противоположностью, – стихами о нелюбви, которые, на мой взгляд, сливать со стихами о любви просто ошибочно (я не имею в виду стихов о любовных драмах, неразделённой, трагической любви): „Позабыв про холод и про нарты, на придумку скорую легка, красные раскидываю карты, русского гадаю мужика. Как ты ни раскидывай, однако, на плетне всё так же виснет вновь красная немытая рубаха, русская напрасная любовь“».
Чем пронзительнее и самобытнее становилась лирика Светланы, тем всё более и более несправедливо обходилась с нею жизнь. Расставшись со мною, она немедленно вышла замуж за некого Яниса и уехала с ним в Ригу.
Там и написано было:
Всё это знакомо. Никто здесь ни при чём. Поманили домом, Тёплым калачом. Безделицею сущею, Лаской и теплом, Кофейною гущею, Расписным стеклом, Тихим разговором, Одеялом с кружевом, Вороным затвором Личного оружия.В письмах мне в Будапешт, где я вдруг оказался в служебной командировке, скупо говорила она, что ей в Латвии невмоготу. И присылала новые стихи – безысходные, грустные: «А может, радость лепится из горя? И в тот высокий, в тот последний час, быть может, каждый должен стать изгоем, чтобы понять, что родина для нас»; «Скажи, зачем тебя украла, зачем отбила ввечеру? Я ж всё на свете проиграла, вступив в подобную игру. Уклад враждебный разрушая, не сохранила своего, а ты глядишь, любовь большая, не понимая ничего». Оттого и застеливала она стол чёрной скатертью, оттого и кружили её ветра злорадно «по заколдованным кругам».
А поэтическое имя Кузнецовой получало всё большее и большее признание. Для меня было совершенно неожиданно появление в «Литературной газете» заметки Александра Межирова о редчайшем феномене Кузнецовой, об органичности её трагической поэтики и уникального словаря. Дали повод к этой заметке Светланины строки: «Слово – всему основа./ Поговори./ Ночь открывает снова/ точные словари». Межиров, мягко говоря, не слишком часто писал отклики на книги поэтов. Но тут – полное приятие и уверенность в победительности Светланиной поэзии.
В «Новом мире» Алла Марченко опубликовала эссе «Поэзия требует всего человека», в котором пишет, что после выхода в свет «Гадания Светланы» она перечитала ранние сборники Кузнецовой и ещё отчётливей различила общие всем её книгам свойства: «“Беззаконный“ (с точки зрения расхожей нормы) „эгоцентризм“. Культ „позы“ (в ахматовском понимании этого слова), сглаживающей бытовую характерность лирического переживания. Особый, словно бы фольклорной выучки способ извлеч ения звука. Всё не просто повторено, сварьировано „гаданием…“, но ещё очищено от посторонних примесей: никакого чужого, полу-чужого, не совсем своего. Лишнее отброшено, необходимое возведено в степень».
То была пора, когда под особую защиту и опеку начальство Союза писателей взяло дамские романы и творчество поэтесс. Владимир Соколов по этому поводу в 1965-м иронизировал: «Мне нравятся поэ тессы, их пристальные стихи, их сложные интересы, загадочные грехи…» Алла Марченко говорит в своём эссе, что недопустимо ставить Кузнецову в этот ряд: «Стоицизм, усугубленный беспощадно-трезвым отношением к себе, „любимой“ (усиливающийся, кстати, от сборника к сборнику: „…себя открываю вторично гораздо больнее и злее“), резко отмежёвывает эту книгу от вяло-безвольно-плаксивого „тоскования“, ставшего чем-то вроде видового признака современной женской поэзии. Нагляднее всего это видно на примере „стихов об одиночестве“. Читая в изобилии поступающие на книжный рынок поэтические, точнее стихотворные, опусы „на данную тематику“, лично я не могу отделаться от мысли, что натужные попытки поэтесс, и юных и давно уже не юных, сладить с „напастями ремесла“ – не более чем сублимированное „токование“, если воспользоваться словцом автора „Гадания Светланы“ (“тоскование“, „токование“)… В случае с С. Кузнецовой подобного предположения не возникает. Другое на ум приходит: и одиночество „до срока“, и „поруха во друзьях“, и мучительное чувство „неведомого убытка“ (“…и какой неведомый убыток мешает счастью моему?“) – законная, без обманной надбавки за „кабальный дар“, плата за причастность „магии русского слова“».
5
Светлана придерживалась лишь ею самой установленных правил в своей поэзии («Я сегодня почти как держава, величава, спокойна, строга»), да и в обыденной жизни, приученная к «закону тайги», не слишком подчинялась моральному кодексу, который был утверждён тогдашней маразматической властью. Многими и многое не прощалось ей.
На приёме у первого секретаря одной из восточных республик она не поднялась, как все писатели, участники литературой декады, когда он, величественный, вошёл в банкетный зал. Светлана видела в нём преступника! И кое-кто в секретариате СП СССР попросил врачей поликлиники Литфонда проверить, здорова ли её психика, коли она всех подвела и так поступила. Это была её подруга по Высшим литературным курсам. И доброжелательница удостоилась отповеди:
А подруга лебедью белой слыла. А подруга не шла, а легко плыла. Далеко видна, хороша, хороша, Да черным-черна у неё душа. На ресницах – слёзная благодать. Белой птице с чёрною не совладать…А тут ещё беда. По словам Н. Егоровой, «с более талантливой поэтической соперницей» бывшая подруга «сражалась грязно и жестоко. Одна такая «кровавая битва» произошла во время писательской поездки на Сахалин. <…> Герой Советского Союза Василий Емельяненко <…> назвал Кузнецову проституткой, за что получил от Светланы пощёчину. В те времена дать пощёчину Герою Советского Союза было, мягко говоря… Светлане Кузнецовой пришлось срочно вылететь в Москву. Перепуганная случившимся, в ожидании публичной расправы она попыталась покончить с собой. Божьим чудом осталась жива. Происшествие сказалось на будущей судьбе. Её прекратили печатать. Вытеснили из литературного пространства».
Её не замечали будто. «Я свободна, но, однако, вопреки таким словам, кто, как гончая собака, по моим идёт следам?» Самая близкая подруга Светланы, Александра Плохова, в повести, посвящённой ей, говорит: «ДАЛЕЕ – ПАУЗА длиной в десять лет!!! Десять лет преднамеренного замалчивания имени Светланы Кузнецовой по указанию свыше. Десять лет Светлане не давали возможность печатать ни свои произведения, ни переводы, лишив её тем самым хлеба насущного».
Светлана говорила мне, когда я заходил в её дом на Красноармейской: «Я не могу быть иной – и они не могут быть иными». Настрой её лирики меняется, в ней всё больше нот осуждения, даже вызова. «Как метишь ты, Господь, рабов своих! Но ты не избирал, избрал другой. И смолкнул чей-то неугодный стих, как колокольчик звякнув под дугой». Она ощущала себя неуслышанной, лишённой сердечного отклика. «Оглянись – всё давно заказано, поспеши, отходя во тьму. Не услышано то, что сказано, и не надобно никому». Этот надрыв, это отчаянье со временем будут лишь усугубляться. «Всё, что могло побывать, побывало. И не грозит никакое бессмертье». Она разочаровалась во всём, что воспевала прежде, во всех этих «вокзалах, стройках, сёлах, рудниках», в своих обещаниях: «Как много я сумею светлого, как много я смогу хорошего!» И вырвалось у Светланы признание:
Хожу, о стены опираясь, И улыбаюсь, как во сне, И удивлённо озираюсь На города в моём окне, На то, что мне необходимо, На то, что с кровью приняла. Но так глупа непроходимо, Что до сих пор не поняла.Она была женщиной. Иным казалось, что – сильной. Но это лишь казалось. Не раз у неё, как говорят, опускались руки, возникало неверие в себя. И не так уж неожиданно до неё дошло, что времена круто изменились, что меняется кино, которое она очень любила, что «Землю сибирскую» стали равнять с «Кубанскими казаками», видя в кадрах павильоны для парадных съёмок и пыльные, изношенные до дыр декорации, а также то, что властителями читательских дум становились «шестидесятники». По словам той же Натальи Егоровой, да и не только её, Кузнецова якобы винила Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко, правивших бал, за то, что они как литературные захватчики истребляли истинно русскую поэзию, зачеркнули в ней русскость и что её стихи никому уже не нужны.
Странно. Светлана никогда не объясняла свои беды успехами других. Неужели отчаяние было столь велико?! – подумал я. И тем не менее мне трудно в это поверить.
Да и Александра Плохова, лучше всех знавшая в тот период Светлану, не упоминает ничего подобного. Наоборот, она пишет, что «в годы перестройки (когда это стало, наконец, возможным), главный редактор журнала „Огонёк“ Виталий Коротич опубликовал девять стихотворений Светланы из двенадцати цикла „Русский венок“, в котором отразилась вся боль Светланы за Россию, за её народ».
«Русский венок» – несомненное достояние истории нашей литературы. Подлинная оценка его – впереди. В нём – голос, зазвучавший рядом с голосами Марины Цветаевой и Анны Ахматовой с её «Реквиемом».
Этот цикл открывает «Мать-и-мачеха» – стихотворение, в котором Кузнецова поставила страшный вопрос не только для себя, но и для своего читателя:
Быль родимая сурова. Через все века — Мать-и-мачеха – основа Русского венка. Мать-и-мачеху срываю Я на берегу. Ничего не забываю, Ибо не могу. Оробевшая избёнка — Вечности виток, Самый первый для ребёнка По весне цветок. На ладони – отсвет доли, Смутные права Перекатной горькой голи Или мотовства. В нём и нежность, и небрежность, И добро, и зло; Перепадов неизбежность, Холод и тепло. Чтоб, иной любви не зная, Век не понимать, Кто нам родина родная — Мачеха иль мать?И ещё один страшный вопрос задаёт Светлана: «Куда-куда – звучит на перекличке. Какой кудесник нас зачаровал? Куда, к какому чёрту на кулички уносит всех крутой девятый вал?» Кузнецова предчувствовала страшные беды, развал страны. А «Одуванчик» – это «страхов ночных времена», признание того, что «нет страшнее в сегодняшнем веке повторенья отцовской судьбы». Без преувеличения, очень многим после публикации врезались в память афористичные строки из «Ромашек»:
…Архивы, уничтоженные в спешке, Свидетели убийства и хулы; Напоминанье нам о том, что пешки От века беззащитны и малы.Эти строки неоднократно цитировались.
6
Кузнецова была неравнодушна к судьбе десантников, погибших в Афганистане («В синеву одетые чьей-то волей злой, сорняки, воспетые собственной землёй. Василёчки-цветики на родных пирах. Синие беретики во чужих мирах»), как всегда, бесстрашно стремится словом «туда, где о любви моленья дики, где красный страх нисходит на меня, где умирают красные гвоздики у временного вечного огня».
Так что, выходит, ничего не стоят утверждения о том, что Светлана Кузнецова по-великоросски шовинистична, что она патриотка не лермонтовского толка, почвенница в худшем смысле этого слова. Перед уходом в вечность она видит свою родину «опошленную, залатанную, опоённую, заплаканную, пожарами опалённую, отравою опылённую».
Начиная с заигрыванья с нечистой силой, она приходит к вере во спасение, в Бога. И вера эта бескрайня. «Мне той сути теперь причаститься, как себе молодою присниться. Молодою… Да только беда – не была я вовек молода». Нет: Светлана и была молодой всю свою жизнь – и навсегда ею останется со всею своей красотой и высочайшим талантом. Всё же в глубине души она в этом не сомневалась. «Прочтя свои давние строки, смотря в белоснежную тьму, прочувствуй огромные сроки, к спасенью идя своему». В замечательном цикле «Жёлтая церковь» – приближенье к этой вере. Здесь она говорит о том, какую грязь приходится и ей, и всем нам преодолеть, чтобы войти в храм и возопить: «Боже мой, как же страшно терять то, чего никогда не имели!»
Перед смертью в больнице Светлана будто выдохнула: «Над судьбою, что мне положена, Бог судья лишь, а не властитель». И ещё: «Я умираю в поисках причин…»
Светлана Кузнецова прошла мучительный путь: пала в долю ей дороговизна, дорого оплачено житьё, но её поэзии предназначен победительный путь в будущее. Одна из книг её называлась – «Сретенье». Она сомневалась в ней: будет ли её слову принадлежать завтрашний день. Зря сомневалась.
Глава 10. Бутылка с запиской от Инны Лиснянской
Рвётся жизнь по всем возможным швам, Кровью сердца мысли разогреты: Боже, как завидую я вам, Неодушевлённые предметы… Инна Лиснянская1
Именно Светлана познакомила меня с Инной.
– Она – чудо. Идём. Не пожалеешь.
Ею было посвящено Лиснянской стихотворение, продиктованное нежной дружбой, которая продолжалась до самой смерти Светланы. Содержится в ней и скрытая просьба – быть помилосерднее к верному и доброму Грише.
Будет мало пушистых белок, Их гораздо больше приснится. След лисицы узок и мелок. Не ходи по следу лисицы. Заметает следы порошею, Не надейся на случай. У тебя собака хорошая. Ты её не мучай. Твоя лайка чистой породы. За неё немало заплачено. Не проматывай даром годы, Не гоняйся зря за удачею. Ведь повсюду, в бору и в роще, За добычей охотники в драку. Знаешь, чтобы жить было проще, Подари мне свою собаку.И вот я – во «владениях» Инны и Годика. Им выделили на четвёртом этаже две комнаты – одна против другой. Выяснилось, что Лиснянской, бакинке по происхождению, моё имя было известно ещё с тех пор, когда я служил в Нахичевани-на-Араксе и порой печатался в молодёжной республиканской газете и «Литературном Азербайджане». А уже в Москве, как писала она в «Литературной газете»[53] в заметке «Приближение бессмертия», ей доводилось слышать обо мне от Александра Межирова, читавшего наизусть мои стихи. При мне, в общежитии, Инна написала о себе: «Я и время – мы так похожи! Врозь косые глаза глядят…» Она внимательно присматривалась ко времени. Светлана, после чаепития в одной из комнаток «у Лиснянских» (Гриша Корин подпадал с лёгкой руки Кузнецовой под это утвердившееся у нас понятие, на что нисколько не обижался), подметила:
– Согласись, эти глаза делают её красивой. Привлекательные, странные. Она видит ими то, что другим никогда не увидеть!
Не зря, конечно, появилось стихотворение «Спрошу я, мгновенье ловя…», также посвящённое Светланой своей подруге: «…Под холодом утренних рос лишь тот соловей не забудет жестокий, проклятый вопрос: – Что будет со мною? Что будет?» Да, как хотелось узнать: что же будет? Ни Лиснянская, ни Кузнецова на такой вопрос ответить тогда не могли…
В закнижье «Шкатулки с тройным дном»[54] Инна написала: «Немногие читавшие мою книжку, наверное, заметили, что только в своих мысленных беседах я называю поэтов по имени и отчеству. Ограничиваюсь одними фамилиями не случайно. Фамилии уже давно стали именами: Пушкин, Баратынский, Тютчев, Лермонтов, Фет, Блок. Несколько коробит меня нынешнее амикошонство». Но я надеюсь, что моё обращение к Лиснянской – отнюдь не амикошонство, а давняя, очень давняя дружба, «поклоненье, на любовь помноженное».
(Из неотправленного письма: «Я начал это письмо к тебе, вернувшись из поездки в Кобыстан, но не знаю, закончу ли его сегодня. Уже ночь. Гостиница моя – на улице Хагани (б. Молоканской), самой первой, открывшейся мне в Баку ещё в пятьдесят шестом, когда я приезжал сюда на пару дней в солдатской форме по приглашению „Литературного Азербайджана“ (командир артполка отпустил меня неохотно, но так как я „подтягивал“ его сына по литературе и языку, согласился).
После древней, пыльной Нахичевани эта улица с её сквером, отделением Союза писателей (дом № 25), обладавшим собственной крохотной „чайханой“, с Дворцом каспийских моряков, русским драмтеатром показалась мне нарядной и изрядно освещённой. Сегодня я поклонился ей как старой знакомой. Я долго искал то место, где когда-то неподалёку от церкви и возвышавшейся над перекрёстком Девичьей Башни, в олеандровом дворике находился воспетый тобою в поэме[55] госпиталь лицевого ранения, в котором ты девчоночкой была принята на должность санитарки и пела там в хоре для раненых; еле-еле нашлось оно у моря, „покрытого масляным лоском“: мне нетрудно было представить здание это в свете „маскировочно-жёстком“, морг, возле которого ты, чтобы передохнуть, затягивалась „сладким вечером“ и махорочным дымом; как ослепший солдат, посчитав тебя взрослой, попытался прижать тебя к доскам забора и лихорадочно стал искать вырез твоей тесной матроски и как поспешил на помощь вечно спавший в гробу санитар-алкоголик, чудом уцелевший „кулак“ и штрафбатник, с криком: „Олух безглазый, она ж малолетка!“
Забросив пятый класс и книжки, ты очутилась в этом очаге боли, страданий, отчаяния – может быть, для того, чтобы из дня нынешнего видеть себя там „меж госпитальным и ангельским пеньем“, чтобы навсегда твоя „память осталась вечным подростком“. Днём меня возили в Кобыстан; ты бывала в этом гористом урочище на берегу Каспия и дивилась наскальным „галереям“ петроглифов, где легко разглядеть силуэты лучников, косуль, хороводы человечков с копьями и нечто напоминающее солнечные лодки.
“Вслушиваясь“ в эхо прошлого, дошедшего до нас через века и тысячелетия, ну как мне было не подумать о твоей „Бутылке с запиской“?.. Ты имела право сказать: „Я в гости приду виноградною тенью и зыбью на море, пятном на стекле. Простите за краткое стихотворенье, Оно не короче, чем жизнь на земле“.
Это ли не символично на фоне того олеандрового дворика с тем госпиталем, Девичьей Башни и Кобыстана, уместившегося на террасе горы Беюк-Даш? Когда-нибудь я допишу это письмо, а пока оставлю его в тетрадке рядом с гостиничным телефоном, к которому прилеплена бумажка с забавной надписью: „Акуратна крутит чиверблат“. Засну – и вдруг мне приснится наше общежитие на Добролюбова, 9/11…»)
2
Но приснилось мне не общежитие, а двухкомнатная квартира, которую Инне и Грише всё-таки «дали» в кооперативном доме в Химках, в Левобережном районе, у самой Кольцевой автодороги. Это было огромным событием.
Светлана радовалась, будто вот-вот и ей выпадет такая сказочная удача. Не зря же с убийственной иронией, неверием в меня, в мои возможности она писала мне в Тбиоиси:
Рискнуть? Рискну. И я рискую. Я на бумаге дом рисую. Он очень светлый. Он с трубой. Он до абсурда голубой. Полы в нём щёлоком помыты. Мы в этом доме ждём гостей Из всех поныне знаменитых И позабытых волостей. Вот гости к нас идут по тропке… Но краски кончились в коробке.Мы праздновали новоселье. Кроме меня, все ликовали. Накрывали стол. Светлана несла из кухни стул. Я хотел ей помочь. Она увернулась:
– Это я несу!
И я понял: это Янису. Куда яснее?
Вот всё и решено. В самом деле: краски кончились в коробке. Пришлось ей, к сожалению, приобретать другие краски…
Но, как ни странно, мы ещё немало дней и недель вдвоём ездили к Грише и Инне. Впрочем, скорее – по привычке.
Светлану уже ждала Старая Рига с улочками, которые выложены булыжником и дышали Средневековьем. Это обернулось ещё одним разочарованьем. В цикле «Ян» она писала: «Полосы пограничные. Глаза твои заграничные. У тебя глаза подзарённые, а мои глаза позарёванные»; «…Словно нежданно меня оторвали от суеты и от дела. Словно звенели хрусталинки звонкие, словно подружки тужили, словно вели меня за руки тонкие долго путями чужими». Инна жаловалось, что Светлана очень редко пишет письма.
Ну а меня ждал Будапешт и дом на Площади Героев, клубы, где играли самый настоящий джаз. Сослуживцы мои упивались каждым днём в Венгрии, знали, где какой магазин и что почём, на выходные отправлялись отдыхать на Балатон; я же пользовался любым случаем, чтобы оказаться хоть ненамного в Москве. Останавливался я у Инны и Гриши. Где же ещё? Разговоров о Светлане мы, как по команде, избегали. И она вестей из Риги не слала. Зато были – стихи, стихи, стихи. И всё новые. И всё – высокой пробы, от которых я шалел. Лиснянская блистала! Она вынашивала их до глубокой ночи. Будила меня, звала на кухню, читала «в обезумевшей тишине». Строки появлялись, чтобы поражать и запоминаться. Меня завораживала их страсть, питаемая стремлением к свободе и ненавистью к несвободе. Обжигало: «Не затем жила, чтоб не знать о боли, а затем жила, чтоб не знать неволи». Было ясно, что Лиснянская нашла то, что искала, – и теперь от себя не отступит ни на шаг.
Сама по нутру своему выбирай Свой путь, свой удел, свой уклад, Не то преисподней покажется рай, И раем покажется ад. А выбрала, так никогда не жалей Ни песен, ни башмаков!.. И выбрала я печальных друзей И беспечальных врагов.Это действительно был её путь, и в быту, и в творчестве, подтверждавший, как мне казалось, правоту Олдоса Хаксли, в знаменитом романе-антиутопии «О дивный новый мир» сказавшего: «В искусстве тоже существуют свои этические правила, и многие из них тождественны или, во всяком случае, аналогичны правилам морали житейской».
3
С вечно погружённым в себя Годиком Кориным мы были дружны очень долгое время. Он был человеком хлебосольным, по-доброму расположенным к людям – ко всем, без разбора. Светлане Кузнецовой он этим нравился, она искренне уважала его. Не нравилось ей только то, что у него пропала вера в себя. «Почему?» – спрашивала она участливо. Он ответил строчками (1964), посвящёнными ей:
Все мои кони Рисованы, Слеплены — То в коленкоре, То в глине, В стекле. То – архаичны, То – абстракто-нелепые, Ни один из коняг Не прошёл по земле. Но все они быстры, Готовы помчаться. И обожжены, И напряжены… Но все мои кони Никуда не домчатся — Они не для этого рождены.Светлана спрашивала меня: не замечаешь, как скрытен Годик? Да, о своём детстве и фронтовом прошлом он помалкивал. Даже в День Победы, когда мы собирались за праздничным столом, он без всяких тостов пил водку, играл желваками, а если гости приставали с расспросами о войне, отвечал односложно: «Всякое бывало». Удивительно, но о подробностях его детства и юности я узнал от него лишь в начале восьмидесятых годов, когда мы оба были в Переделкине. Его комната в старом корпусе Дома творчества всегда была одна и та же – сороковая, прямо напротив медицинского кабинета, на первом этаже. «На всякий случай, – говорил он, подмигивая. – Мало ли что?» Уже с сентября, гуляя по здешним тропинкам, Годик упорно носил жёлтую шапку с опущенными «ушами», отчего его кое-кто с иронией называл «местный Ван Гог». И верно: в нём наблюдалось некоторое сходство с великим постимпрессионистом-нидерландцем. Однажды после завтрака, когда выдался солнечный, тёплый денёчек, мы с ним зашли в беседку, сели за стол, где обычно играли преферансисты, и он рассказал о себе то, о чём я почти ничего не знал. Слава Богу, у меня есть теперь возможность прибегнуть к отрывку из его короткой, зато яркой автобиографической заметки, где сказано, что Гришины отец и мать были людьми «простыми, неграмотными»…
«Но глубокая вера, – писал он, – которая осмысляла каждый их поступок, каждое их слово, – первое и основное моё впечатление о жизни. Жили мы в г. Радомышле на Украине. Нас было трое сыновей – старший Пётр, затем – Михаил и, наконец, я. Больше всех своих родных я любил деда. Он был лесником. Со мной он много гулял в лесу, учил меня любить деревья, понимать природу. От рук его шли тепло и свет. А дома у него была молельня. Приходили пожилые люди и молились хором. Эту стиховую ритмику я повторял про себя. С шести лет, где бы я ни был, что бы я ни делал, молитвенные фразы звучали во мне. Это был первый выход к собственным стихам – я рифмовал! После молитвы, сидя вдоль длинного стола, пили чай, и я разносил кусочки колотого сахара. Таких людей я увидел потом на картинах Шагала. В городе моего детства, в Радомышле, была река и рынок со множеством людей, зверей, птиц и с моими любимыми лошадками и жеребятами. Но из Радомышля нам пришлось срочно бежать. Мои родители торговали на рынке. Их и таких же других, полунищих, стали преследовать. Многие уже сидели в тюрьме. Искали золото – огород перекопали, квартиру подвергли обыску (разумеется, ничего не нашли); родители решили ехать срочно в Баку, там жили родственники моей мамы. Во время обыска скончалась моя бабушка. Ночью шли поспешные сборы, а рано утром на двух телегах мы выехали и по дороге похоронили бабушку. Я, ещё маленький, уже понимал, что происходит что-то страшное. Много лет спустя, уже в 70-е гг., я приехал в Радомышль. Все десять тысяч евреев, живших в этом городе (кроме трёх выживших из ума стариков), погибли. Я был в лесу на братских могилах, покрытых ёлочными осыпями. Не было ни одной таблички о погибших. Там лежали почти все мои родственники, оставшиеся в Радомышле. И ещё невероятное случилось в Радомышле в этот мой приезд. Я почти мистически угадал место, где был когда-то родительский дом, и за мной, звеня копытцами, шёл жеребенок, совсем как из моего детства. Итак, мы в 30-е гг. бежали в Баку. Мой бедный дедушка – лесник и хозяин молельни в Радомышле – недолго прожил в Баку. Он стоял целый день у жаркого окна, молчал и смотрел на раскалённые солнцем камни. Это был не его воздух, не его мир. Вскоре мы его потеряли. Жить было не на что. Сестра моего отца раздобыла старую шерстобитную машину и привезла её в Баку. Мы жили в двух комнатах…»
Впечатляет, не правда ли? А нашло ли всё это отражение в стихах Корина, уже ставшего членом Союза писателей? Ответ – отрицательный. В стихотворении «Первая книга» автор не скрывает, что, «о слове бессмертном мечтая», он «был молчаливее мышки», что «программу свою и свой крик» он прятал подальше от людей («что знал, не вверял никому»). Он, «взрослый уже человек», смутно догадывался о потере, да вот найти себя не посмел или не сумел: «За память цеплялся ночами и мог бы её воскресить, но гасли слова за словами, с которыми начал я жить». Нету в первых книжках Корина ни его родного Радомышля, древнего и своеобычного городка, нет тех, кто был ему дорог, их молитв, их горькой одиссеи, их трагедии.
Мало слышал я в детстве музыки, С детства марши трубили окрест, И не сердце вздымалось, А мускулы… Я две палочки нёс, Словно крест. Я учился удару без промаха, Шли ребята ритмично за мной, И меня, Барабанного олуха, Почитали всей школьной семьёй…Хотя ему казалось, что он пишет «жизнь свою», что другую никакую не напишет, он себя сдерживал (или что-то сдерживало его), – и не было конца «черновым работам», и свободу свою называл он «черновой», и все прожитые годы окрестил «черновыми». До «чистовика» было далеко. Вот, допустим, пишет Корин о Радомышле, куда он вернулся после сорока лет отсутствия. А Радомышля, о котором он мог по детским воспоминаниям говорить и говорить, здесь, увы, нет. Есть пышные шары хризантем, а ещё камни, которые «сбивают с толку», «дышат иным» и «путают след». Чем – иным? Какой след? Есть нечто условное, неопределённое. Или, если сказать точнее, неудачный подступ к «теме». Поэт говорит нам со всей откровенностью, что он «беспамятен», что «за давностью той давней» его память «камня не оставила на камне», а себя он видит не просто человеком, а «человеком, поднятым крылами (курсив мой. – В. М.) в рокочущее над землёю пламя».
А как насчёт войны, которой Годик нахлебался сполна? Он подарил мне снимок: мальчишка в пилотке, сползающей ему на оттопыренные уши, в мешковатой шинели; а глаза печальные, не видящие завтрашний день. В них – сомнение, что этот день наступит. Сколько было ему тут? Лет шестнадцать, семнадцать? Вряд ли больше.
– Кем ты был на войне?
– Авиастрелком. То есть стрелком-радистом.
– А почему ты как-то говорил, что война у тебя началась с Нового Афона?
– Да нет, ты неверно понял: в монастыре месяца три я просто проходил подготовку. Мы, салажата, размещались в кельях. Хочется написать об этом. Может получиться потрясающая книга.
– А затем? После Нового Афона?
– Затем – фронт. Летал часто на штурмовиках. Ничего особенного, в общем…
(Как – ничего? Зря ли сказано ветеранами: «Потери среди воздушных стрелков были огромными, особенно среди тех, кто летал на штурмовиках. В отличие от пилота Ил-2, кабина стрелка находилась вне бронекорпуса. Поэтому-то единственной его защитой от огня немцев со стороны хвоста – самого опасного направления – была лишь стальная плита толщиной всего шесть миллиметров. От огня сбоку стрелок не был защищён вовсе. Итогом стали их ужасающие потери: на одного убитого лётчика Ил-2 приходится семь убитых стрелков!» Оттого такое выражение глаз у Годика в пилотке…)
– Куда ты попал после Нового Афона?
– В 11-ю Новороссийскую дивизию. Её именовали штурмовой.
– Что врезалось в твою память больше всего?
– Трудно сказать. Многое. Видел немало неоправданной жестокости, в то же время видел настоящую фронтовую дружбу. Сотни примеров. Каждый день. Никогда не забуду, как мы поминали погибших. В кино это одно, а в реальности – куда жёстче. Свечи где-то доставали, зажигали их. Ставили на стол кружки со спиртом на дне, а на кружках – квадратики чёрного хлеба… Кое-кто крестился. «Старики» не плакали, молчали, а я не мог сдержать слёз, но меня никто не упрекал за это. В конце марта мы нанесли удары в направлении Тирасполя и Николаева. И уже 10 апреля была освобождена Одесса[56]. Там был парад; говорили, какое там ликование было, но наша эскадрилья туда не попала.
И в дополнение к этому – фрагмент из автобиографии Годика:
«Потом перебрался в Прибалтику, освобождал Кёнигсберг, где для меня и кончилась война. 8 мая 1945 года объявили об окончании войны, а 9 мая по тревоге дивизия была поднята на уничтожение немецкой авиации, которая искала спасения в странах Балтики. Мы понесли большие потери, погибли лучшие лётчики. Среди них – командир звена; на его груди было четыре ордена Боевого Красного Знамени. Я хотел лететь с ними, но он не взял меня: „Отвали, салага”. Так он спас меня». Вот где поэзия! Не то – в стихах. Корин не попал в «обойму» поэтов-фронтовиков, чьи строки воплощали Время, его раздумья, тревоги. Корин тоже пишет о тревогах – но как?
Я живу тревожно, Я живу тревожно, Жить мне по-другому Просто невозможно. На вокзале Курском, На перроне узком Туча грозовая Разломалась с хрустом. Робкие ладони, Взгляд твой молчаливый… Длинные вагоны Как зелёный ливень…Говоря о войне, он обращается к тому, с чем связан, – но с чем?! С ветром, с облаками, которые с ним «братались по окопам (стрелок-радист – в окопах?! – В. М.)», которые «властвуют» не его памятью, а… его руками! Впрочем, и этот условный «заблудший старый» ветер с помощью врачей «извлекается при свете» из костей фронтовика, что заставляет того обратиться к медикам с благодарностью: «Спасибо вам, мне хорошо под лампой, под световой баюкающей лапой. Я выхожу из кельи процедурной. Спасибо день, спасибо, час лазурный». А вот он ведёт речь о побратимах, о лётчиках (он, фронтовик, которому было бы что поведать миру): «Хорошо награждали! Полно орденов. Орденов не жалели, ни звёзд (так в тексте. Курсив мой. – В. М.). Хорошо награждали. Полно орденов. Только кто их до дому донёс!» Беда не в косноязычии даже, а в этой мысли, в выводе, лежащих на самой поверхности! Ведь никакого открытия. То же – и в других стихах о войне. К примеру: «Огнём и кровью всё полито – и штык, и скатка, и душа. И только небо не разбито на переходе рубежа». В общем, сказать нечего. И как не согласиться с поэтом Григорием Кориным, признающим, что в его творчестве «линяет память, словно флаги, оставленные на ветру», что он всё больше теряет важнейшие ориентиры: «Копаюсь, как старьёвщик дошлый, в проклятой утвари своей и между этим днём и прошлым уже иных не вижу дней».
Любое мнение, расходившееся с его собственным, Годик, что называется, встречал в штыки. У него тотчас начиналась игра желваками, когда я робко пытался обратить его внимание на неуклюжие рифмы, на языковые и стилистические огрехи, на явные штампы. Я просил прощения, понимая, что наношу вред его здоровью, жалел его, твердил: мол, не обращай внимания – и вставлял в своё оправдание глупейшую фразу: «Ты имеешь право на самовыражение».
А тут ещё личная драма. Он написал:
– Твоя доброта стала бессмысленна, — мне сказала взрослая дочь, — тебя мама не любит, и в этом — истина. …Я весь вечер с неё не сводил ока, уже я о том не думал, вникая в доверчивый взгляд, — что её откровенность бессмысленная жестокость или гнев справедливый, не знающий кровных преград?Называется стихотворение «Внезапный разговор», но вряд ли истина открылась Годику внезапно. Он давно уже предчувствовал разрыв, готов был к нему – без проклятий и упрёков. «Я выпущу тебя из рукава, как птицу, обезумевшую в клетке. Дитя природы, ты коснёшься ветки и позабудешь все свои слова». А его собственные слова становились весомыми, благородными, несущими в себе всё, чем богата поэзия: «Я выпущу тебя из тяжких снов и буду волю наблюдать из окон. И снова ты поднимешься высоко, дитя природы – смешанная кровь». Их разрыв огорчал Светлану: рушилось то, что когда-то нас всех объединяло. Теми днями в какой-то степени продиктованы её стихи, переполненные нескрываемой болью: «Уходи поскорее, ведь, пока мы стоим, я старею, старею под взглядом твоим»; и ещё – с тем же самым мотивом: «Всех бросали, всех бросали. Только лучше поскорей. <…> Только скрадом, только скрадом, только скрадом уходи. Не сошлись с тобой укладом, ничего нет впереди».
Но у Григория Корина впереди были лучшие его книги – «Повесть о моей Музе» и «Автопортрет». Даже нередкую для него интонационную, ритмическую неуклюжесть он обратил здесь себе на пользу. Это уже не неуклюжесть, а выстраданная интонация!
4
На моих глазах путь Инны расходился с наносным, со случайным, с прошлогодним снегом и, увы, с Гришей. Она (велевшая себе: «Не у святых прощения, у грешников проси») никогда и не доказывала, что носится по волнам бытия с ангельскими крылышками.
И разминуться не могли, Сожгли себя дотла, — И долетела до земли Лишь звёздная зола. И это видел старый мост И месяц молодой. Ты был одной из этих звёзд, А я была другой.И вдруг Володя Соколов, встретившись со мной, сказал:
– С Гришей Кориным произошла метаморфоза. У него появились настоящие стихи. Таких у него прежде не было.
И прочитал:
Наше дело извечно Нас стегало самих, Чтобы ран и увечий Не стыдились своих. Но притом, чтоб повязок Ни при ком не вскрывать, И самим их развязывать, И самим бинтовать.Вслед за Соколовым такую метаморфозу обнаружили многие. Булат Окуджава назвал стихи Григория Корина одной пронзительной и очень беспощадной исповедью. Ставший другом Годика Арсений Тарковский вторил Окуджаве: «Талантливость этого поэта носит черты исключительной самобытности: он никогда не подражал ни своим предшественникам, ни современникам».
– Твой Годик, – сказал Ревич, – кажется, нашёл себя. У него строчки стали сами собой запоминаться. «Когда я издали гляжу на окна и не вижу света, чернее ночи нет, чем эта, когда я к дому подхожу…» Видать, его жареный петух клюнул, иначе не написал бы: «О, взор во взоре, взор во взоре на глади моря, как в трюмо. Нет больше ревности. Есть море, как одиночество само». Или вот хотя бы, слушай: «Я снова один на один со сбитой вверху штукатуркой».
Пришло время главного в поэзии Корина – книг «Автопортрет» и «Повесть о моей Музе». Они так сливаются по своей художественной и житейской сущности, что это одно целое, ибо в них – Судьба, нарисованная предельно откровенно, с сохранением острых, болезненных углов и благодарным принятием её. Здесь он по-новому увидел себя – того, запечатлённого на снимке, будто покрытым слоем едкого никотина, в Новом Иерусалиме, перед отбытием на войну, о котором мы уже говорили. Снимок (как и сами стихи!) стал словно бы цветным, «породив неожиданный эффект»:
Я на нём как на духу. Это за день, как мне окунуться в войну. С ушами меня поглотила пилотка, и я в шинели мирно тону. Маленький, без подбородка.5
В ту пору и вырвались «из грудных глубин» Семёна Липкина стихи с коротким, но неисчерпаемым для него и для нас названьем «Любовь» (конечно, любовь к Инне!), где всё озарено «странным светом», заставляющим творца, будто мифического гончара, упасть «с пылающим лицом» перед «карим взглядом серны»: «Не он, – она была его творцом, и душу он обрёл, – её творенье». Он, мудрец и ребёнок, признался избраннице, как мог признаться только он («Симеон, то есть встречающий Бога»):
Почему, я подумал, всегда безоружна Многоликая клейкая мякоть, А со мною поёт и печалится дружно, Почему мне так нужно, так радостно нужно, Так позорно не хочется плакать?Каждому слову, каждому звуку, узнаваемому тотчас же, здесь безотлагательно веришь. Недаром Василий Аксёнов в липкинской книге «Воля» (Ардис, 1981) высказал уверенность, что в стихах поэта дышат Бог и Правда. А спустя несколько лет добавил: это липкинская музыка. «Что ей слова, когда есть шелест, шорох и дальние признания скворца, когда сирень у самого лица и юность яблонь в свадебных уборах…» Эта музыка (ей лет-лет – счёта нет) и объединила двух любимых мной людей, двух поэтов, несмотря на неповторимость каждого из них. И здесь не нужны никакие симфонии и оратории. Лиснянская поняла главное. Не зря одна из лучших её книг названа как разгадка секрета – «Музыка и берег».
…Себя в настройщики прочим, Гремя скрипичным ключом. А музыка, между прочим, Держится ни на чём.И всё же держится! Держится на осознании близости берега и нескончаемости звука, исторгнутого человеческой природой. Приходит время – и становится ясно, что лишь оно – камертон. Увы, ушли из жизни близкие Инне люди. Александр Солженицын, Арсений Тарковский, Светлана Кузнецова, в Нью-Йорке – Александр Межиров. Ушёл и муж её, Семён Липкин, найдя наконец ту, свою Одессу. Ушёл бесшумно, «как уходит лев». И не закономерно ли признание того, что «жизнь – как небылица, в которой я живу». Поэзия Лиснянской – это преодоление страданий, почерк «повзрослевшей листвы». «Жёлто-зелёно-голубы ещё стоят деньки, я вижу в них предел судьбы, как видят старики». Горькие (а у Лиснянской этой горечи хоть отбавляй) слова, на пределе срыва интонации. Приходит, приходит пора сказать и о береге, при столкновении с которым деньки уже не стоят…
«Вот и мысли летят, словно листья отдельные, и понять не хотят, что уже – запредельные». Но мысли эти тем не менее самым тесным образом связаны вовсе не с запредельностью: они претендуют на последнее право «под землёй о земле тосковать». Это право и стало сквозным мотивом (если не сквозной раной) множества стихов Инны Лиснянской.
Вернусь вновь к «Музыке и берегу». Идея этой книги, слава Богу, заключается не в чрезвычайных обстоятельствах, как, например, у Георгия Иванова, о чём свидетельствует его эмигрантский «Посмертный дневник», и прежде всего строки: «Допустим, как поэт я не умру, зато как человек я умираю». У стихотворений Лиснянской совершенно иное мироощущение, они лишены, с одной стороны, жалоб и чувства безысходности (по поводу «мировой миграции душ»), а с другой – нарочитой героики. Правда, есть вещи, которыми грешить нельзя, и поэтому Инна Лиснянская без обиняков поставила всё на свои места:
Но нам ли страха устрашиться? Со мною всё моё добро — Три пальца, чтоб перекреститься, Три пальца, чтоб держать перо.Признавшись, что «смотреть вперёд – нет памяти опасней… казнить себя – нет гордости страшней!», поэт отстаивает себе право жить в мире, где всё – тайна, в том числе и мир, и тем более смерть, и в не меньшей степени – слова, выражающие их. Разумеется, устрашиться – последнее дело, но… «Склоняюсь над чашкою кофе, чтоб впрямь за глухую сочли и весть о грядущей Голгофе в глазах у меня не прочли». Родовой отметиной многолетнего творчества Лиснянской было мужественное признание своей мнимой и подлинной вины и своего несовершенства.
Трудно не догадаться, почему Иосиф Бродский выделял её стихи, где она, по её мнению, брала на себя грехи всего мира. «И наверное, когда покину я навсегда земную колею, тень моя не раз придёт с повинною, если даже окажусь в раю». Поэзия Лиснянской каждый раз всё больнее касается непостижимого («Вот и кажусь загадочней сфинкса, ибо сама для себя загадка»). И всё это у неё исходит из музыки, о которой особо впечатляюще говорила Лиснянская в строчках об отце: «Он за музыку, как пульс, нитевидную, отдал пенсию, клянусь, инвалидную». И настаивает на том, что «кроме музыки нет зеркала у человеческой души».
Звучит же эта музыка, как и должна звучать, в минуты мира роковые: «Зачем нащупываю точку болевую, когда последнюю поставить мне пора?» Заодно отмечу, что тут нигде нет перебора, воздевания рук к небу. Напротив! Судите сами: «Бог не вдунул меня, а выдунул в виде мыльного пузыря». Переход от трагической ноты к ироничной, самоироничной, едва ли не шуточной находим и в другом месте: «Пусть сирени гроздья в комнате горят и о тайне поздней молча говорят. На исход летальный, как на посошок, я сентиментальный припасу стишок».
Впрочем, Лиснянская и не собирается ёрничать «Смерти нет, поскольку после жизни снова жизнь, но в облике ином». Это просто-напросто чувство человеческого достоинства – ни больше ни меньше. Как говаривал Евгений Баратынский, «не подчинишь одним законам ты и света шум, и тишину кладбища!» Пресловутые «страх и трепет» во владениях поэзии в обязательном порядке утрачивают свою однолинейность и позволяют нам оглянуться по сторонам, узреть «вокруг, нищетой обглоданный, русский путь юродски-разбойничий». И даже больше – подхватить вопрос-крик: «А что же в мире и в стране в твоей, в любимой до крови?»
Так вновь и вновь заходит речь о любви, заповеданной свыше, когда слова приобретают особый, не поддающийся обычной расшифровке строй: «Я помню тебя, словно книгу слепец, ты помнишь меня, словно скрипку глухой». Приходит черёд дерзкой просьбе: «Погоди, гребец, не греби! Видишь, в Стиксе кипит волна, да и столько во мне любви, что и здесь я ещё нужна».
6
В лирике Лиснянской отчётливо слышен голос из-под снега – на сорок ли дён, на сорок ли зим, не важно это, а важно то, что он умоляет: подольше бы оставаться в привычном для нас мире, где, как говорит он, «сиди себе, работай в мороке последних сигарет пред окном с пчелиной позолотой, перед сном, в котором смерти нет». Вот откуда признание: «И если солгу, что мне плоть не нужна, то провинюсь втройне и трижды буду грешна. О Боже, к Тебе приду в горе, что признаю, – мне лучше в земном аду, чем у Тебя в раю». Это-то и даёт повод пожалеть надменного друга, спесивого брата, нищую и злобную сестрицу, соседку, на чьей святости алеет грех, – и одновременно осознать, что «и меня на этом свете кто-нибудь жалеет», а кроме того, холодея и горя вместе с осенью, помогает вырвать «слово моё благодарственное из мировой темноты».
Едва ли не одной из определяющих вещей можно считать стихи о свече, которая, пока горит, слепа и не видит ни Матери Божьей, ни Её Младенца. Одушевляя самые прозаические предметы (обратим внимание хотя бы на поразительный «переход» заурядного компьютера с его «окнами» в поэтическую сферу), Инна Лиснянская тем более не могла не сделать этого со свечой, пропустив фитильком свет сердца человеческого сквозь стеарин и слова молитвы: «Прости, Господь, помилуй нашу Русь!» В этом стихотворении – ключ к пониманию многих книг Лиснянской: «И лишь когда свеча сгорит, черноресничным всмотрится огарком в два лика, пред которыми стоит, – и свет свой обнаружит в нимбе ярком. Отметит мельком то, что я жива, что, в сущности, одно творили дело: я пыл души влагала во слова, она во славу Господа горела».
Инна Лиснянская говорит то, что, казалось бы, должно быть ясно каждому из нас: «Что на сердце? – Любовь, вина и дыба». И тому, кто с этим согласен, открывает Истину: «А что за гробом? – Музыка и берег».
…Собираясь на вручение Инне Львовне Российской национальной премии «Поэт» за 2009 год, я отыскал в дневнике (вроде бы такую недавнюю…) запись: «Господи, как будто лишь вчера Иосиф Бродский и Юрий Кублановский, поздравляя Лиснянскую с 60-летием, поражались чуду возникновения её голоса, чуду, которое состоялось едва ли не вопреки физическим законам материи, поскольку творчество её „формировалось во времена, когда обрести внутреннюю свободу и высокое литературное качество было невероятно трудно“. И вот с тех самых пор минуло уже двенадцать лет…» Тогда она стала лауреатом премии Александра Солженицына (1999 год) за прозрачную глубину стихотворного русского слова и многолетне явленную в нём поэзию сострадания. Это было закономерным событием (десять лет с тех пор минуло!). Александр Исаевич ещё в апреле 1993-го писал поэту Лиснянской: «Казалось бы: после Ахматовой и Цветаевой – до чего же нелегко проложить свою самобытность в русской поэзии, придать ей красок и быть значительной, – а Вам это удалось, и видно, что не по заданной программе, а просто, само по себе, как льётся». В том же 1999-м ей присудили Государственную премию за книгу «Из первых уст».
Таковы внешние приметы широкого признания её дара, но самое основное – этот голос не только не перестал восприниматься как чудо, к которому вольно или невольно привыкаешь, – напротив: он, приобретя в пророчестве, сострадании к чужим бедам, всё пронзительнее, всё метафоричнее проникает в души страждущих лирического откровения:
Не взыщите, – бутылка с запиской, Люди добрые, к вам – не из моря, А из жизни, до боли вам близкой, Из оттаявшего подзаборья…7
Часто ли кому-нибудь из нас удавалось вылавливать из морской пучины нечто подобное? Это поэтический невод, заброшенный в будущее. А написана та записка не иначе как державинским пером, которое выпрашивает у младшей сестры Арсений Тарковский, сидящий на тучке. Помните, как он жалуется в строчках Лиснянской, что «нету ручки для синего листа», и умоляет: «Пришли мне лучше с гуся Державина перо». Вот круг, который стал для Инны Лиснянской вечным намёком на то, что она в слове – «там, где Господни рощи», что она «Его творенье, – царь, червь, и раб, и Бог». Потому и нужны ей «три пальца – чтоб перекреститься, три пальца – чтоб держать перо». Такая миролюбивая и кроткая в обыденности, она, свершая свои подвиги, преодолевала любые препятствия, чтобы стать самой собою. И платила за это высокую цену. Правда, и добивалась немалого. Ей дано было слышать, как «Божий младенец вздымает глагол», её публикации и рукописи были не в обычном пространстве, а «над гетто, где воздух лежит на земле и жёлтые звезды мерцают в золе».
Лиснянская, как мало кто, имела право сказать:
Где стихи про любовь? Всё рифмую войну и вину. Я устала сама от себя. Я достану шпагат, Сплошняком снизу доверху туго его натяну И пущу по нему вифлеемских кровей виноград.Светлана Кузнецова, автор строк «Со мной ничего не случится, только душа сгорит», однажды сказала мне:
– Настоящих русских поэтов – раз-два – и обчёлся. Инна – из них. И это подтверждается признанием Лиснянской:
А со мной ничего не случится, И никто никогда не поймёт, Что чужая страна мне не снится, А родная уснуть не даёт.При вручении Лиснянской премии «Поэт» весь зал, устроив овацию, встал. И невольно припомнился мне в те минуты гнев тов. Сталина, узнавшего, что на ахматовском вечере в Политехническом в начале 1944-го, когда Анна Андреевна вернулась из Ташкента, ей устроили бурный приём и приветствовали её стоя. И то припомнилось, как он сурово спросил подчинённых идеологов: «Кто организовал вставание?!» Лиснянской, как и Анне Андреевне, родная страна «уснуть не даёт». Н. Д. Солженицына прочитала эти строки и сказала, что именно они согрели душу Александра Исаевича в Вермонте. Вспомнила она и те дни, когда разразился грандиозный скандал вокруг «Метрополя» и когда Инна Львовна вместе с Василием Аксёновым и Семёном Липкиным вышла из Союза писателей. Её объявили «отщепенкой» и запретили ей быть российской поэтессой.
И то учли, что мы с тобой в опале, И то учли, что нет в суде суда, И даже то, что мы с тобой пропали, Как пропадают письма в никуда.И всё же её голос не умолкал, он приобретал особое значение, доходя до нас в вышедших на Западе сборниках «Дожди и зеркала» и «На опушке сна». «Слыть отщепенкой в любимой стране – видно, железное сердце во мне». Ей не была страшна никакая глушилка. Что глушилка, ведь та, «как сердце моё, ещё заглушает себя самоё, к чему нам известья из тьмы мировой? Транзистор разбей, а гитару настрой. Гитару настрой и по струнам ударь, да так, чтобы числа забыл календарь».
Лиснянская всегда удивляла тем, что у неё всё не так, как у других. Она никого не обвиняет, она не злобива. И впрямь пресловутая «сила слабости»…
Обойду все родные места От бакинской лозы до креста На лесистой московской окраине. Наша память о жизни – мечта, Наша память о смерти – раскаянье.Не забыть мне, как на рассветных тропинках в Переделкине (ещё в 70-х-80-х – о Боже!) мы с Семёном Израилевичем Липкиным, державшим в руках тяжёлый посох, с удовольствием и наперебой читали строки Инны Лиснянской:
Но там, где возродилась быль, Где жизнь творится наново, Ты обо мне не плачь, Рахиль, В жилище ханаановом! Вросла я в почву, словно ель, А почва многослойная. Меня не вызволит отсель Звезда шестиугольная. Я в русский снег и в русский слог Вросла – и нету выхода, — Сама я отдалась в залог От вдоха и до выдоха!Эти слова для Лиснянской, поистине большого русского поэта, и органичны, и естественны, хотя она, будучи матерью и подлинным художником, и не обходила в своё время стороной тему Исхода. Опять обращаюсь к своему дневнику восьмидесятых. Никак нельзя без него сегодня. Там я «по горячим следам» говорю о невесёлых стихах Лиснянской, где «проводы, проводы», где «прощанье – как будто из жизни изъятье». Тут легко находится важнейший опознавательный знак: «Русские люди, а значит – и водка, и толки… Люди прощаются, русские книги молчат». Она была разлучена с дочерью, которая поставила перед собой задачу – оживить тех, кто сгорел в пламени Холокоста, в частности – художницу Фридл Диккер-Брандвейсову. Фридл в Терезинском гетто была рядом с детьми, обучала их умению рисовать, а настал час – пошла вместе с ними в печь. «Лена, – сказала Лиснянская, – организовала в Москве первую выставку художественных работ талантливых детей, погибших в гетто. В ответ – площадная ругань. Общество „Память“ прибегло к угрозам. Вот Лене и пришлось уехать, чтобы продолжить начатое святое дело. Вскоре сразу же на нескольких языках появится её книга о Фридл… Так уж получилось: дочка – в Израиле, я – в России. Что же касается моей „пятой графы“… Мама у меня была армянка. Во мне есть кровь и русская. И французская, есть и еврейская, которая главенствовала у отца, военврача. Получая паспорт, я попросила записать меня еврейкой, потому что знала о жертвах Катастрофы. Но повторяю: „Пронзены половецкими стрелами русские сны“. И ещё: „Приближаясь к последнему праву под землёй о земле тосковать, больше я никакую державу не посмею чужбиной назвать“».
Никогда не забуду чувство, которое я испытал, услыхав стихотворение, где жертва жалеет гонителя:
Обшарпаны стены, Топтун у ворот: «Опасная стерва В том доме живёт. О русском народе Бесстыдно скорбит, Транзистор заводит Да суп кипятит. Перлового супу Хватает на пир, Читает сквозь лупу, А слышит весь мир, И в колокол Герцена Яростно бьёт!» Топтун своё зеркальце Вдруг достаёт, Чтоб вновь убедиться, Что он человек И с ним не случится Такого вовек.Услышал я эти строки тоже на переделкинских тропинках.
– Редко, редко кому удаётся сказать о себе так! – воскликнул я, ещё не переварив услышанного.
– Это я не о себе, – ответила она. – Это посвящено Лидии Корнеевне Чуковской…
И я припомнил, что у неё уже было нечто похожее: «Ну, скажи, не одно и то же – конвоиры и беглецы?»
Мир Лиснянской бескраен, хотя и поразительно конкретен. Не напрасно же у неё столько триптихов. Но ни единой длинноты!
Я в гости приду виноградною тенью И зыбью на море, пятном на стекле. Простите за краткое стихотворенье, Оно не короче, чем жизнь на земле.Святая правда! И всё же бутылка с запиской не потонет в житейском море никогда.
8
…Меня попросила Александра Владимировна Плохова, самый верный друг Светы Кузнецовой, поместить в этой книге её записки о том, как мы вместе с ней и её сыном Алексеем приезжали в гости к Инне. С удовольствием выполняю эту просьбу.
Воскресенье. 05.07.09. Монотонный дождик зарядил с ночи, и, похоже, надолго. День серенький, но уютный, как пушистый котёнок. Мне очень по душе такая погода. В машине тепло. Негромко звучит джаз. За рулём – мой сын, Алексей. Мы направляемся в Переделкино, где меня и Владимира Николаевича Мощенко на своей даче ждёт поэт Инна Львовна Лиснянская.
Представлять Инну Лиснянскую нет необходимости. Недавно, 24 апреля 2009 г. ей была присуждена престижная национальная премия России – «Поэт»! А ещё раньше она стала обладателем Государственной премии России и премии А. И. Солженицына.
Позвольте, дорогая Инна Львовна, в этом рассказе называть Вас Вашим «знаковым» именем – Инна? Мой спутник, Владимир Мощенко – поэт, прозаик, о произведениях которого Василий Аксёнов говорил, что они «в какой-то степени сродни квадратам джазовой импровизации», впечатляют «своей удивительной лирической манерой». И Лиснянская, и Мощенко в прошлом – самые близкие друзья моей подруги, уникального, талантливого поэта Светланы Кузнецовой. Стихи, и имя Светланы стали забываться в наше суматошное время. Но когда я решилась публиковать её последнюю книгу «Избранное» (М., 1990), на сайте Стихи. ру, то с радостью обнаружила, что её творчество востребовано и в XXI веке. Она – жива! Жива её поэзия!
…Подъезжаем к станции метро. Ждём Мощенко. А вот и он! В руках – зонт, пакет с тёплыми, вкусно пахнущими булочками и букет белых роз (досада: мы тоже везём белые цветы – хризантемы). Приходится ещё ждать, – когда мужчины расправятся с булочками. Мне же не терпится увидеть Инну, и я боюсь опоздать. Она ждёт нас к часу дня. Волнуюсь. Последний раз я виделась с ней двадцать лет назад в горький час прощания со Светланой, когда она «своевольно» ушла из-под капельницы из больницы. Она не могла не откликнуться на зов Светланы: «Инна, я умираю. Приди проститься».
В пути заходит разговор о Василии Аксёнове. Почему вдруг? Мы ещё не знаем, что идут последние часы его земной жизни.
Выезжаем на Минское шоссе. Вот наконец и Переделкино. На меня нахлынули воспоминания: Дом творчества писателей, Светлана, уговорившая меня навестить её (об этой поездке я рассказала в моей повести «Подруга»). Тогда, помню, после чтения вслух Астафьевской повести «Бабушкин праздник» Светлана дала мне почитать рукопись четырнадцатилетней Леночки – повесть из школьной жизни. И мы обе были удивлены зрелыми размышлениями и мастерством этой девочки – дочери Инны Лиснянской, в настоящее время известной писательницы и художницы Елены Макаровой.
Узенькими, заросшими густой травой, кустарниками и деревьями, «непричёсанными» улочками подъезжаем к калитке старенького промокшего под дождём забора. Вот он, этот дом, где царит поэзия и трогательная любовь исключительных людей, талантливейших поэтов нашего времени! Меня глубоко тронул цикл стихов Инны Лиснянской «Гимн», посвящённый Семёну Израилевичу Липкину, её мужу, которого теперь нет на грешной земле. Эти стихи вряд ли кого могут оставить равнодушными. И с первого шага в сад они зазвучали в моей памяти…
Идём по тропинке сквозь буйную зелень травы.
– Вот здесь жизнь оставила Семёна Израилевича, – сказал Мощенко.
Поднимаемся на крылечко, проходим небольшие светлые сени. Отворяется дверь, и Инна Лиснянская выходит к нам навстречу, внимательно всматривается в лица: мы с ней не виделись много лет, и прошедшие годы, к сожалению, сказались на нашем облике. В моей памяти – тёплые вечера 70-х годов в доме Светланы. Тогда все были молоды и веселы. Но Инна по-прежнему с короткой стрижкой, с чёлочкой, с тёмно-вишнёвым маникюром и очень живым мудрым взглядом. Исчезла порывистость, свойственная давней молодости: всему своё время. Инна Лиснянская – не суетлива, неспешна.
Она приглашает к столу. Я иду в ванную помыть руки. С трепетом вхожу в эту комнату, о которой написано Инной стихотворение «В ванной комнате», которое невозможно читать без слёз:
Я курю фимиам, а он пенится, словно шампунь, Я купаю тебя в моей глубокой любви. Я седа, как в июне луна, ты седой, как лунь, Но о смерти не смей! Не смей умирать, живи! Ты глядишь сквозь меня, как сквозь воду владыка морей, Говоришь, как ветер, дыханьем глубин сквозя: Кто не помнит о гибели, тот и помрёт скорей, Без раздумий о смерти понять и жизни нельзя. Иноземный взбиваю шампунь и смеюсь в ответ: Ты, мой милый, как вечнозелёное море, стар… На змею батареи махровый халат надет, А на зеркале плачет моими слезами пар.Осматриваюсь. Вот «иноземный шампунь», вот «змея батареи» – сейчас без «махрового халата». Подхожу к зеркалу – и… в носу защипало. Возвращаюсь в комнату – по-видимому, утеплённую террасу, которая теперь служит и кухней, и столовой. Стол, вытянутый в длину, накрыт цветной чайной скатертью. С обеих длинных сторон стола – деревянные лавки. На лавку у окна садится хозяйка дома. Напротив – Владимир Николаевич и мой сын. А я усаживаюсь на стул с короткой стороны, между Инной и сыном. Стол накрывает милая женщина, Татьяна Алексеевна, компаньон Инны. Она живёт в этом доме. Состояние здоровья не позволяет Инне оставаться одной. Мощенко наполняет бокалы красным сухим вином. В молчании и тишине поминаем Семёна Израилевича и Светлану. С Липкиным мне не довелось быть знакомой. О его поэтическом таланте мне говорила Светлана. Читала вслух его стихи. Ценила и очень уважала Семёна Израилевича. Считала, что таких больших поэтов, как Лиснянская и Липкин, больше нет в России.
Мощенко, по-моему, взволнован: он тоже давно не видел Инну. Последний раз они встречались полтора месяца назад, но в официальной обстановке. Он спешит поделиться с ней новостями. Надписывает и преподносит в дар свои недавно изданные книги. Это – стихотворные сборники: «Оползень» с предисловием Евгения Рейна, «Вишнёвый переулок» с предисловием Александра Ревича и книгу прозы «Блюз для Агнешки» с предисловием Василия Аксёнова. Завтра, завтра придёт горестная весть, особенно горестная для Лиснянской. Лиснянскую и Липкина связывал с Аксёновым нашумевший, вызвавший гневное недовольство властей «Метрополь», протест против исключения из Союза писателей Виктора Ерофеева и Евгения Попова и немедленный выход из этого Союза.
Вл. Мощенко рассказывает о подготовке к изданию следующей своей книги, посвящённой драматической жизни великого шахматиста Сало Флора, с которым был дружен когда-то. Сообщает, что его эссе «Бутылка с запиской от Инны Лиснянской» с её замечательным портретом (компьютерная графика работы А. Н. Кривомазова) будет вскоре опубликовано в журнале «Муза». Инна благодарит.
Из окна льётся, несмотря на пасмурность, золотисто-зеленоватый свет. Его отражают огромные круглые, диаметром в метр, листья лопухов, которые, оказывается, были завезены из Китая. За окном – запущенный дикий сад, уход за ним стоит больших сил. Инна Лиснянская недавно вернулась из больницы, где оказалась после торжеств, связанных с вручением ей премии «Поэт». Конечно, сказались волнения. Мощенко вопрошает: не навестил ли её, часом, Президент? Инна смеется: нет, не навестил. С юмором рассказывает о знаменательном дне, о своём беспокойстве: придёт ли народ, не будет ли полупустым зал в этой роскошной гостинице? И о последующем волнении, охватившем её до дрожи, уже при виде полного зала, который стоя приветствовал Поэта.
– Но когда, – рассказывает Инна, – я опустилась в кресло и как только мне предоставили слово, воцарилась тишина, все тревоги мгновенно улетучились.
Остались Поэт и стихи. Умолк голос Инны Лиснянской, и зал взорвался аплодисментами, все, до единого, встали. Аплодисменты долго не смолкали. Лиснянская подняла указательный палец – это означало, что она прочтёт ещё одно стихотворение. Потом выходили с поздравлениями друзья. Мощенко вспоминает, что, когда он поднялся на сцену, Инна сказала ему: «Я ничего не вижу, всё мелькает и кружится». – «Ты прекрасно выглядишь и хорошо держишься», – поддержал он её. Инна Лиснянская действительно достойно выдержала «испытание радостью». Однако и положительный стресс оставляет след. Наступила усталость. Но сегодня уже полегче, говорит Инна.
Мы выпили по глотку вина за здоровье Инны, а я передала ей поздравления читателей моей (Светланиной) страницы на Стихире. По-моему, ей было приятно их получить, она поблагодарила и очень порадовалась за Светлану, одобрив мою работу. Мощенко ещё раньше рассказал Инне о моих страничках на сайте, посвященных Светлане Кузнецовой. Она предложила мне (в письме к Мощенко, которое он мне переслал), стихотворение «Сороковины», а также посоветовала найти воспоминания Виктора Астафьева о Светлане. Теперь же на даче, сидя за столом, Инна спросила: пригодились ли её советы?
– Воспоминаний Астафьева я пока не нашла. А стихотворение – да. Я его включила.
Мне хотелось показать, как выглядит на сайте страница, посвящённая Светлане, но – увы!.. На даче уже давно не работает интернет. Мой сын попросил разрешения взглянуть, в чём там дело. Татьяна Алексеевна проводила его к компьютеру. Инна сказала очень приятные слова в адрес моего сына. Спросила, чем он занимается. «Он – кандидат технических наук, руководит большим проектом, а для меня самый лучший на свете сын и друг». – «Это сразу видно», – ответила Инна. Мы вернулись к разговору о моей работе над Светланиной страницей на сайте. И тут я вспомнила, что одна дама в областной иркутской газете высказалась по поводу стихотворения Инны «Сороковины»:
– Кто-то называет их злыми, кто-то – по-матерински горькими.
– Злыми? – откровенно удивилась Инна. – Как так можно?.. Я Светлану очень любила. Очень.
И снова нахлынули воспоминания: молодость, дружеские посиделки, присказки и поговорки. Посмеялись, вспомнив одну из прибауток: «Альгис рыбу не ест», которая мне ничего не сказала, так как возникла ещё в общежитии Литературного института, до моего знакомства со Светланой. Я напомнила, что тогда, вечерами, у Светланы мы гадали на кофейной гуще. Инна засмеялась:
– О, да!
Вспомнили поэта Григория Корина, первого мужа Инны и отца Лены Макаровой.
– Он сейчас, после всех потерь, очень одинок, – сказала Инна, – Лена заботится о нём. Володя, позвони ему…
Я сказала, что храню книгу стихов, которую мне подарил Корин. Инна с интересом спросила, какую и когда. В те времена Инна Лиснянская ещё появлялась у Светланы вместе с Годиком – так звали Корина в дружеском кругу. И чувствовалось, как сильно он её любит. Замечательный, живой, трогательный образ Инны – в его поэтическом сборнике «Смена ритма», в цикле стихов «Повесть о моей Музе». Но не менее прекрасен, на мой взгляд, и образ самого автора, чуткого, любящего, умного мужа и отца, добрейшего человека с широкой нежной душой. Недаром Светлана не приветствовала разрыв их отношений. (Первое из двух стихотворений, посвященных Светланой Инне, относится к тому периоду.)
Под дарственной надписью на книге Григория Корина: «Милой Але от Гриши» проставлена дата: 13 (месяц – неразборчиво) 1970 г. Инна тоже подарила мне в ту пору книгу, которую не удалось, к великому моему сожалению, сохранить: мне её не вернули.
Мне очень понравился дом Инны Лиснянской, хотя внутри я не была, но с моего места мне был виден коридор и распахнутая дверь в просторную комнату, на дальней стене которой висел большой портрет Семёна Израилевича. Липкин был импозантным, на мой взгляд, красивым мужчиной. А слева по коридору была открыта дверь в спальную комнату (напротив ванной), откуда слышались голоса Татьяны Алексеевны и Алёши: они пытались реанимировать интернет, связывались по телефону с провайдерами. Но тщетно…
Владимир Николаевич предложил мне «взять интервью», чем меня озадачил. Я приехала просто повидать Инну, просто поговорить. Сроду не брала никаких интервью. И тут же, конечно, забыла, о чём хотела расспросить. О родителях Светланы: Инна мне сказала, что они часто меняли местожительство, чтобы избежать репрессий. Я знала от Светланы, что когда она впервые приехала в Москву, то жила у Инны.
– Как долго?
– Да около двух лет, пока не купила однокомнатную кооперативную квартиру, которую вскоре удалось обменять на двухкомнатную на Красноармейской улице, у станции метро «Аэропорт».
Инна поинтересовалась моей работой на Стихире. Я ей рассказала, как это выглядит. Она была рада услышать, что Светлану читают с большим интересом (уже более 11 тысяч читателей и более 500 благодарных отзывов). Я попросила разрешения опубликовать на своей странице проникновенный, потрясающий душу венок сонетов Инны Лиснянской «В госпитале лицевого ранения», который сама она определяет как поэму. «Пожалуйста», – разрешила она. Это произведение очень-очень ей дорого.
Но тут мы с Владимиром Николаевичем вспомнили, что засиделись: прошло больше двух часов – обстановка к тому располагала. Инна попросила Татьяну Алексеевну принести её новую книгу «Птичьи права» (М., 2008). А пока она подписывала нам книги, Алёша и Татьяна Алексеевна пощёлкали фотоаппаратом, запечатлев нас на память. На моём экземпляре книги Инна Лиснянская оставила дорогие для меня слова: «Милой Александре Владимировне с благодарностью за деятельную память о Светлане Кузнецовой». Уезжали мы с радостным чувством: так тепло и уютно прошёл этот пасмурный, дождливый день. Радость и дома не покидала нас до конца дня.
Назавтра, 6 июля, я позвонила Инне Львовне, чтобы поблагодарить её за гостеприимство, и услышала:
– Умер Василий Аксёнов!
Я понимала, какой это удар для Инны Лиснянской. Это огромная потеря для всех нас, для целого поколения, поколения второй половины XX века! Пусть вечно горит его свеча!
P.S. Я забыла упомянуть, что, прощаясь, я оставила свои воспоминания «Подруга. Повесть о Светлане Кузнецовой». Инна прочитала их сразу, как только мы простились. Повесть ей очень понравилась. Очень, подчеркнула она. И ещё много лестных слов я услышала по поводу моей «Подруги». Оценка Инны Лиснянской, поэта и близкого друга Светланы Кузнецовой, для меня была очень важна! Ведь кто ещё, как не Инна, хорошо знал Светлану и искренно её любил? Спасибо, дорогая Инна Львовна! Спасибо Вам за приём в Вашем замечательном доме, за прекрасный подарок – книгу стихов «Птичьи права», за добрые слова в мой адрес и высокую для меня оценку повести о Светлане!
…А 12 марта 2014 года Лена Макарова из Хайфы написала мне по интернету: умерла мама. Я знал, как тяжело больна Инна, знал, что она уже никогда больше не вернётся в Москву, но мы ведь с ней совсем недавно говорили по телефону; правда, некоторые слова я разбирал с большим трудом; и всё равно в худшее не верилось. И вот… И я ответил Лене, что не представляю своего бытия без такого друга, как Инна Лиснянская, и без её великой поэзии. Горжусь, что в книге «Угль, пылающий огнём» (с воспоминаниями о Семёне Липкине) моя статья «Мы, приятель, не те номера набираем» стоит сразу же вслед за статьями Лиснянской («На крылечке») и Елены Макаровой («Победитель»).
Судьба! И начало её имеет свой адрес: Москва, Добролюбова, 9/11…
Глава 11. Шахматы – на срезе трагедии и драмы
1
Александра Межирова, классного биллиардиста и видевшего себя – не только в стихах – мотоциклистом, гоняющим по вертикальной стене, азартного, страстного игрока от рождения, притягивала фигура гроссмейстера Сало Михайловича Флора. Он просил меня прокомментировать некоторые, особо знаменательные, партии этого гения, правда, далеко не часто постигая их тонкости, разветвление вариантов, расспрашивал о превратностях его судьбы и всё больше утверждался во мнении, что это личность мирового масштаба. Часто восклицал: мол, ну никак не верится, что он тут же, в Москве, на 2-й Фрунзенской. Допытывался даже: а с Чигориным и Стейницем он встречался? Мне иногда казалось, что Александр Петрович даже робел перед ним, соратником и приятелем таких гигантов, как Александр Алехин, Хосе Рауль Капабланка, Эммануил Ласкер. И однажды он сказал, решившись:
– А з-знаете что, познакомьте меня с гроссмейстером. Давно хотел.
Я сказал, что и тот уже давно намекает на своё желание свидеться с ним, автором «Шахматиста». Последовало предложение: лето роскошно, в самом разгаре, «жигулёнок» на ходу, съездим, если нет возражений, в Звенигород. Предложение было с восторгом принято. Флор к десяти утра явился на угол Комсомольского проспекта в стандартной «тройке» и с пикантным платочком в кармашке пиджака. По-другому он не умел. Так и поехали, не сказав друг другу самых важных слов. Всё понятно было и так. Межиров вёл машину без всякого напряжения, артистично и к тому же не отказывался от беседы. Он спросил у Флора: бывал ли тот прежде в Звенигороде. Последовал ответ: не бывал, но знаю, дескать, что там какое-то время жил Антон Павлович Чехов. И добавил: а пейзажи – прямо для кисти великого художника! Нет, он не употреблял подобных выражений, ибо и устно, и письменно не шибко вдавался в подробности, касающиеся природы, но смысл его высказывания был примерно таков.
– Вы правы, – согласился Межиров.
И со знанием дела, и в то же время следя за дорогой, охотно рассказывал, что Чехов, обретаясь в звенигородских краях, получал от Левитана письма и в них шла речь о том же самом.
Я потом разыскал эти самые письма, сообщил о них Флору. Он сказал: символично, что именно здесь, в Звенигороде, завязалась дружба Исаака Ильича и Антона Павловича и что, возможно, отсюда пойдёт начало его взаимоотношений с Межировым; вот только и писатель, и художник вместе ходили на охоту, собирали грибы и очень любили ловить рыбу в Москве-реке, а вот ему-то всё это не под силу, не для него это, сломленного и не очень подвижного. Ему понравилось чеховское определение природы этих краёв – левитанистая, понравилось и письмо Левитана, отправленное в пору выхода нового сборника Чехова: «Дорогой Антоша <…>, в мрачные дни, когда охотно сиделось дома, я внимательно прочёл ещё раз твои „Пёстрые рассказы“ и „В сумерках“, и ты поразил меня как пейзажист. Я не говорю о массе интересных мыслей, но пейзаж в них верх совершенства». Я об этом сделал пометку в своём блокноте флоровских высказываний. Не удержался и там же привёл ещё одну выдержку из чеховского послания Исааку Ильичу: «Стыдно сидеть в душной Москве <…> Птицы поют, трава пахнет. В природе столько воздуха и экспрессии, что нет сил описать. Каждый сучок кричит и просится, чтобы его написали». И, приглашая Флора на очередную автомобильную прогулку с Межировым, с удовольствием повторял чеховский призыв: «Стыдно сидеть в душной Москве»! Мой любимейший гроссмейстер коротко отвечал: уговорили!
А тогда, прибыв на место, мы побывали в городском краеведческом музее и увидели там картину, на которой была изображена в уютнейшем уголке земская больница, где Чехов работал и жил, называя себя земским эскулапом, исполняя ещё должность уездного врача и находя здесь массу беллетристического материала.
На Сало Михайловича всё это произвело сильное впечатление. Он оживился.
– Давайте, – сказал он, – подъедем к чеховскому дому.
Девушка-экскурсовод, услыхав эти слова, развела руками:
– К сожалению, того дома давным-давно нет.
– Не сохранили? – уточнил Флор.
Та лишь вздохнула:
– Увы…
Гроссмейстер погрустнел, явно обозначились мешочки под глазами.
– Вот так… уходишь, и после тебя ничего не остаётся, – произнёс он скорее для себя, а не для нас с Межировым и, разумеется, не имея в виду Антона Павловича, ни в коем случае.
(Тот день и стал причиной, толкнувшей меня на создание «Ненаписанной поэмы», в которой есть и такие строчки:
…Теперь не сыщешь чеховского дома. Вот вроде бы найдёшь – да нет, не тот. Сюда лечиться местный шёл народ. Табличка медная. Часы приёма… Теперь и мне печаль твоя знакома И жить, как прежде жил я, не даёт.)В музее установилась минутная тишина. Деликатный Александр Петрович тут же сменил тему:
– Давайте пообедаем, посмотрим, чем богат звенигородский ресторан.
И, сидя за столом в ожидании угощения, он попал в болезненную точку сознания Сало Михайловича:
– У вас, наверно, готова книга воспоминаний? Представляю, какой будет эта книга! Бестселлер, как теперь говорят. Нарасхват пойдёт.
Флор с удивлением посмотрел на Межирова.
– Готова? – сказал он. – Нет! Я и не приступал к ней.
Неведомо было Александру Петровичу, что никак не хотел Сало Флор, автор блистательных миниатюр и комментариев к бессмертным и просто важнейшим турнирным шахматным партиям, засесть наконец-то за книгу своей жизни. Беженец-малолетка Первой мировой войны (чудом уцелел в дни погромов на галицийской земле), жертва Второй мировой, не позволившей ему сыграть в Праге уже узаконенный матч с Александром Алехиным, загнавшей его из Чехословакии в СССР, приятель шахматных чемпионов, чьи звёздные имена никогда не погаснут, добрый наставник выдающихся молодых гроссмейстеров и мастеров, он, претерпевший головокружительные взлёты и унизительные падения после переезда в нашу страну, боялся взяться по-настоящему «за перо», чтобы сказать всю правду «о времени и о себе». Ленца, конечно, тоже давала себя знать, но не в ней суть.
Однажды в присутствии Виктора Васильева, автора книг «Загадка Таля», «Второе „я“ Петросяна», «Актёры шахматной сцены», когда мы по этому поводу вели с Сало Михайловичем окопную битву друг против друга, он достал с полки том обожаемого им Франца Кафки и перевёл для меня (надеясь на понимание!) оттуда несколько строк. Там было откровенно сказано, что Кафка, садясь за письменный стол, чувствовал себя не лучше человека, «падающего и ломающего себе обе ноги в потоке транспорта на Place de L’Opera. Все экипажи тихо, несмотря на производимый ими шум, устремляются со всех сторон во все стороны, но порядок, лучший, чем его мог бы навести полицейский, устанавливает боль этого человека, которая закрывает ему глаза и опустошает площадь и улицы, – не поворачивая машин обратно. Полнота жизни причиняет ему боль, ибо он ведь тормозит движение, но и пустота не менее мучительна, ибо она отдаёт его во власть боли».
Вскоре после нашей «битвы» мы были с Флором и международным арбитром ФИДЕ, моей давней подругой из Праги Ниной Грушковой-Бельской в Грузии, в Зугдиди в гостях у Ноны Терентьевны Гаприндашвили, великой чемпионки и милой женщины. Хозяйка наша была очаровательна, беспредельно гостеприимна. Она объявила, что в переводе с грузинского её фамилия звучит как дочь взлетающая. В ней вообще мы чувствовали нечто полётное. Предлагала съездить в Сванетию, подняться на самую верхотуру и подышать морским воздухом (всего-то тридцать километров до берега). От Сванетии Сало Михайлович отказался, а к морю мы прокатились. Флор признался, что ему неловко находиться в летний день на берегу в костюме, но Гаприндашвили сумела вмиг поднять его настроение. Вернулись в Зугдиди, и она предложила Флору, чтобы тот выпил вина и сыграл с ней. Тот – ни в какую: во-первых, мол, не пью, во-вторых, с женщинами стараюсь не играть (намекал на то, что во II международном московском турнире в партии с Верой Менчик упустил выигрыш и не занял из-за этого первое место). Жаль, сказала Гаприндашвили, а Миша Таль не отказывался от рюмочки, после которой ей удавалось сражаться с ним едва ли не на равных. Они сходились с Флором в том, что Таль был самым обаятельным чемпионом, самым остроумным, самым общительным. И ещё, добавила Нона, он – превосходный литератор.
И вдруг – то же самое:
– Сало Михайлович, а когда выйдет ваша книга воспоминаний? Уже готова или ещё работаете над ней?
Нина Грушкова-Бельская толкнула меня локтем в бок: дескать, не следовало бы такой вопрос задавать…
Я уже не раз говорил о том, как ждал (да и весь шахматный мир вместе со мною) от Флора книги его жизни. Она была очень нужна, потому что те, кто его знал и общался с ним, писали о нём, прямо скажем, отрывочно и зачастую поверхностно. В предисловии к посмертному сборничку «Сквозь призму полувека», с удовольствием подхватив легенду, в которой Сало Михайлович величается «золотым пером» и которую охотно поддерживал лично Ботвинник, считавший, что журналистика и стала чуть ли не главным призванием бывшего чехословацкого гроссмейстера, Юрий Нагибин признался: «Мне несколько раз приходилось встречаться с Флором, и хотя встречи эти были мимолётны, они способствовали укреплению во мне того образа Флора, который складывался из написанного им, общественного поведения и той „легенды“, которая сопутствует каждому выдающемуся человеку и далеко не всегда смыкается с былью».
В том-то и дело, что далеко не всегда «смыкается»! У Флора – тем более. Вот тут-то и следовало бы Нагибину докопаться до истины, уяснить, что именно не позволило Флору-литератору раскрыться в полной мере. Пожалуй, можно понять Нагибина, когда он приходит к выводу, что гроссмейстер «целомудренно» избегает подробностей «личной жизни», «до которых так охоч невзыскательный вкус». И вот вам доказательство: «Мне доводилось читать дореволюционные шахматные фельетоны, в которых фигурировали Капабланка, Ласкер, Рубинштейн и другие. Сколько же там было бытовой дешёвки (курсив мой. – В. М.) и зубоскальства при несомненном, хотя и вульгарном литературном блеске (писали-то люди одарённые), – видать, нельзя было иначе завлечь читателей».
На Нагибина, несомненно, сильное впечатление произвели слова Флора: «Я ни разу не видел Тартаковера смеющимся от всей души, он лишь иногда слегка улыбался. По характеру он скорее был скептиком. Возможно, в молодые годы его судьба чем-то обидела, нанесла ему травму. Но читателю Тартаковер этого не давал почувствовать. Наоборот, что бы Тартаковер ни писал: книги, отчёты, репортажи (а особенно его изумительные афоризмы), – всё было начинено тартаковерским остроумием, правда, иногда с маленькой долей сарказма. Но Тартаковер никогда никого не обидел в своих статьях и репортажах».
Говорится о Тартаковере – а ведь отдаёт самооправданием! В СССР каждый выдающийся гроссмейстер должен был находиться на стрежне идеологической борьбы. Вот в чём суть дела. Рассказать, допустим, о своих конфликтах с Ботвинником – значит, так или иначе стать оппонентом власти. Ведь знал Флор, что, когда были введены в Чехословакию советские танки, Таля не пустили на Олимпиаду в Лугано. Знал – и ни слова об этом! Даже в его блокноте каком-нибудь ничего не осталось.
Викентий Вересаев совершил подвиг, оставив нам в наследство бесценные книги о двух величайших наших гениях. И назвал их так: «Пушкин в жизни» и «Гоголь в жизни». Это символично. И невольно возникает вопрос: а где же подлинная флоровская жизнь?
Во вступлении к работе, посвящённой автору «Мёртвых душ», Игорь Золотусский говорил: «Биография Гоголя до сих пор не написана. Выходили „Записки о жизни Гоголя“, „Материалы к биографии Гоголя“ (их авторами были П. Кулиш и В. Шенрок), но полного описания жития Гоголя нет и, по всему видно, скоро не будет. Наука о Гоголе, как и вся наша наука, только ещё выбирается из-под обломков предубеждений, запретов и умолчаний, а также безоговорочного господства „идеологии“, привыкшей гнуть под себя факты».
Юрий Нагибин, ведя речь о Флоре, сам проявил «невзыскательный вкус» и полное непонимание того, что крылось за «общественным поведением» и «легендой», сам здесь находится под «обломками предубеждений». Иначе, конечно, и не было бы этой досадной легковесности: «Флор писал с бодрой охотой, без той муки, страшнее которой нет; слова слетались к нему, как приручённые птицы. Он писал о том, что любил больше всего на свете, о чём постоянно думал, чем жил и что знал до дна».
2
Не сомневаюсь нисколько, что Флор, веселивший и печаливший публику своими очерками, статьями, репликами, в частности в журнале «Огонёк», в последние годы жизни испытал мильон терзаний, не в силах бороться словом с теми, кто привык «гнуть под себя факты», хотя бы в привычной ему реальности. Разве же он не замечал, как становятся дерзновеннее, смелее, многограннее его пишущие собратья. Всё круто менялось. С приходом «шестидесятников» в шахматной литературе и журналистике стало ощущаться новое, свежее дыхание, с чем согласился неугомонный, всегда готовый на парадоксальную шутку и небезопасные фейерверки почитатель Сало Флора Михаил Таль, с которым я нередко встречался и разговаривал в Тбилиси и Риге и который с удовольствием «оттачивал перо» и цитировался «широким кругом» читателей. Отзвуки этих разговоров с великим (и в чём-то трагичным) Талем – в моём «Горьком чешском шоколаде». Михаил Нехемьевич стоял на том, что людям вдруг захотелось увидеть человека, каким его рисовал Фёдор Достоевский, а не узаконенную схему, увидеть творческую личность во всех её человеческих и социальных взаимосвязях, а не пешку, тем паче в Большой Политической Игре, чётко обозначенной крупным деятелем партии большевиков Николаем Крыленко во время матча Ботвинник – Флор: «от шахмат – к политике» («таков твой путь, если ты хочешь идти вместе с нами, в рядах нашей единой шахматной организации»).
Началась пора хрущёвской «оттепели», пора ренессанса, давшей, по выражению поэта Евгения Евтушенко, «шестидесантников». Шахматная литература стала ощущаться частью всей отечественной литературы, которая, как говорил Василий Аксёнов, переживала процесс возрождения из парабиоза, из советской нежити. Без этого процесса не появились бы и «Записки злодея»
Виктора Корчного[57], где «возвратившийся невозвращенец» восклицал: «Кто знает, что случилось бы со мной, не будь у меня шахмат – этого ирреального мира, куда можно спрятаться от грязи жизни. Как однажды метко и цинично заметил один мой хороший приятель: „У вас, шахматистов, – важная миссия. Футболисты, хоккеисты – они нужны, чтобы люди поменьше водку пили, а вас показывают народу, чтобы он поменьше Солженицына читал!“»
Не появились бы и книги Юрия Авербаха, свидетельствующие о «жизни шахматиста в системе», и «Мои показания» Генны Сосонко, названного Гарри Каспаровым достойным продолжателем лучших традиций шахматной литературы первой половины двадцатого века, развитых, в частности, в довоенной русской эмиграции и почти полностью уничтоженных в СССР, «поскольку с началом советской гегемонии в шахматах игра сильно политизировалась и пропала малейшая возможность говорить о людях всю правду…»
Жаждой правды, в частности, пронизана долгожданная книга Вальтера Хеуэра «Пауль Керес» (М., 2004), посвящённая этому гению, хлебнувшему, как и Флор, лиха из-за Второй мировой войны и вхождения Эстонии в Советский Союз, вечно второму «матадору особого рода», о котором Макс Эйве сказал: «Когда я думаю о Пауле Кересе, читаю о нём или пишу предисловия к его биографиям, меня охватывает сильный протест против несправедливости жизни и общества по отношению к Кересу. Мы все бывали счастливы и несчастливы, но на протяжении длительного периода времени у большинства людей эти понятия как-то уравновешиваются. Но не для Кереса. С Кересом пришёл к концу удивительный и в то же время трагичный период в жизни шахмат».
Вот какая появилась тогда уверенность: конец трагичному периоду! Надежды на перемены на фоне упадка шахматной журналистики читатели начали связывать с именами тех, кто презирал законы «антишахмат». Дело не ограничивалось текстом партий – отнюдь: броско, правдиво изображались зарубежные гроссмейстеры, даже внешне не столь «однолинейные», как наши, – чудаковатые, забавные, обременённые заботами, но в то же время по-своему милые, религиозные или, наоборот, циники. Исчезала подобная однолинейность, шахматный мир в слове приобрёл многокрасочность и утратил «дробь барабанную».
3
О драме Флора-литератора мы нередко вели беседы с гроссмейстером Юрием Авербахом. Его заинтересовало моё желание поработать над книгой о Сало Михайловиче. Он обрадовался: давно пора! Вам надо, сказал он, почаще приходить к нам в Центральный шахматный клуб, когда здесь собираются едва ли не все пишущие на шахматные темы.
– У нас, – добавил он, – будет и Серёжа Воронков. Талантище и трудяга. Неужели вы с ним не знакомы?
И состоялось наконец моё знакомство с Воронковым, переросшее в дружбу. Он уже был автором популярнейших книг[58], которые в полной мере обладали новизной формы и содержания, о чём разговор – впереди. А пока – несколько слов о его отце, Борисе Григорьевиче, в ком текла кровь донских казаков, а к тому ж ещё – московских дворян, чьё детство было освящено добрыми старыми традициями: уроки французского и музыки, игра на фортепиано, любовь к литературе, к поэзии. Сочинял стихи – и часто очень неплохие, был сильным шахматистом[59]. Способностями своими не кичился. И ещё: чувствовал, какое тысячелетье на дворе. А кто тогда этого не чувствовал! Меня поразило некоторое сходство его судьбы с судьбами Юрия Грунина и Александра Ревича. Тоже воевал. На фронт уходил горячим патриотом. Не зря же им сказано: «Мальчишками, влюбленными в кого-то, мы в сорок первом уходили в бой. И первой шла студенческая рота: „Учебная! Не отставать! За мной!“ Рождённые на улицах Арбата, с Заставы Ильича и Моховой в атаку шли московские ребята: „За Родину! Не отставать! За мной!..“» И, как у многих, – окружение, плен…
По моей просьбе Сергей прислал отрывок из своих воспоминаний: «…Меня удивляло, почему отец, пройдя всю войну, имеет всего две медали: „За освобождение Праги“ и „За победу над Германией“? Он отшучивался: „Не заслужил“. Но однажды среди его фотографий я увидел снимок красавицы блондинки. „Кто это?“ Вот тогда-то отец и рассказал про концлагерь, как оттуда его взяли на ферму, как он там доил коров и плотничал, как влюбился в дочку хозяина (имя до сих пор не забыл – Инга Шпайдель), а она ответила взаимностью. Когда всё открылось, его отправили в тюрьму. Вообще-то за такое расстреливали, но, видно, фермер пожалел парня. Врезался в память и рассказ о побеге из той тюрьмы. Они – кажется, втроем – ночью прыгали то ли с крыши, то ли с третьего этажа, и один из беглецов сломал ногу. Что делать? На одной ноге далеко не уйдёшь, и утром наверняка всех поймают. Но как бросить друга на верную смерть?! Не знаю, чего стоило им решение уйти (несчастный уговаривал оставить его), но отец до конца дней ощущал свою вину перед этим человеком… Попал к польским партизанам и почти год сражался в Армии Крайовой… Невысказанное мучило его, выплёскивалось ночами на бумагу, а по утрам снова запиралось в стол, подальше от случайных глаз. Прошлое ему не принадлежало, вместо него была запись в военном билете: „Участвовал в партизанском отряде с 17.02.1942 г. по 26.01.1945 г.“. Запись, когда-то спасшая отца, ибо путь из немецкого лагеря для многих заканчивался в Сибири… Правда, свобода обошлась дорого. Он всегда помнил слова капитана-смершевца, который допрашивал его в январе 1945-го: „Вот что, парень. Всё, что ты мне тут рассказал, – забудь и никому больше никогда не рассказывай!“ В молодости трудно осознать цену пожизненного молчания… Он даже не мог опубликовать свои военные стихи! Появись они в печати при жизни отца, он был бы вынужден рассказать о том, как летом 1941 года попал в плен…»
Перед смертью Борис Воронков уничтожил свои записи. К сожалению, осталось лишь несколько стихотворений да черновик, случайно вложенный им в стопку чистой бумаги: «Эх, судьба ты, судьба проклятая! Что с годами ты делаешь с нами? Мы стояли насмерть солдатами, а теперь мы стали рабами…» Уцелевшие строки тоже наполнены горечью. «Мальчишек тех давно уж нет на свете…»; «Он шёл под конвоем в чужую страну…»; «Размерно шагал немецкий конвой, трофейным давясь шоколадом. И где-то всё глуше за нашей спиной ломилась в леса канонада…»; «Лай овчарок стынет по утрам. Кричев, Могилёв – родное небо! Пополам с мякиной двести грамм русского из рук немецких хлеба…»
Влияние отца на Сергея было огромным. Многому он научился у него и, думая о нём, многое переосмыслил. И хотя в книге «Шедевры и драмы чемпионатов СССР. 1920–1937» (М., 2007) он не повествует об отце, здесь тень его, пусть и не видимая постороннему глазу, сродни той, знаменитой и бессмертной, в шекспировском «Гамлете». Но Воронков-младший пошёл гораздо дальше: он заявил о намерении в своём творчестве выступать с открытым забралом (так, кстати, называется одна из главок книги). Спору нет, и до него было немало хороших книг, посвящённых шахматам и шахматистам, – и тем не менее всё созданное им, литератором, историком, бывшим в течение тринадцати лет шахматным редактором издательства «Физкультура и спорт» и затем – на протяжении семи лет – заместителем главного редактора журнала «Шахматы в СССР/России», – стоит особняком.
4
Как он сам характеризует свою творческую манеру? Он видит её прежде всего в своеобразных «кадрах» истории – то есть фактах, зафиксированных его величеством временем и удостоверенных соответствующими публикациями старых газет, бюллетеней, журналов, мемуарами видных современников, официальными документами и т. п.; проще: речь идёт о «кадрах», от которых, по его мнению, «никому при всём желании не отвертеться». Отсюда – и слова Воронкова: мол, не заблуждайтесь, господа, мой жанр сродни документальному кино; а как утверждал создатель фильма «Обыкновенный фашизм» Михаил Ильич Ромм, документальное кино – это далеко не компиляция, это особый вид авторского кинематографа, действующего на умы и сердца миллионов.
Впрочем, нельзя не согласиться с тем, что подобная специфическая фактура использовалась и прежде, в частности, в очерках того же Сало Флора, в изданной у нас книге Александра Алехина «На пути к высшим шахматным достижениям». Здесь можно найти, к примеру, рецензию Владимира Набокова, дающую оценку сборнику Е. А. Зноско-Боровского «Капабланка – Алехин. Париж, 1927», бесценные статьи Эм. Ласкера, С. Тартаковера, З. Тарраша, Р. Рети, Р. Шпильмана, П. Романовского, А. Ильина-Женевского, Г. Левенфиша, Н. Грекова, корреспонденции Вяч. Рахманова из Буэнос-Айреса, строки из дневников журналистов…
Да вот не найдём мы в сборнике (по понятным соображениям: период-то был советский) того, что можно назвать закономерностью страшного конца нашего великого гроссмейстера: его разрыв с большевистской Россией, гнев её вождей, вызывавшийся одним его именем, гнетущая тоска А. А. по Родине, пристрастие к выпивке, все мытарства, которые, к несчастью, выпали на его долю в годы Второй мировой.
Нина Грушкова-Бельская рассказывала мне, что в 1943-м она, совсем юная (но уже чемпионка Моравии), встречалась с Алехиным, сильно сдавшим, осунувшимся, еле выжившим после скарлатины (в его-то возрасте), подавленным (и куда прежняя горделивая стать его подевалась!), вспоминавшим со всеми потрясающими подробностями о том, как ещё в годы Первой мировой его вместе с другими русскими участниками турнира в Мангейме, в Германии, арестовали и объявили военнопленным, тяжело переживавшим неудачи в любовных делах, всяческие унижения «сороковых-роковых» и весть о разграблении его загородного дома (шато) во Франции, рядом с Дьеппом, – и тем не менее, несмотря на упадок сил, надеявшимся сыграть матч с Паулем Кересом. Известно, что было потом: конец войны, выступление чемпиона мира на банкете в парижском Русском клубе, после чего падкие на сенсации журналисты, очевидно, исказили смысл его спича, объявление, с одной стороны, советской властью А. А. своим заклятым врагом, а с другой – бойкота Алехину большой группой во главе с экс-чемпионом Максом Эйве, готовность генеральной ассамблеи ФИДЕ рассмотреть этот вопрос, прозябание и тоска непобеждённого чемипиона в Эшториле – португальской Ривьере, одинокая смерть чемпиона за шахматным столиком…
Прошу прощения за столь некороткое отступление. Но оно понадобилось мне для того, чтобы утверждать: к сожалению, у нас до сих пор нет полноценной книги об А. А. Алехине; даже книга Юрия Шабурова в серии ЖЗЛ (сознательно или бессознательно) обошла массу «острых углов»; ну и не считать же творческой удачей роман (или подобие романа) Александра Котова «Белые и чёрные», который остроумец Сало Флор называл «произведением социалистического реализма» – из-за его подрумянок и «патетических» несуразностей.
Как видим, «кадры», «документальная раскадровка», о которых говорит Сергей Воронков, – ещё далеко не всё. Очень много – но не всё. Его творческий метод (вот на что следует обратить внимание) опирается на достижения классиков мировой художественной литературы, отчётливо сознававших, что и в так называемой «теме» шахмат (как общечеловеческой), будто в особом фокусе, может проявиться «горестная участь личности», по гениальному замечанию В. Г. Белинского. Не зря же двухтомник о Фёдоре Богатырчуке Воронков назвал «Доктор Живаго советских шахмат» (М., 2013), сделав заявку на исследование судьбы своего героя, выдающегося шахматного мастера (клавшего на лопатки самого Михаила Ботвинника) и учёного – рентгенолога, радиолога и геронтолога с мировым именем, в некоторой, пусть и условной, увязке с судьбой героя Б. Л. Пастернака – Юрия Андреевича, человека яркого и противоречивого, пленника своей эпохи, чья трагедия взволновала и продолжает волновать до сих пор читательский мир. Воронков в связи с этим делает ударение на том, что Фёдор Бондарчук. сам сравнивал свою судьбу с судьбой доктора Живаго, «упоминал, что ему как-то сказали, что некоторые детали были списаны с него, с его печальным опытом врача, рекрутированного под угрозой оружия, а поэзия заменила шахматы для удобства сюжета и как более естественная для романа».
Вектор исследования судеб персонажей книг Воронкова со всей очевидностью указывает на его специфически-генетическую, идейную зависимость от таких шедевров, как «Защита Лужина» Владимира Набокова и «Шахматная новелла» Стефана Цвейга. И то, и другое произведение основываются на контрапункте, вскрывающем весь ужас бытия, несмотря на то, что в нём, этом бытии, есть место и быстротечным земным радостям, и надеждам, и иллюзиям. Кто главное действующее лицо цвейговской новеллы? Неужто же игроцкий монстр Мирко Чентович, схожий с муравьём в достижении поставленной цели? (У нас, заметим в скобках, таковые водились.) Было бы крайне обидно, если б именно он стоял в центре повествования. Да и, скажем прямо, об этой повести в таком случае давным-давно забыли бы, ибо она не затронула бы ничьего воображения. В том-то и секрет, что не этот персонаж вдохновил писателя. На первом плане у Ст. Цвейга – «человек лет сорока пяти с узким, мертвенно-бледным лицом», подвергшийся изощрённым пыткам захвативших Вену гитлеровцев, которые погрузили его в вакуум, изолировав от мира, от людей (ни книг, ни газет, ни бумаги; даже часы отобрали), он был как водолаз в батисфере. Впрочем, всё изменилось, когда во время мучительного допроса ему удалось незаметно от следователя стащить пособие по игре в шахматы, где «были расписаны лучшие партии» (150), – и жизнь его изменилась! Он стал гением – но какой ценой: сражаясь сразу за белых и за чёрных, считая на десятки ходов вперёд, рассматривая все варианты! Вот кому удалось разгромить Чентовича, хотя и его бытие было сокрушено извергами рода человеческого и проваливалось в бездну.
Безжалостно сокрушённой (войной, Октябрьским переворотом, высылкой за границу и т. д.) оказалась и жизнь набоковского Лужина, чьим прототипом послужил Алехин и чьей характерной чертой стала… незащищённость.
Итак, вот то главное, к чему мы стремились: здесь шахматы – на срезе трагедии и драмы, а в их центре – человек, каким бы гениальным он ни был. И, может быть, чем гениальнее человек, тем они явственней и, естественно, индивидуальнее, что ещё ужаснее.
Именно первая книга С. Воронкова и Д. Плисецкого «Давид Яновский» начинается с установки, данной Михаилом Роммом: «Анализ того, что происходит в мире, на документальном материале в тысячу раз доказательней, чем любая инсценировка этого мира. В документе остаётся навек память человечества». Но уже и тогда можно было заметить, как велика роль «склейки частей» и «дикторского текста». Обращение к читателю настраивало на особый лад: «Знакомо ли вам чувство страстного ожидания, с каким перелистываешь ломкие от ветхости страницы старых журналов? рассматриваешь стёртые, много раз переснятые фотографии? вглядываешься в кадры давней хроники – немой и быстробегущей?.. Усаживайтесь поудобней, свет в зале уже гаснет. Откуда-то сзади возникает мерное стрекотание, потом всё разом проваливается в темноту… и вот уже в тусклом экранном свечении старые, вытертые кресла синематографа становятся бархатными. Негромко вступает рояль…»
То был первый опыт, но и он оставил сильное впечатление. Мы увидели великого шахматиста с необычной судьбой, с психикой, чем-то напоминающей психику загнанного в угол набоковского Лужина, увидели человека в немалой степени по-талевски авантюрного, способного на красоту игрового конфликта и на конфликты, диктующиеся взрывами темперамента, на котором, скорее всего, и зиждется добыча этой красоты. Это был французский чемпион, не имевший французского паспорта, бедолага, попавший за компанию с Алехиным в передрягу военного 1914-го (Мангейм), потом, будто персонаж Ремарка, искавший где-нибудь и хоть какого-нибудь пристанища[60], наконец оказавшийся в Америке (да так и не удосужившийся принять её гражданство), не перенёсший нью-йоркского климата, что привело к резкому ухудшению здоровья, и отправленный сердобольными товарищами во Францию, где он в возрасте 59 лет и скончался в крошечном Йере. Кстати, весьма примечательны приведённые в книге прощальные слова Осипа Бернштейна: «Последние годы Яновского были очень трудными. Он болел, у него почти не было друзей…» Яновский был настоящим поэтом шахмат. А как сказано в известных стихах, «поэты умирают без любви».
А теперь – об «Исповеди последнего шахматного романтика» (или «Давид против Голиафа»). Ярко и выпукло Сергей Воронков раскрывает здесь «секреты» Давида Бронштейна, бунтаря (по определению Гарри Каспарова), «хитроумного Дэвика», драматическое противостояние этой выдающейся творческой личности не только с бездушным компьютером, но и с бездушием властной системы, которая была олицетворена в исполинской и мефистофельской по сути фигуре Михаила Ботвинника. Не обойдусь без отсебятины. Когда я какое-то время жил у моей дочери в Испании, в Овьедо, я не догадывался, что где-то по соседству живёт Давид Ионович, удравший из Москвы, чьи слякотные зимы (а может, не только они) ему до чёртиков надоели. Как сказал мне впоследствии Воронков, жаль, что я не встретился с Бронштейном: тот радовался каждому, кто приезжал из России, и нуждался в интересных собеседниках, – а я познакомил бы его с моим зятем – виолончелистом Михаилом Мильманом и другими музыкантами из оркестра «Виртуозы Москвы», которые обосновались в Астурии.
Печальна главка, где говорится, как Бронштейна «изгнали из этого рая» (закончился срок контракта) и как ему пришлось возвращаться в родные пенаты. Он признавался, что горевал по этому поводу: ведь «испанский паспорт открывал передо мною границы, не надо было вечно выпрашивать визы, объяснять, кто я, откуда и почему мне не сидится на месте. Ведь престиж профессии шахматиста в мире падал всё ниже, и сотрудники посольств резонно недоумевали, зачем пожилой российский гроссмейстер спешит на турнир, ему бы на печке лежать…» И как не согласиться с Гарри Каспаровым, написавшим, что «такой книги, как „Давид против Голиафа“, в шахматах ещё не было!»
Могу добавить, что не было никогда в нашей стране и такой книги, как «Шедевры и драмы…», в которой с удивительной убедительностью и силой развенчивается бренд «советская шахматная школа». В ней, вместо набивших оскомину баек, – блеск творчества и в то же время нищета подчинения государственной идее, помноженная на трагедии народа и отдельной личности. Сотни шахматистов имели право вослед за Анной Ахматовой повторить слова из её «Реквиема»: «Я была тогда с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был». А как выразительны названия главок! «Осколки былого величия», «Смерть врагам революции!», «Нужен подлинно советский чемпион», «Полемика с переходом на личность», «Пир во время чумы», «Червонцы от диктатуры пролетариата», «Кто не с нами, тот против нас», «Нечеловеческая власть»… Сергей Воронков показал, как была тогда политизирована шахматная пресса: её логотипом стал призыв: «Смерть врагам революции!» Ведущие наши гроссмейстеры, которые остались на Западе, были объявлены фашистскими прихвостнями.
При подготовке романа-хроники, посвящённого судьбе гроссмейстера Сало Флора, я получил от Сергея Воронкова драгоценнейший подарок – записки из дневника Галины Михайловны Петровой-Маттис, вдовы загубленного чекистами в годы массового террора высокоодарённого Владимира Петрова[61], где подробно рассказывается о событиях тех лет. Она общалась с Раисой Ильиничной, женой Флора, по происхождению москвичкой, да и с ним самим была в дружеских отношениях. Вот характерный отрывок из этого дневника: «Как-то зашёл разговор о Москве. Зная от Раисы, что САЛО НЕ ХОЧЕТ ТУДА ПЕРЕЕЗЖАТЬ, я задала вопрос (не помню какой), касающийся этой темы. САЛО РЕЗКО ОТЗЫВАЛСЯ О ЖИЗНИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. ГОВОРИЛ, ЧТО ТАМ НАДО БОЯТЬСЯ КАЖДОГО СВОЕГО СЛОВА, ЧТО ТАМ ВСЁ ПОДСЛУШИВАЮТ, ВСЁ ВЫВЕДЫВАЮТ, ЧТО НАДО БОЯТЬСЯ КАЖДОГО НОВОГО ЧЕЛОВЕКА, С КЕМ ВСТРЕТИШЬСЯ. РАЯ ЕМУ ВОЗРАЖАЛА, ОСПАРИВАЛА, НА ЭТО ОН ОТВЕЧАЛ ОЧЕНЬ РЕЗКО И РАЗДРАЖЁННО (выделено мной. – В. М.). Наверное, такие разговоры между ними уже бывали. Невольно я оказалась виноватой в этой „перепалке“. Володя потом на меня сердился…»
5
В «Шедеврах и драмах» можно найти зерно, из которого произрос двухтомник Сергея Воронкова, – я имею в виду свидетельство «доктора Живаго советских шахмат» – Фёдора Богатырчука: «…В это время власть и возглавлявший её Сталин полностью распоясались и издевались над народом как хотели». А вот как говорит Богатырчук о визите к наркомюсту Н. Крыленко, курировавшему шахматы по личному поручению «великого вождя»: «Легендарного главковерха и генерального прокурора СССР я видел неоднократно при исполнении им шахматных обязанностей. Это был среднего роста, склонный к полноте человек с открытым и даже добродушным, но в то же время волевым лицом, никак не выдававшим той жестокости и беспощадности, с которой он требовал высшей меры наказания для пресловутых „врагов народа“. <…> В начале года арестовали моего второго секретаря шахматной секции Н. Г. <…> Один из комсомольцев-шахматистов, имевших какие-то связи с НКВД, сообщил мне, что якобы Н. Г. снял комнату неподалёку от товарной станции, и его обвинили в том, что он считал поезда с военным снаряжением и передавал эти сведения членам троцкистской группы при помощи невидимых чернил, будто бы найденных у него при обыске. Больше я Н. Г. не видел и ничего о его судьбе не знаю».
Действительно, от таких документальных кадров отвертеться никак невозможно, и Сергей Воронков умело их компонует, сопровождая редчайшими иллюстрациями, а если надо, то и комментирует – коротко, зато образно, энергично, воссоздавая портрет эпохи и портреты принадлежавших ей шахматистов.
Таким образом, мы перешли к двухтомнику о Богатырчуке. В годы строительства коммунизма имя Фёдора Парфеньевича, «явного врага народа и несомненного изменника», избежавшего «карающего меча пролетариата», злонамеренно замалчивалось как навечно опозоренное. Как замечает Воронков, Ф. Б. умер накануне первого матча Карпов – Каспаров, а родился, когда на троне восседал ещё Стейниц. «От первого шахматного короля до тринадцатого – вот это биография! Впрочем, в Москве о смерти бывшего чемпиона СССР тогда никто не узнал: имя человека, открыто бросившего вызов советской власти, да ещё посмевшего назвать свою книгу «Мой жизненный путь к Власову и Пражскому манифесту», уже давно находилось под строжайшим запретом. Для системы это был враг похлеще Корчного, второго такого в наших шахматах и не найти!»
В двухтомнике слышен голос Ф. Б.: «Иногда они пишут обо мне как о предателе в прессе, предназначенной для эмигрантов. Когда Шахматная федерация Канады попросила ФИДЕ присвоить мне звание гроссмейстера, советские сказали, что звание не может быть присвоено „предателю“, то есть мне, несмотря на тот факт, что я никогда не скрывал своего имени. Очень интересно – „предатель“, который совершенно не прячется, который, напротив, открыто выступает всякий раз, когда они подавляют свободу». Правда, сегодня табу на имя Ф. Б. не существует. Загляните в интернет – и википедия кое-что подскажет вам. Ну, вот, допустим: «В 1937 году против Богатырчука, в тот момент председателя шахматной федерации Украины, была развязана кампания в прессе. Его обвинили в растрате средств, выделенных на киевский шахматный клуб. Когда Богатырчук обратился в ЦК КП(б)У за разъяснениями, ему, по его собственным словам, заявили следующее: „Знаете, товарищ Богатырчук, и напечатание статьи в газете, и другие проявления недовольства вашей работой явились результатом того, что вашему политическому облику наша общественность больше не доверяет. Возьмем, к примеру, ваш выигрыш у Ботвинника в турнире 1935 года. Мы знаем, что у вас в турнире было плохое положение и что вы знали, какое громадное значение для престижа СССР являлось бы получение Ботвинником единоличного первого приза. И несмотря на это, вы приложили все усилия, чтобы эту партию выиграть“».
Двухтомник показывает, что делалось всё возможное, чтобы очернить образ Ф. Б. И, в свою очередь, страстно доказывает, опираясь на «показания свидетелей», что Фёдор Парфеньевич был не только лишь «светлым рыцарем Каиссы», чьи неувядаемые партии будут образцами шахматного искусства, но и истинным человеколюбцем. Он всегда и всем нуждающимся спешил на подмогу. Его называли «коллаборационистом»? Отчего же? Сотрудничал с гитлеровцами, которые оккупировали Украину? Чушь! Его потрясли события, связанные с расстрелами в Бабьем Яре, когда он «уразумел, что Киев попал из объятий одного разбойника в объятия друго го, не менее жестокого и беспощадного. Как председатель Объеди нения киевских врачей, добавляет Воронков, Богатырчук пытался вызволить коллег-евреев, «но это (пишет Ф. Б.) было совершенно безнадёжное дело: меня просто посылали по циничному выражению немцев, – от Понтия к Пилату, а все протесты выбрасывали в сорный ящик, угрожая расправиться со мной».
Ещё один «кадр» – свидетельство дочери Ф. Б.: «Единственное, что мог сделать отец, – это помочь некоторым близким бежать из Киева, не ожидая, пока сосед по коммунальной квартире донесёт, что в их квартире скрывается еврей или „полуеврей“». И ещё один кадр – от Ефима Лазарева: «Вспоминается, как Федерация шахмат Украины перед чемпионатом республики 1959 года выпускала буклет, в котором следовало указать фамилии всех чемпионов УССР. Ряд киевских шахматистов выступил против того, чтобы там упоминался Богатырчук. С этим, однако, не согласился мастер Борис Ратнер (кстати, участник войны). Он подчёркивал: „Богатырчук немцам не служил! Он во время оккупации руководил больницей Украинского Красного Креста, где, в частности, прятал мою родную сестру и спас её, и не только её, от Бабьего Яра! Она и я до нашей смерти будем благодарны Фёдору Парфеньевичу!“»
Чемпион мира Борис Спасский в своём предисловии к «Доктору Живаго советских шахмат» не обошёл вниманием эти впечатляющие факты. Он пишет, как в 1967 году на Сочинском турнире встретил Бориса Яковлевича Ратнера, который вдруг обратился к нему с просьбой: «Я знаю, что вы едете в Канаду, на турнир в Виннипеге. Если встретите там Богатырчука, передайте ему от меня сердечный привет и благодарность».
Я был на презентации двухтомника Воронкова, проходившей в Государственной научно-технической библиотеке, которая приобрела особое значение, поскольку на неё прибыл Борис Васильевич, едва оправившийся после парализации. Это было и волнующе, и трогательно. Мне вспомнился концерт великого пианиста Оскара Питерсона, который он дал в Карнеги Холле, почти не пользуясь левой рукой. Диск с записью этого концерта трудно смотреть без слёз. Таким же незабываемым событием было и выступление Спасского. Два момента из него запомнились сильнее всего. Это – любовь к Фёдору Богатырчуку, с которым он встречался в Канаде, хотя такая встреча не сулила ему ничего хорошего. «Широта натуры и доброжелательность всегда покоряли людей, знавших Фёдора Парфеньевича. „Орёл не ловит мух“ – гласит латинская поговорка. Его свободный дух, его шахматная эрудиция и яркая публицистика были свежей струёй, пытающейся пробиться в наше затхлое, крепко законопаченное помещение…» И это, кроме того, – огромная благодарность автору двухтомника Сергею Воронкову, чей едва ли не 10-летний труд над ним равен подвигу.
…Что остаётся сказать? Сало Флор не мог совершить такой подвиг. Тут нет его вины. Никакой. И вся эта история – лишь одна иллюстрация «шедевров и драм» советских шахмат.
Глава 12. Что-то вроде авторской исповеди (вместо эпилога)
1
«Начинай не с самого начала». У кого это сказано? У Аристофана, кажется. А может, у Еврипида. Надо проверить. Обязательно проверю. Но, согласитесь, сказано-то навека. Не отсюда ли и пастернаковское: «Стоит на мёртвой точке час, не оттого ль, что он намечен?..» А с намеченного – на крыльцо, на ступени, чтобы увидеть «у всех пяти зеркал лицо грозы, с себя сорвавшей маску».
Идею попытаться написать книгу воспоминаний подсказал мне Дионисио Гарсиа, ветеран российского Испанского Центра, когда, приехав из морозной январской Москвы в тёплую Астурию, чтобы прийти в себя после болезни, я встретился с ним. Об этой встрече мы договорились ещё в Москве. Он поразил меня страстью к писательству, причём сразу на двух языках – на испанском и на русском, который знал в совершенстве и тонкостях, начитанностью, крестьянскими навыками и некой столичной выправкой. Я, говорил он, скорпион по западному гороскопу и Дракон – по восточному, угораздило, мол: жутковатые названия. Однако успокоился, когда выяснил, что и Скорпион, и Дракон – как знаки – вполне симпатичные существа. Он и был симпатичнейшим человеком.
В Овьедо он спросил меня:
– Над книгой будете здесь работать?
– Не собираюсь пока, – ответил я. – Попозже, может быть.
– А о чём хотите писать? Мемуары, кажется? О себе?
– Почему – о себе?
– А слова Достоевского в «Записках из подполья» не помните? «О чём может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием? Ответ: о себе. Ну так и я буду говорить о себе».
– Мне о других сказать хочется, – возразил я. – О тех, без кого я мало что значу.
Дионисио широко заулыбался:
– Ну, значит, и о себе. Иначе не бывает.
Он был доволен, что убедил меня, настоял на своём. Он всегда стремился настоять на своём – даже когда в конце тридцатых попал в числе испанских детей[62] в советский детдом, где пристрастился к чтению, к сочинению рассказов, в которых повествовал о своём детстве.
– А давайте-ка побываем вдвоём в моих родных местах, – предложил он.
– А где вы родились?
– Родился я в Серрапио. В тот же день, как я появился на свет, меня и окрестили. Принято так было в сельской местности. При желании или при особой нужде (например, когда нужно показать свою родословную), можно «пристёгивать» по очереди фамилии дедов и прадедов, так что я могу называться Дионисио Гарсия Сапико Гарсия Фернандес Фаэс Гутьеррес… Эк его! – скажет русский человек. Ну, что делать. Во младенчестве моём семья переселилась в деревню Орильес – это повыше в горы, два с половиной километра по извилистой дороге от Серрапио. Отец (его звали Эрминио) значил для меня много больше, чем мать, хотя любил я её ничуть не меньше. Он и сейчас у меня перед глазами: маленького роста, зато крепкого телосложения, как и всякий шахтёр-забойщик, небольшие усы. Когда я, побывав на родине, спросил у матери, какого он был роста, она примерилась ко мне взглядом и сказала: «Как ты», то есть 161 сантиметр (к старости растём вниз; теперь я ещё ниже). К нему тянулись люди. Вот вы иной раз пишете о музыке. Если не трудно, упомяните, что мой Эрминио играл на дудке (иначе – блок-флейте) и на волынке. По виду волынка, всегда богато украшенная бахромой, – более сложный инструмент, чем флейта, но по существу, по пальцовке, такой же простой. Представьте себе кожаный мешок размером с маленькую подушечку для сидения; в него вставлены несколько трубок: в одну, верхнюю, вдувают в мешок воздух, другая трубка, торчащая вниз, несколько сбоку, с пищиком для извлечения звука и отверстиями – для игры; третья трубка большая, тоже с пищиком, но без других отверстий, и значит издающая всегда один и тот же звук. Кожаный мешочек устраивают под мышкой, в верхнюю трубку губами вдувают воздух… Пока инструмент этот звучит, не исчезнет веселье и не исчерпается сила народной жизни.
Тут Дионисио не остановить! Его конёк. Рассказывает, как во время праздников – всяких, церковных и не церковных, – селяне собирались где-нибудь между домами, на малюсенькой площади; там речи рекой лились, пили сидр, вино, закусывали окороком и сыром, шутили, пели, танцевали, а надо всем – волынка. Чередуясь, играли двое или трое – те, кто умел. Доходила очередь до отца, и Дионисио преисполнялся гордостью: мой-то сейчас покажет, не только уголь добывать умеет, его музыка каждого заводит. Эрминио научил и сына играть на дудке (у братьев почему-то не получалось, или они просто не полюбили это занятие). Мы, говорит Дионисио, часто играли с ним народные мелодии, которые я до сих пор помню; могу вам сыграть хоть сейчас; от них веет глубокой стариной; слышал, что астурийцы – потомки древних кельтов, племён, обитавших в самой западной части Европы, за Рейном, включая северную Италию и северную Испанию; возможно, эти мелодии – от них.
Отец никогда не танцевал: танцы казались ему неподобающим серьёзному человеку занятием. С детьми был строг; наказывал их за проделки своим знаменитым ремнём молча, бесстрастно, деловито – так, как колют дрова или пол подметают. По вечерам, после ужина, он довольно часто читал ребятам книги. Прикрепив к стене листы бумаги с написанными его чётким почерком несколькими баснями, велел детям их выучить. Позже, уже в России, в детдоме, на уроках испанского языка и литературы, среди прочих басен задали выучить и те, отцовские.
В четырёхклассной сельской школе проучился Дионисио только год: в июне 1936-го началась Гражданская война. А 1934-й ознаменовался рабочими волнениями, которые в Астурии вылились в вооружённое восстание. Дружины рабочих заняли столицу Овьедо и удерживали её целый месяц. Восстание было подавлено, и, как обычно, начались аресты и суды. Дионисио был свидетелем такой сцены (ему шёл шестой год): «В наше село нагрянули полицейские; они приехали на своих длинных открытых машинах; стали быстро ходить по домам; явились и к нам, энергично шарили повсюду, открывали шкафы и сундуки, вытряхивали оттуда одежду, бельё… (Это Солженицын или Шаламов могли бы здорово описать!) Мать ходит за ними, жалуется, кричит, плачет – они не обращают на неё никакого внимания. Отец неподвижно и молча наблюдает. Наконец полицейские нашли большой моток бикфордова шнура, используемого в шахтах для подрыва скальной породы. Они допрашивали отца, он им что-то объяснял. Кончилось тем, что они надели на него наручники и увели. Мы, дети, смотрели на всё это примерно так же, как потом смотрели кино. Всех арестованных собрали на небольшой нашей площади и поставили их в круг, лицом друг к другу. Приведут нового – круг расширяется. Я смотрел на отца в наручниках и ничего особенного не чувствовал: я плохо понимал происходящее. Возможно, думал: у взрослых происходит что-то очень важное. Народ молча окружил арестованных. Если бы люди кричали что-то, протестовали, я бы запомнил это. В памяти осталась такая сценка: около высокого молодого парня из арестованных стоит молодая женщина, плачет и что-то говорит, припав к его плечу. Я слышал только обрывки разговора, но по движениям парня, по его лицу могу теперь передать его слова так: мол, перестань… люди смотрят… стыдно; ничего страшного… обойдётся… Отца осудили на несколько месяцев тюрьмы.
Мы едем с Дионисио, поглядывая на горы. Молчим.
Потом он опять рассказывает:
– Два года держалась республика. Пала она – и пошли в ход репрессии. Говорят о двухстах тысячах расстрелянных и двух миллионах заключённых. Победители поступили хитро: несколько месяцев мало кого трогали, арестовывали только главных противников, некоторых уличённых в «военных преступлениях». Затем репрессии почти прекратились, и все, кто боялся ареста, вышли из своих укрытий, вернулись домой, устроились на работу. Так поступил и наш отец, скрывавшийся у друзей в другой провинции. Ему сообщили, что всё спокойно, что аресты закончились, что знакомые уже работают на известных ему шахтах, и он вернулся. Франкисты же устроили облаву, схватили всех, кого считали виновными в убийствах богачей, грабежах, поджогах монастырей… Среди них оказался наш отец. Рано утром к арестантам являлась расстрельная команда, старший зачитывал список приговорённых, и те, чьи имена он называл, отвечали как положено: «Здесь!» После переклички приговорённых выводили, увозили на грузовике подальше от селений и расстреливали; жертвы сами падали в яму. Ставили следующих, расстреливали и затем закапывали. Сколько раз я представлял себе эту жуткую сцену: «Эрминио Гарсия и Гарсия!» – «Здесь!» О чём он думал в эту минуту? Может быть, вспоминал нас, своих детей, остающихся жить без него, далеко на чужбине? Он знал, что нас отправили за границу, в особые детские дома. А может, ни о чём не думал и ничего не чувствовал? В России, в восемнадцатом году, одного молоденького офицера, уже поставленного к стенке и чудом спасшегося, знакомый священник потом спросил: «Митя, что ты чувствовал тогда? Страшно было?» – «Ничего не чувствовал, весь одеревенел».
– А как сложилась ваша судьба, после того как вас привезли в СССР?
– Ну, это целый роман. Я его когда-нибудь напишу.
– На испанском или на русском?
– В общем, всё равно. Главное – показать, как жизнь перевёртывается (можно так сказать – перевёртывается?), когда льётся кровь, человек теряет право на жизнь и вообще все права. Запомнилась посадка на корабль в Хихоне. Незнакомые звуки и запахи порта, торопливые движения взрослых, молчаливые группы детей – всё говорило о том, что совершается что-то очень значительное, непоправимое. И сейчас снится: я, деревенский мальчик, поднимаюсь по трапу, один, оторванный от родной семьи, в толпе чужих людей… Прибыли в Ленинград. Вот она, страна социализма! Нас встречала несметная толпа народа. Милиционеры, взявшись за руки, устроили для нас коридор для прохода. Нам суют шоколадки, конфеты. Мне (наверное, и другим детям) надавали денег – видимо, те, кто не догадался купить сладостей. Деньги я сунул за пазуху. Потом нас повели в баню. И – о ужас: найденные у нас рубли не вернули. Вскоре я подхватил флегмонозную ангину, которая у меня часто повторялась. А летом 1938 года на недолгий срок я оказался в окрестностях Одессы. Не помню даже, почему и как. Этим же летом нас перевели под Калугу, в село Ахлебинино, неподалёку от Оки. Тут я увидел побивание камнями и палками портретов некоторых разоблачённых вождей, в том числе Бухарина, Рыкова, Блюхера и других, висевших по стенам коридора, ведущего в классы. К новому учебному году отправили весь детдом на железнодорожную станцию Тарасовка, в сосновый бор на берегу Клязьмы. Кто-то распорядился, чтобы ребята старшего возраста дежурили в лесу на случай появления в нашей местности диверсантов-парашютистов. Одного из ребят-испанцев, Юлиана, по ошибке застрелили патрульные из здешних рабочих. Вообще-то очень многих из нас мы не досчитались. Из-за наступления немцев где-то в августе весь детдом поднялся с насиженного места и, словно огромный цыганский табор, отправился кочевать. По Москве-реке, по Оке, затем по Волге поплыли мы на юг, за Саратов, и что интересно – к немцам Поволжья! Выгрузились на пристани Нижней Добринки, 140 километров южнее Саратова и 200 километров севернее Сталинграда – вот куда нас забросило! И снова громадным табором, везя скарб на грузовиках и телегах, а сами пешком поплелись к селу Галка, расположенному в семи километрах от Добринки, на высоком берегу Волги. Это очень большое немецкое село. Советских немцев уже третий день как выселили оттуда, дав им три дня на сборы. Поместили нас в большом каменном двухэтажном доме, где раньше находилась школа и нечто вроде клуба со всякими комнатами для кружковых занятий и актовым залом. На стене висел плакат: «ES LEBE GENOSSE STALIN! (Да здравствует товарищ Сталин!)». Использовали нас на полевых работах, да и на любых других, когда требовалось. Голодали мы, конечно, нередко. Разве одни мы? Кое-что из съестного подворовывали. Попадались. И милиция задерживала – кто с жестокостью, кто – с состраданием. Что дальше? Орехово-Зуево. Завод «Карболит». Техникум. В общежитии – трофейный альт-саксофон, красивый инструмент, из белого металла, с позолоченным изнутри раструбом и клавишами, украшенными перламутром. Я быстро выучился играть на нём. Стал читать такие книги, как «Опыты» Мишеля Монтеня. После окончания войны мои испанцы стали возвращаться на родину. Большинство плакали, клялись, что сюда больше – ни ногой: столько перестрадали. Но были и такие, что всё собирались вместе с ними, да так и не смогли оставить землю, которая их приютила. Трудно описать чувства, испытанные тогда мною. Просто невозможно. Я никуда не уехал.
– Это как с поэтом Юрием Груниным, – сказал я.
– Да, – отозвался Дионисио, – вы рассказывали. Он был зэком в Джезказгане, там и остался доживать свою жизнь. В общем, я догадался, на что вы намекаете. Вы и о нём хотите написать?
– Обязательно.
– Ну вот и замечательно. Чтобы вы не забывали о своём обещании и о сегодняшней нашей встрече, я вам подарю этот ветхий альбом пьес Баха с прелюдиями, менуэтами, сарабандами, маршами в переложении для мандолины. Да, и эту вот книгу – «Исповедь» Жан-Жака Руссо (к сожалению, на испанском).
Возвращаясь, мы задержались у главного символа города – Кафедрального собора, который в течение веков неоднократно реставрировался и перестраивался; в неизменном виде сохранилась лишь колокольня, датируемая XV столетием. На территории собора – Сокровищница (Camara Santa), где хранится коллекция религиозных экспонатов, среди которых самые известные – крест Победы и крест Ангелов.
Простились с Дионисио по-русски:
– Ну, пока.
– Пока. – И всё же он не удержался: – Hasta la vista. Пишите книгу!
2
Но мне не хотелось здесь не то что сочинительствовать, но даже думать ни о чём не хотелось. Из окон смежных, залитых невероятнейшим солнцем, комнат в моё сознание вплывали Кантабрийские горы. С одной стороны – те, что повыше и с вершинами, занесёнными снегом (где-то там и Орильес). С другой – те, что пониже, уже без всякого снега, вполне весенние, с зелёными проплешинами, с Клубом миллионеров, стариннейшим, почти разрушенным храмом и парящей в синеве над городом гигантской статуей Иисуса Христа. Эти горы (слева и справа), подумал я, – как строчки из стихотворения. Вернее, как рифмы из красивой строфы об Овьедо. Да нет, не об Овьедо. О моей жизни. О жизни моих друзей, моих наставников. О жизни вообще.
Я раскрыл «Письмена Бога» Хорхе Луиса Борхеса. Начал читать – и тут встала передо мной в сияющих кустодиевских красках зима сорок второго. Станция Курорт Боровое. То самое Боровое, которого у нас теперь, увы, нет, потому что оно – у г-на Назарбаева, в Казахстане. Метелица. Обгоняя меня и направляясь к крохотному Щучинску, идёт девочка по имени Нюся, или Нюша. Она – из Харькова. Мы с ней – второклашки, и наши парты – рядом. Я в неё влюблён, что ли. Я боюсь: а вдруг она узнает об этом. Что тогда? Она сворачивает за угол, и в моё лицо бьёт густое, осязаемое тепло, пахнущее тлеющими кизяками. Идти за Нюсей дальше? Нет смысла. Смотрю вослед этой девичьей фигурке, ещё не понимая как следует, что такое девичья фигурка. У Нюси аккуратные, незаштопанные валеночки. Она вся – в классическом зеркале загадок, и эти кривобокие улочки – точь-в-точь сад расходящихся тропок.
А надо всем, в морозном воздухе, – Синюха. Самая прекрасная в мире гора (сами можете проверить). И я неожиданно шепчу: «Синюся…» Так уж, само собой, срифмовалось. Может быть, именно поэтому и не забываю никогда ослепительную девочку с Сумской улицы, из трёхэтажки возле парка Шевченко.
Пишу это – и размышляю: в рифме ли дело? Да ведь отшутились великие: дескать, пара неиспользованных рифм, может, и осталась разве что в Венесуэле. Так о чём речь? Особенно в наши дни. Радио и ТВ глаголят:
В норме сливки, сахар, кофе — Вот гармония маккофе.И зачем сегодня, уже в третьем тысячелетии, размахивать картонным мечом? Что, уже победила «гармония маккофе»? Ни в коем случае. А как же быть с криком, с болью, которые рвутся к свету из глубин темницы, существующей не только в воображении Хорхе Луиса, но и в словах и мыслях тех, о ком повествует моя книга?
Неужели обращаться к одним лишь каменным стенам?
Но не всё так беспросветно. Жизнь – будто трагедии Шекспира, куда он – пусть и весьма нечасто – вставлял и короткие комические сценки, наподобие той, в «Гамлете», открывающей пятый акт, где хоть и действуют могильщики, но в ходу – простецкие шутки, на которые наша жизнь не скупится. А иначе и не появлялись бы поэты. Там, где ахматовские лопухи, лебеда, запах дёгтя соседствует с соколовской несбыточной сиренью. И снова – Пастернак: «Так начинают. Года в два от мамки рвутся в тьму мелодий…» А как иначе?
3
Первое, что я запомнил, – движущиеся фигурки людей, втиснутые утренним солнцем в щели закрытых ставень, и (наверное, поэтому) перевёрнутые. Все они шли вниз головой, шли быстро-быстро и, под немыслимым углом удлиняясь, неожиданно исчезали и ныряли в некую субстанцию, калейдоскопическую и таинственную. И все они без умолку говорили, говорили, и их ярмарочно-цветастая речь казалась мне самым значительным из того, что меня окружало. А было мне тогда что-то около года (может, чуть меньше, а может, чуть больше). Это происходило в 1932-м внутри комнатёнки, которую мои родители снимали в домике на берегу речушки Бахмутки (на дне которой – ну разумеется! – увязли турецкие фелюги с золотом), – да, в старинном и живописном, пахнувшем возле базара дымом рыбокоптильни, лозой и очеретом Бахмуте, переименованном большевиками в честь революционера Артёма.
Помню я себя почему-то чаще всего у бабушки Анны Марковны Мартыновой, у которой, как и у многих вокруг, крыша хаты возле трёх болот была крыта очеретом и для крепления – дранками и полосками зернистого толя. Во дворе у неё в конце лета, ещё жарком и не скудеющем, млели на верхотуре сарайчиков вишни разных сортов.
Бабушкин сожитель Пантелей Георгиевич в подпитии и добром настроении играл на гитаре настоящие джазовые хиты, привезённые им из Чехословакии, где он после Первой мировой был в плену какое-то время, о котором нередко тосковал, в честь чего в ход шли четвертинки. Моя Анна Марковна, златоустинка по рождению, ничуть не стеснялась крепких выражений, знала не печатавшиеся ни в каких книгах сказки, легенды, песни, присказки, говорила мне вечерами, что городишко когда-то был Бахмутской сторожей, что казаки пресекали набеги на наши солеварни – такой наказ получили от Петра I, которого открыто недолюбливали за неуважение к ним и оскорбления. А позже у нас появились гвоздильно-костыльный завод (уже одно его название вызывало у меня дикий восторг), в придачу к нему – заводы салотопный, кирпичный, мыловаренный, самые разные предприятия – гипсовые, стекольные, свечные, воскобойные, алебастровые, черепичные…
Больше всего мне нравились балки, начинавшиеся во множестве сразу же за городом и опьянявшие полынью и чабрецом, шуршанье уточек в камышах, бабушкин чердак с дореволюционными ёлочными игрушками в сундуке и стекольный завод – вернее, кучи бракованной продукции у его ворот, ослепительно сверкавшие под лучами солнца всеми своими призмами. Я обожал мир взрослых вещей. С удовольствием ходил вместе с отцом в скобяную лавку. Там я наслаждался особым звучанием таких волшебных слов, как саморезы, заклёпки, замки дверные и навесные, ручки, петли, доводки, завёртки, такелаж…
Пламенному большевику Артёму (по неведомой нам причине уничтожив его на испытаниях какого-то странного аэровагона!) установили в самом центре города массивный кубистский памятник. Рядом с этим самым памятником (надо признать: страхолюдным) находились театр и два кинотеатра, две площади – одна со сквером, другая – Соборная, поменьше (храм приспособили под складское помещение).
Первые внешние приметы бытия: мартовское наводнение, лодки и плоты на нашей улочке, пожар на углу, возле окраинной аптеки, и отсвет ночного пламени в ледяной воде.
Читать (непонятно, каким образом) я научился по книге для работников обувной промышленности; в ней было много скучных, очень неприятных картинок и схем. Некоторые буквы (на полях страниц этого же пособия) я писал задом наперёд. Затем мне попался какой-то дореволюционный роман (ветхий, потрёпанный). Он был мне не по зубам, но рисунок на обложке до крайности поразил меня: дети пляшут в сумерках вокруг костра неподалёку от сельского кладбища.
Самые сильные запахи той поры: лоза для плетения корзин, дымок мотовоза, бегавшего к каменному карьеру и обратно, источавшие необъяснимый аромат оклады потемневших, старинных икон, хранившиеся на чердаке у бабушки Анны. Она жила на Магистратской улице, рядом с домом, где родился Борис Горбатов, автор «Обыкновенной Арктики» и «Непокорённых». Что касается второй бабушки, Веры, белошвейки, то она умерла очень молодой (моей матери было тогда всего лишь двенадцать лет). Дед Андрей (по отцу), неимоверный красавец, застрелился на почве несчастной любви, а у тридцатилетнего деда Григория остановилось сердце, когда он возвращался домой с бутылкой подсолнечного масла (он прислонился к фонарному столбу, сполз по нему, не пролив ни капли «олии»).
Я рано догадался, что ничего не умею делать и правы те, кто говорит, что у меня «руки не оттуда выросли». Я горько сожалел, что появился на свет именно таким. Очень сожалел, мечтал о ремесленном училище. Потом – война, эвакуация, Джезказган с его буранами, Степлагом и часовыми в тулупах на вышках, Боровое с горой Синюхой, с десятками озёр, лучше которых уже не доводилось видеть, с речкой Громотухой, с вагоном-библиотекой, с казачьим говором, нисколько не изувеченным близостью казахского.
Голодал, таскал антрацит со станции, чтобы не замёрзнуть. Дружил с нашим молчаливым соседом, машинистом Новиковым, седым приземистым человеком, который подарил нам электрическую лампу, чтобы я мог читать и готовить уроки, угощал меня иногда солёными груздями. Именно он дал мне Гоголя – «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород». Здесь под его синей лампочкой (других в те времена, по-моему, не было) я и читал и перечитывал эти книги и всё, что попадалось под руку, написал первые рифмованные строчки. Новикова, этого доброго старика-боровика из-за чего-то, по доносу его помощника, арестовали, и он сгинул.
4
Вернулся я осенью сорок третьего в свой Бахмут и увидел сплошные руины. Бабушку Анну Марковну убило осколком за три дня до нашего возвращения, когда немцы бомбили Николаевский мост.
Я не любил ходить в школу, прогуливал, зато не пропускал ни одного фильма, тем более трофейного, с утра до ночи сражался в шахматы, знал наизусть десятки партий, сыгранных Морфи, Капабланкой и нашим Алехиным, подыгрывал на гитаре юному скрипачу Юре Мазневу. Родственники не раз собирались на совет и решали, что правильнее всего – поскорее отдать такого недоумка в ПТУ. Об этом у меня есть вот что – «Подзаборные стихи»:
Родне я был не по нутру В суде махорочном и скором. Все знали, что вот-вот помру С амбарной книгой под забором. А во дворе – темным-темно. За мной – гараж, Бахмутка, ивы. Слова в открытое окно Рвались. И были справедливы. На то она ведь и родня — Как выжить здесь поодиночке? В амбарной книге у меня Гнездилась ересь в каждой строчке. Не помню, у кого я спёр Ту книгу. Оттого без спора С рассветом я разжёг костёр У захудалого забора…Меня чуть было не выгнали из восьмого класса, но когда я перешёл в школу рабочей молодёжи и стал сотрудничать в редакции городской газеты, то вдруг стал отличником. К удивлению (и моему, и моей родни), я лучше всех сдал вступительные экзамены и был зачислен на факультет журналистики Харьковского университета.
Меня вдруг заметил известный в ту пору поэт Сергей Васильевич Смирнов, который был проездом в Харькове и прислал мне потом из Москвы несколько писем. Писала мне с полгода и Мариэтта Сергеевна Шагинян, которая советовала перейти от стихов к прозе (ей почему-то нравились мои газетные очерки). Но учиться я и в университете не захотел – тем более, что получил от редактора газеты «Комсомолец Донбасса» Павла Филиппова приглашение возглавить отдел литературы и искусств. Работал я вместе с молодым шахтёрским поэтом Николаем Анциферовым; с ним мы снимали комнатку на выселках, в районе 6-го ставка. Не успел я привыкнуть к хорошим пальто и шляпам, как загремел в Нахичевань-на-Араксе, в в/ч 33100, в школу артиллерийских разведчиков. Летом в полдень, дотронувшись рукой до станины гаубицы, можно было получить сильный ожог.
В «Литературной газете» состоялся мой поэтический дебют (в памяти осталось очень мало строчек из той подборки), и меня тут же каким-то образом разыскал Леонид Николаевич Мартынов. Он прислал мне в Нахичевань огромную бандероль с самым первым «Днём поэзии», где были широко представлены его стихи. То был праздник! В Нахичевани я болел москитной лихорадкой, видел останки моста Александра Македонского через Аракс, ездил в командировку в Тбилиси, и там меня благодаря поэту Иосифу Нонешвили пригласили на службу в газету Закавказского военного округа; побывал я и в Баку, встретился в журнале «Литературный Азербайджан» с поэтами Абрамом Плавником и Иосифом Оратовским, которые меня охотно печатали.
Наконец я демобилизовался. Жизнь моя в Тбилиси была сущим раем. Этот город открыл мне сурового, не от мира сего Галактиона Табидзе, ласкового Симона Чиковани, взрывного Алеко Шенгелию и ещё Гоги Мазурина, Шуру Цыбулевского (о них я постарался написать более подробно). Сюда приезжали Александр Межиров и Владимир Соколов, и мы стали друзьями. Но самым большим моим другом была поэтесса Светлана Кузнецова, с которой мы оставались духовно близкими вплоть до её ранней кончины… Я объездил и исходил весь Кавказ, особенно Закавказье. В 1962-м в «Заре Востока» вышла моя первая книжка стихов «Встречный ветер», которая подверглась справедливой резкой критике в республиканской газете и полному приятию в Литинституте (там я учился заочно). Странно вообще, что столь бездарная писанина привлекла внимание.
5
Я затосковал по Москве, по русской литературной среде, путь к которой оказался весьма причудливым. Служебная командировка в Венгрию («самый весёлый барак соцлагеря»), в Будапешт, знакомство с совершенно другим образом жизни, с такими джазменами, как контрабасист Аладар Пэгэ, художниками-авангардистами, писателями-диссидентами. Потом пошла сплошная казёнщина, служба в министерстве внутренних дел, из-за которой страсть к творчеству у меня несколько поостыла. Жизнь мою скрашивала дружба с гроссмейстером Сало Флором и семейством Есениных (Флор был женат на дочке Александры Александровны Есениной, Татьяне). Став полковником, я не захотел дослуживаться до пенсии и, воспользовавшись случаем, по ходатайству Союза писателей получил разрешение уйти на «вольные хлеба».
В писательском Союзе состою уже давно, но поэтом и прозаиком, как мне кажется, стал лет всего лишь пятнадцать-двадцать назад, притом абсолютно случайно, сумев оказаться «по ту сторону строки». Это было похоже на озоновую дыру. Тут от желания абсолютно ничего не зависит. Потому я и сказал, что это жизнь меня подстерегла – что с того, что, может, по ошибке… Озоновая дыра может привести и к гибели, но иначе, как известно, не бывает.
Примечания
1
Джезказганскому ИТЛ суждено было стать вскоре Степлагом, расширившим свои пространства для бывших советских военнопленных.
(обратно)2
Узник Степлага поэт Вадим Попов писал: «Ах, какие в Джезказгане зори! Здесь, подобно неземным дарам, неба купол в огненном узоре медью отливает по утрам».
(обратно)3
Евгений Евтушенко в эссе «Благоговейный человек» (антология «Десять веков русской поэзии»), говоря об этом стихотворении, писал: «Сын такой матери способен на самые рискованные поступки хотя бы благодаря преподанному ею раз и навсегда уроку презрения к трусости. У меня тоже была такая мать, хотя это вовсе не отменяло того, что она смертельно боялась за меня…» К месту и слова Юрия Грунина: «В 1989 году, увидев мои стихи в „Огоньке“, мой лагерный приятель Владимир Пескин, москвич, инвалид войны, получил в редакции мой адрес и прислал приветственное письмо. Я ответил ему. Узнав, что я собираю материалы о мятеже (Кенгирском восстании. – В. М.), Володя прислал письмо, в котором <…> поведал: „Когда охранник заорал на меня «руки вверх», я это сделать отказался – крикнул ему, рванув куртку на груди: „На, гад, стреляй! Воина убьёшь, а не вшивоту арестантскую!“ Охранник вдруг обмяк, ткнул меня пистолетом в бок и почти дружелюбно произнёс: „Ну что разорался-то? Не хочешь руки подымать, ну и хрен с тобой, иди так!“».
(обратно)4
Вот почему Ю. В. в очередном письме прислал свои строки: «Мое разбитое корыто – вот эта утлая ладья. Всё на ветру, вся жизнь открыта, и каждый встречный ей судья…».
(обратно)5
Вместе со мною стихи Юрия Грунина горячо рекомендовал журналу «Дружба народов» Александр Ревич, чья приписка к ним гласила: «Это заслуживает всяческого одобрения!».
(обратно)6
Горбыль – пайка хлеба.
(обратно)7
«Одойя» – народная грузинская песня.
(обратно)8
Мерани – крылатый конь в мифологии Грузии.
(обратно)9
В 1971-м он так обращался к издателям: «Мои годы никак надо мной не висят, а крепчают, как градусы в горькой настойке. Было двадцать да тридцать – теперь пятьдесят. Я ещё покручусь, вероятно, полстолько. Вот поэтому я вас как раз и прошу: я пишу всей душой, болью каждого мига, и ещё, и ещё, и ещё напишу, – пропустите в печать мою первую книгу!» Не пропустили! Первой книги пришлось ждать ещё более 20 лет. В 1972 году сборник стихов был уже набран и должен был выйти в свет в Алма-Ате, но по причинам, далёким от поэзии, набор был рассыпан.
(обратно)10
В книге даны мои переводы, кроме тех случаев, которые указываются особо.
(обратно)11
«Циспери канцеби» – «Голубые роги» (так назывались журнал и объединение грузинских символистов).
(обратно)12
Перевод Константина Липскерова.
(обратно)13
Иосиф Гришашвили. Литературная богема старого Тбилиси. Перевод Нодара Тархнишвили (текст) и Владимира Леоновича (стихи). Тбилиси. Мерани. 1977.
(обратно)14
Перевод Александра Ревича.
(обратно)15
Бенито Буачидзе был расстрелян в 1937 году как «враг народа».
(обратно)16
Из воспоминаний Анны Гумилёвой: «Семья Гумилёвых прожила в Тифлисе три года. В 1900 году мальчики поступили во II тифлисскую гимназию, но отцу не нравился дух этой гимназии, и мальчики были переведены в I тифлисскую гимназию. В Тифлисе Коля стал более общительным, полюбил товарищей. По его словам, они были „пылкие, дикие“, и это ему было по душе. Полюбил он и Кавказ. Его природа оставила в Коле неизгладимое впечатление. Часами он мог гулять в горах. <…> Однажды, когда Коля поздно пришёл к обеду, отец, увидя его торжествующее лицо, не сделав обычного замечания, спросил, что с ним? Коля весело подал отцу „Тифлисский листок“, где было напечатано его стихотворение – „Я в лес бежал из городов“. Коля был горд, что попал в печать. Тогда ему было шестнадцать лет».
(обратно)17
Музыкальные инструменты.
(обратно)18
Осуждён Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации и расстрелян 21 апреля 1938 года на полигоне «Коммунарка».
(обратно)19
Шикаста – восточная мелодия.
(обратно)20
Переводчик неизвестен.
(обратно)21
О стихах второй книги Вл. Эльснера, прекрасно иллюстрированной, в том числе Мартиросом Сарьяном, Валерий Брюсов убийственно заметил: «Подогретая водка». Но имя Брюсова в нашем разговоре с Владимиром Яковлевичем не упоминалось.
(обратно)22
В каком-то из многочисленных интервью, когда зашёл разговор о том, что Володя был подвержен распространённой русской слабости, Марианна ответила, что это слишком мягко сказано, что он тогда находился в тяжелейшем состоянии, сознательно шёл к самоуничтожению. И добавила: «Я думаю, что его зависимость от алкоголя – следствие трагедии, которую он пережил». Не умолчала и о том, как на него ополчились сильные мира сего: Соколова просто стирали в порошок. «Он был совершенно нищий, больной и признавался мне потом, что чувствовал, как буквально сходит с ума. Тогда он и написал своё знаменитое стихотворение „Ты камнем упала, я умер под ним…“. Он действительно шёл к гибели и не сопротивлялся. Пытаться побороть такие обстоятельства – всё равно что вступить в схватку с дьяволом. И откуда у меня взялась такая уверенность, что я с этим справлюсь, до сих пор не могу понять. Но, как говаривали в старину, участь моя была решена. Я уже точно знала, что мне уготовано быть рядом с ним. <…> Мы тщательно скрывали наши отношения, но Москва – город маленький, а тогда она была ещё меньше. То и дело мне звонил какой-нибудь „доброжелатель“: „Маргарита, а ваш Мастер, между прочим, сейчас сидит в ЦДЛ, а перед ним сто пятьдесят граммов коньяку. Скорей бегите туда“».
(обратно)23
Жил я тогда в микрорайоне Ивановское, у Измайловского парка. Впервые попав в этот новый микрорайон, Володя проплутал не меньше получаса: все дома в нём были совершенно одинаковы. Но эта неприятность обернулась стихами: «Заблудился я… Да и скворцы тоже в поисках долго сновали… Эти здания – как близнецы, а хотят, чтобы их узнавали». А из чисто бытовой подробности родился ошеломляющий вывод: «Типовые дома неплохи. Может быть, даже вовсе неплохи. Но зачем типовые стихи нашей быстротекущей эпохе?»
(обратно)24
Да здравствует (гр.).
(обратно)25
Так у автора – не Цыбулевского!
(обратно)26
А вот Владимир Соколов относился к Гие Маргвелашвили по-братски, считал его своим другом и именно ему посвятил нашумевшие стихи, в которых – эхо его трагедии: «Не уважаю неревнивых. Им, равнодушным, всё равно, когда, какое, чьё зерно взошло на их, на чьих-то нивах…»
(обратно)27
См. хотя бы книги Сёрена Кьеркегора «Страх и трепет», «Понятие страха».
(обратно)28
Высшие литературные курсы (при Литинституте им. Горького).
(обратно)29
Мы с В. П. на следующий день побывали в отделении ГАИ, которое размещалось под каким-то мостом (по-моему, недалеко от ЦПКиО). Замполит укорял Васю: что ж он не признался, что он – выдающийся комсомольский писатель? Аксёнов развёл руками, сдерживая ухмылку. Они даже выпили в кабинете самого начальника по паре рюмочек двенадцатилетнего французского коньяка «Курвуазье». И договорились, что В. П. проведёт здесь творческую встречу с личным составом. И Вася слово своё сдержал: приходил, встречался с гаишниками, и те были на седьмом небе. Пришлось приходить к ним ещё. И В. П. гордился этим. Может, там и пришла к нему идея «Поисков жанра» со штрафной гаишной стоянкой, майором Калюжным, поливальными машинами, перевозившими куда надо девок, и водку, и «ширево»…
(обратно)30
За полгода до выезда из СССР.
(обратно)31
Я начинаю видеть свет. Эти глупости.
(обратно)32
Роман «Ожог».
(обратно)33
Участник потешных игр юного Петра I.
(обратно)34
Откроем «Dolce Stil Nuovo»: здесь сказано, что Пастернак «стал более русским, чем все русские», своей «высокой болезнью» выразив «тонкие эмоции русских по поводу их земли и родни, в отступничестве от веры отцов, как Иосиф Флавий, призвав «к ассимиляции среди главного народа, за что и был всенародно высечен у столба».
(обратно)35
Майя уже на следующей день презентовала «мадам Кваркиной» роскошные наушники Super Stereo headphone EE 45, принадлежавшие некогда Роману Кармену. Кстати, нераспечатанные…
(обратно)36
Как пишет Аксёнов, «…всё ещё мальчишеском… во всяком случае, мне оно казалось таким». Боже, когда это было!..
(обратно)37
25 декабря, накануне Нового, 2015 года я написал в фейсбуке: «Ушла из жизни вдова Василия Аксёнова – Майя. Вслед за Васей мы нежно звали её Маятой. Много о ней можно говорить. Таких красивых было мало. И сказать, что ей счастья привалило слишком, – не могу. И как бы там ни было, мы её любили – за эту редчайшую красоту, за ум, щедрость, за умение быть Музой, – вернее, не за умение, а за призвание быть Музой, за то, что было дано ей Богом. После смерти Васи она больше всего хотела всё забыть. Не знаю, удалось ли ей это. Правда: не знаю. Но мы, её друзья, не забудем её. И дай Бог, чтоб приснилось мне сегодня, как таким же, как сегодня, снежным днём мы едем на машине, которую она ведёт, в Красную Пахру, где на даче она будет запекать в печи гигантские картофелины и ставить в сугроб бутылки с водкой. Прощай, Маята»…
(обратно)38
Позже он скажет в интервью: «Когда бегаешь, постоянно приходят в голову всякие идеи, слова, фразы, сюжеты и их поворотики…»
(обратно)39
Паттерсон Джим Ллойдович. Родился 17 июля 1933 года в Москве. Как говорится в Википедии, чернокожий двухлетний малыш сыграл в фильме «Цирк» роль маленького сынишки Марион (играла её великая Орлова). Ассистенты по актёрам искали маленького героя по всей стране, а в итоге нашли его в Москве. Джим Паттерсон – сын чернокожего диктора радио Ллойда Паттерсона и театральной художницы Веры Араловой. Потом Джим закончил Ленинградское высшее военно-морское училище, стал офицером. В 1976-м Джим Паттерсон был активным участником Постоянного африканского семинара студентов при Доме Дружбы, писал стихи. В 1995 году вместе с матерью уехал в Соединенные Штаты Америки, на родину отца, погибшего во время Великой Отечественной войны. Сейчас Джим Паттерсон живет в Вашингтоне, США.
(обратно)40
Известно, что А. А. Ахматова плакала, слушая чтение поэмы «Техник-интендант».
(обратно)41
А. А. Ахматова называла Семёна Липкина дорогой друг, писала ему: «Часто думаю о Вас», советовалась с ним: «Посылаю Вам рукопись <…>. Прошу Вас посмотрите опытным глазом и отдайте, пожалуйста, перепечатать…»
(обратно)42
С. И. Липкин писал о Гроссмане: «От него веяло здоровьем. Тогда я ещё не знал, что он боится переходить московские площади и широкие мостовые: общая болезнь с другим моим великим другом – Анной Ахматовой».
(обратно)43
Забавно воспоминание Станислава Рассадина: «На упрёки в подобной деятельности С.И. вначале отшучивался, ссылаясь на своего отца, который говаривал, что можно ходить в бардак, но не нужно путать бардак с синагогой… <…> Липкин звонит Голодному (Михаилу. – В. М.): „Миша, вам принесли вашу часть подстрочника? Задача такая: четырёхстопный хорей, рифма сплошь женская, перекрёстная“. Пауза. „Ну, как в бунинском переводе „Гайаваты“. Долгая пауза. „Приведи пример“. – „Пожалуйста. Прибежали в избу дети, второпях зовут папашу: Тятя, тятя, наши сети притащили простоквашу“. – „Так бы сразу и сказал. А то строит из себя интеллигента“».
(обратно)44
«Дарованные дни. Стихи, поэмы, переводы». М., Время. 2004.
(обратно)45
Теодор Агриппа д’Обинье (фр. Théodore Agrippa d’Aubigné; 8 февраля 1552 – 9 мая 1630) – французский поэт, писатель и историк конца эпохи Возрождения. Стойкий приверженец кальвинизма. Некоторые исследователи сравнивают масштаб Агриппы д’Обинье-поэта с вкладом в поэзию Шекспира и Мильтона.
(обратно)46
Милостью Божьей (лат.).
(обратно)47
«Фернейский философ, мудрец» – Вольтер.
(обратно)48
Приказ Сталина: «…Из этого следует, что пора кончить отступление. Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв». Отсюда – заградотряды.
(обратно)49
Послесловие к избранному Александра Ревича «Позднее прощание. Лирика. Поэмы. Записки» (М., «Русский импульс». 2010).
(обратно)50
Борис Пастернак. Собрание сочинений в пяти томах. Том 5-й. М., Худлит. 1992. Стр. 182.
(обратно)51
Псалом 50.
(обратно)52
Кухаренко А. А., Плохов А. Ю., Бельчаков И. В. Крепкие напитки Руси. ГУП «Биотехнологический завод». М., 1999.
(обратно)53
«Литературная газета». 2002. № 33.
(обратно)54
Вначале работа Инны Лиснянской называлась «Тайна музыки», и в ней шла речь о поэтике Цветаевой и Ахматовой. О судьбе «Тайны…» автор сообщила, что «большая часть 9000-го тиража превратилась в макулатуру ещё в складском помещении типографии…»
(обратно)55
Инна Лиснянская. «В госпитале лицевого ранения». В сб. «Из первых уст». Изограф. М., 1996.
(обратно)56
Григорий Корин был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Одессы», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией».
(обратно)57
Тот же Корчной в соавторстве с Б. Гулько, В. Поповым и Ю. Фельштинским опубликовал вызвавшую шум книгу «КГБ играет в шахматы».
(обратно)58
Некоторые книги («Давид Яновский», «Русские против Фишера») Сергей Воронков написал в соавторстве с Дмитрием Плисецким, шахматным историком и литератором, сыном русского поэта Германа Плисецкого – автора многих знаменитейших строк, в том числе хотя бы таких: «Родные мои и друзья! Всё чаще мне ночью тревожно. Так жить, как живём мы, нельзя. Но, как выясняется, можно»; «Поэты, побочные дети России! Вас с чёрного хода всегда выносили».
(обратно)59
Если б не война, Борис Воронков мог бы избрать карьеру шахматиста. Перворазрядником стал в 1940 году за второе место в чемпионате школьников Москвы. Шесть армейских лет были невосполнимой потерей времени. Он пытался его наверстать, уже в 1948-м получил разряд кандидата в мастера, играл в московских и всесоюзных турнирах. Переломным стал 1956 год: хорошо стартовал в полуфинале чемпионата СССР (с участием таких звёзд, как Петросян, Корчной, Таль и др.), однако тяжёлый грипп не только помешал ему закончить турнир, но и дал осложнения на глаза… Его аналитические способности ярко проявились в игре по переписке. За победы в двух международных турнирах и второе место в командном Кубке Европы (1963–71) получил звание международного мастера. В 1975 году он начал игру в полуфинале IX заочного первенства мира, но закончить его не успел… Он – автор двух шахматных книг.
(обратно)60
Фрэнк Маршалл вспоминал, что «война, увы, многое переменила» в жизни таких, как Яновский. А в одной из газет сообщалось, что «Яновский сильно нервничал <…> на борту «Lafayettte», пока судно, конвоируемое французским миноносцем, не вышло из опасной зоны. Они отправились из Бордо в час ночи 2 января, но через несколько часов остановились и простояли весь день в целях предосторожности. А миноносец курсировал неподалёку в поисках признаков субмарины…»
(обратно)61
Рижанин Владимир Петров был шахматной звездой первой величины; на турнире в Кемери (1937) он поделил 1–3 места с Сало Флором и Самуилом Решевским, оставив позади многих выдающихся шахматистов, в том числе самого Александра Алехина, который предвещал ему блистательное будущее….
(обратно)62
В 1937–1939 гг. из Испании в СССР было перевезено около трёх тысяч детей и подростков, чтобы спасти их от гибели в военных действиях. Больше половины прибывших было из Страны Басков, из которой – после печально знаменитой бомбардировки Герники и падения основных республиканских оплотов – началась массовая эмиграция.
(обратно)






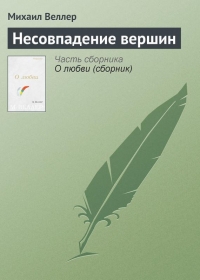


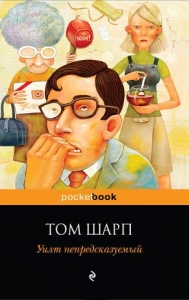

Комментарии к книге «Голоса исчезают – музыка остается», Владимир Николаевич Мощенко
Всего 0 комментариев