Сборник (Составитель Наринэ Абгарян) Двойная радуга
От составителя
На шестнадцатилетие я получила от мамы прекрасный подарок – сборник рассказов и повестей писательниц ГДР. Сборник назывался «Неожиданный визит». Он действительно обернулся для меня неожиданным визитером, потому что раскрыл чудесный мир небольшой в объеме, абсолютно сильной, реалистичной, настоящей прозы. В мои шестнадцать я опрометчиво считала, что чем больше произведение, тем оно серьезней и ценней. Рассказ Шарлотты Воргицки «Ева» – одна огромная жизнь, описанная на восьми книжных страницах, – доказал мне неоспоримую истину: талантливым может быть любое произведение. Независимо от количества печатных знаков и страниц.
Мне давно уже не шестнадцать, я живу в другом городе, далеко от мамы. Переезд помню особенно отчетливо – волокла на себе неподъемный чемодан, набитый книгами. На самом верху, перетянутый крест-накрест тугими чемоданными лямками, лежал «Неожиданный визит». Книга, которой я очень дорожу, которую до сих пор с удовольствием перечитываю.
Мечта о создании подобного сборника современной прозы, о книге, с которой не захочется расставаться, родилась у меня давно. И наконец она воплотилась в жизнь.
Перед вами «Двойная радуга». Некоторые из представленных в сборнике авторов издаются уже порядочное время, другие пришли в литературу совсем недавно. Но объединяет их, безусловно, одно – благословенное умение связывать слова в живую мысль.
Наринэ Абгарян
Анна Антоновская Ромеро мертв!
1
К приезду полиции я – труп, криво поставленный на попа.
Ночная рубаха и бывший финский плащ плохо согревают мое пупырчатое тело. Ангинный февральский сквозняк слоняется по пятнадцатому этажу. Кудлатой башкой я упираюсь в казенно-коричневую дверь с табличкой «15-L» и медленно думаю о том, что сейчас пять тридцать утра, а я легла в два, и глаза мои скрипят при моргании от недосыпа, и что мне вставать в шесть сорок пять, а этот негодяй, этот мой сосед Гоги, уехал неизвестно куда и оставил взведенным свой чертов будильник! И теперь Гогин будильник с упорством деревенского петуха трезвонит вот уже четвертый рассвет ровно с пяти до шести, будь проклят его, будильника, создатель, как и создатель самого Гоги!
– И чего вы, мэм, собственно, хотите?
– Предлагаю вам взломать Гогину дверь и выключить будильник!
У полицейских парней, измученных ночным дежурством, нет сил смеяться. Они молча вызывают лифт и уезжают от меня куда-то туда – вниз и прочь.
Я бреду к себе, в конуру «14-L», ложусь в серую утреннюю постель и смиренно жду, когда у Гогиного петуха сорвется голос. Гулкая пустотелая батарея, прочно соединяющая меня с Гогиной спальней, зычно пикает еще минут двадцать и – замолкает, блаженно журча. Наступает очередной день моей американской жизни.
Стакан кефира, скорый душ, отжатые полотенцем мокрые волосы, брелок от машины в кулаке – я приплясываю у медлительного лифта и проклинаю тихоходных старичков, которыми заселен этот изношенный за полвека американский дом. Старички выползают под утреннее солнце кряхтя и жмурясь; у них – подробное угасание, у них – детальный закат жизни, а у меня, простите, пятиминутное опоздание равно расстрелу. У меня – тридцать молодых аборигенов ждут русскую пианистку, задравши стройные ноги над балетным станком. У меня – утренние классы, у меня – ядовитый Ларри Бриллиантовые Ушки моргает неброским макияжем: «Ах, придется начать без музыки, ах, деточки, я посчитаю вам, ах… раз-два-три… о! о! о, маэстро, мы тут начали без вас-с!»
Для каких таких тайных вселенских целей был создан ядовитый Ларри? Какая такая прореха в мировой гармонии залатана его ослепительными серьгастыми ушками? Случится ли сегодня пробка на дороге или проскочу-успею-вбегу-открою рояль? Нервная, мокрая – впадаю в лифт. Лифт благоухает Яшкой.
Яшка-придурок живет вечно, поскольку много гуляет. В неизменные свои семь пятнадцать он тычет в меня кривым артритным пальцем:
– Ты, ты! Как тебя зовут, а? Шо всегда молчите? Ты меня не любишь! Не любишь! Пойдем погуляем! Ну, ну куда бежишь? Вы знаете, шо я с Одессы, вы когда приехали, не помню тебя, погоди, не беги…
Ежеутренне я истязаю Яшку жестоким молчанием. Яшка – это плохой знак, Яшка – это неутомимая черная кошка поперек дороги, это трудолюбивая баба с пустым ведром: тревожное предзнаменование. День еще не прозевался, а Яшка уже на ногах – недобрый глаз промыт, желтая седина примята, папироска зажжена, одесское горло смочено.
– Ты, ты знаешь, я приехал тридцать лет как, я тебя не помню. Ты была? Вы разве тут были? Тебя не было. Погоди, не беги!
Яшку надо перетерпеть.
– Яков, не курите завтра в лифте, а? – откликаюсь я на Яшкины фокусы. – Противно дышать!
– Ты, ты говоришь? Шо ты говоришь? Шо ты говоррришь? Шо ты говоррррришь?.. Это не я курррил – это поляк!
Древний поляк Ваца, обернутый пледом, сидит в качалке на крыльце и действительно курит восхитительно пахучий табак. Весь в ароматах далеких островов, коричневый от копоти, язвенно худой, Ваца выходит к своей качалке с первыми лучами, повинуясь давно устаревшему расписанию концентрационного лагеря. Увидев меня (я притормаживаю), Ваца обнимает курительную трубку сухой ладонью, затягивается и, обволакивая свое приветствие струей ванильного дыма, тихо произносит:
– Дзень добры, пани!
Яшка-придурок косит на Вацу умный иудейский глаз. Бегу к машине. Где-то на перегоне «дом – работа» надо успеть купить чашку кофе – главную, завершающую, третью после Яшки и Ваци составляющую моего суетливого утра. Маленькое горькое счастье: без сахара, с двойными сливками.
«Само присутствие поляка Ваци на крыльце моего дома оправдывает эту страну», – иногда я позволяю себе неуклюжие высокопарности. Не вслух.
Веселясь, паркуюсь. Хорошее настроение приходит вместе с пошлым каламбуром: «Сегодня – Брамс, на мне – мужской состав!» Я люблю мужской состав. Мужской состав – это тенора и басы, это лучшая часть студенческого хора; перед мужским составом я должна гарцевать у рояля с утроенной силой, если сила вообще применима к гарцеванию. Таков хитрый замысел приглашенного английского дирижера. («Энни, врачующий эффект контраста и половой гравитации: вот верный способ быстренько разучить нотки!») С полудня до трех дирижер обслуживает дам («Ах, девочки, Дэвид – настоящий британец!» – «Он – душка! Обожаю!»), а я, простая невская корюшка, («Позвольте вам представить – Энни, наш аккомпаниатор, любите ее, бойтесь ее, Крис, рожи не строить!»), я снимаю пенки с мужских инстинктов, вбивая Брамсовы пассажи в молодеческие рты («О, Энни, парни у ваших ног!» – «Мой дорогой Крис, идите к черту со своими шутками!» – «Энни, я так взволнован!» – «Крис, вы бы лучше заглянули в Брамса…» – «В Брамса? О, вам ли не знать, что мы с Брамсом – натуралы! Такое несчастье! Такое несчастье!» – «Ребятки, давайте-ка разогреемся, распоемся, начнем, ну, мальчики, встали, встали…» – «Энни, дайте нам минуту-другую! К чему спешить? Хотя лично я уже нагрелся и встал. Эй, Стивен, дружище, ты там как – встал?»).
Обкорнанный до тенорово-басовых низов Брамс жалок. Сегодня у Брамса дела идут туго. И это не считая печального обстоятельства моей к Брамсу тайной недоброжелательности, которая, однако, никак не помешает парням голосить Брамсовы рулады в великий день концерта, в апреле, на нью-йоркской сцене, с последующими остановками в Праге, Будапеште и так далее, по ходу поезда. Крис, не выучите партию – не по едете на гастроли, нет, не надейтесь, на гастролях я еще кусачее, а ну-ка, тенора, повторяем с пятой цифры, сразу после кульминации, со слов «моя любовь!», только не рвите связки, в конце концов, какая, в самом деле, любовь – одно разочарование, как всегда у Брамса, чтоб вы знали, олухи! Между прочим, испуганная Клара Шуман провела два года в ожидании упокоения своего безумного Роберта (да, Стивен, – Шумана, Шумана!), орошая виноватыми слезами хрустящие письма влюбленного Брамса; два года стыдилась, мечтая о непозволительном, разглядывая вянущее свое лицо и разглаживая морщины у глаз; два года сочиняла оправдания себе и пылкому Иоганнесу – другу, прекрасному другу, любезному моему, дорогому моему Иоганнесу, Ваши слова так тронули меня, да, я верю Вам, верю Вам, ну и так далее, до слов «моя любовь», пятая цифра, Крис, что тут смешного? Попытайтесь глубже поня… а он? – он писал письма: «Фрау Шуман (Клара, Клара, любимая моя Клара!), все мысли мои о Вас и о Роберте, жду новостей, припадаю к ногам Вашим, скорблю и надеюсь, Ваш Иоганнес», – «Иоганнес, могут ли быть хорошие новости в моем положении, полном трагизма? Только Вы, сердечный друг, не оставляете меня наедине с моим горем», о’кей, приблизительно так, надеюсь, вы понимаете, что все это отсебятина и я лишь развлекаю вас, балбесов, но в сущности, если серьезно, вся жизнь Брамса есть бесконечное самонаказание за страх, случившийся по молодости, заметьте, в вашем возрасте, в двадцать три, когда человек имеет право на первые робкие пробы сильных чувств и, кстати, имеет право рассчитывать на снисхождение; я не оправдываю, я лишь пытаюсь объяснить странную Брамсову… не знаю… сухость, которую все мы чувствуем, разве нет? Нет, Крис, вам снисхождения не видать, ха-ха… потом? – потом что-то вроде: «Дорогой Иоганнес, сообщаю Вам, что Господь забрал к себе душу Роберта, и, признаюсь, хоть это так страшно, так греховно, но я чувствую странное облегчение, ведь жизнь моя благодаря Вам начинается заново, я наконец свободна перед Всевышним; ни дети, ни друзья не осудят нас, Иоганнес, Вы слышите меня? Слышите меня? Слышите меня? Слышите?» – абонент недоступен или находится вне зоны приема сигнала, сбежал, скрылся, исчез. «Са-всем», – как говорит мой сосед.
…а вот и он, посмотрите-ка на него – вернулся!
– Да знаете ли вы, что ваш будильник?! Разве так можно?! Уехать и оставить будильник включе…
– Слюшайте, ну забыл, да.
Немею. Открытка на имя Цили Циммерман выпадает из почтового ящика вместе с прочей почтовой шелухой. Писем от Брамса я не получаю. Зато регулярно получаю записки от людей, остро нуждающихся в Цецилии Циммерман, проживающей, судя по всему, по моему адресу без моего ведома: «Дорогую нашу Цилю приглашаем в синагогу на праздник Суккот!», «Мадам Циммерман, не пропустите выставку кактусов в нашем ботаническом саду! Члены проходят со скидкой!», «Циля, милая, ждем тебя на похоронах! Искренне твои».
Монолог о сбежавшем Брамсе выруливает на очередную, бессчетную уже, каденцию. При полном отсутствии аудитории, я, усыпанная пижамным горошком, договариваю упущенные детали чужого жизнеописания. Историю невеселой вдовы и обезумевшего от страха Брамса парни примерили на себя. И вслед за Брамсом сбежали каждый от своей Клары – табуном, стаей, косяком. Тридцать семь раз сегодня был оправдан старина Брамс. «Что тут говорить, – почесался Крис, – споем и забудем! Но если хотите, Энни, на словах „моя любовь“, пятая цифра, я буду смотреть укоризненно!» «Крис, циничнее вас – только пьяный патологоанатом!»
Они правы сто раз. Все эти придыхания никому не нужны. Горе от ума. Пышное меню для голодного неврастеника. Выучи нотки и заткнись. В смысле играй.
Прислушиваюсь к неровному цоканью женских каблуков по Гогиному паркету. Сегодня у Гоги праздник: сегодня у Гоги цокает дама. Прихорашивается? сервирует? сметает окурки? расправляет лежалые заломы на чистых простынях? танцует, обняв Гогину шею, старательно прильнув, скрестив запястья, исподтишка любуясь перламутровым маникюром, таким нарядным на фоне вороной Гогиной шевелюры?
В предсонном мареве валяюсь под звуками Гогиной жизни, лениво моргаю. Отбракованное бревно. Лишний прибор на столе. Букет, забытый в кухонной мойке. Предвкушаю аттракцион: скрипы, вздохи, даже всхлипы, если повезет. Любовные утехи соседей всегда комичны, с какой стороны их ни подслушивай. Тем более смешон этот растяпа Гоги, холостяцкой жизни которого я тактично внимаю уже который месяц, и вот глядите ж, зацокала, наконец, занялась веселым огоньком, заискрилась! Стыну от скуки и усталости («Ну что они там делают, коли больше не цокают? – едят? разговаривают? целуются?»). Снежная крупа легонько потрескивает о карниз. («Надо же, вроде бы снег не обещали! Обещали потепление, солнце, скорую весну, безбрежное счастье и вечную удачу».)
И тут самым непредсказуемым образом Гогино свидание перерастает в пламенный скандал. Отчаянно кричат оба, но дама кричит увереннее, длинными очередями, мощными залпами, с чувством фронтальной непробиваемой правоты – и цокает, цокает, цокает, цокает. («А туфли так и не сняла».) Для качественной дуэли достаточно, как известно, одного смертельного выстрела. Замираю в ожидании и, дождавшись, вспархиваю пугливой вороной с дивана: хлопает входная дверь, всаживая килограммовую пулю в сердце поверженного Гоги. («Мертвое поле Гогиных надежд заметает февральский снег. ‹пауза› Радиоспектакль по пьесе „Убей недотепу!“ окончен. Идите, дорогие товарищи, работать».) Потягиваясь, шаркаю к инструменту. Страсти страстями, но у меня, простите, двести страниц нотного текста. Впиваюсь остриженными ногтями в печенку особо трудного пассажа. Все, я занимаюсь.
Часа два мощно играю, войдя в раж; руки разогреты до пластилиновой мягкости, дело идет споро. Раскрасневшаяся, воодушевленная, прерываюсь, уловив посторонний звук в журчании музыкальных каскадов. Сосед Гоги, рассвирепев, стучит чем-то железным по батарее. Выясняя причины соседского гнева, обнаруживаю досадную оплошность: я, видите ли, воткнула, надела, но («ой!») не включила наушники. Электрическое мое пианино орет во всю свою пианинную глотку. («Отчего меня не придушили раньше?») Поджимаю хвост. Мне стыдно. Колотить по клавишам в полную силу ночью! Безобразие и разгильдяйство. Затихаю.
2
– Ты! Ты знаешь? Ты видела, поляка запретили! Гнида написала на поляка, ты видела гниду?
– Яков, ну что значит запретили? Какая гнида?
– Поляк курит, вы видели, поляк курит, а гнида какая-то – донос! Всё, поляку всё. Нельзя курить. Я сам тайно, ты же знаешь, всегда тайно, в лифте маленько, потом на улице только, ты, ты видела? А поляк на крыльце. Стул его этот унесли. Теперь стоит там.
– Стул? В смысле кресло?
– Ты слушай! Поляк стоит. Без стула. Пойдем ко мне, возьмешь стул. Мне не нужно. Для поляка возьмешь. Ты сама. Повезешь ему. Тебя ждал, с утра едете, ждал тут!
Вместо долгих объяснений направляюсь в Яшкину квартиру за благотворительным стулом. Итак, Ваца вышел с пледом и трубкой на крыльцо и обнаружил пустоту на месте родной качалки. Плюс объявление о строгом наказании за курение в общественных местах, коим (зачеркнуто) коей является любая прилегающая теретория (зачеркнуто) территоррия (одно «р» вымарано), близ проживания которых категорически (выделено жирным) сидеть нельзя которые курят особенно на крыльце (воскл. знак).
Яшка выволакивает лучший свой стул (правая ножка забинтована). Грязь и смрад Яшкиной квартиры ошеломляют. Тараканий оазис. Клоповий курорт. Законсервированное стойбище пращура (предпол. средний палеолит).
– Яков, у вас тут змеи не ползают?
– Ты это… Поляку стул снеси. Ты, ты ж меня не любишь – смотри! Поляку стул не жалко!
Дым Вациного табака встречает нас за семь шагов до самого Ваци. Поляк смирно стоит у входа, еще более худой, чем я его, вечно сидящего, себе представляла. Грозная бумаженция-указка, косо приляпанная, полощется на ветру нижней кромкой.
Исчезновение качалки изумило Вацу, но не нарушило привычного хода событий: вот трубка, вот Яшка, вот пани со стулом.
– Ваца, возьмите стул. Это от Якова.
– Дзень добры, пани, – дымно шелестит Ваца. Английский язык неведом Ваце как явление. Биография Ваци не вмещает более никаких новшеств, тем более чужих глаголов. Яшка-придурок, хитрая рожа, вышагивает торжественно, полонезно: «Ты, Ваца, ты знаешь шо? Сиди тут!» – многозначительный, как иероглиф, довольный собой, как маститый трагик после удачной премьеры. Мое присутствие окрыляет Яшку. Забинтованный стул принимает в объятия костлявую Вацину попу. Умиленно подмигиваю Яшке. Хороши все трое. Боевой отряд старичков-курильщиков и русская пианистка. Враг умрет от смеха.
– Ваца, не переживайте, найдем вашу качалку! – говорю я.
– Дзень добры, пани, – невозмутимо отвечает Ваца.
«Само наличие гниды, что настучала на Вацу, дискредитирует эту страну, обалдевшую от законопослушания», – иногда я позволяю себе приукрасить неуклюжие высокопарности эдаким флером разочарования. Нет, не вслух.
Выруливаю. Светофор тенькает метрономом: собака-поводырь, послушная метроному, ведет слепого. Слепой этот – мой сосед снизу. Он редко показывается на свет. На свету и хлопотно, и опасно. Обычно мы встречаемся поздними вечерами, непреднамеренно, случайно, на пути к дешевой китайской закусочной, что радушно и спасительно открыта круглые сутки круглый год. Иногда настигаю слепого и его собаку уже у лифта. Кабина наполняется ароматами дежурных китайских яств; испытывая странную неловкость, вжимаюсь в угол, преувеличенно шумно жму на кнопки, шуршу пакетами, покашливаю, вздыхаю; обнаруживаю себя за несколько мгновений до реплики «кушать подано»:
– Ваш этаж!
Могла бы и помолчать. Ученая собака выходит на родном этаже без подсказки: уверенно, не торопясь. Она все делает не торопясь. Мельтешение окружающей среды рыжей псине неинтересно. Самоотречение и сила воли этой божьей твари угнетают меня – ласковые слова не прельщают и не отвлекают ее. Игры исключены из собачьего рациона. («Вот хороший пример для подражания!»)
Весь день маюсь любопытной деталью, подмеченной в облике моего слепого; в конце дня вываливаю наблюдение на ни в чем не повинную ученицу:
– Знаешь, Лиля, – постукиваю карандашом, помахиваю вислоухим хозяйским шлепанцем, – у меня есть сосед. Совершенно слепой и очень старый сосед. Он живет один с собакой, хотя это неважно. Речь не о собаке. Речь о том, что сосед этот носит шляпу, простую фетровую шляпу. Весьма грязную, если честно. Он вообще не очень опрятен. Пахнет. Пальто в жирных пятнах. Потертые ботинки, сальный галстук. Да, он носит галстук! И шляпу. Такие шляпы исчезли лет сорок назад. Мужчины вообще уже не носят шляп, к сожалению. Но слепой об этом не знает. Он помнит, что до того, как ослеп и перестал видеть изменения моды, он выходил на улицу в шляпе. Надевая тяжелое шерстяное пальто и фетровую шляпу, он думает, что сливается с толпой – естественно и органично. Меня, его лифтовую попутчицу, наверное, представляет себе женственной дамой в платье и чулках со стрелкой (добавь сюда пелерину, ботики, перманентные букли). Речь, Лиля, о том, что автор, а конкретно теперь мы говорим о Бахе, – автор пригвожден к своему времени. В определенном смысле, в своем удаленном и оконченном творчестве автор… ну… как бы слепнет. Он приходит к тебе с тончайшими находками, парадоксальными идеями, глубокими образами и так далее, но – в старой фетровой шляпе. И потому полагается на твою, Лиля, деликатность. Ключевое слово: деликатность. К чему это я? К тому, что весьма и весьма возможно, что Бах, доведись ему, полюбил бы цыганские романсы. Оставив бесчисленных детей, он бы кутил в кабаках, волочился за какой-нибудь Любашей и даже – бы! – стрелялся из-за нее с поручиком Ржевским, убивая тем самым двух зайцев: и самого поручика, и свой давнишний ему карточный должок. Ха-ха. Лиля, не нужны, да и неведомы Баху твои старомосковские страдания. Что это за Малый театр, в самом деле? К чему эти преувеличенные эмоции? Ты – поводырь. Осторожно, спокойно, не рывками. Донеси до меня Баха без повреждений, нагромождений и прочей ерунды. Не педалируй. Все голосоведение держи в руках. И давай-ка наизусть. Не скули. С начала, пожалуйста!
Настенные часы дин-донят десять раз. Всё. Последний урок окончен. Бери шинель, иди домой. Счастливейшая из смертных, завожу мотор и включаю печку, от жара которой потрескивают еловыми дровами ботиночные подметки. Старый добрый американский автомобиль зажигает огни, оживляет прерванное радио, и – едет, родимый, едет, рассекая лучами фар чернильный воздух и поскрипывая свиной кожей под моей задницей. («Господи, хорошо-то как, не уснуть бы!») Шоссе пустынно, льдисто и неприветливо. Как космос.
Долго сижу в темной, угасающей машине. Раскаленный капот потрескивает в ночном холоде; охрипшая от дыма и крика Пиаф допевает невозможную свою «Mon Dieu»; бурый кот с лицом убийцы неслышно трусит по асфальту. «Кому – пожар любви, а кому и мышиная охота», – думаю я, выключая радио, выходя наружу.
Снаружи – темень и красный фонарь китайской забегаловки. Kитаянка, похожая на глиняную куколку грубой выделки, кричит что-то на бессогласном своем языке, понукая бойкого поваренка; из кастрюльных стуков и сковородного шкворчания творится нежно мною любимый жгучий бамбуковый супчик; глиняная китаянка ловко чмокает пластиковой крышечкой, шуршит пакетом, стрекочет громкозвучной кассой:
– Ту долааар-с, плиииз!
Иду домой, несу ужин, предвкушаю.
Из съеденных мною жгучих супчиков можно выложить небольшой памятник. Стократно данное себе обещание сварить что-то человеческое – простое, понятное, домашнее – щи! – сотый раз превращается мною в свежие руины на старом поле. Мои породистые грешки – лень и застарелая неприязнь к собственному телу – подогревают преступную (с точки зрения санаторной диетсестры) любовь к жгучему супчику; впрочем, человеку, когда он один, всегда не до себя. Через десять пеших минут я накормлю свой ноющий желудок китайским супом, а сонную голову – ненужными московскими новостями: мой американский телевизор умеет говорить на родном мне языке. В часы трапез (плошка, ложка и босые ножки крючком на диване) мой телевизор, мой старый почтовый конь, привозит свежие вести из оставленной мною страны: вести эти похожи на тюки не имеющего ценности барахла в руках неведомых мне людей на заре базарного дня, который я собираюсь непременно проспать. Я прощаю его, моего прилежного дареного коня. Я добродушно не смотрю в его некачественные зубы. Мне нравится скороговорка российских новостей, полная милой чепухи. Не запоминаю фамилий, не узнаю героев, не волнуюсь, не сержусь. Полночью, прихлебывая, слежу осоловевшими глазами за чем-то невинно-утренним, болтливо-пустячным, происходящим на той стороне глобуса. Свежевыбритые останкинские юноши желают мне доброго утра; я заползаю на кровать.
Кто-то сипатый будит меня телефонным звонком:
– Ромеро Орландо хочу говорить!
– Вы ошиблись.
– Где Ромеро? Ромеро Орландо хочу говорить!
– Здесь нет Ромеро. И никогда не было. Номер ваш неправильный. Два часа, господи, ночи!
– А когда будет Ромеро?
Когда будет Ромеро? Когда неуловимый Ромеро встретится, наконец, со своими преследователями? Когда, в самом деле, сообщит им, мерзавцам, что данный мне свыше телефонный номер есть факт, не требующий еженощного подтверждения?
– Ромеро дал нам этот номер!
– Он вас разыграл. По-дружески.
– Где Орландо? Хочу говорить!
Призрак Ромеро Орландо гостит у меня уже около года. В часы сиреневых рассветов я доказываю свою к Ромеро непричастность. Тяжелое криминальное прошлое этого засранца добивается меня голосами южноамериканской мафии. Английский язык гнется и трещит под бетонным испанским акцентом. Ромеро, не сомневаюсь, сбежал с чемоданом героина, или даже утонул с инкассаторским баулом, или разбился на горном перевале с ящиком минометов, или умер на руках пуэрториканской проститутки, так и не выдав ей тайны золотого ключика… В любом случае, я оказалась последней, кто хоть что-то знает о Ромеро. Я точно знаю, что его у меня – нет!
– Нет! Нет у меня никакого Ромеро! Ну что вы звоните по ночам? Боже мой, боже мой, за что мне все это?!
– А когда будет Ромеро?
Выдыхаю проклятия, отключаю телефон и включаю тревожный сон, в котором скитаюсь вместе с беглым Ромеро в поисках покоя. Покой мне, вопреки ожидаемому и предсказанному классиком, не снится, поскольку не вмещается в скупой хронометраж: в шесть сорок пять звонит будильник.
3
– Алло, почта? Вы оставили мне извещение о посылке. Да-да, все правильно. Нет, подойти не смогу. Ни утром, ни вечером. До восьми уже на работе, возвращаюсь ночью. Нельзя ли доставить посылку еще раз? Нет, никто не сможет расписаться, я живу одна. Нет, ничего ценного. Книги. Ну и отлично, просто оставьте у двери. В углу. Вы очень добры…
– Алло, здравствуйте, вчера получила ваше сообщение на автоответчике. Нет, пока новых учеников не беру. Нет, все вечера заняты. И суббота. И особенно воскресенье. Позвоните через полгода. Нет, у меня нельзя. Дом с соседями. Нет, я живу одна, но дом с соседями. Всего доброго. Да, звоните летом. До свидания…
– Алло, Дэвид? Это я. Ох, сегодня везде пробки. Ехать невозможно, лед, сама с трудом добралась. Я в университете уже с утра. У меня же еще эти, балетные. Да, хорошо, я проведу репетицию. Нет проблем. Весь хор, полный состав. Поняла, вторая часть Брамса и кусок из Гершвина. Да бросьте, не о чем говорить. Ну хорошо, с вас – бутылка. Приду завтра домой и напьюсь. Нет, я одна, бутылки хватит. Все, до завтра…
– Алло, сообщение для Майкла. Говорит Энни. По поводу твоего концерта. Чего ж так поздно предупреждаешь? О’кей, я тебе сыграю, только уточни программу и время репетиции. Звони на мобильник или домой, как угодно поздно. Я живу одна, ложусь спать после полуночи. И не каждый раз. Ха-ха. Ну бывай…
– Алло, Генри? Генри, сегодня на все уроки опаздываю, сорри, задержалась в университете, дорога забита, весь день кривой. О нет, если только вам не поздно, то мне и подавно. Нет, ваш урок последний, потом все, еду домой. Нет, ругать никто не будет. Живу одна, ругать некому. Буду через двадцать минут…
– Алло, мам? Привет. Да нет, не было занято. Только пришла. Вот буквально только что. Еще в пальто. Не знаю, почему было занято. Да нет тут никого. Разве что Ромеро Орландо! Да никто. Не бери в голову. Я пошутила. Да глупость. Короче. Я живу одна, по телефону никто не говорил…
Я живу одна. Никто меня не ругает. Хлебаю супчик. Читаю книжки в туалете. Не заправляю постель. Оставляю немытые кофейные чашки под всеми лампами. Простудившись, кашляю месяцами – мне лень сходить в аптеку. В моей машине есть все для жизни, кроме мебели: одежда, обувь, зонты, мыло, деньги, пудра, провода, вилки, ложки, диски, словари, аспирин, карты, шпильки, сумки, канистры, ключи, перчатки, теплый шарф и купальник. Меня голыми руками не возьмешь! А еще у меня есть знакомый голубь. Я не кормлю его. Это совершенно самостоятельный одинокий голубь. Он обжил мой карниз. Впрочем, весьма возможно, что это разные голуби, которых я не различаю по лицам. А вот прошлым летом прилетел некто хищный. Смотрел на меня сквозь окно острым профилем, о чем-то думал. Потом сиганул вниз, цапнул бесстрашную белку, да и улетел обедать. Белка перед смертью громко плакала. Часто вспоминаю эту невезучую, злодейски съеденную белку. У нее был жалкий гипотетический шанс на счастье, и ни одного реального – на долгую жизнь. В минуты хандры представляю себя Ниночкой Заречной. Вместо «я – чайка!», засыпая, бормочу: «Я – белка! Я – белка! Полет идет нормально». Все. Туши свет.
Пробуждаюсь от неясного говорливого шума. Батарея наполнена гаркающими перекатами густой грузинской речи. Каскады горловых камней катятся на меня с горной вершины пятнадцатого этажа. Громовые раскаты ущелий, тягучее долинное эхо, тоскливый волыночный плач зобатой гудаствири[1] и мягкий говор гонимой за перевал отары под знойным небом – все эти звуки беспощадно текут полноводной Курой: Гоги говорит с Грузией. Злая, мятая, в финском плаще поверх срама, взмываю боевой совой к вражьему орлу, давлю на черносливовую головку допотопного звонка; с неприятным скелетным звуком тюкаю костяшками пальцев по дверной фанере. Гнев мой кипуч, могуч и священен. Ярость моя благородна.
Гоги распахивает жилище мне навстречу рывком, выстрелом, выпуская вперед породистую гончую ненависть – белую и зубастую. Одет Гоги в носки. Интимные Гогины подробности кустисто топорщатся в кудрявых зарослях. Два голых человека стоят друг перед другом на американском сквозняке.
– Бога ради, – говорю, – зачем вы так кричите? Ведь ночь!
Ночь поддерживает меня шумным ветряным вздохом, хлопает окном, роняет плашмя что-то твердое за обнаженной Гогиной спиной. Успеваю, вздрогнув, подумать, что от стука проснется сосед снизу. Потом успеваю сообразить, что сосед снизу – это я.
Плашмя упала картина. Холст на подрамнике. Гоги делает три шага в глубину комнаты, унося худые лезгиночные ягодицы. Мелькают быстрые объятия с упавшей, слышен осторожный холщовый шорох; страдалица обращается лицом к стене, в ряд с десятком других наказанных и потому повернутых к миру затылком картин. Гоги, оказывается, художник!
– Ну зачем же вы так кричите? – задушевно спрашиваю я внезапно остывшего, расстроенного Гоги.
– Слюшайте, женщина, – тихо отвечает Гоги, – ну телефон ведь плохо слышна, да!
Гоги – художник. Как глупо! Как непрактично! Тоже мне, Пиросмани! Я лежу, переполненная обидой, и, морщась, пережевываю кислые мысли: подумать только, в часы моего высокомерного копошения в клавишах, Гоги, это небритое недоразумение, это «слюшайте, женщина», тратит свою драгоценную жизнь на никому не нужные, уверена я, боже мой, – картины! Жалкий ловец счастья в получасе неспешной езды от столицы мира! Храбрый маленький солдат, прибывший на фронт давно проигранной войны. Где-то там, в тени трепещущей айвы, ждет Гогиной славы мятежная Гогина мама; пронзительным грузинским утром она гортанно кричит в клокочущий чужими шумами телефон о том, что время ждет, о том, что все еще устоится, надо только подождать, все получится, вай, вай, Гоги, тебе ли не знать, вспомни, как трудно поднимался наш дядя Вахтанг, а какой теперь человек, как высоко взлетел… а еще заглядывала Нора, спрашивала о тебе, я сказала ей, что хорошо живет Гоги! прекрасно живет Гоги! – пусть теперь эта Нора кусает локти, да, Гоги? да, милый сынок мой? Сладкая жалость то ли к себе, то ли к соседу, то ли к чрезмерным маминым надеждам приходит на смену кислым моим мыслям. Синий кусочек Грузии смотрит на меня со стены.
Тонкие кривобокие столики танцуют на теплой набережной остывающего Батуми…
…Однажды вечером пришла женщина со свертком. Единственный живой тополь в округе избыточно осеменял назойливым пухом невский асфальт, черную парадную лестницу и старинный паркет: горел июнь, тянулось обычное питерское белоночное сумасшествие – бесценный царский сувенир.
– Как тут у вас странно! Совсем светло! Вчера всю ночь не спала, невозможно – зачем так светло? И люди все ходят, ходят – не спят совсем! Вот чихаю все – этот в рот лезет… пух!
Из свертка выпуталась картина: нечто невнятное, синее, в хаотичных мазках и точках.
– Подарок, не взятка, не взятка, от чистого сердца! Сын – художник, вот, смотрите, я каталог с выставки принесла. Видите, вот его работы. Вот тут Батуми. Здесь снова Батуми. Вот тут немного темно – это, я думаю, потому что вечер. Тут Батуми в сумерках. А вот тут море. Сын сказал – подари! С девочкой нашей вы столько за так занимались, слава богу, экзамены сдали, уж как ей не давался этот ваш предмет, эта ваша, как же ее, гармония, слава богу, вашими стараниями, нет-нет, ни за что обратно не возьму, и не говорите, сын сказал – подари, здесь, видите, Батуми…
Скрипичная девочка не смогла выучить даже обещанный ей билет. Она согласно кивала всякой малой новости из жизни созвучий, но вы учить… выучить скрипичная девочка умела только боязливый вздох и долгое смущенное молчание – свой обычный способ ответа на любой теоретический вопрос.
(«Голубушка, ну что же вы ничего не знаете, простоту такую понять не можете? Ах, скрипичная голова, шоколадные глазки! Ну хоть вот эту цифровочку проштудируйте, а? А я вам ее подсуну. Совершу преступление, возьму грех на душу…») Не понадобился грех. Не пошла невинная скрипичная душа на подлог: не освоила цифровочку. Из всей девоспасительной затеи выскочили, как утренние прыщи, две миски стыда и чахлая троечка. Сидела за роялем скрипичная девочка, моргала шоколадными глазками, мелко трясла хрупкими пальчиками: «Я как вы не умею, я как вы не получится!»
– Да о чем вы говорите! Да ведь один позор, а вы тут еще и подарок принесли! Нет, нет и нет!
– Ай, как вы нехорошо сказали! Какой же позор, когда тут вот Батуми, тут море, и сын велел подарить от чистого сердца! («Ат чистава сердца».)
И вот теперь, если отойти чуть назад, если присмотреться, если вспомнить столетней давности кофейный черноморский загар, колкую гальку, томный пломбир, ошпаренную кукурузу, оранжевый харчо и звенящих над ним жирных южных мух, если замереть, если потрогать – мысленно – оставленные за океаном старые карточки со старым детским счастьем, то сквозь мазки и невнятные масляные точки становится видно, что тонкие кривобокие столики действительно танцуют на теплой набережной. По сю пору.
Ни скрипичная девочка, ни ее батумский брат не зацепились именами за мою неблагодарную память. Теперь, разглядывая картину, я признаю ее несомненно Гогиной – что почти правда, хотя ведь и Гоги был взят мною, как известно, с потолка и, весьма возможно, звался Зураби, или Тенгизи, или, скажем, Шота…
Телефонные Гогины вопли сменяются энергичным грузинским пением – стройным, вертикальным, гористым. Этот гад завел пластинку!!! Мужские голоса сочатся по батарее, заполняют комнату, клубятся, обволакивают, толкают, тянут, тянут, тянут меня на пятнадцатый этаж; готовлюсь дубасить и стенать, стенать и дубасить, однако рука-предательница отказывает мне; все, силы мои иссякли. Стою, прислонившись к Гогиной двери, слушаю эту проклятую, эту невыносимую, нечеловечески прекрасную музыку, отчетливо понимая, что с тем же успехом могла бы насладиться концертом и не вылезая из постели. Идиотка. Ковыляю домой.
До встречи с Яшкой остается сорок минут.
4
Ларри Бриллиантовые Ушки красит седину рыжим колером. Седина пробивается сквозь колер пучками и колосками, обрамляет височки, бровки, лысинку. Ларрина мордочка посечена морщинами, реснички затушеваны, ушки сверкают. Блуждаю по Ларриной красоте холодным взглядом.
– Маэстро, сыграйте-ка, – запястье его ломко сгибается, изображая раздумье, – сыграйте-ка что-нибудь такое…
Странное утро. Я, жертва дисциплины и благоприятной дорожной обстановки, приехала раньше обычного. Без цели, без умысла, со стаканом кофе в руке. Приехала и обнаружила Ларри, учителя танцев, раннюю птаху, дрессированного пассажира нью-йоркской электрички. Сидит на полу, глотает фруктовый йогурт. Наша детка кушает, ах! Сейчас, милый, сейчас, вот только сброшу зимнюю шкурку, пристрою сумочки-клунки, погрею лапками щечки… ну что тебе сыграть, бриллиантовый мой?
– Энни, сыграйте-ка мне босанову, а? – неожиданно взрослым голосом говорит Ларри, кукольно подмигивая. – Я, знаете, большой любитель. Даже брал уроки игры на ударных.
– ?!
– Да-да! Знаете, такая радиостанция была с бразильским джазом, я прямо вместе с ними играл. Стучал на барабанах.
Ларри облокачивается на рояль; чашечка с йогуртом пахнет фальшивым бананом. Узнаю о том, что раздраженный Ларрин друг выгнал сожителя на просторы Центрального парка, где Ларри и музицировал все лето, ведь ему так нравится (честно-честно!), но теперь зима, пора скуки и запретов, а кроме того, коварные «они», представляете, закрыли радиостанцию!
– Я так протестовал! Звонил им. Радио живое. Это не то, что диск поставить, правда? Но – закрыли. Говорят, вы джаз играете, да?
Я пожимаю плечами, ничего не отвечая. Мне неохота разговаривать с Ларри. Я вообще не в настроении говорить по утрам. Копошусь, переобуваюсь. За что я не люблю его? За что я не люблю Ларрину чрезмерность, цветастость, жеманность? Манерные шутки, жасминный аромат, серьги? Безвредное ведь существо, прозрачная стрекоза: утром прихорашивается, днем танцует, вечером выбивает бразильские синкопы под нью-йоркскими вязами, ночью развлекается. Любимый дружок выгнал нашего барабанщика! Ай, какой противный, какой бесчувственный мальчик!
– How insensitive[2], – бормочу, нащупывая первые аккорды.
– «How insensitive»! – восклицает Ларри, похлопывая лакированный бочок рояля. – Отлично! То, что надо!
С каменной живостью на морде («Раймонд Паулс хренов!») отпускаю порезвиться известную мелодию. Мелодия оперяется, взлетает из-под рук, скользит по залу; Ларри выстукивает хромой босановий ритм, прикрыв глаза и мотая крашеной головой; опоздавшие к началу аттракциона студенты обескураженно пялятся на бесчувственных, отъехавших в бразильские кущи заклятых врагов: ушастого Ларри и забавную мохнатую тетеньку с кофейным стаканом на пюпитре. Песчинка чего-то доброго мелькает в тесном замесе из стуков, звуков, перемигиваний… И все-таки огниво нашего с Ларри взаиморасположения подло киксует за секунду до первой искры: «Ах, деточки, начнем урок! Маэстро, давайте-ка, время, время, прошу-с!» – произносит Ларри неправильные слова неправильным тоном. Все мимо. Все поперек. Такую песню испортил, дурак! Как два бильярдных шара – чокаемся и расстаемся. Немедленно решаю, что никогда, никогда более никаких сантиментов! В конце концов, я имею право на неприятельство. Хватит и того, что я приношу свою неулыбчивую физиономию ежедневно к восьми тридцати и наказываю бедного Ларри этой самой физиономией. Ничего-ничего, пусть пострадает! Пусть, пусть лучезарный, белозубый, сияющий, серьгастый Ларри бежит по утреннему Манхэттену к утренней электричке с новеньким утренним йогуртом в кармашке; пусть бежит и с ужасом думает о нашей встрече. Зачем? Затем, что такая вот моя причуда. Затем, что мой личный Минотавр с восьми тридцати до десяти завтракает. Затем, что мне противна всяческая лучезарность. Затем, что в отличие от Ларри, я не крашу реснички после сна, хотя должна бы. Затем, что я тяжко завидую этой его стрекозиной легкости. «Так поди же, попляши!» – глухо рычу в ответ уходящему плясать Ларри. День наполняется привкусом плохого поступка.
К вечеру привкус растворяется в ведре разговоров, дел, забот. Ну и ладно.
В китайской закусочной сталкиваюсь со слепым и его собакой. Собака осторожно тянет за собой подопечного – оба они, квартирные узники, шумно дышат, обессиленные вечерней прогулкой. Глиняная китаянка приветственно восклицает, лопочет что-то сентиментальное прямо в собачью морду, жонглирует словечками «как обычно, не так ли? как всегда, не правда ли?»; дверь, тренькнув колокольчиком, закрывается, отрезая меня от реплики слепого, но я догадываюсь, что слепой хочет именно того, что всегда, ведь и ему, и кормящей его китаянке, «как обычно» приятно своей безболезненной доступностью. Изматывающая щедрость китайского меню неведома моему соседу, но кому, собственно, нужна она, щедрость, если есть познанная уже, многократно вкушенная и потому не опасная радость от, к примеру, говяжьих кусочков с чем-то тушено-овощным: как обычно. Как вчера и завтра.
Я так голодна, что малодушно таскаю из пакета суповые сухарики. Шагаю через многоголовую парковку, жую пресные крошки и думаю о том, что разнообразие, предлагаемое жизнью, может истязать больнее плетки; что бедному моему слепому проще мириться с течением времени, если оно приносит в ветхом неводе своем лишь одно и то же повторяемое от раза к разу говяжье насыщение; что безбрежно спокойной рыжей псине удобно ходить привычным маршрутом; что глиняная китаянка отнюдь не жестока, а напротив, по-своему добра, поскольку не мучает слепого ненужным ему, невозможным для него выбором; что я сама, огорошенная перечислением даров и услуг, всегда вытягиваю последнее из названного, так как только последнее названное и запоминаю: «Какой-какой соус? ну вот вы сказали в конце? карибский с перцем? его и принесите, уж будьте любезны!» И уж будьте любезны, оставьте меня в покое, думаю я, вынимая Цилю Циммерман из почтового ящика. Боже мой, ну почему мне, молодой одинокой дуре, приходят лишь счета к немедленной оплате, а Циле Циммерман – душистые кудрявые письма от неистребимых друзей? Что за наказание, в самом деле, жить послесловием к легкомысленной Циле?
Закононепослушно вскрываю Цилино письмо: «Дражайшую нашу Цецилию Циммерман приглашаем на празднование юбилея ветеринарной клиники…» Смеюсь, потирая глаза. Со стороны я выгляжу вдовой, рыдающей над похоронкой. Вкушая эту мысль, смеюсь громче. И тут замечаю Гоги.
Гоги сидит на полу в метре от лифта, прижав себя к стене. Рядом с Гоги грузно возвышается коробка, в которую, если довериться ее чудовищным размерам, полагаю, упакован битый мамонт. Бока мамонтовой тары исчерчены грозными надписями: «не ронять!», «кантуй осторожно!», «это телевизор!». Гоги купил телевизор. Святые угодники, Гоги купил телевизор своей мечты! Правда, сперва Гоги вылетел из утомленного ненарядным бытом Тбилиси с чемоданом тряпья и живописи, потом Гоги снял временное («Нет-нет, мама, пока не приезжай, нет, еще не пора!») жилье размером с кроличью нору, затем Гоги посетил явных и не очень явных знакомых – и знакомые не то чтобы узнали Гоги, ведь ты так изменился, дорогой, ты знаешь, как трудно начать, но погоди, не торопись, постепенно, обзвони продавцов, уж кто-нибудь да клюнет, уж кто-нибудь да обратит… Гоги обошел две дюжины художественных галерей, обзвонил три дюжины агентов, ободрал и покрасил четыре дюжины домов («Малярные работы: качественно и по разумной цене. Телефон ххх-хх-хх»), и вот теперь Гоги купил телевизор мечты: первую толстую ласточку благополучия, первую пахучую розу будущего достатка. И телевизор этот не влез в лифт. Не вместился.
Я смотрю на Гоги и понимающе молчу. Гоги молчит мне в ответ. Шустрые черноликие грузчики оставили Гоги наедине с безразмерным счастьем. Гогина мечта, протрезвевшая, пристыженная, ноет в углу. Битый мамонт неуклюже стоит посреди малометражного вестибюля. Волна невыносимого сочувствия накрывает меня. Я представляю безнадежный хоровод вокруг дурацкого Гогиного телевизора, вижу растерянные лица и виноватые спины, вдыхаю пар клокочущего истового смущения, которым залит Гоги, уже несколько часов сидящий у ног драгоценного своего гиганта под недоуменными взглядами соседей… И вот теперь мы, три никчемных истукана – я, Гоги и телевизор, – молчим перед распахнутым лифтом.
– Вы едете? – нахожу я для Гоги слова утешения.
– Еду, – отвечает мне Гоги благодарно.
– А как же ваш… этот?
– Сказали, завтра увезут обратно. Пускай здесь побудет. («…абратна. Пускай здесь пабудит!»)
На четырнадцатом щелчке я выхожу.
Минут тридцать насыщаюсь в ожидании чего-то развлекательного: звонкой истерики, стекольно-посудного гнева, басистых рыданий, наконец. Однако Гоги суицидально тих, не скрипит паркетом, не плещет водой. «Ну, значит, лежит. Или висит», – решаю я.
Анекдот с телевизором выбивает меня из обычного вечернего оцепенения.
Итак, сложившиеся обстоятельства невозможно преодолеть. Точка. Неразумный Гоги наказан, разумный слепой накормлен, мудрая я, охваченная паникой, вываливаюсь обратно на улицу в поисках хоть какого-то сюжетного поворота, хоть какой-то перемены до – бросаю взгляд на часы – неумолимого будильного звона: в шесть сорок пять, семь раз в неделю, правда, в субботу пораньше, ведь в субботу надо ехать к черту на рога, к дальним ученикам, по сорок баксов за урок, пора бы отказаться, да жалко – то ли денег, то ли детей; потом, вернувшись, надо обслужить еще пятерых, но они все рядом, тут, поблизости, ничего-ничего, не страшно, а страшно в воскресенье, поскольку в воскресенье уже двенадцать уроков, и к двенадцатому нет сил выйти из машины, впрочем, потом надо сесть за рояль, и это точно, и тут не отвертишься, через месяц начнутся концерты, конь не валялся, а в университете не похалтуришь, да и стыдно, да я и не халтурю, хотя партитуру выучить надо бы уже, обещала, невозможно более тянуть, но после будничных поздних классов я труп, труп, труп – после будничных поздних классов я еду по шоссе и держу левое веко рукой, чтобы не заснуло, тем более что правое уже спит, не помогают ни бодрая музыка, ни седьмая чашка кофе – и все это ради большого телевизора, который я тоже как бы, если задуматься, хочу, почему бы и нет, правда, вот выяснилось, что он не лезет ни в какие ворота.
Волоку себя к ближайшему бару, вяло надеясь на невиданное беспутство в рамках разрешенного законом одного бокала. Пешком идти лень. Из машины выходить тоже лень. Возвращаться домой – не страшно, но глупо. «Старая идиотка!» – говорю своему отражению в шоферском зеркале. Отражение смотрит на меня моими глазами и настоятельно требует припудриться. Всякий жест по прихорашиванию сопровождаю злым комментарием. Уж мне ли не знать, сколь горька пилюля этих одиноких барных развлечений! Посижу у стойки часок, да и поеду домой, подвывая от тоски. Сама себя высеку – стану жить дальше, колотить в барабанчик, не отвлекаясь.
Вношу припудренное лицо в затененный, обжитый мужскими затылками зал. Вместо музыки в придорожном американском баре горланит бейсбольный матч. Синие сражаются с красными: суетятся, толкаются, бегают, ткут неведомые мне узоры. Правила игры неясны, победитель неинтересен. Я смотрю на экран опрокинутым глазом только лишь с тем, чтобы хоть как-то оправдать бесцельное сидение на барном насесте. Мне не охота декорировать физиономию приглашающим оттенком. У меня нет сил на трудоемкую вышивку мелким бисером кокетства.
– Дайте-ка мне французский поцелуй и бокал вина! – выдавливаю я лучшую остроту дня. Небанально бородатый бармен, похожий на одичавшего Авраама Линкольна, забрасывает в чашку кофе ароматные пикантности, следуя рецептуре «французского поцелуя». Кабаретная развязность названия уже не смешит пожилого Авраама. Облизанную шутку он отбрасывает, как надоевший леденец.
От вина и вздернутого приправами кофе неожиданно размякаю. Мне никто не нужен. Такая вот у меня душевная драма! И даже ты, славный парень в ирландских конопушках, – нет, не нужен, хоть я и цапаю соленые орешки из твоей миски. Не о чем нам, парень, говорить. Что у нас общего? – город и миска. Нет, спасибо, больше орешков не хочу. Угу, и вам – приятных сновидений! Пока-пока!
За два глотка до неизбежного дна бокала начинаю сожалеть о разбойно украденном у сна часе. Расплатившись за кутеж, сползаю со стула, нащупываю ногой упавшую набок туфлю, встаю, делаю шаг к двери и вижу – второй раз за вечер – соседа Гоги, здравствуйте, я ваша тетя, да-да, вечер добрый, а я вот тоже решила тут отдохнуть, нет, не часто, иногда, знаете, перед сном, а вы? совсем впервые? надо же, удивительно, ну конечно, присаживайтесь…
Нет, это не дежавю. Это просто свинство! Глупый Гоги, сутулый, как креветка, нелепый, как орфографическая ошибка, оказывается, способен на те же, проделанные мною, телесные зигзаги по тому же душевному поводу!
Сижу, подперев щеку, разглядываю завитки разноцветных, случайно покрашенных, плохо промытых волосков на Гогиной руке.
– А знаете, – щебечу, – в этом баре есть один официант – он сухорукий лилипут!
– Какой?
– Сухорукий. И совсем лилипут. Очень неудобно. Рука сухая, столики высокие.
– Почему его взяли?
– Ну а как не взять? Потом, он уже приноровился. Я сама пару раз видела: ходит шустро, тарелки-стаканы носит. Нормальная человеческая единица. Только низенький такой.
– А зачем о нем говорим?
– Не знаю. На руку вашу цветастую смотрела, вот и вспомнила.
– Как?
– Руку вашу… я говорю, руку вашу…
– Слушайте, плохо слышно! («Слюшайте, плохо слышна!»)
Я вплетаю бестактную прыскающую усмешку в шум бейсбольного ликования. Синие одолели красных, стадион жужжит, мужские затылки ослабляют натяжение, шипит пивной кран, густеет воздух в отсеке для курящих, невзрачная хвостатая официантка несет вечерний бутерброд кому-то голодному в темный угол. Из темного угла торчит правая кеда, закинутая на левое колено. Провожаю бутерброд сосредоточенным и бессмысленным взглядом. Правая кеда встречает еду учащенным потряхиванием, обнаруживая способность к взволнованности и даже сердцебиению.
– Давайте поедем, – говорит Гоги.
– Домой?
– Нет. Не домой. Куда-нибудь. В отель. Не домой.
– Тут поблизости только «Хилтон».
– Тогда в «Хилтон».
Недолго препираемся, мол, к чему такие траты, живем рядом, да, пусть будет красиво, но вообще-то неразумно, совсем не знаем друг друга, хорошо, знаем, но этого мало, ну согласитесь, да, можем позволить, нет, вы правы, ха-ха-ха, действительно, как в голливудском фильме, а знаете, поедем, ой, кажется, на улице дождь, да, в самом деле, ничего, парковка рядом, добежим!
Летим в «Хилтон» – два заплутавших на пути из холодной отчизны в теплый рай гуся. Один серый, другой синий. Сумеречный дождь топочет по стеклу, длинными нитями блестит в фонарных лучах, тонкими иглами колет пустой февральский ландшафт. Удивляюсь тому, сколь гармонична погода нашим надеждам на быструю приязнь, из которой, по замыслу, должны родиться деликатные ласки, поцелуи, вторжения и малословные диалоги после вторжений. И еще умиляюсь воспоминаниям о брошенном на подступах к вознесению телевизоре – торчит там, горемыка, камнем в поле, ждет хозяина. А хозяин его на ковре надменного «Хилтона» скособоченным английским языком пытается выяснить: во сколько обойдется безвестному грузинскому художнику, вернее, нью-йоркскому маляру и его соседке комната на одну ночь, да, на одну, нет, без завтрака, да, одна кровать, да, заплачу сейчас, а почему получается больше? ах, еще налог!
Случайность и поспешность нашего поступка лишает нас желанной опрятности. Утомленные одежды, суточное белье, вчерашние запахи, недельной давности ногти, неоттертые пятна краски, незакрашенные пятна потертостей. Хрустальный свет «Хилтона» полон презрения. Выходим из мелодичного золоченого лифта, израненные правдивыми зеркалами, – вялые, тихие, чужие. Соитие, еще пять минут назад обещавшее сокрушительную радость, резко падает в цене. Аукцион буксует. Лот «Любовь Физическая» сиротливо ожидает жалостливого покупателя.
– Ну, – выдыхает Гоги, – наверное, надо раздеваться.
Атласное покрывало недовольно морщится подо мной, разрушая буклетную гостиничную прибранность. Я размышляю о том, что, раздевшись, непременно и немедленно лягу, вытянусь, одеревенею – будь тут хоть вся грузинская армия, хоть Багратион на коне, хоть мятежный Демон с пирожками от царицы Тамары. Да я, собственно, уже распласталась поперек ложа в ожидании Гоги, ведь Гоги пошел в душ, Гоги моется, тщательно и парко. Однако любая игра («давай-ка вставай!») начинается с избрания водящего. Или первого бьющего. Лупящего, стучащего, бегущего. Белая пешка встряхивается, опускает забрало и марширует в ванную комнату – навстречу черному ферзю. Некстати пробудившееся чувство юмора рисует картины томных ферзевых ласк в горячих струях. («Забрало тебе не помешает, эй, возбудившаяся пешка?» – спрашиваю себя по дороге.) Под паром нащупываю отчасти знакомую, раз виденную Гогину наготу. Ладони наполняются банной водой и смущенным оцепенением. Стрекотание душа прерывается. Гоги пыточно щетинист. Вздрагиваю, тянусь к полотенцу, зачем-то вытираю вспотевшее зеркало, инспектирую Гогино лицо, к этому часу почти бородатое, наждачное, сизое, – и понимаю, что главное свое удовольствие Гоги уже получил: он помылся. Подробно помылся, честно помылся – как никогда, наверное, не мылся для самого себя. Как мылся, наверное, лишь в детстве, лишь в маминых руках, в тазу, в саду, в июне, в день, когда приезжает наш дядя Вахтанг, надо хорошенько помыться, надо быть чистым, вай, Гоги, не вертись, не хнычь, мыло совсем не щиплет, не придумывай, терпи, ты – джигит или ты – не джигит? «Надо же, какой джигит! – думаю я миролюбиво. – Тонкий, впалый. Молодой».
– А у вас эта… ну… презерватив есть?
Пришли на рыбалку без удочек! У меня нет презерватива. Я не ношу с собой презервативы, хотя вполне могла бы, учитывая обстоятельства вольного выпаса. Конечно, я должна держать в сумочке презерватив, но у меня нет в сумочке презерватива! «Нет, ну что искать, точно нет! – Я перебираю сумочное барахло по второму разу. – А у вас?» «И у меня нет. – Гоги обшлепывает себя, еще влажного, в поисках гипотетического кармана со столь необходимым в этот лирический час презервативом. – Совсем!» В отсутствие реквизита переминаемся, босяки-сладострастцы, на ковровом ворсе. Обнаженные жертвы санитарной пропаганды: осторожные и благоразумные. Неуверенно предлагаю:
– Может, спросить у портье?
– Неудобно.
– Удобно. Это же «Хилтон». У них должны быть презервативы! Тем более ночью. Правда, сувенирный киоск уже закрыт.
– Ну я тогда оденусь?
– Да, лучше одеться. Я тоже, пожалуй… Немного прохладно.
Гоги с заметным облегчением одевается, торопливо проскакивая неловкую стадию нижнего белья, – заполняет ногами стыдливые комочки носков, прячет трикотажную беззащитность трусов в жесткую джинсовую дерюгу. Рубаха, ботинки, куртка – уходит.
«Непарные взрослые люди должны бережно тянуться друг к другу. Психика – штука капризная, боязливая, сопливая. Панцирь нарастает быстро, вчера не было – сегодня уже: тук-тук, кто в домике? – никого нет в домике! Надо потерпеть. Это нормально. Как лекарство, как неприятная терапия. Хорошо, хорошо, – приятная. Тем более. Чувственность (в этом месте смеяться!) не консервируется. Она затягивается, как болото, ряской. Как бронза – патиной. Как музейная Венера – пылью. Дряхлеет и погибает», – я разминаюсь в ожидании второго действия нашей комедии. Те же и презерватив.
Гоги возвращается с коричневым бумажным пакетом, снятым, скорее всего, с чьей-то частной булочки (кекса, домашнего пирога, сдобного рулета, творожной запеканки, к чаю, Джон, не сиди голодным, помни о желудке, эти твои ночные смены, я так волнуюсь, обязательно разогрей…). В пакете действительно лежит единственный, пожертвованный кем-то сердобольным, не иначе пожилым портье (средних лет лифтером? молодым охранником?), желанный, но совершенно, это уже ясно, бесполезный презерватив.
– А зачем пакет?
– Не знаю. Так дали.
Картинка для журнала «Тара и упаковка»: презерватив в пакете!
– Я, – мнется Гоги у двери, – я поеду. Устал сильно. Вы тут можете остаться. Все оплачено. Вон, шампуни эти, кремы… («Да, конечно, я понимаю, да, останусь, нет, не волнуйтесь, нет, не обижаюсь! Да, всего доброго! И вам. Нет, не обижаюсь. Как-нибудь потом. В следующий раз. Непременно. Скажу как только. Конечно, все, езжайте!»)
Минут двадцать спустя шампуни-эти-кремы я скидываю в пакет с презервативом. Совершаю аккуратное гигиеничное воровство. Проявляю мелочность и клептоманию. Оплаченную, легальную, тем не менее. Поганистость моих манипуляций помогает ироничной ухмылке сохранять приятную живость.
«Отличненько разжилась шампунями! Чудесненько разжилась шампунями! Сейчас приеду домой, отмоюсь шампунями и удавлюсь!»
«Человек, профукавший свой шанс, отвратителен сам себе. С этим можно жить». «Грехопадение безгранично доступно и библейски просто лишь в романах, полных морали („отбросив стыд, они сплелись…“), и модных журналах („и еще один полезный совет: перед началом акта спросите партнера о его предпочтениях“)». «Не будь дурой, не плачь».
Ночная дорога течет под колеса асфальтовым рулоном. Синхронно скрипит дуэт оконных щеток, сметая назойливый дождик с моего пути. Еду медленно, к досаде мелькнувшей прищуренными фарами кровожадной полицейской акулы. Добравшись до койки, лежу, раздетая кое-как, наполовину, как наскучивший резиновый пупс, и отчаянно реву, вся в слезной соли, опухшая и косматая. Будильник отсчитывает минуты с профессиональной бодростью неутомимого рефери. Два ноль пять… шесть… семь. На счет «десять» не встаю, признав поражение. Бой окончен. Я – пас. Меня – вычеркивайте. Звучит пронзительный гонг: «Дзыыыыыннннь!»
– Ромеро Орландо хочу говорить! Где Ромеро?
Накрываю глаза рукой и всматриваюсь в струю нестерпимой боли, что растекается подо лбом, пульсируя из опустошенного эвакуацией мыслей и слез, окаменевшего моего черепа. Бешеная ярость на людей, крадущих высокий момент персональной трагедии по смехотворному поводу, осушает мой рев внезапно и где-то даже мультипликационно.
– Romero is dead! – я ставлю жирную точку в судьбе Ромеро. – Он мертв! Вы слышите меня? Абсолютно, абсолютно мертв!!!
Смерть Ромеро приносит необъяснимое облегчение нам обоим: мне и мафиозо. Прощаемся навсегда. Он – восклицая нечто кипящее, испанское, я – впечатывая телефонную трубку в телефонную голову.
5
– Ты, ты, как тебя зовут, знаешь, что скажу? Слушай, что скажу. Поляка свезли. Сам видел вчера.
– Яков, первый этаж, выходите уж. Что значит свезли? Куда свезли?
– Ты это, не беги, смотри, поляка взяли совсем. Свезли куда все. Машина забрала, там всякие. А гнида эта настучала, а не знала, что увозят уже поляка. Ты, ты знала про поляка, что увозят? Я стул уже снес домой. Что ж, хороший стул.
– Вацу увезли? Ну так это неплохо, Яков, совсем неплохо. Там медсестры, уход, общение. Ну, Яков, не грустите, здесь хорошие дома престарелых!
– Шо, шо ты говоррришь? Шо ты говорррришь? – Яшка протыкает небо пальцем. – Хорошие! Я тут тридцать лет. Я сам, сам! Ты, ты дура, ты думай, слепой вон с собакой, я знаю – с собакой не заберут. Я решил тоже. Пусть собака. Вы знаете, где собаку дают? Ты не беги, скажи про собаку, где дают. Шо молчишь? Шо всегда молчите? Ты меня не любишь, куда бежишь? Где собаку дают, шоб не увезли? Молчишь всегда, не беги!
– Яков, оставьте! Невозможно!
– Ты ты дура как тебя зовут шо молчишь поляка увезли!
Жалкий кривляка. Ничтожный осколок. Никчемный человеческий балласт. Дымящее недоразумение. Каждое утро я должна видеть это вонючее, плевучее, трескучее, неотвратимое и катастрофичное предзнаменование в виде Яшки-придурка – за что?! Сатанею. Натянутым до свиста голосом полосую несчастного Яшку хлесткими «отстаньте, наконец!», «забудьте мой этаж!», «какого черта каждое утро!», «я вам – никто! никто!», «какая, на фиг, собака! при чем тут собака?», «собака никого не спасет!», «не сдохнуть в одиночку!», «государство не даст!», «поедете как миленький!». Наоравшись, растираю остатки слез по разбухшему лицу, сморкаюсь, всхлипываю, щелкаю пудреницей и, протрезвев, договариваю:
– Яков, Ваца наш совсем беспомощный. Родных нет. По-английски не говорит. Если что – позвонить не сможет. Ему там будет лучше. Курить, конечно, запретят. Напрасно качалку его уволокли. Но теперь уж все равно. Поверьте, там и в самом деле лучше. Правда. Не бойтесь.
Яшка пережидает мое выступление с мудростью истинного придурка: без эмоций.
– Ты… ты знаешь… Не хочу. Я сам. Тридцать лет тут. Вы же знаете, шо я с Одессы, я приехал – тебя не было, эй! эй!.. я смогу, ты, ты погоди, не беги! Шо всегда…
Яшка отстает от меня на шаг, на два, на пять, на один переход, на два пролета, поворот, все, отрываюсь, испаряюсь, меня нет. («Надо бы сегодня отдохнуть. Совсем озверела».)
Тем более что сегодня суббота; сегодня мой тиран – мое беспощадное расписание – отправляет меня на дальний кордон по кромке океана; к океану и сворачиваю, вспомнив об отдыхе и отменив вечерние классы. Спускаюсь к пляжу, иду по песку в ботинках; привычно, как перед купанием, щупаю, присев, воду: она холодная. Наглая очевидность этого факта смешит, но и немного расстраивает меня. Океан треплет берег с шепелявой мерностью граммофонной пластинки; пляж, бесконечный в обе стороны, лишенный движения, визга, плеска, напоминает гостеприимный дом, из которого, слава богу, ушел последний гость. Ни одного продавленного пузом лежака, ни одного обожженного солнцем зонтика. «А могли бы и оставить для колорита», – говорю вслух неизвестно кому. И думаю о том, что с точки зрения грамотного сценариста теперь на этом пляже я должна увидеть кого-то исключительно метафоричного: счастливую пару старичков-рука-в-руку, брошенную собачку-совсем-как-некоторые, бравого физкультурника-на-худой-конец. Но, к счастью, закономерности сценария фальшивят при очной ставке с реальностью: за два часа прогулки я не встречаю решительно никого. Чему и радуюсь. Ведь я взяла паузу, я отдыхаю, а лучший отдых для недотроги, как известно, есть полное и чистое одиночество, не залапанное ничьим прикосновением, не замутненное ничьим дыханием; стерильное одиночество, при котором никто досадно лишний не теребит губами ни струн души, ни волосков на шее.
Послеполуденный снег, обещанный с утра, прилетает с опозданием, к закату; деловито строчит по песку, крошка за крошкой, стежок за стежком: приятная глазу сноровка опытной кружевницы. Стою, как пингвин, умиляюсь трогательной попытке неба забелить океан; снег безнадежно слаб и смертен, хоть и наступает молодцевато, нарядной армией, хоть и лупит по воде изо всех небесных сил, да только что есть веселая прорва в сравнении с мрачной бездной? Не приемлет океан сезонных развлечений. Равнодушен океан к перемене декораций. Не танцует он этих танцев: не умеет, не в духе, да и наплевать.
Замерзаю, ухожу. По дороге домой размышляю о полезности горячего питания хотя бы раз в день. И еще о том, что привычка к сольной жизни похожа на хроническую болезнь: не очень мешает, не слишком болит, хорошо бы избавиться, но все-таки жаль, если пройдет.
– Five dollaaars, pleeease![3] – улыбается глиняная китаянка. Ей известна моя стыдная тайна: сегодня я изменила жгучему супчику с баклажаном. Клеклым, но тоже жгучим. Цена измены – три доллара. Недорого.
С жестяным хрустом запираю пустоту в почтовом ящике, отбраковываю в корзину для бумажного рванья глянцевую рекламу: стопроцентное похудение, две пиццы по цене одной, веру и доброту, как учит нас Господь, распродажу светильников и зеркал, Цилю Циммерман, которую в очередной раз, надо думать, сердечно, от всей души… Бессердечный поступок с письмом к Циле не приносит ни радости, ни свежести. Достаю Цилю из корзины. Этим вечером у меня нет сил на мелкие пакости. В ожидании лифта ковыряю щербатый пластмассовый пузырек на желтой светящейся кнопке. Спасенное Цилино письмо благодарно белеет мне в спину с подоконной перекладины. Бездомными почтовыми сиротами пусть занимается почтальон!
Четырнадцать этажей кряду думаю я о том, что милейшая старушка Циля имела тайную и, очевидно, греховную связь с испорченным красавцем Ромеро Орландо; что мое появление в их потусторонней жизни перерезало какие-то важные тропы, ходы и лазы; что четвертое измерение беспомощно натыкается на меня как на завалявшийся объект – сношенную тапку, одинокую бусину, средней величины упраздненную банкноту, – будучи не в силах преодолеть моего равномерного присутствия, моего бесстыжего существования; что сконфуженные тени этих мнимых покойников слетаются к моему дуплу в преддверии неведомого мне пиршества, но вкушают лишь чесночный запах китайской закусочной да унылое постукивание по клавишам.
Ем; наевшись, терзаю Брамса. Нет, нет, еще раз нет, – я не верю ни единому его слову! Я вколачиваю в пальцы его вымученные, преувеличенно романтические пассажи, его непроходящую немецкую меланхолию, аккуратно упрятанную в коробочки гремучих аккордов, его многоэтажную сложность, прикрытую фиговым листком, – и не верю ему. Уже к репризе Брамсу не о чем со мной говорить. Полный, потный, седобородый немец лукаво раскрашивает истрепанную песню новым мажором, однако хитрость не сходит ему с рук. От этого неистового мажора несет суконным, давно не стиранным одиночеством, лохматой пылью из-под холостяцкой венской койки, аптечными склянками с соседней штрассе и трусливо непрожитыми страстями.
– К черту, к черту! – говорю я, хлопая Брамса по картонной зеленой заднице. – Что ты, в самом деле, лопочешь тут про любовь? Мог сто раз жениться на Кларе, мог наплевать на вдовьи ее страхи, на свой юный возраст, на все эти красивости, на самого себя, пылающего письменно, письменно! – и ни разу устно! – мог, но испугался. Сбежал. Мог навалять оперетту, взять на содержание актриску, мог зачать побочную ветвь с кухаркой, приютить кота, наконец, – не успел. Не захотел. Не подумал. Состорожничал. Поленился. Побрезговал. К черту!
Назло Брамсу не чищу зубы, иду спать. Большой розовой личинкой лежу под одеялом, захлопнув глаза.
Душная темнота поскрипывает босыми шагами неспящего Гоги. Коротко свистит чайник. Падает стальная ложечка. Взрывается водопадом и долго шипит унитаз. Шуршит матрасное нутро. Глухо и монотонно бубнит прикроватное радио, затем умолкает. Черная тишина мерно дышит надо мной. Я почти сплю, но жду, хладнокровно и мстительно жду последних Гогиных предсонных судорог, последнего мычащего вздоха облегчения, тайную Гогину постлюдию, которую несчастный Гоги не в силах ни перетерпеть, ни смолчать. Я смотрю на штукатурку и представляю искривленное тонконосое Гогино лицо и смуглое Гогино тело, брошенное на бесхозяйственный Гогин произвол, распятое сосредоточенным ожиданием дежурного блаженства – волосатое, узловатое, мускулистое, готовое к величайшим подвигам нежности, если на то будет спрос. Однако увы, увы…
Через тридцать лет мой бедный Гоги превратится в больного и мрачного Брамса. Все Клары мира покинут его, так и не потрогав, и только добрейший призрак Цили Циммерман станет, я верю, навещать его в дни, предназначенные для милосердия. «Слюшайте, женщина! – будет говорить ей Брамс. – Ну плоха слышна, да!» Я встаю, растормошенная собственным смехом. О том, кто же придет через тридцать лет ко мне, страшно подумать.
Кухонные тараканы прыскают из-под ног, испуганные внезапным щелчком света. На дверной ручке качается задушенный двойным узелком кулек с мусором. Остро пахнет китайская требуха. Баклажанные ошметки мокнут в соленой сое.
Надеваю плащ, тихо проворачиваю железное нутро входного замка, шагаю к вонючей пасти мусоропровода. Кто-то, ни разу мною не виденный, храпит в угловой квартире. Ветер близкого океана гуляет по спящему коридору. Мелко дрожит неплотно прилаженное стекло. Влажно мерцают огни над Гудзоном. Тихий кашляющий вой сочится из брюха старого дома.
В этот миг я отчетливо понимаю, что ОН УМЕР. Что он действительно и несомненно умер. Что ЭТИ звуки могут быть только по поводу смерти, и только перед ее, смерти, непостижимым лицом; что можно уже не суетиться, не звать, не умолять, не торопить, не призывать, не проклинать. Неспешно выкидываю мусор, долгих пару минут рассматриваю паутину бесплодного ползучего винограда на кирпичной стене, возвращаюсь, сквознячно хлопаю дверью, виновато пугаюсь, бегло смотрю на кровавый циферблат, отмечаю, что уже четвертый час утра, а мне вставать в шес… снимаю телефонную трубку. Девять-один-один.
– У аппарата. Имя, адрес, телефон.
– Мне кажется, что мой сосед умер. Я уверена. Нет, я не видела. Собака-поводырь воет. Нет, не лает. Протяжно воет. Старик слепой. Фамилии не знаю. Хорошо. Да, живу рядом. Выше этажом. Да, я у себя. Приезжайте. Конечно, подожду.
К приезду полиции я – труп, криво поставленный на попа.
Подперев щекой оконную раму, звякаю монетками в старом финском кармане и вязко зеваю. Немой шатен в безголосом телевизоре продает каким-то бессонным безумцам сверкающий паровой пылесос. Публика в студии беззвучно ликует. «Закажите наш пылесос сейчас, – читаю я на экране пылкую надпись, – и мы дадим вам в подарок насадку для чистки потолочной лепнины!» С чувством очередного проигрыша опрокидываю голову навстречу лысому потолку, наливаюсь затылочной сонной тяжестью, краем взгляда замечаю мягкое ночное торможение полицейской машины, вижу двоих мужчин, угрюмо идущих к подъезду, слышу глубинные кишечные звуки пробудившегося лифта – и, падая на липкий кожаный диван, проваливаясь в поролоновый туман, покрываясь бесчувственными мурашками, затекая, застывая, засыпая, думаю о том, что вот сейчас, через минуту, через полминуты, они придут и спросят: «А что вы, мэм, собственно, делали в три часа ночи, когда ваш слепой – там, простите, под вами – умер?»
…вот сейчас придут и спросят
чтовысобст
венноде
мэм…
И тогда я признаюсь, что в три часа ночи играла на пианино. Они в ответ, вероятно, хмыкнут:
– Вы шутите, мэм?
И я, если проснусь, скажу:
– Да.
Муся и Серафим
Памяти М. Б. Соколовой
Квартира ее имела номер девятнадцать. Соседняя дверь на втором этаже была обозначена латунной цифрой «восемь», а вот каморка под лестницей считалась сто пятнадцатой. В старинном питерском доме на Литейном проспекте присвоение номеров квартирам, вероятно, было делом чистого случая. Так – пальцем в святцы – нарекают младенцев: каков день, таково и прозвание.
В девятнадцатой жила Мария Бенедиктовна: стучать бесполезно, звонить четыре коротких, один длинный, немного подождать, затем повторить короткие. Повторить короткие я забываю, жму на кнопку протяжно, раздраженно, мне десять лет, я пришла на урок музыки, Марь Бенедиктовна, отпирай, не тяни, дзыыыыынь! Через минуту я, надзынькавшись (ура! училка глухая дверь не открыла!), шагаю в пирожковую, в том же доме, на углу, ступеньки вросли в асфальт. У меня есть целых пятнадцать советских копеек – сказочно много!
Лопаю неповоротливый сухомятный пирожок, смотрю на училкины окна. Их два. Огромные, «выше человека», петербургские окна. В окнах свет, и это значит, что Марь Бенедиктовна уже включила ажурные бра на немецком пианино. Сидит, ждет меня, смотрит на лампочку-подсказку у входной двери: четыре коротких, один длинный… Звонок Мария Бенедиктовна плохо слышит. И стук почти не слышит. Зато отлично слышит музыку. Ни одна фальшивая нота не проскочит мимо! Я доедаю пирожок, вздыхаю и послушно шагаю на второй этаж. На урок.
Родители мне, конечно, рассказали о том, что Мария Бенедиктовна замечательная, что нам повезло с такой учительницей, что она слышит с трудом шумы и говор, но не музыку, и что только такие маленькие поганки, как я, которые ничего не знают о войне и о контузии, могут быть столь черствы к людям, пережившим Ленинградскую Блокаду.
Урок музыки длинен и подробен. Мы устаем, решаем попить чаю с бубликами. Но сперва – и это непременно! – я спускаюсь во двор-колодец и выкладываю остатки обеда в братскую кошачью кормушку. Такое у нас заведено правило. Мария Бенедиктовна кормит дворовых котов. Вообще-то дворовых котов кормит весь двор. Коты греются на солнце, лижут мохнатые пятки и трут лапами усатые морды. На раздачу еды подходят трое; остальные сыто жмурятся – эх, хорошо быть котом в Питере! Неслыханное это везение – быть котом в Питере! Я возвращаюсь с пустой тарелкой в квартиру. Мария Бенедиктовна уже заварила чай, мы садимся под красный абажур величиной с небольшой дирижабль. Мне нравится эта комната, этот громоздкий стол, это темное зеркало над камином, и сам камин, и высокие напольные часы с цепями и шишечками, и фотографии на этажерке; все эти штуковины – лишь малая часть бывшей генеральской обстановки, фрагменты убранства великолепной квартиры, по которой маленькая Муся скакала когда-то на деревянной лошадке, а веселые взрослые кричали: «Мусенька, Мусенька, совсем расшалилась, гляди, сейчас непременно что-нибудь уронишь и разобьешь!»; под окнами клокотал Литейный, вдали шумел Невский, по Невскому цокали лошадки, во дворе жил дворник, во дворце жил государь, и ни в одном из словарей еще не было слов «уплотнение» и «квартирный вопрос».
После уплотнения осталась комната, отсеченная от квартиры фанерным щитом, в которую эмигрировали многочисленные комоды, консоли, кровати, стало тесно, очень тесно, но ненадолго, потому что вскоре генеральская, немецких кровей, семья поредела; не пережив двадцатых, уехали тетушки и кузины, погибли родители, скончался знаменитый дядя-скрипач, а незадолго до войны ушел в колымскую вечность любимый муж. К счастью, без конфискации. Консерваторка Муся осталась одна с маленькой дочкой Анечкой. Консоли и комоды сгорели в камине вместе с венскими стульями и библиотекой, полной немецкой классики, в первую же блокадную зиму.
– Марь Бенедиктовна, а почему вы котов во дворе кормите, но домой кота не берете?
– Старая уже. Если кот меня переживет, то куда потом денется?
Мне известно, что давно-давно Мария Бенедиктовна приютила кота Серафима. Это был какой-то очень важный кот. Вспоминая его, учительница отчего-то всегда плачет, но я еще мала и глупа, чтобы понять – отчего, я еще не знаю Серафимовой истории, но узнаю ее несколько лет спустя, от одного старого друга Марии Бенедиктовны, вскоре после ее похорон, когда мы будем разбирать стариковские тряпочки и безделицы в уже разоренной и отписанной кому-то чужому, из жилуправления, комнате.
* * *
Серафим осиротел в тридцать седьмом. Бурый угрюмый кот сидел перед опечатанной соседской дверью и недоумевал. Профессорская семья из восьмой квартиры исчезла в одну ночь, внезапно и навсегда, но кот этого не знал, он царапал косяк двери, испуганно мяукал, будто просил прощения за свой ночной побег из-под ареста. К полудню кот устал орать, молча лежал на придверном коврике и ждал. У всех проходивших мимо щемило сердце от жалости и страха. Муся взяла кота себе.
Серафим оказался зверем хорошим, аккуратным. Часами глазел в окно. Любил бродить по клавишам, вытаптывая невиданную музыкальную чепуху. Спал на кушетке, прикрыв морду лапами. Первое время выбегал с трепетным мявком навстречу гулким шагам на парадной лестнице, но потом привык и к новому жилью, и к новым хозяйкам, и к новой, с красной вишенкой на боку, миске. Отобедав, валялся пузом кверху и урчал. «Мамочка, а у Симки нос мокрый!» – делала удивительное открытие Анечка. Кот приоткрывал желтый глаз и улыбался.
В июне сорок первого Анечке исполнилось шесть. «А Серафиму? Серафиму – сколько?» – спросила Анечка. «А Серафиму, – объявила торжественно Муся, – семь! И это значит, что наш Симка пойдет в сентябре в школу!» Анечка отчаянно завидовала Серафиму.
Начало войны отменило летние планы. Муся с дочкой и котом остались в городе. Было душно, тревожно, но пока не очень страшно. Серафим грелся на солнышке и ловил мух у распахнутой створки оконной рамы – клацал зубами, поймав, затем внимательно обнюхивал, уложив покойницу на подоконник, затем сбрасывал на пол жестом заядлого игрока в лапту. «Мама, мама! – кричала чья-то девочка на улице. – Смотри, какой красивый котик там сидит!»
К сентябрю сорок первого стало ясно, что за парту Серафим не сядет. Привычное жизненное устройство начало заваливаться набок, расстраиваться. Уроки музыки были повсеместно отменены, музыкальные школы не открылись. Начавшаяся в середине лета эвакуация внезапно прекратилась – город полностью окружили. Муся устроилась машинисткой в какое-то управление, стала ходить на службу с Анечкой. Серафима оставляли на хозяйстве. Хозяйничал Симка просто: спал дни напролет.
Возвращались Муся с Анечкой вечером, Симка встречал их, пританцовывая у двери. «Мамочка, какой наш Симка хороший! Ой-ой, как мы любим нашего Симку!» – восклицала Анечка. Продовольственные карточки Муся получила на себя и дочку. Кота кормили жидкой кашицей, добавляя понемногу постного масла. Блокада должна была кончиться вот-вот, Мусе так соседка сказала, да и на работе тоже все так думали.
В октябре еды стало совсем мало. Тогда в ход пошло небольшое, но ладное генеральское наследие. «Ничего, – думала Муся, – еще месяц-другой, а дольше уж и не надо будет. Запасов хватит».
К ноябрю все запасы были опрометчиво съедены; продукты на черном рынке стоили уже чудовищно дорого, но все-таки еще странным образом были. Золотое колечко Муся променяла на стакан крупы. Бронзовыми подсвечниками оплатила несколько банок рыбных консервов, в которых не оказалось рыбы – лишь гнилые тряпки, запаянные в жесть. Английский натюрморт принес в дом спички и мыло. Столовое серебро Муся отдала за кулек гороха и мешок мороженой капустной хряпы. От хряповой баланды у всей семьи случилось кишечное расстройство. Было обидно и очень смешно. Муся называла кишечное мероприятие «художественной росписью горшков». Анечка хихикала, Серафим мычал и сердился. Все трое были тощи, Серафим обвис и сильно полысел.
В конце ноября за фанерной стеной умер одинокий сосед. Старинный дом поредел, людей стало меньше; слепые, крест-накрест заклеенные окна прятали остатки жизни. В один из предзимних солнечных дней замерз водопровод. Теперь Муся стала встречать кое-кого из соседей на пути к реке Фонтанке. Путь был долгий, трудный, особенно обратный, с полным ведром. «Мамочка, а почему люди лежат на земле?» – спрашивала Анечка. Муся отвечала, что люди прилегли отдохнуть. «И потом, ведь баба с ведром – плохая примета, а вокруг вон сколько баб с ведрами… Мы сейчас, Анечка, тоже придем домой и будем отдыхать». «И покормим Симку, правда, мамочка?»
Последняя Мусина брошь ушла за брикет солонины. О том, чье именно мясо было засолено, Муся приказала себе не думать. Серафим лизал солонину лежа. Мыши в Питере кончились месяца два назад.
Да и не смог бы Серафим уже никого поймать, так был худ и слаб.
В декабре стало совсем туго. Из богатств осталась лишь тяжелая мебель, но не было в городе человека, который мог бы ее поднять. Кроме того, мебель была дровами. «Ну, – подмигивала Муся Анечке, раскалывая на щепы тумбочку, – хоть в комнате посвободнее стало, правда? А то загромоздили барахлом, ни пройти ни проехать…»
Однажды Муся купила комкастый полусырой кусок хлеба у вороватого работника продовольственного склада в обмен на льняную скатерть и пуховую подушку. Прихожая в квартире работника склада походила на антикварную лавку – рулоны ковров, бронза, фарфор, картины… Муся принесла хлеб домой, вскипятила воду, заварила гороховую тюрю. Пир горой! Анечка и Серафим мурлыкали, вылизывая тарелки, было темно и холодно, но будто бы и сытно, и весело, и Муся пообещала легко, смеясь, что всегда-всегда мы будем жить с нашим славным Серафимом, а когда вернется папа, он наверняка полюбит нашего кота и похвалит нас, ведь мы же молодцы! Ну а если приедет профессор из восьмой квартиры, то, конечно же, мы Серафима отдадим, но будем ходить в гости к нашему усатому-полосатому, и еще – торжественно клянусь! – мы никогда-никогда не сожжем дедушкино пианино.
Они ложились спать все вместе, в одну кровать, комом, прижимаясь друг к другу; в самом центре, под одеялом, в драповых складках пальто, в теплом сплетении старых шершавых рейтуз тихонько храпел счастливчик Серафим; маленькая Анечка, засыпая, говорила: «Мама, ты только не задави Симку».
А потом еды не стало вовсе.
Анечка очень ослабела. Муся возила дочку на санках, страшась оставить дома (вдруг бомбежка?). К санкам Анечку привязывала веревкой: по городу ходили чудовищные слухи о людоедстве. Тяжелее всего было стоять в очереди за пайком. Муся боялась упасть в обморок. «Не дай бог, – думала Муся, – Анечка сидит в санках, а я лежу рядом в обмороке! Только не это!» К дому подходили в сумерках. Муся отвязывала Анечку от санок, зажигала спичку и вглядывалась-вслушивалась в мрак парадной лестницы. Однажды спичка подвела, не осветила ступени, быстро погасла. Муся шагнула и споткнулась о мягкий куль, упала, придавила Анечку, уронила санки, долго искала в ледяной темноте спички, санки… Кулем оказалась умершая соседка с третьего этажа. Кажется, Вера Ивановна. Из двадцать третьей квартиры.
Сразу после Нового года Анечка заболела. Пару дней она горела в лихорадке, затем стихла, перестала говорить и только лежала, закрыв глаза. Мусе несколько раз казалось, что Анечка уже умерла и что тощий плешивый Серафим тоже умер; в страхе Муся нагибалась над кроватью и, стуча сердцем, ловила их мотыльковые дыхания. Анечка и кот были еще живы, но Муся поняла, что это все-таки конец.
И тогда Муся взяла ведро и пошла за водой. Вернее, за снегом, потому что до проруби в реке идти далеко, да и невозможно уже. Ступени в доме были покрыты наледью. Муся спускалась долго, на ощупь, опираясь на ведро, потом долго черпала снег, потом бесконечно долго поднималась два пролета лестницы; вернувшись, Муся разожгла кухонную дровяную печку, поставила на огонь топленый снег, сняла с кровати невесомого Серафима, положила кота на столовую доску и коротким движением каминного топорика отрубила ему голову.
Крови в Серафиме оказалось мало; всю кровь Муся слила в воду; вода нехотя забурела, превращаясь в мутный бульон. Разделывать тушку Муся не умела, поэтому накромсала кота кое-как, без разбора, постанывая от ужаса. Мясо сварила, но не все, большую часть заложила в приоконный холод, решив сберечь на потом. Серафима Анечка ела несколько дней, Муся даже удивилась, ведь тщедушный был кот, одни кости, а как надолго хватило! Кормя Анечку, Муся разжевывала мясо в кашицу и сплевывала в ложку. Главным чувством Муси было сожаление о том, что так поздно расправилась с котом и позволила ему исхудать. Анечка будто бы оттаяла, зашевелилась, стала о чем-то спрашивать; черные ее подглазья немного смягчились, посветлели, впалые щеки стали теплее. Муся испытала невероятное облегчение; она подумала, что спасла дочку, успела, оттащила от края, прикрыла, уберегла.
Семнадцатого января сорок второго года Анечка умерла. Муся двое суток просидела у кровати. Она смотрела на дочку и думала, что Анечка будто бы спит, и Мусе не хотелось ее будить, и не было сил собрать Анечку в последний путь – на любимых санках, по Литейному, куда-то туда, куда отвозили умерших еще живые и еще ходячие.
Зима отступала. Муся не отмечала течения времени, но вдруг снег стал стремительно таять, уходить из города с позором, как проигравшая армия, разом из всех щелей, наутек. В один из дней Муся вышла из дому и захлебнулась солнцем. Шедший мимо мужчина тихо сказал: «Весна. Наконец-то. А вы видели, матушка, на деревьях-то почки! Нет-нет-нет, вы не поверите – почки!» Муся завернула за угол, прошла через мост, мимо цирка, на бульвар. Деревья были покрыты нежным кружевом почек. Муся отломила одну – почка было немного горькой, но такой поразительно живой! На обратном пути Муся попала под бомбежку. Взрыв случился совсем близко; Муся упала под водосток, из ушей ее текла кровь, из водостока текла талая вода, вокруг стояла бессовестно запоздалая весна сорок второго, а в кармане пальто был свернутый платок с горстью липких почек.
Летом сорок третьего прошелестел слух о том, что в городе появились коты. Что вроде бы пришли из глубинной России вагоны с мяукающими крысоловами, что где-то на товарных станциях выстроились очереди за котами, а может, и не выстроились вовсе, и котов просто так выпускают на волю… Слухи слухами, однако к зиме сорок четвертого котятами стали там и сям приторговывать; на рынке за котенка приходилось отдавать состояние – пятьсот рублей, такая вот установилась цена. Дорого, очень дорого, но пусть дорого, пусть немыслимо дорого, зато за пазухой пищит теплый мохнатый комочек, крошечная кошачья детка – и это в городе, где к сорок четвертому году живой ребенок был чудом!
Муся продала зимнее пальто. Ей казалось, наверное, что зимы больше никогда не будет. Котенок Серафим Второй по дороге зевал во всю рожицу, потом уснул. Подойдя к дому, Муся прислонилась затылком к ветхой двери подъезда, взглянула на белое весеннее небо и завыла, глотая слезы, – от нестерпимого своего горя и от истовой своей любви к новому кошачьему малышу.
До конца войны оставался еще год.
Каринэ Арутюнова Был такой город
Предисловие
Когда не сможешь сознаться в том, что города – того, в котором жил когда-то, уже не существует, как не существует и тебя самого, и эта твоя прогулка не более чем фикция, мираж, сюрреалистическая картинка, на которой голубым раскрашено небо, а грязно-белым – дома, и радость твоя от того, что день этот непредвиденно хорош, – радость эта тоже не вполне настоящая – она вне рамок того, что называлось твоей жизнью, она за гранью, за пределами.
Города нет, как нет дороги, ведущей к дому, который никуда не сдвинулся со своего места, не сдвинулся, не сгинул, не обвалился, оседая этажами, перегруженными случайной, большей частью устаревшей мебелью, собранной в году этак семьдесят девятом в братской социалистической республике – ГДР или Чехословакии, – как нет, впрочем, и самой республики, а мебель наперекор всему похрустывает изношенными суставами.
Так и стоит, кренясь балконами, забитыми всякой всячиной, допустим, подборкой журнала «Юность», начиная с шестьдесят пятого, или пыльными новомирскими изданиями, а еще истончившейся газетной трухой, в которой свинец, продолжая испаряться, травит чахлые растения в неуклюжих горшках.
Велосипедный насос, растрепанный скрипичный смычок, чехлы неизвестного предназначения, ракетки для тенниса, бельевая веревка с многократно высушенным и трижды отсыревшим в полоску и блеклый горошек, горсть деревянных прищепок, справочник по машиностроению, конспекты, исписанные ученическим, со старательным нажимом в начале и легкомысленно-расплывающимся к концу.
Связки писем «от него к ней», «от нее к нему» – перетянутые резинкой, – их никто не читает, и страшно подумать, почти не пишет. Затянутая в полиэтилен вечнозеленая елка. Переложенные клочьями ваты, еще почти совсем целые игрушки. Избушка на курьих лапах. Космонавт с поднятой левой рукой. Шестипалая снежинка на длинной ноге.
Города нет, как нет и того, кто одним махом взлетал на пятый, кажется, пятый или все-таки четвертый, – сначала одним махом, потом с небольшими остановками между этажами, потом – медленно занося левую ногу над ступенькой, мужественно преодолевая третий пролет, – кошачий закуток останется таким же живописным и сегодня, – с картонкой, в которой живое и беззащитное требует тепла, и молока, и продолжения жизни, – тянется к свету, к слабой полоске, падающей из правого верхнего угла, где железная скоба, выкрашенная в неопределенно тусклый цвет, так и не закрывается, и не закроется никогда, и потому от холода сводит пальцы, – в уже неважно каком году, потому что года этого уже нет, как нет меня, его, ее, – нет причин и обстоятельств, и повода стоять в глубоком колодце двора, запрокинув голову, считать окна, в которых, возможно, еще теплится, горит, любит.
Бродить в темноте, разбрасывая спички, много спичек, мусоля пустой коробок, – пока где-то не залает собака или не забрезжит первая звезда, – как сладко прощаться навсегда, дышать в спину прозрением, безразличием, – выдыхая, отсекая, вырывая, – изношенную, ненужную, устаревшую – случайную, конечно же, случайную, благополучно погребенную под завалами.
Ее никто не искал. Никто не искал, не допытывался – вот город, шумит, сверкает огнями, витринами, штукатуркой, фасадом, – а в глубине двора качели поскрипывают жалобно, и дерево под окном.
Был такой город
На золотом крыльце сидели Царь, Царевич, Король, Королевич, Сапожник, Портной…К дому можно пройти «тудой» или, в крайнем случае, «сюдой».
Через гастроном, панельный серый дом, палисадник. Или через соседский двор, банду Котовского, инвалида на колесиках.
Инвалид добродушный, когда трезвый. И очень страшный в пьяном состоянии. В пьяном состоянии видеть его можно нечасто.
«Колька бушует, опять надрался», – добродушно посмеиваются соседи, и я с любопытством и ужасом поглядываю туда…
О, сколько раз являлся ты во снах мне, заросший кустами смородины, мальвой и чернобривцами, старый двор. Два лестничных пролета, и эти двери, выкрашенные тусклой масляной краской, и персонажи, будто вырезанные из картона, раскрашенные чешским фломастером.
Отчего Танькин отец черный, как цыган, и злой? Отчего он трезвый, и злой, и красивый? Отчего колотит Таньку, дерет как сидорову козу за любую провинность и каждую четверку? Отчего Танька, сонная, с квадратными красными щеками, похожая на стриженного под скобку парнишку-подмастерье, боится, ненавидит и обожает своего отца? Отчего мать ее, большая женщина в цветастом халате, из-под полы которого выступает полная белая нога, – отчего плывет она по двору, будто огромная рыба, огромная перламутровая рыба с плавниками и бледными губами, на которых ни улыбки, ни задора.
Отчего бушует Колька, скрежещет железными зубами, рвет растянутую блекло-голубую майку на впалой, как у индейца, груди, – отчего слезы у него мутные и тяжелые, отчего грызет он кулак и мотается на своей тележке туда-сюда, бьется головой о ступеньки. Шея у него красная, иссеченная поперек глубокими бороздами. Отчего на предплечье его синим написано… И нарисовано сердце, пронзенное стрелой.
Мимо первого подъезда пробегаю торопливо, оттого что пахнет там водкой и «рыгачками». Танька называет это так. Тяжкий дух тянется, вьется по траве, добирается до нашего второго, не иначе как по виноградной лозе, прямо на кухню, где хозяйничает и кашеварит моя бабушка – бормочет и колдует над смешным блюдом под смешным названием «холодец».
– Шо вы варите, тетя Роза? – Голос у Марии звонкий и певучий, и сама Мария прекрасна, с выступающими скулами, икрами стройных ног – прекрасна, как Панночка, жаркоглазая, она парит над домом, свесив черные косы. Они разматываются как клубок, стелятся по земле, струятся.
Прекрасна в гневе и в радости, в здравии и в болезни – прекрасна с седыми нитями в затянутых на затылке волосах, с красными прожилками в цыганских глазах, с паутиной лихорадки на скулах, – она расползается в пьяной улыбке, прикрывая ладонью прорехи во рту. Сиплым голосом выводит куплеты – застенчиво прячет за пазуху червонец. Долго смотрит мне вслед.
Отчего Мария несчастна? Отчего, если свернуть «тудой», то можно увидеть, как разворачивает крыло бабочка-капустница, как тополиный пух окутывает город, забивается в глаза, ноздри, щекочет горло.
Отчего так прекрасны соседские девочки, шестнадцатилетние, недостижимо взрослые, загадочные, с тяжелыми от черной туши веками, – пока я купаю в ванночке пупса, они уже отплывают в свою взрослую жизнь. Я завидую им, я различаю их запахи. Медовый, карамельный – Сони; щекочуще-дерзкий, терпкий, удушливый – Риты; сливочный, безмятежный – Верочкин.
Аромат тайны витает по нашему двору. Что-то такое, что недоступно моему взору, непостижимо, оно щекочет, и волнует, и ранит.
– Иди сюда, – говорит мне Рита, самая удивительная из всех, самая отчаянная. Воодушевленная «взрослым» поручением, я слетаю по лестнице, несусь по улицам, сжимая в кулаке записку. Я готова на все. Носить записки, беречь ее сон, думать о ней – не знаю, я готова на многое, но это многое непонятно мне самой, что делать с ним, таким тревожным, таким безбрежным.
Рита носит чулки телесного цвета, и тогда ее длинные шоколадные ноги становятся молочными. Чулки пристегиваются там, под юрким подолом самой короткой в мире юбки. Когда я вырасту, то куплю себе такие чулки и такую юбку.
Пока я верчусь в темной комнате, вздрагиваю от наплывающих на стену теней, она выходит из машины, пошатываясь, помахивает взрослой сумочкой на длинном ремешке. Девочка в белом кримпленовом платье. В разодранных чулках, взлохмаченная, похожая на поникшую куклу наследника Тутти. Имя нежное – Суок.
Отчего бывает дождь из гусениц? Толстых зеленых гусениц? Они шуршат под ногами, скатываются, слетают с деревьев, щекочут затылок.
Хохоча, он несется за мной с гусеницей в грязном кулаке. Ослепшая от ужаса, я уже чувствую ее лопатками, кожей, позвоночником. «Вот тебе», – дыша луком и еще чем-то едким, пропихивает жирную пушистую тварь за ворот платья.
Его зовут Алик.
Когда-нибудь я отомщу ему. Я выйду из подъезда, оседлаю новый трехколесный велосипед. И сделаю круг вокруг дома. Круг. Еще круг. Еще.
Отчего похоронные процессии такие длинные, такие бесконечные? Отчего так страшна музыка? Эти люди, идущие молча, в темных одеждах. Его мать в черном платке. Падает, кричит, вырывается из крепких мужских рук. А вот и Колька Котовский на колесиках. Слезы катятся по красному лицу.
Море стрекочущих в траве гусениц, зеленое, черное, страшное. Мир перевернулся. Отчего так страшно жить?
Тополиная аллея ведет к птичьему рынку, на котором продают все. Покупают и продают. Беспородных щенков, одноглазых котят, мучнистых червей. Топленое молоко, разноцветные пуговицы, сахарные головы.
Пока я расту, растут и тополя. Шумят над головой, кивают седыми макушками.
Если пройти «сюдой», то можно увидеть очередь за живой рыбой, кинотеатр, трамвайную линию, бульвар, школу через дорогу и другую, чуть подальше, – а еще дальше – мебельный, автобусную остановку, куда нельзя, но очень хочется, потому что там другие дворы и другие люди, совсем не похожие на наших соседей. Туда нельзя категорически, потому что уголовники ходят по городу, воруют детей, варят из них мыло.
Если вызубрить точный адрес, все не так страшно.
Чужая женщина ведет меня, крепко держа за руку, – это добрая женщина с усталым лицом и полупустой авоськой. Она непременно выведет меня к дому, на мой второй этаж, – «тудой» или «сюдой», не суть важно.
Все дороги ведут туда, к кирпичному пятиэтажному зданию с синими балконами, увитыми диким виноградом.
* * *
– До чего мы дошли! – В голосе ее сдерживаемое с трудом отчаяние. – Куда катится мир! – Она воздевает руки и закатывает один глаз – второй, как я успеваю заметить, остается на прежнем месте – острый зрачок неотступно следит за всем происходящим, – наверное, она и спит так – с воздетыми в ужасе руками и подпрыгивающим любопытным зрачком.
– Куда катится мир, – с горечью повторяет она уже на пороге, – девочки рожают детей! – В раме двери – монументальный бюст и квадратная голова в косынке. Форма головы обусловлена наличием бигуди, располагающихся рядами от лба к затылку.
Захлопнув дверь, бабушка откашливается, явно маскируя одной ей свойственную иронию:
– А кому еще рожать? – Она пожимает плечами и преувеличенно громко гремит посудой.
Итак, девочки рожают детей. Я тщательно перевариваю новость. Верчу ее и так и этак – что-то в этой схеме явно не складывается. Ну хорошо – мальчики детей не рожают, это и дураку ясно, но любой мало-мальски приличной девочке просто-таки на роду написано родить ребенка. Рожать необходимо, рожать стыдно, рожать неприлично, рожать страшно.
– Рожать – это больно, – деловито сообщает Танька, – все кишки порвешь, пока…
Почему кишки? Я деликатно выясняю, как именно происходит… Бабушка выпроваживает обеих на улицу. У нее куча дел, сообщает она, подталкивая нас к двери, – белье, глажка, курица.
По двору слоняется Алик. Он щелкает ногтем по спичечному коробку и пропихивает туда грязный палец.
– Кусается, гад, – уважительно замечает он, поглаживая жесткое синее крыло неведомого насекомого.
Я тоже просовываю палец и замираю на секунду, сраженная мощным сопротивлением ничтожного существа.
Алика мой вопрос ничуть не смущает. Продолжая дразнить жука, он снисходительно поглядывает на мою расстроенную физиономию.
– Очень просто, – разъясняет он, – через жопу. Детей рожают через жопу. По-другому никак.
Жопа. Это неприличное слово. Во всяком случае, дома его произносить не рекомендуется. Но дома – это одно…
Через жопу? Значит, все, решительно все, даже придурковатая Любочка… Даже старуха Ивановна. Танькина мама. Тамара Адамовна с четвертого, красивая женщина с усиками над ярко-красным ртом. В конце концов…
– Нет. А я думала, – осторожно протестую я, – что им разрезают живот, и…
Алик хохочет. В лице его появляется нечто гнусное, издевательское.
– Детей рожают жопой, – выкрикивает он так громко, что просыпается мирно дремлющая под крыльцом рыжая в серую полоску кошка. Она приоткрывает испещренный ржавыми пятнышками глаз и шмыгает в круглое отверстие в стене, такой специальный кошачий люк, где живет огромное кошачье семейство.
А вот и виновница спора. Сбегает по ступенькам, разметав выгоревшие за лето кудряшки по смуглым плечам.
Ноги ее в желтых синяках. Глаза красные.
Рита, цветок моей тайны, что сделали с тобой злые люди…
– Держите меня! – Обезумевшая, простоволосая, мечется по двору такая непохожая на Риту Ритина мать. – Добегалась, тварь? – Она тяжело дышит, прикладывая ладонь к левой груди, выдыхает обидные слова, вдруг обмякает всем телом, похожая на старую ватную куклу с вытаращенными глазами-пуговицами.
С каждым днем Рита становится все более прекрасной. Она плывет по пустынной улице, склонив растрепанную голову чуть набок, ничуть не стесняясь огромного живота, похожая на огненный цветок, вдруг распустившийся вопреки всем пересудам.
Я вижу ее отяжелевшие щиколотки, ее упрямую усмешку, коричневые узкие запястья. Худые пальцы с обгрызанными ногтями. Прошлогоднее короткое платье лопается на груди, топорщится на животе. На ногах – стоптанные белые босоножки.
Хочется подбежать к ней, обхватить руками высокий живот и застыть, вдыхая пряный аромат, пробивающийся сквозь изношенную ткань.
Целую вечность мы простоим так, прислушиваясь к приливам и отливам далеких лунных рек, там, в недрах моих сновидений.
* * *
Это такой город…
Точно как на открытке. Весь в сугробах. Белый и даже немножечко голубой. Смешно проваливаться валенками и смеяться от холодной щекотки в ногах.
– Высунь ногу, – закричит Рита, – сейчас же высунь ногу, – и побежит, смешно ковыляя, заваливаясь чуть вбок.
Рита хромая. Хромая уже давно, и она вряд ли выйдет замуж – так, во всяком случае, считает Селя, а Селя уж в чем в чем, а в этом понимает.
Селя понимает в отрезах, крепдешине и шелке, в швейных машинках, в мужских и женских фигурах – плечах, бедрах, животах:
– Скажите, пожалуйста, – задыхаясь от смеха, стонет она, – она хочет талию, где я ей сделаю талию? Где? – выпучив глаза, перекусывает нитку и яростно жмет на педаль швейной машины. – Кто говорит толстая, не толстая, а настоящий окорок – воротничок я могу, манжеты могу, но куда я этой корове воткну талию? – Селя резко останавливается и хлопает себя по лбу.
– Рита, – вопит она истошно, – дрянь такая, мать все видит, мать не слепая! – она разворачивается на удивление резво и шлепает Риту пониже спины.
Рита высовывает длинный розовый язык и застывает так – зрачки ее ползут к переносице, а кончик языка почти достигает кончика носа.
– Идиотка – испугают, так и останешься с кривой рожей, – из последних сил Селя делает строгое лицо, но не выдерживает и, мелко сотрясаясь грудью, подмигивает, – не, ну вы видели эту малахольную?
Раздается оглушительный звонок – запахивая платок, Селя перебирает короткими ножками – в двери – «мадам полковник», та самая, которая окорок, – давясь смехом, мы с Ритой подаем знаки за «полковничьей» спиной. Масла подливает умильный, сладкий, просто липкий Селин голос – еще минута, и она стечет на пол, образовав небольшую лужицу вокруг так называемой талии «мадам», у ее тупоносых туго зашнурованных бот сорок третьего, не иначе, размера.
– Ша, – сгиньте уже мне, – Селя украдкой сует нам по конфете, продолжая подпрыгивать и суетиться вокруг важной клиентки. Сопя, я натягиваю валенки, шубу, шапку.
В прихожей тесно, особенно зимой.
Обвязанная поверх шубки колючим шарфом, я жду, пока Рита затянет шнурки на ботинках – один ботинок тяжелее второго, вот, пожалуй, и все, и если не знать об этом, то можно не думать о Ритиной ноге, – по двору она носится отчаяннее любого мальчишки, и в выбивного, салки и штандера нет ей равных. «Галоши, галоши», – ворчит Селя вдогонку и захлопывает за нами дверь.
По двору мы слоняемся, утаптываем только что выпавший снег и уже почти начинаем замерзать, как вдруг обжигающая лепешка летит мне в лоб и за шиворот – пока я стаскиваю варежки, Рита несется к черному входу и оттуда корчит рожи, – дура, – кричу я, размазывая снежную кашу по лицу, но Рита делает благовоспитанное лицо девочки из приличной семьи и взлетает на третий этаж. Там тепло, и важная клиентка допивает свой чай. Она отставляет пухлый мизинец и сочувственно кивает головой – при виде нас делает «большие» глаза и умолкает.
– Ах, Тамарочка Леонидовна, – всплескивает ладошками Селя (оказывается, у «мадам полковник» есть имя), – ах, Тамарочка Леонидовна, это же невозможно что за жизнь – вертишься как белка в колесе, а какой с этого прок? – Театральным жестом Селя разводит руки в стороны, как бы приглашая гостью постичь тайну окружающего ее мироздания – мироздание довольно уютно и безалаберно в этот зимний вечер: оранжевый гриб торшера с косичками бахромы, потертый коврик на полу, стрекочущая швейная машинка. Сервант со стеклянными дверцами, за которыми угадываются стопки синих «блюдочек» и чашек, почтенное семейство белых слонов, тикающий на весь дом пузатый будильник.
Шифлодик с несметным количеством таинственных предметов – разнокалиберных пуговиц, матерчатых, костяных и даже золотых, – цветных стекляшек, булавок, наперстков. Явно захватанные руками занавески из желтого тюля, особенно с той стороны, где Рита делает уроки, – в комнате довольно душно, зато не дует – все щели предусмотрительно оклеены специальными полосками бумаги, а, придвинувшись к печке, можно погреть озябшие конечности, что мы с Ритой и делаем, прикладывая к изразцам то ладони, то пятки. Над сервантом возвышается деревянная статуэтка орла с могучими распахнутыми крыльями и невозмутимо хищным профилем.
Рита утверждает, что никакой это не орел, а ангел-хранитель. Я с ней не согласна, потому что не раз видела, как на самом деле выглядят ангелы. Чаще всего это толстые младенцы с ямочками во всех местах и едва заметными крылышками на лопатках. Ангелы напоминают кокетливых женщин. У них шаловливые пятки и томные дразнящие глаза. Но Рита утверждает, что ангелы бывают какими угодно, хоть даже орлами, хоть невидимками.
«Вот ты манную кашу в ведро выбросила, а ангелы все видят». «Во-первых, не ангелы, а Ленин», – с жаром возражаю я – повсеместное присутствие Ленина меня не пугает, а успокаивает – Ленин везде – на календарях, открытках, в актовом зале и на первом этаже школы у входа. И везде он добрый. Задумчиво вглядывается в наши лица и мечтает о счастливом будущем. Собственно, это будущее уже наступило. И мы в нем живем.
В замечательном пятиэтажном доме, в прекрасной комнате, окнами выходящей во двор, в котором голубятня, будка сапожника, деревянные качели, – если пройти сквозь арку между домами, то попадаешь прямиком к трамвайной линии, от которой два шага до магазина живой рыбы и гастронома, в котором продают ситро, томатный сок…
– Яблочный, – утверждает Рита, – яблочный гораздо лучше.
Я не люблю спорить – яблочный так яблочный, хоть я предпочитаю все же томатный, но самый вкусный – березовый. Если в дереве просверлить дырочку, оттуда потечет самый вкусный в мире сок. Но в нашем городе мало берез. В основном клены, каштаны, тополя. Целая аллея тополей через дорогу. В темноте они раскачиваются и гудят. И поют низкими мужскими голосами. Как правило, поют они «черемшину». Я не знаю, что такое черемшина.
Рита говорит, что это растение, а я думаю, что имя девушки.
– Это о любви, – задумчиво произносит Селя и смотрит в окно.
Тополя поют о любви густыми мужскими голосами, но сейчас они молчат. Зима. На нашей улице – зима. И поют только в доме. Например, Криворучки этажом ниже. Поют они чаще хором – муж, жена и многочисленная родня – бабули в цветастых платках, крепкие краснолицые «кумовья». Если отбежать от дома на приличное расстояние, то в проеме окна можно увидеть сидящих за столом людей. Головы их раскачиваются, как верхушки тополей, и поют они долго, веселое и грустное. Женский голос выкрикивает игриво: «ты ж мене пидманула», – а зычные мужские подхватывают и вторят: «ты ж мене пидвела! Ты ж мене молодого з ума-розуму звела!»
Как все счастливые семьи, Криворучки не наблюдают часов и петь могут долго, до поздней ночи. Потом они, наверное, так и засыпают за длинным покрытым праздничной скатертью столом, а, просыпаясь, опять затягивают свои «писни».
Криворучкиных «родичей» много – они суетятся, втаскивают корзины, много корзин. Пахнет от них странно. Луковой шелухой, антоновкой, жареными семечками, сухофруктами. И еще чем-то остро-кислым.
– Село, – констатирует Селя, включая радио, – что с них возьмешь?
По радио передают «театр у микрофона». Самое время забраться с ногами на диван, усадить на колени кошку…
Наконец, дверь за «мадам полковник» захлопывается, и Селя выбрасывает вслед аккуратную, вылепленную из сложенных пальцев правой руки «дулю», – в ближайшие пять минут мы узнаем о том, что мадам – сквалыга, лицемерка и всячески оттягивает уплату аванса, хотя два платья уже давно сшиты в кредит. Можно подумать, у нее нет наличных, – ну где такое слыхано, нет наличных при живом муже-полковнике, – а вот у нее, Сели, таки есть наличные – на сахар, варенье и клецки, – при слове «клецки» Селя умолкает и внимательно смотрит на нас.
– Так, – изрекает она, – хоть вы и порядочные паршивки, но борщ на третий день – самое то, марш мыть руки и за стол.
Два раза нам повторять не надо, хотя Селин борщ – это отдельная история – родители запрещают мне есть «соседскую стряпню», впрочем, ничем серьезным не обосновывая свой запрет. Они явно чего-то недоговаривают и тревожно переглядываются. Несколько позже я узнаю, что Селя страшная неряха. Нет, она золотая, но, понимаете, у нее и пахнет как-то… специфически – нет, у нас прекрасные отношения, но как жить в одной квартире с человеком, у которого всегда что-то горит и по столу свободно разгуливают кошки – кошки и коты – Туся, Анвар, Тюлька.
Везде кошачья шерсть, окурки, мокрые скрученные в жгут тряпки, кастрюли с благоуханными остатками вчерашнего, а то и позавчерашнего…
Стоя посреди всего этого бедлама, Селя по-хозяйски упирает руки в боки.
– Если кому-то сильно мешают кастрюли, так пусть этот «кто-то» их и моет. Не может интеллигентный человек (тут она не спеша, со вкусом закуривает, выудив в горе окурков приличный), не может, – повторяет она, выпуская колечко дыма, – интеллигентный, образованный человек все время держать в голове кастрюли! А кошки? – Тут Селя срывается на трагический полушепот: – Кому мешают божьи твари? Это ж чистое золото, а не кошки.
Мне лично кошки не мешают, ну разве что немного – особенно беременная Тюлька, которая к концу беременности становится пугливой и раздражительной.
– У беременных – гормональный фон, – изрекает Селя, вытирая мокрые руки о занавеску, – придумают же такое – кастрировать кота, последний мужчина в доме – и кастрировать! – это еще вопрос, кого надо кастрировать! Иди до мамы, киця моя. – Она вытягивает губы трубочкой и издает странные горловые звуки. – Анвар, Анварчик, иди, дам рыбки. – Селя гладит кота по могучей спине и отодвигает ногой Тюльку. Тюлька урчит и элегантно переставляет стройные ножки, будто на пуантах, – легко взлетает на печку и оттуда свешивает облезлый хвост.
Через месяц разразится скандал, и Селю осудят все, потому что потворствовать кошачьей любви – это одно, а топить плоды этой самой любви в нужнике – совсем другое.
– Это фашизм, самый настоящий фашизм, – скажет Гоголева из соседнего подъезда, – так только фашисты поступали и евреи, совсем живых котят, крошечных, беззащитных…
Озираясь по сторонам, Гоголева поведает еще несколько страшных историй о евреях.
– Ну хорошо, – нерешительно скажу я, – я знаю и хороших евреев, и никто из них не то что котят… Вон Генечка из восьмой, Ямпольские или Даниил Абрамыч по рисованию.
– Так то другие, – зачастит Гоголева, сглатывая слюну, – я ж не говорю за всех, кто говорит за всех. Есть евреи хорошие и есть – плохие, это тебе каждый скажет.
Поднимаясь по лестнице, я медленно соображаю, кого же можно отнести к первой, а кого – ко второй группе, и начинаю подозревать, что Гоголева, как обычно, врет или что-то путает.
Я знаю некоторых евреев – например, Генечку, безобидную старушку из восьмой, – она, вне всяких сомнений, относится к «хорошим». А куда определить ее внука, губастого Женьку Фридмана? Фридман – врун. Он врет на каждом шагу. В школе, во дворе, дома. Врет так убедительно, виртуозно, что не поверить ему невозможно. Даже если сто раз вспомнить, что он врун. Но вспоминаешь об этом уже потом. Потому что честнее Женькиных глаз…
– Врут все, – утверждает Рита, – Женька еще что.
– Да, – покраснев, соглашаюсь я, вспомнив, как убеждала всех и вся в том, что родилась в цыганском таборе, что родители мне не родные, а приемные, и меня подбросили – вот только сложно сказать, цыганский это был табор или индейское племя.
В пролете первого этажа меня останавливает Ивановна. В наброшенной на плечи телогрейке она спускается с переполненным мусорным ведром.
– У вас учора гости булы? Водку пылы? С балкона рыгалы? – Ивановна сверлит меня любопытными глазками.
Единственным оправданием шума в ее глазах может быть разве что гуляние, сопровождаемое «писнями» и неумеренным возлиянием.
– Да, гости, пили, рыгали! – с радостной готовностью кричу я в подставленное ухо – удовлетворенная старушка отпускает меня с миром, – ну не признаваться же ей в том, что мы с Риткой учились танцевать шейк, а потом в большом тазу купали Тюльку, а мыльную воду выливали, конечно же, в окно.
* * *
– Селя Марковна, – откашлявшись, скажет мама, – вы понимаете… дети, ведь дети видят и все понимают, какой пример вы… подаете… – припечатав ладонью губы, мама выскочит за дверь, потому что вид плавающих розовых хвостов и лапок… лапок и хвостов…
История с котятами забудется, конечно, до поры до времени, но всплывет в один черный день, когда Рита, опустив похожую на облако голову, сознается в страшном, почти непроизносимом, и Селя, медленно осев на пол, будет раскачиваться из стороны в сторону, размеренно вбивая себе в грудь пухлые кулачки.
Некоторая демонстрация почудится мне в ее горестном раскачивании, в судорожных всхлипах и тоненьком визге, слышном всем без исключения соседям и даже проходящим мимо нашего дома.
– Я знала, – произнесет она вдруг трезвым голосом, подозрительно спокойным для отчаявшейся матери. – Я знала, – повторит она, приоткрывая птичий, затянутый пленкой подрагивающего века глаз, – волчья порода, так испоганить мою жизнь, так испоганить, – взвоет она, подпрыгнув.
Далее последует серия звонких пощечин, упорное молчание преступницы, объятия, жаркая ругань вперемежку с обильными слезами.
– Кто он? – выдохнет Селя последнее, в ответ Рита еще ниже склонит голову, оберегая тайну своего в одночасье повзрослевшего тела.
Но это будет потом, в почти неправдоподобном будущем, до которого еще десятки и сотни дней, ночей, праздников и будней.
Например, таких, как этот.
Когда крепко держа за одну руку меня, за другую – Риту, вплывает Селя в невообразимой красоты здание с колоннами, лепным потолком и рядами кресел, обитых темно-вишневым бархатом.
– Боже ж ты мой, боже ж мой, это такая красота, – восторгается она, украдкой поглядывая на Риту в новом, буквально на днях сшитом, платье с присобранными рукавчиками и белым воротничком.
Мы входим по контрамарке, оставленной одной из Селиных клиенток. Обязательно запасаемся программкой и биноклем, чтобы потом вырывать его друг у друга из рук, всматриваясь в изможденные лица балерин и мощные торсы их партнеров.
На торсы смотреть неловко, потому что очень уж выразительно…
Рита подталкивает меня локтем и шепчет на ухо… Я опускаю глаза. С правой стороны – вздымающаяся от восторга Селина грудь, слева – сверкающий Ритин глаз, впереди, на сцене – порхающий в обтягивающих бедра рейтузах… почти голый…
Я сдерживаюсь из последних сил, пытаясь не смотреть ни вправо, ни влево, ни…
Плотно стискиваю губы, закрываю лицо руками. В какой-то момент тешу себя надеждой, что ничего в этом смешного нет, но ловлю на себе Ритин взгляд, и вот тут-то…
На сцену выпархивает полуобнаженная дева в блестящих шароварах и, сладострастно извиваясь, она исполняет нечто зажигательное, шаг за шагом сокращая расстояние между собой и порхающим по сцене мощным торсом.
Сидящие впереди сердито оборачиваются, сзади шипят.
С грохотом откидываются сиденья кресел. Тяжело дыша, Селя выволакивает нас в фойе.
Даже там, уклоняясь от подзатыльников, мы продолжаем корчиться и стонать.
– Чтоб я еще когда-нибудь, – пылая щеками, шеей и грудью, Селя втискивает обе руки в рукава шубы, крохотная вышитая бисером черная сумочка плотно прижата к груди – Селя как огня боится уличных хулиганов – в этой стране – разве можно ходить спокойно по этим бандитским улицам приличной женщине, – у входа в ближайший гастроном она задумчиво роется в сумочке и шевелит губами: – Ну шо, убийцы, шо вы скажете за два маленьких пирожных – допустим, с заварным крэмом?
У Риты одна нога чуть короче другой. На мой взгляд, ничего ужасного в этом нет. Ну короче и короче, подумаешь. Зато у Риты растрепанная шапка пепельных волос, напоминающих облако. Волосы у Риты не падают вниз, а растут вверх и в стороны. И вдобавок вьются мелким бесом. Оттого всякие банты, косички и невидимки – вещь совершенно излишняя на Ритиной голове. Наверное, ей и причесываться по утрам бессмысленно. Из-за торчащих волос и прихрамывающей походки Риту можно узнать издалека.
Вон несется она из гастронома через дорогу – несется, размахивая авоськой, в которой серый ржаной, и полбатона, и двести грамм докторской.
Мужчины у пивного ларька умолкают.
Еще вчера Рита была малоинтересной пацанкой в растянутой майке, с чернильными пятнами на ладонях и шее.
Сейчас же ее шея стремительно вырывается из воротничка, и так же стремительно вырываются ноги из-под подола слишком короткого школьного платья. Учебный год подходит к концу, и девочки донашивают купленное «на вырост» в прошлом году, в конце августа.
Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, март, апрель…
За несколько месяцев учебы в плохо проветриваемых классах так много важного происходит.
* * *
«Пацанка» становится «неисправимой босячкой» – напрасно Селя призывает свидетелей и богов – Рита неуправляема.
В сумерки ее можно видеть раскачивающейся на детских качелях. Упираясь ногами, она приседает, и качели взмывают вверх. Шальная улыбка и взметнувшийся подол короткого платья.
– Будет кому-то головная боль, – посмеивается Сима из будки на углу. У Симы глаза будто вакса, а волосы похожи на щетку с самой жесткой щетиной. Многие думают, что Сима – цыган – смуглый, поджарый, только серьги в ухе не хватает. Сима так черен, что им можно пугать маленьких детей. Но найдите хоть одного ребенка, который испугается и заплачет при виде Симиных глаз.
Сима знает жизнь, целыми днями наблюдает он ее из окошка своей мастерской и видит разных женщин – старых, молодых, юных.
Он видит их ступни – узкие, непорочно гладкие, точно морские камешки, – тяжелые, неповоротливые, шершавые, как пемза, лодыжки – стройные и отекающие, подъем – чем круче, тем сладостней, округлые колени, мощные икры – часами он мнет в пальцах набойки и, не вынимая полдюжины гвоздей изо рта, сыплет анекдотами – женщины любят, когда смешно, – они любят, когда смешно и красиво, – уж будьте уверены, Сима умеет делать красиво, и Сима понимает в красоте.
– Зай гезунд, Селя Марковна, зай гезунд – ваша девочка – тот еще бриллиант, – произносит он и поднимает вверх жесткий палец.
Кто, скажите, уже не первый год шьет на заказ сапожки – один чуть тяжелее, другой – легче, – кому, если не ему, как свои пять пальцев знать чудесные Ритины ножки, каждый сладкий пальчик и каждую косточку.
Опираясь на костыль, Сима не отрывает взгляда от качелей – они взлетают все выше – над гаражами и сапожной будкой, в звонкой тишине июльского вечера.
Сима хорошо знает женщин. Он знает, когда они упрямо молчат, когда заливаются румянцем и вызывающе смотрят в глаза. Даже если им только тринадцать, и груди у них маленькие и твердые, будто зеленые яблочки.
После семи он запирает будку, возится с замком, но не спешит. Дома все равно никто не ждет, а девочка стоит рядом, кусая губы.
– Иди домой, к маме, уроки учить, – повторяет он, не сводя с нее глаз.
– Какие уроки, Сима, когда лето, какие уроки, – будто бы говорит Рита, хотя на самом деле молчит. Молчит и глаз не отводит, бесстыжая.
– Зайди, босоножки починю, – спохватывается он.
– Как же, уже зашла, – качает головой Рита и будто бы делает шаг назад, а потом – вперед. Вперед-назад, вперед-назад.
– Иди уже домой, Рита, – почти умоляет Сима, продолжая возиться с замком, пытаясь то ли закрыть, то ли открыть его снова.
* * *
За стеной низкий грудной голос плачет о чем-то невыразимом – я различаю слова на чужом языке, – бесаме, бесамемучо, – голос рвется и плачет, – тропические птицы щелкают клювами и сверкают радужным оперением.
Там, на дне этого голоса, – солнце, море и что-то еще. Может быть, большой сочный фрукт, похожий на грушу бере, истекающую приторно-сладким соком.
Краешек лета – осталось совсем чуть-чуть – оранжево-синий лоскуток августа, с отгорающими садами, с примеркой прошлогодней формы.
Селя всплескивает руками и пытается натянуть подол платья на исцарапанные Ритины коленки. Рита задумчиво накручивает на палец выгоревшую прядь и ужасается, увидев в зеркале серьезную растрепанную девочку в хлопчатобумажной майке, длиннорукую и чем-то взволнованную, – собираясь во двор, она плотно стягивает ребра обрывком ткани и, когда мяч с разбегу летит ей в грудь, уже не прикрывается пугливо ладонями.
Глиняный человек или человек-гора.
С каждым днем образ его обрастает новыми подробностями. В последний раз его видели у окон женской бани недалеко от Воробьиной горы, а до того – в женском туалете школы.
Жирная Глебова, выдыхая острый котлетный дух, припечатывает меня ладонями к стене:
– Он такой.
– Какой? – спрашиваю я.
– Ужасный, ужасный. – Пухлые щеки Глебовой трясутся. – Большой! – Придвинув лоснящиеся губы к моему уху, она произносит стыдное слово – начертанное на заборе, оно кажется вполне невинным, но проговаривать его страшновато, и Глебова, будто испугавшись собственной смелости, замолкает, помаргивая щелочками карих глаз.
Малоподвижная фигура с шеей, будто скованной панцирной сеткой, мелькает за газетным киоском и у ворот школы – он, – вздрагивает мое сердце, – человек-гора провожает взглядом щебечущую стайку школьниц и тут же растворяется меж серыми домами – прогулки во дворе и походы за хлебом превращаются в тоскливое ожидание встречи с ним, – возвращаясь домой, я стараюсь побыстрей прошмыгнуть в глубь подъезда и там, не дыша, липкими пальцами ощупываю дно портфеля в поисках провалившегося за подкладку ключа.
В тот день все совпало – странная тяжесть внизу живота, ощущение вины и страх разоблачения.
Человек-гора сидел так близко, что отступать было поздно.
Он сидел молча, обхватив руками колени, и смотрел на меня.
Он смотрел неподвижными глазами, в которых застыло выражение бесконечной муки и пустоты – это было похоже на колодец с мутной тяжелой водой. Издав горлом странный звук, я попробовала сдвинуться с места, но ноги не повиновались мне – все пропало, все пропало…
В то лето наблюдалось невиданное доселе нашествие красных червей. Черви были везде – они лопались и шуршали под ногами, скатывались за шиворот, срывались с деревьев целыми гроздьями.
Червивая дорожка устилала двор, доводя до форменной истерики впечатлительных. Предвещали близкий конец света. Предчувствие конца света приятно согревало и будоражило.
Кого в преддверии катастрофы волнует нерешенная задача по алгебре или неверный морфологический разбор? Кому нужны свежие воротнички и манжеты? Политинформация? Испещренный тройками дневник?
– Дети, – стряхивая пепел в горшок с бегонией, Селя скорбно вглядывалась в наши более чем беспечные лица – будто прощалась навсегда, – мы что, мы уже свое пожили – детей жалко…
В ожидании неминуемого конца люди становятся добрей друг к другу.
– Как вы себя чувствуете, Селя Марковна? – участливо допытывается Гоголева-старшая.
Вдруг ей срочно понадобилось узнать, как чувствует себя соседка.
– Ой, и не говорите, Людмилочка, – Селя горестно машет рукой и из последних сил изображает безысходность, – с утра изжога, просто сил никаких, колени ломит и сердце как кость в горле – ни туда ни сюда.
Гоголева более чем удовлетворенно кивает.
– А вы слышали?
– Вы за конец света? – к беседе присоединяется глухая Геня, она прикладывает ладони к ушам, брови ее горестно ползут вверх.
Селя и Гоголева перекрикивают друг дружку, призывая в свидетели Генечку.
Оказывается, у каждой из них свой способ противостояния надвигающейся катастрофе. Соседка Ивановны – безбровая и бесшумная женщина невнятного возраста, которую все называют Анечкой, – отстаивает кипяченую воду. Безразмерные баки и кастрюли громоздятся в прихожей, на кухне, в кладовке. У всех конец света, паника, а у Анечки – порядок, тишина, красота. Сидит себе на табурете, кипяченую водичку попивает.
У старичка-библиофила с пятого – мешки с крупами и консервы. Неприкосновенный запас – хитро посмеивается он одним глазом. Второй у старичка всегда закрыт. Отчего-то он кажется каким-то беззащитным, этот второй глаз. Я стараюсь не смотреть на него. Но открытый глаз – как раз очень бойкий. Задыхаясь, старичок втаскивает на свой пятый стопки книг. Как он там помещается в своей однокомнатной квартире между книжными стопками и мешками с крупой, вообразить сложно.
По лестнице поднимается инженер Петровский. После безуспешных попыток избежать цепкого захвата Петровский вежливо выслушивает обвал новостей. Он покашливает, теребит аккуратную бородку и всячески изображает случайность своего участия в собрании жильцов.
Петровский – интересный мужчина. Этот факт довольно часто упоминает Селя, вздыхая и ежась, словно от щекотки. Петровский – интересный мужчина в годах. Интересный, а главное, перспективный.
Как бы там ни было, при появлении перспективного мужчины поведение мамаши Гоголевой и Сели меняется на глазах. Гоголева расправляет плечи, взбивает жидкие локоны и почти угрожающе выставляет массивное белое колено. Селя незаметно оттесняет Гоголеву и тщательно подбирает слова, стараясь произносить их мягче и интеллигентней. Глаза ее прямо-таки светятся и излучают – буквально на глазах она теряет лет двадцать, не меньше.
Пока собравшиеся обсуждают невеселые перспективы, мы с Ритой уносимся в парк.
Конец света все-таки еще не сию минуту. А сегодня есть дела поважней.
Эпицентр событий сосредоточился между четвертой средней школой, парком культуры и отдыха с задумчивой статуей пионерки и танцплощадкой, куда мы проникаем, минуя строгие ряды дружинников с красными повязками.
– Милый Карлсон, веселый Карлсон, большой чудак, – ударяет по струнам флегматичного вида юноша со свисающими вдоль впалых щек бесцветными прядями.
После «карлсона» следует «как виденье неууумолиимо, каждый день ты прохоооодишь мимо – и я повторяю вновь и вновь… не умирааай, любовь… не умирай…»
Гвоздь программы – «генералы песчаных карьеров».
Под «генералов» вершится сокровенное. Кавалеры приглашают дам. Дамы приглашают кавалеров. Если под «карлсона» можно прыгать и дурачиться, вскидывая руки и ноги кверху, то с «генералами» все обстоит иначе.
Кульминационным моментом считается медленный танец. По-настоящему, по-взрослому медленный. Медленный танец кажется бесконечным прощанием перед… неизбежным?
Тайным и стыдным, щемящим и долгожданным. Танцующие едва переступают ногами, приникают друг к другу почти в изнеможении, обвивая руками плечи и бедра, а некоторые еще и укладывают голову партнеру на грудь.
Малышня с замиранием ожидает выхода Кобылы.
Кобылой называют самую высокую девушку с кривоватыми тощими ногами и огромной подпрыгивающей грудью. Она танцует, стоя на одном месте, покачиваясь из стороны в сторону, подтягиваясь с носка на пятку и разражаясь особенным, волнующим, волнообразным движением, отчего грудь ее колышется точно фруктовое желе, – к слову сказать, многие пытались повторить ее подвиг, но не у всех получалось.
Сегодня Кобылу «танцует» Чебурашка. Верзила с рябым лицом и оттопыренными ушами. Чебурашку боятся и уважают. Через какой-нибудь год ему дадут срок за ограбление магазина канцелярских принадлежностей.
Кобыла и Чебурашка раскачиваются в центре танцплощадки с демонстративно равнодушными лицами. Нам с Ритой Кобыла кажется довольно старой. Наверное, ей целых двадцать, а может, все двадцать два.
К двадцати годам девушка в нашем городе должна была обладать статусом невесты, а к двадцати двум нянчить как минимум первенца.
Не достигшие этой планки считались лежалым товаром и особого уважения не вызывали. Вот и Кобыла. Она была довольно старой, к тому же определенно ничьей, и все-таки нечто бесконечно влекущее было в этой ее долговязой фигуре и манере танцевать, не двигаясь с места. С козьим равнодушием на бесцветном лице, с огромными накладными ресницами на фиолетовых веках.
Кобыла была старой и вызывала смешанное чувство жалости и восхищения.
Однако с уходом ее танцплощадка будто бы замирала, пустела – дальнейшее теряло всякий смысл, – и даже поданный «на закуску» «карлсон» мало кого вдохновлял.
Лишь некоторые дожидались официального завершения «танцев» – допустим, такие как я, давно и безответно влюбленные в таких, как бледный гитарист с жидкими прядями вдоль скул. У гитариста было имя, абсолютно тривиальное – Вася или Коля, – но мне оно казалось волшебным – таким же, как и длинные худые пальцы, брюки-клеш ослепительно канареечного цвета и рыжие тупоносые ботинки на танкетке.
На танцы я бегала исключительно «по делу». Обожать издалека, с каждым днем становясь все ближе и ближе к объекту любви, – ах, иногда мне казалось, что я так же загадочна и прекрасна, как Кобыла, – особенно когда на площадке почти никого не оставалось и мне удавалось исполнить сольную партию перед сценой. После очередного номера я бросала пламенный взгляд на светящуюся в темноте фигуру гитариста, но он по-прежнему смотрел куда-то мимо меня, мимо танцующих, стоящих, прикуривающих, смеющихся…
– Напрасно ты так машешь руками, – ухмыльнется Рита, – занят твой гитарист, занят, возможно, даже почти женат…
Женат. Какое странное слово, уничтожающее самый смысл обожания. Чарующую неизвестность. Женат. Закреплен навеки. Наверное, по взаимной и страстной любви. Потому и смотрит вдаль, не отвлекаясь…
Мне трудно было представить его женатым. Идущим, например, с авоськами из гастронома. Сидящим за тарелкой «горячего» на тесной кухоньке, между тестем и тещей. Укачивающим младенца. Стирающим пеленки.
Ведь от любви родятся дети. От любви бывают скандалы – допустим, как у соседей сверху. Когда посреди ночи раздаются топот, крики, глухие удары.
А утром парикмахерша Валечка выходит из подъезда и гордо несет себя по улице, свои прекрасные ноги в капроновых чулках, свое курносое личико в тщательно припудренных уже желтеющих синяках.
Селя считает, что Валечка – форменная шлюха. Дождется, когда-нибудь ей таки свернут шею. Как глупой курице. Если она думает, что это юбка. Это уже не юбка, а позор. Из-под нее же все видно.
Любовь… Любовь.
Она – смысл всего. Без нее плохо. С ней – прекрасно, мучительно.
Из-за нее не отходит от зеркала подслеповатая Файка из сорок первой, в сотый раз укладывая волосы «корзинкой», «домиком», «улиткой», «пирожком», взбивает пегие кудряшки и долго утюжит единственную приличную юбку, поглядывая в окно с задумчивой полуулыбкой, весьма осторожной, впрочем, потому что с прошлой недели Фая «делает зубы».
– Вот сделаю зубы, – повторяет она мечтательно и прикрывает ладонью рот.
На бельевой веревке раскачиваются два бюстгальтера – один – на каждый день, другой, кружевной, немецкий, – «на выход». «Выхода» давно нет и не предвидится, но бюстгальтер висит и напоминает о том сладостном, от которого екает и замирает внутри.
– Ах, Селечка, вы же знаете, я умираю без любви, – плачет Фая, уронив голову на скрещенные руки, покрытые веснушками. По столу разбросаны карты – короли, и дамы, и одинокий валет с кокетливыми усиками.
– Ну-ка, ну-ка, раскинем еще разочек, – Селя сосредоточенно тасует колоду и хищно заносит над картой ладонь, – вы что-то скрываете, Фаечка, – восклицает она обрадованно, – я все вижу! Карты не врут…
Карты не врут, и сама возможность любви, маленькая, призрачная надежда на эту самую возможность, таится в захватанных желтоватых уголках, в лукавых бубновых семерках и лаконичных пиковых тузах.
Любовь.
Это ради нее бегают к инженеру Петровскому две немолодые и не очень красивые женщины. Бегают, никогда не пересекаясь, возможно, даже не подозревая о существовании друг друга. Торопливо взбегают по ступенькам на пятый этаж, вторая дверь налево, и выходят через пару часов – почти не глядя под ноги, плывут по лестнице со светящимися лицами, будто окутанные едва заметным облачком…
Мужчины. Когда-нибудь один из них возьмет меня за руку и скажет. Нет, возьмет за руку и молча притянет…
Каким он будет? Высоким? Худым? Похожим на женатого гитариста? Или на инженера Петровского? А может быть, на аспиранта-кубинца по имени Жан-Поль-Мария, который, сверкая белками глаз, пьет чай за нашим столом? И произносит слова с таким мягким, тягучим акцентом. А пахнет от него чем-то непередаваемо вкусным и экзотическим…
Его африканская шевелюра и мое жгучее любопытство. Волшебные птицы щелкают клювами, совсем как в одной сказке. В сказке живут дэвы, огромные, неповоротливые, прожорливые существа. Красный, белый и черный. Ломая ветви, продираются они сквозь непроходимые заросли на запах нежной пери. Похожие на глиняные горы с крошечными отверстиями незрячих глаз и бездонным кратером рта. Мне жаль их. Я догадываюсь о том, что юные пери не достанутся им, а отважные юноши будут стремительны и безжалостны. От дэвов пахнет пловом, жареным мясом и одиночеством. Объятые тоской, задыхаясь от обжорства, мечутся они по своим замкам, ударяясь о стены глиняными головами.
Рита смеется. Когда любишь, совсем неважно, худой он или толстый, женатый или…
Он может быть каким угодно. Даже чернокожим лысым инженером.
Рита смеется, но как-то невесело. Она поглядывает на меня с некоторым снисхождением и едва заметной грустью, как будто из какого-то далека, куда мне нет доступа.
Из загадочного далека, которое не так уж прекрасно…
В больницу Рита идет в понедельник, как договорено.
– Рува – гинеколог от Бога, чтоб я так жила, как он делает аборты, у него не руки, а чистое золото. – Селя щелкает застежкой портмоне. Разит от нее какими-то очень стойкими, сладкими, тошнотворными духами.
Как назло, льет холодный осенний дождь, и фигурки, семенящие в сторону автобусной остановки, кажутся такими жалкими и смешными.
Молчаливая вопреки обыкновению Селя и понурая Рита, прихрамывающая более обычного, похожая на взъерошенную птицу.
Все началось с жаркого. Прекрасного фирменного жаркого с черносливом, над которым распаренная Селя ворковала полдня. По дому витал особый кисло-сладкий дух, а Рита то и дело жадно припадала к открытому окну.
– Закрой форточку, всю квартиру застудишь, и иди уже за стол, – ничто не предвещало надвигающегося кошмара, но, когда ложка жаркого шмякнулась в Ритину тарелку…
Держась за сердце, медленно опустилась Селя на стул. Не успела бледная как моль Рита выйти из уборной, как все тайное стало явным.
Любовь.
Это из-за нее идет она по бесконечному коридору. Обернутая в мешковатый халат с нелепыми завязочками сзади. Это из-за нее ноги ее не попадают в тапки, а губы прыгают, не в силах вымолвить слово.
В конце коридора змеится очередь, состоящая из женщин в таких же халатах, в домашних тапочках, с задниками и без, разношенными и совсем новыми, купленными «по случаю». По такому вот случаю.
Женщины бледны, серьезны, неприбраны. Пахнет «уколами», хлоркой и тушеной капустой.
– Не дрейфить, девочки, на обед – гречка с мясом и тушеной…
Обхватив живот, Рита несется в уборную. Она долго мычит над умывальником, а потом с удивлением вглядывается в свое отражение.
За спиной вырастает монументальный силуэт беременной. Беременная с отечным лицом участливо гладит Риту по плечу:
– У тебя какой месяц? – и добавляет с гордостью: – Моим девятый пошел, вот, на сохранение положили. Сказали – лежать, я и лежу, витамины кушаю.
Беременная похожа на комбинат по переработке витаминов. Лицо у нее торжественное и озабоченное, все в коричневых пятнах – вздернутый нос, щеки, лоб и подбородок.
Через час две санитарки «возвращают» Риту в палату и укладывают в постель. Сквозь туман едва различимы голоса и лица – совсем девчонка, бедняжка, доигралась, совсем стыд потеряли, куда только школа смотрит, – гречка, капуста, капуста, дети, – ее бьет дрожь, такая дрожь, от которой подпрыгивают стоящие колом больничные одеяла, – да накройте же ей ноги – накройте ноги, – кто-то склоняется над ней и вливает в пересохшие губы каплю воды. Еще каплю.
Любовь. Точно капля воды в пустыне.
Почему так мало капель? Почему так мало любви? Разве выдают ее порциями, как гречку, заботясь о том, чтобы досталось каждому? Почему так мало любви? Почему выпрашивают ее как подаяние, вынашивают бессонными ночами – стоят в очереди, все эти некрасивые женщины, счастливые несчастные…
– Ой, девки, ебацца хочу, – вздыхает сидящая в дальнем углу пухленькая Аллочка. Она с явным удовольствием уплетает капусту, – я, как своего в окне увижу, прям не могу, жду не дождусь выходных. – Аллочка похожа на перезревшую грушу, с маленькой гладкой головкой, облитой лаком черных волос, и массивным «низом», – отправляя в рот кусочек мяса, соленый огурчик, печенье, конфету, пирожок, она сияет и лоснится, причмокивая губами от удовольствия, – сидящая по-турецки тощая девушка в толстых шерстяных гетрах с готовностью поддерживает тему.
Рита с негодованием отворачивается к стене, потому что ее любовь не такая, она особенная, удивительная, совсем непохожая…
Напротив лежит женщина с длинной рыжей косой. Лица ее не видно, но по изогнутой шее и обнаженному плечу ясно, что женщина эта прекрасна. Она неуместна здесь, среди обыкновенных теток в неуклюжих одежках.
– Ой, девки, наш-то, Рувим Яковлевич, – ну просто мама родная, он как руку на живот положит, хоть плачь. Рука как лопата, а нежная… Умеют они с нашим братом. Я б у него только и рожала, одного за другим. Как там наш маленький, говорит, и руку на живот – будто благословление…
– Дура ты, Алка, дура, – в беседу вмешивается немолодая женщина в цветастом халате, лет тридцати пяти или сорока, – нужен ему твой живот, он этих животов по сто штук на день…
Рита закрывает глаза. Все эти люди, все эти женщины – они будто из другого мира, куда она, Рита, попала по странному стечению обстоятельств, по недоразумению.
– Мама, – кричит она, – мамочка, я больше не буду, – то есть ей кажется, что кричит, а на самом деле стонет едва слышно под одеялом.
– Вот и я говорила, не буду, – подхватывает кто-то, – чтобы я еще раз, да подавись он со своей любовью, ему, видите ли, приятно, а я, значит, отдувайся, ходи надутая, как футбольный мяч.
– А потом еще обстирывай его, обхаживай, да мамаше его угождай, и так не скажи, и этак не повернись.
А потом к рыжей приходит кто-то – наверное, муж или совсем не муж, – пухленькая Аллочка и вторая, тощая, в гетрах, умолкают.
– Вера, – он касается ее руки, – прости, Вера.
Мужчина высокий, в белом халате поверх распахнутого бежевого плаща, такой красивый, каких не бывает в жизни, только в кино, – горбоносый, с аккуратно подбритыми бачками.
Будто струя свежего воздуха врывается оттуда, снаружи, из-за стен, выкрашенных белой масляной краской, и плотно задраенных окон.
Рыжая молчит, а коса ее свисает с кровати, тугая, медно-красная, лица не видно, только аккуратное маленькое ушко, детская шея и сползающая с плеча застиранная больничная сорочка.
– Уйди, уйди, пожалуйста, уйди, – голос кажется хриплым, сорванным, как после долгого крика.
– Прости, Вера. – Мужчина стремительно разворачивается и хлопает дверью.
Слышно, как всхлипывает рыжая и вздыхают остальные.
На минуту Рита забывает о своем горе и любуется медной косой. Если ее расплести, то каскад медных пружинок накроет женщину с головы до ног.
Все молчат, переваривая увиденное. Шаркая тапками, санитарка вносит увесистый пакет с мандаринами. Килограмма три, не меньше.
– Которая тут Вера? Велели передать. – Мандарины лежат на тумбочке, просвечивая и благоухая.
Подтягиваясь на руках, рыжая усаживается в кровати и нетерпеливо разрывает пакет. Лицо у нее бледное, худое, заплаканное, редкой какой-то тишайшей красоты. Хотя в отдельности – ничего особенного – глаза небольшие, нос длинноват, щеки впалые.
– Налетайте, девочки, – произносит она едва слышно и улыбается сквозь высыхающие слезы.
– Тебя как звать? Держи мандаринку, и на вот, вытри нос, до свадьбы все заживет, увидишь, – пухленькая Аллочка подмигивает и ерошит Ритину шевелюру.
По палате кружится дерзкий щекочущий ноздри аромат. Он предвещает скорый конец осени и первый снег.
Яна Вагнер Некрасивая Соня
Мужчина, предназначенный для Сони, – а я верю, что из всех живущих на земле есть хотя бы один человек, подходящий ей абсолютно, который будет понимать ее с полуслова, думать и чувствовать похоже, чей запах ее ноздри будут воспринимать так же естественно, как собственный, и которого она узнает мгновенно, если дать ей возможность хотя бы недолго поговорить с ним, глядя ему в глаза, – так вот, мужчина, предназначенный для нее, появится на свет в том же городе, в котором спустя два месяца, одиннадцать дней и четыре часа родится и сама Соня (и это существенно упрощает дело, ведь он мог родиться в каком-нибудь совершенно другом месте).
О том, что она – поздний ребенок, Соня догадается далеко не сразу – эта мысль не возникнет у нее, когда папа будет по вечерам забирать ее из садика (папа на пенсии, и ему проще приходить туда вовремя), неловко застегивать пуговицы на Сониной кофточке, пока она вертится и подпрыгивает, и – уже на улице – спешить за ней следом, то и дело восклицая: «Соня, не беги, скользко»; и, даже сравнивая свою маму с другими, она не почувствует разницы, потому что время благосклонно к женщинам совершенно по-разному, к тому же пятилетнему человеку все взрослые кажутся одинаково и недостижимо старыми. Конечно, у Сони не будет бабушек и дедушек, но и это не покажется ей странным – ведь бабушки и дедушки бывают далеко не у всех. Сонин детский мир будет таким же теплым и безопасным, как у остальных, – чтение перед сном, оладьи с вареньем, лото, «Спокойной ночи, малыши». О своей жизни в садике она запомнит две вещи: жесткий бумажный костюм Снегурочки со следами клея под вырезанными из фольги звездами и мальчика Диму на качелях – Соня отталкивается ногами от земли и взмывает в воздух, Дима отодвигается назад по доске, удерживая Соню вверху, смотрит на нее снизу и спрашивает: «Когда мы вырастем, ты на мне женишься?» Это хорошие воспоминания.
Открытие это обрушится на Соню гораздо позже, когда ей уже исполнится восемь, – она отчетливо помнит день, когда мама наденет ей платье – яркое желтое платье с красным поясом и пышными рукавами, которое мама сшила для Сони сама – Соню пригласили на день рождения, и ей хочется быть нарядной, перед выходом они с мамой немного еще стоят у зеркала, разглаживая оборки, и вот Соня снимает пальто в чужой прихожей, вежливо здоровается и проходит в комнату, сжимая в руках подарок, – и прямо на пороге, еще не сделав ни шага, еще до того, как ее заметили другие девочки, вдруг отчетливо понимает – ее платье ужасно, вопиюще неуместно, и сама она, Соня, смешна, как жалкий картонный цветок. Никто не говорит Соне ничего плохого, никто не смеется над ней, и она весь праздник тоже пытается сделать вид, что все в порядке, участвует в играх, улыбается, но при этом все время одергивает невыносимое свое платье мокрыми ладонями, разглядывает кривоватые строчки на подоле и чувствует две вещи. Во-первых, Соня впервые за восемь лет своей жизни чувствует себя некрасивой. Вторая вещь, которую чувствует Соня, – нестерпимая, жгучая жалость к своей маме.
Случившееся потрясет Соню с очень практической стороны – она вдруг поймет, что у нее нет союзников в борьбе с окружающим миром, а сама себе она пока еще не союзник. Соня дает себе слово уберечь маму от этого открытия и во всем разобраться самой, и с этого дня Сонина жизнь превращается в осторожное подглядывание – она наблюдает за другими и пытается научиться у них умению быть красивой. Мама очень любит Соню, но мысли ее заняты совсем другими вещами – ее беспокоит, когда Соня плохо ест или поздно ложится спать, когда она получает плохие отметки в школе, но другие Сонины беды ей не видны – вместо того чтобы взглянуть на Соню повнимательнее, они с папой читают «Новый мир», смотрят новости по телевизору или обсуждают статью маминого коллеги в научном журнале. Со временем Соня поймет, что ей не придется таскать у мамы туфли на каблуках или помаду – варикозная болезнь не позволяет Сониной маме носить каблуки, и она не красит губы. С ежемесячными кровотечениями, губительностью сочетания клетки с полоской, а также с внезапной необходимостью пользоваться дезодорантом Соня постепенно разбирается сама – и, поверьте, абсолютно каждый шаг дается ей непросто.
Детство мальчика (того самого, встреча с которым обязана навсегда изменить Сонину жизнь – не сейчас, конечно, а когда-нибудь, позже) вряд ли будет сильно отличаться от Сониного – впрочем, в стране с одинаковыми детскими садами, в которых дают один и тот же молочный суп с вермишелью, в которых одинаково пахнет столовой и мокрой кафельной плиткой, а в игровой лежат одни и те же игрушки – желтые, красные и зеленые пластмассовые кубики с мятыми углами, куклы в коротких сарафанах и белых трусах, под которыми ничего нет, первые несколько лет жизни, наверное, похожи у всех. Именно в этот момент упущена первая их с Соней возможность узнать друг друга – когда ему исполнится четыре года, его родителям придется уехать за границу работать, и он переедет жить к дедушке с бабушкой; если бы этого не произошло, они с Соней ходили бы в один и тот же детский сад.
Они с бабушкой очень любят друг друга, но у мальчика тем не менее останутся к ней две претензии – первое, чего он не сможет простить бабушке, это жуткие серые колготки со швами, которые она заставляет его надевать каждый день в садик (какое-то инстинктивное чувство подсказывает ему, что это женская одежда, которую не должен носить мужчина, и он каждое утро сопротивляется во время одевания); второе – взгляд мамы, прилетевшей в отпуск через год; на маме модный белый марлевый костюм, африканский загар, у мамы светлые волосы и блестящие камешки в ушах, она входит к нему в детскую и, прежде чем она сядет рядом с ним на корточки, крепко обнимет и понюхает его макушку, проходит несколько бесконечных секунд, в течение которых она смотрит на него. Этот мамин взгляд и – чуть позже – ее голос, доносящийся из соседней комнаты («зачем же вы его так раскормили, у него же щеки на плечах лежат»), упадут в копилку острых детских унижений – и останутся там навечно, в то время как многие более поздние, взрослые, неприятности постепенно побледнеют и покроются пылью.
Упрямое бабушкино убеждение – «если вы знаете, как лучше, так и забирайте его с собой в свою Африку» – будет стоить мальчику нескольких сложных лет (мама с папой уедут и снова оставят его, в Алжире неподходящий климат для пятилетнего) с одышкой во время игр, с криками «жир!», с необходимостью часто драться (для этого достаточно просто разбежаться и навалиться на соперника всем телом, опрокинуть на пол и дальше просто следить за тем, чтобы маленькие твердые кулаки не попали тебе в лицо, а потом тебя оттаскивает воспитательница и говорит «как не стыдно, такой большой, бьешь маленького», и сажает тебя на стульчик в центре группы, и ты сидишь, потный, с рубашкой, выбившейся из штанов, и смотришь на свои потрескавшиеся сандалии, окруженный безучастной и безжалостной детской массой). Он похудеет только к третьему классу – вырвавшись из-под бабушкиной гастрономической диктатуры, потому что родители, наконец, вернутся к нему, но всю жизнь с тех пор он будет мучительно (не признаваясь в этом никому) бояться растолстеть снова. Лишний вес, должно быть, еще настигнет его когда-нибудь, во второй половине жизни, но до этого еще далеко – сбросив ненавистную тяжесть, он начинает тянуться вверх, с каждым годом постепенно перемещаясь к началу шеренги выстроенных по росту одноклассников. Несмотря на то что с возвращением родителей он снова живет в трех кварталах от Сониного дома, его отдают в английскую школу, куда приходится ездить на трамвае, – поэтому их с Соней встреча снова откладывается на неопределенный срок. Неизвестно, столкнулись ли они хоть раз в молочном магазине, на почте или стоя с трехлитровыми банками в очереди за квасом, – если это и случилось, то они ничем не выделили друг друга среди нескольких тысяч других детей, живущих одновременно с ними в типовом микрорайоне, – к тому же для всякой встречи существует свое, особенное время, которое, вероятно, просто еще не настало.
В это время Соня, несколько лет подряд обреченная исподтишка разглядывать персиковые формы других девочек в школьной раздевалке перед физкультурой, стесняясь собственных бледных рук и ног и стараясь, чтобы время, в течение которого она стоит без платья, до момента, пока она натянет спортивную форму, длилось как можно меньше, с облегчением обнаружит наконец, что ей тоже необходим лифчик. Сонину маму очень удивит эта новость, но спора не будет – если Соня считает, что ей необходимо женское нижнее белье, оно будет куплено. Разглядывая перед сном жесткое польское кружево с крошечной нитяной бабочкой между маленьких твердых чашечек, и особенно позже, ощущая его кусачие объятия под форменным платьем, Соня внезапно чувствует себя причастившейся к тайне и решает в будущем обязательно окружить себя красивыми вещами, которые облегчат ей тяжесть осознания собственного несовершенства. К сожалению, пока это невозможно, и Соня пытается скрасить свое ожидание тем, что всякий раз, выйдя за дверь, в подъезде немного подворачивает синюю школьную юбку, чтобы было видно колени (конечно, она не уверена в красоте своих коленей, но так делают остальные девочки).
Смысл подворачивания юбки, а также первых Сониных экспериментов с карандашом для глаз, который она стащила (да, ей было очень стыдно) у приходившей в гости маминой приятельницы, становится ясен Соне в день проведения школьной дискотеки – восьмикласснице Соне наконец можно посещать их, но, попав туда, она чувствует себя так, словно на ней снова надето злополучное желтое платье. Тело не слушается ее, ноги становятся деревянными, она заставляет себя двигаться под музыку, но не уверена, что выглядит непринужденно, а во время медленных танцев она всякий раз старается выйти из зала (мальчик, с которым никак не встретится Соня, в своей английской школе выбирает другую стратегию, хотя с похожей целью – чтобы избежать ужаса медленных танцев, он устраивается в радиорубку ставить музыку). В какой-то момент Соня чувствует, что больше ни минуты не в состоянии прятать свое смятение, и почти бежит к выходу из школы и решает никогда больше не заставлять себя делать вид, что ей весело (бедная Соня не знает, к сожалению, что это ее решение невыполнимо). В коридоре возле актового зала ей встретится остропахнущая прокуренная группа старшеклассников, которая задержит ее бег – и, пока Соня, не поднимая глаз, будет пытаться проскользнуть между ними, у нее появится провожатый, который выйдет с ней на улицу и доведет ее до самого дома, после чего прижмет Соню к стене лифта и неожиданно засунет свой язык ей в рот – его дыхание будет отдавать табачным дымом, и Соня замрет, охваченная одновременно отвращением и любопытством. Чувствуя, как у нее затекает шея, она терпеливо стоит, прижимаясь лопатками к исцарапанной липкой стене, и вдруг широко открывает глаза – ей слышен тихий хлопок, сопровождающий появление на свет новой, красивой Сони, которая, увы, не отменяет существование Сони некрасивой, но с этого момента никогда уже больше не исчезнет насовсем. Этот первый поцелуй, случившийся у Сони не в яблоневом саду, а среди непристойных надписей, сожженных лифтовых кнопок и аммиачных запахов, таким образом, сыграет в Сониной жизни очень важную роль, и несколько следующих лет она потратит на то, чтобы разобраться в природе этого удивительного явления.
Это может показаться странным, но первое впечатление, которое получит от любви мальчик, предназначенный для Сони (и речь сейчас идет не об одиноких развлечениях мальчика-подростка, о которых я могу только догадываться и потому не стану описывать их подробно), как и в Сонином случае, будет в значительной степени состоять из любопытства и отвращения. Девочке (да, если вам интересно, это опять не Соня), с которой нашему герою предстоит получить это впечатление, придется многое взять в свои руки – как в буквальном, так и в переносном смысле – непринужденность, которую мальчик демонстрирует в разговорах, и живость, с которой он практикуется в поцелуях, немедленно покинет его, стоит ей, не опуская глаз, на ощупь начать расстегивать ремень на его брюках. Нельзя сказать, что он не надеялся на такое развитие событий, но в момент, когда это действительно происходит, ему больше всего на свете хотелось бы убежать – однако он позволит снять с себя брюки (одна штанина снимется вместе с носком, второй носок останется на ноге) и мужественно пройдет весь путь до конца. Недлинный этот эпизод запомнится ему шумом голосов в соседней комнате, легкой тошнотой – от выпитого или от волнения, незнакомыми запахами чужого тела, острым желанием немедленно отправиться в душ и облегчением – оттого, что все позади, и оттого, что в следующий раз все будет совершенно по-другому. Чувство признательности к девочке, расстегнувшей ремень на его брюках, не помешает ему в самое ближайшее время провести еще несколько экспериментов, в результате которых он окончательно утвердится в мысли, что изучение, обольщение и завоевание женщин – пожалуй, единственная достойная цель, для достижения которой не жаль потраченного времени.
Сонин папа умрет, когда ей только исполнится двадцать. Она будет настолько увлечена своими превращениями из некрасивой Сони в красивую – за которыми пока, к сожалению, всегда следуют превращения обратные, – что едва заметит папину болезнь и мамино безнадежное смирение. Родители тоже будут заняты – папа своим умиранием, мама – попытками это умирание облегчить, и потому никто не будет мешать Соне изучать природу этих ее превращений. Ей будет уже совершенно ясно, что дорогие духи, стройные ноги, красивые платья и идеальная кожа сами по себе ничего не значат – до тех пор, пока все это не замечено кем-то другим; она поймет, что может сколько угодно смотреться в зеркало, но только чужое желание смотреть на Соню, трогать ее, расстегивать на ней пуговицы, шептать ей «такая ты красивая, Соня», только чужие взгляды и чужие руки дают ей – на время – возможность превратиться в кого-то другого. Сама же Соня все это время остается бесстрастной – она не может себе позволить тратить время на глупости, потому что слишком занята сбором доказательств и аргументов; настоящую радость она всегда чувствует после – ни одно прикосновение, ни одно обращенное к ней нежное слово не забыто Соней, все они аккуратно хранятся у нее внутри – в самые трудные моменты она достает их, вертит на языке и пробует на вкус – не все обладают одинаковой силой, а некоторые со временем выветриваются и становятся пресными, и, когда они перестают действовать, Соне приходится все начинать сначала.
К сожалению, мужчины, вне зависимости от времени, в течение которого они задерживаются рядом с Соней, не умеют наполнять ее драгоценными впечатлениями надолго – некоторые из них слишком нетерпеливы и молоды, другие – пресыщены и ленивы, среди них есть такие (и Соня предпочитает именно этих), кто способен несколькими легкими, неглубокими движениями на время выдернуть Соню из полусонной повседневности и исчезнуть прежде, чем это впечатление выветрится, оставив после себя приятное послевкусие; но есть и те, кто делает попытки задержаться подольше, изучить и понять Соню, – с такими ей приходится возиться дольше (как всякий ранимый человек, Соня болезненно осторожна с чужими чувствами и не умеет легко выходить из неловких ситуаций) – и она ускользает, лжет, не отвечает на звонки, надеясь, что они сами догадаются о том, что Соне неинтересно слушать, как прошел их день, знакомиться с друзьями, наводить уют в их доме, ей нужны от них только волшебные первые мгновения на пределе внимания, с осторожными танцами вокруг, с долгими разговорами, когда каждый взгляд, каждый поворот головы полон предвкушения и бесконечно важен. Те, кто действительно хотел бы разобраться в Соне, часто удивляются тому, что она не пытается оставить свою зубную щетку в ванной, редко остается к завтраку и уезжает среди ночи, они обижены ее поспешным бегством и не понимают, что бежит она вовсе не потому, что они быстро надоедают ей, – она просто не знает, что с ними делать дальше.
Красота лежит на Соне тончайшим слоем – она чувствует его хрупкость каждую минуту. Скорее всего, со стороны этого заметить невозможно – у Сони волосы с шелковым блеском, глубокие ореховые глаза, длинные ресницы, она безупречно одета и пахнет как ангел, но, чтобы сделать Соню снова некрасивой, достаточно просто сделать паузу в разговоре чуть длиннее или засмеяться вдруг, без причины, или начать рассматривать Соню пристально, без улыбки – и тогда она забудет о том, что она взрослая красивая женщина с шелковыми волосами, забудет обо всех мужчинах, которые любили ее, обо всех словах, которые они ей говорили, и немедленно превратится в жалкую девочку в нелепом платье, стоящую на пороге чужого дома, в котором все знают какой-то простой, очевидный секрет, о котором ей не сказали. Прежде чем кто-нибудь заметит это непременное Сонино превращение, она исчезает. Она уверена, что волшебство не может действовать долго.
Когда Сонина мама, наконец, выйдет из оцепенения, она с неудовольствием обнаружит свою двадцатипятилетнюю дочь незамужней и с не свойственной ей ранее практичностью неожиданно приступит к поиску зятя, не стараясь, как не старалась и прежде, вникнуть в истинные причины Сониного одиночества – не потому, что не любит Соню, а всего лишь потому, что для того, чтобы что-то понять про Соню, ей пришлось бы начать гораздо раньше (желательно, в тот вечер, когда Соня, вернувшись из гостей, сняла желтое платье и наотрез отказалась надевать его впредь). Было бы забавно, если бы в попытках найти Соне подходящую партию именно мама устроила ей ту самую встречу, о которой идет речь с самого начала этой истории, – можно предположить наличие общих знакомых у двух похожих семей, полжизни проживших в нескольких кварталах друг от друга, – но это было бы слишком просто и, пожалуй, даже банально. Кроме того, случись эта встреча в результате маминых усилий раньше положенного срока, от нее было бы не больше пользы, чем если бы она произошла пятнадцать лет назад в очереди за квасом, и дело здесь не в том, что он не заметил бы Соню или не увлекся бы ею – ее нельзя не заметить и нельзя не увлечься. Более того – вероятнее всего, Соня уже готова к этой встрече, и, если бы ей пообещали, что она непременно случится, несколько довольно досадных событий в ее жизни никогда бы не произошли; проблема в том, что мужчина, жизнь с которым когда-нибудь должна обернуться для Сони невероятным счастьем, к встрече с Соней еще не готов.
Дело в том, что он по-прежнему слишком молод для Сони – как был бы молод, если бы они познакомились в детском саду или на школьной дискотеке. Не хотелось бы расстраивать Соню, но ей придется потерпеть еще несколько лет – на самом деле, чем дольше она будет ждать, тем больше у нее шансов на счастье – было бы прекрасно, допустим, если бы она позволила ему жить своей жизнью еще хотя бы лет десять (с другой стороны, мы не хотим, чтобы она устала и разочаровалась, поэтому посмотрим, что можно сделать для сокращения этого срока). Конечно, для Сони было бы проще, если бы предназначенный ей мужчина просто родился на эти десять лет раньше, – но выбирать не приходится, и потому, пока Соня ждет, он занят делом, приносящим ему самое большое удовольствие, – он наблюдает, исследует и изучает женщин.
С момента, когда безымянная (для нас, не для него – он так устроен, что помнит ее имя, ее лицо и даже запах ее кожи) девочка расстегнула на нем брюки, прошло уже много времени, но ему кажется, что он едва продвинулся в своих попытках понять суть, ухватить смысл – и нельзя сказать, что самый момент расстегивания брюк и то, что происходит сразу после этого, не имеют для него большого значения, но ему интересно также и все, что предшествует этому моменту, а также – в большой степени – все, что следует за ним. Женщины интересуют его целиком – то, что происходит в их головах, отчего меняются их настроения, что вызывает у них слезы или смех, как по-разному они ведут себя во время любви или когда сердятся, его завораживает бесконечность их отличий – от него и друг от друга, их удивительная способность скрытничать в мелочах и открывать карты, когда речь идет о главном (и наоборот); он учится обращать внимание на незначительные пустяки, которые кажутся им смертельно важными, он уже знает, что нет универсального подхода, беспроигрышных тем для разговора, они – вереница замков, простых, сложных и тех, которые только кажутся простыми или сложными, к которым он с каждым разом все увереннее подбирает ключи, но всякий раз готов к тому, что ни один из его ключей не подойдет. Ему нравится наблюдать, как они лгут и убегают, и догонять их – правда, ни одна из них не стремится убегать бесконечно – обязательно наступает день, когда они останавливают свой бег, оборачиваются к нему и предлагают взглянуть на свои секреты. Этот момент всегда торжественен и неповторим для него, но он всякий раз чувствует себя мальчиком, стоящим возле красочного перекидного календаря с фотографиями – в детстве такой календарь висел на кухонной стене, с яркими, как тропические птицы, волшебными женщинами на каждой странице, и ему всегда отчаянно хотелось перевернуть страницу раньше, чем закончится месяц. Со временем он научится быть осторожным и, сколько возможно, прятать от них свое любопытство – он не любит обижать их и не хочет, чтобы они плакали из-за него, и потому ему не жаль времени на то, чтобы подготовить их к расставанию; кроме того, это позволяет ему возвращаться к ним через некоторое время, а ему важно иметь возможность узнать о них что-нибудь новое. Его усилия не напрасны – почти никто из тех, кого он оставил, не держит на него зла.
Наивно предполагать, что, пока он переворачивает свои страницы, не чувствуя еще ни усталости, ни пресыщения, в Сониной жизни ничего не происходит, – и дело не в том, что ей надоело ждать (для этого, как минимум, ей должно быть известно, что она чего-то ждет), просто ей становится ясно, что пора что-нибудь изменить. Судьба опять убережет Соню от возможности сделаться просто одной из страниц в его жизни – если бы у нее были подруги, какая-нибудь из них непременно рассказала бы ей о нем – он из тех мужчин, о которых женщины любят рассказывать, особенно после того, как все уже закончилось, – но у Сони нет подруг; другие женщины навсегда останутся для нее незнакомыми, опасными существами, рядом с которыми она мучительно чувствует свою на них непохожесть, и потому Соня выберет самого спокойного, терпеливого и безопасного из своих мужчин и выйдет замуж – и это будет даже не плод маминых стараний, скорее, к этому Сониному поступку имеет смысл относиться как к своего рода эксперименту. Не будем, однако, ставить крест на наших планах увидеть Соню счастливой – замужество никогда еще не было препятствием для настоящего счастья; тем более что Сониного мужа, вопреки его ожиданиям, в очень скором времени также нельзя будет назвать счастливчиком – зафиксированная в браке, как муха в янтаре, Соня не сможет улизнуть в тот момент, когда магия ее красоты еще действует, и ее мужу станет очевидно то, что Соня знает уже давно – она уверена, что некрасива. К несчастью для них обоих (но в полном соответствии с нашими планами), он не очень сложно устроен – и вместо того, чтобы заставить Соню передумать, он спустя всего несколько лет возьмет и поверит в это сам; впрочем, нельзя винить его – Соня очень убедительна в своей уверенности, а ему не хватает ни опыта, ни любопытства эту уверенность опровергнуть. Быть мужем некрасивой женщины и сложнее, и проще, чем мужем женщины красивой, – и он очень скоро будет неверен ей, а затем и она будет неверна ему, и оба они будут недовольны собой и друг другом.
Пожалуй, я не хочу больше мучить Соню. Невозможно столько времени наблюдать за тем, как ей одиноко, ничего не предпринимая, – в отличие от безразличного Провидения, у меня есть не только возможность, но и желание тасовать события до тех пор, пока они не сложатся нужным образом, – я могу устроить так, что мужчина, который один только и способен сделать Соню счастливой, устанет от женщин, готовых остановиться и подождать, пока он их догонит, разгадает все их загадки, найдет ответы на все свои вопросы и впервые задумается о том, что где-то должна быть такая, которую поймать невозможно, которая будет менять правила и меняться сама всякий раз, когда он ненадолго выпустит ее из поля зрения, за которой нужно будет следить, не отрываясь, чтобы не пропустить момент, когда она снова станет кем-то другим. Так же, как и Соню, его охватит предчувствие перемен, и в этот самый момент реальность вокруг них станет настолько тонкой, что можно вмешаться и подтолкнуть их друг к другу – я могу поместить Соню в маленькое уютное кафе в центре города, за столик возле окна, могу сломать его машину, когда он будет проезжать мимо, могу занять все остальные столики, оставив свободное место только рядом с Соней, могу отменить его свидание с другой женщиной – бог с ней, пусть она сломает ногу, это будет пустячный перелом, который быстро заживет и не оставит следа, я даже могу изменить погоду – по моему желанию звезды, солнце и луна приходят в движение, приливы сменяются отливами, ветер гонит по небу грозовые облака, и вот за окном льет дождь, у него мокрые волосы, он заходит в дверь и оглядывается по сторонам.
Соня сидит одна за столиком, звучит музыка, в ее ореховых глазах отражается свет электрических лампочек, они встречаются глазами, она чуть заметно улыбается, он делает шаг в ее сторону – и в этот момент с тихими хлопками Сонино будущее опять начинает меняться, и можно только надеяться на то, что оно, наконец, изменится окончательно и бесповоротно. Что с ними будет дальше, спросите вы (если, конечно, вы еще не устали следить за этой историей) – и мне нечего будет вам ответить; боюсь, я не знаю. Нам придется оставить их за этим столиком – согласитесь, мы сделали все, что могли, а дальше все зависит только от них самих.
Елена Миглазова Дожить до смерти
Пенталгин помогал на полтора-два часа. За ночь – пять таблеток. Чтобы выспаться. Зато на следующую ночь всего лишь три таблетки. Положительная динамика обнадеживала. Скорую? А как же, вызывала. Стандартный укол анальгин + димедрол и совет навестить невролога. Для выяснения причины. «Не можете? Ну, когда сможете. Давление низкое? Чайку крепкого. И вообще, если так болит голова – нужно оформлять инвалидность. В больницу вас поликлиника направит. Планово. Всего доброго».
Спасибо, дяденьки. Если помру – вам первым являться буду. Каждую ночь. Пока не спятите.
Приехала очередная, третья скорая, которая честно пыталась поставить диагноз.
«Нагните голову. Тянитесь подбородком к груди».
Мне стало трудно говорить. В глазах двоится – значит, один глаз уехал в сторону. Но в глаза никто не заглядывает.
«Похоже на менингит».
Да хоть на холеру! Дайте воды. Спасите меня кто-нибудь.
Синие халаты несут меня на носилках.
Каждый шаг отдается в голове.
Вой сирены иногда возвращает сознание в пропахший бензином салон.
В инфекционной больнице прихожу в себя от жажды – под одеялом в брюках и свитере. За окнами уже светло. День, наверное. И стоило везти меня с сиреной, чтобы перекатить на кровать?
Сквозь боль рвутся слова, но речь отсутствует. Сползаю, с трудом поднимаюсь. Держась за стенки, выхожу в коридор. Ко мне подскакивает медсестра с криком: «Вам что?! Зачем встали?!» Что орать-то? Не на футболе. Сознание на секунду пропадает, и я падаю на кафельный пол. Сверху раздаются крики: «Встаньте!!! Почему на полу?! Здесь нельзя лежать (неужели нельзя? вот не знала)! Встаньте! Нельзя на полу! Нельзя-а-а!!!»
Но сказать о том, что не могу встать, – я тоже не могу. Пытаюсь сделать то или другое – бесполезно. Визгливое крещендо сверху продолжается: «Здесь нельзя лежать! Вы что? Встаньте! Ну? Вставайте! Вставайте, вам говорят!!! Здесь нельзя!!!»
В голове стучит все больнее. Собрав все силы, встаю на четвереньки и пытаюсь добраться до кровати. Как сбитая летчица. Хорошо, что я упала недалеко. Ползу по кафелю, постовая медсестра, держа дистанцию, продвигается следом, продолжая надрываться: «На полу нельзя! Здесь нельзя! Нельзя! Ну?! Вставайте! Нельзя на полу!!!» По причине своей беспомощности я никак не могу ответить – ни объяснить, ни обругать. Да если бы и могла, поняла бы она меня?
Забираюсь на кровать. Представитель гуманной профессии умолкла, наблюдая, как я корячусь. Боль немного утихла.
Убоявшись возможного трупа, истерически настроенный медперсонал решил проконсультироваться со специалистом. На мое счастье, дежурный нейрохирург оказался опытным и после проверки рефлексов объявил: «Нет у нее никакого менингита». Ну я-то знала. Только сказать не могла. «Пункцию!»
Каталка прыгает на каждом стыке пола, в голове небольшие взрывы, сознание периодически пропадает.
«Да она бредит, осторожно». Врач слегка трясет меня за плечи. «Вас надо оперировать. Понимаете меня? Мы перевозим вас в другую больницу». Прихожу в себя и киваю (взрыв в голове). Хоть в тридевятое царство. Дайте воды.
Каталка, подпрыгивающая на стыках. Сирена скорой. Переезд в институт Склифосовского.
На очередной выбоине колеса подскакивают, взрыв в голове, отключаюсь.
Меня приводят в сознание, на время возвращается речь. Из далеких разговоров понимаю, что, если не оперировать – мне конец, а если оперировать – почти конец. То есть небольшая надежда существует. Однако мне наплевать, что со мной будут делать.
Пока везут в отделение, каталку все время крутят, чтобы пациент въезжал в двери головой вперед. Очень они тут суеверные.
– Перифокальный отек… поперечная дислокация… геморрагический… псевдотуморозное… куда ее?
– В четвертую.
– Там нет мест.
– Ну положите в коридор. Что-нибудь хотите?
– Воды.
– Может, в туалет?
– Не хочу.
– Да не здесь. Сейчас в процедурную укатим, там спокойно. Я вам судно принесу.
– Не хочу.
Медсестра приносит воду, подушку и одеяло.
– Так удобно? Может, компоту?
– Спасибо. Принесите.
– Дома знают, что вас перевезли в другую больницу?
– Нет.
Доставая мобильник:
– Говорите телефон, я сейчас позвоню.
Сосредотачиваюсь, диктую. Слышу – дозвонилась, объясняет мужу, как меня найти, успокаивает:
– Успеете, успеете. Еще не скоро. Мы рядом с ней сидим. Нормально все, не волнуйтесь, приезжайте. Для вас круглосуточный пропуск выписан.
Юный доктор Илья Вениаминович с пачкой документов пытается собрать анамнез. Только у меня трудно что-либо собрать – память и способность сосредоточиться стремительно теряют обороты. Сотрудники приносят на подпись кучу предупредительных и разрешительных документов, попутно разъясняя, что означает та или иная бумажка. Спасибо, добрые люди, но я ничего не понимаю. Если вам хочется осознанных подписей – дождитесь родственников.
А вот и моя семья. Юный доктор, собрав остатки необходимой информации, уходит в реанимацию, строго наказав родственникам периодически хватать меня за руки, проверяя – жива еще аль нет. А то все может случиться.
Поскольку мне провели симптоматическую терапию (не слишком, впрочем, успешную), состояние немного улучшилось – отправляю несколько смс подругам и прощаюсь. На недельку. Ну не навечно же мне прощаться. Замечаю время – 00: 55. Однако… уже ночь?
Рад бы в рай, да реаниматоры не пускают
В пять утра в операционной – нейрохирург, ассистент Илья Вениаминович, анестезиолог и операционная сестра.
Нейрохирург Сергей Алексеевич, увидев, что я в сознании, приступает с расспросами:
– Ваше имя? Сколько вам лет? Работаете? Кем? Понятно. С вами был ваш муж? А молодые люди – ваши дети? Как настроение, нервничаете? Ну, раз шутите, значит, не очень волнуетесь.
Расспрашивает он для того, чтобы после операции, задав приблизительно те же вопросы, понять – насколько сохранилась моя личность и память.
Честно говоря, я не нервничала и ничего не боялась. Меня настолько извела постоянная боль, что этой операции я ждала как избавления. «Выживу ли? Вероятность небольшая. Ну – будет так, как оно будет. Мне безразлично». Попытка – не пытка, как говорил товарищ Берия.
Cogito ergo sum
Через шесть часов сознание возвращается. Я жива и, кажется, в своем уме. Осматривать окрестности трудно – видит только один глаз. На голове повязка, в горле – трубка дыхательного аппарата. Воздух подается увлажненный, но все это действо – сплошной дискомфорт. Я сама в состоянии дышать! И сейчас эту вашу трубку выдеру!
Упс! Правая рука привязана. Ну ничего, есть левая… Только она тоже привязана. Выходит, ни жестами, ни звуками общаться не могу.
Немного поразмыслив, я начала дышать «навстречу» аппарату – когда он загонял воздух мне в легкие, выдыхала. Ну и, соответственно, наоборот. Врачи моментально уловили изменение звука. Трубка удалена, дают кислород.
– Посидите еще, подышите. Скоро на МРТ поедем, посмотрим, как у вас дела.
После наркоза у меня красочные галлюцинации. Окружающие стены, аппараты, люди цветные, перисто-меховые. Фееричные, одним словом. Ну, пока поразглядываю… феерию цвета. Видения накладываются на действительность – бригада реальных врачей сидит внутри кислотной обстановки и обсуждает съемку фильма. Перисто-радужное окружение кажется настолько истинным, что поначалу я решаю, что это декорации. Только потом до меня доходит, что шоу красок существует отдельно – в моем искаженном сознании, а съемки отдельно – в реальности. Оказывается, операции в Склифе снимаются видеокамерой и демонстрируются студентам.
Подходит Сергей Алексеевич:
– Вы меня узнаете?
– А как же… доктор (на тот момент я забыла, как его зовут).
– Как вас зовут? Кем работаете? А что это за работа? А две девушки были с вами – они кто? Дочери? Так. Сожмите мне руки. Хорошо. Вас что-то беспокоит? Где-нибудь болит?
– Очень тугой бинт, ослабьте, пожалуйста.
– Ну, потерпите, Лена. Так надо. – С. А. лезет пальцем под повязку: – Не такая уж и тугая. Потерпите, ладно? У хирургов такие руки, знаете… Вот так бинтуем. Крепко.
Зажатые повязкой уши болят, но я терплю.
Сестра:
– Что вы лезете руками в глаз!
– Я им не вижу. Он на месте?
– На месте, не беспокойтесь. Это просто отек. Вам что-нибудь нужно?
– Воды хочется и еще одно одеяло. Я спать хочу.
– Спать пока нельзя. Потерпите.
Сестра приносит воду и одеяло. Я разглядываю цветные декорации еще часа два, изредка задремывая.
Отвезли на МРТ, привезли с МРТ. Результаты хирургов удовлетворили, но спать все равно не дают.
– Вы меня слышите? Откройте глаза!
Наконец-то доктор убедился, что я не собираюсь умирать. Меня отвозят в реанимационное отделение и оставляют в покое.
– Вам что-нибудь нужно?
– Еще одно одеяло и воды.
Санитарка приносит третье одеяло. Она знает, что после наркоза больных знобит. Вода тепловатая, в банке трубочка от капельницы. Трубочку выкидываю – это ж для парализованных, а у меня мимо рта ничего не протечет.
Теперь можно и поспать. Вот только получится ли… В реанимации никогда не бывает темно – на ночь там немного приглушают свет. Со всех сторон пикают датчики пульса больных, справа работают дыхательные аппараты, слева шумит вентиляция, под потолком бегает приборчик давления. Звуки сливаются в равномерный гул, при желании можно услышать ритм и даже мелодию.
Заняться в отделении нечем. Можно только лежать, поворачиваться с боку на бок, осторожно поднимать ноги, размахивать руками, разглядывать ногти. Аудиокниги слушать нельзя, читать нельзя, личные вещи нельзя. Мобильники запрещены. Разговаривать с соседями тоже нельзя – слишком далеко друг от друга расположены кровати. Что можно? Питьевую воду и влажные салфетки.
Безделье и любопытство пробуждают исследовательский зуд. Место операции забинтовано. Но не загипсовано ведь. Поэтому я (через слой бинтов, не волнуйтеся, граждане) обследую область операции и обнаруживаю, что со времен доктора Булгакова технология проведения КТ не очень изменилась: «…Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и высверливать в черепе Шарика маленькие дырочки… потом пилой невиданного фасона, сунув ее хвост в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся».
Наконец, я оставляю обследование собственного черепа и пытаюсь заснуть.
Операционное обезболивание постепенно прекращает свое действие. Отделенческие анальгетики на меня не действуют, равно как и димедрол. Боль вступает в силу.
Постепенно начинает болеть всё. Не просто всё, а ВСЁ. Даже межзубные промежутки совершенно здоровых зубов. Терпеть можно. Люди и не такое терпели, чем я лучше. Отвлечься тоже можно. На галлюцинации. Теперь они не только зрительные, появляются и осязательные, чувственные. Меня всю ночь ждут существа – то разноцветные, то совершенно черные, как из американского фильма «Привидение». Но все они – безликие. Если я закрываю глаза – остается абсолютно реальное ощущение, что они ждут. Вон на том месте. А теперь у монитора кто-то стоит. А сейчас у соседней кровати. Я чувствую их ожидание. Открываю глаза – нет никого. Опять наплывают сбоку. Останавливаются. Ждут. То цветные, то черные. Некто явно облокачивается на ноги. Медленно поворачиваю голову – пусто. И так всю ночь. Как внутри фантастического романа. Больно. Жутко. Под утро я подумала: «Господи Боже, Ты висел на кресте, Ты страшно мучился. Но Ты же умер после обеда. Вообще-то довольно скоро.
Ты – мужчина, а я – слабая женщина. Прости, но сколько еще терпеть?»
Тяжело в лечении – легко в гробу!
Просыпается отделение, забегали санитарки с тряпками. Плохие запахи, несвежее белье, немытые пациенты в отделении – это ЧП, подобное не допускается. За такое попадет не только санитарам. Вот и процедурная сестра Лена:
– Доброе утро. Ну как вы?
– Здравствуй, Лен. Позови врача. Плохо мне.
Опять каталка, стучащее МРТ, снотворное, операционная. Прихожу в себя от традиционной фразы моего спасителя Сергейалексеича: «Лена, вы меня узнаете?»
Постнаркозных видений на этот раз нет, только слабость и спать, конечно, хочется. Процедурная Лена достает амбарную книгу и начинает документировать операцию – записывать время, наименование, фамилии и прочие важные вещи.
Доктор сидит рядом на стуле, согнувшись и уронив руки на колени, и такая усталость в его позе… предельная. Нет, скорее – запредельная. Ведь он уже вторые сутки оперирует. «Сфотографировать бы его вот так. И фото назвать „Усталость“», – думаю я сквозь дрему.
Мне снится удивительно красивый сон. Необыкновенно красивый. За всю свою жизнь я ничего лучше не видела. Фантастические краски, фактуры, лица, цветы, нереально прекрасные звуки… В этом сне я побывала внутри французских комиксов и голливудских мультфильмов. Китайские шелковые вышивки. Японские гравюры. Изумрудный город, Карик и Валя, «Тайны природы» телеканала «Дискавери». «Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим». Гендель, Глюк, Перголези. Пятый концерт Баха. Ария Снегурочки: «…Прощайте, все подруженьки, прощай, жених мой милый…» Таривердиев и Рыбников. «Пинк Флойда» не показали, но все равно – это было так прекрасно… и так недолго!
«Этот сон тебе Господь послал», – сказал мне потом искренне верующий друг. Я верю. Уж очень тот сон был прекрасен.
Потихоньку выплываю из прекрасного мира, в который меня пустили на короткое время волшебного сновидения. Осторожно потягиваюсь. Двигаться с такой же прытью, как и раньше, – нельзя, в голове начинает больно стучать. Пытаюсь приподняться… Это получается только на локтях. Выше – пока никак. В отделении время полдника. Санитарка, увидев, что я активно шевелюсь и сверкаю по сторонам единственным глазом, подходит ко мне:
– Проснулись? Будете есть?
– А что дают?
– Кефир и печенье.
Постоянная жажда немного утихла, но пить все равно хочется.
– Принесите кефир. И воды, воды, пожалуйста.
Вода с банке теплая с традиционной трубочкой от капельницы. Трубочку выкидываю, пью залпом.
– Печенья не хотите?
– Нет, спасибо.
Видимо, из-за того, что постоянно капают глюкозу, есть не хочется совсем. Ну и хорошо.
Медленно тянется время, уже девять вечера. Дежурные сестры разбалтывают в тазике моющее средство. В отделении начинается ежесуточная помывка больных и смена постельного белья. А меня ждет еще одна долгая бессонная ночь.
Каждый час я осторожно поворачиваюсь, стараясь не запутаться в проводах и трубочках. На правый бок. На спину. На левый бок. Перевернуть подушку. Опять на спину. Ноги согнуть. Ноги выпрямить. Задрать их на бортик кровати. Спрятать под одеялом. На левый бок. Перевернуть подушку…
…Я вспоминала молитвы, любимые фильмы и спектакли, думала о прочитанных книгах, пыталась складывать стихи, считала овец под пиканье пульсового датчика. Через некоторое время я попробовала йоговское дыхание, но в голове больно застучало. Пришлось переключиться на аутотренинг: «Мне тепло, мои руки тяжелые, дыхание ровное и спокойное… я засыпаю… засыпаю…» Еще через пару часов я оставила и это бесполезное занятие. Осталось наблюдать за стрелками стенных часов.
Боли сохранились, но интенсивность их уменьшилась настолько, что достаточно легко можно было отвлечься. Только ночью отвлекаться не на что…
Медленным потоком уходит время, наконец, я домучиваюсь до утра.
Олеся
Ближайшая соседка по отсеку справа – молодая женщина, ей не больше двадцати пяти. Скорая везла ее со схватками в роддом, когда в их машину врезался грузовик. Из изломанной Олеси выдавили ребенка. Роженицу отправили в Склиф, а младенца забрали родственники. Девушка может дышать сама, через венозный катетер ее «кормят» глюкозой, устройство внутри мочевого пузыря отводит мочу в пакетик. Каждый вечер Олесю, как и всех, протирают, проверяют, не появилось ли пролежней, поворачивают с боку на бок, промывают рот специальным отсосом. Лечение не приводит к результатам – она в коме. Глаза закрыты, осознанных движений нет, реакции на внешние раздражители почти отсутствуют – больное сознание бродит по неведомым местам.
Мать девочки Нина приходит в реанимацию почти каждый день. Она пытается вытянуть дочь из коматозного пространства сюда, к нам:
– Доченька! Олеся! Это я, твоя мама. Ну посмотри на меня, доченька, открой же глазки. А вот я Артемкины фотографии тебе принесла, посмотри на сыночка. Ай, какой сыночек хороший. Ну все-все родственники говорят, что такого мальчика хорошенького не видали! Олеся ему всю силу свою отдала, всю красоту! Вот, доченька, посмотри – он голенький лежит на коврике. Это у бабушки во дворе под деревом. Смотри, как на ручках приподнимается. Что за красивый мальчик, наш Артемочка, ах, какой здоровенький. Посмотри, доченька! Открой глазки, посмотри на сыночка!
От голоса Нины у Олеси начинаются легкие судороги, но Нина не отступает:
– Олесенька, а какой же он загорелый, мальчик наш. А щечки какие! А волосики! Посмотри, какой мальчик хорошенький. У теток хорошо ему, все время Артемочка на воздухе. И здоровенький такой! Всю силу ты ему отдала, доченька, всю красоту. Начальник твой звонил, про здоровье спрашивал. Скоро Денис приедет, муж твой. Открой же глазки, доченька! Олеся!
Связь «Нина-Олеся» тоньше, чем нервная и нейронная, думаю, она образуется на совершенно другом уровне и слабо доступна матери именно через поврежденные нервы-паутинки.
Иногда приходит муж Олеси и отец Артемки – Денис. Ему подобная связь недоступна. Он садится рядом с потусторонней бессловесной женой и достает книжечку. Денис сидит часа два или три, не говоря ни слова, – читает детективный роман. Начитавшись, относит стул на место и уходит домой.
Приближается время водных процедур. Девицы-санитарки приближаются к Олесе с тазиком теплой воды. Разболтав пену, одна из них разводит девушке ноги и начинает ее протирать:
– Слышь, вот так бы ее на дорогу выбросить. В таком вот виде? А? К шоферне. Га-гааааа!!!
– Ыгы! К этим… к дальнобойщикам. Гааааааа! – соглашается другая.
От услышанного у меня слегка мутится в голове, зато голос крепнет, и я превращаюсь в злобную гарпию:
– Эй, поганки! Может, закроете свои грязные рты?
Санитарки оборачиваются:
– Вы чо ругаетесь? Мы ж этта… пошутили!
Но я продолжаю негодовать, пытаясь использовать неожиданный прилив сил на благо воспитания молодого поколения. Деревяшки в белых халатах быстро протирают Олесю и бочком-бочком исчезают.
Фффух! В голове стучит – еще не хватало второй инсульт получить. Для полной радости.
О! Явились опять со своим тазиком.
– Дайте, мы вас помоем.
– Ты лучше рот себе вымой. А ко мне не прикасайся, я и так чистая.
– Так не положено! Вы чо? Я сейчас врача позову!
– Ну зови-зови. Думаешь, мне сказать ему нечего?
Девицы, пошептавшись, оставляют меня в покое, подходят к соседней кровати, начинают мыть Татьяну со сложными тазовыми переломами. Ну всё, ушли. Во рту пересохло. Я тянусь к воде и обнаруживаю, что сил почти нет – с трудом удерживаю бутылку.
Татьяна поворачивается ко мне:
– Лен, а Лен! Что тут произошло-то?
– Да все в порядке, Таня, спи. Ничего страшного. Воду из тазика разлили.
Над Таниной головой работает вентиляция, поэтому она почти ничего из происходящего в отсеке не слышит. Зато спит хорошо.
* * *
День – скучен и длинен. Как всегда.
Небольшое разнообразие вносит доставленный специально для меня мобильный рентгенаппарат. Под спину засунули огромную кассету и сделали снимок легких. Что они там ищут?
Из подслушанных фраз проявляется картина, я пытаюсь проверить страшную догадку.
– Вы предполагаете, что у меня рак? Значит, вы метастазы искали? Нашли?
– В легких чисто. Это хорошо. Ждем результатов гистологии.
– Когда же придут результаты?
– Не скоро, дней через десять. Вы не волнуйтесь, меньше думайте об этом. А сегодня переведем вас в отделение.
Врач погладил меня по руке и ушел.
Я устремила взгляд сквозь потолок, туда, где, по моему мнению, во облацех воздушных находился Вседержитель.
«Не боюсь, – мысленно сказала я Ему. – Не боюсь! Если ни один волос с головы человека не падает без Твоей воли, значит, мой диагноз – Твоя воля. А раз воля – Твоя, то Ты и вытащишь меня как-нибудь из этой истории! Не боюсь! Ха. Ха. Ха».
В отделении
После комфортных 22–24 градусов в реанимации отделение нейрохирургии показалось холодильником.
Мне помогли перебраться с каталки на постель, укрыли до подбородка. Но все равно под тонким одеялом бьет озноб, ведь из одежды на мне пока только повязка на голове.
В палате невозможно до конца закрыть окно – ну так оно и не закрыто, сквозняки свищут из угла в угол.
Тут же прибыли гости – медсестра и врач-физиолог.
Медсестра предложила провести гигиенические процедуры на судне, но здесь не то что водой брызгаться, ногу из-под одеяла высунуть страшно – так холодно. Физиолог пришла, чтобы обучить дыхательной гимнастике для предотвращения застойных явлений в легких. Поочередно вытаскивая из-под одеяла то руки, то ноги, я освоила нехитрую гимнастическую науку и наконец смогла осмотреться.
В палате шесть кроватей, занято три, четвертый пациент – я.
Около моей соседки хлопочет сиделка Наташа – то арбуз порежет, то чаю нальет, то яичко почистит.
– Накрыть вас еще одним одеялом? Здесь так дует, – обращается она ко мне.
– Накройте, пожалуйста.
– А поесть хотите?
– Нет, спасибо. Вы можете дать мобильный? Мне нужно позвонить.
Наташа дает телефон.
Через несколько часов прибывает семья с узлами и вкусными вещами. Дочь отводит меня в туалет. Идти недалеко, но за эти два шага я едва не теряю сознание. Опершись на раковину, долго рассматриваю себя в большом зеркале. Кривой глаз уже встал на место и смотрит прямо. Как у нормальной. Отеки почти спали, синяки расползаются зеленеющими разводами. Красотка, что и говорить.
Раскладываю вещи и общаюсь с гостями, конечно, с удовольствием, но картинка перед глазами все чаще плывет и качается. Интересно посчитать, сколько ночей я не спала. Четыре? Пять?
Смотрю в окно, на подоконник, на связку ключей от машины мужа. Они ползут. Ползут по подоконнику вдоль стекла. Ключи, то есть. Ползут как живые. Догадываюсь, что начинаются видения.
Хватит, хватит, хорошего понемножку. Идите уже по домам. Ну да, ну да. Сладкого, водички, сырокопченой колбасы. Я еще придумаю, чего мне хочется, и позвоню. А где зарядка от мобильного? А, вот она. Всех целую и люблю. Приходите завтра.
* * *
После настойчивых просьб и жалоб на сквозняк и холод пришли столяры. Или плотники?
– Не, это починить невозможно. Нельзя, говорят вам. Нужно всю раму выставлять. Дальше что? А дальше на новую менять. А это целый день работы. Нету новых рам, нету. Не знаем что делать. Уж пятый раз сюда приходим, объясняем – нельзя починить.
Затем пришли слесари. Та же речь с небольшими вариациями:
– Нельзя ничего сделать. Нужно весь механизм менять. Вместе с фрамугой, да. Но можно и без фрамуги. Ну того… менять надо все равно. А починить нельзя. Да что мы вам, волшебники, что ли? Нет фрамуг. И механизма этого нет.
К счастью, мой муж может починить практически все. Ну разве кроме адронного коллайдера. Инженерная хватка у него, как у бультерьера. Поклацав фрамугой и покрутив нужные болтики, он быстренько устраняет неисправность. Ура! Теперь можно существовать без сквозняков, толстых шерстяных кофт и хлюпающих носов.
Утреннее измерение температуры и давления, сдача анализов, капельницы, уколы, прием лекарств… Повседневная больничная рутина.
Жизнь в отделении течет размеренно и скучно. В ожидании приговора я пытаюсь избежать возможной депрессии при помощи ноутбука и дисков с сериалом «Секс в большом городе», выторговав у врачей два часа просмотра в день.
И очень часто думаю про Сергея Алексеевича – как он там… в своей реанимации. Помнит ли меня? Отдыхает или продолжает спасать чьи-то жизни? Вытаскивает, отвоевывает у смерти. Мне кажется, это равноценно рождению ребенка. И конвейер не кончается, ждут, ждут застывшие на лезвии бритвы, балансирующие между жизнью и смертью, а ему просто некогда задумываться о том, что было неделю назад.
Майор и дачница
У противоположной стенки ждут своей участи две пациентки. Ира-майор и Нина-дачница.
Ира – не военный майор, не настоящий. Однако матерится как настоящий. Она работает в миграционной службе, майор – это не звание, а должность Иры. Я слушаю ее тирады без особого раздражения – человек употребляет крепкие выражения не от скудости словарного запаса, а от избытка. Ира ждет ангиографии сосудов мозга. Заболела она на отдыхе в Египте – после пляжа бабахнуло в голове, «упал, очнулся» – скорая, самолет, скорая, больница. До обследования ей запретили вставать, но Ира, ругаясь, встает. Она не может ходить в туалет на судно.
– Всё, в жопу египты! – бурчит она. – Теперь отдых только на даче!
Услышав про дачу, я начинаю расспросы – далеко ли, сколько соток, и главное – что же там растет? Ира, к моему разочарованию, плохо знает, что там растет, поскольку совершенно не разбирается в растениях. Ей все равно.
– Ну там две розы… Какие? Да хрен их знает! Розовые, невысокие. Что еще? Елки. А, вспомнила! Флоксы растут! Целая клумба флоксов! Вот, правда, они хиреть что-то стали. Пересаживать, что ли, пора…
– Конечно, пора! – вступает в разговор Нина. – Я сейчас расскажу тебе, как это лучше сделать.
Нине-дачнице достаточно лет, чтобы зваться Ниной Владимировной, однако она настаивает на «просто» Нине. Дачница простояла в характерной дачной позе вниз головой несколько часов, высаживая тюльпаны, а затем решила погреться в баньке. Тут ей и стало плохо.
Сейчас Нину обследуют и готовят к операции. А пока ее навещают родственники и подружки. Вот и сейчас одна из них пришла в гости, сидит рядом с кроватью и рассказывает что-то смешное.
«Ишь, веселится, – пророчески думаю я. – Зачем так громко? Как бы не нахохотать гадости какой…» После операции меня жутко раздражают резкие звуки. Нина хохочет, и вдруг у нее начинаются судороги. Живот ходит ходуном, кровать трясется. Смех переходит в повизгивание, потом в подвывание. Подружка по инерции досмеивается, а у меня от испуга прорезается голос:
– Ну что же вы сидите! Вы это… (Я забываю слова, которые хотела сказать.) Зовите медсестру и врача.
У нас, конечно, есть кнопка вызова, но этот вызов орет как пожарная тревога, а все кругом нервные, поэтому мы предпочитаем сходить и позвать.
Ира-майор от неожиданности крепко выражается.
Палата наполняется людьми в белых халатах. Нине измеряют давление, делают укол, судороги прекращаются.
Подружка таращит испуганные глаза. «Эх ты, хохотушка. Думала, тут санаторий?»
– Нина, так я пойду?
Дачница так напугана, что не отвечает. По дружка тихо уходит.
Палатный врач Андрей Семенович пытается выяснить, как начался приступ.
– Может, заболело что? Голова кружилась? Сознание теряли?
Нина в ступоре после приступа, соображает с трудом.
– Да не знаю… Да само как-то… Да не знаю… Смеялась вот, смеялась, а оно и началось. Само как-то… Все слышала, что говорили, все слышала. И как Лена закричала. И как Ира. Все слышала. Вот само и началось, не знаю как.
– Ну вы больше так не веселитесь, ладно? Осторожней надо.
– Ладно, доктор, ладно. Не буду.
Андрей Семенович уходит, погрозив пальцем.
Оля
Оля, соседка слева, почти все время лежит. Поскольку практически ничего не видит. У нее такая же повязка-шлем, как и у меня, отеки и акварельные разводы синяков под глазами. Именно за ней и ухаживает сиделка Наташа, которая между делом старается помочь всем в палате, причем совершенно бесплатно.
Итак, у Оли посетитель – дознаватель. Не очень хочется слушать историю преступления, но я привязана к капельнице. Лежу, слушаю.
Оля приехала из Белоруссии с мужем и дочерью. До работы приходилось добираться на электричке, поскольку жилье удалось снять только в ближнем Подмосковье. Она переходила через железнодорожные пути, когда ее догнали двое мужчин. Один из них предложил помочь поднести сумки до маршрутки. Второй в это время зашел за спину и камнем проломил ей голову. Все вещи целы. Не грабили, не насиловали. Вот так – кирпичом по голове ударили. И ушли.
Через какое-то время она очнулась и уползла в придорожные кусты. Еще через некоторое время муж начал разыскивать ее по мобильному. Услышав звонок, Оля нашарила вибрирующий телефон и прохрипела свои приблизительные координаты.
В больнице обнаружили, что переломанные кости черепа задели зрительный центр. Ольга ослепла. К счастью, временно. После операции зрение медленно возвращается.
Уродов вряд ли найдут – дознаватель не смог добиться внятного описания их внешности. Она их не разглядывала, а что успела увидеть, то вспомнить не смогла. Мотивы зверства совершенно непонятны. Дознаватель уходит.
Целыми днями Оля либо спит, либо слушает юмор Задорнова, записанный на мобильный, либо шепчется с Наташей о способах уличения неверного мужа. Ей кажется, что муж развлекается, пока она в больнице.
А по-моему, он пашет как заводной. Оплата услуг сиделки + дорогущие лекарства для восстановления зрения + есть-пить не только самой Оле, но и ее дочери. Ну и сам супруг тоже не воздухом питается.
Наташа постоянно строчит смс-ки под диктовку. Мужу Михаилу, конечно. Вчера Оля проснулась в шесть утра, разбудила сиделку Наташу (а заодно и всех остальных) и попросила набрать номер на мобильном. Телефон не отвечает – отключен. Она перезванивает дочери: «Галя, Галя, где Михаил? Что у него телефон отключен? Спит? Где спит? Аааа… Ну как проснется, скажи, чтобы мне перезвонил. Только обязательно! Не забудь! Это срочно! (Пауза.) Да! Как у тебя дела-то? Как в школе? Ну, ладно-ладно, не ворчи. Досыпай. Пока. Так не забудь!»
– У кого-то паранойя, что ли – Это проснулась Ира-майор. – Дай хоть до законных семи часов поспать!
– Я боюсь, он уйдет на работу, а туда нельзя звонить, – оправдывается Ольга.
Может, и паранойя… Но мне Олю очень жаль. Возможно, эта паранойя – следствие проломленной головы… А может, у нее есть основания ревновать своего красавца мужа. Она так страдает от ревности, что иногда отказывается от лекарств. Палатный врач Андрей Семенович приходит ее уговаривать:
– Как же можно отказываться от лечения! Ведь ваши лекарства редкие, их непросто было достать, неужели это непонятно? Ваш муж заплатил за них большие деньги. Вы же хотите быстрее поправиться?
– Хочу… – вяло соглашается Ольга. Ее жизнь в полуслепоте продолжается. До очередного всплеска.
* * *
Я уже довольно уверенно передвигаюсь без подпорок в виде гостей, поэтому постепенно увеличиваю количество прогулок по длиннющему коридору. Ходить – ужасно скучно. Плакаты, графики и пособия, висящие на стенах, изучены во всех подробностях, новости обсуждены с сиделками и новой сменой медперсонала, вид из окна в торце коридора не меняется… Лежать с ноутбуком на животе гораздо интереснее, но явно менее полезно.
Илья Вениаминович останавливает меня в коридоре во время очередной прогулки:
– К сожалению (сердце – буууух!), наша лаборатория не в силах определить с точностью ваш диагноз.
– Илья Вениаминович, что же делать? Наверное, есть и другие лаборатории.
– Да. Нужно отвезти срезы в институт Бурденко. Только везти некому. Надо подождать, пока мы найдем человека… Либо я сам отвезу. Но позже.
Боже, боже! Опять ожидание.
– Значит, некому. А вы можете послать кого-нибудь из моих родственников? Например, мужа?
Задумался.
– Ну хорошо. Конечно. Пусть зайдет ко мне, когда приедет, – я дам ему координаты и телефоны. Кстати, мы вынуждены перевести вас в другую палату.
Я не хочу в другую палату, но что делать, собираю свои пожитки и плетусь на новое место.
Итак, четверо лежачих больных, четыре сиделки при них плюс постоянно толкущиеся гости! Прямо центр города по сравнению с моей прежней тихой окраиной.
Разложив вещи, оглядываюсь. Все женщины кажутся нормальными. Но это только на первый взгляд. К каждой приставлена сиделка – они не могут себя полностью обслуживать. А если не спинальные и не коматозные[4] – то с головой не в порядке. Пред – или постинсультные, скорее всего. Значит, можно готовиться к сюрпризам. Малоприятным.
Галя
Частному предпринимателю Гале Кармановой запретили вставать с постели. Но Карманова чихать хотела на запреты. «Чихать я хотела!» – так и сказала. И выругалась.
Сиделка Таня, устав уговаривать свою подопечную, подняла решетчатые бортики кровати. Но и на бортики Карманова чихать хотела. Как только количество никотина внутри организма убывает, Галя перелезает через боковые решетки и убегает в курилку, прихватив мобильный телефон. Она не верит врачам и не слушает уговоров. По-моему, единственное, что ее беспокоит, – это ее магазинчик. Галя очень раздражительна и постоянно орет в телефон на помощников, членов семьи и складских работников. Крик разносится из курилки на весь этаж.
Сиделка, отчаявшись удержать Карманову в постели, нажаловалась врачам. Приходил Илья Вениаминович, уговаривал. Потом приходил Андрей Семенович. И тоже уговаривал. Все это время Карманова лежала молча, насупившись. Врачи, решив, что запугали Галину страшными последствиями, ушли.
– Пошшшли бы вы! – зашипела она им в спины.
Вот это новость, что ж она так шипеть-то начала?
К вечеру у резвой Кармановой пропала связная речь. А затем исчезла и несвязная.
– Сссссс… Шшшшшш… Сссссссс… – шипит она, пытаясь ответить на звонок мобильника, и с раздражением отбрасывает бесполезную теперь вещь.
– Ну всё, заметалась. Бессонная ночь гарантирована, – вздыхает сиделка Таня.
Потеря речи не насторожила Галю Карманову. Вечером она упрямо перебирается через решетки и идет в курилку, злобно сверкнув темными глазами на предложение сиделки Тани отвезти ее покурить на каталке лежа.
Ночь, вопреки ожиданиям, проходит спокойно. Карманова, получив необходимые уколы и очередные запреты-наставления, мирно проспала всю ночь.
Утром, померив обязательную температуру, она пытается перелезть через бортик. Но левая рука за бортик не хватается, а левая нога не поднимается.
Эх, тетка… К чему тебе теперь срочная оптовая закупка по выгодным ценам?
Резвая женщина – частный предприниматель сорока трех лет. – наполовину парализована. Но пока еще может контролировать естественные отправления, то есть ходить на судно – с облегчением обнаруживает сиделка Таня.
Теперь Карманова лежит, вывернув голову в сторону и приклеившись к моему лицу немигающим взглядом.
К вечеру оказывается, что ее парализовало уже полностью. Карманову увозят в реанимацию.
На следующий день узнаем от сиделки Тани, что ночью Галя Карманова умерла.
* * *
Мои стекла со срезами (гистология которые) отправились на исследование в место с более совершенной аппаратурой. В этот… как его… помню, что на букву «бэ». Блохин? Бакулев? Бурденко? Боткин?.. Мнемонический метод в помощь: «Туда, где бурда, запомнила? – говорю я себе. – Туда, где бурда». В лабораторию института им. Бурденко.
Итак, стекла, как отправились «туда, где бурда», так и прибыли оттуда ни с чем. Врачу института мало данных. Нужно везти весь препарат, описание операции, анализы и МРТ-снимки.
А историю болезни, равно как и снимки МРТ, выносить из здания клиники запрещено. И с возвратом тоже запрещено. И под расписку нельзя. Но Илья Вениаминович искренне хочет мне помочь. Что же делать? Можно отсканировать/скопировать нужные страницы. Вот только ксерокс в отделении не работает, какая жалость. МРТ-снимки и выписки можно сфотографировать. И в отделении даже есть фотоаппарат. Но у него сели батарейки, какая жалость.
Ерунда, конечно, полгоря – не горе, один-два дня можно подождать, но в очередной раз откладывать развязку очень не хочется. К счастью, меня навещает друг, который почти никогда не расстается с фотоаппаратом. Фотосъемка, скачивание на флешку, распечатка.
Неведомый результат, приближаясь, делает еще один маленький шаг.
Завтра, завтра определится качество моей дальнейшей жизни… а может быть, и сама возможность продолжения этой жизни.
Каждый вечер, лежа в темной палате, я смотрю сквозь потолок в небо. Как со дна колодца. Туда, где из града золотого наблюдает за созданным Им миром Сущий Вседержитель.
«Я знаю, Господи, что моего мнения никто не спрашивает. Я знаю, что все происходит так, как надо. Причем всегда.
Я все равно хорошо себя чувствую. И даже очень хорошо себя чувствую. Голова, конечно, болит. И швы, конечно, тянут. Но в легких ведь чисто? Там же нет метастазов. Ну вот! А еще – у меня внуки будут. Скоро. И белый цветник на даче не сделан. А? Как думаешь, Боже? А впрочем, воля Твоя…»
Дальше меня срубает снотворное – в отделении феназепам выдают каждому желающему.
Филемон и Бавкида
В нашей палате живет мужчина. Здесь он ест, спит, умывается, бреется, помогает чем может сиделкам и делится с курящими сигаретами.
Это – Георгий, муж Антонины. Отставной военный и его жена, заслужив небольшие пенсии от государства, уехали жить в деревню. Там они завели хозяйство и приготовились наслаждаться свежим воздухом и натуральными продуктами.
В один черный день Антонина нагнулась за ведром (кабачком, лопатой, куском сена) и свалилась. Я, честно говоря, не стала интересоваться, каким образом Георгий довез свою жену до Склифа. Думаю, что не слишком это было просто, учитывая, что их деревня находится в 400 км от Москвы.
Врачи уложили Антонину в палату на неделю – для симптоматического лечения и подготовки к операции. Вставать запретили. Георгий остался с ней – вместо сиделки. Первые три ночи он НЕ ЛОЖИЛСЯ СОВСЕМ. Спал сидя, облокотившись на спинку стула и положив голову на руки. Через три ночи, вняв уговорам сиделок, Георгий стал спать не на одном стуле, а на трех, выстраивая их в рядок в проходе между кроватями.
Антонина – почти в себе, понимает речь, связно разговаривает. Иногда у нее бывают короткие громкие заскоки – тогда она плачет или кричит. На кого? Конечно, на своего мужа. Георгий переносит ее крики с поистине ангельским терпением. «Ведь это же не она, не Тонечка, бунтует, – говорит он мне, иногда присаживаясь рядом. – Это болезнь».
Каждое утро он умывает свою жену, причесывает ее и начинает урок. Урок памяти. Георгий спрашивает: как ее зовут, как зовут детей от первого брака, заставляет вспоминать, какое сегодня число, день недели, сколько лет детям, когда их дни рождения. Антонина послушно отвечает – помнит почти все. Несколько раз в день она начинает распевать революционные песни про молодого бойца, про каплю крови густой и про орленка. После смерти Кармановой я слушаю Тоню с удовольствием – какое счастье, что она не порывается встать, как хорошо, что она не шипит, а внятно и громко поет.
Когда Тоня хочет в туалет, она либо смеется, либо плачет. Георгий хватает судно и начинает уговаривать жену облегчиться. Антонина капризничает, но потом затихает, делает всё – как надо, и все – довольны.
После недели, проведенной в постели на медикаментозной поддержке, Антонину забрали на операцию.
Сама операция вроде бы прошла успешно – пациентку разбудили, выкатили из операционной и начали не давать спать. А она взяла – и умерла. А врачи взяли – и оживили. А она взяла – и «выдала» инфаркт. Миокарда который. И лежит теперь вся в трубках. Живая. Но без сознания.
Все это нам поведал серо-белый Георгий, придя за вещами. «Ничего-ничего, – сказал он напоследок дрожащим голосом. – Вот теперь все будет хорошо. Я это чувствую. Я верю. Очнется Тонечка, поправится. Я ее к травнику хорошему отвезу. И все будет в порядке».
Больше Георгий к нам не возвращался. А на кровати Антонины поменяли белье и поселили туда новую больную.
* * *
Наконец-то. У меня в руках долгожданная Главная Бумажка с окончательным приговором.
«Следы… фрагменты… реактивные изменения… имеются комплексы клеток, идентифицировать которые не представляется возможным. Убедительных данных за наличие злокачественного опухолевого процесса не выявлено, однако 100 % отрицать вероятность дальнейшего развития опухоли нельзя».
Далее приписка: «Возможна попытка иммуноцитохимического исследования».
Проще говоря, не сделать ли еще пункцию мозга?
Не могу, используя общепринятые штампы, сказать, что «у меня внутри все заледенело», «я почувствовала себя опустошенной», «стали путаться мысли», «закатились глаза», «опустились руки», и проч. Нет. Мне стало уныло-уныло. Как внутри пыльного мешка.
Зажав в руке бумажку с надписью «микроскопическое исследование», я вышла в коридор. Десять кругов быстрым шагом. Пока больно не застучало в голове. Пока серая унылость не пропала.
Отдышавшись, я отправилась в ординаторскую к палатному доктору. Химиотерапия желательна, конечно, но не обязательна. И я отказалась.
– Ну и хорошо, – сказал юный доктор. – Я думаю, что все будет в порядке. Пойдемте на перевязку.
На перевязку я всегда иду с готовностью. Как приятно хотя бы несколько минут покрутить разбинтованной головой и почесать в затылке. Правда, в этот день я как-то вяло покрутила и без особого удовольствия почесала.
Боже, Боже! Как Ты велик и добр! Ты спас меня. Ты избавил меня (хотя бы и на ближайшее время) от тошноты, язв, облысения, болей и чудовищной слабости. Не понимаю только – за что? Хотя… что толку ломать свою поврежденную голову над Божьими планами? Ну вот и не буду ломать. Она у меня и так уже сломана. Ха-ха.
Я готовилась к приговору, но оказалось, что болезнь, которой боятся все, отодвинулась куда-то вне. Превратилась в отбежавшего шакала, в гиену. И будет теперь пожизненно следовать за мной, изредка напоминая о своем гнусном облике. Напоминая о том, что рак – он здесь. Не со мной. Но неподалеку.
Я ложусь на постель. Место справа пусто – там недавно лежала Карманова.
Слева оживляется Анна Иванна 72-х лет, провожая взглядом моего мужа, уходящего в курилку:
– Это к тебе черт приходил?
– Анна Иванна, не беспокойтесь, это мой муж.
– Да это же черт!
Ну-у начинается… Сиделка Алина наклоняется к своей подопечной:
– Что вы, бабулечка! Анна Иванна, может, чайку хотите?
– А что это за бабочки черные летают?
Алина просит сиделку Галю приглядеть несколько минут за Анной Иванной, а сама идет сообщить врачу, что у бабки очередной заскок.
Перед сном я захожу к медсестре:
– Та-а-ань, у нас опять бабушка сбрендила. Дай феназепаму двойную дозу.
– А у тебя голова болит?
– У меня душа болит.
– Лен! Я серьезно спрашиваю!
– А я тебе серьезно отвечаю – сегодня ночью вся палата, наверное, спать не сможет.
– Бери, конечно. Я попозже к вам загляну.
Тане даже идти за таблетками не надо – просят многие, не набегаешься. Поэтому блистер с лекарством у нее в нагрудном карманчике. Мне в снотворном она никогда не отказывает. И уколы ставит не больно. Хотя мне на любую боль уже как-то наплевать. Кроме головной, конечно.
Анна Иванна
Анна Иванна 72-х лет – пожилая женщина с вредным характером. Ее навещает сын, красавец мужчина, который пытается записать на диктофон историю нападения на маму. Для суда.
В течение всего летнего периода строился сосед Анны Иванны по даче, чем жутко ее раздражал. «Откуда у него лишняя земля под постройку? Купи-и-ил? Врет! Украл! Прирезал! Самозахват! Я буду жаловаться!»
Видимо, пожилой возраст Анны Иванны – не помеха активным действиям. Бабушка начала строчить жалобы-доносы в разнообразные инстанции. Из разнообразных инстанций к соседу начали наведываться проверяющие, комиссии и ответственные сельхозчиновники. Сосед ругался через забор, бабушка потирала руки, предвкушая скорое торжество справедливости.
В один прекрасный тихий вечер Анна Иванна прогуливалась с подружкой, попутно выглядывая – не начал ли еще кто-нибудь в родном садовом товариществе несанкционированную стройку, раскопку неучтенных грядок или высадку дополнительных кустов смородины на общей территории.
На беду, двум седовласым подружкам встретился тот самый подвыпивший сосед в компании с не менее подвыпившим прорабом. Скандал на дороге был неминуем. Но пьяный сосед долго лаяться не стал – он толкнул вредную бабку. Анна Иванна свалилась в кювет и ударилась головой не то о пенек, не то о камень, от чего у нее случилось кровоизлияние в мозг.
В результате наказанными оказались обе стороны. Бабушка приобрела стойкое расстройство здоровья, а агрессивный сосед приобрел повестку в суд со всеми вытекающими последствиями.
В отделении Анна Иванна получает лекарственную терапию, которая ей не слишком помогает. Но врачи не торопятся пилить ей череп – показанием для операции является превышение внутримозговой гематомой объема в 30 куб. см. У бабушки как раз 30 куб. см. Пограничная цифра и пожилой возраст отдаляют нейрохирургическую развязку. В результате бабушка жива, но чудит едва ли не через ночь.
* * *
Наконец-то мне снимают повязку и швы. Какая радость! Если бы могла – попрыгала бы. Но – не могу, поэтому только осторожно кручу головой, ощущая прохладный воздух.
На выходе из перевязочной сталкиваюсь с Дачницей. Она уже на ногах – расхаживается. Надо же, как быстро! Оказывается, операция у Нины была малоинвазивная. То есть череп ей не вскрывали. Прокрутили дырочку, вставили катетер, через который хитрым способом высосали гематому. В общем, такая нейроэндоскопия. Но голову, смотрю, ей тоже налысо побрили. Ой, смешная какая. Да я, наверное, не лучше.
Пойду, полюбуюсь.
Добравшись до своей палаты, припадаю к большому зеркалу. Ежик на голове – 3 мм, не больше. Швы, конечно, не косметические, но, придираться не буду – достаточно аккуратные. Когда-нибудь прическа скроет это место встречи жизни и смерти.
Забравшись в кровать, слушаю телефонные причитания подруги Ирки:
– Ой, кошма-а-а-ар! Как же ты будешь ходи-и-ить с такой головой! Ой, у-у-ужас! Все время в шапке или в платке! Ой, с ума сойти-и-и!
– Ир, ты что? Какой кошмар? Некоторые медиаперсоны всю жизнь с ежиком на голове ходят. А я выкрашусь в красный цвет. И буду креативная. Э-э-э-э-э… Стильная! На время. А потом придется с прежней прической ходить – как и всегда ходила. Ведь отрастут же эти волосы когда-нибудь.
Поахав и попричитав еще немного, Ирка отключилась.
– Мне кажется, вам очень пойдет прическа «красный ежик», – раздался мужской голос. Это сын Анны Иванны решил сделать мне комплимент, услышав телефонный разговор.
Я разулыбалась. Как говорится, мерси за комплиман, спасибо, очень приятно.
Геннадий Сергеевич, как настоящий джентльмен, поддерживал приятную беседу, пока не пришла сиделка Алина из курилки.
На самом деле мой внешний вид не сильно меня расстроил. И даже совсем не расстроил. Развлекаясь беседой, я в очередной раз подумала: «Какая, в сущности, чепуха – есть волосы, нет волос… У меня могло бы не быть ни волос, ни бровей, ни ресниц, кожа головы была бы в язвах, как у Семеныча из 406-й палаты. Да и вообще… я избежала смерти и химиотерапии – что мне теперь шрамы и временное отсутствие волос! Чепуха».
Рита
В палате одна спинальная больная – Рита. Молодая красивая женщина, у которой не действуют ноги. Она лежит без движения ниже пояса три месяца – июль, август, сентябрь.
Вообще-то Рита – неудавшаяся самоубийца, но считается, что об этом никто не догадывается. О трагедии упоминается только однажды – вскользь, расплывчато, неопределенно… «Оступилась… упала… так получилось…»
«Оступилась» она с высоты пятиэтажного дома. Была ли это на самом деле крыша дома, или она прыгнула с моста, балкона или еще откуда-то – никто не знает. А кто знает, тот молчит. О причине ужасного поступка тоже неизвестно.
Она осталась жить… парализованная, с бездействующими ногами – одна нога чувствовала тепло и холод, но была неподвижна, вторая – ничего не чувствовала.
Прикроватный столик уставлен иконками, под рукой – молитвенник. После самоубийства Рита поверила в Бога. О прошлом не говорила. Только один раз я от нее услышала:
– Зачем смотреть назад? Что было – не исправишь, надо дальше жить. Жить, как будто ничего не было, и стараться не вспоминать о прошлом.
Рита – девушка с характером. Как ветеран отделения и человек, склонный руководить, она иногда пыталась установить в палате дедовщинские порядки. Правда, на это всем было плевать. Кто-то не обращал внимания, а некоторые просто не понимали, чего она хотела.
Ритина сиделка Галя – женщина простая, но с жесткой хваткой. Только такая с Ритой и могла справиться.
Когда я только что прибыла в эту палату – заробела ее, честное слово. Галя была авторитетом для всех, к ней приходили за советом даже с других этажей. В свободные минуты она читала молитвенник. На вопросы – что за церковь? что за вера? – Галя нетвердо ответила:
– Евангелисты… нет… евангельские христиане.
Когда Гале невмоготу находиться в палате, она выходит в коридор, посидеть рядом со мной на каталке у стены. Мы наслаждаемся разговорами «про жизнь», но одно ее ухо, как локатор, направлено в сторону палаты.
– Галя, ты где? Ты мне нужна! – слышится ревнивый голос Риты. Больше нескольких минут она не дает нам пообщаться – обижается.
Галя спешит к своей подопечной – дать попить, поправить подушку, разгладить одеяло, открыть фрамугу, закрыть фрамугу, почесать вон там, вытереть вот здесь и т. д. и т. п.
– Я хочу сегодня помыть голову.
Галя приносит тазы, клеенку, шампунь и ведро горячей воды. Кровать Риты выдвигается на середину палаты, сиделка ловко промывает длинные светлые волосы и высушивает их феном. Так же, на постели, перекатывая Риту с боку на бок по клеенке, производится общий туалет.
Перед обедом к Рите приходит массажистка. Если в этот день нет массажа, девушку везут в процедурный кабинет, где колдуют над оперированной поясницей.
Чтобы отвезти Риту на процедуры, ее надо переложить на каталку. Вокруг собираются все свободные сиделки.
– Георгий, иди сюда. Помоги. Ну-ка, три-четыре взяли!
Почти голое тело на простынке рывком переносят на каталку. После трех месяцев, проведенных без штанов, Рите все равно, где у нее вылезает грудь, а где видна попа. Да и для нас Георгий – почти бесполый.
Риту перекладывают на каталку и везут в процедурную.
Рита – девушка безмужняя, мамина. Всего один раз я видела ее отца, часто бывает старший брат, и почти каждый день приходит маленькая улыбчивая мама.
– Риточка, посмотри, что я тебе купила.
– Ну и что ты купила? Ты куда смотрела, когда покупала? Я что просила? Я просила «Данон»!!! А это что?
– Ну… я, наверное, перепутала… Невкусно, да? Тебе не нравится?
– Не знаю я! И пробовать не буду! Не буду, я сказала!
Ритину маму жаль, но Риту жальче. Бухнуться вниз головой с пятого этажа из-за (предположим) несчастной любви, очнуться и осознать, что причина нежелания жить осталась с тобой, а впереди – жизнь колясочника, по сравнению с которой прежние проблемы кажутся детскими, игрушечными. И это в неполные тридцать лет!
Врачи три месяца пытались вернуть чувствительность ногам Риты, но… нет, не получилось. Ее готовят к выписке – для беседы приходит врач-психолог. Врач-(ахтунг!)-психолог громким голосом, не обращая внимания на присутствующих в палате, объясняет Рите тонкости выписки и особенности дальнейшего лечения.
Через слово так называемый психолог громко повторяет:
– Ведь у вас в истории болезни записано «суицид», поэтому бла-бла-бла… Ну вы же понимаете, если есть запись «суицид», то вас должны бла-бла-бла… Ваш случай – случай суицида, значит, вы – бла-бла-бла…
При первом же упоминании табуированного понятия я выхожу из палаты, за мной выходят сиделки. Мы усаживаемся на больничную каталку и молчим. Георгий уходит в курилку. Добрая психологиня говорит настолько внятно и громко, что слышно на посту – то есть не только нам, но и медперсоналу. Да и вообще – всем.
«Господи, боже, что за доктор-выродок!» – думаю я, смотря из темноты коридора на побледневшую жалкую Риту. При каждом повторении слова «суицид» она будто вжимается в подушку. Врачу-так-называемому-психологу хочется дать весомого пинка по заднице (и лучше не ногой, а металлической лопатой). Для скорости. Аж тьфу как неприятно.
* * *
Выхожу на улицу поздней осенью. Вдыхаю холодный городской воздух. Я жива, двигаюсь и осталась в своем уме. Но жизнь моя теперь изменится. И восприятие жизни тоже изменится.
О чем мы думаем, когда здоровы? О чем беспокоимся? Разве кто-нибудь, находясь в полном или относительном здравии, верит в то, что будет когда-нибудь парализован? Увечен? Безумен? Слеп?
Сколько времени мы тратим на поиски огромного счастья… мы тратим силы и здоровье, пытаясь увидеть его в любви, деньгах, новых впечатлениях, должностях или в удачной обновке. Но гораздо лучше, оказывается, ощущать просто счастливые мгновения – первый снег, цветы на даче, тихий вечер, шелест летнего дождя, долгие одинокие поездки на машине, чистый ковер под ногами, день без боли, возможность читать, разговаривать по телефону с подругой. Общаться с Богом. Вернее, с собой – с той частью в себе, что от Бога.
Маленький ребенок берет меня за уши своими ручками и целует в нос. И я чувствую себя счастливой.
Наташа Апрелева Растущая луна
Растущая луна
– Алло, Лида, привет. Ты где сейчас? – Потапов вышел на балкон для усиления сигнала, хоть сигнал был нормальным и в помещении.
Грозовые облака висели так низко, что Потапов мог вполне метнуть в середину наикрупнейшего дротиком из недавно подаренного набора, и пролился бы, наконец, дождь. Нет, вспомнил физику Потапов, сначала бы глазами зверя сверкнула молния, потом бы раздался звериный рык, а уж потом из разорванных в клочья звериными клыками туч потекла вода. Которая не кровь.
– Я у Таньки, – сказала Лида, – мы шьем.
– Ага, – кивнул Потапов и потянул из кармана пачку сигарет, хорошую зажигалку, случайно выпала пятисотрублевая купюра, выпачканная чернилами с угла.
Сигареты положил на балконные перила, телефон и деньги – в карман, на уровне его глаз располагалась старая береза – с грубо раздвоенным стволом совершенно не березовой окраски, почти что черным, просто черным. В средней его части был прикручен алюминиевой проволокой старомодный скворечник, птицы в нем не селились никогда. Тщательно вырезанные треугольные листья выглядели темнее, чем были на самом деле.
– Алло, Таня, привет, – Потапов сделал паузу и прикурил от хорошей зажигалки, – ты прости, беспокою тебя. Тут с Лидой разговаривал, и что-то со связью. Разъединилось. Ты не позовешь ли ее? Ага, спасибо.
Ожидая ответа, успел дважды затянуться. На площадке перед подъездом соседка с первого этажа Тамара Константиновна гуляла в кружевных перчатках и с пекинесом на поводке. Пекинес лаял вокруг. Контртенор, подумал Потапов и произнес:
– Алло, Лида. Вечно ты что-то проделываешь с аппаратом. Отключилась, говорю! А я что хотел-то. На обратном пути водички захвати минеральной, хорошо? Несколько бутылочек. Лучше – восемь. Маленьких. А то я, боюсь, не успею, завтра на коллегии выступать и надо подготовиться. Что? Да это неважно, когда приедешь, тогда и приедешь. Спасибо.
Еще несколько минут оставался на балконе, затушил сигарету, щелчком отправил окурок вниз, за траекторией не следил и не заметил возмущения Тамары Константиновны.
Вернулся в комнату. По экрану монитора носилась бегущая строка «Давай работай!» – пронзительно-зеленые крупные буквы, но Потапов не послушал призыва, достал из шкафа-купе светлые джинсы, летний пиджак и переоделся, глядя в бледное зеркало.
Как правило, Потапову был безразличен его внешний вид, не стал исключением и настоящий вечер, но требования социума Потапов уважал. Одетый, сел к компьютеру, проверил почту. Ответил на два деловых письма и одно – вольно определяющееся. Поморщившись, открыл рабочий файл и сосредоточился на аудиторском заключении: «Настоящим отчетом информируем Вас о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и искажениях в бухгалтерском учете и отчетности, равно как и об отмеченных отклонениях порядка совершения ЗАО „Сокол-2“ финансовых и хозяйственных операций от требований нормативных актов, действующих в РФ…» Потапов любил свою работу, но не в каждый момент жизни. Откинулся на спинку кресла, вновь достал телефон. В конце концов, привычно подумал, так лучше для всех.
– Алло, Лида, это я опять. Знаешь, я тут подумал. Не заезжай за водой. Мне по-любому придется выбираться из дома, как оказалось. Так что сам куплю. Как ваше шитье? Молодцы. Куда собрались? Ах, пайеток взять у Мироновой. Ну понятно. Никогда не знаю, что такое пайетки. Пока.
Встал, кресло мягко откатилось от стола, столкнулось с низким диваном, на диване пошевелила страницами книга о вкусной и здоровой пище, Лидия на днях осваивала правила приготовления заливной рыбы. Рыба получилась средней по вкусу. Требовался еще звонок, и Потапов его примерно сделал.
– Лена, привет. Скажи мне, будь добра, что такое пайетки. Ничуть не издеваюсь, правда, интересно. Блестки для украшения одежды? Вот спасибо, страшно тебе благодарен. Не придуриваюсь я! Просто Лидка сейчас сказала, что собралась к тебе за этими самыми… Как раз заходит? Ну привет ей передавай. И пайеткам привет.
Вновь вышел на балкон.
Грозовые тучи уползли далеко на север, за пологие крыши домов, окрашенные тихим солнцем в темно-рыжий и блекло-красный; возможно – в края топких болот, ненадежных троп и хищных насекомых. Взамен ветер пригнал много новых облаков, кучевых и объемно-белых, в них хорошо опознавать медведя, гитару, гамбургер или любое другое тело, по выбору. Потапов ничего выбирать не хотел, он хотел покурить. С черной березы к его ногам пал листок, надкушенный тлей, Потапов неромантично выпихнул его пальцем босой ноги вон, за решетку. Балкон был старинный, решетка чугунная, все в пределах санитарных норм и государственных стандартов.
Посмотрел на часы. По старой памяти носил на правой руке, как это принято у аккордеонистов и баянистов. В детстве Потапов играл на аккордеоне, вполне мог и сейчас. Но за белоснежным «Weltmeister»-ом он не потянулся, а потянулся, напротив, за телефоном. Черным, как береза.
– Алло, Ксения? Ну я готов, в принципе. Минут через сорок буду. Хорошо, привезу. Делаешь коктейль «гвардейский», отлично. Я понял, тебе не хватает лимона. Двух лимонов.
Потапов улыбнулся двусмысленности: лимон – как цитрусовый, и лимон – как сленговое «миллион».
Впрочем, сейчас уже так не говорят, но Потапов застал и другие времена. Тамара Константиновна снизу по неизвестной причине грозила ему кружевным кулаком. Потапову было наплевать. Тамара Константиновна считалась местной сумасшедшей, она носила приспущенные рваные чулки и парики, иногда два сразу – длинный блонд и красно-каштановый сессун. Ее пекинеса звали Отто.
Ксения проживает недалеко, готовится к государственным экзаменам в университете, у нее прямые волосы и красивый живот, Потапов не испытывает к ней почти никаких чувств. С большими чувствами он бы не смог. А с маленькими – великолепно может, и это так хорошо, встречаться раз в неделю, выпивать коктейль из портвейна, виски и зеленого чая, плюс лимон.
– Алло, здравствуйте. Будьте добры, машину, Партизанская, сто двадцать три, второй подъезд. Да, поеду сейчас. Благодарю.
Потапов хорошенько закроет балконную дверь, компьютер выключать и не подумает, являясь приверженцем теории о губительном воздействии на технику включений-выключений. Такси резко тронется с места, будто бы пытаясь догнать те самые грозовые тучи, которых давно не стало. Потапов попросит водителя притормозить близ уличного овощного развала, заодно приобретет кисть винограда и килограмм клубники, расплатится купюрой, испачканной с угла. Может быть, Ксения дополнительно порадуется клубнике. В прошлый раз у нее были заплаканными глаза – довольно трогательно, милые, но припухшие.
Ксения встретит его в майке на лямках и трусах-танга, без пайеток. Красивый живот временно скрыт, это затягивает.
Лидия приблизит к лицу небольшое зеркало, подведет губы атласной помадой, глаза она не красит, подчеркивает рот и темными румянами – впалость щек. В салоне ее автомобиля пахнет сладкими духами: ваниль и шоколад. Стройный фонарь рядом льет желтый свет, как теплую воду.
– Алло, я внизу. Выходи. Да-да. Ну как обычно – отыграл ревнивца, помчался к бабам. Разумеется, уверена. Спускайся. Ско-о-олько? Нет, так долго ждать я не буду. Не больше семи минут. Ну знаешь, еще мне для твоей супруги отмазку придумывать! Сам пошевели мозгами! Скажи, на службу вызывают. Грабители, скажи, в главном офисе! Что? Она сама – капитан милиции? Какая прелесть, господи!
Лидия смеется, целует воздух около микрофона. На заднем сиденье в бумажном пакете покоится затейливо расшитый пайетками спортивный купальник, завтра его купит дорого постоянная клиентка для дочери – художественной гимнастки. Лидия прекрасная рукодельница, у нее отменный вкус и чувство стиля. Недаром уже через четверть ею же назначенного срока рядом окажется широкоплечий мужчина в ярко-оранжевой куртке, шнурки кроссовок волочатся змеями – торопился, не завязал.
Мужчина задохнулся, переводит дыхание, приглаживает рукой волосы, Лидия поворачивает ключ зажигания. Мужчина смотрит на ее голые ноги, на исправно работающие мышцы под загорелой кожей. Они встречаются шестой раз, Лидия помнит.
И хорошо, еще безоблачных два-три свидания – и придется мягко заканчивать. Удачно, что он женат, впрочем, Лидия бдительна.
Капитан милиции замочит белую фасоль, откроет в ванной кран и громко велит дочке чистить зубы перед сном. Когда дочка гарантированно займется водными процедурами, капитан милиции достанет из посудного ящика початую бутылку водки и выпьет из горла: глоток раз, глоток два, глоток три, – и быстро сжует приготовленную заранее шоколадную конфету – непорядок, конечно, эта водка, но придумать другой способ для релаксации она пока не может, хоть пытается. Достанет из морозильной камеры кусок бараньей грудинки – на завтрашний фасолевый суп.
Совсем стемнело. Белые кучевые облака превратились в отталкивающую массу неопределенного цвета. Луны совершенно не видно, но Тамара Константиновна в луну верит; она только что сообщила своему пекинесу, что в действующий день лунного цикла очень неплохо толкнуть свою жизнь вперед, к новым свершениям, при условии, что некая стартовая площадка уже готова.
Волшебная флейта Оккама
Как все началось: Аксинья полюбила Семена. При этом ее муж Борюсик никуда не исчез, не отправился в горный поход и не убыл в полярную экспедицию. Преподавателю мастерства актера в институте культуры трудно найти для себя должное применение в полярной экспедиции. Борюсик и не нашел. Поэтому он никуда не отправился, а наслаждался видами из окна. Из окна Борюсик видел трамвайные пути и нерезаных городских собак стаями. Иногда видел свою жену Аксинью, она хлопала красной лакированной дверцей автомобиля и сноровисто шла к подъезду, вонзая в асфальт высокие каблуки.
А Семена ей судьба подарила. Поехала как-то Аксинья на губернский рынок за тепличными огурцами и колхозным творогом, глядит – идет Семен. Правое плечо впереди, левое сзади, кашемировый нежный свитер и роскошный породистый нос. Покупает мясо в размере полубарашка, набор правильных специй, эротично говорит в телефон про вишневые брусочки «крест-накрест». Аксинья в восхищении хлопает ресницами и неожиданно для себя спрашивает о назначении вишневых палочек. Семен неторопливо отвечает насчет равномерного обжаривания бараньей ноги и рисует носком начищенной туфли принципиальную схему распределения тепловой энергии. Он произносит слова «изотермы» и «изобары», случайно касается пальцами Аксиньиного запястья. Аксинья немного плывет, девически краснеет и немедленно расстается со своим сердцем. С поклоном вручает его кашемировому Семену, он заметит это не сразу.
Минуты через три.
Взглянет на частично выпотрошенную Аксинью с новым интересом, предложит довезти ее до дому, шофер ждет на платной парковке близ. Аксинья торопливо согласится, честно забыв о личном автомобиле с красными лакированными дверцами, припаркованном за углом.
Семен прекрасен. Он близко знаком с творчеством малых голландцев, совершает прыжки с парашютом и, даже когда сердится, почти не повышает голоса. Занимается финансами, и занимается успешно, отстроил дом на берегу Волги почти в пять этажей, но там не живет.
В доме Семен поселил жену с сыном, а сам обретается на городской квартире. Семен глубоко образован, доктор экономических наук и пишет исторический роман времен Французской революции. Каждое утро он пробегает пять километров, каждый вечер курит трубку, используя дорогие сорта табака. Его мягкие волосы завиваются золотистыми полукольцами, а глаза имеют форму рыбьего тела. Как не полюбить такого красавца!
Аксинья и полюбила. И Семен тоже ее полюбил, немного. Он звонил ей раз в неделю, иногда – реже. А вот чаще – никогда. Они встречались, ужинали в ресторане, иной раз смотрели фильм, остаток вечера проводили в городской Семеновой квартире. Следующим утром Аксинью неизменно ждал обильный букет по месту службы. Она расписывалась в квитанции курьера и втягивала дивный аромат.
С течением времени Аксинья стала горевать. Она хотела большей эмоциональной отдачи от Семена – владельца ее сердца, хотела синхронизации чувств, взрыва страстей и по возможности жить счастливо и вполне совместно. Для начала она прибегла к помощи подруги Вавы.
Пришла к ней вечером. Солнце интимно склонилось к Земле и целовало ее на ночь французским поцелуем, было жарко и абсолютное время пить коктейли, плотно набитые колотым льдом. Топорик прилагался. В руках Вавы он выглядел угрожающе. Она порезала огуречно-зеленый лайм и помяла деревянной ложкой пахучую мяту местных сортов.
– Что бы такого предпринять, – спросила Аксинья, волнуясь, – такого, глобального?
Вава протянула ей высокий стакан и посоветовала ни за что тайно не беременеть.
– А что, кстати, говорит Борюсик по поводу? – уточнила она, раздавая полосатые соломинки.
Аксинья неистово рассмеялась. Соломинкой пренебрегла. Широко глотнула из стакана. Вопрос про Борюсика проигнорировала, как не относящийся к проблеме.
– Я тут визит собралась нанести, – сказала она небрежно, промокнув губы бумажной салфеткой, – к колдунье и потомственной ворожее, и ты пойдешь со мной как миленькая! А то что я буду одна позориться.
Вава ужасно не хотела идти к ворожее. Она единожды была у таковой и с порога начала смеяться, потому что ворожея качнула длинными серьгами и задумчиво сказала: «Вижу-вижу, родишь через год, это на тебе порча была… специально наведенная бездетная порча…» У Вавы к тому моменту уже родилось несколько детей, отсюда смех.
При взгляде на ополоумевшую Аксинью становилось понятно, что избежать колдовского визита не удастся. Надо было срочно и немедленно придумать нечто альтернативное, и Вава придумала.
– А зачем куда-то ходить? – сказала она. – У меня одна знакомица прекрасно решила все свои проблемы по Интернету… Современные технологии, знаешь ли! Прямая система кодов! Оптическое волокно!
Какая-то позиция из перечисленных затронула настрадавшуюся Аксиньину душу. Она решительно кивнула и понеслась к монитору. Вава отыскала координаты колдуньи.
Знакомица потеряла важный документ, восстановление его требовало определенных финансовых и прочих затрат. Колдунья посоветовала поискать чертову бумажку в красной папке верхнего ящика стола. Она буквально так и сказала: красная папка, верхний ящик. Документ оказался там, к обоюдной радости обеих дам.
И Аксинья очень надеялась обоюдно порадоваться, она предметно изложила свою сердечную проблему и отправила чародейке по почте. Аксиньины страдания превратились в набор единиц и нулей, заструились по вышеозначенным оптическим волокнам, что само по себе волшебно. В ожидании ответа Вава освежила коктейли порциями светлого рома.
Смеркалось.
Колдунья отозвалась быстро. Она затребовала у Аксиньи фотографии объекта с открытыми глазами, ушами и ответить на вопросы. Аксинья немедленно скопировала фото Семена со своего телефона. Далее колдунья велела клиентке отрешиться на пятнадцать-двадцать минут от всяких иных мыслей, сосредоточиться на объекте и писать все, что приходит в голову.
Сделать это было легко до чрезвычайности, Аксинья и так ни о чем более не думала. Вдохновенно застучала по клавишам, текст окрасился забавными красно-зелеными полосками, но есть ли дело влюбленной женщине до скудного вордовского словаря?
Отправив полтора экрана хрестоматийных дамских глупостей, Аксинья с наслаждением откинулась на некрепкую спинку крутящегося кресла одного из Вавиных детей. Кресло чавкнуло и с готовностью развалилось. Аксинья оказалась на полу, в руке она крепко сжимала коктейльный стакан.
– Хорошая примета, – простонала она, отпивая живительный глоток, а также пытаясь согнуть одну ногу и выпрямить другую, – все получится… знаю.
Колдунья отозвалась через час. Позвонила по телефону. В нескольких прохладных словах сообщила, что никакого будущего, кроме разовых встреч в течение полугода, у Аксиньи с объектом нет, это окончательно, а приворотами она не занимается. Считает вредным и даже опасным. Колдунья посоветовала Аксинье обратить внимание на мужа Борюсика. Своим третьим глазом она ясно видела его в компании рослой крашеной блондинки, бутылки шампанского и презервативов «Дюрекс». Упаковка из двенадцати штук.
Зачем вам, к месту упомянула колдунья бритву Оккама, без надобности множить проблемы?
Вовсе вам этого не надо. В завершение колдунья похвалила Аксиньины успехи на работе и творческий подход к любому делу.
– Сублимация – наше все, – сказала она, – так что все у вас хорошо, все ровно, милая, и ради всего святого, не кидайтесь сейчас ни к кому за приворотами, я вас прошу. Обещаете?
Аксинья молчала, крепко сцепив зубы.
– Сколько я вам должна, – скрипнула она в трубку.
– Нисколько, – ответила колдунья, – я ничего не сделала для вас. Вы сами должны. Только вы. Понимаете?
Аксинья не понимала. Она грохнула трубку на стол и вцепилась в волосы.
– Приворотами она не занимается, – заклекотала новым птичьим голосом, – тоже мне, чистоплюйка! А я вот найду тех, кто занимается! Да!
Показала молчаливой Ваве язык и неприличный знак из половины правой руки и кисти левой. Вава отсела чуть дальше и подумала об Англии.
– И найду! – продолжала клекотать Аксинья. – Тоже мне, будущего нет! Да что она знает, шарлатанка! Будущего нет!.. Да у нас столько будущего, мало не покажется!..
С разбегу прыгнув на развалины крутящегося кресла, она лихо подкатила к компьютеру и ввела в поисковике фразу «приворот». Яндекс предложил ей сделать его в домашних условиях. Аксинья пожала ушибленным в полете плечом, согласилась. Какое-то время читала вслух, Вава заливалась смехом и давилась «мохито». Особенно она одобрила следующий совет: «Возьмите волос с головы желанного человека. Крепко привяжите к своему волосу, выдернутому с лобка. Проколите иголкой палец и несколько капель крови выжмите на блюдце. Пропитайте кровью волосы и оставьте на три ночи в углу комнаты…»
– Привяжите к своему волосу, выдернутому с лобка!.. – прокричала она в восторге.
– Так, – сказала Аксинья, – ясно, это для каких-то неудачниц, незнакомых с бикини-дизайном. Нет, мы…
Помолчала пару секунд и закончила парадно:
– Воспользуемся квалифицированной профессиональной помощью. Это будет этично и наиболее конструктивно в данной ситуации.
Вава продолжала смеяться.
– Лобковые волосы, – повторяла она с упоением.
Аксинья кинула в нее влажным листом мяты.
* * *
Аксинья основательно уселась на водительское место и сменила обувь. Каблукастые и не удобные для вождения босоножки она с неожиданной заботой сложила в картонную коробку, ноги вдела в балетки со стразами и блеском.
– Короче, – сказала она, глядя в зеркало заднего вида, – начинаем опрос с тебя. Чтоб для проверки. Потом переходим ко мне и моим проблемам. Понятно?
– Чего ж непонятного, понятно, – ответила через минуту Вава, занятая поисками телефона в своей емкой сумке. Нашла и закричала немедленно внутрь:
– Слушай, ну что, мы поехали! К гадалке этой, говорю, поехали. Я рассказывала. Да. Да. Ты объясни получше, насчет топографической карты и как доехать. А то мы в той местности совершенно не ориентируемся спортивно… Нет. Не знаю я такой улицы. Блин, и такой тоже не знаю. Ладно, как-нибудь. Ну все, все.
Посмотрела на Аксинью. Аксинья уже вырулила на дорогу и включила радио.
«Привези-привези мне коралловые бусы», – спела когда-то популярная певица.
– Хуй тебе, а не бусы, – отреагировала Аксинья и переключила станцию. Она была расстроена.
Отношения с Семеном не радовали. Прошлую неделю он вообще не назначил ей встречи, на звонки не отвечал, а сегодня утром разговаривал с ней очень вяло, часто вставляя слово «очень»: очень устал, очень много работы, очень болит голова и слишком жарко. «Очень жаркое лето», – скучно сказал Семен на прощание и пожелал Аксинье удачи. Он так и выразился: удачи. Это было оскорбительно.
Хорошо, что опытная коллега порекомендовала волшебную гадалку, кофейницу и ворожею.
«Такая старуха, – восхищалась коллега, – ну просто великая! Без всяких еще даже кофе, я только вошла, а она и говорит – вижу проблемы! Вижу решение!»
– Что-то мне как-то стремно, – Аксинья ритмично отстучала что-то тревожное пальцами на рулевом колесе, – я ведь раньше никогда. Ну ты понимаешь, о чем я…
– Все мы раньше никогда, – Вава забросила в рот леденец от кашля. Вообще-то она не кашляла.
– Мне Борюсик как-то сознался, года два назад, – Аксинья подставила ладонь и ожидала леденца тоже, – так вот, сознался, такой, что его мамаша тогда заставила к ясновидящей ходить…
– Когда это – тогда?
– Ну тогда. Когда мы женились. Мамаша же столько икры наметала. Вопила, что я его околдовала. Опоила чуть ли не кровью.
– Девственниц?
– Христианских младенцев. Ты слушать будешь? – поинтересовалась Аксинья.
– Конечно-конечно.
– Опоила кровью, говорила Борюсикова мамаша. Ну и заставила к какой-то бабке тащиться. Для снятия порчи типа. Чтобы мы не женились, а мы женились все равно.
– А что бабка? – Вава смотрела заинтересованно. Борюсик на глазах превращался в героя многосерийной мелодрамы о любви и коварстве.
– Да ничего. Я не уточняла, если честно. – Аксинья пожала правым плечом и оглушительно раскусила леденец.
Семен сидит за письменным столом. Неправильно думать, что налаженный бизнес требует мало внимания. У Семена по крайней мере так не происходит. Но сейчас он думает не о делах. Сейчас он просто слушает. Новая сотрудница отдела аналитики необычным, переливчатым голосом рассказывает по телефону клиенту что-то об индексе Доу-Джонса и его предсказуемом поведении последние сутки. Семену наплевать на Доу-Джонса. Просто уже вторую неделю он слышит только этот голос. Переливчатый. Выделяет из остальных. Зачем-то.
Великая старуха скромно жила на городском отшибе, в странном районе, преимущественно населенном смуглыми беженцами из постсоветских республик. Стояли деревянные дома, дома каменные, ржавые гаражи, вообще не дома, и улицы вокруг не назывались никак.
– Как же мы ее отыщем, – нервничала Аксинья, – волшебную гадалку? Кофейницу и ворожею? Мужчина! – обратилась она, высунувшись из автомобильного оконца. – Мужчина, а где тут Железный проезд, дом шесть?
Мужчина в синем рабочем халате и тюбетейке пригнулся и убежал мелкими шагами. На босых его сероватых ногах хлюпали тапочки из войлока.
– Откуда ты вообще взяла эту шарлатанку? – спросила Вава, отпивая глоток теплой минеральной воды из литровой бутылки. Поморщилась. Холодной не было.
– Откуда-откуда, – обиделась Аксинья, – все оттуда. Тебе же наплевать на подругу и ее судьбу.
Приходится вот брать в свои руки, держаться за пульс. Девчонки на работе рассказывали. Ой, и не говори. Секретарша шефа в прошлом году к ней приходит, та ей ребеночка рассмотрела, в кофейной чашке, прямо богатыря. Или даже двух, не помню. А у той ни мужика, ни вообще. Ни члена знакомого даже.
Глаза Аксиньи возбужденно засверкали под бровями идеальной формы.
– И тут – оп-па! – и знакомится она на трамвайной прямо остановке с парнем! Секретарша. Что богатый, не скажу, но смотрится. Короче, родили уже кого-то. Или двух.
– Богатырей? – уточнила Вава, разглядывая в окно кучу строительного мусора. В центре выделялся старинный холодильник «ЗиЛ». По мысли конструктора он закрывался на замок, чтобы четче контролировать расход продуктов питания семьи.
– Оставь свой сарказм, – Аксинья свирепо перехватила руль, – я вот тоже так хочу… Чтобы оп-па.
– Ты на трамвае не ездишь.
– Дура.
– Ах.
Семен встает, подходит к стеллажу. Дорогая мебель из березы. Вне потребностей берет сувенирную тарелку с видами Таиланда и головным портретом своего сына в центре. Сын очень похож на жену. И внешне, и по складу ума. Хороший, спокойный мальчик, способный к языкам. Уже сейчас свободно болтает на трех, не считая родного. Новая сотрудница отдела аналитики говорит о тарифах и ставках. Переливчатый голос, волнующие модуляции. Семен знает, что на ней ослепительно-белый брючный костюм и хулиганские кислотные туфли на огромной платформе. Семен видит ее прежде, чем она заходит в офисное здание. Он открывает рот для положительного ответа на любой ее вопрос, прежде чем тот будет задан. Семен считает. Устный счет. Лет пять назад обучал сына: сорок три минус двадцать четыре сначала от сорока трех отнимаем двадцать получаем двадцать три от двадцати трех отнимаем четыре получаем девятнадцать. В девятнадцать лет Семена из университета призвали в армию, и он встречался с симпатичной толстушкой из местных. Как-то ее звали. Точно. Он ставит расписную тарелку обратно. Новая сотрудница кладет трубку. Семен перестает дышать и так, без дыхания, ругает себя полным придурком.
Нужная улица отыскалась неожиданно, она избирательно состояла из одного строения, по счастью искомого. Номер шесть.
Аксинья очередной раз переменила обувь и стала у дощатого крыльца, неожиданно заробев. Поколупала краску с перил.
– Слышь, – прошептала она Ваве, – а вдруг она скажет чего-то такое? Совсем страшное, а?
– А мы тогда не поверим, – успокоила Вава, – делов-то. Мракобесие, мы тогда скажем. И джаз. Да.
– Да, – улыбнулась облегченно Аксинья, – да… Дверь из окрашенной в зеленый цвет фанеры распахнулась, на пороге стояла великая старуха. Она оказалась невысокой округлой женщиной лет шестидесяти в павловопосадском платке, несмотря на полновесные тридцать пять градусов выше ноля. Глаза ее имели странный темно-желтый цвет, на щеке родинка, похожая на хищную птицу. Например, орла.
– Бабы припожаловали, – скупо улыбнулась она, – дык заходите. Эка вас повело, бесноватых!
Аксинья бесстрашно выставила вперед Ваву и оправила легкое бело-синее платье. На подоле скрещивались как бы волны и как бы облака или совсем не они. Вава сделала шаг.
Внутри было чудно. Пахло нагретым деревом, травой и чем-то еще необычным, но скорее приятно. Раздавались приблизительно животные звуки – так могли бы блеять, наверное, овцы, перебирать породистыми ногами кони или вздыхать мучительно коровы. Но никого такого не было, а только кофейница:
– Называйте меня Захаровна, – представилась она, плотнее оборачиваясь в пестро-черный платок.
– Аксинья, – сказала Аксинья, cглотнув.
– Вава, – сказала Вава.
– А я знаю, – усмехнулась кофейница, – вы ж записывались. Птица на щеке взмахнула крылом.
Нужно было пройти через маленькую комнату, душно завешанную коврами, миновать комнату побольше, вместившую высокую старомодную кровать с горой подушек и ракеток для пинг-понга. Аксинья с Вавой прошли, миновали, оказались на просторной кухне без окон, но с кондиционером.
Пропади оно все пропадом, внезапно не своими словами подумал Семен, ничего тут особенного и нового нет. Деловой обед. Деловой ужин. Освежающий гаспачо и мидии. Белая скатерть. Белое вино. Белоснежный пиджак расстегнут. Снят. Белоснежные брюки скользят вниз. Семен задышал чаще и выпил воды. И правильно. И зачем вести себя как идиотский идиот. Досчитать до десяти, выйти и сделать предложение. Именно такое. По «Крестному отцу».
– Садитесь, чего, – предложила кофейница, указавши на грубо сколоченные табуреты. Примерно такие изготавливали бывшие Аксиньины одноклассники на уроках труда, может быть, даже непосредственно эти. На овальном столе горели свечи, пять штук. Еще несколько горкой лежали поодаль. На окрашенной стене висели какие-то дипломы в рамках. Будто бы кофейница Захаровна – парикмахер-универсал.
Кофейница схватила небольшие турки, две штуки, наполнила их молотым кофе и включила газовую горелку. Пламя заметно желтело, что напоминало о низком качестве природного газа.
– Сахару-то ложить, нет? – проговорила вслух. – Ага, энтой ложить, той – не надо.
Аксинья, отрицающая сахар как органическое вещество, побелела от волнения. Захаровна сняла платок с головы, туго обвязала им обширную поясницу. Волосы ее имели красивый естественный темно-русый оттенок.
– Пока варится, дык, – велела она строго, – расскажу так. Не туда ты, баба, идешь. Ой, не туда. Но не послушаешь никого. Пока по башке-то не шарахнет. А оно шарахнет.
Разлила кофе по мелким, чуть щербатым чашкам. Поставила на древнюю, изрядно выцветшую клеенку с полосками: полоска белая, полоска синяя, полоска вдруг зеленая.
– Подождите, бабы, чего ручьями-то задвигали, – замахала неистово полотенцем, – пущай, дык, остынет, чего. Брать правой рукой. Не перехватывать. В чашке не плескаться, кофий не кудрявить. Выпивать быстро. Думать о заветном. Потом на вот салфетки перевернуть, когда команду дам.
Упаковка бумажных салфеток шлепнулась мягко. Аксинья шевелила губами, запоминала. Явно начала думать о заветном. Вава быстро выпила крепкий сладкий кофе, перевернула чашку дном наверх.
Кофейница неторопливо протянула руку, на красноватых пальцах с вспухшими артритными суставами бриллиантово блеснули массивные перстни. Взглянула желтым взглядом.
– Морочишь ты меня, баба, – недовольно сказала, – знать-то ничего не хочешь об себе. Сплошные углы у тебя, «А», «Л» или «М», такие вот. Дык, мужики, говорю. Имена, говорю. Леонид там. Анатолий. Митрофан.
Вава сдержанно фыркнула. Леонидов в ее окружении не водилось. Анатолиев тем более. Не говоря уже о Митрофанах.
Захаровна порассматривала еще немного чашкино нутро и сердито проговорила, отвернувшись к старомодному лакированному буфету:
– Блажишь ты, баба, дурью дуришь! Заполошная ты. Не буду тебе карты раскидывать, зряшное это дело. Молодость-то за хвост не ухватишь.
Вава жарко покраснела под мерное урчание кондиционера. Хватать за хвост молодость – было ее личным хобби. Она и не знала, что это так бросается в глаза.
Аксинья одолела напиток и глядела на Захаровну в тягостном ожидании. Она положила сначала ногу на ногу, потом поставила ноги параллельно, потом сплела ноги узелком, потом уже не знала, что предпринять, и шумно выдохнула.
Семен смотрит на новую сотрудницу аналитического отдела. Странно, но разглядеть детально черты ее лица не получается. Что-то в целом сияющее, завораживающее, с плавными линиями. На шее светлая пушистая прядь выбилась из корпоративной прически. Одинаково хочется эту прядь заправить на нужное место и оставить так – так очень хорошо. Семен коротко откашливается, сейчас он скажет.
– Давай-давай, чего извелася, – отчего-то басом продолжила кофейница, – посмотрим, чего, как будто мы так не видим. Ну что, баба, вся в кренделях ты – то ли «О», то ли «С», и «В» вот еще вижу. Сразу скажу: присушить энтого «С» можно, конечно. Но что получится, неизвестно. Можт, лучше станет. А можт, хуже. Дык, дело-то такое. Не знаешь, как сложится. А так-то он на исходе. Завтра расстанетесь. Подарки-то дарил тебе? Норку дарил, золото дарил? А вот завтра подарит, на прощание, дык, и расстанетесь. Навсегда…
Захаровна вынула откуда-то колоду обыкновенных карт, не Таро, новую на вид. Все фигуры отличались исключительной порочностью лиц, особенно дамы. Аксинья сжала кулаки. Роскошный французский маникюр впиявился в нежную кожу ладоней. Вава положила ногу на ногу и потрогала для верности коленку.
Кофейница метнула в каком-то странном порядке карты на стол, подвигала руками, что-то пробормотала негромкое, но убедительное. Замолчала. Смешала мгновенно в единое целое, уставилась на Аксинью небольшими глазами цвета меда и все тем же пугающим басом спросила:
– Продолжать будем? Материал принесла?
Аксинья мелко закивала.
– Ложь сюда. – Захаровна ткнула кряжистым пальцем в белую тарелку с золотистым ободком.
Точно такие же тарелки имелись в доме Аксиньи, и она почему-то растерялась. Внезапным предательством показалось ей класть безумные наборы из волос и ногтей Семена на почти родную тарелку. Но Захаровна смотрела выжидающе, свечи сгорали с легким потрескиванием, дама пик из картонного наброса подмигнула.
Аксинья выдернула из сумки полотняный ком и плюхнула на тарелку. Носовой платок, завязанный узлом, поволновался в потоке кондиционированного воздуха и замер, красно-клетчатый, биологически наполненный.
– Фотографию надо? – пискнула она, спрятав трясущиеся руки под столешницу.
– Не надо мне никаких ваших фотографиев, – проворчала Захаровна, – баловство все это, фотографии… Вы лучше того, идите-ка отсюда. Там вон подождите, дык, чтоб чего не вышло.
Вава, расплетя ноги, метнулась к выходу, ее сумка упала на пол, и она хорошенько поддала ее, чтобы не терять времени и не находиться в страшном месте лишнего.
Сумка перепрыгнула через небольшой порог и послушно поджидала ее в комнате с высокой кроватью и горой разноразмерных подушек.
– Аксинья, давай все отменим, – простонала Вава, – блин, страшно-то как! Страшно!
С высокой кровати спрыгнул значительный кот, ярко-рыжий, полосатый. Выгнул спину, потянулся.
– Красавец какой, – немного отвлеклась Вава, – кис-кис-кис… Это кто такой хорошенький котик? Это у кого такие большие глазочки? Это у кого такой мокренький носик?
– Да уж не у меня, – грубо отвечала Аксинья. Она дрожала. В пальцах прыгала сигарета. Закурить Аксинья не решалась. Кот невозмутимо поводил треугольной крупной головой.
За закрытой кухонной дверью было тихо, так тихо.
Семен повторяет: тогда через тридцать минут внизу, мне еще надо поднять необходимые договора. Новая сотрудница вежливо улыбается, не знает точно, как реагировать – шеф пригласил ее на важный обед с партнерами, хорошо бы освежить в памяти правила этикета и все эти вилки-ложки. Она наматывает пушистую прядь на указательный палец, набирает в поисковике «сервировка стола» и внимательно читает. Грозу сегодня обещали, ни к кому не обращаясь, произносит соседка по рабочему месту. Да что-то ни грома, ни молнии, только духота. Семен в своем кабинете открывает шкаф и достает новую льняную рубашку. Рывком срывает хрустящую упаковку. Булавки отнюдь не еловыми иглами устилают ковровое покрытие спокойного цвета охры.
На маленькой кухне без окон, но с кондиционером великая старуха курила, возложив ноги на низкий табурет с толстыми ножками квадратного сечения. Перед ней стояло изящное блюдце, пепел стряхивался в него, образуя сизые рельефы на тонком фарфоре.
– Эй, бабка! – От испуга Аксинья забыла нужные слова, нормы речи и правила поведения. Голос ее срывался на странный хрип. Поэтому остальное Аксинья странно прохрипела: – Ты это, не надо ничего! Нафиг гадания! В жопу приворот! Я чего-то боюсь. Прям чувствую, что могу огрести всякого через это крутое колдовство! Не надо, а?
– Не буду, – легко согласилась кофейница, прикуривая вторую сигарету от первой, – и сама не особо хотела. Дык, баба, все одно выйдет, что так, что эдак. Иди себе. Сумму денег там положь… На сундук. Оговоренную…
Аксинья, не веря своему счастью, галопом промчалась через комнату с кроватью, подушками и ракетками для тенниса, потом через комнату, увешанную коврами, споткнулась о рыжего кота, выскочила за дверь. Сумма денег пошевеливалась бумажно от сквозняка. За дверью солнце все так же яростно разогревало воздух. Трава в палисаднике пожелтела и выглядела мертвой. На верхушке штакетника сидела невиданная серая птица с оранжевым хвостом.
Птица пристально разглядывала Аксинью.
В какое-то мгновение Аксинья со страхом обнаружила у птицы совершенно человеческое лицо. Лицо глумливо улыбнулось. Аксинья в ужасе зажмурилась. Зажмуренные глаза увидели на черно-красном фоне профиль великой старухи и родинку на ее щеке.
Семен открывает перед новой сотрудницей отдела аналитики тяжелую ресторанную дверь, она нерешительно заходит, оглядывается. В маленьких ушах серебряные серьги, речной жемчуг из дешевых. На указательном пальце соответствующее кольцо. В ресторане сумрачно, прохладно и пахнет сдержанно цветами. Темные массивные столы, белые скатерти, стулья с высокими спинками. Неожиданно – разноцветные полосатые подушки на кожаных диванах. Холеная администратор в угольно-черном костюме провожает их в зал для некурящих, раскладывает кожаные папки – меню. Семен сразу же велит подать белого вина, в жару он предпочитает белое, пусть будет «Шабли Гран Крю Водезир» 2002 года, спокойно говорит администратору. Она улыбается, прекрасный выбор. Через пару минут юноша в синем жилете ловко откупоривает стройную зеленоватую бутылку, аккуратно наливает яркое вино. Семен берет бокал в руку, делает глоток. Одобрительно кивает головой. Официант наливает вина даме. Дама пьет. Кольцо скромно отсвечивает. Ореховый привкус, удивленно комментирует дама. Семен вслушивается в ее переливчатый голос, кажется, я счастлив, думает в смятении.
– Ну ты даешь, – следом вышла Вава, в руках она несла две сумки – свою черную и Аксиньину пеструю, – ну ты, блин, даешь. Как ломанулась-то! Будто кипятку тебе под зад плеснули.
– Плеснули, плеснули. – Аксинья диковато озиралась, нашаривала в кармане ключи от машины.
Пискнула сигнализация, хлопнула дверца, прищемился кусок бело-синего платья. Щелкнула зажигалка, Аксинья глубоко затянулась и заплакала. Курить и одновременно плакать было неудобно. Но по-другому не получалось.
– Чего ревешь, – морщась от жалости, спросила Вава.
Аксинья стремительно выдыхала синеватый дым.
– А птичка-то улетела, – невпопад ответила и высморкалась в бумажный платок, – тебя куда везти?
– У вокзала вылезу. Мы с Иркой договорились встретиться. Пожрать в обед.
Ирка была школьной подругой, безмерно увлекающейся натурой. В свое время она несколько лет путешествовала автостопом по России, потом по Европе, потом по Америке. Вернулась. Открыла клининговое агентство. Оказывает услуги населению по уборке квартир и офисов. Ее персонал носит форменную одежду цвета лаванды.
– Да? А чего Ирка? – Аксинья говорила все еще вздрагивающим голосом. Она жаждала услышать подробности про Ирку, чтобы посторонние птицы с оранжевыми хвостами и человеческими лицами убирались из ее жизни. Улетали навсегда.
Вава поняла.
– Ирка как обычно, – принялась она за обстоятельный рассказ, – холотропным дыханием сильно заинтересовалась. Записалась в группу. Сколько-то там человек, обязательно четное количество. Делятся пополам, сначала первая половина холотропно дышит, вторая наблюдает. Холонавты и ситтеры. Потом наоборот. Говорит, чудесно. Говорит, надо под специальную музыку вдыхать через нос, выдыхать через рот.
– Чтобы что? – Аксинья смотрела страдальчески.
– Ну чтобы все, – Вава дернула плечом, – чтобы привнести гармонию. Наверное. Или войти в транс. Я точно не знаю. Поехали со мной к Ирке. Уточним.
– Не хочу к Ирке. Хочу к Семену. Может быть, прямо сейчас и выяснить?
– Выяснить?
– Ну какого он придерживается мнения. О перспективе наших отношений.
– Ты рехнулась, да? – спросила Вава. – Мужчины ненавидят, когда их спрашивают о перспективе отношений.
– Хорошо. Что ты предлагаешь?
Аксинья в упор смотрела на Ваву. В салон ворвалась зеленоватая перламутровая муха и теперь нагло ползала по панели магнитолы. Вава смахнула муху и чихнула.
– Будь здорова, – пригрозила Аксинья, – так что мне ему сказать сейчас?
– Ннну, ннне знаю, – нерешительно выговорила Вава, – скажи, что у тебя для него сюрприз. Приятный.
– Какой, – уточнила Аксинья.
– Потом придумаешь, – Вава отважно взглянула подруге в глаза, – позже. Успокоишься и придумаешь… Долго, что ли… Сюрприз сочинить… Тем более приятный.
– Долго! Давай сочиняй мне, – потребовала Аксинья, – а то не поедем никуда. Будем тут стоять.
– Тут мухи, – Вава справедливо указала рукой на еще двух мушиных товарок, пришедших на зов первой, музыкально настроенной.
– Ты мне знаешь-ка ли что? – Аксинья нахмурила часть лба, свободную от ботокса. – Ты мне не надо тут про мух. Ты мне про сюрприз.
– Ну что ты как дурочка! – Вава рассердилась. – Что ты ноешь: сюрприз, сюрприз… Скажи вон ему, что затеваешь тематическую вечеринку и хочешь его призвать. Пусть готовится.
– Что это: тематическая вечеринка?
– Посвященная чему-нибудь.
– Чему?
– Да хоть чему! Например, стиль шестидесятых годов очень был моден.
– Когда? В шестидесятых годах?
– Почти. Позапрошлым летом. Фильм-то этот вышел, «Стиляги».
– А.
– Ну вот, скажешь – вечеринка. В стиле шестидесятых. Скажешь, платье надо немедленно. С широкой юбкой. И лаковый пояс. И перчатки.
– И веер, – Аксинья тяжело вздохнула, – как у Белого Кролика. Что ты, Вава, несешь, я не понимаю. Он не встречается с моими друзьями. Мы – тайные любовники.
– Ах, тайные… – Вава застучала на муху ладонью: – Кыш! Кыш! Тайные – тогда скажи, что… что… Ну скажи, ты приглашена на именно что тайную свинг-вечеринку.
– Ты издеваешься, да, – поинтересовалась Аксинья, доставая из сумки синюю пудреницу «Dior», – он понятия не имеет, что такое свинг. Не разбирается он. В течениях современного секса. Решит, что я шлюха. А я так не хочу. Чтобы шлюха.
– Не хочешь, ага, – к мухам прибавилась еще одна и зажужжала непотребно, – ну понятно. То есть как шлюха не хочешь. Гонишь какую-то пургу сейчас! Да все мужчины желают попробовать всякие такие штуки! Относительно течений современного секса!
– А он не хочет!
– А ты спросила?
– Нееет!!! – Аксинья выкрикнула Ваве в лицо и мгновенно закурила. – Как я это должна была спросить? Мы об искусстве разговаривали. Об экзистенциализме Камю!
– Ну вот, – Вава потянулась за минеральной водой, с отвращением выпила почти горячей, – вот он и заскучал у тебя… С экзистенциализмом это недолго… Слушай, поехали? Хоть ветерок подует в окна. Жара – офигеть!..
– Офигеть, – мрачно согласилась Аксинья и повернула ключ зажигания.
Утиная грудка в кисло-сладком соусе, седло барашка. Свежевыпеченный хлеб. Мощные системы кондиционирования делают воздух настолько прохладным, что новая сотрудница обнимает себя за плечи зябко. Шабли выпито. Водочки граммов триста, распоряжается Семен. Берет ледяной пузатый графин, жестом отсылает возникшего за спиной услужливого официанта. Плещет в стопку себе и даме. Дама испуганно возражает, нет-нет, ведь еще работать. Работать сегодня больше не придется, говорит Семен, мгновенно выпивает, выдыхает, кладет свою крупную загорелую ладонь поверх ее бледных пальцев. Смотрит. Новая сотрудница пылает щеками, руку высвобождает, прячет даже за спину. Прошу прощения, но все-таки мне обязательно надо вернуться в офис, два недоделанных отчета и один доклад для завтрашнего совещания, там некоторые цифры никак не идут, я должна, и вообще, вообще, можно мы уже поедем, ведь можно, да? Серые глаза, выбившаяся из прически прядь. Семен вслушивается в ее переливчатый голос, кажется, я несчастен, думает в смятении.
Аксинья остановила свой автомобиль неподалеку от Семенова офиса, тихая улица в центре города, впереди чуть слева большое строительство и практически тупик. Здесь мало транспорта, зато много тенистых мест для парковки. Судя по всему, Семен отъехал на обед. Аксинья посмотрела на часы, ага, он чертовски педантичен. Ровно в шестнадцать ноль-ноль появится, надо пока порепетировать роль. Выучить слова. Так, значит, встречаем нашего голубя и говорим с ходу: специально к тебе пилила, не хотела по телефону… Голубь заинтересуется. Что такое? Все можно по телефону… Все, да не все. Вот, к примеру, про закрытую вечеринку лучше не надо… Что значит – закрытая? Ннну, милый, это такое специальное мероприятие для посвященных… Я тебе завтра вечером все объясню, непосредственно перед. Ты только будь готов. Машину поставь, я сама за тобой заеду…
И улыбаться, улыбаться. Не скалиться истерично, а просто – с приятностью улыбаться. Аксинья пробно улыбнулась. Отрегулировала перед зеркалом степень веселья. Вот так будет хорошо. Смотрела в окно. Он появится справа, другой дороги нет. Это к лучшему, можно не прыгать, а подумать немного.
Увлекающаяся Ирка радостно подтвердила, что среди членов ее кружка для холотропного дыхания есть нужные люди.
– Извращенцы, – сказала Аксинья вслух. Слово звучало неприятно, направляло мысли куда-то в сторону Уголовного кодекса и зала суда. Как там они себя называют – свингеры, вот это получше.
– А Ирка-то, – опять вслух сказала Аксинья, – Ирка-то какова! Женщина, блин, загадка… Отличные у нее знакомства в дыхательном кружке, и ведь молчала…
Мужчина, которому ее представила женщина-загадка, Аксинье скорее понравился. Он звался Петром, и имя к нему великолепно подходило. Петр сообщил, что может порекомендовать Аксинью «с партнером» для «пробного вброса», он так и сказал – пробного вброса. Как о продуктах нефти.
– Понимаете, – Петр повел носом, будто бы принюхиваясь, – мы ничего не обещаем, кроме конфиденциальности. Не факт, что вы решите какие-то вопросы. Не факт, что вообще получите удовольствие. Но по крайней мере об этом никто не узнает…
Вава при этом стояла и улыбалась абсолютно цинично, вспомнила Аксинья. Что ж, пусть будет это самое свинг. «Мои цели – это мои средства», – подумала неожиданным для себя афоризмом.
Семен вдруг с тревожной ясностью понимает, что не может сейчас встать, выйти из ресторана, велеть шоферу «возвращаться на базу», зайти в свой кабинет и слушать переливчатый голос новой сотрудницы отдела аналитики через дверь, будто бы все как всегда. Семену немного страшно. Следующее, что он понимает с тревожной ясностью, – в этом случае он лучше подойдет к гранитной мемориальной доске на фасаде офиса – старинный дом, памятник архитектуры, в начале XX века здесь жил и творил знаменитый пролетарский писатель. Подойдет к доске, рядом с доской – гранитный же бюст писателя в две величины, и вот именно об этот бюст разобьет лицо. Если шагнуть со ступеньки и чуть влево, так и получится, были прецеденты. Мальчика-курьера увозили на скорой, накладывали швы на бровь и собирали размолотый нос. Вот и Семен, может быть, этим отвлечется. Новая сотрудница отдела аналитики возвращается из дамской комнаты, белые шаги точны, губы спокойны, и прядь вплела в прическу. Смотрит вопросительно, ожидает, что Семен встанет и они уже пойдут. Поедут дробить Семеновы лицевые кости.
– Алло, – рявкнула Аксинья в трубку, – алло, я занята!..
Звонил муж Борюсик. Как всегда, не вовремя.
– Что? Ну что? – Аксинья с удовольствием бы откусила часть телефонной трубки, но остановилась все-таки. Пожалела. Телефон подарил ей Семен, без повода – просто новая модель.
Борюсик, почувствовав настроение жены, быстро рассказал, что уже дома и собирается в командировку. Помнит ли Аксинья, что он едет в Питер? Он говорил. Обмениваться опытом с местными преподавателями мастерства актера самодеятельного театра.
Аксинья помнила не очень, но склочно протрубила:
– Как же, как же! Петербург Достоевского! Когда самолет?
Самолет был через четыре часа, Борюсик не мог найти чемодана. Аксинья вздохнула. Она не знала о месте хранения чемодана, «такого, на колесиках, в черно-белую клетку». Признаваться в этом было немного неудобно, но пришлось.
– Ты вот что, – раздраженно предложила она мужу, – возьми спортивную сумку, что ли. Она в шкафу, на верхней полке. Просто заранее надо было как-то все это проделывать, заранее! Вчера там, позавчера! Неделю, блин, назад! Искать чемоданы! Может быть, мы родителям твоим отдали! Когда они в Турцию ездили…
– Кисуля, – проговорил Борюсик с нежностью, Аксинья поморщилась от нелюбимого названия, – кисуля, я вчера только узнал. Все произошло весьма неожиданно…
– Ну и пожалуйста! – неуместно резюмировала Аксинья. – Ну и как хочешь!..
Больше она ничего говорить не стала, потому что в зеркальце заднего вида отразился белый Семенов автомобиль с четырьмя скрещенными колечками авторитетного логотипа. Аксинья немедленно нажала на «отбой», Борюсик захлебнулся парными согласными звуками и затих. Без любви и чемодана.
«Теперь абсолютно нет времени сосредоточиться, – с досадой подумала Аксинья, – так-так, что именно я должна сказать? Что? Холотропное дыхание? Нет, на фиг дыхание… Тайная эротическая вечеринка, приглашение на две персоны… И еще интонации, интонации… Специальные интонации… Эротические. Оооо!.. Блин, вечно он!»
Последнее относилось, разумеется, к Борюсику, сбившему нужный настрой для важного разговора. Аксинья изломала в пальцах сигарету, ссыпала бело-коричневый мусор в окно и задышала почти холотропно.
Белый Семенов автомобиль остановился на традиционном месте, приличествующем руководителю и серьезному человеку, но дверей не открывал и пассажиров не выпускал. Просто стоял себе, отражал бесстрастно солнечные лучи. Аксинья забеспокоилась. Ее насторожила странная неспешность. Как правило, Семен с пользой для дела использовал каждую единицу времени. Правда, существовала вероятность, что он ведет какую-то деловую беседу по телефону и не желает покидать прохладного кондиционированного салона. Она хмыкнула и достала новую сигарету.
«Что же, подождем», – подумала и вспомнила абсолютно некстати стих из девичьего альбома, верх подростковой гормональной куртуазности: «Не бойся к другу опоздать, кто любит, тот умеет ждать…» Улыбнулась. У них с Вавой были лучшие в классе альбомы. Тогда это называлось: песенники.
Семен молчит. Новая сотрудница отдела аналитики вынимает из небольшой сумки связку ключей, символизируя неотложную необходимость бежать и открывать кабинет. Надо работать, нерешительно говорит она, никуда не глядя, два отчета и доклад. Семен неожиданно и резко хватает ее за руку, ключи падают, как тот самый пятак. Звеня и подпрыгивая. Новая сотрудница испуганно распахивает дверь автомобиля, мгновенно выбирается наружу, практически выпрыгивает, уже оттуда тянется тонкой рукой за сумкой, ключи остаются лежать. Постой жжже, хрипит Семен, не узнавая голоса, не узнавая себя. Новая сотрудница вбегает в нарядную дверь офиса благородного цвета бронзы – итальянской фирме-изготовителю заплатили в свое время порядочно. Семен поднимает ключи, рассматривает забавный брелок в виде набора миниатюрных музыкальных инструментов: скрипки, рояля, флейты и валторны. Особого внимания удостаивается округлая валторна, ее изогнутые трубы, широкое сопло. Семен пытается понять, что такое с ним происходит. Это болезнь, догадывается он, я болен. Я занемог в тот самый час, как увидел ее. Просто сначала мощный иммунитет давил симптомы, здоровый организм боролся. Здоровому организму чужды вот эти сердцебиения и остановки дыхания из-за капризов девчонки в белых штанах. Вдруг что-то отвлекает его от дум. Пальцами барабанят в окошко, кто осмелился, какое мудачье сейчас у меня огребет, грубо думает Семен и опускает стекло. Вместе с горячим воздухом внутрь устремляется странный взгляд его недавней любовницы и ее слова.
– Юных барышень катаем? – Аксинья пыталась говорить легко, но мешала королевская кобра, внезапно заселившаяся в ее легкие. Гигантская змея уютно расположилась в парном органе, свою опасную голову удобно разместила в розовом Аксиньином горле и время от времени поплевывала оттуда ядом.
Семен потер лоб и без интереса спросил:
– Господи, что ты тут делаешь?
Прежняя любовница выглядела на удивление агрессивной, в ее темных глазах плавали пираньи и клацали многочисленными зубами. Бело-синее платье казалось картой военных действий державы-завоевателя.
– Да вот, приехала поговорить, – кобра метко плюнула, целясь Семену в глаз. Попала. Семен зажмурился.
Аксинья с ужасом разглядывала красивого мужчину напротив. Было совершенно ясно, что он ей не рад. И разговаривать, в сущности, не о чем. В то время, когда она со слезами счастья вспоминала их свидания и великолепные моменты единения душ посредством единения тел, он набивал трубку дорогим табаком и приминал его упруго серебряной ложечкой. Проиграла, проиграла, и ничего уже нельзя. Сказать несколько слов ни о чем, об аномальной жаре и насчет видов на урожай, развернуться на каблуках и пойти. В своем автомобиле переобуться в балетки со стразами, повернуть ключ зажигания, выжать сцепление, а потом газ. Но она стояла, пламенея от стыда щеками, к которым, казалось, прилила вся кровь мира.
– Прости, я сейчас очень занят, – рассеянно говорил тем временем Семен, сжимая что-то в кулаке, Аксинья пригляделась – ключи.
– Юным барышням уже снимаем хаты? – Кобра ворочалась в горле, Аксинью сильно тошнило, и перед глазами что-то такое металось. Сверкающее, силуэтов рыбы. Целый праздничный косяк.
– О чем ты?
– Обеденный перерыв проводим с пользой, – не унималась кобра, – практикуем классический секс… Или мосье предпочитает анальный?
Откуда, из каких глубин мозга вылез еще этот «мосье», никогда Аксинья никого так не называла, не было повода. Семен вышел из машины. Встал, покачался немного с пятки на носок. Был рядом, но недоступен, как сто тысяч абонентов различных телефонных сетей в эту минуту.
Из офисной двери благородных оттенков бронзы появилась новая сотрудница. Ноги при ходьбе она ставила чуть-чуть с перехлестом коленей, это напоминало ломаный шаг моделей и выглядело странно на тихой улице. Но красиво. Семену, по крайней мере, понравилось. А вот Аксинье – нет.
– Что эта шлюшшшка здесь забыла, – прошшшипела она хором с коброй.
– Аксинья, что ты себе позволяешь, – в голосе Семена столкнулись и стукнулись хрустящие кубики льда, – немедленно езжай. Поворачивайся и езжай. Мне так думается, что у тебя сегодня еще много-много дел. Всего доброго.
– Конечно, много дел, – Аксинья развернулась, сделала пару шагов, тряхнула головой, – просто по горло! По горло занята оральным сексом! Ччаааооо!..
Я сейчас умру, подумала она, просто перестану существовать. Пошагала еще. Левой-правой. Вдохнула, выдохнула, жива.
– Удачи, – Семен уже смотрел на новую сотрудницу.
– Ключи, – новая сотрудница дважды шевельнула губами, верхняя много крупнее нижней, – не могу открыть сейф. – Переливчатый голос.
– Конечно, – Семен глотнул.
– Дайте мне, пожалуйста.
Аксинья не сняла туфли. Все-таки на каблуках она чувствовала себя увереннее и выше, пусть в автомобиле это и все равно. Она дала задний ход, стала выбираться из глупого тупика, в который загнала себя сама. Ну надо же, мужчина ее жизни. Баранина, ветки вишневого дерева, одиноческие букеты роз по утрам. Минимизировать в лоток панели задач, немедленно.
– Красивый брелок. Флейта, валторна… Вы занимались музыкой?
– Не я.
– Кто-то из членов семьи?
– Мама учительница. Фортепиано. Извините… Мне…
Новая сотрудница протянула руку. Семен задрожал пальцами, побледнел губами, вложил в ее ладонь увесистую связку. Неброский маникюр чуть плавился от тепла.
– Спасибо, – новая сотрудница улыбнулась облегченно, – я побежала, да?
– Подождите, – Семен не мог придумать, как бы ее задержать, на минуту, на тридцать секунд, это очень важно стало почему-то, задержать, – подождите… прошу вас.
Аксинья смотрела прямо перед собой. Кобра положила свой капюшон ей на правое плечо и негромко шипела в ухо. Пираньи резвились в глубинах зрачка, грызли радужку, шевелили хвостами. Щеки невыносимо горели, ведь вся кровь мира прилила к ним. Вся кровь мира толпилась в сосудах, и бедное Аксиньино сердце не справлялось с нагрузкой. Прямо перед Аксиньей мужчина ее жизни нагло передавал ключи от съемной хаты сопливой шлюшке в уродливых туфлях. Шлюшка хватала их, как дрессированная обезьяна в цирке банан или прочую еду приматов. Шлюшка выговаривала пошлыми вздутыми губами какую-то глупость. Мужчина ее жизни не желал минимизироваться в лоток панели задач, а внимал шлюшке и держал ее за гадские пальцы.
Кобра вылизывала Аксинье шею и напоминала о главном. Аксинья шаталась по страшным домам великих старух с птицами на щеках, Аксинья знакомилась с извращенцами и вела с ними противоестественные разговоры. Аксинья нарядно упаковывала себя и преподносила мужчине своей жизни не просто, а с выдумкой и изрядным огоньком. Мужчина ее жизни целовал шлюшкино запястье, там, где неопытные пользователи ищут пульс.
Аксинья переключила скорости и нажала на газ. Размазать шлюшку повидлом по капоту, раздробить запястья вместе с пульсом, цветной мертвой тряпкой кинуть под ноги любовнику, чтобы понял.
Огромные глаза, белые одежды, звон металла, расстегнутый ворот рубахи.
Семен с силой оттолкнул новую сотрудницу от себя, легкая, она упала на четвереньки, зацепившись ногой за бордюрный камень, аккуратно выкрашенный белым.
Больше Семен ничего сделать не успел. Или успел бы?
Страшная жара не желала покидать города, от асфальта поднималось вполне зримое обжигающее марево, картошка пеклась прямо на грядках, а арбузы сгорали на бахче. Голод, голод, гомонили разного рода кликуши, а доверчивые пожилые женщины в ситцевых сарафанах скупали уже гречку, перловку и соль.
Аксинья, не доехав двух метров, развернула автомобиль и, пропахав ухоженный газон, с силой врезалась в стену Семенова офиса, окно вверху треснуло и подалось. Бампер смялся в гармошку, а подушек безопасности Аксиньина недорогая модель не имела. Поэтому ее пребольно ударило грудью о руль и засыпало осколками от разлетевшегося вдребезги лобового стекла. На ощупь вытащив один, наиболее удобный для захвата, из горячей щеки, она заплакала.
Просто плакала, не утирала слезы и не делала никаких выводов из истории с приворотами, спустя пару месяцев она назовет это время – безумная неделя. Слезы охлаждали пылающее лицо, и уже не пульсировала под нежной кожей вся кровь мира, и кобра угомонилась, укусив себя за хвост. А всего-то требовалось – расколотить автомобиль о стену, действительно, не стоит множить сущности.
Небедные родственники
Ну вот, такой приключается случайный случай. Одна женщина N когда-то была замужем, потом развелась. Ее бывший муж, мужчина N, после развода мгновенно обзавелся новой женой, пока гражданской, по имени NN. Она крепко дружила с мужчиной N на протяжении последних лет его брака, что как раз очень обыкновенно.
Все эти люди, как общались в одном кругу, так и продолжают общаться, откуда взять новый-то круг? Можно подумать, этих кругов – валяются на дороге.
И вот как-то собирается мужчина N со своей подругой NN проведать старинного приятеля двойной фамилии, Гончарова-Обломова. Все располагает к этому: обширные выходные дни, привезенный из недавнего путешествия сувенир и еще всякое. Старинный приятель проживает в личном просторном доме, дом полон удобств, можно ехать в гости с прицелом переночевать и нарядно позавтракать следующим утром. Отправляется, значит, мужчина N в гости, настроение у него чудесное, он даже хочет всех любить и обнимать на своем пути. Чудесное настроение быстро исчезает близ кованого гончарово-обломовского забора, на одну треть заваленного снегом. Потому как там встречается мужчине N – женщина N, его бывшая жена и мать общего ребенка. В настоящее время общего ребенка рядом с нею нет, а есть до неприятного молодой человек в короткой дубленке и кожаных штанах. Он нагло обнимает женщину N, ворошит ее кудрявые волосы, вольно распущенные по плечам, несмотря на минусовую температуру.
– Ну, здравствуй, – холодно говорит мужчина N, – что-то я своей дочери не вижу, ээээ…
– Елизаветы, – подсказывает женщина N.
– Я знаю, как зовут мою дочь, – отвергает подсказку мужчина N, – надеюсь, ты не оставила ее одну дома? У девочки сложный возрастной период. Может свернуть на неверную дорогу.
– Девочке семнадцать лет, – отвечает легко женщина N, – если бы она хотела свернуть на неверную дорогу, давно бы уже свернула. Года, скажем, два назад.
Этим самым женщина N как бы намекает на то, что именно два года назад мужчина N покинул семью в поисках счастья. Мужчина N краснеет, он не любит таких подлых напоминаний. Тем временем смеркается, густо падает снег, полоса заката ярко-малиновая, по расчищенной садовой тропе ходит упитанная птица.
Женщина N удаляется в глубь двора, не отнимая преступной материнской руки от лица молодого человека. Мужчина N краснеет еще жарче. Он взбешен. Он искренне считает, что место его бывшей жены – подле ребенка сложного возраста. Он честно забыл, что сам с семнадцати лет благополучно обитал за тысячу километров от родительского дома, получая высшее экономическое образование. Он остро желает разобраться, доколе. Оставляет свою спутницу NN сиротливо топтаться на выселках, гигантским прыжком догоняет женщину N и выкрикивает ей в ухо:
– Ах, вот как ты решила! Решила! А меня ты спросила? А моим мнением ты поинтересовалась?
Женщина N отодвигает ухо и проходит дальше. Кожаные штаны понимающе следуют за. Мужчина N неожиданно для себя самого ударяет кожаные штаны по широкому плечу. Штаны останавливаются и смотрят. Мужчина N замахивается снова. Его удары неумелы, но горячи. Женщина N возвращается и говорит, подняв брови:
– Ты совсем, да?
Умиротворяюще похлопывает кожаные штаны по дубленому рукаву. В некотором отдалении останавливается NN. Она переминается с ноги на ногу, ей хочется в тепло и чтобы прекратился этот позор.
Входная дверь отворяется, Гончаров-Обломов жестами приветствует друзей. Мужчина N переводит дыхание:
– Это я совсем? Я совсем? Это ты совсем! Стыд потеряла, ребенок заброшен, сама с любовником таскаешься!
– Ты с любовницей, я с любовником.
– Я не с любовницей!
– А с кем?
– Это мое дело, с кем!
– Ну и отлично. Позволь мне пройти.
– А вот не позволю!
Он толкает женщину N в сторону, она мягко валится в сугроб, кудрявые волосы металлической стружкой стоят вокруг головы. Кожаные штаны делают несколько вещей подряд: выуживают женщину N из сугроба, притягивают к себе за воротник мужчину N, бьют его в глаз. Мужчина N отвечает тем же, немного промахиваясь. Женщина N хватает кожаные штаны за элементы одежд. NN удаленно кричит, поминает милицию, вред здоровью, пятнадцать суток, восемь лет и права человека в Гааге.
Гончаров-Обломов, проваливаясь в снегах, неуклюже бежит от дома. Он ловит мужчину N в объятия, как в сачок, и говорит примирительно:
– Ну все, все. Все хорошо, все прошло. Вы прямо как с цепи сорвались, честное благородное слово. Давайте-ка успокоимся, а то не дай бог еще и Танюшка приедет.
– Какая еще Танюшка? – спрашивает мужчина N злобно, – не знаю я никаких Танюшек.
– Ну как это, – укоряет Гончаров-Обломов, – как это, Танюшка, моя племянница. Володина невеста.
– Какая еще Володина невеста? – спрашивает мужчина N все так же злобно, – не знаю я никаких Володь.
Тут он, конечно, допускает политическую ошибку. По крайней мере двоих Володь он должен знать, по крайней мере одного. NN подходит ближе. Ее лоб раскрашен нервными алыми пятнами, шапка из лисы сбита на затылок. Она никак не может остановиться, повторяет про милицию, права человека в Гааге, пятнадцать суток и восемь лет.
– Какие восемь лет, – отмахивается женщина N, – при первой-то судимости.
– А я не уверена, что у него первая, у твоего гоблина.
– А я уверена.
– Как мило.
– С тобой разговаривать, дорогая, как просматривать спам.
– Сама ты – спам. И гоблин твой кожаный – спам. И машина твоя спам.
– Так у тебя вообще никакой машины нет.
– Ничего, мне N подарит, он обещал – к годовщине совместной жизни.
– Пусть дарит, чего уж, мне-то он уже две подарил… Нет, даже три, если считать самую первую, шестерку «жигулей». Такая была развалюха, прости господи.
– Слышал бы N, как ты пренебрежительно о его подарках!..
– Так он вроде бы слышит, нет?
Дамы оборачиваются и смотрят на мужчину N, он говорит злобно:
– Так ты и за рулем-то без году неделя была, что же тебе, «мерседес» подгонять? «Шестерку» и то – за полгода раздолбала.
– При чем тут это? – расстраивается NN. – Дело не в «шестерке»…
– А в чем?
– В твоем отношении!
– А какое отношение может быть к «шестерке»? – удивляется мужчина N злобно. – Особенно у меня? Тебе-то, ясное дело, один хрен по деревне. Ты задний привод от переднего не отличишь.
Женщина N смотрит в сторону. Упитанная птица нашла себе собеседника – вторую упитанную птицу. NN сильно кусает нижнюю губу. Гончаров-Обломов вспоминает о своем долге хозяина:
– Познакомьтесь, это Володя, – он указывает коротким пальцем на кожаные штаны, – наш Волооодюшка…
– Ага, Володюшка, – соглашается мужчина N злобно, – я бы даже сказал – ВолодЮшка, брава ребятЮшка.
Гончаров-Обломов смеется. Володя многозначительно разминает кисти рук.
– Постой-ка, – спохватывается мужчина N злобно, – так этот Володя – жених твоей племянницы?
– Ну да, Танюшки. Конечно. В принципе, практически муж.
– А какого хрена этот практически муж таскается с моей женой? Бывшей, – поправляется мужчина N злобно.
– Ты бы лучше поинтересовался, – говорит NN, – какого хрена Гончаров-Обломов приглашал меня в бар со стриптизом. Замужнюю женщину. Почти.
Голос ее дрожит. На нижней прокушенной губе выступает капля крови.
– Да, к слову сказать, – вспоминает мужчина N злобно, – ты зачем ее на стриптиз звал?
– Извини, – пожимает плечами Гончаров-Обломов, – как-то не подумал, что ты обидишься, честное благородное слово. Мы не чужие люди с NN, почти полгода семьей прожили… В экспедиции. Ну ты помнишь.
– Помню, – помнит мужчина N злобно, – она еще беременная тогда была.
– Не от меня, – уточняет детали Гончаров-Обломов. – Так что полгода, брат! Полгода!
Он трясет коротким указательным пальцем.
– Не полгода. А семь с половиной месяцев, – поправляет NN, – учитывая возвращение на теплоходе.
– Какая точность, – восхищается женщина N. Она обняла мускулистую талию Володи и вытащила из его кармана пачку сигарет. Закурила.
NN звонко кашляет и красиво отгоняет дым:
– Я умею считать, в отличие от некоторых.
– Умеешь. Но плоховато. А писать – и того хуже. Интересно, как ты рисуешь?
– Не подумал я! – громче говорит Гончаров-Обломов. – Честное благородное слово.
– Ты думай в следующий раз, – советует мужчина N злобно. – Так почему у твоего племянника помимо невесты шашни непонятно с кем? Для меня это дико, ты знаешь.
NN закатывает глаза и цокает языком. Она только что слизнула кровь с губы, во рту образовался соленый вкус горя.
– Она ему нравится, понимаешь? – задушевно объясняет Гончаров-Обломов. – Ты в человеческих чувствах разбираешься вообще?
Все проходят в дом.
– Нравятся люди друг другу, и это хорошо! Это, в принципе, главное, – продолжает он уже в теплой комнате, откупоривая шампанское.
Пробка вылетает с легким хлопком. Окончательно стемнело. Накрыт большой прямоугольный стол, на столе – целиком зажаренные курицы, две штуки, салат из консервированной фасоли, соленые огурцы, маринованные грибы, другая еда. Какой-то торт домашнего приготовления, коробка конфет, мандарины в начищенной медной вазе, сладкий пирог пахнет яблоками. Жена Гончарова-Обломова держит руки на огромном беременном животе.
– Сестренка, привет, – кивает она NN, – наконец-то выбрались. Сейчас ужинать будем. Я кур фаршировала, грушами, сыром и шампиньонами. Грушами, вообрази! Как там папа?
NN морщится, не хочет сейчас про папу – она откусывает конфету, чтобы избавиться от неприятного привкуса. Фантик складывает пополам и еще пополам. С глянцевого квадрата подмигивает коровка. Женщина N подставляет свой бокал под игристое вино, мужчина N улыбается наполненной стопке и добреет, Володя быстро ест холодец, завладевши горчицей. На кожаных штанах бликуют электрические отсветы. Где-то далеко или близко едет Танюшка, бедная племянница.
Лена Чарлин Равнодушие
Что еще я мог спросить у нее? Имя, только имя.
– Мисс, вы слышите меня? С вами все в порядке? Можете назвать свое имя?
Открыла глаза, долго смотрела на меня:
– Элис. Элис Броуди.
– Вы помните, какой сегодня день, Элис?
Короткая пауза. Наверное, все еще думает, кто я такой.
– Четвертое июля, вторник.
– Посмотрите на мою руку. Сколько пальцев я сейчас показываю?
– Пять.
– Посмотрите внимательно.
– Три. Господи, голова.
И ее лицо исказилось от боли.
– Попробуйте улыбнуться мне, Элис.
– Я… это последнее, что я могу сделать.
– Вы помните, как здесь оказались?
– Да.
– Послушайте, вам нужно в больницу, обнимите меня за шею, вот так. Мы поймаем сейчас машину и отвезем вас. Я понятия не имею, где она, но где-то же в этом городке должна быть больница. Боюсь, у вас солнечный удар или что-то вроде того. Вы бы видели себя – белая как простыня. Идти сможете? Давайте я помогу подняться. Вот так, аккуратно, тихонько, здесь лестница.
– Пить очень хочется. – Губы у нее потрескались, она пыталась облизать их вязким языком, ничего не выходило.
– Присядьте здесь. – Я усадил ее на ступеньки, поближе к дереву, а сам ринулся к своим вещам за бутылкой. Она сделала несколько коротких глотков. Оставшейся водой я смочил платок и приложил к ее лбу.
Я нашел ее на песке без сознания. А впервые заметил минутой раньше. Солнце в зените, адская жара, настоящее июльское пекло. Женщина в длинном цветастом платье, пошатываясь, шла по пляжу. Первое, о чем я подумал и за что потом себя корил, – да она пьяна! В такую сумасшедшую погоду, когда ни единого дуновения не доставалось от ветра, ни одной живительной капли от дождя. В те дни от жары меня спасал лишь большущий зонт, который я раскладывал на пляже каждое утро, двухлитровая бутылка воды и бар неподалеку, в котором готовили превосходный лимонад. До вечера этот ледяной напиток в мокром, в секунду запотевающем стакане был единственным, что я мог взять в рот.
Но второе чутье все-таки не позволило отвести взгляд от странной женщины и подсказывало мне: что-то здесь не так. Женщина останавливалась, оглядывалась, крутилась вокруг себя, подносила руку к глазам и явно кого-то высматривала. И вдруг споткнулась и упала. Я выронил из рук кисти, выбежал из своего тенистого укрытия и по кипящему песку, обжигая пятки, поспешил к берегу.
Потом уже, в видавшем виды стареньком «форде», который остановился сразу, как только мы выбрались на шоссе и я поднял руку, ее кружение по пляжу разъяснилось:
– Я потеряла собаку, – сказала Элис.
Сил у нее совсем не было. Морщась от головной боли и слабости, она облокотилась на меня, я обнял ее за плечо и придерживал мокрый, горячий уже платок на лбу. Минут десять мы ехали по городу, пока, наконец, не увидели красный крест небольшой провинциальной больницы. Я испытывал неловкость за то, что задавал ей все эти ненормальные вопросы про день и просил улыбаться. Дело в том, что за завтраком я прочел в местной газете заметку про то, как распознать первые признаки инсульта, и почему-то мне вздумалось, что с ней мог случиться именно он. Хотя Элис, конечно, была очень молода, думаю, не старше тридцати пяти. Но в статье писали, что инсульт молодеет с каждым годом и вот уже для сорокалетних считается нормой. Безжалостный век.
У нее оказался тепловой удар, слава богу. Молодой, не далее как вчера окончивший интернатуру доктор сказал, что Элис оставят еще на несколько часов, что она в полном сознании и к вечеру сможет спокойно добраться до дома, беспокоиться не о чем. Я облегченно вздохнул и понял, что так и сижу босиком в прохладном холле больницы. Было четыре часа дня, я вернулся на пляж, обул сандалии, сложил мольберт и краски и вернулся домой. На сегодня красочных впечатлений с меня было достаточно.
Она пришла на следующий день. Я заканчивал вечерний этюд и находился в том приподнятом творческом состоянии, которое охватывает человека, когда тот ловит волну вдохновения и чувствует, что все задуманное получается. Или вот-вот получится.
Я приехал на побережье писать серию пейзажей. Две недели назад мне позвонил мужчина, Майкл Келли, и сказал, что его отец семьдесят лет прожил у океана, но несколько лет назад обезножел из-за тяжелого диабета, и сын перевез его к себе в Бостон. К круглой дате – в конце лета старику исполнялось восемьдесят – Майкл придумал подарить отцу несколько картин с местами, по которым тот сильно тосковал. Чтобы океан всегда был у отца перед глазами.
Это был необычный заказ и щедрый, что оказалось кстати. Анна всегда начинала переживать, когда заканчивались заработанные деньги и мы начинали жить на сбережения, хотя у нас обоих были небольшие потребности, и мы понимали, что на главное всегда хватит. Но, хотя Анна молчала и никогда не упрекала меня, я все равно угадывал тревогу в ее глазах и тогда давал объявления о частных уроках живописи и портретах на заказ. Так Майкл нашел меня. Он предложил оплатить авиабилеты и аренду жилья на месяц. От билетов я отказался, самолеты всегда вселяли в меня ужас. Я приехал сюда на автомобиле и поселился в пяти минутах ходьбы от пляжа, поэтому мог писать весь день, до берега было рукой подать. Мы условились с Майклом о четырех этюдах – задумка была в том, чтобы запечатлеть вид на океан в четыре времени суток. Я заканчивал «вечер», когда вернулась Элис.
Она что-то понимала в живописи, видимо, потому что первое, что я услышал за спиной, были ее слова:
– Настоящий вечерний свет. Очень теплые цвета и плавные переходы.
Свет сегодня действительно был хорош, я внутренне ликовал от того, что, кажется, удалось воссоздать ту сиреневую дымку в воздухе, которую можно застать в морских городах после шести вечера, когда солнце сдается и катится вниз, и еще часа два перед закатом можно ощущать вокруг невесомую пелену. А потом смотреть, как на небе розовый переходит в лиловый, лиловый в лазурный и, наконец, тает за темнеющим горизонтом. Мое любимое на всю жизнь время суток, его не может передать объектив фотокамеры. Только глаз человеческий улавливает. И еще иногда кисть. Сегодняшним небом я был и вправду доволен. Хотя ликование было самой редкой моей эмоцией. Анна не уставала говорить, что нет на свете более сомневающегося человека, чем ее муж. Боже мой, я чертовски по ней скучал. Мы никогда так надолго не разлучались, и я готов был уже не спать сутками, чтобы поскорее закончить последний ночной пейзаж.
Я обернулся на женский голос.
– Как я рад видеть вас живой и невредимой!
Она держала в руках корзину с бутылкой вина и фруктами и выглядела совершенно здоровой.
– Не знала, как еще поблагодарить вас. Вчера был ужасный день, а вы оказались рядом. И Танга, мой пес, так и не нашелся, к сожалению.
– Мне очень жаль, Элис. Может быть, он еще объявится, не теряйте надежду. Но помните, что солнечные ванны хороши до одиннадцати и после пяти.
– Я уже это выучила, – грустно закивала она.
– Марк. – Я протянул ей руку для пожатия, и она впервые улыбнулась.
Я пригласил ее на ужин в свой съемный дом. В предложении нельзя было заподозрить никакого двойного смысла. Все-таки мы уже были связаны историей случайного спасения, а еще разницей в возрасте лет в двадцать пять, и я давно уже не воображал себя героем-любовником. Так что нам обоим можно было не опасаться друг друга и возможной неловкости. Кроме бармена, я так ни с кем и не познакомился в этом маленьком городке, поэтому рад был гостье и собеседнику.
Элис запекла окуня в духовке, я сделал салат. Мы выпили по бокалу. Я показал ей уже готовые картины на подрамниках и спросил, как она оказалась в городке.
– Я сюда просто сбежала. В детстве мы каждый год отдыхали здесь летом с родителями. Рыбалка, кемпинг, теннис, пляжный волейбол, рыба, запеченная на костре, о, какие это были счастливые времена. И когда мне пришлось бежать из дома, я не сомневалась, куда брать билет.
– Майкла Келли и его семью случайно не встречали?
– Келли? Нет, не слышала. Мы вообще-то мало с кем здесь общались. Просто снимали дом на месяц и жили своей доброй компанией. Нас было три сестры, мама и папа, всем и так хватало общества друг друга. Ну, вы понимаете, три шумные девочки.
Я кивал, хотя не сказать чтобы очень понимал. Мы с Анной были тихими людьми, а братьев и сестер у обоих не было. И у нас никогда не случалось домашнего «тарарама» – ни в детстве, ни в нашем браке. Хотя мы с Анной, конечно, любили потанцевать.
– Обожаю, когда мужчина и женщина танцуют. Уверена, вы отличный партнер, Марк. А мы с Грэгом любили петь.
Так я узнал про Грэга.
– У нас была песня. Такая забавная добрая песенка Бобби Дарена – «Вещи». Вы, конечно, слышали ее. Я садилась к Грэгу на коленки, он поочередно поднимал ноги в ритм музыке, и мы как будто бы шли задорно и весело. Я качалась на его ногах, и мотала головой в такт, и подпевала ему в конце строчек. Иногда Грэг нахлобучивал на меня шапку с синим помпоном, там были слова про катание на лодке, и Грэгу казалось, что нужен моряцкий костюм. Это было такое важное время – когда мы пели, словно наша любовь была записана еще и в словах, и музыке.
Он необыкновенно пел, Грэг, а свинг ему особенно удавался. Бобби Дарен, Дин Мартин, Фрэнк Синатра – Грэгу бы родиться на полвека раньше, и он бы составил знаменитым парням достойную конкуренцию. Ему нравилось быть в центре внимания, особенно женского. Так в стиле Грэга было – поцеловать руку, шепнуть на ухо приятное слово, подлить вина в бокал, проводить до машины. В этом была какая-то легкая старомодность, такая, что очень льстила женщинам. Но почему-то эти ухаживания никогда не казались мне лишними, не вполне красивыми жестами, ведь я знала, что единственная для него, я это слышала каждую ночь. Каждую ночь.
Но однажды он перестарался. Мы были на дне рождения у Патрис. У них сложные семейные связи, Патрис приходилась ему двоюродной сестрой, но нельзя сказать, что между ними было кровное родство. Патрис была приемной дочерью брата отца Грэга. Вот как сложно. Грэг выпил в тот вечер лишнего, никогда он не умел пить. В разгар вечера он постучал по бокалу вилкой и сказал:
– Для Патрис, моей славной и озорной сестренки, поет мистер Дарен.
И Грэг запел нашу песню: «По вечерам я сажусь у окна и смотрю, как на пустынных улицах влюбленные держатся за руки и смеются. И вспоминаю все вещи, которые мы делали вместе с тобой: прогулки в парках, поцелуи в темноте, морские путешествия и еще ночь, когда мы оба плакали, помнишь? Все, что мы делали вместе. Все, чего нет сейчас».
– Это было отвратительно, – Элис покачала головой. – Слова рассыпались в воздухе дешевым бумажным конфетти. Патрис пританцовывала и смеялась. Всем было так весело. А я тогда впервые подумала, что мне совершенно не принадлежит то, что так долго казалось секретным, интимным, нашептанным на ухо. Может быть, в тот день я и перестала ему верить.
Мы долго молчали.
Элис стала приходить по вечерам. Ни у нее, ни у меня в городе никого не было, и мы невольно сблизились. Я – тоскующий по дому и уже уставший от морского одиночества, хоть и приправленного работой. И она – беглянка от домашнего несчастья, от Грэга, о котором я почти ничего не знал, но уже догадывался, что он – прошлый. После работы я складывал кисти и краски в ящик, чистил руки от масла, мы разводили небольшой огонь и поджаривали тосты. Или шли ко мне и готовили легкий ужин, рассказывали друг другу что-нибудь. С ней было приятно говорить.
– Вы заметили, сейчас люди совсем перестали слушать друг друга, Марк?
– Почему вы так думаете?
– Я давно прочитала у какой-то писательницы, что беседа – это касание душ. Не правда ли, очень точное сравнение? Я хорошо понимаю, что это такое, словесное единение было у нас с Грэгом в самом начале. Случалось с вами такое, Марк? Вы встречаете человека, а он заканчивает ваши предложения. Вы существуете на полусловах, полутонах, а ваши половинчатые реплики складываются в ладный текст. Вы читали одни книги, смотрели одни фильмы, влюблялись в одинаковые строчки песен – все удивительные совпадения, которые и считать не берешься, так их много.
– Я знаю, каково это, Элис, – и действительно знал.
– Но прислушайтесь к диалогам на улицах, в ресторанах, да вот здесь, на пляже. Как они напоминают монологи, которым суждено оставаться без ответа. Каждый хочет говорить о себе. На первый взгляд, это нормально: ничья жизнь не интересует человека так досконально, как собственная. Но нормально лишь до того момента, когда вдруг поймешь: наша планета – из тех, где каждый хочет говорить о себе, а другого не слышит.
Ты делишься: «У меня прохудилась крыша. Каплет с потолка. Что делать, как починить – ума не приложу». И слышишь в ответ: «А я послезавтра улетаю на Арубу, представляешь? Плюс тридцать, бар с бесплатными коктейлями и никаких телефонов. Красота!»
«А я… А мне… А у меня…» Вам не кажется, что это ненормально?
Она ждала от меня реакции, но я мог сказать только одно:
– «Я» в этом мире звучит громче всех слов, Элис, и оно бесконечно.
Она поворошила палкой угли в затухающем костре и решительно сказала:
– Но полная тишина еще ужаснее. Ох, Марк, вы что-нибудь знаете про тишину? Вечную, оглушительную тишину в доме, полном людей?
Я что-нибудь знал.
– Моя жена Анна почти не слышит. Она глухая с рождения, и только слуховой аппарат помогает ей различать некоторые звуки. Мы знаем друг друга с детства. Наши отцы держали закусочную, и мы с Анной крутились поблизости с малых лет. Пока были маленькими, я даже не догадывался, что Анна не слышит. Мы как-то обходились без слов, детям они не особенно нужны до определенного возраста. А потом у нее появился первый слуховой аппарат, и тут уж родители мне все объяснили. Анна – самый добрый человек из всех, кого я знаю. Она и ребенком такой была, очень ласковой. В кафе заходили одни и те же люди, все хорошо друг друга знали, и Анна, завидев гостей издалека или заметив подъезжающую машину, бросала свой велосипед в траве и бежала по пыльной дороге, встречая посетителей радостными цепкими объятиями. Она забиралась на колени к женщинам, а мужчины дружелюбно тормошили ее светлые косички и угощали леденцами. Она читала по губам, ловила слова и всегда улыбалась, даже если не понимала чего-то. Могла сбежать неожиданно и через полчаса дать мне в руки листок – картинку, где красным карандашом был нарисован мальчик с кисточками. «Это ты», – неслышно произносила она губами, и сердце мое усиленно колотилось. Тогда об этом как-то не думалось, а сейчас вспоминаю, что маленькая Анна будто бы совсем не знала слова «я». Она вся была обращена вовне, к другим людям, они были ей интересны, ее врожденная особенность никак не мешала ее любви. А ведь тишина была для нее звуком всего на свете. Голосом мамы, скрипом качелей, стуком собственного сердца, смехом окружающих, их рассказами. Она и сейчас – всеми любимая радость, Анна.
Элис улыбалась.
– Это прекрасно и удивительно. И даже кажется, что почти невозможно. Знаете, я ведь всю жизнь мечтала, чтобы у меня было именно так. Взаимно и с нежностью. А получилось шиворот-навыворот. Может быть, я неточно формулировала свою мечту.
Я предложил ей сигарету. Показалось, что она делает едва заметное движение пальцами – средним об указательный – похожее на стряхивание пепла. Оказалось, к своему нелегкому душевному положению она добавила еще одну трудность – бросила курить.
– Вы не думайте, мне совсем не хочется сигарет. Просто когда иду куда-то, все время кажется, что иду курить. Но если я закурю, меня тут же стошнит, а я избегаю этого с детства.
Она смотрела, как гоняется у берега за подброшенной в воздух тарелкой-фрисби рыжая собака, и говорила:
– Может быть, Танга нашел дорогу домой. Он ведь из верных дому, мой пес. По крайней мере я в это верю. Я и сама из таких, как Танга. Дом для меня – все. Пристанище и убежище, место для души и тайное логово. Только никакой инстинкт уже не заставит меня туда вернуться.
И она рассказала.
– Я не знаю, когда финал стал очевиден и неизбежен. Помню только, когда почувствовала, что Грэг медленно покидает наш обжитой берег. Когда он перестал целовать меня в губы. Задавать вопросы. Замечать мое настроение. Когда стало очевидно, что я одна тяну нашу историю вечными шуточками, необычными обедами, спонтанными предложениями – в ресторан, за город, в кино, к друзьям. Еще когда случился деловой ужин с его партнерами, и, общаясь в узком кругу, я вдруг почувствовала физическую неловкость: Грэг держал меня под руку. Я в тот момент чуть не сошла с ума от догадки – мы несколько месяцев не были близки и не трогали друг друга, и я отвыкла от обыкновенного прикосновения. Тот вечер был очень добрым и счастливым. Мы много шутили, на обратном пути воодушевленный Грэг обнимал меня в машине и восторженно рассказывал о том, как мы проведем отпуск у океана, возьмем с собой Тангу, а телефоны отключим. Будем просыпаться в десять, купаться, читать рядом, заниматься любовью, объедаться, много гулять. Обещание было так правдоподобно, что в голове мгновенно нарисовался весь кинематографический ряд нашего будущего, которое все изменит к лучшему.
Но все вернулось на круги своя, едва отъехало такси и мы открыли входную дверь. Дом вновь превратил нас из мужа и жены в два тела, перемещавшихся из комнаты в комнату разными маршрутами, не пересекаясь. Грэг отвернулся и заснул, а я напилась до беспамятства. С утра он принес в постель алка-зельтцер, спросил, как я себя чувствую и может ли он чем-то еще помочь. Я мотнула головой и с того дня не произнесла ни слова.
Дом остался жить привычными звуками. Шумел по утрам фен, булькала кофемашина, фонил телевизор, скребли по тарелке вилки. Грэг входил после рабочего дня, разувался, снимал пиджак, на ходу развязывал галстук, склонялся и целовал меня в висок. Поцелуй в висок – очень нежный жест и спасительный, он позволяет избежать прикосновения к губам. За губы ведь можно ухватиться, как за шанс, и увлечь в любовное продолжение. А ему было проще не переключаться на новую волну, не прикладывать усилий, не отдавать. В его теле уже зарождалась страшная душевная болезнь, от которой нет спасения. Внешне все было как всегда. Грэг рассказывал про индекс Доу-Джонса и про упавшие цены на бензин, а чаще ничего не рассказывал. Читал, слушал новости, гладил Тангу. Все было как было всегда. Только голоса у меня не было.
Элис Броуди подняла на меня глаза и спросила:
– Вы тоже считаете, что любовь живет три года, как пишут в одной популярной книге?
– Нет, Элис, я думаю, что это очень пошло – так считать.
Потому что у меня была Анна. И я любил ее столько лет, сколько знал.
– Я тоже не верю. Мы с Грэгом продержались дольше, но дело было вовсе не в количестве лет.
Она много говорила в тот вечер. Может быть, впервые за месяцы.
– Мой школьный учитель музыки – непризнанный, как водится, гений – был очаровательным джентльменом благородных в прошлом кровей и тихим пьяницей в настоящем. Он уделял женскому миру много внимания, но музой своей называл одну. Женщину неброскую, тихую, не отсвечивающую при нем, но из тех, что глянут исподлобья, а назавтра Троянская война. Она вытаскивала его с сомнительных сборищ, отмывала, переодевала в свежее, забирала у непутевых друзей его стоптанные ботинки, ключи и иногда деньги. Она знала, что он слабак и неудачник, но он был ей нужен и такой: странный, безвольный, грешный, любой. Как-то осенью мы столкнулись с ним в цветочной лавке. Он был трезв, разговорчив и галантен, как всегда. Цветочница бесцеремонно скользнула по простым, хотя и опрятным одеждам и предложила:
– Возьмите хризантемы, только что срезанные. Для вас букет и бесплатная тесьма.
Мы переглянулись, он улыбнулся загадочно и немного виновато и отошел к другим вазам:
– Моя жена любит розы, я прошу вас – одиннадцать белых.
Он неспешно выбирал цветок за цветком, будто писал натюрморт, и мне казалось, что в глазах у него нарисована ее будущая радость. Моя жена любит розы. Интересно, Грэг знает, какие цветы я люблю?
– Вам когда-нибудь везло в лотерее, Марк? – Элис неожиданно меняла тему разговора.
– Ни разу в жизни. А всегда хотелось, чтобы это случилось хотя бы однажды.
– Не расстраивайтесь. Может быть, именно поэтому вам повезло в любви. И в этом смысле вы – счастливчик поудачливее всех вместе взятых, кому достался ценный денежный приз. А я как раз из тех, кому в придорожной грязи блеснет медным боком коллекционный пятицентовик и чьи пять номеров из шести выпадут в лототроне. Моя очередь на регистрацию в аэропорту окажется самой короткой, а, если я поеду с вами в машине, светофоры будут давать зеленую волну.
– Как здорово, Элис. У вас приятнейший из талантов!
Мы рассмеялись. Но Элис явно хотела рассказать о чем-то другом.
– Однажды я спешила в ресторан, у нас была годовщина с Грэгом, и он заказал столик на семь часов. Мне оставалось пройти два квартала, как вдруг с неба хлынул сильный дождь. У меня не было с собой зонта, и я забежала в первый попавшийся галантерейный магазин, совсем крохотный. И оказалась в нем тысячным покупателем. Вы удивляетесь? Я – нет. Говорю же, со мной постоянно это происходит. Мы сфотографировались с владельцем магазина, мне подарили совершенно жуткий торт, весь в кремовых розах и взбитых сливках, и еще – дорожную сумочку. Ну и зонт я купила, конечно.
Я смотрела на ливень за стеклянной дверью и думала, как бы теперь все уместить в руках – и торт этот невозможный, и новую сумку, и зонт. И тут позвонил Грэг. По голосу было слышно, что он в нетерпении. Спрашивал, когда я приду, уже было начало восьмого. А я, смеясь от нелепости ситуации, сказала ему, что нахожусь в пятистах метрах, и у меня в руках выигранный торт, и зонтик, и сумочка. И что на улице льет как из ведра, может, он бы сделал круг и приехал за мной на машине, ведь он был за рулем в тот день.
– Послушай, – прошипел Грэг, – ну какой торт? Какой дождь? Я приехал сюда пятнадцать минут назад, никакого дождя не было. Если это розыгрыш, то он не смешной. Приходи, пожалуйста, поскорее.
И Грэг нервно отжал мой вызов, я просто увидела, как он в раздражении бросил телефон на белую скатерть. Я положила нераскрытый зонт в подаренную дорожную сумку. Взяла торт. И вышла на улицу.
Лил дождь из тех, под которыми промокаешь вмиг. Я помню такой из детства, когда ливень застал нас с сестрами возле озера, где мы загорали и купались. Мы вдвоем весело побежали босиком по песчаной дороге к дому, а самая старшая, Лили, не захотела вылезать из теплой воды и так и купалась под водопадом. Мы кричали ей: «Лили, ты вся промокнешь!» А она хохотала и брызгалась счастливо: «Я уже, смотрите, я уже!» Как только добежали до дома, дождь кончился, но мы, конечно, уже были насквозь мокрыми. С волос, с наших носов, со всей одежды капала вода. Мы разделись до маек и трусов и выжимали платья, а потом гонялись по двору и старались достать друг друга скрученными мокрыми платьями. О, как это было здорово! Мама смотрела на нас с террасы и смеялась.
А теперь я шла пятьсот шагов до ресторана и никуда не торопилась. Мне не нужно было бояться промокнуть, потому что я была уже, смотрите, я уже. Метрдотель хотел что-то сказать про мой внешний вид: по расплывшемуся торту и прилипшим к лицу волосам я догадывалась, что выглядим мы со сладким кремовым безобразием примерно одинаково. Но я пообещала ему: «Ровно минуту. Внизу сидит мой муж, я позову его, и мы уедем». Он, кажется, онемел от моего вида и пропустил в зал ресторана.
Грэг вертел в руках телефон. У него была такая нервная привычка – подбрасывать ручки, крутить телефоны и пульт от телевизора, когда он чего-то ждал. Я подошла к столику и сказала ему с интонацией стюардессы: «Что желаете, мясо или рыбу? Или сразу десерт?» – и опустила торт перед ним на тарелку.
Он обомлел. Засуетился, стал оглядываться по сторонам и говорить, что не знал и что он сейчас же отвезет меня домой, не то я простыну. Грэг обернул меня своим пиджаком, под общее молчание мы покинули ресторан и в заряженном напряжением автомобиле доехали до дома. Грэг проследил, чтобы я переоделась, высушила волосы, выпила горячего чаю, а потом, грубо хлопнув дверью, куда-то уехал.
Мне всегда казалось… Нет, я в этом уверена. Что мой человек никогда бы не заставил меня пройти пятьсот метров под ливнем. А сумка та, выигранная, совсем недавно порвалась. Как знак.
Я слушал Элис, понимал и не понимал. Жизнь – она всякая, я это знал. И большая любовь может пройти – я догадывался. Но еще я понимал, что ничто не может сделать чувства ярче, если в одном из двоих проклюнулись ростки равнодушия. Ни деньги, ни путешествия, ни сторонний роман. Любовь – это когда внутри живет убежденность, что рядом свой, лучший человек, в болезни и здравии, как бы избито эти слова ни звучали. И по тому, как увлеченно мужчина слушает женщину, которая, моя посуду, рассказывает ему какую-то ерунду из детства. Как он смеется, представляя ее маленькой девочкой и чувствуя, как сжимается от нежности все его нутро. И по тому, как она приподнимается на цыпочках и любопытным взглядом в окно провожает его, выбежавшего к машине за забытыми перчатками, – видно, есть в них та самая убежденность или ее никогда не было. Возникни рядом случайный фотограф, запечатлей лица этих людей, и можно выбрасывать все пособия по психологии семейной жизни, потому что счастье – вот оно. В нужности, необходимости, интересе.
Я говорил об этом Элис в надежде, что не обижу ее словами и не трону за живое слишком уж больно. Но она закивала согласно.
– Это правда, Марк. А еще – это не наши с Грэгом стоп-кадры – забытые перчатки, истории из детства, нежность в глазах. И нашими уже никогда не будут. Это лишь снится мне: как он разыскивает меня в темной незнакомой комнате, разворачивает лицом от себя, входит в меня сзади, двигается истово, припадочно, полоумно и хрипит в мое разгоревшееся ухо: «Ты любишь меня?» Я оттягиваю момент, дышу через раз, громко смеюсь, но потом выдыхаю честное «да». И еще громче, слышнее, со смехом, с надрывом: «ДА!» Потом просыпаюсь и вижу его спину.
Если женщина начинает понимать, что ею пренебрегают, она не бросается в слезы, не устраивает истерику, не цепляется за уходящий шиворот. Поначалу она вообще в это не верит. Заглядывает поглубже в глаза любимого, как я заглядывала в его глаза: «Это ты, мой Грэг?» Это был он, мой Грэг. Признавать поражение кажется стыдным и неправильным, тогда женщина занимает позицию наблюдателя. Все пять чувств ее внезапно обостряются, она кожей ощущает холод мужского дыхания, остроту локтя, колкость щек. Видит боковым зрением, как он ходит мимо, не задевая ни пальцем, ни плечом. Как пуст его взгляд. Он больше не произносит ее имя, как раньше – шутливое прозвище, ласковые буквы, которые говорятся с глазу на глаз. Нечаянно за столом она касается его ноги, а он осторожно отодвигается, словно от неудобства, и мысль добивает ее окончательно: чужие, совсем чужие. Тогда она осознает, что ничего не может сделать. Куда ей кинуться – к зеркалу, психоаналитику, случайному любовнику? Некуда кинуться и не за кем гнаться. Она идет на эту Голгофу как на неизбежность, подняв голову, стиснув зубы, собрав все хладнокровие в кулак.
Я представила, что это продлится еще несколько десятков лет. Мы с Грэгом будем ходить не касаясь. Отличаться заботливостью, аккуратностью и верностью. Наш дом будет пуст и чист, его рубашки всегда будут выглажены, а в шкатулке с моими драгоценностями каждый год на дату свадьбы будет появляться новое украшение. Я увидела это как перемотанный вперед фильм. Боль сдавила мне горло, и я замолчала. Кубинский ром был мне другом до самого рассвета. В алкогольном мареве я представляла, что Грэг может снова полюбить меня так же, как дама с розами любит своего пьяного музыканта. Мне хотелось, чтобы он ругался, негодовал, тряс меня за плечи, держал волосы над ванной, оборачивал длинным полотенцем, нес в постель на руках. Часто дышал, молчал, злой и измотанный, а потом я бы приползала к нему на коленках. Он бы спускался на пол, и мы бы обнимались, как виноватые дети, стукаясь лбами: «Тише, тише, моя… нежная… я виноват, нет, я, иди ко мне, я идиотка, ты идиотка, какой же я дурак, какой же ты дурак, боже мой».
Но Грэг ничего не заметил. Ни пустую бутылку в ведре, ни мою неприбранность и изможденность. Только и удивился, что я спала в выходной до двенадцати и не поехала навестить его родителей. Тогда я поняла, что ничего не изменится, если я заберусь обнаженной на башню строительного крана, или выкрашу волосы в зеленый, или располнею на сорок килограммов, или замолчу. Мой последний шанс разве что – испариться.
Была тихая летняя ночь с ненавязчивым дождем. В такие дожди кажется, что они никогда не закончатся. Грэг давно заснул, а я никак не могла. Вылезла из-под одеяла, села на пол, посмотрела в окно, погладила корешки книг на полках. Залезла к себе в сумку, там лежала тетрадь с французским словарем, красная, с божьими коровками на обложке. Я вытащила ее и на последней странице написала: «Я больше никогда сюда не приеду». Не знаю, почему я это сделала. Может, просто записала то, что мне продиктовали откуда-то из других атмосфер. А может быть, я уже не могла находиться в доме, где больше не знают ни любви, ни сна, ни слова. И к вечеру меня там не было.
Мы попрощались с Элис до завтра. Этюды были дописаны, но я решил остаться еще на один, последний день. Мне хотелось дослушать ее и спросить, куда она двинется дальше. Казалось, есть еще что-то важное, что она должна досказать. Но я ошибся.
Элис не пришла ни на следующий день, ни послезавтра, ни еще через сутки.
Тангу я узнал сразу. Исхудавший бежево-золотистый ретривер лежал у шлагбаума автобусной станции, опустив голову на передние лапы. Пес не суетился, не заглядывал в окна проезжающих мимо автобусов и автомобилей, и не было никакого ощущения, чтобы он кого-нибудь ждал.
Я открыл переднюю дверцу и позвал его по имени. Танга поднялся, взглянул на меня пристально и запрыгнул в машину, словно он проделывал этот трюк каждый день. Мы поехали в кафе, и оба съели по приличному куску мяса. Во мне при взгляде на него проснулись голод и желание ни секунды не медля покинуть этот город. Я отправил Анне сообщение, что возвращаюсь не один. Очень хотелось написать ей еще, что я не знаю, что ждет в жизни дальше, только одно понимаю наверняка: в этом городе все закончено. Но я оставил эту мысль при себе. Танга спал на переднем сиденье и иногда вздрагивал во сне. Мы ехали домой.
Я двигался по ночному шоссе и думал об Элис. О лучшем дне, который еще ждал ее впереди. О дне худшем, который с ней уже случился. Я представлял, как, покинув мужа и их холодный дом, она стояла в очереди на регистрацию в аэропорту – конечно, в самой короткой очереди. Принимала бокал вина из рук стюардессы, спускалась по трапу, вдыхала влажный воздух знакомого с детства города. И я думал о том, как в это же самое время Грэг входил в дом, разувался, снимал пиджак, развязывал на ходу галстук. Отмечал, что на столе один прибор, но не удивлялся этому: в конце концов, Элис могла выйти в аптеку или магазин. На другой широте она теряла собаку, падала в обморок, делилась тайнами своей вынутой души с едва знакомым художником. А Грэг неспешно ужинал, читал, подложив под спину подушку, наливал виски на два пальца. Все шло как обычно. И лишь Танга, о которого он всякий раз спотыкался, сбивал Грэга с толку. Грэг не спотыкался. И вдруг понимал, что Танги нет. Нет Танги. А вслед за этим озарением приходило следующее – нет платьев, туфель, скрипа быстрых шагов по лестнице. Нет голоса Элис.
Грэг бросал взгляд на часы, спешно обходил дом и не узнавал свою территорию. Пробовал набрать телефонный номер, но цифры не поддавались, не выстраивались в нужную комбинацию. Он выдвигал ящики стола и не понимал, чьи в них вещи. Хватал фотографию на секретере, опускался на кровать. С десятилетней давности снимка – океан, песок, пинаколада – на него смотрел счастливый молодой человек и его спутница. В парне Грэг не без усилий узнал себя, а в девушке – свою жену.
И, может быть, впервые за долгое время вспомнил, что она есть.
Лора Радзиевская Мой цирк
Юрий Евгеньевич с сожалением отодвинул тарелку с бужениной:
– Динуля, больше не могу – лопну. Хотя погоди, не убирай…
Директор передвижного цирка № 13 Юрий Евгеньевич Барский даже слегка осоловел. Пожалуй, уже несколько лет ему не доводилось так вкусно есть – гастрольная жизнь предполагала только ресторанную еду по вечерам и бесконечный растворимый кофе с бутербродами в течение дня. Готовить было некому: жена Симочка умерла пять лет назад, и Барский за это время почти смирился с одиночеством и с перспективой доживать свои дни в Доме ветеранов цирка. Но сейчас разомлевший Юрий Евгеньевич смотрел на красивую (и наконец-то свободную) женщину, курившую напротив, и снова надеялся.
Он любил Дину уже лет тридцать – с тех пор как впервые увидел ее в Киевском цирке. Ухаживал элегантно и ненавязчиво – она все время была замужем, сначала за партнером по номеру, а потом оставила мужа-гимнаста ради какого-то знаменитого артиста, не имеющего отношения к цирку. После Барский сам уехал. Долго жил в Венгрии, а вернувшись, выяснил, что Дина родила дочь и ушла из цирка. Искал ее, но не нашел. Смирился, женился, неплохо прожил эти годы, овдовел. Но помнил всегда.
И вот теперь он ужинает в ее доме. Чудны дела Твои, Господи.
Случай, великий комбинатор и мудрец, столкнул их на улице южного города К., прямо около шапито. Дина посмотрела на Барского так, будто и не было этих десятилетий, улыбнулась и неожиданно легко приняла приглашение на премьеру. Пришла с дочкой Асей, светловолосой (видимо, в отца – шевельнулась неуместная ревность), хорошенькой и зеленоглазой (в мать).
Барский усадил гостей на лучшие места в директорской ложе, напротив центрального выхода. А когда в манеж пошел парад-алле, директор примчался за кулисы и осторожно отодвинул тяжелый бархат главного занавеса: женщина улыбалась, а девочка замерла, подалась вперед, к манежу. «Ну, малышка на все гастроли наша, – подумал. – Гены пальцем не расплющишь».
Так и получилось. Ася пропустила только три представления за тот месяц, что шапито № 13 стояло в городе: поранила ногу. Но как только сняли швы, пришла, опять сидела не шелохнувшись. Через две недели она спросила у Барского, можно ли человеку работать в цирке хоть кем, если ему нет еще восемнадцати лет?
После второго званого ужина Юрий Евгеньевич, откушавший гусика с гречкой и напрочь забывший о просьбе хозяйки дома не приваживать дочь к цирку, вдруг неожиданно для себя самого спросил:
– Дин, а чего она у тебя не в манеже до сих пор? Годная девочка-то к опилкам. «Воздух», конечно, исключен: кость широкая, не твоя порода, а вот эквилибр, жонглирование, иллюзия вполне пойдут. Да я бы ее и вести программу поставил – голосок хороший…
Хозяйка закашлялась, сделала страшное лицо и попыталась увести разговор в сторону необходимости получения высшего образования, но слово было сказано. И услышано. Трое суток прессинга понадобилось, чтобы подавить сопротивление матери. Девочка была очень убедительна: «Надо мной же тяготеет наследственность, мама! Я цирковая, у меня генетическая память…» Мать выкурила пачку сигарет за ночь – и отпустила.
* * *
Через неделю шапито сняли. Передвижка № 13 закончила работу в южном городе К. и двинулась дальше, на запад. Девочка уехала на первые в жизни гастроли. Уехала работать «хоть кем». Так начался ее цирк.
Так начался мой цирк. Мама, через два года выйдя из декрета, возила меня с собой, но короткая детская память сохранила только яркие цветовые пятна на опилках, блестящий шелковый бок черной пантеры Муси, в клетке которой я, четырехлетняя, однажды уснула, мороженое, что покупал мне акробат Боря, лилипута – с ним, маленьким, было так удобно ходить, держась за ручку. И все.
Мой цирк назывался «шапито» – полосатая, очень яркая брезентуха с противопожарной пропиткой (все равно сгорает дотла за 11 минут), разборные красно-желто-зелено-синие скамейки, четыре мачты, круглая «люстра» из гнутых труб, опилки, манежные ковры – основной красный и сменный зеленый, вагончики, кофры, фуры, зверинец, конюшня, псарня. Гастроли – по три недели в каждом провинциальном городе, пока не упадут сборы.
Тирасполь. Начало лета. Утро.
Я тихонько шлифую мелкой наждачкой кольца для жонглирования, которые выпилил только вчера гимнаст и жонглер Витька по прозвищу Ковбой, мой первый учитель. Сижу себе в курилке за только что повешенным форгангом (это занавес цирковой, тот, что над главным выходом на манеж), никого не трогаю. До премьеры еще неделя. Вздыхая, переступают в стойлах лошади наездников Александровых-Серж, из медвежатника пахнет медведями и утренней кашей (мясо, крупа, овощи), на манеже быстренько готовит к репетиции свои затейливые катушки эквилибрист Слава – и тут тишина взрывается смехом, грохотом посыпавшегося реквизита и легким матерком, переходящим в тяжелый мат.
Совсем юная и провинциальная, я никогда не видела выпускниц Московского циркового училища. Как и выпускников, впрочем. В труппе, в основном, были достаточно взрослые (а для меня так прямо старые, лет под тридцать) артисты, удивительные люди – мы успели подружиться за несколько дней, пока служащие манежа – униформисты, универсалы, умеющие мгновенно собрать и клетку для хищников, и установить сложнейший реквизит иллюзиониста, ставили купол и обустраивали цирковой городок. Но что есть и такие молодые цирковые, мне было неведомо.
В тот день и закончилась размеренная жизнь маленького цирка. Одновременно прибыли воздушные гимнастки на кольцах – три красотки разной масти, роскошная блондинка с лицом Снежной королевы – акробатка на тугой проволоке, крохотная девушка-«каучук» (пластический этюд на столе), пара молодых коверных, дрессировщица собак, дрессировщик медведей с женой, дочерью и медведицей Машкой, эквилибристы на першах и акробаты в ренских колесах. Там были еще люди, но именно этих я запомнила хорошо – чувствовала, видимо, что скучно не будет.
Так вот, первой на робкую меня наткнулась высокая, стройная, но широкоплечая брюнетка в ярко-желтом брючном костюме, курящая диковинную черную сигарету.
Надо заметить, что цирковые, приезжая в новую программу, всегда первым делом обязательно идут через конюшню и форганг знакомиться с манежем, на котором работать, то есть жить ближайшие несколько месяцев. И эта группа новоприбывших прямо с вокзала сразу примчалась в цирк.
Рядом с курилкой, которая, собственно, всего лишь угол, отгороженный брезентом, со скамейками и урной с песком, униформисты оборудовали традиционный мини-тренажер: перекладину и кольца на брезентовых ремнях. Девушка в желтом прошла мимо меня, выплюнула в урну окурок, легко подпрыгнула на высоченных каблучищах, на секунду повисла на кольцах, подтянулась, сделала выход силой и «крест» – элемент, очень сложный даже для мужчины, не всякий гимнаст его выполняет, а она, не разогреваясь, – ррразз – и там. Я аж дышать перестала – как же красиво напряглись мышцы под смуглой кожей. Это было великолепно.
– Ой, Ирка, да перестань уже выеживаться, да на похмелье, мышцу порвешь! – радостно сказали позади меня. И еще две чудесные девушки – блондинка и рыжая – материализовались в курилке.
– Здравствуй, сестренка, сигаретка есть? – тут же повернулась ко мне блондинка, хлопая себя по карманам, огромным, прекрасным карманам летнего пиджачка (я такие пиджаки видела только в «Бурде». Журнал, завернутый в кальку, приносила в класс самая главная наша модница Ритка, в руки не давала, листала сама, демонстрируя нам невиданной красоты вещи).
– Извините, не курю – проблеяла я.
– Да? Ну ничего, будешь! – оптимистично пообещала блондинка.
Три красотки (в программе их представляли как сестер Романовых. Они, впрочем, не были даже дальними родственницами, да и Романовой была только Ира-большая, девушка в желтом) работали воздушную гимнастику на пяти кольцах, скрепленных в виде олимпийской символики, высоко, почти под самым куполом. Ира-большая вертела в наручных петлях Иру-маленькую, Ольга делала копфштейн (стойку на голове) в «бублике», закрепленном на верхней дуге среднего кольца аппарата, – номер их был полон отличных трюков и проходил «на ура».
Славные были девочки. Сильные, красивые, добрые, смешливые… Мы дружили.
Как Барский и планировал, я вела программу вместе с вальяжным и царственным инспектором манежа Давидом Вахтанговичем, потихоньку возилась с теннисными мячиками, наполненными при помощи шприца водой (без воды они слишком легкие для жонглирования), с нетерпением ждала, пока завезут в «Детский мир» Тирасполя подходящие кегли, разноцветные такие, пластиковые, идеально подходящие для изготовления репетиционных булав. Обживалась на манеже, привыкала к репетиционному трико и чешкам с замшевой вставкой с внутренней стороны стопы – мне подарила их Ольга Брусникина, гимнастка на тугой проволоке, выполняла долгие растяжки по специальной методике Витьки – тут с советами лезли все, кому не лень. Рвали меня на части, показывая, как именно эффективнее «тянуться», мат стоял такой, что аж мачты краснели и брезент купола нагревался:
– Что… твою мать, ты советуешь? Она… пах так себе порвет, короста ты, тырсой[5] набитая!
– Да от… бись, шалашовка тупая, прокомпостированная манда, девку загубить на… хочешь?
Никогда потом в своей нецирковой жизни я не слышала такой необидной, такой дружеской обсценной лексики. Только в цирке самые грубые слова звучали как «ничего, все будет отлично». Старый клоун дядя Коля ругал советчиц и кричал, что «девку спортите, лярвищи», они замолкали и легкими разноцветными птицами усаживались на барьер, чтоб через минуту вновь вскочить и броситься к коврику, на котором я растягивалась, с очередной порцией советов.
Цирковые – они такие, да.
Однажды в понедельник, когда все уже после полудня были хорошо «теплые» (чтоб к вечеру весело напиться до полного изумления), старый клоун выбрел на манеж, где пыхтела под присмотром Ковбоя совсем непьющая я. Присел на барьер, внимательно пригляделся и вдруг:
– Витенька, а ведь у девочки подъем совсем не сломан. Что ж ты, Витенька? Как на комплимент выходить – ножку отставлять будет?
– Точно, вот я долбодятел, – сказал Витенька, – готовься, детка, щас начнем.
И я поняла, что еще ничего не было – вот только сейчас начнется самый цимес.
Подъем «ломают», чтобы стопа с вытянутым и напряженным носком смотрелась красивой дугой. Балетным ломают, цирковым – тоже, как выяснилось. В общем, меня усадили на барьер, положили на пятку отдельно взятую ногу и попросили вытянуть носок. Вытянула. Получилось очень красиво, на мой взгляд. Но мучители сокрушенно затрясли головами, Витька ухватился обеими руками за пальцы ноги и, надавив ладонью сверху, пригнул к бархату барьера. Не резко и не сильно, но я взвыла так, что на конюшне зафыркал конь Мальчик. Мучитель спуску мне не давал, полчаса «ломания» были обеспечены. Для каждой ноги – полчаса. Ежедневно. Моднючие босоножки на платформе пришлось сменить на легкие шлепки – так болели стопы. Походка моя стала похожа на утиную, представления я работала с трудом – в манеж не выйдешь в говнодавах, а каблук причинял сильную боль. До судорог. Но я была готова терпеть и худшее.
Клоуны Юрка и Лелик ободряюще подмигивали, а Ирка Романова хмыкала:
– Это ничего, это они тебя еще жалеют… Вот нас препод по акробатике не жалел – на пуантах по 10 минут стояли каждый день. Ссались от боли, а стояли.
Я внимала и продолжала упражнения со страстью неофита. Потом боль, конечно, прошла, а вот крутой подъем остался со мной навсегда.
Три фанерных кольца. Не много, кажется, но они летели куда угодно, только не мне в руки. По пятьсот раз я собирала кольца с манежа, и в пятьсот первый они снова разлетались и раскатывались по ковру… Я и плакала, и кричала, что не хочу больше «убиваться этой тупой работой», но Витька был неумолим (сам-то он легко жонглировал пятью предметами), и даже во сне я слышала его «а теперь еще раз – собралась, чурка!». «Коза криворукая, чтоб тебя!» – было самым нежным из эпитетов, которыми он меня награждал. За всю последующую жизнь я не слышала и сотой доли тех «ласковых» слов, что в первые полгода репетиций.
Мои ладони были в ранах от жестких ребер колец – меня бинтовали и гнали в манеж. Через два месяца появились мозоли между большим и указательным пальцами, и стало легче. А когда изготовились долгожданные булавы, отцентрованные под мою руку, красивые, яркие, – но с жесткими деревянными ручками, – через ладони легли полосы мозолей от этих ручек.
Жонглер репетирует бесконечно. Настоящие мастера репетируют по 8 часов в сутки, используя малейшую возможность ПОБРОСАТЬ. Это тяжелый и монотонный труд ради трех-пяти минут в манеже… В общем, я попала серьезно.
А пока что старый клоун дядя Коля мазал мне ладошки какой-то своей специальной мазью на травах, рассказывал бесконечные цирковые байки, бинтовал слабый от природы голеностоп и учил улыбаться во всю пасть, когда больно. Особенно когда больно.
Цирк живет по особому распорядку. Все дни недели – одно вечернее представление, суббота – два представления, дневное и вечернее, воскресенье – три. Понедельник – выходной. Поголовное веселье. Гуляли все, даже пожилые билетерши, даже величественный шпрехшталмейстер (конферансье и смотритель манежа) Давид Вахтангович, даже лошади и собачки. Играли в преферанс на ящиках за конюшней, ели всем коллективом вкуснейшую кашу, которую мастерски варил в огромном котле Серега, служащий дрессировщика медведей. В этой каше было все, чем государство СССР щедро (да, щедро!) снабжало цирковых зверей – мясо, крупы, овощи классного качества и приличного количества – директор Барский распорядился отсыпать по понедельникам продуктов для общего застолья…
А еще цирковые гуляют после закрытия гастролей в городе. Есть три дня, пока униформисты разбирают шапито, пока грузится в фуры аппаратура и реквизит, пока всей труппе покупаются билеты до следующего города и оформляются документы на перевозку зверей.
Я точно знаю, что люди цирка даже физически устроены иначе. Особенно те, кто принадлежит к династиям, когда прабабушка покоряла «арабеской» на скачущей лошади сердца офицеров русского царя, а правнучка крутит «вертушку» под куполом «Цирка дю Солей», например.
В коллективе передвижки № 13 была только одна представительница династии – Маргарита Балакирева, руководитель номера «гимнасты в ренских колесах». Чуть за пятьдесят, но в прекрасной форме – ни малейшего признака оплывания форм, стройные, сильные ноги, шпилька всегда, когда не в манеже, аккуратно выкрашенные блондинистые волосы, прямая спина, бугры мышц под все еще гладкой кожей (а попробуйте в течение пятидесяти лет потаскать по манежу колесо диаметром примерно два метра, которое сварено из труб толщиной в три пальца, неразборное и довольно тяжелое).
Риточка была очень примечательной дамой. Родилась в семье акробатов, в колесо влезла в пятилетнем возрасте, много раз выходила замуж, ради карьеры отказалась от детей, получила все возможные звания, стала заслуженной артисткой почему-то Казахской Советской Социалистической Республики. Объездила весь мир, насколько это было возможно в те годы, даже в нескольких капиталистических странах гастролировала. Давно купила кооператив в Москве, но жила у себя на Полянке раз в году – во время короткого отпуска, из которого спешила досрочно вернуться в цирковой конвейер, оставляя большую квартиру пылиться до следующего короткого визита.
* * *
Ветеран манежа, Рита давно перестала считать травмы. Однажды сказала, что только переломов помнит больше двадцати, но «все по мелочи, рука – нога – ребро». Несмотря на это, сохраняла прекрасную осанку и летящую походку. Очевидно, сильные боли в поломанных костях и стали первопричиной ее любви к «коньяковецкому» – так панибратски Рита называла коньяк. Плоская серебряная фляжка извлекалась по десять раз на дню, делался глоточек, – и Рита продолжала репетицию. Только однажды я увидела гримасу сильной боли – Балакирева сидела на ящике из-под реквизита около своего вагончика, а я несла морковку медвежатам. Вокруг не было никого, не нужно было «держать лицо». Балакирева посмотрела на меня, приложила палец к губам и вымученно улыбнулась:
– А что делать, деточка? Я не знаю другой жизни. Да и не умею ничего больше… надо терпеть. Это не очень больно, привыкаешь.
Крепкая была, сильная. А еще – добрая и смешная.
Кроме работы, Рита страстно любила золото. В смысле украшения. Вне манежа персты ея унизаны были множеством колец: старинная работа, красное, желтое и белое золото, и только с бриллиантами. Она покупала кольца и серьги во всех своих зарубежных турне и таки набрала пару килограммчиков за жизнь. Хранился клад в хронически не запирающемся вагончике, в верхнем ящике кофра – об этом знали даже собачки дрессировщицы Алдоны.
В цирке не воруют. Никогда.
Золото украшало Риточку не только извне. Оно было и внутри, так сказать. В виде зубов. В то время зубы делали из золота почему-то. Мосты, коронки – все было красиво, все блестело и матово светилось. У Риты из благородного металла была построена нижняя челюсть. Вставная. Точно знаю, потому что сама держала ее в руках.
Тот переезд совпал с днем рождения инспектора манежа, и труппа готовилась к пиршеству – справедливого и мудрого Давида Вахтанговича любили все.
Канистры с вином и коньяком занимали почти все пространство курилки – нам везли спиртное прямо с завода. Любил советский народ цирк, любил и ни в чем не мог отказать цирковым артистам. Мяса зверям заказали на мясокомбинате больше обычного, и клоуны построили два огромных кирпичных мангала – в коллективе было около 60 человек, никто не должен уйти обиженным. А овощи предоставила благословенная земля юго-западной Украины.
Из всей труппы не пили пятеро. Я (по причине юности), две древние билетерши, бывшие артистки (по состоянию здоровья), гимнаст Слава (зашился) и униформист Сережа, у которого к тому времени уже были удалены ⅔ желудка, он свое выпил. Ну и звери не пили, конечно. Им просто никто не догадался налить.
Праздник продолжался на заднем дворе за шапито всю ночь. Радостный, легкий, с песнями и музыкой циркового оркестра (пока музыканты были в состоянии держать инструменты, разумеется), вокруг столов вертелись собачки Алдоны, осоловевшие от кусков шашлыка, даже медведице Машке и медвежатам отломилось – рабочие отнесли угощение, когда еще могли ходить.
В общем, к утру цирковой городок выглядел иллюстрацией к цитате «О поле-поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» Кто где упал, тот там и уснул. А около ступенек своего вагончика изящно ползала на карачках заслуженная артистка. И шарила рукой под ступеньками и возле. Нет, все было нормально, без членовредительства, но в лице ее что-то изменилось. Я наклонилась:
– Вам плохо, Рита?
– Ошошо се, шубы тателяла тока, тлять.
Шубы? Какие шубы?! Лето же. Но на третий раз я поняла. Закусив губу, чтоб не расхохотаться, принялась ползать рядом в утренних голубоватых тенях, а сзади неслось:
– Тлять, ьопсь… тлять…
И причмокивание со шлепками.
Вскоре я нашла. Драгоценная запчасть тихо лежала под оранжевым кустиком календулы. Хотя Рита в том состоянии не заметила бы и челюсть тираннозавра, не то что свою. Находка была щедро ополоснута коньяком, мигом водворена на законное место, и воцарилась гармония. А я за розыскные способности и сдержанность была премирована Маргаритой Балакиревой. Старинное кольцо красного золота в виде двух собачьих голов долго было моим талисманом.
Собачьих голов в нашем коллективе было полтора десятка.
Многие не любят цирк как раз из-за зверей, которых там показывают. Много раз спрашивали меня, правда ли, что животину мучают, издеваются, опаивают и морят голодом? Правда ли, что вырывают клыки и когти?
Нет. Неправда. В том цирке, о котором рассказываю я, практически все звери были рождены в неволе, и другой жизни просто не знали. И их всегда любили и холили. А они рвались на манеж и ХОТЕЛИ работать «на зрителе». Вот честно – хотели.
Алдона, дрессировщица собак, две недели выходила только в парад-алле, в представлениях не работала. Директор Барский позволил ей это (выход в парад автоматически означал «палку» – рабочие часы, оплачиваемые стопроцентно), потому как причина была уважительная: болели три собаки. Все три – примы, на которых был завязан весь номер. Алдона варила какие-то травяные настои, говяжьи бульоны для каш, бесконечно кипятила шприцы для уколов, имея номер в гостинице, ночевала в цирке, в вагончике. Потому что ее заболевшие псы спали там же, на полу, на мягких матрасиках, которые служащая псарни меняла каждые два дня и просушивала на солнце.
– Детка, собаки чувствуют всё. Сейчас им страшно, больно, и они хотят, чтоб я всегда была рядом. Особенно ночью. Так быстрее выздоровеют, да и мне спокойнее, – сказала Алдона как-то, когда я вечером понедельника принесла из аптеки лекарства для псов.
Цирковые вовсю наслаждались выходным, клоун Юрка играл на гитаре, народ подпевал, скучковавшись у костра, который развели за конюшней, и Алдона слушала стихийный праздник, сидя на ступеньках своего вагончика. Один пес лежал на траве у ее ног, второй сидел, привалившись боком к бедру хозяйки (именно хозяйки, не дрессировщицы), и блаженно жмурился, а третий, огромный шоколадный королевский пудель, частично свешивался из двери вагончика, устроив голову на худеньком плече Алдоны. Им было хорошо вместе – женщине и собакам.
Это сейчас на манеже можно увидеть и борзых, и мастифов, и джеков, и такс, и эрделей с «чернышами», и даже полных достоинства стаффордов. А много лет назад зрителя радовали пудели, болонки, редко – скотчики и очень часто – беспородные, но обаятельные метисы. Такая смешанная компания была и у Алдоны. Если дрессура собак не дело династии, то в дрессировщики цирковые почти не шли. Подготовка номера «с нуля» отнимала колоссальное время, выбить денег на реквизит, костюмы, кормежку и содержание будущих артистов было трудно, купить готовый номер – дорого, да и не всякий человек продаст СВОИХ собак хоть какому расчудесному чужаку. Но бывают исключения.
Алдона была воздушной гимнасткой когда-то. Коронный трюк – стойка копфштейн (на голове, без помощи рук, только за счет мышц и баланса), да еще и в складке. И все это происходило на рамке, вращающейся на приличной высоте.
Я часто крутилась около собак. Алдоне это нравилось, она даже давала мне несколько поводков, и мы гуляли на поле со всей сворой. Двенадцать псов, Алдона и я. Там, на этом заброшенном футбольном поле, она однажды и рассказала мне вот что:
– До тридцати пяти я работала «воздух», лауреатств всяких мы с мужем наполучали, премий и титулов. Он крупный был, суровый такой эстонец. Я его черствость долго принимала за проявление мужественности, а жестокость на репетициях мне казалась упорством. Детство в детдоме научило радоваться малому и ценить семейные отношения. Даже тому, что он ронял меня довольно часто и сам же потом орал, я тут же находила оправдания. Пока однажды не упала из его рук особенно неудачно. Так, что пришлось отлеживаться сутки на конюшне. Благо был выходной, и муж уехал к своей матери.
Я лежала в свежем сене, а рядом расположились собаки. В коллективе работала известная дрессировщица, дама весьма элегантного возраста, величественная и строгая. Псы подчинялись ей беспрекословно, номер проходил под овации. Это было крепкое партнерство, построенное на взаимном уважении, я чувствовала, что только на уважении. Любить стареющую холодную леди было сложно даже огромным собачьим сердцам…
В выходные собаки гуляли по всей большой пустой конюшне. И вот я лежу, голова кружится, тошнит, странная слабость накатывает волнами, пригрелась среди разноцветных дружественных мохнатых боков и, кажется, уснула. А очнулась уже в больнице. Нарушения цикла были всегда, так что о беременности я и не подозревала. Ребенка хотела очень, но муж все откладывал, и я подчинялась. Спасли, но доктор сказал, что о детях можно забыть и что мне еще повезло: за несколько часов без сознания кровотечение постоянно усиливалось, и все сено подо мной промокло. Меня не нашли бы еще долго, если бы рабочие в тигрятнике не услышали, как колотятся в дверь конюшни и воют псы.
– После больницы я пропадала на псарне. Мои спасители окружали меня – те самые четыре замечательных пса превращались в мохнатые комки чистого восторга, я была облизана со всех сторон, почти затоптана дружественными лапами и очень счастлива. Старая дрессировщица наблюдала все это какое-то время и вдруг предложила купить у нее номер. Десять рабочих собак, реквизит, костюмы, клетки – всё. Она сказала, что уверена: у меня получится. И псы меня ЛЮБЯТ. А раз любят, то помогут. Любовь – всегда помощь.
Я побежала к мужу, но получила отказ. Но разве такой пустяк, как отсутствие денег, мог отменить чудо, которое меня ждало? В скупку и к подругам, которые давно просили уступить хоть что-то, улетели все драгоценности, но я отнесла половину нужной суммы старой дрессировщице. А тут исчез и муж – ему не нужна была бездетная женщина.
Собаки приняли меня сразу. С минимальным репетиционным периодом мы выпустили номер, я даже добавила несколько трюков. Никто не верил, что стая взрослых псов будет работать с новым человеком так быстро, но они работали! Работали с удовольствием. Номер вскоре стали приглашать в большие цирки, мы много гастролировали и я скорее, чем ожидала, вернула остаток долга старой актрисе.
Алдона дружила со своими собаками. Они подчинялись даже движению ее бровей, я видела это собственными глазами. Подчинялись совсем не потому, что боялись, нет. Просто очень ее любили. А она любила их.
Закончилась эта история замечательно. Через пару лет я узнала, что Алдона вышла замуж за хорошего человека – он приезжал делать прививки ее псам. И что все они – Алдона, ее муж и его сын, живут в большом доме где-то под Астраханью. И что псы живут с ними. И что у Алдоны и ее ветеринара теперь питомник.
«Питомник Волшебных Псов» – так он называется.
Многие артисты из нашего коллектива тогда брали у Алдоны щеночков. Гимнастка Оля тоже взяла беленького малыша. Наша добрая Оля…
Тугая проволока – штука особая. Вроде и невысоко – метра четыре от манежа, и не убьешься в случае чего, но страшно. Одна махонькая площадочка из никелированного металла ходит ходуном, вторая так же далеко, как Австралия, между ними натянута проволока толщиной в два пальца, на проволоке пляшет ангел.
Натуральная блондинка, с маленькой головкой на длиннющей беззащитной шейке, с огромными глазами и перламутровой розовой кожей, с точеным носиком, идеальной воздушной фигуркой и роскошным бюстом. Прибавьте к этому великолепию длинные ножки безупречной формы, и вы получите оружие массового поражения.
Ах, эти батманы – пируэты, эти сальто и шпагаты, этот круглый веер в руке, эти завитки светлых волос на шейке – ни у одной артистки не было стольких желающих подержать страховочную лонжу на выходе, как у Ольги. Но скоро лонжа стала оказываться исключительно в крепких руках Юрочки, вольтижера из группы наездников Александровых-Серж. Тоже красота – эти икры и бедра в трико, эта легкость и сила в тяжелых плечах, эти щелчки шамбарьера (кнут, которым направляют лошадей в манеже), в руках берейтора, эти взлетающие над крупом мчащейся лошади фигуры… Мальчики Серж были один в один – как богатыри у Пушкина. Но Юрка был лучше всех.
А если двое краше всех в округе, как же им не думать друг о друге? Тем более что Оле было ужжжасно много лет, аж двадцать пять, и она подумывала о муже.
И он появился. Жокей Юра достоялся на страховке Оленьки до того, что через три месяца ушел из своего номера и сел на репетиционный период, вводиться партнером в номер.
Оленька, выпускавшаяся из училища именно как эквилибристка на проволоке, чувствовала себя на ней так же комфортно, как вы себя – в любимом кресле. Три часа репетиций ежедневно, включая и выходной понедельник, были ее нормой. К моменту встречи с Юриком Оля была на канате одна. Партнерша, с которой они готовили и выпускали номер, забеременела и решила оставить ребенка. Все трюки, рассчитанные на двух девушек, пришлось отменить. А тут Юра. Просто подарок судьбы. Атлет, красавец, акробат и муж. Надо брать.
Но была проблема. Состояла она в том, что бесстрашный Юрка панически боялся тугой проволоки. Проработав несколько лет в коллективе жокеев, он запросто прыгал с манежа на галопирующую лошадь и становился верхним в пирамиду из пятерых акробатов, выстроенную на спинах скачущих лошадей, а это страшно даже наблюдать, но Юрка ухитрился всего пару раз ломать кости, установив своеобразный рекорд для жокеев, и считался везунчиком.
На канате везение иссякло. Юра брал в руки круглый веер (то, чем артист держит баланс), делал первый шажок по проклятой проволоке и впадал в ступор. Я наблюдала его муки с первой репетиции и потому знаю, сколько часов страха понадобилось, чтобы продвинуться на два метра. На дрожащих ногах Юрик продвигался приставными шажочками вперед, и лицо его выражало муку.
Получив доступ к благам цивилизации, мы, увы, перестали прислушиваться к своим сигнальным системам. Почти перестали. Мы больше не верим предчувствиям и говорим интуиции, которая бьется в истерике: «Да заткнись ты, идиотка параноидальная». И зря.
Но у Юры была Оленька, молодая жена, красавица и богиня, которая ОЧЕНЬ хотела ввести его в номер. И он старался.
А в курилке, где мы встречались часто, зализывая раны (я меняла пластырь на разбитых ладонях и охлаждала их в ведре с водой, а Юрка растирал прополисом свод стопы), он однажды сказал:
– Детка, эта проволока меня угробит. Я чуть ли не гажу под себя, все враждебно здесь… Ощущаю ее как клинок, по лезвию которого иду. А представь, если нога соскользнет? Евнухом жить?
Через два месяца Юра и Оля уехали и сели на репетиционный период в Баку. И мы потерялись, как выяснилось, навсегда.
А еще через пять лет я встретила в ивановском цирке жонглера Наташу Биляуэр, и она рассказала мне финал истории борьбы жокея с тугой проволокой.
Проволока победила. На одном из представлений нога Юры все-таки сорвалась, он не успел поймать баланс и с высоты своего немаленького роста пришел промежностью на толстый, тугой и очень жесткий железный канат. Два месяца в больнице, иссечение, инвалидность. Ольга оставила его, когда он еще лежал в Склифе.
Наташка сказала, что Юрик сильно пил, привыкая к новому статусу. Но сейчас все хорошо, у него богатый любовник, Юра исколесил с ним мир и даже заново научился улыбаться.
Несколько лет назад я встретила Юру в одном закрытом клубе. Он знаменит и богат, мелькает в телевизоре, и он меня не узнал.
Следующим городом были Бендеры, Молдавия. В Бендерах к нам присоединилась воздушная гимнастка. Надя Капустина. Немногословная, с прямыми широкими плечами, с вечной сигаретой в пальцах, всегда исключительно в брюках, берущаяся за любую подработку на разовых выходах и на лонже, двадцативосьмилетняя Надя казалась маленькой мне, угрюмой и пожилой.
Она не пользовалась косметикой вне манежа – цирковые девчонки, вынужденные накладывать на лица килограмм тона и румян, клеить метровые искусственные ресницы и рисовать алый вампирский рот (а иначе особый, бьющий из множества боковых цветных софитов свет манежа «съест» лицо напрочь – будет белое пятно), гримировались в быту только в исключительных случаях.
А еще Надя назначила себе аскезу в несколько часов ежедневных репетиций и строго придерживалась ее. Номер не требовал такой яростной подготовки – Надя была лауреатом всех возможных союзных конкурсов и двух международных, что в ее жанре довольно трудно из-за высокой конкуренции.
Жанр – штейн-трапе, качающаяся трапеция, специально утяжеленная, чтоб можно было делать трюки с эквилибром. Гимнастка работает на высоте минимум двенадцати метров. Поперечная штанга, на которой она выполняет трюки, полая внутри, в нее продевается трос страховочной лонжи, и вся эта конструкция раскачивается под куполом с приличной амплитудой. Во время кача артистка радует зрителей стойками на руках, копфштейнами, висом на пятках.
«Гвоздем программы» Нади были неполные штрабаты (без веревки и обрыва до самого манежа). В высшей точке раскачивания она просто падала спиной вперед с трапеции под дружное «ахххх!» зала, в последнюю секунду цепляясь носками за углы аппарата – и так несколько раз за трехминутный номер. В различных вариациях. Номер проходил под ураганные овации. Всегда.
Но однажды наступил этот день. Я сказала выше, что лонжа продевается в полую штангу. Так стало теперь. А раньше трос крепился сбоку и свободно скользил по боковому канату, матерчатому, усиленному изнутри стальным шнуром. В каче, когда трапеция еще не опустилась в широкую амплитуду, Надя выполнила традиционный обрыв и… полетела в ряды.
Моментально образовалась пустота – зрителей как ветром сдуло, и красные деревянные скамейки зала ощерились навстречу падающему телу.
В проходах обычно стоят униформисты. Потому как детки зрителей имеют привычку выскакивать на манеж, чтоб «погладить кисю» с вершковыми клыками. Пьяненькие товарищи тоже любят поучаствовать в представлении и лезут туда же.
Дядя Боря, одинокий пожилой униформист, бывший воздушный гимнаст, стоял как раз в красном секторе. Он и принял удар Надькиных пятидесяти килограммов на руки.
Я не успела ничего разглядеть от форганга. Секунда ужаса, молниеносное движение темного пятна – и Надя уже в мягких опилках манежа, а не на смертельном дереве скамеек. И дядя Боря, лежащий грудью на манежном барьере. Реакция тренированных мышц позволила старому гимнасту оттолкнуть тело Нади в воздухе, изменив траекторию падения.
Он сломал запястья обеих рук, Надюша – ключицу, несколько ребер и ногу. Но осталась жива. Наши летали в Склиф сдавать кровь перед ее третьей операцией на голени. А через полгода она снова вышла в манеж. Ребята потом говорили, что улыбаться Капустина стала значительно чаще и вообще вся как-то засветилась изнутри…
Никого из труппы не посвятили в причину падения – аппарат сняли тем же вечером и отправили на экспертизу. Но лонжа теперь пропускается через трубки, а не болтается сбоку.
А вскоре дядя Боря, получивший инвалидность после переломов, уехал к Наде. Жить в ее небольшом доме в Джубге. Пока Капустина гастролировала, там жила мама Нади с ее шестилетним сыном, тяжело больным аллергической астмой. Собственно, потому и ломалась Надя, пытаясь заработать, – ребенку нужны были импортные лекарства, которые привозились только из-за границы или покупались в валютных аптеках.
Через несколько лет я была в Джубге и видела там сына Нади Капустиной – юношу Костю, высоченного, абсолютно здорового, и двух красивых стариков, тетю Нину и дядю Борю. Они кормили меня персиками и виноградом из собственного сада.
Дарья Амиранова Вафля
Новый год
– Дашка, мне нужна бомба, ты должна мне помочь, я к чертовой матери разнесу этот крысятник! – вломился ко мне один раз мой школьный друг Вафля. Дело было в канун Нового года, перед выставлением полугодовых оценок.
С Вафлей, или Васей, как его вообще-то звали на самом деле, мы были знакомы с рождения и, вообще говоря, являли собой странное зрелище. Как получилось, что мы стали лучшими друзьями, не знает никто. Вася был из интеллигентной семьи, из еще более интеллигентной четырехкомнатной квартиры с красным роялем и красивой, по-театральному манерной мамой, тихий воспитанный романтичный мальчик, которому родители запрещали общаться со мной. В этом был свой резон, так как я жила в тесной шумной коммуналке, отца своего видела редко, вечно ходила в каких-то обносках и говорила громко, почти не останавливаясь. Уже в раннем детстве я была такой, как писал Довлатов: «Энергичность ей заменяла интеллект и характер».
Мы всё детство прожили в соседних подъездах, учились в одной школе, играли в одной рок-группе, вместе получали награды за всякие достижения (я по физике, он – по не особо точным наукам).
Вася был незамутненный брильянт, он не умел врать, всегда глупо улыбался, читал свои плохие стихи вслух и невпопад, грезил о дальних странах и всегда отдавал мне все свои деньги, на которые я таскала его на «Звездные войны».
Когда я однажды принесла ему домой беременную кошку из подвала, Вася согласился оставить ее у себя без малейших колебаний. Его мама пыталась сопротивляться, но мы построили редут в его комнате, окопались и устроили голодовку до тех пор, пока враг не был сломлен. Мою же маму мы изводили тем, что шумно катались на велосипеде по нашей квартире, разгоняя соседских детишек и кошек, отчего и без того никудышные коммунальные отношения накалялись до предела. Вместе мы ходили к моему папе на другой конец города. Папа нежно Васю любил, называл на «вы» и обращался к нему «юноша».
«Скажите, юноша, какой период отечественной истории вызывает ваш наибольший интерес?»
Внешне Вася был высокий и плоский, как вафля, брюнет с зелеными глазами. В какой-то момент он превратился из тихого идиотски улыбающегося глупого маменькиного сынка в меланхоличного философа. Но это уже была взрослая история.
В тот день, когда Василий с криками про бомбу ворвался ко мне, выяснилось, что он вздумал отомстить учительнице по физике Гаване (она же была его классной руководительницей) и сам вызвался делать доклад на свободную актуальную тему.
Это было очень смешно. Дело в том, что в точных науках Вафля был тупица-виртуоз, единственное, что его интересовало в школьной программе по математике, – это этимология слова «дискриминант», когда он решал квадратные уравнения, – это была поэзия. Опера «Хованщина» – это жалкий комикс на тему завоевания по сравнению с тем, как он читал учебник химии со словарем. И этот человек взялся делать полугодовой доклад по физике.
Но мне тоже было интересно поучаствовать в большой заварухе, поэтому я потратила все выходные и написала ему прекрасное исследовательское эссе на актуальную физическую тему – «Что произойдет, если все жильцы нашего девятиэтажного дома одновременно спустят воду в своих унитазах».
Вообще всю эту кашу заварила студентка-практикантка из педагогического училища, вкатившая Василию трояк за сочинение о Чехове с формулировкой: «Односложно, невыразительно».
Это было очень смешно. Дело в том, что я уверена: ни до, ни после того случая этой студентке больше не представилось шанса встретить настолько блестящего ученика, как Вася. Никто не чувствовал ткань родного языка лучше него, писал он всегда очень точно, вдохновенно, щеголял роскошью цитат, которые были не знакомы нашим усталым нервным теткам. Кроме того, багаж его знаний по литературе, истории и философии намного превосходил не только школьную программу, но и обычные представления о человеческих возможностях. Об этом судить было не мне, но я часто вытаскивала его с дополнительных семинаров, где употреблялись слова «схоластическая метафизика» и «концепция русского футуризма».
Так вот Чехов. Про Чехова он мог написать сочинение хоть гекзаметром, хоть матерными частушками. Но предпочел писать просто и без излишней аффектации.
В своих воспоминаниях о Чехове Бунин пишет:
«Очень трудно описывать море, – говорил Чехов. – Знаете, какое описание моря я читал недавно в одной ученической тетрадке? „Море было большое“. И только. По-моему, чудесно».
Вот именно так просто и неманерно Вася и писал. Обвинить его в односложности было можно, но вменить это в недостаток – все равно, что обвинить художника Репина в том, что он в своей работе мало использует фиолетовой краски. Короче, говоря чеховским языком, это было распреканальство.
Но еще хуже появления у Василия в ведомости за четверть первой в жизни тройки по литературе было то, что Гавана прочитала ему лекцию на тему: «Во-первых, укротите свое самомнение, а во-вторых, умейте держать удар». В принципе, это был очень правильный итог. Но Вафля обиделся. Вот на это «укротите свое самомнение» он обиделся смертельно и решил отомстить, хотя по жизни никогда не был революционером.
Поэтому на следующем уроке физике он начал доклад со слов: «В случае засорения канализационной магистрали все унитазы нашего многоквартирного дома представляют собой систему из 180 (ста восьмидесяти) сообщающихся сосудов».
В конце он приводил мои размышления о высоте струи дерьма в случае, если все жители вдруг решат спустить воду одновременно.
Гавана вначале изумленно уставилась на докладчика и приготовилась дать ему отпор, но, слушая аккуратное перечисление вводных данных, поправки на разность плотностей, изучая схематичное изображение сети сортиров и составленную систему уравнений, в конце концов поняла элегантность этой хулиганской выходки. С точки зрения физики придраться было не к чему, задачу решала я, а у меня как в аптеке, настоящая серьезная работа, можно сказать, полноценное исследование на основе всех изученных за отчетный период законов физики.
Надо отдать Гаване должное, если ей и требовалась какая-то внутренняя работа, чтобы взять себя в руки, то внешне она оставалась совершенно спокойна. По-деловому задала несколько дополнительных вопросов относительно давления в канализационных трубах в зависимости от диаметра, нарисовала оценку в журнал и разрешила Вафле садиться. Класс завороженно смотрел на битву титанов, боясь испортить представление, ловя любое слово каждой из сторон и готовясь моментально разнести эту хохму, которой, как все прекрасно понимали, суждено было превратиться в вечную школьную легенду.
Гавана была женщина из другой эпохи. На самом деле звали ее Ольга Ивановна, и в те времена ей было уже за семьдесят. Она, как мне казалось, была из того поколения учителей, которые уже перестали пороть детей розгами, но все-таки успели выработать иммунитет к визгливой советской образовательной системе. В ней было самое необходимое качество, которое и отличает настоящего учителя от обычного, а именно достоинство. Она ценила личность в каждом ученике, никогда ни на кого не повышала голос, хотя за любой проступок умела уничтожить строгим взглядом, от которого насквозь прожигало стыдом. Свой предмет она преподавала настолько увлекательно и с такой страстью, что это передавалось и нам, это было противоестественно – не знать физику у Гаваны или хотя бы не приложить к этому всех возможных усилий. Кроме того, она никогда не скупилась на теплое общение, поощряла любые взбрыкивания наших сложных натур, если видела за этим что-то настоящее – амбиции, интерес, творческую искру, принципиальность.
Одним словом, Гавану я уважала, и мне было не по себе участвовать в таком терроризме против нее.
Естественно, наказание воспоследовало. Для серьезного разговора Ольга Ивановна пригласила нас к себе домой. Спинным мозгом мы понимали, что перегнули палку, но решили идти до конца.
Когда мы пришли, разделись в прихожей и зашли в комнату, то нас просто раздавило чувство собственной неуместности. В гостиной стояла елка. Ничего красивее я в своей жизни не видела, в моем понимании обычные новогодние елки представляли собой убогий обглоданный сухостой, на котором уродливо висели сопли разноцветной фольги.
Эта же елка была непосредственно из сказки. Ровненькая, пушистая, высокая. Украшена она была сверкающими звездами, настоящими свечами, пряниками, хрустальными фигурками ангелов, фарфоровыми балеринами, щелкунчиками, там были герои арабских сказок, разноцветные райские птицы, герои языческих мифов и много чего еще.
Мы и представить себе не могли, что в обычной панельной пятиэтажке может быть такое великолепие. Под елкой ползал правнук Ольги Ивановны, а в доме пахло пирогами и… домом. Нам было так неуютно от нашего вторжения, я чувствовала, что мы – разгоряченная конная Красная армия, ворвавшаяся с шашками наголо в детский планетарий. И особенно было странно видеть жесткую Гавану в домашних тапочках и накрывающую на стол.
Мы провели прекрасный вечер в разговорах о жизни, о мечтах, она рассказывала нам свои истории о том, как в тяжелое послевоенное время ей приходилось объяснять законы Ньютона солдатам, прошедшим бомбежки, контузии, голод, расстрелы. Они все были старше нее и не воспринимали вчерашнюю школьницу с косичками всерьез. Курили, матерились и демонстративно игнорировали. Тогда она решилась на первый в жизни серьезный педагогический шаг и на глазах у изумленной публики побрилась наголо, завоевав таким образом уважение и восхищение учеников. Она долго говорила о нашей школе, рассказывала учительские байки, показывала фотографии своих домашних, письма от учеников, которые стали профессорами и лауреатами премий.
Время так быстро пролетело, а она ни слова не сказала о том, как мы ее обидели. В конце она подарила нам коробку конфет, перевязанную ленточкой, со словами: «Ребята, вы такие оба замечательные, с Новым годом вас!»
Мы шли домой совершенно нахлобученные этим событием, думали о том, какое чудо с нами случилось.
Вот тут можно закончить очень пафосно и сказать, что самое главное – это когда нас в праздник, да и в любое другое время окружают только самые правильные и уникальные люди, от которых получаешь самые главные в жизни уроки.
Но на самом деле нет. Самое главное – это когда в доме пахнет пирогами и домом. За всякими бытовыми обидами и другой мелкодисперсной ерундой об этом часто забываешь.
А зря.
Никогда-никогда
…И с улыбкой, страшною немножко, Всё распустит разом, что связали мы. В. Ф. Ходасевич– Понимаешь, малыш, если мужчина тебе говорит, что у тебя красивые глаза, это означает, что ты тупо ему не нравишься, и ему больше нечего тебе сказать. Это как в фильме про Мюнхгаузена. «В Германии иметь фамилию Мюллер – все равно, что не иметь никакой». Сказать комплимент про глаза – это разве что от безысходности можно, от глупости или безразличия. Это все равно, что не сказать ничего. Вообще женщин с некрасивыми глазами просто не бывает.
Вот такую истину мне выдал Вафля однажды, когда нам было лет по двенадцать. Мы, сидя на крыше, обсуждали, стоит ли мне пробовать свои силы с каким-то нашим общим знакомым.
Так вот на той крыше Вася мне предсказал:
– Малыш, для таких, как ты, быть пророком легко. Тебя часто будут обижать мужчины. Все, кроме меня. Я никогда не сделаю тебе больно. Никогда-никогда.
Вообще говоря, Вафля всегда был бабником, у него для этого хватало высоченной плечистой фактуры, пронзительно-зеленых глаз и какой-то уже очень взрослой мужской беззащитности. (Он, правда, и сейчас такой и разводится всегда исключительно по любви.) Кроме того, он был настоящий интеллектуал. Мы всегда лежали на крыше, и он читал мне наизусть Пастернака, Ахматову, Блока, мы вместе пытались воспроизвести латиноамериканскую босанову. Получалось исключительно погано, но кого это тогда волновало.
Если душа – это чаша, то у Васи это была хрустальная ваза тончайшей работы (у меня, конечно, фаянсовый унитаз). Если душа – это птица, то он был мудрая и спокойная сова (я, конечно, стремительно приближающийся к земле Тунгусский метеорит). Но мне всегда казалось, что нет ничего более естественного, чем вот таким разным нам лежать на воняющей гудроном крыше и смотреть на медленно ползущие по Волге баржи.
И обязательно чтобы он говорил, а я слушала.
* * *
Когда мне было пять лет, мои родители развелись. Это была грязная, шумная, долгая и мучительная история. Я мало что понимала, до тех пор пока один раз не осталась в детском садике одна. В советских детсадах была такая система, что ненужных детей можно было оставить на ночь, примерно как в камеру хранения сдать. Естественно, поняла я это уже по факту, стоя возле ограды и глядя на улицу, понимая, что весь мир рухнул, и на свете не осталось больше никого, кому я бы еще была нужна и кто отведет меня домой. Меня, несмотря на то что «ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети», просто бросили. Всех забрали по домам, а меня и еще нескольких таких же вот несчастных лузеров оставили с какой-то ушлой старой кочергой, которая вязала и жаловалась, жаловалась и вязала. Она, кстати, была дальняя Васина родственница.
И вот я стояла-стояла-стояла. Разглядывала все фигуры на улице, надеялась, что сейчас из-за угла вывернет толстый и добрый папа с каким-нибудь подарком за опоздание, и все вмиг наладится, мы пойдем домой, а по дороге будем считать кошек.
Уже совсем стемнело, когда ко мне прибежал Вафля, перелез через забор и сообщил:
– Там твои немного заняты, сегодня я с тобой останусь, не могу же я тебя бросить, в самом деле.
Так получилось, что мои родители не пришли ни на следующий день, ни через день. Я проторчала там всю неделю. Василий таскал мне плюшки от его мамы, читал мне книжки, спал со мной в одной кровати и, чтобы я не ревела, все время повторял:
– Отжеж ты дура на мою голову, конечно же, они бы пришли, если бы могли. Они сами знаешь как скучают. У них просто дела, они вырваться не могут.
Мне много лет, меня всю жизнь окружают достойные мужчины, многих я люблю, некоторые любят меня, кем-то я восхищаюсь, над кем-то смеюсь, кого-то уважаю.
Но никто и никогда не совершал для меня более мужских поступков, чем маленький мальчик Вафля, который целую неделю поддерживал во мне то тающее ощущение, иллюзию, что у меня все-таки есть семья и меня любят.
* * *
Один раз в мой день рождения мы прогуливались мимо магазина «Диета», и Вася решил меня поразить:
– Я сейчас читаю книгу о передаче телепатического импульса усилием мысли при контакте с незнакомым индуктором. Вот хочу попробовать. Зайду внутрь, подойду к продавщице, загипнотизирую ее пристальным взглядом, и она выдаст мне килограмм конфет.
– Загипнотизируй, пожалуйста, так, чтобы это оказалась халва в шоколаде.
Это была шутка, потому что в магазинах нашего маленького города отродясь не было ничего, кроме «гусиных лапок», это такие сладости, по вкусу больше напоминающие битое стекло с привкусом шоколада.
Я потом еще долго прохаживалась насчет того, что телепатический импульс – это телепатическая масса на телепатическую скорость, и что при контакте с незнакомым индуктором можно разве что остаться без пальцев.
И тем не менее Василий зашел в магазин, внимательно посмотрел на продавщицу, невозмутимо взял с прилавка пакет конфет, развернулся и вышел. Что он не мог за это заплатить, я знала точно, потому что на все его деньги я уже до этого купила себе кубик Рубика и сходила в кино.
Это потом мне рассказали, что незнакомым индуктором была, как водится, тоже его дальняя родственница.
Люблю родной город.
* * *
Однажды мы решили пойти ночью на кладбище. Чтобы доказать друг другу, как сильно мы не боимся, мы по дороге обсуждали свои мечты. Мне почему-то мечталось, что когда-нибудь я куплю себе велосипед, а папе – пасеку с пчелами. Одному Богу известно, откуда взялась пасека и пчелы, но факт есть факт, пасека с пчелами.
– Ну и глупая же ты, Дашка, даже помечтать с тобой нормально нельзя. Какая пасека, какой велосипед? Знаешь, сколько в мире интересного, разные страны, города, люди. Я бы в космос полетел или в полярную экспедицию бы уехал, ну куда-нибудь, где никого до меня не было, что-нибудь большое и полезное бы сделал. Северное сияние бы посмотрел. Ты вот хоть слышала про полярное сияние?
– А вот это, случайно, не оно?..
Мы уткнулись в какую-то часовню и начали озираться по сторонам. Недалеко что-то блекло светилось.
– Слушай, ну какая ж ты темная, откуда тут северное сияние? Как ты считаешь, почему оно называется северное? – перешел на еле слышный шепот Вася. – Это фосфор. На кладбищах всегда скопления фосфора, а фосфор светится, чтобы ты знала.
– Слушай, а фосфор умеет вот так издавать звуки? – Вдалеке где-то немедленно заухало, завизжало и замяукало.
– Ага, а еще он ходит, пляшет и поет, у него красивый баритональный дискант. Короче, д-д-дура ты, пойду я, скучно с тобой.
Тут позади нас раздался какой-то шорох, и мы бросились бежать сломя голову.
Дома Васю, как всегда, уже ждали, как всегда, накормили и, как всегда, запретили общаться со мной. Меня тоже, как всегда, уже ждали и как следует выпороли.
И еще месяц Вася надо мной издевался и припоминал мне пасеку и кладбищенское северное сияние.
Так получилось, что, став взрослыми, мы исполнили все мечты друг друга. Жизнь оказалась куда остроумнее нас. Я видела северное сияние, каталась на краю земли на собаках, меня изрядно помотало по миру, и я до сих пор так нигде и не задержалась. А Вафля так ни разу и не выезжал за пределы нашего родного маленького города. Нарожал детей, безобразно растолстел, купил велосипед и организовал у себя на даче площадку с каруселями для детишек с задержкой развития из детского дома. Не пасека, конечно, но и не космос. Большая мечта отступила перед незаметным, крошечным в космическом масштабе актом улучшения мира. И акт этот, несмотря на то что является по сути огромным человеческим подвигом, дарящим радость и тепло стольким обездоленным детским душам, был совершен просто так, походя, буднично и без лишней шумихи.
Когда мы созваниваемся, я часто припоминаю ему наше северное сияние и пасеку с пчелами и спрашиваю, счастлив ли он. И тогда он философски изрекает:
– Счастье – это все-таки не пункт назначения, счастье – это гораздо в большей степени средство передвижения. Я просто всегда люблю ходить пешком и чтобы ты всегда даже вот так вот виртуально через океан семенила рядом и раздражала меня своими идиотскими вопросами.
* * *
Первый раз мы расстались, когда мне было семнадцать лет. Я уехала в Москву учиться на Физтехе. Семнадцать лет – это такой очень смешной возраст, когда кажется, что жизнь – страшно сложная штука, когда хочется подумать о природе отношений, когда всех обуревают философские вопросы, есть ли дружба между мужчиной и женщиной… Не то чтобы это становится неинтересно в более осмысленном возрасте, просто потом приходит понимание, что теоретическую-то базу можно подвести подо все что угодно, а жизнь, она все-таки, несмотря на все теории, как доходит до чувств и эмоций, больше напоминает неуправляемый занос на льду. Куда выбросит, там уж и разбираться будешь, спасибо, что жив остался.
Я думала о Васе весь первый семестр. Потом приехала домой, прибежала к нему и заплетающимся языком начала:
– Знаешь, я все это время думала… Ну, в общем, нам же надо обсудить, расставить все точки над ё. Мы же…
– Ничего не надо. Я уже все обдумал. Понимаешь, малыш, я не могу спать с женщиной, которую сам много лет учил не спать с такими, как я. А потом ты все-таки мне слишком нравишься, чтобы все разом испортить. Давай оставим как есть.
– Ты не добавил, что у меня очень красивые глаза.
– Я знал, что ты ничего не забываешь. Как соблазнитель и педагог я все-таки полное говно.
* * *
Однажды Василий в пору своего увлечения фотографией поздравил меня с днем рождения, прислав смс-ку:
– Я тебе в день рождения признаться хотел. Хохму романтическую придумал: «На матрице моей души ты оставила много битых пикселей».
– Забирает. По твоей душе, Вася, можно выравнивать баланс белого.
– Вот-вот. Твои глаза заставляют запотеть мой видоискатель.
– Твои остроты поражают глубиной резкости.
– Каждый изгиб твоего тела – это точка моего автофокуса.
– Вафля, у тебя так много фокальных плоскостей, когда-нибудь тебе все-таки наваляют их хозяева.
– Вот настроение элегическое испортила, дура. Давай тогда в следующий раз.
– Через год?
– На том же месте.
* * *
Уже два дня я вспоминаю его слова: «Тебя часто будут обижать мужчины. Все, кроме меня. А я никогда не сделаю тебе больно. Никогда-никогда».
Два дня назад Вафлю насмерть сбила машина на пешеходном переходе.
Толстый, ты все-таки опять меня обманул. Никто не делал мне так больно, как ты сейчас. Никогда-никогда.
Юлия Баркаган Например, направо Путеводитель для тех, кто опоздал на автобус
никогда не угадаешь, чем запомнятся города, – ты приезжаешь туда, чтобы все изменить, или чтобы промчаться транзитом, или чтобы провести пару дней в маленьком отеле, или просто потому, что на какой-то цветной картинке как-то особенно хорошо были расставлены стулья под полотняным тентом
города запоминаются неожиданно: барной стойкой в случайном кафе, памятником в глубине дворов, питьевым фонтанчиком в сквере, колбасными лавками, скамейками на чугунных ножках, мокрым асфальтом бульвара, граффити, балконами, автобусными остановками, пластинками в «букинисте», выходами из метро, всякой ерундой, которую наяву ты даже не заметишь
никогда сразу не угадаешь, что это будет, что именно надо получше разглядеть, что именно приснится тебе ночью, когда ты вернешься, по которому из городов или по всем сразу ты в этом сне блуждаешь или от кого-то бежишь, на каком повороте ты начнешь, наконец, вспоминать, что уже видел и эту булочную, и эту старуху в коричневом, и как шевелятся занавески на втором этаже, и что направо будет лестница – шестая ступенька у нее будет чуть ниже, чем нужно, и ты вечно спотыкаешься на этом месте
города начинаются внезапно и непонятно где, ты будешь разгадывать их снова и снова, высовываться из окон, вдыхая эту невозможную сладкую ваниль, которая плывет снизу вверх, стелется в форточку, даже если это форточка пригородного поезда
это будет зимой, может быть, снова осенью, но только, пожалуйста, не весной, города весной врут напропалую, города весной маскируются под стихи и мифы о самих себе и чересчур забрызганы духами, весной в городах приходится хитрить, отклоняться от маршрута, зажмуриваться и хватать за руку город, пока он не спрятался под мостом или в подворотне у рынка, пока не запрыгнул, хохоча, на подножку и не увел от тебя подальше своих сумасшедших и ангелов
только представь – города и сейчас хлопают где-то там скатертями кафешек, пахнут вокзалами, трамваями и омлетами, шумят, надевают шляпы и шлепанцы, подметают мусор с мозаик на полу, устраивают дурацкие праздники с раздачей поролоновых носов и конфет на палочках, выдумывают истории
будет ужасно жаль, что меня во всех этих историях нет, вдруг это была как раз моя история, а я в это время уже завернула за угол и укатила на электричке или вообще ткнула пальцем не туда на карте, вдруг как раз сейчас в каком-нибудь другом-другом городе вообще на другой стороне земли, на улице на букву, скажем, «Л», в доме номер, допустим, семнадцать, ветер переменился, и все на минуточку стало так, как мне надо
8, Калькада дос Клеригос,
2710, Синтра,
Португалия
краев земли не бывает, но мы все же едем в четыреста третьем автобусе именно туда
это будет через семь остановок, через двадцать одну минуту после Колареш, где впятером на одно сиденье усядутся черноглазые ящерки и притворятся школьницами младших классов – они просто едут с уроков домой по серпантину между рассыпанными по террасам крышами и устраивают на весь автобус тарарам, швыряются мармеладом
последний четыреста третий автобус, ворча, везет нас на край земли, собирает по пути жителей и терпеливо водворяет каждого на свое место, ящерки-школьницы выйдут в Азойя и разбегутся в разные стороны, поднимут пятками пыль и исчезнут, и, пока он едет, знаете, амиго, я еще успею наглядеться на вас, успею рассказать свои небылицы
послушайте, амиго, знаете, вот есть город Т, его нарисовал светящимися красками один художник, там на стенах вместо окон – цветные зеркала для тех, кто забыл, как выглядит на самом деле, там, пока не пройдешь через все восемь ворот – не увидишь ни одного жителя и не сможешь произнести ни одного слова, там молчаливые мужчины с утра до вечера вышивают по черной эмали золотыми нитками птиц, чтобы потом выпустить их на реку Тахо, – птицы нужны, чтобы над Тахо, вокруг крепостных стен, ни на минуту не прекращались сигналы вечной тревоги, птицы всегда влетают в город Т через мост Сан-Мартин, а вылетают строго через мост Алькантара, таковы правила
еще я расскажу про город Л, где на соседние улицы ездят на лифте, где варят зелье из недозрелого винограда и пьют его зеленым – чтобы желания оставались ясными, а цели окончательно никогда не достигались, где женщины назначены ответственными за город, и, пока их мужчины готовят корабли к очередным океанским походам, они натирают до блеска камушки мостовых, протягивают над ними веревки, плетут собственную сеть, чтобы не рассыпать свой город во время очередной громкой ссоры или землетрясения, а потом, в ожидании своих неугомонных, зевая, сушат на этих веревках белье
и про город, где развешивают гроздьями колокольчики, чтобы вернуть в пряничный замок сбежавшую принцессу, и еще про город, где делают ветры на разный вкус, про город, где вяжут шапки-невидимки, про город, где рыб ростом с человека вешают на просушку на главной улице, про город, где есть трамвай, который никогда не повторяется с маршрутом и лучше тебя знает, куда тебе надо, про город, где поклоняются петухам, и про город, где у всех рыцарей клинки из марципана
и еще про то – ну подождите же, амиго, – что есть такие люди, они обожают, когда их компас выходит из строя, изо всех сил выдавливают из себя карты, маршруты и цели, им в основном никуда не надо, они любят города за тротуары, которые вдруг превращаются в лесенки, они берутся за блестящие медные ручки дверей, заучивают наизусть названия улиц, как будто теперь это будет их новый адрес
такая игра, амиго, такой способ прожить тысячу жизней, такой способ перестать быть уверенным в чем-то одном, ведь это смешно, амиго, правда же, всегда быть уверенным в чем-то, хотя бы в единственном числе и месте
они хотят притаиться и выскользнуть, а потом обернуться и застать город врасплох – увидеть в его цветных зеркалах предыдущего себя, например, за ленивым облизыванием мороженого, и предпредыдущего, и всех остальных предыдущих, помахать рукой и немедленно всех забыть и оставить в покое, договорившись как-нибудь созвониться
он вышел у пляжа Масаш, и я на прощание нарочно стукнулась с ним в проходе коленками, чтобы запомнить, а потом мы приехали, и на краю света оделись потеплее, и смотрели в океан, в котором, рассказывают, утонули те, кому одного адреса, дома, числа и места тоже было мало
но у некоторых, у некоторых все-таки получилось
31, Хафнарскогюр,
Боргарнес,
Исландия
у Хельги Тордардоттир, дочери Тордара, над дверью висят пыльные шляпы, яблоки наколоты на подсвечник, а селедку она делает в йогурте с голубикой
я перетрогала всех разноцветных коров на подоконниках, заглянула в сахарницы, посидела на диване, нажала все клавиши на пианино, перепробовала всю селедку и облизала все пальцы, а дождь все не перестает, ветер гнет стекла, и океана уже почти совсем не видно, темнеет так быстро, как будто кто-то устал и закрывает глаза
такой зимы не было давно, говорит Хельга
я здесь, потому что намерена случайно застать переезд эльфов, – в сагах записано, что один человек, сын Гвюдмунда, его звали Йоун, и жил он на мысу Берунес, что в Рейдафьорде, примерно в такую зиму их и увидел, и еще одна женщина, дочь кондитера из Хвамма, ну та еще, у которой муж делал эти деревянные фигуры для музея в Боргарнесе
говорят, в сильные морозы они иногда появляются в этих местах, и, если проехать еще немного на запад по лавовым полям, можно увидеть, как они разбирают свои повозки
так что мне обязательно надо ехать, но автобус в город опять отменили, и я сижу в Хельгиной гостиной, слежу за ветром и разглядываю карту – жилища эльфов на карте отмечены коричневым, дворфов красным, а скрытого народа синим, чтобы никого не забыть
я учу по слогам заколдованные слова на древнем северном языке и настоящие имена, такие имена для всего, которые откроют любую дверь, надо только выучить буквы, а нужные буквы как раз все здесь, на острове, их раздают эльфы тем, кто им особенно нравится
очень важно произносить все буквы точно, не спутать ни одной, и, если очень стараться, сможешь услышать, что тебе скажут эльфы, когда ненароком их встретишь, сможешь написать две руны Гальдрастафир в одну строку, открыть дверь и войти в холм – там будут высокие люди в синем, и прямо сверху падает тишина
я учу правдашний язык после завтрака – в окне ледяная дорога, вдоль дороги из-под снега выглядывают мокрые летние гномы, натянули колпаки на уши, с носов у них капает
одни эльфы, читаю я по утрам прилежно на эльфийском языке квэнья, живут в Льесальфахеймe, другие – в Свартальфахеймe, слово возвращение на квэнья будет ахолад, ворота – эннон, а февраль, например, Nеnimё, и я никак не могу это прочитать
потом я иду в гости к Бернду, кукольнику, есть суп и слушать, хватаюсь за фонари, чтоб не сдуло
театр Бернда через два дома, ровно перед спуском к океану, которым убегала нянька Эгиля от его отца, безумного берсерка Скаллагрима
Бернд учит меня произносить города, чтобы никогда в них не заблудиться, – жители города Хейдархёбн, например, вместе с жителями города Сейдисфьордюр часто ходят в гости к жителям города Хоффедль и пьют там пиво, и говорят «йо-йо», и важно кивают головами, а вот жители города Блендиоус никогда не разговаривают с жителями города Каульвафедль после одной вечеринки позатой весной, когда дохлого кота на веревке раскрутили чересчур сильно
Бернд говорит, а кое-кто с крыльями крутит с потолка головой и поддакивает, остальные шепчутся и фыркают, потому что я в это время надела на пальцы маленькие зеленые деревянные башмаки и пытаюсь шагать, ничего не выходит
потом я иду обратно домой самой длинной дорогой – мне нравится здесь ходить, среди дворцов, которые я так и буду путать со скалами, пока не выучу язык, – сначала через улицу на заправку, там единственный супермаркет, кофейный автомат и вообще публика, потом поглазеть в магазин ниток, потом вечером заворачиваю к церкви
старики, которых сейчас уж нет в живых, рассказывали, что некогда жили в скале четверо эльфов, и неизменно посещала поочередно одна их пара церковь, когда там служили обедню, другая же оставалась в то время дома – так пишут
я жду их в теплой пустой церкви на скамейке, тощая сестра пастора до поздней ночи разучивает пьесы для органа, ошибается и в пятый раз начинает сначала, а вокруг на кладбище мигают украшенные гирляндами к Рождеству кресты, и от этого кажется, что вокруг спрятано еще много маленьких городов
я знаю, пока я не прочитаю свои слова правильно, видение не кончится, ветер не прекратится, дверь не откроется, автобус не будет ходить
и я читаю: всегда – это будет уи, наваждение – сьён-хверфинн, счастливый – саэлль, синий – льюин или блёр, акринсорд – слова, которые обязательно сбудутся
539, Калле Атоксаукучи, СанБлас,
084, Куско,
Перу
картонную упаковку пришлось разорвать зубами, едва не плача, вымокнув под красным дождем, остальные ящики разберу потом, ящики со сладкой замороженной картошкой, похожей на черные сморщенные шарики, которую еще отважная Инес Муньос нашла съедобной и пыталась накормить ею свою неугомонную гвардию, когда еще не стала вдовой. Ящики с моими платьями, веерами и кольцами, потом, позже – когда уйдет этот странный свет, от которого кружится голова
этот свет тянет меня, я хожу внутри него медленно, дышу осторожно, эти люди смотрят на меня тихо и прямо, я захожу во дворы, пригибаясь в каменных трапециях ворот, сажусь за стол, и они ставят передо мной чашку, полную листьев, стоят и смотрят, я заслоняюсь локтем, как будто все время поправляю челку, а когда поднимаю голову, их, как обычно, уже нет
из упаковки я достаю шарманку, руки у меня дрожат, она падает, и немедленно прямо с середины мы с ней поем песенку, это отличная шарманка – сама выбирает, что спеть и когда, но часто фальшивит, а я обычно не знаю слов, мы с ней прекрасная пара, эй, Инес, как насчет твоего дневника, его так и не нашли, но я точно помню, ты записывала в нем слова где-то вперемешку с рецептами, подсчетами запасов и рисунками про чужих богов
свет поднимается снизу, течет по улице, облизывает углы, скользит по стенам и просачивается сквозь камни – большие камни, почти как те, которыми играли в кубики великаны в Саксауамане, и как те, высоко в Андах, за которыми мы прятались, сидя на корточках, пока старшие привязывали солнце
трое нас и четверо маленьких – одного из них, завернутого в полосатое одеяло, с всклокоченными черными волосами, никак не удавалось утешить, он цеплялся за одеяло, за наши плечи, не открывал глаз, не поворачивал головы, дышал в шею, мы шепотом пели ему эту песенку, пальцы у него были теплые, маленькие и грязные
мы уходим, сказали нам, когда облака стали совсем уже низко, примерно так, что по ним можно было пройти на тропу, и я посмотрела на карту, нарисованную на стене, прежде чем насовсем отцепить от себя теплые грязные пальцы
песок с карты медленно осыпается, а когда он осыпался весь, нас там уже не было
а была тетка Мерседес и ее муж – она трясет косами, а он палкой, вчера он отдубасил этой палкой сразу троих, за то, что приставали к младшей с шутками, пока взрослые уехали в город на выходной, сегодня они пришли извиняться и глядят в землю, младшая заперта в дальней комнате и дуется, у Мерседес получилось неудачное кукурузное пиво, и она сердито размешивает его в большом чане
я пью пиво, грызу сушеные бобы и слушаю, как в соседнем дворе мычит корова, до городка, куда сбежал принц Ольянта – Ольянтайтамбо, – километров тридцать, там есть станция и даже ходит автобус, оттуда до центра мира еще пара часов на поезде, там я запасусь кислородом и пойду потрогать двенадцатиугольный камень на Атун-Румийук, а пока что здесь, в долине, можно полчаса петлять по улицам, перепрыгивая через каналы, и все равно никого не встретишь, разве что на площади продавец разноцветных шапок посмотрит на меня и продолжит медленно жевать свои листья
черт возьми, есть сотня способов сделать так, чтобы нас где-нибудь не было, – прыгаем каждую ночь в бесконечные колодцы, грохочем в обшарпанных лифтах, зажмуриваемся, чтобы исчезнуть, или двенадцать часов летим в самолете через Атлантику, или хотя бы перешагиваем через порог, оставляя себе мелочь на метро и колбасу в холодильнике, чтобы было куда вернуться
а что делать с этим возвращением потом, когда откроешь глаза, или выйдешь из самолета, или вылезешь, отряхнувшись, из водосточной трубы и поймешь, что, кажется, опять влипла, опять не туда проснулась, опять все бросила на полпути
дома в некоторых городах, если на них внимательно посмотреть, все так же медленно осыпаются, и, когда они осыплются совсем, до самых коричневых камней, которые были до них, нас уже тут не будет
267, Деголладо,
44100, Гвадалахара,
Мексика
каждый день в двенадцать часов они собираются на углу Авенида Идальго и Пино Суарес читать газеты, пить кофе и медленно говорить о важном слышали, – говорит Рудольфо, – Стейт-Бэнд Халиско больше не играет по вечерам на Пласа де Армас
все шелестят газетами, один Хуан громко жует какой-то коричневый стебель и сплевывает в блюдце – ответа не требуется, общее фи висит в воздухе и парит как мокрое полотенце
Рудольфо бросает на стол афишу, он подобрал ее у метро, на афише подбоченились усатые господа в бархатных расшитых сомбреро
Хуан берет афишу, чтобы торжественно завернуть в нее остатки жвачки, в дальнем углу Оскар хихикает, Эмилио смотрится в телефон и застегивает пуговичку на рубашке, в церкви рядом заканчивается первая часть мессы, и в кафе гуськом заходят нарядные главы семейств, за мороженым для домочадцев
я жду Антонио, он ушел за кофе и что-то восклицает там у стойки почему-то по-итальянски, и чинно беседую с Хуаном о его книге, делаю круглые глаза и стараюсь не заглядываться на Антонио, Хуану это не нравится, он сердится и все время дергает меня за руку
я встретила Антонио в галерее старого театра Деголладо, там всегда тень и можно сидеть прямо на полу, обставившись картонными стаканчиками с кофе и лимонадом, можно даже целый день есть там кукурузные лепешки или курицу в шоколадном соусе, прямо руками, подумаешь
в одном ухе у меня нежно пели мессу, в другом орали торговцы, шипели сковородки, магнитофоны сипели трубами и голосом луисамигеля – честное слово, на самом деле бывают люди, которых зовут луисмигель, я сидела там, смотрела на красно-коричневую картинку у меня перед глазами, на смешные детские гирлянды у дверей кафедрального собора, на чугунную табличку на тротуаре с названием города, который мне нужно услышать
ну и тогда я услышала Антонио. У него повязка на голове, худющая задница и маленькая грязная исписанная фломастером гитара вместо третьей руки. Он взмахивает ею, вертит в воздухе, подбрасывает, что-то быстро говорит хриплым голосом и в промежутках как-то ухитряется попасть по струнам. Каждый раз, когда он попадает по струнам, с картинки у меня перед глазами как будто бы стирают немножко лишнего – немножко тише, немножко ветренее, немножко меньше слов, и я сама как будто сижу тут, на каменном полу, без майки, безо всего, поджала ноги к горлу, и мне навстречу медленно катится большой стеклянный шар
она называется харанита, говорит Антонио, а музыка ничья, никак не называется, ты знаешь мексиканскую музыку? я могу сыграть на ней даже Петра Ильича, хвастается Антонио, и мы вместе под гитару орем на всю площадь вот это самое из шестой симфонии – трампампампам, трампампампам
а потом идем пить кофе и знакомиться с Рудольфо, Хуаном, Эмилио и Оскаром
ты похожа на мою маму, говорит Рудольфо, она умерла в декабре, а ты когда родилась
в сентябре, я родилась в сентябре, говорю я и хватаюсь за Антонио, он поминутно вскакивает, куда-то рвется, бормочет что-то невыносимо печальное со своей харанитой, целует руки, сердится, что я не говорю по-испански, и собирается немедленно идти, чтобы опять что-нибудь петь, – там на улице, у ротонды, кажется, собралось много народу
джипси романтик, – ласково говорит Рудольфо я принесу тебе мою книгу завтра, – важно напоминает Хуан
Оскар хихикает
Оскар самый младший из них, ему семьдесят два, а сколько Антонио, никто не знает, и откуда он – не знают тоже, пожимают плечами, приходи завтра в двенадцать, мы здесь каждый день
я не приду завтра, не увижу книгу, не дождусь, пока Антонио наконец принесет кофе, не буду плясать на площади со всеми подряд, слушать эту его хриплую хараниту и смотреть, как на меня катится большой стеклянный шар, утром я уже буду лететь на восток, плакать как дура, и, кажется, я буду скучать по тебе, любовь моя, Гвадалахара
51, Бульвар Сен-Марсель,
75013, Париж,
Франция
и была, кажется, привязана намертво проводом с синей изолентой – к этой раковине с обязательной парой плохо вымытых кружек, к этому подоконнику с засохшим кактусом, к этой жестяной коробке из парижских тридцатых с горой чайных пакетиков внутри, к этим крышам и шеям подъемных кранов из окна – проводом от радио, который заканчивается вилкой в розетке, а розетка крепко замазана бледной водоэмульсионкой, так чтобы уже никогда не отодрать, не расцепить, не выключить – здесь у нее ежедневная молитва, зашифрованная мантра, колыбельная, хитрый приворот, заклинание
в Баяндае минус сорок два, в Качуге минус тридцать девять, в Тайшете минус тридцать восемь, – повторяет наизусть, морщится, если диктор медлит, замирает над бутербродом, ожидая ошибки, перемены мест слагаемых, но диктор не ошибается никогда, вселенная за двадцать секунд прогноза погоды успевает поскрипеть и нехотя повернуться на полоборота
в узкой ванной под шум воды продолжает читать нараспев – в Эхирит-Булагатском минус тридцать шесть, в Нижнеудинске минус тридцать, – и выходит, когда вселенная уже абсолютно готова к употреблению
за окном тринадцатый округ, не очень-то френдли для буржуа, а ей в самый раз, немножко многовато приезжих, немножко шумно, но она привыкла, каждый день китайская кухня, ежедневное «здрассьте» хмурому соседу, громкое радио, голуби, кран не закрывается до конца, солнце с шести утра – все как было дома, она выключает запись, ищет, ругаясь, ключи в ворохе пустых сигаретных пачек и захлопывает дверь, ей на автобус до Аустерлицкого вокзала, но можно и пешком
она путается в метро на Бастилии, избегает синей линии номер два, ходит смотреть, как мгновенно меняется свет в Марэ после пяти вечера и как неотразимые мальчики-мачо в ожидании открытия клубов ступают в лужи точно по следам тамплиеров, роются на полках винтажных лавок (связка туфель прошлого века за девять евро, два парика за пять плюс что-нибудь из этих цветных шалей), примеряют кружевные майки, пьют пиво со сладким сиропом
ближе к вечеру, пробегая на метро по плас де Вож, приходится закрывать уши – так отчаянно орут здесь летучие мыши
она ходит в Оперу по самым дешевым билетам с пометкой – ложа котэ, нон визибл, и сидит там без ботинок прямо на полу – ближе к плафону Шагала, чем к сцене, и музы на этом плафоне, летающие пастушки с букетами, кажутся смутно знакомыми и светятся изнутри, а если только чуть тепло и не лень добираться, то в какой-нибудь сад, положить ноги в полосатых носках сразу на два из трех тысяч бесплатных стульев, какао на бульваре Капуцинов удается пить только по выходным, и в один из таких выходных она, наконец, лениво отвечает телефону – да никак, вот опять дождик, Интернет что-то лажает, да, кашляю, а как у вас, нет, не приеду, как-нибудь перезвоню, и решительно размешивает какао собственной ложкой, которую стащила однажды в Клозери-де-Лила классически в лифчике
в ту же минуту на востоке, ну то есть совсем-совсем на востоке, плюс много часов от тринадцатого округа, я кладу трубку и сажусь в разрисованное такси, у меня почти вечер, я ругаюсь и ищу наушники в сумке, обнаруживаю самолетную конфету, запихиваю ее в рот и включаю дорожный плейлист – свою мантру, свои стихи, колыбельную, приворот:
стоит набережная Кутузова, – говорит мне мое собственное послушное радио без проводов. – Прачечный мост, Дворцовая набережная, Верхний Лебяжий мост, – знаю наизусть – пробки от Кричевского переулка по направлению к Суворовской площади, от набережной Фонтанки до Колокольной улицы, закрыт Тучков мост, Большой проспект, а также Малый и Биржевая площадь, будьте осторожны, выбирайте маршруты заранее, хорошего вечера
4, Виколо дель Болло, Навона,
00186, Рим,
Италия
на набережной напротив синагоги снимают кино – куда бы вы хотели пойти, спрашивает прохожих девушка с рупором, вы можете пойти куда хотите, только не прямо
очень хорошо, мне как раз все равно куда, лишь бы не прямо, такая удача – вниз по замусоренным лестницам, на звук ближайшего фонтана, не заглядываться на названия улиц, кружева Колоссио мелькают где-то между домами, между пальцами ног мраморных статуй дремлют кошки – это все потом, потом, как-нибудь в другой раз
в городе сегодня осень, жара и сонная лень, пахнет соснами, трубочным табаком и еще немножко лавровыми листьями, это потому, что я напихала горячих от солнца лавровых листьев полные карманы, сунула в блокнот, чтобы они выпадали потом, сыпали песком и пахли, когда-нибудь совсем потом и совсем в другом месте
я лежу под мостом, смотрю, как колышется воздух над перилами, слушаю, как топают голуби и хлопают белые тенты над пустыми кафе, скоро вечер, и надо бы уже наконец встать и пойти к Анджело – посмотреть на его аттракцион с посетителями
у Анджело подают только домашнее мороженое, капучино и коктейли сумасшедших цветов, но свободных мест никогда нет, уйти никому не удается, Анджело угадывает своих с первого взгляда, выдергивает из толпы, цепляет на улыбку и уже не отпускает, ведет куда хочет – бон суар, буенос диас, шалом, хеллоу, калиспэра (это я уже записала по буквам), комбанва, ни хао – он с полсекунды знает, на каком языке кого обольстить, и всегда обольщает, всегда
еще у Анджело есть Франческо – ему примерно лет сто, и он нужен, чтобы летать с подносами, всучать мороженое «Тартюфо», ронять стаканы, ругаться, доставать игрушки для детей из секретной коробки, подпевать музыкантам
я самый старый официант на пьяцца Навона, говорит Франческо и галантно оборачивает банку диетической колы салфеткой, а Анджело – самый хитрый бенедиктинец в городе
мне смешно, я представляю Анджело в черном капюшоне и в сандалиях, ему идет, и говорю Франческо, что в прошлом году видела бой быков, но не стала бы утверждать, что это более захватывающее зрелище, чем медленно наблюдать за ним и Анджело на пьяцца Навона
здесь у Анджело, и там под мостом, и в рыжих сосновых иголках у обочины фори Империали, и в фотокабинке на виа Кавур я слышу, как город тихонько посмеивается, как он лениво зевает, бродит по своим развалинам в шлепанцах, иногда плюет на платок и берется оттирать какое-нибудь пятнышко с собственного парадного портрета, да так и бросает, вместо этого с удовольствием косится на себя в зеркало – проверяет, так ли хороша улыбка и как там зуб, вроде он ныл вчера, а вечерами пьет чай из термоса, сунув ноги в зеленую воду фонтана Наяд
и я тоже сижу на фонтане, почему бы и нет, роюсь в рюкзаке в куче лавровых листьев – два кольца, завернутое в газету бронзовое зеркало с блошки на порто Портезе, куча бумажек, бусины от порванного браслета и вот – розовый камень с буквами, я выбрала его наугад
carpediem, написано на камне, quam minimum credula postero, будь умна, вино цеди, Левконоя, лови момент, как можно меньше верь будущему
9, Латран,
3801, Чески-Крумлов,
Южная Богемия
стоит только опоздать на автобус, например, как немедленно получаешь десяток ответов на вопросы, которые еще только собираешься задать, плюс десяток путей, по которым минуту назад ни за что не догадаться пойти – не догадаться, не решиться, принять за несусветную глупость, умный гору потому что обойдет, вот пусть умный и обходит, его не жаль, а мы немедленно, с удовольствием и расстановкой опаздываем на единственный автобус
и тогда, скажем, вместо неоспоримого прибытия в тринадцать ноль-три на автовокзал города К кто-то дарит тебе двенадцать часов путешествия с севера на юг самыми странными способами, ты стоишь в тамбуре поезда, конечный пункт у которого пока не обозначен, видишь, как дождь начинается с одной стороны вокзала и заканчивается с другой, запиваешь печенье из капусты кофе с молоком и в итоге въезжаешь на междугороднем трамвае в лес – капитан Йозеф весело курит, матросы орут, и в общем-то кто теперь скажет, куда ты, собственно, брала билет, какая разница в самом-то деле, уже ночь, и рельсы все равно уже кончились
звоню им, например, с перекрестков, со станций, на которых поезда больше чем на минуту не останавливаются, звоню из-под мостов, светофоров и дорожных указателей, с рынков, площадей и заправок, из булочных, закусочных и подворотен, поднимаю трубку высоко – але, слышите город, ну послушайте же еще немножко
говорю им, например, что еду пить кофе и есть сыр с тмином – говорят, там отличный кофе в одном месте с красными стульями на набережной, ну да, в общем, это все, это все, зачем я туда еду – пить кофе, любая другая причина будет не более убедительна, почему бы не придумать себе эту
все они – лужи, окна, зеркала, фонари, желтые ставни, куклы, афишные тумбы, крыши, лодки, набережные, русалки на флюгерах, времена года, названия улиц, имена домов – вы знаете, что здесь у домов есть имена, правда же? – все они не будут слушаться меня, пока я на самом деле правильно не выберу, где буду пить кофе, никак нельзя жить в городе, даже если ты здесь всего на несколько дней, пока не разберешься с этим вопросом
я ищу это место по запаху, открываю двери и нюхаю воздух – ну-ка, что здесь, кардамон, имбирь или блинчики со шпинатом, или по окнам – они раскрашены в разные цвета или заставлены всякими глупостями, фарфором, книжками и медными птицами, как полки антикварного магазина; по лампам и абажурам, по деревянным стульям и до дыр вытертым креслам с подушками, по часам, по гитаре в углу, по чашкам на стойке – чтобы были все разные и ни одной белой
еще важно, как оно звучит, еще смотрим на стены – разрисованные мелом и фломастерами, заклеенные объявлениями и открытками, еще чтобы там можно было спрятаться, залезть с ногами на диван и неожиданно обнаружить, что сидишь здесь вот уже четыре часа
пойти пить кофе в Крумлове – это такая игра, такой пароль, такой способ перехитрить город и подсмотреть, что он там пока что поделывает без тебя
на площади танцуют дети в венках, заговаривают город, плетут заклинание, по лестнице квартала Латран ползет толстый веселый младенец, шлепает ладонями по плиткам, сворачивает в сторону замка, за ним бредет сонный папа, наклоняется и выравнивает младенца, чтобы не уклонялся с пути
стоит только опоздать на автобус, потерять билет, послать к черту график, как все немедленно складывается наилучшим образом – даже без карты ты выйдешь на нужную улицу, закрытая почта откроется только для того, чтобы вручить тебе важную телеграмму, вечером тебе принесут мороженое, о котором ты задумалась на Четырнадцатой линии Васильевского острова утром, нужную точку назначения ты увидишь мимоходом на четвертой полосе газеты, которую будет читать сосед по купе, номер маршрутки напишут в кафе вместо счета, вишневую настойку, о которой читала в книжке, получишь случайно в подарок, а мелодию, которую забыла, споют по радио в уже закрывшемся ресторане, и мы будем стоять там, сплющив щеки об ограду, и шевелить в воздухе руками, и вспоминать, какого цвета у нас в прошлом веке были джинсы – у меня оранжевого, а у тебя
а потом я буду идти по набережной, плутать в улицах и, наконец, плюну, сяду и от нечего делать отправлю себе эсэмэс – самое глупое, что ты можешь придумать, напишу я себе, это сопротивляться чему-нибудь, что встречается тебе на пути
8, Ратхаусгассе,
4020, Линц,
Австрия
слишком много миндаля, слишком много корицы, слишком много мармелада из красной смородины в этом торте, слишком много золота, львов, знамен и мечей, слишком много, чтобы сосредоточиться, поэтому граппу пришлось пить прямо с утра, не было и восьми, прямо на пустом вокзале города Линца, Верхняя Австрия
на пустом вокзале, на котором почему-то не выходят ни пассажиры венских поездов, следующих на запад, ни пассажиры поездов, следующих на восток, никому сегодня не надо в Линц
часы на ратуше бьют одиннадцать, часы на ратуше тысячу раз повторяются в окнах, остальные часы Линца немедленно бьют то же самое хором
слишком много часов в городе Линце, и все, вы подумайте, идут одинаково, поэтому времени здесь деваться некуда, утечь невозможно, все выходы закрыты, время мечется от башенки к башенке, натыкается на циферблаты, пытается шалить, но, помыкавшись и надувшись, скрывается в ближайшем антикварном магазине – там на него не обращают внимания, и оно с оглушительным грохотом делает все, что хочет, качается на стрелках, гремит молоточками, притворяется зеленой бронзой, прячется в разрисованном шкафу, сыплет пылью, скучает
поэтому в городе Линце со временем всегда какие-то неувязки, строго говоря, у города Линца много времен, жители города Линца переходят из одного в другое по мосту Нибелунгов и все равно обязательно приходят в кондитерскую Йиндрак, где упрямо едят каждый день в четыре часа свой невозможный сладкий торт
Линцскому торту, говорят, больше чем триста лет, страшно подумать – миндаль, корица, мармелад, решетка из теста сверху, но наверняка есть еще какие-то секретные ингредиенты, о которых Анна-Маргарита, урожденная графиня Парадиз, ничего в своих кулинарных амбарных книгах не написала
я отодвигаю торт в сторону, я попробовала только кусочек, а мне уже кажется, что я в маленькой комнате с детской железной дорогой, комната находится в голубом доме, в коробке с игрушками у меня разноцветные трамваи, голуби, мосты, церкви и красивые пожилые женщины с накрашенными губами и сигаретами в изящных пальцах, и профессор университета в сандалиях, и кларнетист из Брукнерхаус с пивом в огромном стакане, и я уже не очень помню, зачем я здесь, в городе Линце, Верхняя Австрия, на улице Ратхаусгассе, в кафе между старой аптекой и бутиком фешенебельных гробов, тогда я встаю и просто иду, например, направо, туда, где, мне кажется, пахнет конфетами, и там я вижу Марию
у Марии синие веки, морщинки на лбу и тюрбан на голове, у Марии напротив шоколадная лавка, и знакомый бомж завтракает на скамейке, я могу сшить шляпку для королевы, говорит Мария, и откусывает нитку – вот эта для летнего завтрака на веранде, к ней требуется шифоновый шарф, клубничное варенье, журнал и мужчина без пиджака, молоденьким не подойдет вот эта черная, как у Одри, – чтобы скрывать огонь, эта с гибкими низкими полями – если ты еще не научилась ничего не бояться, кожаная со шнурком – декаданс для ночных визитов в китайские чайные, розовый тюрбан – для прогулок на пароходе, желтая с бантом, чтобы ходить в церковь, вон те с вуалетками обязательны для леди
это все для мадамико, говорит Мария, сейчас такие редко заходят
у меня шарф завязан назад, чтоб не мешался, пальцы на ногах замотаны пластырем, в руке грязный Пьеро из ящика ненужных вещей – он так на меня посмотрел, что я не могла его там оставить, обедала я на рынке, я совершенно точно не леди, не мадамико, но, честное слово, я перемерила все Мариины шляпки, а одну, похожую на бабочку, она напялила на меня сама – вернешься за ней, когда дорастешь, говорит Мария, и когда поумнеешь, и когда снимешь, наконец, эти свои штаны
до поезда еще целый час, Хауптплатц заливает ослепительный белый свет, я сижу и размышляю о шляпках, раз уж не могу с такой же пользой размышлять больше ни о чем другом
шляпка, думаю я, это как в домике, это как наушники и очки сразу вместе, это как если бы упасть в воду, а потом вылезти вся мокрая, сесть нога на ногу на стул и громко заказать, например, джину; это как когда пальцы в кровь, а идти надо, это наплевать на все и есть селедку там, где уместно есть черешню, это как я подтягивала белые гольфы перед тем, как прыгать через гаражи, в общем, не думаю, что можно как-то дальше обходиться без шляпки, и, наверное, придется все-таки при случае, ладно уж, вытерпеть этот их линцский торт
часы на ратуше показывают без шестнадцати семь, я бегу к вокзалу и прибегаю без девятнадцати, размышлять об этом некогда, остается подмигнуть львам, дальше пусть жители города Линца, Верхняя Австрия, разбираются со своим временем сами
2А, Кампергейд, Аксельторв,
3000, Эльсинор,
Дания
с одной стороны на меня дует ветер Северного моря, с другой Балтийского, мост через древний Эресунн висит в воздухе, качается и заканчивается ровно на середине пролива, и, сколько бы раз я на него ни смотрела, он все равно заканчивается на середине
некоторые, может быть, не знают, а я знаю – там, на середине, где все прекращается, ну или начинается, это с какой стороны посмотреть, есть остров Пеберхольм, и на этот остров по приглашению фирмы «Дип и Дирупс» по воскресеньям прибывает из порта Нихавн парусник-призрак
на Пеберхольм приходит только один парусник, и по пути он делает только одну остановку – напротив моста, на площади Нильсторв, чтобы провести перекличку
на площади Нильсторв тишина, здесь больше нет семи десятков грозных кораблей, здесь теперь делают шоколад, варят рыбный суп, и старые лодки заросли одуванчиками, и на каждой двери таблички с именами – Лиза и Йорген Лонквист, Жозефин и Алан Кенсен, Кристина Колл и Каспер Триблер, – но никаких Лизы, Жозефины и Каспера за этими дверями, конечно же, нет, сколько ни стучи, можно даже открыть калитку и бродить по саду, пробовать давно скисшее молоко из кувшина, нюхать акации, заглядывать в окна
хозяева уплыли однажды на Пеберхольм, а вместо них так никто и не вернулся
на площади Нильсторв все клиенты в сборе – старушки в малиновых лосинах и ситцевых платьицах, их здесь особенно много, «Дип и Дирупс» питают особую нежность к старушкам с голубыми волосами, которые стайками бродят по любому городу, и делают им скидки, чилийский бродяга ростом с великанов Йотунхейма, эстонский бухгалтер, оставивший на Гаммельстренд жену и двух дочек, как только получил неожиданное предложение, хозяйка местной гостиницы, менеджер среднего звена, которого взяли прямо из татуировочной мастерской в Вестербро, парочка туристов, рыбак из Упернавика, семья с младенцем в коляске из свободной Кристиании – в это воскресенье на Пеберхольме исчезнут они, а вместо них на берег вернутся и уедут на рейсовых автобусах в разные стороны уже другие откуда мне знать, кто они будут и куда поедут, меня пока вообще не приглашали, но случайно я знаю, что там, на Пеберхольме, старушек заменят на надменных розоволицых девушек с белыми волосами и даже выдадут им велосипеды, вместо бухгалтера будет веселый столяр, а вместо хозяйки гостиницы толстая кошка
«Дип и Дирупс» – серьезная фирма, всегда спросят, прежде чем предложить замену, но иногда, иногда бывает и по-другому, иногда все бывает очень быстро – они приходят в самый неподходящий момент, самый незначительный, самый обычный, например, к тем, кто нипочему плачет под душем, а когда они оттуда уйдут с новой куклой под мышкой, вместо куклы под душем останется уже кто-то другой
потому что стоит только хорошенько понять, что тебя на самом деле нет, то вот тут как раз ты и появишься
вот прямо здесь, скажем, на улице Кампергейд в Эльсиноре
ты сидишь себе в кафе напротив отделения банка, слушаешь вечную местную кукушку, рядом кто-нибудь, шевеля губами, читает ноты
в городе Эльсиноре на углах улиц, поводя плечиками, развеваются белые платья с пышными юбками и корсетами, у порогов выставлены ведра с ромашками, остроносые туфли и потерянные зонтики – вдруг кому нужно, берите, в городе Эльсиноре букеты продают в булочных уже завернутыми в восковую бумагу, как бутерброды, и цветы выглядывают оттуда, довольные, как будто им сейчас дадут конфет, а в лавке Лино и Артура светится окнами кукольный дом – внутри движутся тени, зажигаются свечи, падают стулья, и скоро будут танцы
ты смотришь, как в кукольном доме натирают паркет, и уже совершенно не помнишь, как еще вчера плыли на паруснике обратно с Пеберхольма, какой холодной была вода Скагеррака и Большого Бельта, как тяжело было просыпаться, как обогнули дюны Ютландии, и со стороны Эссекса пришел дождь
347, Валенсия, Эшампле,
08009, Барселона,
Испания
где-то на ломаных улицах старого города, на которые ни за что не вернешься, если хотя бы раз увлечься заманчивым поворотом или деревянной дверью очередного бара, который покажется самым шумным, самым прокуренным, самым толпливым и бестолковым, где будет плохо петь Alabama song гитарист-самоучка, где странные арт-объекты и сумасшедше-цветные стулья из папье-маше, где запросто можно позволить себе стать самым настоящим невидимкой
где-то там, в районе, кажется, Портофериссы, во втором часу ночи я случайно думаю о тебе
ты в любом городе мира находишь общий язык с продавцами воздуха, попадаешь в истории, застреваешь в таинственных местах, куда посторонним вход воспрещен, вляпываешься в драки, несешься на бешеной скорости и в последний момент все равно почему-то тормозишь, я подумала, что как хорошо, что я сейчас не с тобой
где-то на втором этаже маленькой закусочной на три столика, где паэлью, осьминожков и mussels с винегретом виртуозно готовят два китайца, где пыль висит гроздьями, а на стенах вырезки из старых газет, – там чуть не разбилась чашка с кофе, а надо было бы выпить его немедленно, чтобы горечь ударила в голову, чтобы рассеялось это видение, как тонконогий замок опадает, начиная с пряничных верхушек, тщательно вылепленные фигурки теряют очертания, шаткие колонны надламываются, рабочие в касках с криками разбегаются, гудят сирены, и в несколько секунд песочная мечта этого странного человека, которую видно здесь почти из любого окна, исчезает, стирается как не было – эти видения надо срочно запить самым что ни на есть горьким кофе, и я заказываю еще один и выпиваю его как водку, залпом
где-то в районе бульвара Ангелов, или, может, рынка Санта-Катерины, или за узкой стойкой бара «Шокито», где русская официантка привычно зевает, а местный бармен, наоборот, улыбается и размешивает молоко в высоком стакане, я все-таки слышу наконец телефон, говорю, что вернусь джаст э момент, и выхожу, и сажусь прямо на землю напротив рыцарей с мясистыми крыльями
ты говоришь, а я слушаю, и невпопад киваю, и говорю, не закрывая трубку, – кэн ай хэлп ю? – маленькой старушке по имени Изабель с большой корзинкой пакетов, она живет этажом выше и возвращается с рынка
я ем булку с хамоном, у меня чулки в горошек и джинсовая шляпка, мне кажется, что я прямо сейчас рассыпаюсь на тысячу кусочков: что я та японка в митенках и длинной юбке с оборками, и та итальянка с трехцветными волосами и акцентом, и та мотоциклистка на виа Лаетана в узкой юбке и остроносых туфлях, и тот мальчишка с факелами, что притопывает под Gipsy Kings на площади. Я сижу на обочине, и мне совершеннейшим образом все равно, что будет через полчаса, а ты все говоришь, и мне кажется, что у меня билет на метро, по которому я почему-то не могу пересесть на другую линию
я нажимаю «отменить вызов», на Каррер-дель-Бисбе девушки играют на ксилофоне вальсы из советских фильмов, мягкий неверный аккордеон отражается от стен и кажется сладким громом небесным, музыканты возятся со своими трещотками, свистелками, дуделками и в два счета этим нехитрым арсеналом расщелкивают меня как семечку, и я выхожу к следующему перекрестку совсем другая, новая, с чистым ядрышком, и оголтело размахиваю внутри себя флажком – как будто этот шалтай-болтай, эти рисунки Миро под ногами на тротуаре, эти внезапные барселонские мозаики наконец-то выпустили меня на волю
такая гроза началась, такие большие, оказывается, здесь листья у платанов, такие большие и такие мокрые на этих фигурных плитках Грасии
59, Драйбанен,
1601, Энкхейзен
Нидерланды
еще там были полные коробки этих маленьких ложек, ложечек, таких – для кофе, в них можно копаться часами, уходить от них и снова приходить обратно, придираться, выбирать, оттирая пыль, оставляя ее себе на пальцах, – вот эту с ангелом на тонкой ручке, или эту со стершимся мостом, или эту с рыцарем, или все-таки эту с мельницей, или нет, вот эту, с кем-то, кто сидит спиной, завернутый в плащ
как будто у меня и правда есть к этим ложкам такие заскучавшие чашки на две капли из английского фарфора с синими донышками или, например, чего доброго, из серебра – на случай, если заглянут в гости такие же пыльные тетушки с зонтиками, которые заблудились в годах
как будто на окнах у меня кружева, а ставни у меня белые, а платье у меня в мелкий цветок, а герань растет прямо из алюминиевого ведра, и да – тот мельхиоровый молочник с облупленными ножками тоже совершенно необходим, через три ряда от улицы птиц его отдаст, поджав губы, дама с веером, в молочник можно насыпать целую гору разноцветных прозрачных шариков, десять монеток за полные руки шариков, только представьте, какие бывают глупые люди – раздают шарики за бесценок
и еще почтовые весы, я смогу теперь с легкостью отмерить себе сколько хочу радости, и ступки, чтобы правильные были пропорции, и фотоаппараты с объективами в гармошку – просто чтобы были, и зеркало на длинной ручке, чтобы говорило только то, что я хочу, и еще да, ключи, как я могла забыть, ключи – это совершенно обязательная вещь в карманах, в дверях, да в каждом удобном углу должен быть наготове какой-нибудь ключ, желательно как раз с блошиного рынка, проверенный в деле, не новичок, он нам скоро пригодится
ну все, кажется, пока это все, что нужно, все, что требуется
все, что потребуется на первое время, я буду налегке, у меня много дел и совершенно нет времени, совершенно не хватает времени, чтобы успеть
мне еще надо обязательно заглянуть в каждый нарисованный дом на всех картинках, какие увижу на улице, в каждый дурацкий нарисованный дом, обойти каждый двор внутри этих картинок и проверить – не тот ли, не мой ли, не забыла ли я там чего когда-нибудь, вымыла ли чайник, убрала ли простыни с веток, слышу ли я отсюда весь город сразу, как он сопит ночью и потягивается по утрам
когда-нибудь, может быть, в этом городе, а может, в другом, может, сегодня, а может, только через пару недель, скажем, в среду, ты все-таки придешь туда, пошебуршишь ключом, щелкнешь замком, выглянешь из всех окон, похлопаешь как следует дверями, проведешь пальцем по пыльному подоконнику, послушаешь, как оно, когда ты внутри, твоя ли это история
ты будешь точно знать, куда повернуть, чтобы попасть на кухню с медными кранами, и где тут будет место для бабушкиного сундука, увидишь, как дом просматривается насквозь, если сложить ладони в подзорную трубу и прижать нос к стеклу, и как кто-нибудь с собакой и газетой, закутанный по уши в шарф, по-прежнему сидит за крайним столиком в кафе на пирсе – за тем столиком, что на самом ветру
теперь давай расставь там свои драгоценные находки – приживутся ли, подойдут ли дому, и еще надо проветрить и зайти в кафе за углом – на картинках не всегда есть кафе за углом, но на самом деле оно там внутри есть точно, ничего не поделаешь, и на столах, вы угадали, расставлены букеты. Зайди, возьми пепельницу из-под стойки, понюхай воздух, помаши городу рукой – привет, я вернулась, мне, пожалуйста, как обычно
Валерия Иванова Таблетка
Таблетка
Что у трезвого на уме, пьяному не упомнить. Зарекался дядька мой Анатолий языком трепать, но ведь пятница, в гараже тепло, на дворе мороз, и механик Сумякин разливает четко в линию, хэкает, опрокидывает и гасит выхлоп грамотно, в рукав. Потом на ровное дыхание, на чистый язык прикладывает черного хлеба, поверх жирной мойвы шайба лука со слезой, с ржаного мякиша рассол капает пряный, перечный. Не пьем, а лечимся. Черт знает, луковица, что ли, ядреная попалась или просто накипь с души поплыла, но вот уж час, как дядька мой Анатолий жалуется на женин холостяцкий устав, как причт на архиерея – бессмысленно и безнадежно. И сморкается в платок, наглаженный Валентиной до стрелок. У Вали строго: пусть штанов у мужа – стираные в праздник, они же чищенные на каждый день, но платок в кармане – клетка к клетке, и чтоб сгиб лезвием. Тоже свой шик у женщины. И все бы хорошо, да вот, родив двух сыновей, объявила она мужу в смысле супружеских радостей полный и безоговорочный сухой закон. Дескать, хватит баловства, и – точка.
И не то удивительно, что дядьку на исповедь пробило – на водку, ключницу носатую, замков не напасешься. А то странно, что Сумякин слушает. И лицом светлеет:
– А ты ей таблетку купи!
Тут бы, как в душевных советских картинах, герою кадыком поиграть, пробросить взгляд трезвеющий с экрана до механиковой будки и спросить требовательно:
– Поясни!
И тогда механик ручку завертит, сюжет раскрутится. А в жизни вон, на клубе объявление: кина не будет, кинщик заболел. В гараже тепло, от двери в поясницу задувает. Вышла из кучи ветоши мышь, гоняет у Толиного сапога мойвину голову, ничего, зараза, не боится. Сумякин «Казбек» пальцами размял, продул, поплыл в дыму. Двоится, сволочь, в сизом сумраке и ухмыляется. Может, померещилось, насчет таблетки-то? И потому дядька мой, поддав мыши пинка, на крытую клеенкой столешницу налег для устойчивости и сказал единственно верное:
– Наливай!
* * *
– Людка, сил моих нет! Ну кто так скалку держит? Плюнь, плюнь, говорю, на маникюры, берись ладонью, вот-вот, самой же удобнее. Да по кругу, по кругу, а то тесто в портянку вытянула. Ты пельмени лепишь или штаны кроишь? Горе луковое. Мукой подпыли, липнет же. Не видишь?
– Стараюсь вроде. Теть Кать, а Толечка у вас как любит: мяса побольше или тесто потолще?
– Как я налеплю, так и любит. Дай дораскатываю, а то морщин намяла. Поставь-ка вон чайник лучше. Пошвыркаем наскоро.
Люда пустила воду над раковиной, промыла посудной губкой пальцы, потом, растопырив пятерни веером на просвет, поближе к лампе, разглядывала облупившийся лак. Повздыхала, пристроилась к Валентине мясо подавать. Та крутила фарш, отдувалась сердито – выбилась из-под косынки прядь, а руки в мясе, не приберешь.
– Валь, а я вот все спросить забываю: вы как с Толечкой познакомились? На танцах, наверное?
– На стадионе.
– Сидели, что ль, рядом?
– Да нет, он с другом пришел, с ним и уселся. А я внизу, у бортика, с подружкой стояла. Она-то, подружка, нас и познакомила. Чего ты все говядину суешь? Вон, в миске, сало видишь? И луковицу захвати.
– Как романтично! Что, вот так прямо подвела тебя и представила?
– Почти. Она диск метала, ну и перестаралась немного. Теперь говядину давай.
– Немного – это как?
– А так: Толькиному приятелю полголовы снесла. Тот еще пельмень получился.
Ручка мясорубки провернулась со стоном, из раструба хлестнула сукровица. Люда вздрогнула, утерлась подолом фартука и тяжело осела на дедов табурет. Валентина поправила надоевшую прядь, лоб в крови вымазав, усмехнулась:
– Сала подай. Да чайник выключи. Кипит, не слышишь?
* * *
Ударили стопки о клеенку, Сумякин выдохнул в рукав и отмахнул от лица дым:
– Ну так берешь таблетку?
Дядька мой Анатолий как раз к блюдцу за мойвой потянулся, а тут вздрогнул и прицел сбил. Покатилась по полу бутылка, шуганула вылезшую было из ветоши мышь. Учила ж ведь бабка-то покойница: когда что мерещится, креститься надо. Это Толя помнил. А вот как креститься? Слева или справа? Пятерней или щепотью? Черт знает. И водка кончилась.
Сумякин бутыль подхватил – цела, сдать можно, и потянулся к ватнику, что тут же, рядом, на гвозде висел. Достал из кармана сверток, Толе на колени швырнул.
– Ну?
Дядька всмотрелся. Завязанная в ситцевую бабью косынку, лежала у него на штанах бархатная дамская шляпка-таблетка. Темно-вишневая, на потайной резинке аккурат в цвет Валиных волос, с черной вуалеткой, подколотой к краю длинной шляпной булавкой. А на булавке головка жемчужная блестит.
Сумякин разулыбался:
– У моей их две таких, а ей ридикюль в башку втемяшился. А я ж деньги не печатаю, тут с аванса за жакетку с портнихой еле расплатились, так теперь ридикюль. Ну и пристала как банный лист: поспрошай на базе, может, кто из мужиков таблетку-то купит? Взял, чтоб отвязалась, а как спрашивать? Засмеют же. А тут ты. Дай, думаю, предложу? Чем черт не шутит? Бери-бери, бабы, они от шмотья добреют, точно говорю. Ну?
Бархатный бок лег в ладонь уверенно, по-кошачьи, хитро подмигнул в дымном сумраке перламутровый жемчужный глаз. Дядька мой Анатолий хэкнул, будто остограммился, и пощупал карман на пиджаке: вот ведь зараза, аккурат к получке подгадал. Сумякин понял, встряхнул ватник на гвозде. Там призывно булькнуло.
– Вспрыснем покупочку, нельзя же! Ну, чтоб носилось!..
От гаража до сортировки, вдоль складов и дальше, к проходной, гасли фонари, один за одним. Над темной базой проклюнулись звезды, выплыла было заспанная луна, но на ветру иззябла и завернулась в тучу. Мерзлой дымкой прихватило звезды, и они завязли, как в студне, разом потускнев. Начиналась метель.
* * *
Свекровь, тетя Катя, захлопнула форточку, поежилась:
– Темнотища. Ноги ломит, снег, что ль, пойдет? А Тольке-то пора бы уж. Долго он сегодня. Господи, хоть бы получку-то донес. Беда с ними, с мужиками. Людк, кастрюлю выключи, чего ей зря кипеть.
Люда погасила конфорку, как свечу задула: пламя шарахнулось к стене и пропало. Валя, склонившись над столом, долепливала наскоро пельмени. Руки летали, и на припыленную мукой доску рядами укладывались аккуратные – один к одному – тестяные ушки. Три таких доски под полотенцами уже вынесли на балкон – морозить. Людмила залюбовалась:
– Ну ты ж и мастерица, Валечка. Училась где или так, сама дошла?
– Тетка научила, мамина сестра. Я у нее в деревне как-то, девкой еще, зиму прожила. Ангины меня тогда замотали, ноги не таскала. А в городе какое лечение? После войны-то, известно, голодуха. А у тетки там баня, печка русская на полдома. Вот так напарит меня да салом бараньим разотрет. И отошла вроде, с тех пор и не болею. А по субботам мы с ней пельмени затевали, то с капустой, то на картохе. В хорошие дни с рыбкой. Вот и научилась.
– Ой, прелесть какая! Банька, печка, деревенька… Все-таки правду говорят: кому тесто удается, у того на душе мир и покой. Вот и тетя какая славная. Наверное, учительница?
– Ведьма.
Валя одним махом сгребла обрезки теста, сжала в ком и бухнула его о столешницу. Потом махнула подбородком на тесак:
– Брось-ка в раковину, мешает.
Люда потянула нож на себя, сжала ладошками обмотанную изолентой рукоятку.
– А как это – ведьма?
– На любовь привораживала, могла и от этого дела, – Валя щелкнула себя по кадыку, оставив мучной след на шее, – отвадить. Или вот, если кому разлучницу извести, тоже помогала.
Людмила прижала нож к груди, побледнела.
– А разлучницу – это как?
– Как-как. Косынку, например, ей подсунет. На крыльцо бросит или там, скажем, в карман где в суматохе приткнет. Та развернет, а в косынке – булавка наговоренная. Уколется баба, и найдет на нее пустотка.
– А что это?
Валя обвела взглядом налитую фигуру соседки, прищурилась:
– Да то и есть: худеть начнет. Титьки, щеки, бока, задница – все за неделю на нет сойдет, мешком повиснет. Ты с ножом-то осторожнее, острый. Вчера Толька наточил.
Звякнул об пол тесак. Из ванной вышла свекровь, зевнула, перекрестила рот. Глядя на нож, хмыкнула:
– Мужик придет. Только че-т в кровище. Уж не Толька ли по пьяни подрался?
Наклонилась, сплюнула и трижды постучала рукояткой об пол. В дверь позвонили.
Дядька мой Анатолий переступил порог, волоча на себе Сумякина. Тот был весел, пшеничные усы в инее, ватник нараспашку. К щеке мойвин хвост присох, шляпа-таблетка набекрень не без лихости, на ухе вуаль, вся в кокетливых бархатных мушках. Люда тихо ойкнула, Сумякин рыгнул, отсалютовал даме шляпой на резинке и рухнул на пол. Толя утер лоб.
Ночевали хорошо. Механика под шумок уволокла к себе Людмила, свекровь не спала вовсе: примеряла шляпку, прикладывала вуалетку, снова убирала, поворачивалась в профиль и счастливо улыбалась зеркалу. В спальне Валя упрятала в комод между наволочками целехонькую дядькину зарплату, вздохнула.
– Голодный? Там кран сломался, ты завтра почини. Пойдем, солью тебе на руки хоть вон из ковша.
Дверь за супругами закрылась, зашумела в раковине вода. И шумела долго, ой, долго. В кухне подсыхали на столе пельмени, метель кончилась, глянула в окошко луна. Из темной прихожей ей подмигнула забытая всеми шляпная булавка с перламутровым отливом. И пришла ночь.
День города
Казенный выходной продрал глаза к полудню, когда стеклянный заморозок лопнул, как градусник, и истек ртутью в подвальные отдушины. Углы, тротуары и улицы поддернули тени, как подолы, отмякли и вытянулись вдоль предместья под ватной оттепелью во весь рост. Люди просыпались. Полетели куры из-под ног, заскакали в сенях и на верандах крышки с огуречных банок, и, будто стая сизарей, заворковал, загулил в сотне глоток разом ядреный – не продыхнуть – укропный с чесночком рассол. Кот, нехристь чердачная, шуганул голубей, те сбились в ком, в моток почтового шпагата, прокатились по пыли к окну. И вот – хлопот крыльев, и из расцарапанного неба в самое небо – счастливая одышка: хорошо!
Свернул в переулок к гастроному припозднившийся хлебный фургон, амбарными замками нацелились друг в дружку хмурые, под засовами, «Почта» и «Парикмахерская». Из-за угла с оглядкой шмыгнул ручей, цапнул с бордюра листовку – «Горожан с Днем города!», крутнул в воронке у столба и утянул под решетку. Стекольщик Амбастиков вдогонку ему отжал из мочалки мыльные хлопья и прошелся еще раз, насухо, по вывеске – «Стекольная фирма „Лицензия“. Трезвые мастера всегда!» Полюбовался буквами, дыхнул на восклицательный, как сержанту в тестер, полирнул локтем и запер, наконец, контору. Праздник начался.
А на другом конце города, пока пригородный автобус раздавал багаж заспанным приезжим, от вокзала отошло такси с пассажиром. Неприметная «шестерочка», каких много. Разве что крышка у багажника не закрывалась, хлопала на ходу. Очень уж груз попался негабаритный – ящик лимонов. Таксист накрутил лишнего километража заезжему лоху, потому был благодушен и желал общаться:
– Откуда сам-то?
– Родился здесь, а еду с Бодайбо.
Водила крякнул, приготовился скинуть цену на четверть – фора на знание города.
– Так то ж север! Чего ж ты оттуда лимоны пер? Они там у вас золотые, не иначе.
– Не, это с югов, с Сочи. Бригадир отдыхал, вот привез. А я их матери, она тут живет.
Пассажир притих, поерзал на сиденье, распустил из-под кожаного пальто потный настой и вдруг улыбнулся, заплыли азиатские глаза в скулах-яблоках – поди разбери, казах он или татарин:
– Любит, с чаем-то. Сахару набуровит, лимонов кружка два ложкой надавит, с кипятком. Заварки еще нафигачит, аж горло дерет. А ей ниче, пьет. Нравится. А тут пишет: помирать собралась. Пора, дескать, зажилась. Вот веришь – нет: неделю маялся. Чего напишешь-то? А тут – лимоны. Ну и вступило в мозги: думаю, дай, привезу, бухну ящик на пол: на, мать, к чаю тебе. И пока не проешь, помирать не вздумай. Деньги, дескать, плачены. Там вон, за аптекой, поверни, по правой дороге поедем. Короче выйдет.
Таксист вздохнул, скинул еще полтинник. Городская застава дыхнула в опущенные окна «шестерки» валидолом с аптечных складов и скрылась в пыли. Впереди шустро бежало в мощеную горку деревянное предместье.
– Хоронили, что ль, кого? – Колесо вильнуло, прыгнуло на кирпиче, объезжая цепочку крупных, в кулак, садовых бархатцев. Пассажир пожал плечами, не взглянув. Он все засматривал по зеркалам на багажник, угадывал под крышкой, что ходила ходуном, глянцевый лимонный лоск и улыбался.
– Поднажми, а? Сотку накину!
Таксист поднажал. Бархатцы тоже подбавили: вровень с «шестеркой», то и дело виляя с утоптанного пустыря на мостовую, бежали уже два рыжих потока. Казах-татарин перестал чесать подмышки, позабыв руку под пальто. От лба к подбородку и дальше в ворот плаща потекла желтоватая, как лимонная изнанка, бледность. Цветочная дорожка споткнулась о забытую Амбастиковым стремянку, сладко притерлась к порожку винно-водочного «Эдема», обогнула вместе с канализационным ручьем фонарный столб и шарахнулась от дороги прямо под ворота дома номер восемь-А. Таксист коротко глянул на пассажира и, ни о чем не спрашивая, мягко причалил туда же. Из распахнутого на втором этаже окна рвался наружу тяжкий девичий вой. Кожаный приезжий на циркульных ногах пошел к калитке, бухнул кулаками в доски и пропал во дворе. Водила потоптался, достал из багажника ящик с лимонами, поставил у ворот. Пошел было прочь, вернулся, носком ботинка аккуратно двинул угол поровнее, крякнул и уже в «шестерке» газанул, сжигая сцепление, будто боялся: калитка дрогнет, и его окликнут.
Мелькнуло и скрылось позади предместье, и у заставы такси остановилось. Дух перевести. На аптечном крыльце, полыхая рыжим из-под капюшона, сидел пацан с мобилой. Покосился на таксиста и ткнулся в телефон:
– Дурак ты, Сява! Дорожка из цветов, дорожка из цветов! И че? Мало мне, что мать за бархатцы обещала шкуру содрать, так теперь и Верке отец жопу надрал. И из дому не пускает. Че «как догадался?!» Я ж от своих ворот цветы-то сыпал. А откуда надо? Ну не с кладбища же!
Таксист сплюнул, завел двигатель, и «шестерка» медленно поехала в город. А по предместью покатился праздник привычным, на века устаканенным порядком, как, бывает, катится под вечер с горки початая «ноль-семь». Гулко глокает в пыль, виляя мимо рук, и под конец взрывается на камне осколками вразлет до кровавых соплей у половины сельчан.
Ночью под грохот городского салюта сладко спали вповалку на тахте кожаный приезжий и примирившийся с миром суровый Веркин отец. В кухне, света не зажигая, в отсветах фейерверка у окна чаевничали воскресшая Еспергениха и зареванная Верка с рассыпанной черно-шелковой косой. Бабка шуровала в Веркином стакане ложкой, давя кружок уцелевшего из ящика лимона, и посмеивалась:
– Ниче! Раз живую похоронили – сто лет буду жить. Ниче! А с лимонов у меня изжога, с молоком пить надо. Ну чего ревешь? Дура ты, Верка, дура.
Праведники из села Кукуево
1
Дождь-пропойца, бывший цирковой, к ночи загулял: швырял насиженную на папертях и перронах мелочевку поверх крыш, горстями ухал медную рассыпуху на подоконники – однова живем! Дома отмеряли сдачу и возвращали через водостоки вниз, на плиты дворов, в наплывы мокрых листьев. Текло серебро по деревне праведников, кипело в фонарном свете и ни к чьим рукам не липло.
К утру циркач выдохся, карманы обвисли. Запахнул хламиду и поволокся куда-то за гору, в овраг. Там насквозь мокрая черемуха, вся в расклеванных воробьями ягодных брызгах, отжимала на ветру захлестанный подол, крыла гуляку матом и грозилась, грозилась жилистыми кулачками в сырой провал. А бывший коверный спал. Из-под щеки, примятый и жалкий, выбился ручей, переждал немного и утек через луговину. Клоун не услышал. Снилось, что в цирке аншлаг, дали увертюру, и занавес распался, впуская на арену парад-алле. Акробаты склонились в комплименте, дирижер, баюкая прострел в плече, опустил палочку, и оркестр, вышколенный, поспевал за выпученными глазами и мотающимися в такт седыми дирижерскими патлами. Прожектора завели кинжально-острый жонгляж световым эхом от очков, биноклей, фольги эскимо и искрящих бижутерией сытно-выпеченных декольте. Остро потянуло тырсой с манежа, зашлась астматическим кашлем над веером программок старушка-билетерша. Представление началось.
– «Семь утра в городе, и в эфире радиостанции „Волна“ выпуск новостей».
– Бабка, ты охренела ли че ли? Выруби свою байду, а то, бля, выйду щаз, прицелюсь.
– Че ты там прицелишься? Че прицелишься? Прицел-то в штанах застрял, как я на твою Ленку погляжу. Прицеливатель тоже мне, ага. Схлопнись, форточка!
«Число жертв урагана „Айрин“ на Восточном побережье США приблизилось к сорока…»
– Бабка, вон, вишь, люди, говорят, погибли.
– Дак все под Богом ходим, че ж тут.
– Хорошие, наверно, были люди-то.
– Разные. Вон, и дед мой помер, прям так, дома. И ураганов ему не нать. А ты че тут мне зубы-то заговаривашь? Че ты выполз со сранья? Растелешился вон весь. Поддеть-то неча? Обносился? Поддевку б каку, чем пузом сверкать, не май месяц поди. Ленке, вон, соплей твоих и не хватало, ага. Сверх остатнего-то счастья. Че выполз, грю?
– Че-че… Новостей послушать. А может, за молочком? У тя щаз почем козье-то?
– Знаю я, какого те молочка, ага. За тем молочком, вон, к Маше иди. Или она седни в город подалась? Собиралась вроде. Ооой, задурил ты мне голову! Дыми, скотиняка, в сторону, тьфу, пропастина! Да на, вон хоть платком, что ль, титьки-то оберни, сил нет на тя смотреть.
– Погоди, бабка, не ерзай. Я грю, люди там, в Америке, погибли, так? Разные, может, и хорошие были. Вот я тя и спрашую: какого ж черта тебя-то никакая холера не берет, а?
– Ноооо, пошел городить. А то меня холера не берет, что я, может, с дедом-то на пять жизней вперед натерпелась, ага. Это ж, если поглядеть, в Ушаковке каменюк не хватит, сколько он юбок передергал ручонками-то своими заскорузлыми. Да вон хоть даже Машу возьми, в кого у нее Витька-то, младший-то, а? Вооо! Че буркаешь? Мне стыда нету, я, хошь знать, за всю деревню настрадалась. С козлом этим безрогим, царство ему небесное, ночами-то все-о-о отмолила, отплакала, пока он там чужие огороды-то окучивал, но.
– Вон как. То-то, я смотрю, нас конец света, и тот обошел. Прям не деревня теперь, а монастырь получается.
– А и получается, не твое это дело, вот что я скажу. Иди давай, досыпай. Рано еще, Ленка-то твоя там теплая небось. Давай!
– «И в заключение выпуска информация от Гидрометцентра. По области переменная облачность, местами дождь…»
Клоун в овраге потянулся, почесал одну о другую затекшие в холоде пятки, вытянулся вдоль ручья и затих. Там, во сне, цирк проводил последних зрителей, огни погасли, и дворник Рахмил, гоняя метлой обертки от мороженого и смятые билетные радужки, вспоминал, как раз за разом опрокидывался от пощечин-апачей в вонючий манеж коверный клоун.
– А тоже ведь работа, чего ж…
Сгреб мусор в кучу, тягуче сплюнул на выметенный тротуар и скрылся в подвальной своей каптерке. По чистым цирковым ступеням серебряными монетами застучал дождь.
2
– Илька, не доорешься тебя! Примерз там, что ли? Ужинать!
– Погоди.
– Погожу. Ты что на себя напялил, горе? Из-под пятницы суббота, эээх. Чего там застрял, в снегу-то?
– Семечку сажаю.
– Какую семечку?
– От тыквы.
– Господи! Да она ж померзнет.
– Не померзнет, я ее в бутылку сунул.
– А бутылку где взял?
– С-под кефиру.
– А кефир куда? Выдул, что ли? Целый литр?
– Не. В пакет слил.
– А пакет в кухне бросил? Завоняет же!
– Уже завонял.
– А я и не учуяла…
– А я его вынес.
– Куда вынес?
– В яму. Под туалет.
– Матерь моя женщина! Дак ведь всплывет!
– Не. Не всплывет уже. Придавил.
– Чем?!
– Цементом. У папки там в сарайке пакет валялся.
Навалилась на поселок тень, на покатых крышах не удержалась, соскользнула вниз, в сторону взлетно-посадочной полосы. «ТУ-134» садится. Пошла трещинами тишина, ссыпалась с козырька котельной воронья стая – и снова тихо. Бабка Илькина охрипла, шепчет в телефон, а по глазам – криком кричит.
Из сада к дому Илька ковыляет, свитер до колен, сверху куртешка. Из-под пятницы суббота. В руках бутыль с семечкой. У крыльца встал, задрал к небу голову. Звезды на синем. Красота. Хороший день, выходной. И на почте у мамки выходной, и в детском саду у Ильки, и у брата в школе, и у папки на рембазе. И только суровым мужикам на машинах-цистернах, что выгребные ямы откачивают, отдыхать некогда. Каникулы – самый сезон. Илька вздохнул, одернул куртешку и зашагал к дому. Самое время ужинать.
3
Здешняя наша тишина – продукт не местный, привозной, поставляется из недальнего города манером отчасти криминальным. К концу дня жара выворачивает карманы, и все от утра нажитое: монеты, фишки, жетоны, цейтноты, портфели, – рассыпается на выплавленный жаром гудрон, испаряется, укутывая перекрестки резиновым облаком, тянется неоновой упряжью вплоть до предместья, хватает за зеркала и, не дотянувшись, швыряет шлагбаум в досаде. А нищий город сворачивает с трассы на грунтовку, в густую сосновую тень, отпускает, наконец, педаль и разливает по округе очарованную – теперь уже нашу – тишину.
– Лерко! А Лерк!
– Ой?
– Огуречиков у меня возьмешь? Поешьте, а? Такие сладкие! Прут и прут, в рот уже не лезут.
– Так засолила б, теть Маш, а?
– Да ну, соль живая. И так хондроз умучил, куда мне еще солонить-то? Ну так возьмешь огуречиков? Слааадкие!
Структура этой тишины неоднородна, она слоиста и прозрачна, как протянувшиеся от края до края неба перистые облака, что обещают такой же – от края до края суток – долгий дождь. Что же до тишины…
– Лерк! А Лерк!
– А?
– Ты че седни шьешь взад-перед с утра? Швея-мотористка прям. Сварганила б мне рубаху, что ли, чем зря шастать. Че ржешь-то? Я вон баню к вечеру стоплю, приходи, мерку сымем.
– Пашка, хрен ты бессовестный, а! Смори, домылишься с баней-то своей, Леркин мужик с тя мерку-то сымет, ага. Болгаркой!
…что же до тишины, то здесь как с туманом. Как после теплой, укутанной облаками росной ночи к утру разъяснивает до бледных звезд, и от влажной пасти оврага, от куриной глубины ручья под горчичными зарослями к ивовым кудрявым макушкам поднимается слоистый молочный пар, так и деревенская тишина мягко и липко ложится поверх немолчного собачьего лая, цепного звяканья, коровьего мученического мыка, хозяйской переклички, гулкого дровяного перестука шабашников, далекого гула трассы…
– Илька, мать твою за ногу, а! Ты что ж, скотина ты безрогая, делаешь, а? Нет, ну вы гляньте, а, он на горох выссался, оглоед ты чертов! Я кому на веранде горшок выставила, скажи ты мне на милость? Да я ж те тот горошечек живьем скормлю, скотиняка ты пузатая! А я слышу: журчит. Ну, думаю, Лерка опять бочку перелила, склероз у ей. А это Илька, мать твою за ногу, выссался. Што люди-то скажут, а? Ой, позорище ты, позорище… Че? Че там бубнишь? Не ори – не услышат! Не, ну вы слышали, а? Люди добрые!..
…далекого гула трассы и надрыва взлетно-посадочной недальнего аэродрома. Тишина – продукт не местный, привозной, тощее дымное облако над варевом жизни. Так что приезжайте, привозите вашу ворованную очарованную тишину. А Ильку не бойтесь. Он подрастет и научится. Горшок-то – вот он, на веранде.
Лариса Бау Географические особенности доброты
Маленькая история про ташкентскую доброту
– Утюжок молодой, ему дам, неча ему по кустам дрочить. А тебе нет, вонючка ты, облезлая обезьяна.
Базарная шалава Эльза подрезала любимому Утюжку ногти на руке, попыхивая папироской. Ногтей было всего пять, потому что у него левая рука была оторвана ниже локтя, а ноги были оторваны вообще, и он сидел на самодельной тележке с подшипниками с лета сорок четвертого года. У него была маленькая дощечка – отталкиваться, как веслом. Такие дощечки назывались в народе утюжки. На утюжках идет – в те времена это было понятно сразу.
Утюжок был молодой, синеглазый. Одно время старался не пить, по утрам умывался под колонкой и подрезал бороду клином.
На базаре он считался мудрецом. Истины разговаривал, как уважительно говорили о нем другие инвалиды и побирушки, жители базара. Он не был похож на них, крикливых, бесстыдных, выставляющих свои гноилища на снисхождение. Он не просил, но редко кто проходил мимо, на дав ему медяков или не покормив его. Он и ел достойно, откусывал маленькими кусочками.
По вечерам, когда базарный шум стихал, он облокачивался на фонарный столб и читал обрывки газет и две замусоленные книжки, которые держал в котомке за плечами. С котомкой он обращался ловко, закидывал за плечи одним движением.
Но со временем Утюжок тоже втянулся пить. Спьяну начинал плакать, кричать «убейте меня», хватать за ноги торговцев, пытаясь выдернуть узкий нож, который узбеки обычно носили за голенищем сапога. Один раз успел, вытащил ножик, порезался неуклюже. Его помыли, перевязали. Русская бабка стала увещевать его: грех, Бог жизнь дал, Бог и возьмет. Он рассмеялся и укатил в тень.
В какой-то обычный весенний день он пропал.
На мосту нашли его тележку.
Когда к лету вода в реке спала, обнаружили самого Утюжка: за пазухой и в котомке – кучка камней.
Не мог он сам дотянуться и перевалиться через перила моста. Кто-то помог ему, оказал последнюю милость.
Длинная история про ленинградскую доброту
Когда запальчиво говорят: ленинградцы добрые, а москвичи злые, тбилисцы щедрые, а биробиджанцы жадные, хочется спорить и взывать к теории вероятности и статистике.
Но у нее был счастливый опыт с ленинградцами, так что не спорьте!
Будучи студенткой последнего курса, она много занималась в научных библиотеках. Вообще-то можно было и обойтись, но там была такая приятная атмосфера, противоположная неустроенной пугающей жизни…
В какой-то день она пыталась сосредоточиться на своем занудстве – теории функций комплексного переменного, извините за выражение. А рядом – вот она польза читальных залов – сидел молодой человек с журналами. Стопка еще нечитаного томилась на углу стола, обещая заманчивую перспективу.
Молодой человек потянулся, хрустнул суставами и вышел покурить. Приятный какой!
Ага, она пустилась в разведку: на его столе лежал вестник каких-то наук, а статья, которую он мусолил, была – да! Статья ее отца, умершего как минимум двадцать лет назад, как божились ее родственники. И дата была – май 1974 года. И город – Ленинград.
Нет, мир не поплыл перед глазами, руки не задрожали. К тому времени детская растерянность уже оставила ее, внутреннее бомбоубежище было почти готово, обставлено добром раннего детства, замуровано отроческой борьбой.
Заниматься уже не хотелось, да и к парнишке интерес пропал, она вышла на улицу обдумать жизнь.
Она жила у своих добрых друзей, к вечеру собрались обсудить и написать письмо в ленинградское адресное бюро, в отдел поиска родственников, не закрытый еще с послевоенных времен. Имя, фамилия, приблизительный год рождения, место работы, в каком городе раньше жил, двадцать лет назад.
Через неделю приходит письмо из адресного бюро: «Отец живет по такому-то адресу, человек очень старый, но я проверила: жив-здоров».
А дальше написано: «Дорогая девочка, мы, ленинградцы, хорошо понимаем, как искать потерянных родных. Я не знаю твоей истории, но, если что не так получится, вот мой адрес, телефон. Ты можешь остановиться у меня. Если нужна какая помощь – я тут».
Ну как не расплакаться от такой доброты? Что они пережили, ленинградцы, от войны, революции, репрессий, а ведь ищут, надеются, помогают. Не от равнодушия, досадной оплошности или мести расстались…
Короче, она собралась в Ленинград. Остановилась в гостинице, позвонила отцу: ничего не хочу, желаете – посмотрим друг на друга, не желаете – не посмотрим. Голос не удивился, не возражал. Назначил встречу.
День прошел хорошо, музеи, Исаакиевский собор, пирожок на улице, внутри, конечно, напряженно было. Пошла пешком на встречу по Дворцовой набережной на Петроградскую сторону.
Темнело, по дороге пристали двое: девушка-девушка, одна идете тут, а мы, красивые и умные, идем в библиотеку…
Приятная болтовня, зашли в библиотеку, пока книжки меняли, она и выпалила, куда идет и зачем.
Ребята остолбенели.
Извинились за балагурство: мы вас проводим. И в отдалении постоим, а вы, если нужно, нам махните. У вас есть где жить? Тут моя бабушка недалеко, можно к ней, она с удовольствием. Или к нам… Вы давно ели? Тут булочная рядом.
Ну что скажете, миф это, ленинградская доброта? Кому миф… Наверно, если слишком часто приезжать, все можно испортить.
Ну а дальше как? Встретилась с отцом, руку пожал, расспросил: получила ли высшее образование, знает ли языки, училась ли музыке? Ну хорошо, я так и думал, бабушка твоя не упустит, воспитает как надо.
Даже телефон записал. Велел замуж выходить на пятом курсе, а то потом фиг жениха найдешь.
А собственно, что ожидать-то?
Махнула ребятам: идите домой, спасибо вам!
На следующий день купила цветы-конфеты, пошла в адресное бюро. Обнялась с доброй женщиной.
Поехала обратно в Москву.
Через пару лет умерла вечная жена отца, он вспомнил о раскиданных детях.
И ей досталось много приятного: поездки в Ленинград, интересные беседы, научные споры, прогулки и деньги иной раз.
Ее сын вспоминает его как настоящего дедушку, его бездонный письменный стол, где можно было находить неведомые сокровища, книги с загадочными картинками, анатомические атласы.
Он помнит добрую домработницу его, как ходил с ней на кладбище, на могилы ее родных, цветы сажал, потом газировку на остановке пили.
Потом отец умер, милостиво внезапно, ему было поддевяносто лет.
И домработница умерла, тоже не мучилась. Ленинградка, кстати, очень добрая старушка была.
Еще одна маленькая история про ленинградскую доброту
1982 год. Мы в гостях в Ленинграде. Наводнение.
Мой мальчонка пяти лет от роду заболел свинкой и серозным менингитом. Приехала скорая.
– В больницу, мамочка, немедленно!
Едем. Между тем наводнение грозится, а местами уже заливает.
Водитель нервничает: куда мальца везти, я там уже не проеду в детскую, и мост закроют?
– Семеныч, давай куда-нить, в ближайшую… Не боись, мамочка, успеем, мы тут питерцы боевые.
Прибыли куда-то, ливень, темно, спускаемся, приемный покой в подвале.
Кислород, капельница… глазки открыл.
Нянечка причитает: не боись, мамаша, мы питерцы… блокада, жмых, лошади мёрли…
Шум, беготня…
Нянечка: мамаша, вода идет, давай-ка…
– Что давай?
– Наверх давай!
Тащу ребенка в одеялe. Сзади нянечка громыхает подставкой с капельницей. Мычит, толкает меня в спину: скорей, скорей…
Оборачиваюсь наверху: подвал уже залит, вода прибывает на глазах, плавают желтые листки бумаги, какой-то мусор…
– Пристройтеся тут пока на стульях, мамаша.
– Завотделением в кабинет к себе сказал положить. Строгий он, быстро, – бормочет нянечка.
Через полчаса приносит чай и булку…
– Отрезало нас, не доберешься… А в пятьдесят таком году так было! Так было! Хлeстало тут водой на первом этаже…
Мои дорогие, верила бы в Божью доброту, молилась бы за вас неустанно.
Маленькие истории про тверскую доброту с приложением
Чуть отойдешь от железнодорожной станции – бараки, заборы, одуванчики, мусор…
Вечер. Бочка с квасом, последним в очереди доливают.
Спешит мужичонка, бежит, кричит осипши: погоди, не запирай бочку, глоток оставь.
– Да не беги ты, сдохнешь… куда я денусь без тебя…
– Налей глоточек, уважь рабочий класс!
– Ишь, класс, когда работал последний раз-то?
– Я огород Дарье копал!
– Копал, видали как копал, дрыхал на грядке… на, пей, ирод!
Рисую полузаброшенную церковь.
Скрипит дверь, выглядывает бабка в платочке, здороваемся, приглашает:
– Живу тут, милая, Господа охраняю. Мальчишки забегают шалить. Силов уж нет.
Внутри печально, под полуразрушенным куполом снуют галки. На стенах тусклые, полустертые святые…
Захожу в келью к ней – уютно даже, кровать, иконки, столик резной…
Предлагает мне чаю, хлеба.
– Я хочу дать вам денег, бабушка.
– Мне не надо, на церковь – давай, милая, спасибо.
Столик у нее хитрый, с потайным ящичком, там копейки держит.
– Дают люди добрые, раз в неделю в сберкассу отношу. Тут нельзя деньги держать, мальчишки разбойники все унесут.
Эх, не жалеют люди Божий храм, придут ведь к Нему, а Он спросит: как же Божий храм не жалели? Мимо ходили, плевали-грабили…
На тебе свечку, милая. Поставь за нас в Кремле в церкви.
– В Кремле в церквах музеи, бабушка, кремлевский бог не там обитает.
– Нету там? Ну в какой-нибудь главной церкви, помолись за нас, чтоб хоть крышу починили, а то не переживем зиму. Дай-ка перекрещу тебя, ну будь здорова.
Приложение: монолог тверского пьяницы про московскую доброту
Промеж двух столиц живем, тоже не последние на дороге, не в глуши лесной!
Нам Москва не просто ближе, она сердцем ближе, всей нашей русской душой.
Я в Ленинграде был, робею там, хмырь тамошний гордый. Предложишь на троих, а он смотрит так презренно и спрашивает: а ты откуда будешь?
– Ну тверской я, не примешь, что ль?
А он нехотя так: ну давай…
Как будто за его кровные принимаю. И брезговать будет, норовит первый отпить. Как чухонец, ей-богу.
А в Москве я свой уже с вокзала, прям там поджидают готовые на троих, а то и на двоих, если деньжата при себе.
И под кустом всегда в Москве стакан найдется. В каждом парке! Что хмыкаешь, а ты проверяла? А я проверял!
Лежит стаканчик, не крадут, понимают люди, что и другим надобно.
А мент, он везде злой, на то и мент!
Маленькие истории про киевскую доброту
Киев всегда прекрасен, когда поезд грохочет по мосту через Днепр, встают в утреннем тумане печерские церкви среди золота листвы, звенит душа…
Вот она, радость Божья, ничего не надо больше…
Мы – подружка и я c сыном – приехали в Киев к ее родственнице.
Родственница – не старая, не толстая, беспартийная общественница, чудесный тип женщины, которая не пройдет мимо. И всегда поможет, научит, соломку подстелет и сопли подотрет. Но и в лоб даст, если сочтет нужным.
Она встречала нас завтраком: яйца, сметана, творог, хлеб, колбаса, сырники, варенье…
– А так все завтракают, это не много!
Поехали на Крещатик, погуляли с часок.
– А вон там шашлычная, настоящий азербайджанец готовит, пойдемте.
– Помилуй, дорогая, недавно ели.
– Так сколько уже ходим, ребенок проголодался, наверно. Ты кушать хочешь, детка?
– Нет еще, спасибо большое.
– Ты нездоров? Почему он у тебя ничего не ест? Всё у вас, москалей, не по-людски! – засмеялась она.
Отбились от шашлыков ненадолго. На пути встала чебуречная, потом пельменная, за ней – галушечная.
– Так что же вы ничего не едите? Откуда силы будут?
Перед лаврой она уперлась: я уже сейчас с голоду умру. Всё.
Осмотрелась: ну вот, не хотели в шашлычную-галушечную, а тут только ржавая стекляшка-столовка. Придется туда идти.
Заходим, пахнет вкусно, выстраиваемся с подносами.
Подавальщица наклоняет лоток с куриным мясом: «КАКУЮ ХОЧЕТЕ ЛАПКУ?»
1983 год. Джинсы – царь зверей.
Мне скинул кто-то из друзей, я из них сшила ребенку настоящие джинсы, потертые, с фигурными заплатками. Он уже понимает, что такое джинсы, наслушался взрослых, ходит гоголем.
Киев. Трамвайная остановка.
Старушка нарочито вздыхает, не выдерживает, обращается к народу, указывая на моего сына: да что же это такое, люди добрые, пятьдесят лет советской власти, а как люди живут, детей одеть не во что! Мать-одиночка, наверно, вон штанишки какие на мальчике потертые, в заплатках все.
Молодой парнишка в джинсах посмеивается: это так модно, бабушка, вы не понимаете.
– Да где это может быть модно, в заплатках-то?
– Это, бабушка, на Западе модно, в Америке.
– Так в Америке негры нищие, вот они, наверно, так ходят. Ты газеты читай, еще смеется!
Женщина, послушайте, приходите завтра сюда, к тому серому дому, первый подъезд, квартира 15. А я вечерком ребенку одежки соберу по соседям. Покажись-ка, сынок, какой у него размер ноги?
В главном киевском соборе заканчивается служба.
Душно, пахнет ладаном, густая толпа.
Душа моя в церкви протестует, разум ее подначивает и глумится. Ну да, красота, а Бог при чем? Ихний Бог вон как маялся, смотрит со стен босой, измученный, а они тут толпятся, бубнят, воротники вышитые.
Сытый голодному осанну поет. Эх, да что там…
Мне хочется одного: скорей выбраться на свет.
Сын был на такой службе впервые. Заворожен действом, пением, огромным сумеречным миром…
Шепчет мне: смотри, идет, к нам идет…
Приближается поп, громадный, ручищи в перстнях, три креста на шее, золотой весь…
Старушки выпихивают к нему сына: благослови мальчика, батюшка, перекрести.
Поп смотрит на меня: крещеный сын?
– Нет, батюшка.
– Крестить придешь?
– Нет, батюшка, извините.
– Пошла вон!
Маленькие истории про владимирскую доброту
Владимир – чудесный город, и красивый, и уютный, а уж о щедрости тамошних жителей ходят легенды…
В голодное лето 1986 года мой муж и его сотрудник поехали туда в командировку. И мы с сыном присоседились.
Прибыли с утра, мужики на работу, мы – по музеям, вечером встретились, пошли в командировочную общагу ночевать, а по дороге зашли в промтоварный магазин. И сразу подивились изобилию. В частности хлопчатобумажных носков как мужских, так и детских.
Кинулась выбивать в кассу, а мне говорят: сначала продавец талон должен выписать. Или квитанцию, не помню уже, как правильно сказать, но «выписать».
А продавец требует паспорт с владимирской пропиской. А у меня московская прописка. Нет, говорит, не полагается. Справедливость: у вас колбаса, у нас носки.
Мужнин сотрудник, только что сдавший в аспирантуре научный коммунизм, соскучился по дискуссиям: «А мы ведь вам нашу колбасу продаем, почему же вы нам свои носки не продаете? Это был бы выгодный товарообмен…»
Надулась: «Ну что стоите, как неживые? Сказано не продавать, своим не хватает».
Отошли. Я захожу в детский отдел. И там хлопчатобумажные носки манят.
Спрашиваю: «Детские носки тоже с местной пропиской?»
– На область тоже отпускаем.
– А я из Москвы.
Смотрит на сынишку, улыбаются друг другу.
– Ладно, две пары выпишу. Славный мальчик у тебя!
А мужики не славные были. Обычные, без носков обойдутся.
Съевши первым вечером суп из пакетика и привезенное с собой, на следующий день решили кутнуть и пойти в ресторан.
Ресторан «Изба» действительно находится в избе на бетонной курноге.
Заходим, гардеробщица – синий халат, шлепанцы на босу ногу.
– Вечером с ребенком нельзя.
– Интересно, – не унывает мужнин сотрудник, – а почему? У вас что, голые пляшут? Русалки на ветвях сидят?
– Что? Нет, голые у нас не пляшут, скажете тоже. Юморист выступает, говорит всякое, что хочет.
– Что хочет? И не сажают у вас?
– Московские, что ль? У вас одна антисоветчина на уме. Он, может, про любовь говорит.
– И что же он говорит такое, что детям нельзя?
– Который тут отец? Что молчишь? Уйми его! Ишь, балагур-паскудник. А ты, мамаша тоже, при ребенке говорят такое.
– Ну что же я такого сказал? – не унимается сотрудник.
– Не перечь, мента позову.
Не выдержала своей суровости, засмеялась:
– Верка, вынеси тут котлеток на двоих, да не жадись, шалава, огурчика положи и пюре. Мужчины, идите в залу, а вы, мамаша, тут с мальцом покушаете, у меня в гардеробишной.
Три рубля плюс жалобы на мужа-алкоголика. А мужики пивo пили.
Маленькая история про одесскую доброту
Москва. К одесскому поезду спешат три еврея: два худых, один толстый. Провожаемые женами. Супружницы худых – налегке, сунули сверточек, и всё. А толстому супружница несет: три курочки, яичек, хлебушка… В общем, если в степи на поезд нападет Котовский или батька Махно и если нашим евреям удастся отмазаться за итальянцев или греков, то они еще неделю с голоду не умрут.
Толстый был начальник лаборатории, худые – его сотрудники, один – партсекретарь ячейки, другой – беспартийный. Они ехали в командировку на одесский завод.
Тетки чмокнулись, пошли домой.
А они поехали, завлабораторией снял галстук, переоделся в тапочки, курочку разложил, нахлебники не отстали, кто водочки, кто огурчиков… покатили, счастливые…
Друзья, я никогда не была в Одессе!
Это непростительно, это печально, это невозвратимо.
Да, я могу поехать на Брайтон-Бич в Бруклине, посмотреть, потоптаться, послушать. Но это не то, это как анекдот, живой одесский анекдот, но не Одесса же…
А у них анекдоты начались уже в проходной завода: на Доске почета были два Иванова, три Нечитайло, одно Папандопуло, остальные так или иначе:
Рабинович такой, Рабинович сякой, Кацнеленбоген, Кацнельсон и просто Кац. А кто у них был парторгом, так у нашего партсекретаря ячейки – тайного еврея с русской фамилией – помутилось в глазах.
Но сама я этого не видела, это мне рассказывали, так что, может быть, Кацев там и больше было, хороших и разных, трудно всех запомнить.
Заходят в кабинет к директору. Дорогие гости из Москвы. Начальники обнимаются, знают друга давно, хихикают, кто толще стал.
Директор про себя говорит в третьем лице: когда Фишман едет в Москву, какие девочки собираются у ресторана «Прага» этого Фишмана встречать! Но все равно он там голодный ходит, и все ему не так. И девочки худые.
Поехали на трамвае в гостиницу загружаться.
– Мужчина, вы будете выходить или просто так думаете?
– Воды нет. Так вы ж не с кочегарки, сами белые.
– Если вам с девочками, идите на бульвар, если нет, на Привоз.
Пошли на Привоз, семьянины, еды купить.
А там глаза разбежались после московской скромности! Сообразили на троих вяленого мяса, сала купили, пропади пропадом еврейская душа.
И так три дня: шуточки-прибауточки, сало-горилка, кисленькое винцо для гипертоника. Вечером девочки на бульварах засматриваются, наши ни-ни, партийный хоть и один, но семейные все!
Вы, поди, презираете их, сало на уме, девушки на виду… Нет, они и в оперу хотели пойти, и в краеведческий музей. Но было лето, опера на гастролях, музей вечером закрыт. Целый день с Фишманом над чертежами, чай с бутербродом, покурить вышли и опять к чертежам. А вечерком на море…
Напоследок банкет на заводе. Там сала нету из-за главного бухгалтера, в кепке ходит, маскируется перед Богом и людьми!
Но рыбку фаршированную из дома принес, чтоб знали, как богоугодно!
А зам самого все сидел с постной рожей, а выпил – губную гармошку достал. Эх, девочек нет, как сплясали бы! Секретарши – они, конечно, девочки, но не решились, оробели московских гостей, видно.
Нагрузились в дорогу едой, прямо с вокзала встречающие откусывали.
Вы спросите, а где доброта? Да везде она в Одессе разлита! Неспешно, хлебосольно, не толкаются, не орут грубо. А что, подвиги надо, что ли, обязательно от себя оторвать-откусить?
Эх, жаль, не была я в Одессе…
Московская доброта 1992 года
Перестройка разбередила всякие народные чувства, одно из которых было чувство обиды.
Бесконечное. За прошлое, когда не дали, и за будущее, когда отымут то, что не дали в прошлом.
Народное чувство обиды порождает обычно два вопроса: кто виноват и что делать? Мы попали в период первого вопроса неудачно: в виде еврейской семьи.
Прямо скажем, рожи в нашей семье не все были обидные, но фамилия да, одна на всех, та самая.
Прошел слух, что евреев отметят крестом на двери. Будет ли это началом периода «что делать?», никто определенно не говорил. Но мысли ходили всякие.
Мы жили в таком доме, где от лифта запертая дверь вела в коридорчик с четырьмя квартирами.
Нашу квартиру в углу коридора окружали три пенсионерские.
У нас были хорошие отношения, натуральный обмен в карточно-сахарные времена, сигнальные оповещения, где что дают и выбросили. Мой сын был незаменим на побегушках: в аптеку-библиотеку, туда-сюда. Ну конечно, там-сям, помыть, починить – мы старались… Старики все были милые, сердечные, пирог испекут – нас угостят.
И вдруг иду с работы, случайно поднимаю глаза выше замка – а на двери у меня мелом крест.
Коридор, как я уже сказала, заперт. Призываю в коридор стариков. Кудахчут невнятно. Все ни при чем.
Потом уже, совсем вечером, одна стучит в дверь с тарелкой печенья: во дворе спрашивали, мол, евреи у вас живут? Надо им крест на дверь, мел дали. Наверно, крестить хотели вас или от сглаза. Люди приятные, православные, как сейчас водится. Я им говорю: есть у нас какие-то, может, и евреи, фамилия странная. Ну они говорят, поставь, бабушка, на всякий случай.
Иуда ли?
Маленькая история про кутаисскую доброту 1982 года
– Грузины у нас везде угощают, за столом поют, под руку ведут.
Тбилисец, он, конечно, добрый, но денег у него нет. Сегодня ест, а завтра на базаре побирается. Не умеет жить, как же, он князь столичный! А у нас, кутаисцев, всегда есть, и гостя угостим, и себя не обидим.
– Тбилисец, он, конечно, веселый, но врет много. Кинжал у него дедушкин, а сам его купил у соседа. А у нас, кутаисцев, никто не кричит: я князь, у меня ружье царское!
– Тбилисец, он, конечно, грузин, но кто их знает? У них там женятся без разбору! А у нас, кутаисцев, своих корней не забывают: имеретин к имеретинке, еврей к еврейке, сван к сванке…
– Тбилисец, он, конечно, культурный, но стыда не имеет. У них там балеты, как в Москве. А у нас, кутаисцев, мужчина так плясать не станет, никто даже на него смотреть не пойдет, родителей пожалеют.
– Я тебе так скажу: захочешь серьезно приехать, жениха найдем. Хорошего русского, непьющего, дом-сад, хозяйство.
Не бывает? В Кутаиси бывает! Найдем!
Маленькая история про советскую коктебельскую доброту
Чудный поселок Коктебель.
Ах, ну как же, знаем, культурные, – Волошин, а теперь Дом писателей.
Ах, ну как же, знаем – Планерское, плоская гора, сигали оттуда на планерах.
Ах, ну как же, знаем – подземный военный завод, пару раз шарaхнуло там, у нас стекла выбило и весь день гарью воняло.
Ах, ну как же, знаем – татары, болгары, басурманское название свое оставили, нашего Планерского не хотят.
– У нас в Доме писателей в кино шахтеров с турбазы не пускают, они пьяные приходят и с чекушками, потом под скамейками пустые бутылки катаются.
– Да что вы боитесь, они на такой фильм и не пойдут даже.
– Ну не говорите, они иностранные любят, там, ну сами знаете, что показывают… даже без жен приходят…
– Нее, на этот не пойдут, он тягомотный.
– Да хоть бы всегда скучное привозили, чтоб только потом за ними окурки да бутылки не мести, да и писатели жалуются…
– А как их не пустишь? Они бузить начнуть. Рабочий класс и все такое…
– Бузить начнут – ментов позовем. Здесь не ихнее, здесь писательское, пусть у себе на турбазе кино смотрют.
– А меня пустите?
– Вас, девушка, пустим, вы нам название объясните. «Забрыськи понт» – это что такое?
Подмосковная доброта 1989 года
– Когда жизнь длинная, иной раз получается, что и рассказать нечего. И все как у всех, а если не как у всех, так этого мало, на два слова только – жил и умер. Магичество исчезает от мирной жизни, – жаловался дядя Петя, бессмертный пьяница платформы Быково Казанской железной дороги.
Дядя Петя был старый. Он вспоминал чуть ли не Гражданскую войну, волновался, махал руками: мы туда, они суда, сбивался на Отечественную: мы туда, они суда, потом замолкал и разводил руками: кончились воспоминания.
Поднимался и шел к магазину ящики разбирать, зарабатывал свою чекушку.
Летом он ночевал в переходе под рельсами, зимой – в каких-то подсобках.
В один прекрасный день он появился на платформе в странном состоянии духа. B хвалебном многословии о мирной жизни: как хорошо и удобно стало жить! Дядя Петя радовался, как ребенок, кто-то дал ему новые кроссовки.
– «АДИДАС», – старательно выговаривал он, – запомните: «Адидас»! Какое слово – само поет!
Он долго объяснял всем, как ему удобно, как ноге легко. И что он счастлив прямо с утра, даже раньше одиннадцати, когда винный открывают.
Через пару дней участковый нашел его в кустах – с проломленной головой, босого.
Наринэ Абгарян О милосердии
Золотом и серебром, темными разводами по палевому и шелковому. Персиковому и абрикосовому. Глиняно-охровому.
– Марья Дмитриевна, Марья Дмитриевна, – ноет однотонно, кривит рот. Ходит тяжело, крупным, неряшливым шагом, подволакивает ногу. Обувь большая, разношенная, левая пятка иногда выскакивает наружу. Она останавливается, двигает раздраженно ступней, натягивает туфлю. И снова заводит протяжное: «Марья Дмитриевна, Марья Дмитриевна».
Прохожие шарахаются, стекленеют глазами. Оборачиваются, смотрят вслед. Она чувствует их взгляды, хмурится. На лице, чуть ниже левой скулы, – большая, почти вполщеки, родинка. Страшное, бурое, покрытое густым волосом пятно.
Кремовым по оливковому и по самому краю – латунным, в коричный узор. Ванильным ароматом, фиалковой, отливающей глицинией, пыльцой.
Губа безобразная, черная. Свисает почти до подбородка, открывая прокуренные желтые зубы. Она водит ей, пытаясь закрыть рот. Та нехотя поддается, потом свисает вновь, обнажая темные стыки между зубами.
Сзади, там, где мешком мотаются растянутые брюки, – большое мокрое пятно. Оно растекается вниз по ногам, хлюпает зловонной жижей в туфлях.
В день ее рождения шел грибной дождь. Теплый, солнечный, настоящий. И на небе светились сразу две радуги – большая и еще больше. И горизонт был такой… ммм… расслоенный – полоса лазурного, полоса сливового, полоса василькового.
Волосы, на удивление густые, живые, с редкой проседью, стянуты на затылке аптечной резинкой. Шея короткая, толстая, с дряблым вторым подбородком. Руки полные и рыхлые, в паутинке мелких морщин.
Сумка изношенная – вся. Облупленные углы, ободранное днище, грязные, обтрепанные ручки. Какая-то кипа перевязанных бечевкой бумаг – справки, счета, квитанции почтовых переводов, копии документов – линялые, оборванные, засаленные. Футляр для очков, пустые упаковки таблеток, ручка. Скомканный носовой платок.
– Марья Дмитриевна, Марья Дмитриевна!
Она умела смеяться тихим ласковым голосом. Хотелось сгрести ее в объятия и не отпускать. Чтобы сидела, свернувшись клубочком, и дышала в ключицу. Родная, родная.
Где-то там, далеко, остались все – никчемные мужья, жаркие любовники. Замелькавшиеся ночи, беспробудные дни.
Иногда всплывает в памяти женское лицо – глаза, поутру серые, а вечерами уходящие в густую синь.
Мальчик – длинные локоны цвета льна, розовые щечки.
Обернутая черной шелковой лентой большая фотография на стене – чья?
И кто-то еще – темный, гадкий, с высоко занесенной грубой пятерней. Она останавливается, пытается вспомнить… Нет, не вспомнит.
– Марья Дмитриевна, Марья Дмитриевна!
Нежным янтарным по матово-белому и яблочным зеленым – на излете – там, куда она однажды придет. Чтобы обняли, прижали к груди, умыли тело, омыли душу. Уложили отдыхать на двойную радугу.
Как же долго мы вас, Марья Дмитриевна, ждали. Как хорошо, что вы к нам наконец пришли!
Примечания
1
Грузинский музыкальный инструмент, разновидность волынки.
(обратно)2
Как бесчувственно (англ.).
(обратно)3
Пять долларов, пожалуйста! (Искаж. англ.)
(обратно)4
Спинальный больной – человек, перенесший тяжелую травму спинного мозга, повлекшую за собой нарушение нервных проводящих путей от головного мозга к различным органам.
Коматозное состояние – тяжелое состояние с утратой сознания, нарушением реакции на внешние раздражители.
(обратно)5
Смесь опилок с песком.
(обратно)


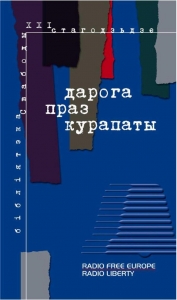
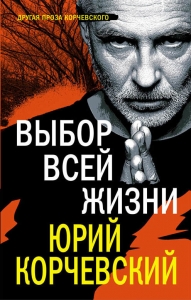
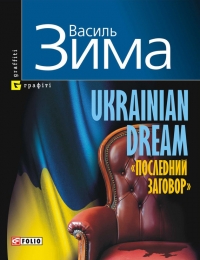




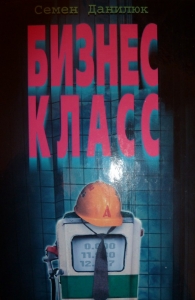
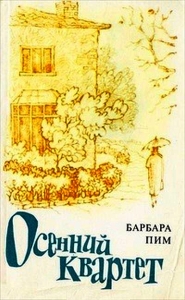

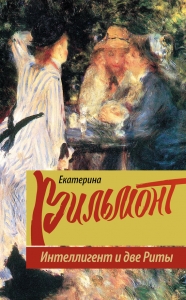
Комментарии к книге «Двойная радуга», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев