Много добра, мало зла. Китайская проза конца XX – начала XXI века Составители: А. А. Родионов, Н. Н. Власова, И. А. Егоров
Институт Конфуция в СПбГУ
Издание осуществлено при поддержке Института Конфуция в Санкт-Петербургском государственном университете и Гуйчжоуского отделения Союза китайских писателей
Авторские права на публикацию переводов предоставлены Гуйчжоуским отделением Союза китайских писателей
Составители
А. А. Родионов, Н. Н. Власова, И. А. Егоров
Предисловие
Провинция Гуйчжоу расположена в юго-западной части Китая, на ее территории проживает много народностей, национальные меньшинства составляют 37,8 % от общего числа населения. На фоне относительно низких показателей экономического развития в этой провинции наблюдается большая активность литературной жизни. Можно сказать, что проза здесь вызывает отраду, поэзия и эссеистика процветают, в кино имеются замечательные успехи. В 20-е—30-е годы прошлого столетия произведения гуйчжоуского писателя Цзянь Сяньая и других авторов водрузили свое знамя на литературной сцене Китая, снискав одобрение со стороны Лу Синя[1]. А в 1980-е годы коллективный выход на арену таких писателей, как Хэ Шигуан, Ли Куаньдин, Е Синь, Ли Фамо и других еще в большей степени привлек взгляды литературной общественности Китая. С начала XXI века произведения Оуян Цяньсэня, Ван Хуа, Чжао Цзяньпина, Се Тина, Ян Дате, Жань Чжэнваня, Хэ Вэня, Дай Вина, Сяо Цзянхуна, Цао Юна и других авторов удостоились национальных, провинциальных премий, а также наград от разного рода крупных периодических изданий. От произведений этих писателей, которые акцентируют свое внимание на особом историческом фоне, выраженном национальном колорите, а также удивительных природных пейзажах, веет удивительным художественным обаянием, характерным для Гуйчжоу. В них раскрывается жизненная мощь гуйчжоуской литературы, вовлеченной в поток модернизации и глобализации. Такое оживление в сфере творческой деятельности не только притягивает внимание со стороны литературных кругов, но и свидетельствует о том, что гуйчжоуская литература заняла свое достойное место в литературе Китая.
Несмотря на то что каждый из писателей обладает своим оригинальным мышлением, лучшие образцы литературных произведений, проникая в глубины человеческих душ, объединяют наши сердца, поэтому в мире литературы не существует государственных границ. Таким примером могут служить всемирно известные шедевры русской литературы, созданные Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Тургеневым, Достоевским, Толстым, Чеховым, Горьким, Шолоховым и другими писателями, чье творчество повлияло на несколько поколений китайцев. Можно констатировать, что выдающиеся литературные произведения способны доставлять духовное наслаждение читателям самых разных стран, и они должны принадлежать всему человечеству.
Для Союза писателей самым настоящим богатством является наличие большого количества хороших авторов. Хотя создание произведений – процесс сугубо индивидуальный, одной из основных задач Союза писателей является продвижение действительно достойных произведений, а также налаживание межнационального и межкультурного взаимодействия посредством литературы. Конечно же, целью такого взаимодействия является вовсе не стремление к унификации народов, в данном случае речь идет о взаимном понимании, удовольствии и изучении.
Думается, что в целях знакомства других стран с Китаем, а также оценки его с более объективных и справедливых позиций, Союз писателей обязан популяризировать произведения китайских современных авторов за рубежом, а также помогать своим писателям участвовать в международных литературных мероприятиях. Руководствуясь этими соображениями, председатель Гуйчжоуского отделения Союза китайских писателей Оуян Цяньсэнь, возглавивший делегацию китайских писателей, посетившую Россию и в очередной раз испытавший сильное впечатление от русской литературы, задумался о том, каким образом познакомить российских читателей с китайской гуйчжоуской литературой. Тогда же он заручился поддержкой со стороны Института Конфуция в Санкт-Петербургском государственном университете. Это и предопределило рождение литературного сборника гуйчжоуских писателей под названием «Много добра, мало зла».
В данный сборник включены пятнадцать повестей и рассказов десяти писателей, которые в настоящее время весьма активно проявляют себя на литературной сцене Гуйчжоу. Чрезвычайно плодовит в творческом плане председатель Гуйчжоуского отделения Союза китайских писателей Оуян Цяньсэнь. Написанные им романы, киносценарии, сценарии телесериалов удостаивались Всекитайской премии «Пятипремье», премии китайского телевидения «Заоблачная высь», телевизионной премии «Китайский золотой орел», армейской премии «Золотая звезда» и многих других наград. Будучи великолепным рассказчиком, он написал повесть «Много добра, мало зла», в которой показал многообразный и изменчивый мир коммерсантов, поведав о чувстве безысходности, сокрытом в глубинах человеческих душ. Его рассказ «Дуаньхэ» повествует о храбрости и преданности, о любовных переживаниях и интригах, о верности и измене, о жестокости и великодушии, о смирении и бунтарстве, это история, раскрывающая всю гамму братских чувств, история о разлуке с любимым человеком. Рассказ Чжао Цзяньпина «Жертвоприношение выдры» – попытка осмыслить человеческую жизнь с философской точки зрения, выявив глубинный смысл нашего пребывания на этом свете. Своим читателям этот рассказ предлагает правду, почерпнутую из самой жизни. Повесть Ван Хуа «Флаг» высвечивает лучшие из добродетелей человека на примере героя, который, оказавшись в полном одиночестве, противостоит обстоятельствам. В свою очередь, ее рассказ «Духи́» акцентирует внимание на достоинстве человеке и непостоянстве общественного мнения. Рассказ Жань Чжэнваня «Жизнь без прикрас» предоставляет читателю анализ тонких отношений между персонажами. Его неторопливое и детальное повествование демонстрирует все многообразие человеческих эмоций. Рассказ этого же писателя «Глаза на дереве» выходит за рамки простого описания жизненных перипетий, отражая идейное пробуждение крестьян. Повесть Се Тина «Любовь в городе из песка» – правдивое изображение чувств людей в современном мире, это история о взаимном избавлении персонажей от душевных ран. Рассказ Ян Дате «Жестяная крыша» повествует о реальных событиях и касается душевных и жизненных проблем. Скрытые под слоем повседневных радостей, печалей и мелких переживаний, они появляются на поверхности, словно гравюра, которую вырезает автор своим острым стилом. Рассказ Хэ Вэня «Кем работает папа?» представляет собою богатое психологизмом повествование от лица подростка. В рассказе Дай Вина «История одной шевелюры» описание исторических событий незаметно смещается в плоскость фарса, рождая у читателя весьма неожиданные ощущения. Сяо Цзянхун с его необыкновенно широкой эрудицией, позволяющей прекрасно разбираться в нынешней судьбе традиционной культуры, демонстрирует в своей повести «Сто птиц летят к фениксу» твердость и мягкость человеческой натуры. А в рассказе «Бессточная река» автор изображает агонию женщины, попавшей в неординарную ситуацию, раскрывая ее внутреннюю сущность. Рассказ Цао Юна «На смертном одре» – о человеке, сбившемся с пути, и проблеме искупления вины. А в повести «Два брата по фамилии Цао» писатель, изображая пустую обывательскую жизнь, представляет читателю никчемный в своей сумбурности деревенский мирок, в котором правят абсурд и примитивные потребности.
Хотя литература не заключает в себе всю культуру, тем не менее она представляет собой ее важнейшую часть. Лучшие образцы литературных произведений позволяют нам без труда выявлять характерные черты и тенденции современного общества. Нам бы очень хотелось, чтобы чтение данного сборника дало российскому читателю возможность познакомиться с современной гуйчжоуской культурой, с нынешней ситуацией в Гуйчжоу в целом, а также с мыслями гуйчжоусцев.
Мы выражаем благодарность А. А. Родионову за его усилия, которые способствовали появлению этой книги, а также всем российским друзьям за их нелегкий труд в подготовке издания к печати.
Гуйчжоуское отделение Союза китайских писателей
Городская проза
Много добра, мало зла
Оуян Цяньсэнь
1
Вышел из самолета, прохожу в зал прилета. По привычке оглядываюсь по сторонам: Ду Цзюаньхун не видно. Уф, какое облегчение. Так устал, что никого не уведомил о возвращении. Хотел вернуться потихоньку и провести пару дней без забот, ну их, эти бесконечные дела.
Выхожу из главных ворот аэропорта, собираюсь поймать такси. Кто-то подходит сбоку и берется за мою сумку. Инстинктивно с силой тяну сумку на себя, и человек плюхается передо мной на пол.
«Ду Цзюаньхун, ну как тебя сюда принесло, черт возьми!» Это первая реакция – выругаться про себя. Но на лице у меня благодушие и спокойствие. Выпрямляюсь, окидываю ее дружелюбным, но строгим взглядом и уже не свожу с нее глаз. Обычно я так и делаю: уставлюсь и смотрю. Сколько дамочек, желавших получить работу в компании, пасовали перед таким чуть ли не «чувствительным» взглядом, а вот Ду Цзюаньхун, поди ж ты, всегда смело встречает этот мой взгляд.
Вот и сейчас смотрит уверенно и мягко, ничего, что заставило бы расстроиться из-за того, что я ее так грубо отпихнул. Преимущество этой женщины в том, что у нее, похоже, нет причин кокетничать с мужчинами, даже когда ее обижают.
Правда, она отвела глаза первой. И потом даже не поглядывала искоса, а вообще прикрыла их длинными ресницами. Со своим смешливым лицом смотрелась она очень мило.
Мне, конечно, ничего не оставалось, как только передать сумку ей и усесться в свой «мерседес», на котором она приехала. Откуда она прознала, что я прилетаю сегодня, да еще этим рейсом – все это было за пределами моего понимания, хотя очень хотелось спросить. Но я не стал этого делать, прокрутив этот вопрос несколько раз в голове. Выстроил несколько предположений, но пытаться оценить их было лень, слишком хотелось отдохнуть, на самом деле я собирался лишь спросить. Если не оценивать, ничего и не получится, людей вроде меня это утомляет. Я понимал, где мог дать маху. Не надо было перед возвращением посылать этот факс, ведь в нем содержались последние результаты по теме моего теперешнего исследования. Сам я не собирался представлять эти результаты совету директоров, потому что решение по ним уже было принято, собирался лишь послать ответный факс, чтобы они действовали, как запланировано, а я за эти два дня отдохну как следует. Но, кроме того, в этом факсе сообщалось для сообразительной Ду Цзюаньхун, что, может, я вернусь и сегодня. Она девушка способная, настолько способная, что я постоянно радуюсь – какая у меня отличная помощница! Казалось бы, только что еще раз доказала, какая она способная, но вот никак не поймет, что это ее качество может и раздражать. Не будет же она постоянно руководить мной, а я не терплю, чтобы мной постоянно руководили, ведь она классический пример подчиненного. Это разница между маршалом и генералом.
Свой талант командира я начал вырабатывать с детских лет, когда был заводилой ватаги сверстников. Пресытившись этой ролью, начал подумывать о карьере военного, а став солдатом, метил в генералы. Но, к сожалению, эта моя мечта оказалась такой мелкой рядом с великим стремлением народов всей земли к мирной жизни. И хотя, лелея эту мечту, я и оттрубил в армии более десятка лет, в отставку ушел лишь подполковником. Тем не менее лидерские способности позволили неоднократно добиваться успеха в условиях рынка. В армии мои прирожденные командирские качества в полной мере проявились в непреклонности, и когда однажды командование захотело назначить меня начальником штаба полка, я отказался напрочь, настояв на том, чтобы остаться командиром батальона. Доводы мои были просты: в конце концов, вот мой батальон, я им командую. Когда спустя много лет я основал компанию и стал набирать сотрудников, однополчане один за другим откликнулись, но я определил так: по званию они должны быть не выше майора. Чтобы какой-нибудь подполковник был со мной на равных – ну уж нет. «Коли умения при тебе, дорогой подполковник, соратник ты мой боевой, открывай свою компанию, – думал я. – Вот сойдемся на рынке и посмотрим, кто кого. В противном случае, если нет боевого духа, давай на скромную работу охранником в какую-нибудь организацию». Такой вот я отвратительный тип. То, что молодость отдал защите отечества, – ладно, но чтобы и в зрелые годы охранять господ в этих организациях – больно велика честь.
Машина пересекла город, выбралась в северные предместья и притормозила у ворот моего загородного дома в европейском стиле. При виде красивых, покрытых цветами ветвей, свесившихся из-за забора, захотелось устроиться в кресле под вишней рядом с чайником лунцзина на столике из белого мрамора.
Сижу в машине, не двигаясь, и жду, пока Ду Цзюаньхун откроет мне дверцу, хотя прекрасно понимаю: эти мои забавы с формальностями – оригинальничание.
Эта умница Ду Цзюаньхун, прекрасно понимает, что в компанию я не собираюсь, хоть все члены совета директоров знают: я дам свое заключение или выступлю с речью, а они будут лишь выполнять по пунктам принятое решение, полагаясь на мой авторитет. Она понимает также, что я не хочу возвращаться к своей женушке Ло Шуби. И не раз, даже не спрашивая, привозила прямо сюда.
Войти в дом она не может, да я никогда и не приглашал. Пока я шел к воротам и трижды звонил, пока вышла, еще не успев обрадоваться, моя любовница, – она не очень быстро откликается, но очень красивая, – Ду Цзюаньхун уже поставила машину в гараж. Вообще-то я мог открыть ворота и войти сам, но я стоял и звонил, дожидаясь, когда она поставит машину и уйдет. Уходя, обращаться ко мне за указаниями она уже не могла. По заведенному порядку она должна была отойти метров на сто, где ее дожидалась секретарская машина.
Я зашел в ворота, плюхнулся в кресло-качалку во дворе и стал ждать, когда Наньлань принесет чай. Видно было, как она лучится радостью и очень хочет пококетничать, но сдерживается, чтобы обойтись без нежностей, потому что знает: во дворе этого не может позволить себе женщина и покрасивее, даже если эта нежность выразится в единственном объятии. Она знала мои установления, хотя это было самое бессмысленное: уже скоро пятьдесят, а еще обращаю внимание на такие мелочи. Из-за этого миловидная Наньлань бывало расстраивалась, но я считаю, эти ее мнимые переживания – всего лишь женские штучки. Если подумать, с одной стороны – простоватая, с другой стороны – расчетливая. Впрочем, для меня не важно: простушка – хорошо, расчетливость – тоже ладно, действительно расстраиваешься – славно, прикидываешься – тоже сойдет. Нравится мне прелестный и волнующий облик женщины, когда она расстроена. Пусть это и немного жестоко, но, как наставлял учитель, ничто не может поразить как гром среди ясного неба, как ни воспринимать учение бодхисатвы, добросердечного и милостивого, и я этой жестокости придерживаюсь. Из-за этого Наньлань побаивается меня, а заставлять красивых женщин побаиваться – самый действенный способ удержать их от множества пустых фантазий. Вот я с удовольствием всегда придерживаюсь своего установления.
Наньлань принесла свежезаваренный чай. Глядя на нее – прелестная фигура, залитое детским румянцем лицо, – и видя, как она рада моему приезду, я так возбудился, что и впрямь захотел заключить ее в объятия. Во время переговоров несколько дней тому назад я охотно принял предложение другой стороны поразвлечься с женщинами, и хотя за пару дней красотки изрядно подутомили, порыв этот тронул меня до глубины души. Я всегда задаюсь вопросом: неужели из-за меня, как мне кажется, лицо Наньлань покрывается розоватым румянцем счастья? Но когда этот нежный румянец перед глазами, всякий раз радуюсь, что пока еще можно не задумываться – правда это или фальшь.
Не торопись, торопиться не надо ни в чем. Начинаю неспешно смаковать чай, в этом и есть преимущество перед наблюдающей за мной женщиной. Стоит проявить нетерпение, Наньлань будет еще больше невтерпеж, пусть уж никогда не нащупает нить моих мыслей. Иногда задумываешься: если Наньлань не терпится больше, чем мне, если это искренне, значит, пришло то настоящее чувство, о котором я давно мечтал. Но это нетерпение может быть и притворным, ей это раз плюнуть, она целых пять лет участвовала в представлениях агитбригады, а когда это дело пошло на спад, пару лет выступала певицей в танцевальном зале караоке. Такой чувствительности, как у нее, не научишь, я нередко фантазировал по этому поводу. А ну как у меня случится катастрофа, к примеру, компания за ночь обанкротится и я останусь гол как сокол? Какова будет ее реакция, выступит ли у нее при встрече со мной такой милый бледно-розовый румянец? Определить это никак нельзя, не думаю, что моя компания обанкротится и не собираюсь допустить, чтобы из-за какой-то женщины мои дела полетели псу под хвост. Но можно ли быть уверенным, что я втюрился в нее? Судя по тому, что в голову то и дело приходят фантазии с катастрофами, мне и впрямь приглянулась эта ублюдочная, которая, может, прикидывается, а может, все у нее и взаправду.
Не получается у меня составить мнение об этой милашке, вот и использую по отношению к ней выражения. Иногда не сдерживаюсь, оно у меня вырывается, так она смотрит в рот, но совсем не сердится, а еще и подтрунивает, мол, у нас в Китае народ так нередко выражается, слово это ругательное, но с точки зрения современной науки – нечто первосортное. Например, рис, полученный в результате скрещивания, и даже дети от смешанных браков[2]. Значит, ты так высоко ценишь мою красоту? Или хочешь дать понять, что тебе до меня далеко? В такие моменты я мягко улыбаюсь и молчаливой ухмылкой показываю, что ее шутку оценил. Только и могу вот так ухмыляться, чтобы она меньше досадовала на меня. Ведь увлекаться женщиной, которая тебя ненавидит, штука далеко не безопасная, пусть даже в настоящий момент точно не скажешь, ненавидит она или нет. Я сужу так: ненавидеть она может совсем не из-за того, что я ее так называю, а потому, что я старше ровно на двадцать лет. Не верю, что в меня может так влюбиться такая красивая и молодая женщина, неужели я действительно тот самый принц на белом коне из ее девичьих любовных мечтаний? Принц на белом коне – это мое успешное дело либо я сам. Применительно к ней это, возможно, еще как сказать, а вот мне нужно четкое понимание. Но за это четкое понимание нужно платить, а плата слишком высока, да и упражняться в этом нет никакого желания. Если я совсем не тот принц на белом коне из ее грез, то ненависть да, присутствует и может скрываться очень глубоко. И для меня единственный способ совладать с этой ненавистью – всегда оставаться сильным, ни в коем случае не проявлять слабость, чтобы вызвать ее сочувствие, и не поверять ее истинные чувства потерей дела, хотя к истинному чувству я в глубине души стремлюсь. А если в ней одна ненависть, что ж, плетью обуха не перешибешь.
Наньлань грациозно присела рядом, так и подмывало обнять, войти с ней в дом или увлечь за маленькую ручку на кровать. Но нет, нужно повременить. На самом деле я ждал звонка от Ду Цзюаньхун, она может позвонить в течение получаса, в установленное время. Она всегда все решала по своему усмотрению, и время, выбранное для звонка, считала самым уместным. Она прекрасно изучила меня, председателя совета директоров из бывших военных. В ее понимании, войдя в ворота, я могу для начала помиловаться с Наньлань, наговорить ей ласковостей, потом скинуть одежду, ополоснуться, а затем улечься и ждать, пока она примет душ. Вот тут-то она и позвонит, потому что в это время настроение у меня якобы превосходное, да и момент такой волнительный. И заниматься чем-то не по ее части не заставлю: не стану же я в это время звонить тем, кто за это отвечает, да и не сказать, чтобы с этим не справились те, кто этим занимается. А то она составила как-то отчет для главного управляющего, так мне захотелось, чтобы она делала и это. Женщина с ярко выраженной жаждой власти, при мне она вела себя довольно сдержанно.
На самом деле по отношению ко мне эта ее «сметливость» была ошибочной. Источником этой неверной «сметливости» был ее муж, бывший лейтенант, но опыт, который она черпала из этого источника, неприложим ко мне, подполковнику. Это ошибка – считать, что нрав у всех мужчин одинаков и удачный практический опыт с одним можно применять к другому, – фатальна для многих сильных женщин. Это полнейшая глупость, по причине этой глупости Ду Цзюаньхун могла держаться со мной лишь на расстоянии, а из-за этой дистанции была вынуждена поддерживать со мной лишь отношения начальника и подчиненного. К этим чрезмерно самоуверенным суждениям я относился спокойно, ведь именно за самоуверенность я ее и ценил, за уверенность в работе, пунктуальность и энергичность, даже за то, что в своей самоуверенности она нередко хватала через край. Но в этом и заключалась ее фатальная слабина, из-за этого ей никогда не стать моим начальником, она сможет быть лишь у меня в подчинении. Из-за этой слабины я был за нее спокоен и в то же время жалел.
Сама она когда-то была капитаном, а нашла себе лейтенанта. Но беда не в том, что ей следовало подыскать старшего офицера вроде меня или чином еще повыше – полковника и даже генерала, а в том, что этот лейтенант потакал ей в ее самоуверенности. С ним я знаком, важный такой, пыжится много, а способностей маловато. И чего она в свое время выскочила за этого лейтеху? Видать, сбил он ее с толку непринужденностью и уверенными заявлениями о своих амбициях. Но незакомплексованность человека военного, скорее всего, не только в выправке и рассуждениях о войне на бумаге, но и в делах. Поначалу она была очарована своим лейтенантом, похожим на принца на белом коне, но поняла, что он человек невезучий, и, выяснив через несколько лет его образ мышления, развенчала его в пух и прах. Разве может мужчина, потерпевший сокрушительное поражение от простого женского манипулирования по мелочам, подняться хотя бы до уровня человека невезучего? После того как она все это разглядела, лейтенант стал не нужен. Типичная армейская женщина густого идеалистического замеса, она не могла больше терпеть, чтобы ее мужем оставался лейтенант, согласный, чтобы она им руководила, а по полету мыслей далеко ей не ровня, чтобы при каждом взгляде на него она чувствовала надменность этакого непревзойденного мастера, ждущего в одиночестве соперника, который нанес бы ему поражение. Поначалу эта надменность была ей по душе, но потом стала надоедать больше и больше. Вечная скука была не в ее характере, и тогда она маленькими хитростями заставила лейтенанта, хоть и против его желания, отказаться от себя во имя любви, осознать, что он делает благородное дело, и чувствовать признательность в душе. Такая тактика может показаться слишком жестокой, но можно ли без жестокости совладать с этим ее лейтехой с его большими амбициями и малыми способностями? Это не могло негативно сказаться и на ней самой, ведь жить с таким – скука, а скука оказывает губительное воздействие, которое может привести к ужасным последствиям. Превосходство Ду Цзюаньхун в том и заключалось, что она не позволяла этой пагубе развиваться, а преодолевала ее жестокостью. В своих суждениях она ничуть не ошиблась. Теперь ее бывший муж-лейтенант старается твердо отстаивать свои идеалы, основанные на рассуждениях о войне на бумаге. Человеку тридцать с гаком, а он остается штабным офицером командира подразделения.
Ду Цзюаньхун как-то заговорила о бывшем муже, и я, конечно, не церемонясь бросил походя: «Он напоминает начальника штаба, который всегда предлагает командиру никуда негодные решения. Ты с одним полком разгромишь целую дивизию под его началом, хотя ты всего-навсего капитан. Время таких сражений прошло безвозвратно, на планете все за мир, так что наши мечты о генеральстве ничтожны, о них и поминать не стоит. Я вовремя вышел из игры, в боевых соединениях дослужиться до подполковника не так-то просто, и ты, как пропагандист округа, должна это понимать».
Человеку нужно иметь мужество, чтобы оставить идеалы и любимое дело, но в этом и есть его преимущество, которое свидетельствует о том, что и в армии этот человек был далеко не последним. В той беседе я своей мощью нанес ей полное поражение, поэтому в течение всех лет она неизменно оставалась преданной мне.
Обратить ее внимание на чрезмерную самоуверенность лейтенанта я не мог, эта ее фатальная слабина мне нравилась.
Телефон и впрямь зазвонил в установленное время, но я еще не лежал в кровати, как она представляла. Пусть себе звонит: я дома, а Наньлань трубку поднимать не станет.
Взял чашку и стал смаковать свой любимый лунцзин. Губы двигались почти незаметно, но очень выразительно. Когда сладость чая омыла глотку, поднял не перестававшую трезвонить трубку. Голос Ду Цзюаньхун приятный и красивый, мне нравится. Никакой паники даже в экстренной ситуации, очень привлекательный. Когда-то я даже подумывал, не включить ли ее в число моих «изысканных встреч». Но этого не сделал, и чем больше нравился мне этот голос, тем больше противился его обаянию. Отступить заставило не завещанное предками речение: «Кролик вокруг норки травку не щиплет». Задумай я действительно овладеть ею, мне незачем было бы, как первый раз влюбившемуся юноше, разбивать сердце и обливаться кровью, чтобы всю душу положить на плетение нежных сетей. А потом, подобно одержимому рыбаку, закидывать сеть на просторах реки, где резвится на свободе эта рыбка. Даже на легкой ладье, как бы споро ты ею ни правил, без труда ее в сеть не залучишь. Я это прекрасно понимаю и не стану гоняться за этой рыбешкой на легкой ладье, сжимая в руках мягкую сеть и выгребая против течения, закидывая сеть и вытаскивая ее пустой. Такое безумие, такая глупость, такие бесплодные усилия на реке любви – это не по мне. Я тоже могу вложить душу и сплести мягкую чувственную сеть, но ставить эту сеть буду поперек реки, чтобы перегородить ее. Реку, конечно, не перегородишь, она может течь и сквозь ячейки старательно сплетенной сети, но и самой смышленой рыбке не сообразить, как в этом безукоризненно прозрачном потоке перед глазами проскользнуть через безукоризненно прозрачную сеть. Лишь наткнувшись на сеть, она поймет, что это, и эта сеть роковым образом предопределит ее несвободу. Задумай я залучить ее в сети, она давно бы уже стала моей женой. Но я предпочитаю, чтобы она была у меня в подчинении, потому что именно в роли подчиненной, а не жены и любовницы, она может дать понять, насколько она важна для компании. Таких людей, как она, немного, к тому же наши с ней отношения имеют давнюю историю. С ее старшим братом мы выросли в одном дворе. Она тогда была еще маленькая, года три-четыре. А когда я уходил в армию, ей было лет десять.
– Шеф, в управлении промышленности и торговли говорят, что такое название, как «развлекательная компания с ограниченной ответственностью “Лаобинчэн”[3]» для регистрации в сфере индустрии развлечений не подходит. Они надеются, что мы сможем изменить название.
– Ты, малышка Ду, опять насморк подхватила или вчера не выспалась. Послушать, что думает управление промышленности и торговли по этому поводу, так мы у себя в головном офисе ни на что новое не тянем. Съездим вот с тобой туда в отдел внутренней охраны, обеспечим их защиту, и все на этом. Ладно, с этим делом ты и сама управишься! И не надо спрашивать, что и как.
Не испрашивать указаний Ду Цзюаньхун не может, она и сама понимает, что я наверняка дам согласие. То, что она знает, это еще пустяки, ей все это уладить – раз плюнуть. Но указания, похоже, необходимы, потому что она привыкла испытывать после них уверенность в себе и радость, это особенность людей, работающих под чьим-то руководством. Лишь бы все сложилось без ущерба для интересов компании и я остался доволен. Вопрос вообще-то по части моего зама Хэ Жэньцзи, но пусть занимается, если хочет!
В спальню я вошел, так и не помывшись: с утра принял душ в гостинице в Гуанчжоу и после часового перелета не такой уж грязный. Забрался в кровать, с величайшим терпением обнял Наньлань, прижал к себе и больше не шелохнулся. Некоторым неймется, стоит им забраться в кровать, но я не из таких, хотя желание бурлило вовсю. Наньлань принялась легонько поглаживать мне грудь, ее маленькая нежная ручка походила на чистый, неторопливо бегущий в горах ручеек, и от этого кристально чистого потока во всем теле разливалась радость. Вода прозрачна и чиста, кажется, она овладела всем телом. Становится немного стыдно – и из-за того, что обладаешь этой водой, и от бесконечного возбуждения. Наньлань приникла головой к моей груди, словно пытающаяся спрятаться птичка.
На мои ласки она реагировала необузданно, как водопад, и, будь я даже утесом, нависающим над бездонной пропастью, она и то могла легко перевалить через меня, чтобы разлететься прекрасными белоснежными цветами. Распускались они безоглядно, каждый со своим характером, формой и даже дикостью. Потом все эти цветы, конечно, понемногу собирались в бледно-розовый румянец. После любви женское лицо всегда такое, но у этой милашки цветочки распускались не на всем лице, стремительно покрывались розоватостью лишь щеки. Словно много белого и мало красного на белокожем нежном личике, и эти два цвета прелестным образом отражаются один в другом не на бесценном свитке художника, а в моих объятиях. Именно по этой причине я уже много лет не завожу другую.
Приняв душ, ложусь в постель отдохнуть, а Наньлань сворачивается, как кошка, рядом. Если уж на то пошло, можно было бы провести здесь пару ночей, но в конце концов решаю отправиться к жене. Укрепил меня в этом намерении нежный шепот Наньлань. Забравшись на кровать, она кладет руку мне на грудь. Когда она приникает ртом к моему уху, я еще думаю, что она хочет сказать, как тосковала эти десять с лишним дней разлуки. Но от ее мягких и нежных слов вдруг становится не по себе. Оказывается, она хочет работать в компании, хотя бы в филиале, неважно.
– Ты малышку Ду видела? – спрашиваю.
– Нет.
– У тебя и машина есть, – продолжаю я, – и загородный дом, и деньги – какая еще работа?
– А эта барышня Ду – вон какая красивая. – Сказала и, утрируя, прикрыла рот рукой с такой непосредственностью, будто солгала.
Обычно я под такую наивность подстраиваюсь, но сейчас это не пройдет. Опять собралась на работу в компанию. Но у меня свои принципы, даже жена не может принимать участие в делах компании, не говоря уж о любовнице. Я еще не настолько глуп, чтобы не остаться верным принципам, а в этом уж никак не пойду на попятный, и это доставляет большое наслаждение. Как в этой поездке в Гуанчжоу, я хоть принял от противоположной стороны «ловушку с красавицей», но того, о чем мечтали, они так и не добились. Еще в армии за свой знак, Змея, и конопушки я получил прозвище Кобра, однополчане говорили, что яда во мне тоже хватает. На этот раз мой визави на переговорах не был Кроликом, а я не был его естественным врагом, против которого ему не устоять. Но вели они себя в основном как кролики, и если пару-тройку раз не задали стрекача, то ядом моим отравились и, одурманенные, выложили свой последний козырь. После этого я, конечно, не мог, как в бою на защите родных рубежей, противопоставить им весь набор коварных и безжалостных средств противостояния врагу, а широким жестом предоставил им выгоды, которые они и так должны были получить. Заниматься бизнесом – это тебе не воевать, где сражаются не на жизнь, а на смерть. В бизнесе нужно сосуществовать.
Дело свое я начал десять с лишним лет назад, взяв в кредит пять тысяч юаней, но на сегодняшние масштабы смог выйти не только благодаря удаче. В большей мере я опирался на свой ум. Наньлань тогда была «ловушкой с красавицей», которую я сам себе поставил. В эту ловушку, мать его, я и угодил, но в меру. Я наблюдал, как она выжидающе смотрит на меня, от раздражения внутри поднимался гнев, но внешне это никак не проявлялось.
– Потом подумаю, – бросил я.
Немного яда выплеснулось, понятно, что просто так оставить это невозможно, хотелось дать ей почувствовать, что такое тоже может быть. Раз уж яд выплеснулся, пусть струхнет немного. Сказал пару якобы нежных, но скорее ядовитых слов, вышел, сел в «мерседес» и поехал к жене. Причин уехать от Наньлань было более чем достаточно, повидался с ней, теперь надо повидаться с женой. Она получает такое высокое вознаграждение, что ей ничего не остается, как только отпустить меня. Вообще-то, не заговори она о работе в компании, могла бы получить еще более высокую награду, ведь моим козырем было намерение остаться у нее на пару дней. Эта женщина так и не увидела, в чем мой козырь, она и правда простовата, причем настолько, что и радоваться некому. Слишком тороплива. Если бы, оставив меня на несколько дней, она забывала обо всем на свете, то, возможно, давно была бы не любовницей. Простота эта – ее слабое место, но по этой причине она и смогла оставаться со мной так долго. Женщина, не выказывающая мужчине своих притязаний, очень опасна. Никогда не говорить напрямую о замужестве, твердить лишь о почтительной преданности – такое не удавалось многим великим женщинам на свете, и мне в любовницы такие никак не годятся.
2
Бриллиантовому ожерелью жена очень обрадовалась. Она, конечно, не знала, что вообще-то я хотел подарить его Наньлань. Та тоже не могла знать, что в тот день из-за болтливости лишилась ожерелья стоимостью несколько десятков тысяч юаней. Жена восемнадцать нарядов при мне перемерила, чтобы я сказал, который больше подходит ожерелью. Больше смотреть не хотелось, но она была настолько увлечена, что эта цифра восемнадцать запала в память. Даром что я все восемнадцать раз говорил «подходит», она так и не поверила. А на самом деле я говорил чистую правду, потому что она занимается танцами, фигура у нее исключительная, и все наряды сидят так, что придраться просто не к чему. Жена у меня из тех, с кем можно сладить: сказал пару слов – и выставил. Не раз задумывался: вот танцы, ведь развивают руки и ноги, почему же мозги не развиваются? Дела она ведет успешно, к тому же у нее еще одно достоинство – постоянное стремление к самосовершенствованию, да и моим деньгам она никогда не придавала большого значения.
Когда мы поженились, она была побогаче, поэтому я никогда не собирался расставаться с ней, только она могла меня бросить. Однако с ней не хочется пытаться поладить способами, которые я применяю к другим. Таких, кого надобно поставить на место, у меня немало, среди них даже любезная сердцу Наньлань. А вот жену хочется рассматривать как самую тихую, безмятежную заводь, уголок, где можно отдохнуть душой. Хотя вот такими пустяками она докучает. На кой мне в самом деле все эти примерки нарядов к ожерелью? Главное – она моя жена, а хорош первый брак или не очень, в рамках семьи изменить это, тудыть его, никак невозможно. Для меня и для сына это реальность, которую тем более не изменишь. Даже если однажды развестись, все равно семья, и ничего не поделаешь, поэтому я никогда и не думал разводиться. Конечно, не размышлял я над этим не из-за того, что она оставалась в браке со мной в те времена, когда денег у нее было больше, верила в меня. Человеку с моим образом мыслей не по зубам такие обобщения: везет моей жене или она страдает, правильный она с самого начала сделала выбор или нет? – на такое и мудрецы не способны, а она тем более. Из-за этого я очень редко говорю ей неправду, хотя бы для того, чтобы не ранить ее душу. Одним словом, она на первом месте.
Некоторые мои поступки действительно задевают ее, но она не понимает, равносильно это обиде или нет, а я такими вот увертками успокаиваю себя, когда совесть из-за нее мучает. Выводы об этом своем душевном состоянии я делаю с помощью многих словес, даже формулирую как цитаты и указания, но полной четкости в этом достичь не удавалось. Потом, пройдя через многие испытания, я все же нашел одну формулировку, глубокое и многогранное речение из буддизма: «Вино и мясо минуют утробу, будда остается в сердце».
Нянька пошла провожать сына в школу. Я направился в ванную, сделав вид, что мне не терпится заняться любовью с женой, и та, похоже, очень обрадовалась. Она в этом плане очень неумудренная, хотя уже десять лет как мать. И тут – вот те на! – улегшись рядом, жена заявила:
– Ну не может быть, чтобы между тобой и Ду Цзюаньхун что-то было!
– Конечно, не было, – подтвердил я.
Она знала, что Ду Цзюаньхун очень способная и симпатичная, и тревожилась, что я, подобно хозяевам компаний из телесериалов, могу закрутить любовь с секретаршей. И отстала, только когда я поклялся, что это не так и что в противном случае я просто, мать его, пес. Потому что знала: я – почтительный сын, к матери питаю уважение, за нее выйду на поединок с любым противником, как бы он ни был силен. Это она ясно понимала, так что если я клянусь именем матери, тут уж никаких сомнений быть не может, не буду же я поминать доброе имя матери в связи с чем-то, за что не могу поручиться. Тут надо сказать спасибо этим сценаристам и режиссерам, они никогда не были в шкуре руководителей компании, но страсть как любят описывать их жизнь. Ведь откуда сомнения жены – из телесериалов, в которых жизнь руководителей отражена очень условно. Ну и прекрасно, я даже не надеюсь, что появятся хорошие, для того и угрохал столько денег на самый лучший домашний кинотеатр, чтобы жена могла побольше смотреть все эти глупости. Такие персонажи, как Наньлань, в них тоже, конечно, присутствуют, но у сценаристов, которые пишут эти роли, о боссах всегда все известно. В моем же случае о Наньлань не знают и приятели, даже самая приближенная ко мне Ду Цзюаньхун имеет о ней лишь смутное представление.
Жена собралась во дворец пионеров учить детей танцам. Я привык, что она такая: не насладилась со мной как следует и уже уходит. Даже в первые годы после женитьбы была помешана на работе. На самом деле это связано и со мной, потому что я тоже трудоголик. Первые годы после женитьбы совпали с первыми годами после создания компании, и за то, что компания шаг за шагом набирала силу, жене приходилось платить одиночеством. Так что ей тоже необходимо было в чем-то преуспеть. Не будь у нее дела, она, как некоторые молодые женщины, любительницы поскандалить, могла бы натворить такого, что потом и не расхлебаешь. Кроме выступлений в драмкружке и репетиций она за несколько сотен юаней в месяц еще ходила по выходным во дворец пионеров преподавать танцы. Иногда так и подмывает потехи ради сказать: «Надо же сколько ты зарабатываешь, мы каждый раз проституткам на чаевые больше даем». Но такие слова всякий раз застревают в горле и никогда не слетают с языка. Я понимаю, бросить такое – штука приятная, но ценой этому будет целая буря эмоций. Нет, я не настолько глуп: ляпнешь, отведешь душу, а получишь такое, что будешь ходить как мокрая курица.
Бывает, мне нравится раздражать язвительными словечками Нань-лань, а также близких, любящих меня друзей, нравится их бурный гнев, вызванный моими неоправданными действиями. Конечно, среди подчиненных не найдешь таких, кто осмелился бы на гневные изъявления. Их удел лишь терпеть.
Возможно, это потрясения боевые, а вот нужен ли мне психиатр, я не задумывался. Но я прошел через столько боев, что обыденность не по мне, я люблю, когда жизнь бурлит. Хоть и говорят, что рынок – все равно что поле битвы, для меня, бравого вояки, понюхавшего пороха в стольких боях, такое поле битвы все равно что детская забава, это меня не трогает. Если и случается воспрянуть духом, так это в минуты отдыха. Тогда меня волнуют фантазии, я представляю себя во главе непобедимой армии, а когда возбуждение проходит, разражаюсь про себя ругательствами. Мать их, эти атомные бомбы, водородные, все эти ракеты! С их появлением ну вот он я во главе отборных частей, а толку? Почитаешь про антикитайские выступления в Индонезии, про резню китайских иммигрантов, посмотришь, как янки бомбят наше посольство[4], так хоть снова, мать его, в армию иди. Но выйдешь на улицу, глянешь по сторонам на распускающиеся цветы, на полных молодого задора детей и юношей, и все мысли тонут в красоте и свежести этого цветника. После трапезы и чая вспомнилось одно речение. Все эти атомные и водородные бомбы страшны, пока висят на бомбосбрасывателях. Если они будут сброшены, бояться уже будет некого. Вы, янки, можете уничтожить земной шар сто раз, а мы – один, ну и в чем разница? Ну превзошли вы нас, ну нет меня в живых, но и вас, янки, напугаем до полусмерти. Эта мысль заставила взбодриться, но потом снова стало скучно. Ну почему, ту-дыть его, не стал генералом, ведь правда, изначально и в мыслях не было блеснуть удалью.
Вот, мучимый такими мыслями, и извожу тех, кто рядом. О том, требуется ли тут вмешательство психиатра, я и впрямь не задумывался. Мне действительно нравится раздражать, но так, чтобы задеть за живое, невзирая на личные отношения. Как с непреходящими чувствами Наньлань: мне бы радоваться и по-доброму наслаждаться. Я же, напротив, в то время как она преданно и бесконечно любит, разрушаю этот мир, которого безумно взыскует каждый. «Ты это, мать его, брось, – говорю я. – Это ты-то меня любишь? Наверняка прикидываешься». Для Наньлань с ее прекрасными чувствами это жестокий удар. Смотрю, как она трепещет, этакий нежный цветок под порывом безжалостного ветра, и получаю удовольствие. Она, конечно, может, как говорится, считать, что «на востоке встает солнце, а с запада приходят дожди»[5], повозмущаться и пококетничать. Когда она спешит объяснить, что на самом деле возмущена, я еще больше потешаюсь, чтобы человек понял, когда я гневаюсь или бешусь. Мне даже лень оценивать, настоящее это у нее или нет.
Но вот чтобы в насмешку бросить такое жене – нет, пусть эти слова в горле застрянут! Жена – это жена, совсем другое дело, ради нее я всегда должен чем-то жертвовать! К тому же от насылаемого женой дождя не промокнешь, ведь она единственная близкая женщина, а если единственная близкая женщина и окатит как из ведра, то надо и простужаться, и гробить здоровье.
Жена ушла. Ну а мне чем заняться? Если только заставить няньку подмести и без того вылизанный дом. Зашел в кабинет, почитал «Факты о разделе Китая великими державами», потравил душу. Сейчас нет таких дел и людей, которые могли бы взбудоражить меня, взволновать могут лишь тома военных анналов, в которых запечатлены наши сражения. Ну почему я, мать его, родился так поздно, ведь, живи я в те времена, наверняка смог бы изменить ход истории. Потерзавшись, порадовался жизни в годы, когда «китайский народ наконец поднялся»[6], и в годы «весенних сказов»[7]. Славное было время! Возбудился так, что просто светился от счастья, повернулся на бок, мать его, и стоило закрыть глаза, как тут же заснул.
3
Солнце встает рано. И люди спешат под его первыми лучами.
Такое оно и весной, его лучи словно сияют каким-то иным светом, заставляя смотреть на все другими глазами. Кто-то ощущает приход весны по раскатам весеннего грома, а я нет, я это чувствую по тому, как светит солнце. Весной его свет нежен, все предстает обновленным, моя машина мчится, душа распахивается, и хотя окна закрыты, я все же слышу, как разбивается о ветровое стекло свежий бодрящий ветерок вперемежку с прелестным солнечным светом.
В офисе тут и там расставлены свежие цветы, но радует не это, а то, что Ду Цзюаньхун выключила кондиционер, распахнула окно, впустив солнечные лучи, и помещение наполнила сама весна. Вот поэтому мне и нравится, что Ду Цзюаньхун распоряжается у меня в кабинете. Она прекрасно соображает, не то что остальные работники: понимает, что свежие цветы – еще не весна, они распускаются не всегда весной, лишь солнечные лучи говорят, вот она, весна, пришла. Усаживаюсь в свое директорское кресло и жду ее. Через несколько минут она может появиться, и эти несколько минут у меня самое спокойное время дня, когда я могу ни о чем не думать. Немного похоже на затишье перед боем. Разница между полем битвы и ареной рынка в том, что на поле битвы только враги, а на рынке – лишь соперники, с первыми это кровавая схватка, со вторыми – интеллектуальные игры.
– Не хочешь съездить посмотреть «Лаобинчэн», шеф? – Вошедшая Ду Цзюаньхун не направляется сразу к моему столу, а подходит с этими словами к окну в метре от меня.
Умеет же эта женщина выбирать позицию! Встала как раз там, где сияет солнечный свет, загородила его своим телом и ждет, пока я подниму голову, чтобы взглянуть на нее.
Я не тороплюсь, секунд через десять поднимаю голову, не поднимая век, но вижу чарующий солнечный свет на ее фигуре и очаровательную усмешку. Она понимает, что я смотрю на нее, и неторопливо приближается, как манекенщица. «Мать его, Ду Цзюаньхун, не устала еще кривляться?» – ругаюсь про себя. Но сколько бы я ни ругался про себя, на лице ничего не отражается. Уже привык к этим женским штучкам, когда они, не боясь надоесть, без устали кокетничают. Принимаю у нее список дел на сегодня и неспешно проглядываю, направляясь к стоящему у окна дивану, и только когда меня накрывает льющийся во все стороны солнечный свет, прочитываю: «09:00–10:00 – заседание совета директоров. В 12:00 обсуждение с начальником секретариата городской управы основной структуры производства экологически чистых продуктов, обед в ресторане “Уолл-стрит”. В 18:00 тайваньский коммерсант приглашает на ужин в ресторан “Красный терем”». Опять два застолья, от этой еды уже воротит!
– На ужин в восемнадцать не пойду. – С этими словами бросаю взгляд на наручные часы: ровно восемь тридцать.
– Управляющий Ван говорит, что этот тайваньский коммерсант господин Хуан настаивает на вашем присутствии, он уже провел несколько сделок с нашей ювелирной компанией Чжубао. По его словам, Хуан проявляет большой интерес к основной структуре производства экологически чистых продуктов и надеется на возможное сотрудничество с головной компанией.
– А ну-ка вызови мне сюда управляющего Вана. – Я яростно ткнул в телефон на столе. – Набери его мобильный. Немедленно. – Уже проговорив, вспомнил, что очень хочется по малой нужде, и торопливо удалился.
Когда я вернулся из туалета, Ду Цзюаньхун уже закончила разговор по телефону.
– Восемь сорок, через десять минут можно идти на совет директоров, он в девять. – Она сидела на диване, и произнесла это отрывисто, как военный, делающий краткий доклад.
Похоже, она за Ван Дунфана заступается, мол, он из добрых побуждений притащил этого тайваньского коммерсанта, чтобы тот принял участие в крупном проекте, на который компании надо выходить, а капитала недостаточно. И чего я так разозлился, непонятно. Похоже, она не собирается уходить из комнаты заседаний совета директоров, хочет посмотреть, как я разгневаюсь, когда войдет Ван Дунфан, и чем этот гнев вызван.
На нее я внимания не обращаю. Сижу в своем директорском кресле и звоню домой, жене.
– Сокровище мое! Поела? Ребенок в школе?
Пустая болтовня, можно было и не спрашивать. Но это для Ду Цзюаньхун пустая болтовня, а для жены – нет. Жена может подумать, что я начинаю заботиться о ней и о ребенке. Вообще-то хочется сказать жене что-нибудь легкомысленно-тошнотворное, чтобы выкурить Ду Цзюаньхун отсюда. Покосившись на нее, замечаю, что она смотрит на свежие цветы, делая вид, что не слушает, и чувствую, как игривые слова лезут назад в глотку.
Когда входит управляющий Ван, говорю:
– Иди займись делом, малышка Ду!
Ей ничего не остается, как уйти. Проходя мимо Ван Дунфана, еще и подмигивает ему. Думает, раз она спиной ко мне, так я и не вижу, как она глазки строит. Да я по одному движению головы и аккуратно спадающих на плечи волос в дверях уже вижу, что она делает ему знак глазами.
Сижу в кресле, опустив голову, и изучаю справочник компании. Управляющего Вана «мариную» перед столом. Гневаться я и не думаю, как предвкушала Ду Цзюаньхун, этот гнев неизвестно откуда взялся. Каким бы он ни был беспричинным, не могу же я ни с того ни с сего отругать своего высокопоставленного работника! Не сержусь, но и говорить ничего не говорю, посмотрим, как он себя поведет. Этого тайваньца я видел уже не раз, этакий дух обезьяны, нечистоплотный ловкач, соображает по мелочам, не очень-то он мне по душе. К этому застолью я сегодня не готов, вот и вызвал управляющего Вана, чтобы по крайней мере послушать, с чего вдруг этот тайванец проявляет интерес к моим планам по экологически чистым продуктам. Если что-то подходящее, пусть на него выходит Хэ Жэнь-цзи. Это мой однополчанин, капитан, заместитель главного управляющего.
– Шеф, этот тайванец как услышал, что вы – бывший военный, так очень захотел встретиться с вами. – Говорит управляющий Ван чуть слышно.
Не поднимаю головы, но знаю, что левая рука у него на правой в почтительном жесте. Управляющие филиалами не обращаются ко мне «президент совета директоров» и не величают почтительно «главный», для них я – «шеф». Мне тоже нравится, когда меня так называют. Возможно, кто-то из моих смышленых работников покопался в моем деле и выбрал это слово, чтобы выслужиться. Это слово действительно для меня в радость, потому что маршалов тоже называли «служивый»[8]. Но этого довода было еще недостаточно, чтобы я согласился встретиться с тайваньцем. Вот я и сидел, не поднимая головы. Потому что, подними я голову, надо будет что-то говорить, а заговоришь, надо будет давать какое-то заключение. Но я не мог допустить поспешного заключения до того, как обдумаю, до того, как он мне все разъяснит со всех сторон. Такая уж у меня привычка, и я считаю, что это отчасти похоже на стиль маршала Линь Бяо[9].
– Шеф, этот тайванец тоже военный, служил в морской пехоте и вроде дослужился до капитана.
Так, решение принято. Поднимаю голову и, глядя на управляющего Вана, четко произношу:
– Ну, раз военный, тогда встретимся! Только сегодня никакого бизнеса, сначала надо стать друзьями! Значит, решено – в «Лаобин-чэне»!
Управляющий вышел сияя. Я глянул на часы: до заседания еще сорок секунд.
Подошел туда, где из окна лился солнечный свет, уселся на диван, откинулся на спинку, все лицо залило солнце. Не палило, а ласкало. Я мог наслаждаться еще тридцать секунд.
– Едем в «Лаобинчэн», шеф? – Это вошла Ду Цзюаньхун.
– Нет.
– Не едем?
Наверняка она была ошарашена, хоть и спросила «Едем в “Лаобинчэн”», шеф?» будто походя, словно в этот «Лаобинчэн[10]» я точно должен был хотеть отправиться. Это новый проект, в который наша компания за год вложила больше всего средств. Руководил проектом лично заместитель генерального директора Хэ Жэньцзи, и с прошлой недели это уже официальное предприятие. В командировке я пробыл месяц, сегодня первый день в компании, и по логике вещей взглянуть на него было абсолютно необходимо. Важная часть повестки дня утреннего заседания тоже посвящена «Лаобинчэну». И после завершения заседания нужно было ехать туда, Ду Цзюаньхун все уже подготовила.
С написанным на лице недоумением она проследовала за мной в зал заседаний.
Подчиненные с грохотом встали, я махнул рукой, и все так же дружно сели.
Сколько раз говорил: не вставайте, нет, все равно встают, потому что из двадцати присутствующих на заседании пятнадцать – бывшие военные. Никто не в форме, никто не отдает честь, но мне по-прежнему все это нравится. Я как-то бросил в шутку: мы – армия коммунистов, а если так не устраивает, то армия националистов. Последние – армия пораженческая, а мы – победоносная. Мне импонирует то, как проводит армейские совещания высший командный состав Народноосвободительной армии Китая: без формальностей, все вместе обсуждают доступный стиль работы, а по окончании совещания все аплодируют. А в армии националистов в начале такого совещания все вытягиваются по стойке «смирно», щелкают каблуками, с соблюдением всех армейских ритуалов. Но в плане тактики пользы от этого никакой, и их армия, без сомнения, обречена на поражение. Все это, конечно, можно увидеть в кино.
Теперь Поднебесная давно уже такая, какой ее создала НОАК, и все эти жесты и формы не имеют значения. К тому же мы проводим заседание совета директоров, и я больше не настаиваю: встаете, так вставайте! Когда все, как один, с шумом встают, это не может не радовать, а тому, как я машу рукой, предлагая сесть, я, как ни странно, сам того не ведая, научился у киноактера Сунь Фэйху, подражавшего генералу Цзяну, который нередко делал такие жесты. Иногда мне и самому это кажется забавным, но если подумать: они все вместе с шумом встают, а я говорю «Садитесь». Разве так не смешнее? Ну прямо как учитель средней школы!
Обо всем, связанном с ночным клубом «Лаобинчэн», от имени главного управляющего клуба рассказал Хэ Жэньцзи. Члены совета директоров слушали с воодушевлением и восторгом.
В конце Хэ Жэньцзи сказал, что занимался этим ночным клубом в полном объеме, начиная со строительства и отделки и кончая официальной регистрацией, а теперь нужно назначить туда генерального директора. Он с самого начала заявил, что сам в гендиректоры не метит. Члены совета директоров как по команде уставились на него. Потом, тоже как по команде, повернулись ко мне. Понятное дело, считают, что пост гендиректора ночного клуба «Лаобинчэн» – хлебное местечко, и как только Хэ Жэньцзи, человек, почти год горбатившийся на этом новом проекте, может выпускать его из рук? По сути дела, лишь я понимаю, что Хэ Жэньцзи искренен, не тот у него характер, чтобы работать гендиректором ночного клуба.
– Какие у тебя кандидатуры? – спрашиваю я.
Глаза членов совета директоров вновь как по команде устремляются на Хэ Жэньцзи. Я понимаю: все надеются, что будет названо имя одного из них.
– У Саньлян.
– У Саньлян, – хором повторяют все.
Не то чтобы члены совета директоров заодно, дело в том, что У Саньляна среди них нет, поэтому-то и вырвался дружный возглас изумления.
У Саньлян, пятьдесят лет, работал заместителем главного редактора журнала «Ежемесячник кино», заместитель председателя провинциального* Союза кинематографистов. Драматург, писатель. Автор сценария к фильмам «Сестры – меч двойной змеи», «Копье тирана У-ди», романа «Спадающая красная косынка» и других. Главный редактор «Мира развлечений», первого по продажам журнала в городе, выходившего тиражом миллион экземпляров. Два года назад у этого издания изъяли лицензию. Причина: нанесение вреда молодежи и юношеству, следование «желтой линии»[11]. Открыл первое в городе модельное агентство, исполнял обязанности генерального директора. Спустя два года уволен заместителем генерального директора. Причина: замгендиректора – юридический глава компании. Организовал первую в городе компанию по производству CD-ROM, был ее генеральным директором. Через три года на компанию был наложен запрет. Причина: скрытое от него нарушение закона заместителем гендиректора, по закону возглавлял компанию Хэ Жэньцзи, и юридическая ответственность лежала на нем. Завершилось заседание на фоне галдежа директоров. Кто бы мог подумать, что У Саньлян, этот известный среди коммерсантов неоднократными победами и поражениями, будет рекомендован Хэ Жэньцзи в качестве генерального директора нового проекта, в который компания вложила свыше пяти миллионов юаней?!
Я не стал применять власть, чтобы прекратить галдеж. Я понимал, что он обращен на Хэ Жэньцзи. А тот держался как ни в чем ни бывало и не собирался менять имидж кандидата.
Ну и пусть галдят! Держись, Хэ Жэньцзи! Никакого решения не принимаю, а через пару дней посмотрим!
4
Выглядит «Лаобинчэн» довольно внушительно и своеобразно. Он не такой, как остальные ночные клубы, сверкающие неоновыми огнями, роскошные, но явно безвкусные. Над главным входом барельеф, изображающий поле сражения, по-старинному простой и величественный. Слева и справа – высеченные в камне лица бойцов, в шлемах, в полном боевом снаряжении. При входе четверо девушек-метрдотелей в военной форме (конечно, без кокард на головных уборах и знаков различия). В главном зале – высящиеся до небес искусственные деревья, которые сплетаются ветвями, как в тропических лесах. В центре главного зала – платформы для гостей, около сорока, на лицевой стороне зала – большой экран, можно попеть караоке.
– Хэ Жэньцзи, а ты, мать твою, и впрямь не без способностей, негодник, – удовлетворенно похлопал я его по плечу.
– Если, скажем, строить для кинокомпании самый большой кинотеатр, хм, с зрительным залом такого размаха, на сколько лет надо контракт заключать? – Ведь все полномочия на этот проект доверены Хэ Жэньцзи, а я все силы положил на проект экологически чистых продуктов, и до этого проекта руки у меня так и не дошли.
– На три года, – с сияющим лицом повернулся ко мне Хэ Жэньцзи. – И аренда тысяч триста в год.
Вот ведь паршивец Хэ Жэньцзи, и чего не смотрит в глаза, когда говорит? Веки всегда лишь чуть приоткрыты, взгляд тоже опущен на вершок. Но разве он не был таким изначально? Мы служили вместе, а после увольнения в запас он открыл компанию, и я тоже. Через пару лет он потерпел сокрушительное поражение в бизнесе, и я его вытащил. Он тогда проиграл, потому что полез на рожон, поставив все на карту, но обжегся этот паршивец, видать, недостаточно. Что ж, неудивительно, в моей роте он был командиром отделения, и когда однажды атака вражеского дзота захлебнулась, он выхватил огнемет у бойца и уже было бросился вперед, но его остановил его же заместитель. Я как раз наблюдал за этим в бинокль. Вот уж задал ему жару, когда он вернулся. «Рановато, мать твою, о славе мечтаешь! – сказал я. – Вот разжалую в рядовые, будешь знать. Ты, мать твою, о славе думаешь, а бойцов твоего отделения кто в бой поведет?» Отругав, отвел в сторонку и уже наедине сказал: «Твоя мать велела заботиться о тебе, а у меня позиция принципиальная, помогаю как могу, но ты – командир отделения, не думай, что, если тебя убьют, в отделении не найдется замены. Рвешься в атаку – давай, но если пуля найдет тебя, тут уж ничего не поделаешь, солдат должен пожертвовать собой, его никто не остановит, даже мать. Заруби на носу: настоящий солдат должен и себя защитить, и врага уничтожить». Вдалбливал ему минут десять, и все потому, что его мать с моей на одной фабрике работают. Убьют дурака, что я матери скажу?
Оказалось, что переживать за этого паршивца – пустое дело. Как начался бой, как покрыл себя славой один из бойцов его отделения, так у него глаза налились кровью и он снова полез на рожон. Тут уж возмутился я, и глаза налились кровью у меня, стало ясно одно: надо срочно избавляться от таких сукиных сынов. У них натура точно, собачья – так и ищут лазейку какую, нет чтобы вместе с остальными драться в открытую. Разозлил меня до смерти, да наплевать, что наши матери на одной фабрике работают, да, неудобно будет сообщать, ну и хрен с ним.
Вот уж не думал, что этот паршивец неисправим и будет так же отвратительно вести себя и в бизнесе. Не разобрался как следует, вбухал весь капитал и в результате полностью погорел. Восемь лет назад дело было, я тогда вытащил его из разбирательства в суде, сказал судейскому, мол, судить его бессмысленно, ну, вынесете решение, что он должен вернуть эти сто тысяч, а их у него нет. За него эту задолженность верну я. Взял кожаный кейс со ста тысячами юаней наличными и вручил истцу. С тех пор этот паршивец Хэ Жэньцзи без церемоний больше на меня не смотрит, как раньше, шефом величает, просто верноподданный чиновник.
– Маловато, лет на десять надо заключать. – И покосился на Хэ Жэньцзи. Похоже, не совсем доволен, поэтому я добавил: – Но это же не для индустрии развлечений, такое большое помещение. Для чего оно может подойти?
Хэ Жэньцзи на словах согласился, мол, верно говорите, шеф, а сам продолжает рассказывать: двадцать небольших комнат, десять средних и пять больших.
– Что ж, пойдем поглядим! – Посмотрев, я разозлился не на шутку. Одно дело, что все комнаты пронумерованы, так ведь не просто цифры и не какой-нибудь там «Хрустальный дворец» или «Алый лотос» – у него везде такие названия как «Артиллерийская батарея», «Рота связи», «Мотострелковая рота», «Танковая рота», «Рота противохимической защиты» и так далее. – Что же у тебя, товарищ капитан, женской роты нет, а?
Хэ Жэньцзи, видимо, осознал, что не прав, и поспешно возразил:
– Шеф, ведь это обсуждалось с несколькими членами совета директоров. В последний раз, когда я звонил, чтобы доложить о том, как идет отделка, ты меня даже не дослушал, сказал, что последнее слово за тобой.
– Так есть женская рота или нет? – Я отмахнулся от Хэ Жэньцзи и покосился на Ду Цзюаньхун. В смысле, мол, я не интересовался, а ты-то интересовалась?
Та мгновенно отреагировала и тут же заявила, обращаясь к Хэ Жэньцзи:
– Управляющий Хэ, «Женскую роту» я все же вернула бы!
– Хорошо-хорошо, – согласился Хэ Жэньцзи.
Ему было явно не по себе оттого, что Ду Цзюаньхун так очевидно с ним словчила. Своими словами она снимала с себя ответственность, будто вовсе не знала об этом или же знала, но не голосовала «за». По сути дела, она отрицала слова Хэ Жэньцзи о том, что он говорил с членами совета директоров.
– Тогда пошли смотреть «Женскую роту», – махнул я рукой и направился вперед.
Ду Цзюаньхун в несколько шагов обогнала меня. Чтобы показывать дорогу.
Вошли – роскошь да и только, видать, один из больших залов, цветной телевизор с экраном в 34 дюйма, VCD-проигрыватель, усилитель, звуковые колонки. На стене рельефное изображение чащи леса, полумесяцем к телевизору кожаный диван, за ним – большой стол человек на десять. Слева от стола – буфет, заставленный винами и напитками.
– Что же ты сегодня не в военной форме, малышка Ду? – воскликнул я, усаживаясь на диван. – Ты ведь солдат.
– Я офицером служила, шеф.
– Офицером? А сегодня побудешь солдатом, скоро этот тайваньский коммерсант явится, вот и послужишь!
Не дожидаясь ее реакции, вскидываю руку и смотрю на часы:
– Хэ Жэньцзи, тайванец с минуты на минуту здесь будет, сходи в главный зал, встреть его.
– Может, не стоит уже так, а, шеф? – проговорила Ду Цзюаньхун, когда он ушел.
Я молчал.
Она заволновалась:
– Ну уберем завтра «Женскую роту», обязательно уберем. – И увидев, что никакой реакции не последовало, добавила: – Почтенный старший брат, я же с тобой столько лет, хоть бы на это скидку делал!
Я не реагировал.
Она умолкла и села на стул у стола с таким видом, будто смирилась с судьбой.
Через какое-то время до моего слуха донесся ее голос, не взволнованный, не торопливый, а такой, будто человек, болтает о том о сем:
– Шеф, хочу отпроситься на послезавтра, надо съездить прибраться на могиле старшего брата.
Я тут же понял: Ду Цзюаньхун человек не глупый, она не из тех, кто охотно согласится прислуживать, и сейчас, заговорив о брате, можно сказать, попала с первого выстрела. Она знает, что, какую бы ошибку она ни допустила, я все равно сделаю ей послабление из-за брата. В сообразительности ей не откажешь, она никогда не злоупотребляла его именем, чтобы открыто противостоять мне, да и таких серьезных ошибок не совершала, чтобы я прощал ее ради брата. Она понимает, что его имя поможет, лишь если она умудрится допустить однажды самую серьезную ошибку: без моего ведома начнет собственное дело. Ей совершенно ясно, что из-за брата я ее извиню, но и перестану быть в долгу у ее семьи. Она достаточно умна и никогда серьезных ошибок не делала. Из-за этого я всегда и чувствовал себя в долгу. Этот долг слишком велик, даже если она найдет способ умыкнуть половину того, что мне принадлежит, я смогу простить ее и позволить отправиться в свободный полет с этой половиной, может, так и сброшу с плеч этот груз. Но по отношению к компании она никогда не лукавила, по крайней мере, доказательств у меня нет.
Когда ее брат умирал, он взял меня за руку и сказал: «У меня осталась лишь младшая сестренка, и когда забота о ней лежала на мне, я знал, что, пока я жив, ее судьба будет зависеть от меня». В жены себе я ее не прочил, потому что еще в детстве видел, как она, сверкая маленькой попой, справляла большую нужду во дворе. Когда я вернулся, она уже была прелестной взрослой барышней двадцати с лишним лет, бравого вида, офицером в чине лейтенанта, но и это меня не тронуло. В армию я ушел, когда ей было десять, а снова встретил спустя десять лет. Должно быть, мы стали немного чужими, но она была для меня как младшая сестра. Поэтому я не видел в ней будущую жену, хотя речи ее старшего брата в последние годы отдавали сватовством. С тех пор я и чувствовал себя виноватым перед ним. Конечно, при встрече я не передал его слова перед кончиной, потому что знал: если я это сделаю, придется взять ее в жены. Будь это против ее желания, на этом все бы и закончилось. Весь ужас как раз в том, что она не могла не хотеть выйти за меня. Она с детства почитала и меня, и брата. Именно из-за того, что мы с ее братом пошли в армию, она приложила все усилия, чтобы поступить в военное училище. Так вот, стоило мне хоть чуть-чуть проявить такое чувство, было бы странно, если бы она не вышла за меня. Это ведь и впрямь страшное дело, мать его, жениться на той, кто для тебя как младшая сестра, это же сплошное мучение. Мое преимущество как раз в даре предвидения, я понимаю, что, женись я на ней в подобном состоянии души, это будет во вред ей, она на всю жизнь останется в смятеннии. Это может нанести вред и мне, помешает рассмотреть как следует другое чувство. Я ведь человек здравомыслящий, понимаю, что не могу на ней жениться, а откладывать было нельзя. Тогда я взял инициативу в свои руки, нашел теперешнюю жену Ло Шуби. А чтобы не жениться на младшей сестре и разобраться, что за женщина моя жена, я действовал так, как, бывало, разбирался с позицией противника, – овладевал ею.
Когда она заговорила о брате, я ничего не сказал, но лицо сразу смягчилось, наверняка это наполнившее меня тепло воспоминаний. Разглядит выражение моего лица эта суперумница Ду Цзюаньхун? Точно, разглядела. Подошла и опустилась рядом на диван.
Вот ведь соображает, диву даешься, каких-то пять минут прошло с начала критической ситуации до ее разрешения. Понимает, что через минуту может войти тайванец с Хэ Жэньцзи и управляющим Ваном, и ей нужно подсесть ко мне.
Через пару минут они действительно появляются.
Она встает первой и прежде, чем успел открыть рот Хэ Жэньцзи, представляет:
– Это наш шеф.
Пока я пожимаю тайваньцу руку, Хэ Жэньцзи рекомендует ее как мою помощницу. Вместо рукопожатия тайванец складывает руки на груди в традиционном приветствии, приговаривая:
– Какая красавица, какая красавица! – Его глаза при этом вращаются, выражая крайнее удивление. Я-то понимаю, в чем дело: здесь, в материковом Китае, помощницы тайваньцев обычно и любовницы.
После обмена любезностями тайванец подзывает своего подчиненного с тщательно упакованной подарочной коробкой в руках и произносит традиционную вежливую формулировку:
– При первой встрече никак не выразить всего почтения, не выразить всего почтения.
Я принимаю подарок, а он достает еще и маленькую подарочную коробочку и преподносит Ду Цзюаньхун:
– Со всем почтением, со всем почтением.
Больше ничего у него в руках я не увидел. Только два подарка приготовил этот тайванец. И Ду Цзюаньхун точно принял за мою любовницу.
Усевшись, он изображает крайнее уважение:
– Я человек маленький, бизнес у меня на материке небольшой, надеюсь, господин генеральный директор, на ваше покровительство.
Я с улыбкой киваю, а потом говорю:
– Вас зовут Хуан Хэ[12], ваш род, наверное, с материка?
– Да-да, – подтверждает он. – Мои предки из Хэнани[13], отец в 1948 году вместе с покойным президентом Цзяном[14] оказался на Тайване. Я слышал, что вы, господин генеральный директор, служили в армии. Я тоже был военным, но вы – подполковник, а я – капитан, дистанция очень большая.
– Родись мы на несколько десятков лет раньше, встретились бы на полях сражений, – пошутил я, усмехнувшись, – я в армии коммунистов, вы в армии националистов. Ваш господин Чан Кайши – человек талантливый, я его очень уважаю. Он и с милитаристами [15] разбирался лихо, и японцам противостоял твердо. Только вот с нашим вождем Председателем Мао не справился.
– К почтенному предку президенту Цзяну я отношусь с большим уважением, – отозвался тайванец, – ему многое было по плечу. Но ваш Председатель Мао оказался круче.
Так мы с ним болтали с полчаса. Как раз в тот момент, когда стало видно, что коммерсант хочет перейти к планам производства экологически чистых продуктов, зазвонил мобильный Ду Цзюаньхун. Послушав, она сказала:
– Шеф, тебе назначил встречу начальник секретариата.
Я спросил, на какое время. Она ответила, мол, сейчас. Я изобразил, что, мол, ничего не поделаешь, и повернулся к Хэ и Вану Дунфану:
– Директор Хэ, вы уж тут примите господина Хуана как следует. – И, обменявшись с тайваньцем любезностями, ушел.
У нас с Ду Цзюаньхун так было условлено: нельзя при первой встрече говорить о проекте, это я так решил, чтобы дать понять, что у нашей компании есть возможности и в одиночку довести до конца этот большой проект по экологически чистым продуктам. Если тайванец действительно хочет вложиться, надо еще хорошенько продумать цену вопроса. К тому же он не может знать уровня секретаря, что меня разыскивает.
Во второй половине дня я три часа провел на переговорах с секретарем городской управы. Приоткрытая им информация об этом громадном проекте вселила в меня уверенность. Подумать только, за последние несколько лет население города значительно возросло, база снабжения незерновыми продуктами решительно недостаточна, поэтому город готов предоставить участок земли в уезде А в восьмидесяти с лишним километрах отсюда для создания центра экологически чистых продуктов. Этот уезд признан нуждающимся на государственном уровне, и если наша компания инвестирует десять миллионов юаней, можно получить соответствующую сумму инвестиций от государства, а также кредит от Всемирного банка из фонда поддержки нуждающихся. Это проект стоимостью более ста миллионов юаней со сравнительно стабильной прибылью. Стабильность – в этом городе с миллионом населения, и для меня неиссякаемый источник прибыли. Но сейчас выделить из компании десять миллионов юаней невозможно. На первый взгляд моя корпорация «Боши» – крупнейшее частное предприятие в провинции, но в действительности несколько основных филиалов переживают далеко не лучшие времена. Иначе я не стал бы привлекать все оборотные средства на создание развлекательной компании «Лаобинчэн». Особенно это касается моей компании по реставрации и обновлению автомашин. За последние несколько дет контрабанда автомобилей подверглась сильным ударам, что поставило эту фирму под угрозу закрытия. Хотя для исправления положения одна за другой были созданы комплексные компании по импорту автозапчастей и по ремонту импортных малолитражек, результат не очень обнадеживал. Вообще-то я решил прикрыть эту компанию, но какое-то время окончательного решения не принимал, и компания по обновлению автомобилей оставалась в корпорации этаким заслуженным вассалом. Это было мое самое первое предприятие, можно сказать, с него началось мое дело, этакое почетное подразделение в армии. Можно без преувеличения утверждать, что большая часть всего парка малолитражек в городе вышла из ворот этой фирмы. Мы даже права выдавали, конечно, не без помощи друзей-однополчан. Они теперь сражаются в общественной безопасности, дорожной полиции и на других стратегически важных постах. Среди них немало таких, кто еще ездит на обновленных у меня машинах.
Если выгорит с планами по экологически чистым продуктам, я смогу отказаться от обновления автомобилей, а эти несколько десятков заслуженных вассалов разгонять незачем. Я, по правде говоря, человек очень сентиментальный, по здравом рассуждении эту фирму давно надо было прикрыть, равно как и автокомплектующее и ремонтное предприятия, потому что ежегодно от них убытки на двести тысяч юаней. Убытки небольшие, и это не основание для решения по закрытию. Гораздо более существенно, конечно, то, что несколько десятков сотрудников проработали на меня много лет, и если не самый крайний случай, я не смогу вот так взять и выкинуть их на улицу.
Проект по экологически чистым продуктам я уже хорошо обдумал. Головное предприятие еще может получить пятьсот тысяч от ювелирной компании, это без вопросов, от увеселительного клуба «Лаобин-чэн», в зависимости от того, как пойдут дела за неделю, выручка должна составить не менее трехсот тысяч в месяц. Еще с туристического центра «Боши» наскребем тысяч двести. Миллион собрать можно, а вот где взять остальные девять – надо думать. Вот вложи этот тайванец сорок с лишним миллионов тайваньских долларов, было бы достаточно, но по зубам ли ему такая сумма, неизвестно. Нужно лишь придумать, как изыскать эти десять миллионов юаней, тогда и от властей можно получить десять миллионов, и кредит от Всемирного банка. Если все сложится, этот центр станет настоящим денежным деревом.
Задумавшаяся Ду Цзюаньхун чуть нажала педаль тормоза, шедшая сзади машина резко затормозила, взвизгнув колесами по асфальту, круто повернула и прижалась к нашему «мерседесу».
– Совсем сбрендила! – донеслось из нее.
Ругательство предназначалось Ду Цзюаньхун. Машина шла по высокоскоростной транспортной развязке, впереди ни людей, ни машин – чего тормозить? Неудивительно, что водитель шедшей позади машины выругался.
Лицо Ду Цзюаньхун даже не дрогнуло, хотя в душе она наверняка сдерживалась. Она решительно заглушила двигатель, и машина встала. Позади загудели клаксоны, слышался визг колес. Водители каждой проезжавшей мимо машины крыли ее почем зря, мол, совсем с ума спятила? Но, повернув голову и заметив миловидную Ду Цзюаньхун, они тут же проглатывали свою грязную брань. Весна, окна автомобилей открыты и не мешают разглядеть ее прелестный профиль.
– Что с тобой, малышка Ду? – спросил я.
Хотел сказать, что-нибудь нежное, но не получилось. Хотел пошутить, но понял: она переживает из-за того, что я разошелся и унизил ее в присутствии Хэ Жэньцзи. Она знала, что настроение у меня неплохое, но в такие моменты, ей нравилось капризничать, как младшей сестренке. Но ведь не маленькая уже, тридцать пять в этом году, хотя статью так же грациозна и обворожительна, как юная девушка, на лице – окрашенная румянцем бледность, ухаживает за собой неплохо, ей даже дают не больше тридцати.
Появившийся у окна полицейский козырнул:
– Предъявите ваши документы, товарищ.
Ду Цзюаньхун надменно повернула голову:
– Документы я оставила дома у командира вашего отряда Дун Фанчи. Если нужно, могу позвонить и попросить его привезти.
Маленький полицейский ничуть не купился на это и продолжал настаивать на своем. Ду Цзюаньхун не обращала на него внимания. Полицейский доложил по рации коллеге о серьезном нарушении правил на развязке в районе А, попросил прислать тягач, чтобы отбуксировать машину нарушителя, а потом стал выписывать квитанцию о штрафе:
– Товарищ, в соответствии со статьей двадцать первой правил дорожного движения, вы совершили серьезное нарушение, которое влечет за собой изъятие удостоверения на полгода. Прошу предъявить водительское удостоверение и документы на машину. Если вы не можете их предъявить, машину мы эвакуируем, а вас просим в течение трех дней явиться в четвертый отряд для разбирательства.
На самом деле права у Ду Цзюаньхун были с собой. Можно, конечно, отдать их полицейскому и уехать, а завтра получить из рук командира отряда, и все на этом, но кому нужны все эти хлопоты? И сегодня ей, похоже, хотелось, чтобы машину эвакуировали, будто другой исход ее не устраивал.
Через некоторое время прибыл тягач, и полицейский предложил выйти из машины.
– Как мы пойдем по этой развязке? – возразила Ду Цзюань-хун. – Везите уже вместе с нами! – Полицейский и впрямь дал команду эвакуатору. Тот заехал перед нами, сзади у него выдвинулись два больших прорезиненных захвата. Он ухватил ими наш «мерседес» за передние колеса, включил электролебедку и поднял переднюю часть машины сантиметров на двадцать. Потом завелся и потащил.
Залившаяся краской Ду Цзюаньхун покосилась на меня, будто осрамилась в моем присутствии. Лицо обращено ко мне, а глаза скошены в сторону, за окно. Это меня позабавило: всегда черные, сверкающие и круглые, такие милые, они в таком положении виднелись лишь наполовину, и казалось, что белок в два раза больше, чем обычно. На нем смутно проступала розоватая сеточка крошечных кровеносных сосудов. Сколько же тайны за этими красивыми черными глазами! Если бы не бешеная злость, если бы она могла смотреть мужчине в лицо, а не коситься в его сторону, этот косой взгляд, в котором больше белого, чем черного[16], обнаружил бы скрытые за этими прекрасными глазами недостатки, хотя эти недостатки есть у каждого. Они есть у всех, а возможно, никакие это не недостатки, но раскрывать их перед мужчиной, который нравится, не следует; как бы ты ни была взбешена, за этим нужно следить. Я впервые видел так близко ее «больше белого, чем черного», и то, что мне открылось, навело на мысль, что при подобных обстоятельствах такие прелестные глаза не такие уж и красивые. Позволить, чтобы подобная утрата контроля над собой затянулась, она, конечно, не могла, и к тому времени, когда в поблескивающих черных глазах постепенно становилось больше черного, чем белого, она уже смотрела на меня. Лицо поэтому уже собранное, и я впитывал свет этих говорящих глаз, заставивших воспринять несравненную красоту. Одарив меня взглядом, она заговорила:
– Во как сегодня: документы не отдала, штрафную квитанцию не получила, да еще предложила их командиру отряда встретить нас лично.
Я понимал, что все это ей по силам, с этим великим командиром они когда-то вместе служили.
– Будет тебе, малышка Ду. Показывая, какая ты крутая перед каким-то рядовым полицейским, ты сама опускаешься! Так что сегодня нужно, во-первых, предоставить документы, во-вторых, получить штрафную квитанцию, и, в-третьих, не ошарашивать своего однополчанина.
– Ну уж нет! – Ресницы затрепетали, черные глаза засверкали влажным блеском.
– Когда же ты повзрослеешь? Неужели и такому учить надо? Если не хочешь, что бы твой командир отряда и дальше оставался на этой должности, можешь пойти выше – чтобы тебя встречал командир дивизиона Лао Фан, или тебе и этого недостаточно, чтобы пустить пыль в глаза? Сила человека не в том, чтобы выделываться перед рядовыми.
И, видя, что она еще не остыла, добавил:
– Сделай как тебе говорят, полицейский тоже на службе, это ведь сущая ерунда, а мы вот беззастенчиво, нагло попираем закон. Так ли поступают люди с положением? Вот скажи, какая служба в дорожной полиции самая утомительная?
– Дежурство в будке на перекрестке.
– Хорошо, и вот через некоторое время возьмет твой приятель командир отряда и скажет этому рядовому полицейскому, что службу он несет отлично, что принято решение подзакалить его, поставить регулировщиком, чтобы понюхал пару месяцев автомобильные выхлопы, потравился! Ну что, умерила пыл? В каждом деле ситуацию нужно оценивать по справедливости.
5
Перекусили с Ду Цзюаньхун в ресторане Цилисян[17]. Позвонил жене, трубку снял сын.
– А мама твоя где? – спрашиваю.
– Мама пошла во дворец пионеров учить танцам.
Вот оно что, сегодня конец недели, возвращаться домой нет смысла, а если ехать к Наньлань, то не хочется, чтобы Ду Цзюаньхун об этом знала. Похоже, сегодня малышка Ду так просто расстаться со мной не сможет, ну и хорошо, вот и пойдем-ка с ней в кафе. Как раз то, что надо, давненько не случалось поболтать о делах компании.
Я сообщил, что думаю назначить У Саньляна генеральным директором «Лаобинчэна» вместо Хэ Жэньцзи. Она сказала, что, вообще-то, Хэ Жэньцзи – самая подходящая кандидатура. Я сразу понял, почему она придерживается такого мнения. В головной компании, кроме нее, я и сам больше всего ценю Хэ Жэньцзи, даже отдаю ему некоторое предпочтение. По сути дела, она ведает внутренними делами, а он – внешними. Если Хэ Жэньцзи станет гендиректором «Лаобинчэна», она сможет сменить его на посту заместителя генерального директора головной компании. Ее не устраивает то, что она всего лишь заведует канцелярией и занимается этим уже очень долго. Но до сего времени сама она не заговаривала о том, чтобы стать заместителем гендиректора. Заикнись она об этом, я мог бы назначить ее на этот пост, но пока ей еще не по силам справиться с этой работой самостоятельно, так мне казалось. Называться заместителем гендиректора и продолжать заниматься канцелярией, как и сейчас, – это ее тоже не устраивает. Она понимает, что заговаривать о том, чтобы стать заместителем гендиректора номинально, лучше не стоит, она верит в свои возможности. Понимает она и то, что это означает фактическую власть в двух филиалах компании. А передать ей эту власть я пока не могу. Не могу, так как она может заявить, что станет заместителем гендиректора управляющей компании с владением половины ее активов. Я долго и не заговаривал о том, чтобы ей стать заместителем гендиректора, потому что хотел вынудить ее связать это с моими чувствами к ее старшему брату. Но она, похоже, соображает, и до сего времени не упоминала имени брата, чтобы получить от меня власть, из-за чего я пребывал в смятении, не зная, что она выложит как последний козырь. Честно говоря, даже если она выступит с неоправданной просьбой передать ей компанию полностью, я пойду и на это. Ее брат пожертвовал собой, чтобы защитить меня, и каждый миг, когда я развлекаюсь с красивой женщиной, наслаждаюсь вкусной едой, провожу свои дни в самом замечательном месте на земле, я всегда помню о ее старшем брате. Будь он жив, не знаю, сколько замечательных дел мы, братья, могли бы сотворить вместе. Это такая огромная досада, об этом душа и болит.
– Малышка Ду, мое дело в конечном счете, наверное, перейдет тебе, на мой взгляд, ты уже выросла, ты давно уже мне как родственница. Ты ведь знаешь, свояченице твоей никогда бизнесом не заниматься, от обоих моих братьев тоже толку мало: один – книжный червь, другой в детстве с дамбы свалился и ополоумел от сотрясения мозга. Хэ Жэньцзи – да, человек способный, потом тебе надо будет опираться на него, вот и все.
– Ты неправильно понял меня, шеф, у меня и в мыслях нет оттеснить гендиректора Хэ. – На лице у Ду Цзюаньхун была написана обида.
– Правильно или неправильно, давай пока отставим его в сторону. Он предлагает У Санляна, и правильно делает. У Саньлян прежде был заместителем гендиректора кинокомпании, а также зампредседателя провинциального союза кинематографистов, еще он известный писатель, по-прежнему вхож в провинциальную кинокомпанию, знает входы и выходы. Нам не нужно будет много думать, у таких людей и аппетит не такой большой.
– Среди литераторов, шеф, встречаются люди и чванливые, и дрянные. – Говоря такое, она наверняка уже махнула на это рукой.
– А пусть и чванливый, пусть дрянной, – тут же подхватил я, – значит, человек со вкусом, такого можно использовать. А безвкусные, как кипяток, нам не годятся. Завтра составь приказ о назначении, чтобы был. И извести Хэ Жэньцзи, что я хочу видеть У Сань-ляна у себя в кабинете.
В кафе постепенно стал собираться народ, неизвестно когда появившаяся девица стала наигрывать на пианино «Лян Шаньбо и Чжу Интай»[18]. Это была студентка института искусств, она здесь подрабатывала. Играла не очень уверенно, и исполнение немного резало слух.
– Ну что, Вонючка Маленькая, давай провожу.
Детским прозвищем я называю ее очень редко. Только в минуты радости и когда мы одни. В компании я не называл ее так никогда. При этом она обычно моргает, поблескивая глазами, наверное, вспоминает детство. Мы с ее старшим братом прозвали ее так, когда ей было лет шесть-семь. Уж она вертелась вокруг брата и так и этак. Мы с ним, бывало, мечтали под персиковым деревом у них во дворе и обычно просили ее принести попить или что-нибудь в этом роде. Когда ее называли Маленькой Вонючкой, в детстве она обычно громко выражала недовольство. Теперь я называю ее так редко, но она никогда не протестует, да и я ощущаю при этом какое-то родство.
Когда она появилась на свет, трудности с продовольствием уже были позади. Но в городах было по-прежнему трудно, риса не хватало, и тогда ее матушка послала кого-то в деревню прикупить для домашних немного картошки и кукурузы. После еды живот у Маленькой Вонючки вздувался, вот она и пускала газы. Попка маленькая, знай себе попукивает, вонь хоть и страшная, а звуки переливчатые, мелодичные. Раз мы с ее братом поставили ее, четырехлетнюю, в большую деревянную лохань с водой и стали мыть. Смотрим, в лохани пузырики одним за другим поднимаются, то-то мы усмеялись, аж животы заболели. Она рассердилась, встала в лохани и ну нас лупить, попасть не попала, но пару раз пукнула. С тех пор к ней это прозвище и прилепилось. Другие о нем, конечно, не знали, знали только мы с ее братом. Когда тебя называют именем тридцатилетней давности, пусть и таким неблагозвучным, – это тоже своего рода судьба. Только представь, сколько людей за эти тридцать лет не слышали твоего детского прозвища и сколько не осмелились бы его произнести. Таковы превратности судьбы этого мира, он и безжалостен, и сентиментален.
Нам бы радоваться, что еще живы, это важнее всего, после испытаний этих десятилетий, что мы еще можем в такой прекрасной обстановке и неплохом настроении называть друг друга детским прозвищем. Для этого, мать его, нужно ощущение успеха, а это ощущение в том и заключается, что мы не только живы, но и живем хорошо. Ну разве можно при этом еще и сердиться? Если рассердится, значит, она уже не Ду Цзюаньхун и уже не может вместе со мной бороться за дело. В детстве во дворе было много других приятелей, они не смогли остаться со мной, а Ду Цзюаньхун смогла, и это еще одно доказательство того, что она – смышленая, замечательная Маленькая Вонючка.
6
Когда явился У Саньлян, я напрямик спросил, сколько он хочет получать в год, и он тут же заявил: «Шестьдесят тысяч». Вообще-то я хотел назначить ему сто, но раз говорит шестьдесят, пусть будет шестьдесят, похоже, аппетиты у человека действительно не так велики. Ладно, передадим ему в пользование праворульный «ниссан», он из последней контрабандной партии, и переделывать его на левый руль нет смысла. Если через год все праворульные признают негодными, на этой все равно поддельные гуандунские номера. На партии из восьми машин они еще не заменены на номера нашей провинции, слухов ходит много, уже не заменишь. Так что половину продал, половину подарил друзьям, тоже по тридцать-сорок тысяч юаней. Друзья поездили, на дорогах одно невезение, как контрольная служба их выявила, они от машин и отказались. Так или иначе, без местных номеров за эти машины почти ничего не выручишь. Последнюю никому подарить не удалось, так и осталась в гараже компании по обновлению автомобилей, совсем неиспользованная. Сначала собирался дать У Саньляну «хонду» – генеральный директор «Лаобинчэна» все же должен на «хонде» ездить, – ну а раз у этого паршивца аппетиты умеренные, пусть покатается на этой колымаге «ниссане». Попадется контрольной службе – и ладно, тогда и «хонду» получит. К тому же, если у этого паршивца машину конфискуют, наверняка совесть будет мучить, что конфисковали у него. А если взвалить на него, человека культурного, эти угрызения совести, меньше глупостей делать будет. Ведь «Лаобинчэн», в конце концов, основное предприятие компании, и он с этими угрызениями станет покладистее. Видать, ему никогда еще не предоставляли личную машину – на лице радость бесконечная, и знай себе повторяет: «Спасибо, шеф, спасибо».
Поняв, что беседу нужно заканчивать, я велел ему отправляться к Хэ Жэньцзи. И в напутствие сказал:
– Хэ Жэньцзи тебя порекомендовал, так что смотри не подводи его. На том участке головной компании, куда тебя назначил гендиректор Хэ, надо работать как следует, иначе спрошу с вас обоих.
Перепуганный У Саньлян удалился.
Еще оставалось время, и Ду Цзюаньхун принесла подарки тайваньского коммерсанта: какой-то переливающийся красным камень и нечто вроде каменного яйца. По ее словам, Ван Дунфан сказал, что его добывают на Тайване, это очень редкий и дорогой декоративный минерал – розовый камень. На Тайване он очень ценится, этот экземпляр стоит тысяч тридцать тайваньских долларов, не меньше. Цветом напоминает красную розу, нежный и изящный. Если положить на подставку из красного дерева и поместить под окно на резную композицию из корней, будет смотреться очень красиво.
– А это яйцо динозавра, – указала Ду Цзюаньхун на желтовато-серое каменное яйцо, – такие добывают в провинции Хэнань, и стоит оно две тысячи юаней. Я не очень-то разбираюсь в окаменелостях, но динозавры известны давно.
– Яйцо динозавра – и всего две тысячи юаней! Чтобы наши китайские сокровища, мать-перемать, почти ничего не стоили! – возмутился я. – Наверняка такой камень есть и у нас в Китае, скажи управляющему Вану, пусть поинтересуется. А найдет, надо встретиться с этим тайваньцем.
– Управляющий Ван уже подсуетился, – сказала Ду Цзюаньхун. – У нас в ювелирной компании главный геолог раньше трудился в провинциальном управлении земельных угодий и добычи полезных ископаемых, тридцать лет проработал экспертом по горнорудным запасам и прекрасно разбирается в камнях со всей страны. Так вот он утверждает, что камень этот в петрологии известен как родонит, в наших провинциях его совсем немного, и красноватый оттенок не такой, как у розового камня, а бледно-розовый, как у персика, поэтому в народе его и называют «цветком персика».
– Ты уж, малышка Ду, распорядись, – продолжал я, – спрашивать у наших экспертов толку мало, они в курсе ситуации лишь в своей провинции, а надо запросить по всем таким управлениям страны. Разузнаем – ну не верю я, что на девяти миллионах шестистах тысячах квадратных километров может не быть такого камня. Скажи управляющему Вану, чтобы он велел этому эксперту всю страну объездить, даже если и потратится, дело стоит того!
Ду Цзюаньхун сказала, что после обеда займется этим делом, и положила яйцо динозавра в коробку:
– Этот тайванец на окаменелостях просто помешан, собрал большую коллекцию. Я слышала, он подарил гендиректору Хэ каменную рыбу из реки Баси, что в провинции Сычуань. Тот сказал, что в окаменелостях не разбирается и готов отдать ее.
– Хэ Жэньцзи, говоришь? Вызови-ка его, пусть зайдет и расскажет, как продвинулись переговоры с тайваньцем по экологическому проекту.
Отдаст Хэ Жэньцзи окаменелость или не отдаст, мне без интереса. Я в них тоже не смыслю, мне известна лишь азбучная истина: окаменелость – это то, что осталось от какого-нибудь животного или растения через несколько миллионов лет или даже миллиардов. Тут текущих дел не переделать, неужели заниматься тем, что было несколько миллионов лет назад? Председатель Мао говорил: «Десять тысяч лет – слишком долгий срок, дорожи каждым днем, каждым часом». Если даже для Председателя Мао десять тысяч лет слишком долгий срок, то что говорить обо мне, когда-то одном из его славных бойцов. Конечно, можно дорожить лишь каждым днем и часом.
Какое-то время спустя позвонила Ду Цзюаньхун и доложила, что гендиректор Хэ уехал в уезд А на переговоры с начальником уезда и партсекретарем по вопросу базы экологически чистых продуктов и вернется завтра к полудню.
– Почему он отправился туда и не поставил меня в известность?
– Шеф, забыл, что ли, ведь ты передал этот проект в ведение гендиректора Хэ? Он, уезжая, сказал, что сначала досконально разберется, что к чему, и лишь после этого сможет составить для тебя подробный доклад.
Возразить было нечего. Хэ Жэньцзи и так у меня все равно что правая и левая руки. Только что закончил курировать строительство и отделку «Лаобинчэна», надо было дать ему отдохнуть пару деньков, а потом заговаривать о чем-то еще. Не успел взвалить на него экологический проект, как тут же, без передышки, подавай работу. Целая буря эмоций поднялась в душе. Такое очень утомляет, и я поехал к Наньлань отдохнуть и собраться с силами.
На следующий день после полудня Хэ Жэньцзи действительно притащил окаменелую рыбу. Сказал, что преподносит мне, чтобы из года в год был достаток[19].
Рыбу эту извлекли из серовато-красной породы, не очень твердой. Но наверняка это был камень, и состоял он из двух кусков: сама окаменевшая рыба и ее отпечаток в камне. Чешуйки твердые, с блеском, немного похожие на современную рыбу – белого амура. Сама рыба сохранилась достаточно полно, довольно четко просматривались похожие на щеточки остатки плавников на брюхе. Чешуйки отливали металлом, даже не хотелось выпускать ее из рук.
Похоже, наткнувшиеся на этот камень геологи раскололи его пополам, чтобы открылась и та и другая сторона окаменелости. «Занятная все же штука геология, – мелькнуло в голове. – Не думал, не гадал, а рубанул – и на тебе, окаменелая рыба открылась».
– Хэ Жэньцзи! Рыбу подарили тебе, себе и оставь. Я в окаменелостях тоже не смыслю, забирай!
– Как можно! – возразил тот. – Такая славная рыба, это тебе, шеф, и все тут.
– Ладно-ладно, раз «из года в год с рыбой», принимаю. – Видя, что он делает это от души, я тоже не стал утруждать себя спором о том, чьей будет эта рыба. Видать, стоит немало, одно то, что в Китай доставили издалека да еще надо было сохранить. И я запер ее в сейф.
– Этот тайваньский коммерсант соображает, – сказал Хэ Жэньцзи. – Хочет встретиться с соответствующим человеком в правительстве.
– Нет, так не пойдет, – возразил я. – Он сотрудничает с нами, а мы сотрудничаем с властями. С властями мы поддерживали связь, а он – с нашей стороной. Только на таких условиях, и ни на каких больше, иначе никакого сотрудничества с ним не получится.
– С этим тайваньцем дело иметь не просто, шеф, без встречи с соответствующим человеком в правительстве, не видя подписанного нашей стороной договора с правительством, он с деньгами не расстанется.
Похоже, Хэ Жэньцзи тайваньца не обработал.
– Ты как хочешь, но обработать его нужно обязательно. Положение компании ты прекрасно представляешь, мы можем выставить миллион, и то, можно сказать, напрягая все силы. Тайванец должен вложить по меньшей мере миллионов шесть, а лучше все девять, чтобы нам не собирать там и сям. Набрать нужно десять миллионов, и выплатить такую сумму для любой фирмы дело неподъемное. На сегодня, похоже, ни одна частная компания нам не соперник, государственным при их теперешней структуре тоже тяжело конкурировать с нами. Помимо проблем с капиталом у них еще и с персоналом далеко не все гладко. Персонал тащить приходится, а бремя это слишком тяжелое. Захотят со мной побороться – ан нет, как говорится, близок локоть, да не укусишь. А для моего предприятия это просто блестящая возможность, это жизненно важно и впредь станет его основой. Эх, Хэ Жэньцзи, ты только представь! А мы тут переживаем из-за трудностей с сегодняшними активами! Банкротство так банкротство, со времени основания пятнадцать лет назад это уже второй серьезный кризис.
Первый был в тысяча девятьсот девяносто третьем, банковский, тогда мы его вместе преодолели. Ну а нынешний с первым и не сравнить, думаю, и на этот раз выдюжим.
– Шеф, я тут начал осуществлять план «ловушки с красавицей». Девочек из эскорта я тогда не нашел, да и, думаю, он таких повидал немало, для него это дело плевое, и нам эскортом цели не достичь. Я в тот день пригласил Сяо[20] Чжан из ансамбля песни и пляски попить с ним чаю, так тайванец от ее чертовской фигуры и бледного с румянцем лица просто обалдел. Представляю ее – мол, первоклассная актриса общегосударственного уровня, высочайшая квалификация, и зову У Саньляна, чтобы присоединялся. Сяо Чжан красотой тайваньца обворожила, а У Саньлян своими сверхъестественными способностями себе подчинил. Ух, и талантище этот У Саньлян, суперсила какая-то! На наших глазах с помощью цигуна[21] поджег тайваньцу носовой платок, а потом, взяв только что вынутые из упаковки серебряные палочки для еды, выжал из них воду. И вода эта – поразительное дело! – стекала по этим палочкам и капля за каплей падала тайваньцу на лицо. У Саньлян объяснил, что перемещает предметы мыслью, что это вода из священного источника в горах Линшань, так что тайванец был счастлив безмерно. Еще и не позволил тайваньцу вытереть лицо салфеткой, мол, вытрешь – все счастье сотрешь. Тот, похоже, поверил и все приговаривал с каплями воды на лице: «И впрямь из священного источника, так освежает».
– Что ж, для первого раза сойдет, – хмыкнул я. – Но тайванец так просто с деньгами не расстанется. Вот тебе два месяца сроку, чтобы все с ним уладил. А я позабочусь, чтобы власти приняли на этот счет твердое решение. Ты отвечаешь за тайваньца, другого пути нет у нас. Этот коммерсант пару раз сотрудничал с нашей ювелирной компанией и, по словам Ван Дунфана, в целом нам доверяет. Вот и славно, возможно, мы и добьемся успеха. Сяо Чжан должна показать все свое мастерство, а ты продумай хорошенько, как устроить так, чтобы она с ним амурничала. Если он попадется на крючок, ей тоже польза. Мы здесь ей тоже отстегнем двести тысяч, сперва пятьдесят тысяч задатку. Если зацепит его, не забывай: в кровать ни в коем случае не сразу. Надо переждать чуток, пусть раззадорится, а потом и в постель можно. Можешь ей сказать, мол, что мы можем подтвердить: СПИДа у него нет, так что она может спокойно и смело поднимать уровень разговоров о любви до самых захватывающих пределов.
– Шеф, но откуда нам знать, есть у него СПИД иди нет? Ведь такой скот похотливый, разъезжает по разным странам, поди узнай, намотал он что или нет, мы же гарантировать не можем, – распереживался Хэ Жэньцзи.
– А ты на словах от своего имени заверь. Слова, они слова и есть, чего бояться-то, у тебя ведь с ней отношений, наверное, не было! Выяснится, что СПИД есть, отступимся, найдем другой подход, а нет – так и будем действовать. Видеть ничего не видели, а бывает ли такая удача, что ей привалила, – это ж все равно что мертвому из могилы выкарабкаться, – стоит ей рисковать или не стоит – нас не касается. Мы на это дело поставили, авось и выгорит, выбора у нас нет. – И я похлопал его по плечу: – Хэ Жэньцзи, женщин вокруг полно, смотри не втюрься.
– Такого нет, шеф, с Сяо Чжан лишь познакомился, и все. Все устрою, не беспокойся. – Увидев, что я вон уже как заговорил, он понял, что и ему отступать некуда.
Вопрос вроде обсудили до конца. Но Хэ Жэньцзи, похоже, ушел с тяжелым сердцем. Видать, что-то с Сяо Чжан у него было, но по сравнению с тем, будет ли процветать или нет компания, эти отношения сущий пустяк. Когда я об этом подумал, как раз позвонил Хэ Жэньцзи:
– Шеф, вот еще что: этот эксперт-геолог Фан Ян уже уехал в командировку, говорит, сначала проконсультируется во Всекитайском управлении земельных угодий и добычи полезных ископаемых. Слышал от человека, с которым проводил геологические изыскания в Тибете, что тот находил подобные камни, когда работал в Цинхае[22]. Сегодня Фан Ян уже улетел в Чэнду[23], а завтра летит в Синин. Будут новости, срочно передаст.
Наверное, Хэ Жэньцзи еще в лифте, сигнал не совсем четкий. Почему он не вернулся, чтобы сказать об этом? Скорее всего, это еще одно доказательство, что с Сяо Чжан у него и впрямь что-то было. Ну и славно! Пусть помучается! Муки муками, а дело делом. Этим Хэ Жэньцзи и отличается. Это я очень ценю.
Через двадцать минут снова позвонил, уже встретился с начальником уезда и партсекретарем уезда А. На своем джипе «мицубиси» проехался по нескольким городкам уезда. Условия не сказать чтобы хорошие, но руководители уезда заявили, что, если компания инвестирует средства, будет осуществляться всемерная координация. По общенациональной классификации уезд считается бедным, на этом основании они специально создали управление по привлечению инвестиций и якобы могут использовать наши будущие вложения по данному проекту для обращения за кредитом в государственный фонд борьбы с бедностью. Обязуются передать на выбор земли тридцати населенных пунктов уезда.
Лишний раз убедился, что у Хэ Жэньцзи с Сяо Чжан что-то было. Иначе разве он уехал бы из главного офиса, когда мы еще не все обговорили? Про себя я тоже переживал. Однажды видел Сяо Чжан, когда она приходила в компанию. Хэ Жэньцзи весь сиял, представляя ее, мол, прима ансамбля песни и пляски. Тогда я понятия не имел, кто она такая, а про себя подумал: «Мало ли прим в ансамблях песни и пляски?». Красивая – да, особенно фигура, просто обольстительница. Осиная талия, зад вздымается, круглый, пышный, на Востоке женщины с такой фигурой редкость. Я тогда даже засомневался: не полукровка ли она? С таким милым лицом, ну прямо молодая уйгурская красавица из Синьцзяна – просто природная красота. В таких влюбляются с первого взгляда. Эх, Хэ Жэньцзи, мучаешь ты себя, даже немного жалко стало.
Этого начальника уезда А я видел, зовут его вроде бы Се Цзялу. Тридцать с небольшим, из тех, у кого руки чешутся что-нибудь сделать. Партсекретаря зовут Ли Те, он постарше, лет пятьдесят. Говорят, стреляный воробей, с ним так просто не поладишь. К счастью, он земляк моего однополчанина Гун Цичжи, теперешнего замначальника городского управления общественной безопасности. Однажды, наведавшись в уездный город, Гун Цичжи закатил ему банкет, в общем, пообщались. Хоть уезд А и считается бедным, по сравнению с остальными уездами подобной классификации за последние несколько лет дела у них идут довольно неплохо. Начальник уезда с партсекретарем действуют сплоченно, и после нескольких лет хозяйствования, как ни странно, покончили с нищетой. В прошлом году в провинции собирались вывести уезд из числа бедных, об этом мне нечаянно проговорился заместитель секретаря провинциального правительства Лу Дэ. Новость чрезвычайно важная, я тут же сообщил об этом по телефону уездному партсекретарю, и сразу же забыл про эту мимолетную услугу. Совершенно не думал – на пользу это или нет. Кто знал, что через год придется реализовывать у них проект по развитию базы экологически чистых продуктов. Ведь как удачно, похоже, постоянно оказывать мимолетные услуги – штука полезная: а ну как попадешь в самую точку? Когда имеется такая основа, с первых слов возникает взаимное доверие. По раскрытой мной информации он уже понял, что я здесь не случайно, и прощупывать меня не нужно. Но и для уезда А эта информация чрезвычайно важна: шутка ли, не станет же бедный уезд упускать такую льготную политику! Недавно на собрании руководства уезда они приняли решение направить Се Цзялу в провинциальный центр. Ведь нельзя допустить, чтобы с уезда сняли ярлык бедного. По крайней мере, участники этого заседания посчитали, что так не годится. Еще им хотелось, чтобы о них, как о бедном уезде, побольше писали в газетах. Се Цзялу несколько месяцев обивал пороги в провинциальном центре и в конце концов добился отсрочки снятия этого статуса. Конечно, я тоже наставлял его, что и как делать. Для уезда это было грандиозное событие, а раз грандиозное событие, значит, нужно отметить, и если бы руководство уезда отметило это в своем кругу, все было бы шито-крыто. Но кто бы мог подумать, что этот паршивец Се Цзялу станет выпячивать свои заслуги? На общем собрании руководства и кадровых работников всего уезда он заявил, взволнованно размахивая руками: «Хочу сообщить всем хорошую новость: мы остаемся бедным уездом».
Не стань эти слова достоянием многих, на этом все бы и закончилось, но слова разнесли, да еще как есть. «Хочу сообщить всем хорошую новость: мы остаемся бедным уездом» – эти слова вынесла в заголовок одна гуанчжоуская газета, выходящая немалым тиражом.
Вопрос раздули, ладно, если бы дело ограничилось наказанием на уровне уезда или провинции. Так нет, постепенно материалы об этом появились во влиятельных газетах других провинций, а это все равно что разворошить осиное гнездо.
Снять ярлык бедного уезда – дело хорошее, и руководители уезда это признавали. Но уезд оставался бедным, и уездное начальство продолжало рассчитывать на это как на фундамент для возведения многоэтажного здания – для всего уезда это было выгодно. В этом вопросе нужно было лишь понимание друг друга без слов. А как все разошлось да появилось в газетах, народ стал вопрошать: а почему этот уезд считается бедным? Они не стыдятся, наоборот, гордятся этим. Невысок идейный уровень у тамошнего начальника, если он смеет нагло заявлять во всеуслышание, что мы, мол, остаемся бедным уездом. Как будто можно этим гордиться! Если в стране все уездные начальники до такого докатятся, будет не государство, а одно название. Если сразу не воспользоваться отзывами о руководстве уезда А, которые звучат со всех сторон, возможно, не представится случая изменить неприемлемую позицию постоянного комитета уезда. По сути дела, члены постоянного комитета понимают, что это тайные козни не входящего в комитет заместителя начальника уезда, но тут уж ничего не попишешь. При теперешней структуре занимающий должность того же уровня не может снять заместителя, это возможно лишь после обращения на уровень выше. Таким образом, вполне вероятны поступки, не соответствующие статусу настоящих заместителей, это может выражаться в том, что заместители перестанут подчиняться начальнику, даже будут поступать вопреки его указаниям, и если у тебя, у начальника, нет возможности с ним справиться, как тут надеяться, что он вмиг станет вести себя надлежащим образом?
В расстроенных чувствах начальник уезда Се Цзялу приехал в провинциальный центр и напился с горя в моем ресторане «Цилисян». Там он встретил Ду Цзюаньхун. Она подкинула ему одну идею, у него тут же будто пелена с глаз спала, и он стал действовать, как велено. Прошло немного времени, и все крупные средства массовой информации провинции сообщили, что в сплоченной тяжелой борьбе руководство уезда А навело порядок в этом бедном уезде. Сразу посыпались сообщения, очерки, эксклюзивные интервью, репортажи, а так как шуму от основных местных СМИ было, конечно, больше, чем от провинциальных, вскоре это дело, почитай, было закрыто.
7
Не дождавшись звонка в условленное время, Наньлань примчалась ко мне в офис, но в кабинет ее не пустила Ду Цзюаньхун. Из-за неплотно прикрытой двери в мой кабинет председателя совета директоров было слышно, о чем они говорили.
– Мне нужен Сяо Цзыбэй, – заявила Наньлань.
Думаю, когда она произносила это имя, ее лицо наверняка дышало высокомерием. Она хоть и видела Ду Цзюаньхун пару раз, но знала, что ее на кривой не объедешь, а еще ей было известно с моих слов, что та – моя правая рука. Знала Наньлань и то, что Ду Цзюаньхун никогда ее не видела, так что могла без обиняков, на равных выражать желание увидеть Сяо Цзыбэя. Она хотела видеть не председателя совета директоров Сяо или начальника Сяо, одно это говорило об ее особенном статусе. Значит, она или родственница, или жена, или одна из однополчан, или старая подруга.
Ду Цзюаньхун тут же прикинула: во-первых, не родственница, во-вторых, не жена и не из однополчан. Старинная подруга? По возрасту не очень-то подходит. Даже если в какой-то степени допустить, что их связывает нечто особенное. Ведь может быть нечто особенное у нее самой, Ду Цзюаньхун. Она и жила рядом столько лет, и отношения у них братские, опять же их отношения начальника и подчиненного – как ни крути, все посолиднее, чем у этой стоящей перед ней женщины. Поэтому Ду Цзюаньхун вовсе не собиралась считаться с посетительницей.
– Начальника нет на месте, – повысила она голос. – Если у вас к нему дело, можете позвонить и записаться на прием. Пожалуйста, оставьте ваше имя, телефон. – И собралась выпроводить Нань-лань.
Похоже, та плюхнулась на диван для посетителей в приемной и затеяла холодную войну с Ду Цзюаньхун. Довольно долго не было слышно ни звука, и я подумал: «Ду Цзюаньхун тоже девочка крутая, хоть и оставила Наньлань в покое, а дело свое знает».
«Надо бы выйти», – мелькнула мысль. Кто знает, какие неприятности могут стоять за этим их кратковременным молчанием. Настроение было паршивое. «Вот ведь паразитка! – злился я. – Сколько раз предупреждал: не надо заходить за мной прямо в офис, а она возьми и заявись». Выходить я вовсе не собирался, еще немного, и Ду Цзюаньхун может вызвать полицию, чтобы ее увели. Но если подумать, такое, конечно, не годится. Ведь Ду Цзюаньхун знает, что я слышу, о чем они говорят, а если она на время замолчала, то только чтобы узнать мою реакцию. Если никакой реакции не последует, она поймет, что я не хочу видеть этого посетителя, и через какое-то время может предложить ей уйти. «И подобный итог обернется для меня целой грозой, – думал я. – От грозы любовницы насквозь не промокнешь и не простудишься, но дискомфорт ощутишь, и кому это надо?» Кроме того, Наньлань несколько раз звонила на мобильный, я был плотно занят и не дал согласия встретиться. Если она примчалась в компанию, повод должен быть важным. С этими мыслями я вышел, изобразив, как удивлен, встретив человека после долгой разлуки.
– О, давненько не виделись, каким ветром тебя занесло? – обратился я к Наньлань. И, не дожидаясь ответа, подошел, взял за руку и потряс, как старой приятельнице. А потом представил ее Ду Цзюаньхун: – Это госпожа Наньлань, солистка городского ансамбля песни и пляски, поет – заслушаешься, очень хорошо, очень.
– A-а, госпожа Наньлань! – улыбнулась Ду Цзюаньхун. – Имя незнакомое, а вот лицо очень знакомое, очень.
Услышав славословия Ду Цзюаньхун в свой адрес, Наньлань радостно разулыбалась, встала с дивана, пожала ей руку и тоже стала осыпать комплиментами:
– Барышня Ду – человек больших способностей, давно уже слышала это от вашего начальника Сяо, слышала, да…
Мы все трое с особым ударением произнесли последние слова и повторяли их раз за разом. Это казалось как бы естественным, но на самом деле ничего естественного в этом не было. Наньлань знай себе твердила «слышала, слышала». Говорила она от всей души, а послушать мои «очень хорошо, очень», так сразу чувствуешь фальшь. Только вот Наньлань этого не уловила, а Ду Цзюаньхун почувствовала наверняка. Ее «лицо очень знакомое, очень» было сказано совсем не затем, чтобы засвидетельствовать частое появление Наньлань на артистических подмостках. Она имела в виду другое: ничего особенного в таких смазливых личиках нет. А если нет ничего особенного, значит, и природных качеств немного. Таких лиц в этом мире пруд пруди, особенно в телесериалах, как гласит поговорка: «Много пьес не наберется, а красотка подвернется». Но эти красотки как появятся – все почти на одно лицо, никакой изюминки, так что и пьеса не пьеса.
А Наньлань если действительно не услышала этого, то чего тогда радостно улыбаться? Произнося это свое «лицо очень знакомое, очень», Ду Цзюаньхун еще сощурилась в мою сторону, величественно, как статуя, и кольнула мою подругу высокомерно-снисходительным взглядом: надо же – моя подруга. Я понимал, что сейчас она еще не осознает, что перед ней моя любовница. Понимай она это, она не стала бы злиться, а тут же отвезла бы меня к ней.
«Пора эту комедию заканчивать», – подумал я. И сказал:
– Слушай, Наньлань! О твоем деле я не забыл, давай позвоню руководителю труппы.
– Начальник Сяо, дело срочное! – заявила она. – Нужно сейчас же поехать со мной, речь о выезде за границу на гастроли, только на тебя и надежда.
«Вот паразитка, умеет переигрывать на ходу!».
– Ладно-ладно! – согласился я. – Сейчас съездим к твоему руководителю. – И, будто в страшной спешке, уехал из офиса.
Конечно, ни к какому руководителю ансамбля песни и пляски мы не поехали. Наньлань давно уже ушла оттуда, теперешнего руководителя она знать не знала, а я тем паче. Так что я отвез ее на «мерседесе» на загородную дачу. По дороге она не сказала ни слова, я тоже молчал, оба сидели надувшись и ожидая скандала, который разразится, как только мы переступим порог.
Мы вошли в дом, но никакого скандала не произошло. Наньлань скинула туфли на высоком каблуке и, не переодеваясь, плюхнулась на диван в гостиной. Это было непохоже на нее, потому что каждый раз, когда мы с ней приезжали, она всегда снимала тщательно подобранный в цвет плащ и надевала свободную будничную одежду. Я, конечно, тоже не стал снимать костюм, чтобы не расслабляться и не терять время. Ведь потом опять придется одеваться.
Наньлань сидела на диване, и на лице у нее было написано возмущение:
– Какой ты бессовестный, зачем ты направил на это дело Чжан Хун!
– Чжан Хун? – удивился я. – На какое такое дело? Кто это вообще?
Наньлань вскочила и хотела царапнуть меня. Не знаю почему ее рука застыла в воздухе. Может, заметила у меня на тыльной стороне ладони следы ее ногтей, оставленные в прошлый раз?
– Чжан Хун, – продолжала она, усевшись обратно, – это ведущая танцовщица нашего ансамбля, в последние годы ситуация в труппе не ах, но и вы не должны так тиранить людей.
Только после этих слов я вспомнил, кто такая Чжан Хун. Не та ли это Сяо Чжан, с помощью которой мы с Хэ Жэньцзи готовим «ловушку с красавицей»?
– Это дела компании, и тебе туда соваться не следует. И у нас вообще-то с самого начала существует соглашение.
– Я не могу не соваться, ведь это я познакомила ее с начальником Хэ, – взволнованно заявила Наньлань. – И только договорив, осознала, что посвятила меня в то, чего мне знать не следовало, и продолжать не посмела.
Да, проболталась она, кто бы мог подумать, что она осмелится за моей спиной знакомить женщину с моим подчиненным, да еще с ближайшим помощником, которым я дорожу? А я-то думал, что она скрыта достаточно надежно, в компании никто о ней не знает, даже Ду Цзюаньхун. Еще, бывало, радовался, на каком уровне у меня «золотое гнездышко». И думать не думал, что она, оказывается, знакома с Хэ Жэньцзи. И он никогда не говорил, что знает ее. Как гласит древняя заповедь, которую я любил поминать: «Если не хочешь, чтобы узнали о твоих тайных деяниях, не совершай их». Я предчувствовал, что в один прекрасный день о существовании Наньлань станет известно, но мне и в голову не приходило, что первым о ней узнает Хэ Жэньцзи. Что ни говори, первым ее должна была обнаружить Ду Цзюаньхун! Как это удалось Хэ Жэньцзи? Надо же какие таланты у паршивца, похоже, следует взглянуть на него другими глазами.
Наньлань видела, что я долго молчу, и в душе у нее наверняка рос страх. Она, должно быть, уже знала, что это предвещает мой гнев. Потому что между нами давно существовала договоренность: она не может появляться в компании и тем более заводить знакомство с кем-либо из работников. Что же говорить об отношениях, которые она взяла да и завела с моим ближайшим помощником Хэ Жэньцзи! И эти отношения, похоже, продолжаются не день и не два. Еще и подругу с Хэ Жэньцзи познакомила, а это, мать ее, вообще ни в какие ворота не лезет!
Лицо мое продолжало мрачнеть, и я понимал, что при взгляде на него Наньлань охватывает настоящий ужас. «Умерь гнев, – говорю я про себя, – умерь гнев». Гнев и впрямь удалось подавить, хоть сдержался я с большим трудом, но выражение лица постепенно стало спокойнее. Я считал, что теперь, когда оно смягчилось, Наньлань сможет расслабиться и выложить, как все было на самом деле. Тут она вроде и впрямь почувствовала, что страх отпустил, и гроза моего гнева уже не разразится. «А раз этого не случилось, раз переживания от совершенного промаха прошли, должна откровенно признаться», – думал я.
Через какое-то время она действительно заговорила, не поднимая головы, и выложила все начистоту:
– Сначала с начальником Хэ познакомилась Чжан Хун. В прошлом году участвовала в представлении, он был просто в восторге, тогда с ним и я познакомилась. Когда она сказала, что он – управляющий корпорации «Боши», я еще подумала: «Разве не ты управляющий этой корпорации?» Конечно, она сказала неправду, и я, затащив ее в другую комнату, высказала свои сомнения. Тут она и призналась, что Хэ – заместитель управляющего. Тогда они еще не были в близких отношениях, потом я их сосватала, ну они и закрутили. – Наньлань подняла голову и глянула на меня. Увидев, что я никак не реагирую, продолжала: – Но управляющий Хэ не знает о наших с тобой отношениях. Он знает лишь, что мы с Чжан Хун вместе работаем.
Ситуация уже прояснилась, и мне следовало что-то сказать. Я тем и силен, что, не разобравшись в обстоятельствах дела, вообще ничего не говорю. Ни слова от меня не услышишь, пока я не обмозгую любой вопрос как следует, это один из моих тактических приемов. Я предоставляю говорить другим, чтобы они высказались, а сам в это время смекаю, как следует поступить. И вот сейчас время пришло.
– Ты, Наньлань, мои принципы знаешь, – заговорил я. – Я никогда и не думал на тебя сердиться, что бы ты ни делала, и никак не хотел, чтобы мы стали врагами. Так и быть, пока поверю твоим словам!
Я примиряюще потянул ее к себе, полагая, что она, как обычно, маленькой птичкой устроится у меня на груди, и дело, считай, закрыто. Но она отпихнула плечом протянутую к ней руку:
– Сяо Цзыбэй, ты не можешь быть таким бессердечным к управляющему Хэ. Человек за тебя в огонь и в воду, на все готов, а ты из его любимой женщины приманку сделать хочешь! Так ты и меня в один прекрасный день используешь для западни! – Проговорив это, она одной рукой обхватила меня за талию и уткнулась головой мне в грудь. Ее длинные волосы развевались под струей воздуха из кондиционера, несколько волосков попали в ухо, и оно зачесалось.
– Чжан Хун – его любимая женщина? – удивился я. – Что же он ничего не сказал?
– Да, без всякого сомнения, вчера управляющий Хэ говорил с ней, говорил, чтобы она пожертвовала собой, мол, компания сейчас переживает критический момент, якобы такое негодное средство и есть единственный выход. Они, наверное, сидели, стиснув руками голову, и рыдали!
Когда я услышал это, меня охватила радость: вот ведь каков паршивец Хэ Жэньцзи – говорит, у него с этой актрисой любовь, а сам вон как играть научился, да еще так правдоподобно! Уметь использовать женщину – одно из проявлений таланта мужчины.
– Не хочешь ли ты сказать, что они прямо здесь сидели и рыдали? – подтрунил я.
– Что ты, как можно, ты же сказал, что здесь никому появляться не разрешается, как я посмею! Они у себя, в своем доме.
«Они у себя, в своем доме». Я был потрясен. Так, значит, Хэ Жэньцзи дом ей купил. Видать, крепко запала ему в душу эта Чжан Хун, иначе бы он так не поступил.
– И где этот дом? – сказал я вслух. – Дорогой?
– В микрорайоне Синьсин, двухэтажная квартира, где-то сто пятьдесят квадратных метров.
«Эх, Хэ Жэньцзи, Хэ Жэньцзи, – расстроился я, – что ж ты мне про все это не сказал? Разве я согласился устраивать ловушку с помощью Чжан Хун? Мне этот дом обошелся больше чем в двести тысяч, а тебе пришлось вложиться по меньшей мере тысяч на четыреста, да еще на отношения».
После переживаний я забеспокоился: ведь боевой товарищ! Мы же, Хэ Жэньцзи, братья, как можно из возлюбленной ловушку устраивать? Красоток вокруг хоть отбавляй, взял другую – и дело с концом.
Я взял телефон и собрался звонить ему.
«Что-то не так, что-то не так», – зазвенело в ушах. Это, должно быть, голос разума. Странная штука этот разум, наверное, что-то вроде мудрости, той самой заложенной во мне мудрости, которая говорила: нельзя поступать по велению чувств. И вот я стал размышлять на перепутье между разумом и мудростью. Во-первых, Хэ Жэньцзи ничего не сказал мне. С какой стати мне первому об этом заговаривать? Во-вторых, зачем еще до того, как я велел ему устроить «ловушку с красавицей», он уже приводил Чжан Хун на встречу с этим тайваньским коммерсантом? Как-то это все непросто и неясно почему. Непонятно, что Хэ Жэньцзи затеял, и почему я должен действовать импульсивно, опираясь лишь на слова Наньлань? И, в-третьих, когда я предложил Сяо Чжан для решения проблемы с тайваньцем, выражение лица у него было немного странным, но эта странность была едва заметна. Это позволило мне заключить: постельные развлечения с женщиной продолжались довольно долго, они уже вылились в какие-то чувства. Даже если эти отношения ей наскучили, они могут продолжать в некоей необычной форме, пока она действительно не оттолкнет его. Ничего удивительного, поэтому тогда я и не остановил его. Женщин для постельных дел полно, Хэ Жэньцзи найдет себе другую, и снова изобразить притворную любовь ему будет несложно. Выдающийся актер не может играть все время с одной и той же актрисой. Так что, цену я тогда установил слишком низкую – всего пятьдесят тысяч. Если взглянуть на это теперь, такая сумма могла показаться Хэ Жэньцзи настолько унизительной, что он сел и зарыдал, обхватив голову руками. Ведь он мог дать ей гораздо больше или купить для этой ловушки другую красотку! Да и слезы – это так не похоже на Хэ Жэньцзи! – должны стоить по меньшей мере несколько миллионов, во всяком случае я так думаю. Если он однажды подойдет ко мне со слезами и скажет: «Шеф, мы столько лет сражались вместе, но вот приходится расставаться, вечных партнеров не бывает». Я могу выделить ему одно из предприятий, как раз несколько миллионов и выйдет, но чтобы Хэ Жэньцзи перед бабой слезы проливал – разве такое возможно? Есть хоть крупица правды в этих слезах?
Хэ Жэньцзи вообще парень что надо, мы с ним не один пуд соли съели. И под пулями вместе были. Даже когда мы многократно атаковали переходившую из рук в руки высотку и потеряли немало своих закадычных друзей, он тоже слез не лил, лишь глаза покраснели, а когда он устремился на зачистку высотки, притаившийся в расщелине коротышка распорол ему кинжалом живот. На какой-то миг Хэ Жэньцзи застыл от боли – в глазах по-прежнему ни слезинки, – а потом, пылая гневом, свалил врага прикладом и не успокоился, пока шесть раз не пронзил штыком. Весь заляпанный вражеской кровью, он обливался и своей. Когда его доставили в полевой госпиталь, все посчитали, что худо дело – все тело в крови, живого места нет. Врач сказал, мол, ничего не поделаешь, брюшная полость полна крови. Я рассвирепел, вытащил пистолет да как пальну в воздух. Настоял-таки, чтобы врач приступал к лечению. Не спасешь, говорю, вот из этого пистолета и пристрелю! Тот с перепугу стал срочно принимать все меры, хотя ясно понимал, что шансы на спасение невелики. Но случилось чудо, видать, суждено было этому паршивцу пожить со мной еще.
Он не думал о том, что я вмешался в промысел судьбы и спас ему жизнь, и, придя в себя, тоже не уронил ни слезинки. Потом, когда к нему приехала мать и рыдая ощупывала шрам от кинжала почти в чи[24] длиной, он тоже не плакал. Его слезы, наверное, должны потрясти мир. Ну не так все, мать его, не так! Чтобы Хэ Жэньцзи сидел и рыдал вместе с этой Чжан Хун – ну никак это, мать его, не может быть правдой! При этой мысли захотелось тут же отчехвостить Нань-лань. Но в конечном итоге я даже рта не раскрыл, чтобы выругаться, шмякнул телефонную трубку в гнездо, заграбастал Наньлань, как цыпленка, втащил в спальню и бросил на кровать. Если бы из-за меня ее щеки не заполыхали, как цветки персика, она никогда и не поняла бы, отчего эти цветки такие красные.
После всего Наньлань с таким же пламенеющим лицом направилась в ванную. Потом туда зашел и я: она стояла и разглядывала себя в зеркале. Не обращая на нее внимания, я проследовал прямиком в туалетную комнату, а когда вышел оттуда, и слова не сказал. Вернувшись в спальню, оделся – все это заняло не больше пары минут. Так быстро одеваются в армии, до сих пор сохранилась эта привычка. Вышел из спальни, выпил бутылку молока – одна минута, потом прошел через гостиную в гараж, завел машину и выехал из ворот – на все про все не больше трех минут. Наньлань наверняка раньше минут десяти из ванной не выйдет. Почему женщины так долго торчат в туалете, не понимаю да и понимать не хочу, но это дает достаточно времени, чтобы устроить небольшую потеху. Вот выйдет, не увидит меня и будет сидеть в гостиной и гадать, что у меня на уме и почему я так себя повел. К этому времени я уже приехал к жене. Приехав, тут же поставил на телефон другую SIM-карту, чтобы не слышать ее звонков, если позвонит. Поговорил с сыном о звездах спорта, послушал рассказ жены о последних телесериалах, так что думать о Наньлань было некогда. Так и получился прекрасный вечер в семейном кругу. А ей остались превратности судьбы и эти тупые телесериалы. «Вот и поделом», – думал я.
8
Пришла хорошая новость. Я как раз пил чай с Ван Гуанчжи, вицемэром, который отвечал за сельское хозяйство. На три звонка мобильного я не ответил, а на четвертый вообще отключил. Отключая, увидел, что звонит Ду Цзюаньхун, а она, я знаю, из-за ерунды беспрестанно названивать не будет. Но не мог же я отвечать на звонок в присутствии вице-мэра, проявлять такую невежливость! Дождался окончания четвертого звонка и выключил телефон, показывая таким образом, что беседа с мэром – это не то что разговор с кем-то еще, демонстрируя искренность и уважение к собеседнику.
Этим звонком, на который я не мог ответить, Ду Цзюаньхун наверняка хотела сообщить что-то срочное, но, что бы то ни было, сначала нужно доиграть спектакль с уважаемым вице-мэром. Через какое-то время я сказал, что отлучусь в туалет, и перезвонил по мобильному Ду Цзюаньхун. Новость была вдохновляющей. Оказывается, Ван Дунфан сообщил о звонке Фан Яна из Цинхая. Красный камень таки нашли, почти такой же, как тайваньский розовый, но с более сочной окраской. Местные называют его яшмой «цветок персика».
– Хорошо, – сказал я. – Я еще с вице-мэром. Как закончу, найду тебя.
С сияющим лицом я вернулся в отдельный кабинет ресторана. Вицемэр Ван и девица, специалист по чайной церемонии, обсуждали способы заварки чая «лунцзин». Судя по тому, как увлеченно они это делали, я понял, что этот паршивец Ван Гуанчжи никакой не любитель «чайного дао» – воспитания духа изысканным вкусом к чаю, ему больше по нраву покорность и застенчивость девицы.
Этого Ван Гуанчжи повысили совсем недавно и перевели в городское правительство с поста партсекретаря города, а когда новый чиновник вступает в должность, в нем предостаточно высокомерия, еще и не договоришься о встрече. Несколько раз договаривались, но встреча так и не состоялась, пока ему не позвонил сын Чжуна, замсекретаря парторганизации всей провинции, и не сказал, что я свой. Только тогда он и согласился. Сперва я хотел залучить его в «Ааобинчэн», чтобы он подразвлекся как следует с дунбэйскими[25] красотками. Не думал, что с первого раза этот тип общаться не станет. Ему непременно чаю подавай. Оставалось лишь примириться с этакой утонченностью. Только назначили паршивца, а ему-то всего сорок с небольшим, младше меня на восемь лет! Про меня-то он был наслышан, а вот мне про него, естественно, многое было неясно. Спешить он, конечно, не станет. Хоть к красоткам неравнодушен, но не может же он сразу показать свое истинное похотливое обличье! Надо что-то и оставить, первый раз встречаемся все-таки. Вот мы и зашли в лучшую в городе чайную «Дагуаньюань»[26]. Этот паршивец не успел войти, как тут же заявил:
– Эх, управляющий Сяо! Открытая тобой, дружище, чайная великолепна, да, а вот духа литературы не хватает! Коли уж выбрал такое название – «Дагуаньюань» – должен присутствовать стиль «красного терема». Взять хотя бы иероглифы: тут рука одного мастера, там другого, просто неприлично, да и стихи не из романа. А картины: на одной стене птицы, на другой – лошади, куда же это годится! На мой взгляд, лучше было бы заменить стихи на те, что в романе, картины же – всех этих птиц и лошадей не надо, заменить все на «Двенадцать шпилек из Цзинлина»[27]. Название комнаты тоже не очень, думаю, нужно сменить. И при чем здесь «мерседесы», БМВ, «линкольны», это же не автовыставка. Поменять на стихи из «Сна в красном тереме», и славно!
Глядя на его потуги изобразить человека образованного, знатока изящных искусств, я в душе знай посмеивался. Сегодня у него перебор вышел, заигрался он в эстета, а тут с ним какой-то солдафон. Только вот у солдафона от всех «ведь» и «же», которыми этот эстет пересыпает свою речь, даже кожа на голове онемела[28]. Я тут же подозвал девицу-метрдотеля и велел сходить за управляющим Ли. Тотчас, радостно виляя задом, прибежал Ли Чэнфан и, поднося сигарету, залебезил:
– Мэр у нас воистину человек высокообразованный, абсолютно верно, подчиненные мои подзагнили, образования маловато, ой маловато, завтра же все поменяем, завтра же. Это я обожаю любоваться машинами, вот подчиненные так комнату и назвали. Это они, видать, чтобы мне угодить. Низкопоклонством нельзя наслаждаться как попало, можно и ошибку допустить. На этот раз моя ошибка велика. Если бы не мудрые слова мэра, так ничего бы и не понял. Премного благодарен, премного благодарен. – И договорив, расплылся в улыбке до ушей.
Так и хотелось дать ему пинка, чтобы свалился. «Что же ты, мать твою – говоришь, что подчиненные перед тобой низкопоклонничают, а сам перед вице-мэром стелешься? Да еще, мать твою, “вице” добавить забываешь? Повилял хвостом и проваливай, занимайся своими делами, здесь тебе делать нечего, давай, чтобы в момент тебя здесь не было». Пока я так ярился про себя, Ли Чэнфан рассыпался перед мэром, приглашая проследовать в самый лучший кабинет, и одновременно велел метрдотелю приготовить его и заварить лучшего чаю. Потом подмигнул мне и удалился.
Мы с Ван Гуанчжи прошли в другой кабинет, но о базе экологически чистых продуктов так и не заговаривали. Мы понимали друг друга без слов, он чувствовал, что не позволить мне осуществить этот проект у него не получится. Не стоит и устраивать конкурентную борьбу, чтобы отобрать его у меня, потому что слишком у многих это вызовет неудовольствие. Я, конечно, тоже понимал, пусть сила велика и мне помогают высокопоставленные лица, которых он знает, нужно одолеть этот барьер, чиновник не то что уездное начальство[29]. Мы оба четко понимали это. Я осмотрительно пытался переиграть его, он тоже осмотрительно на это реагировал. Никто не знал, что у противника на руках, каждый наблюдал, кто с какой карты пойдет, и нельзя было опрометчиво раскрывать их. По сути дела, расклад каждого был известен, поэтому, раскрыта карта или нет, особого смысла не имело. Тут все дело в психологии: кто первый не выдержит, заговорит о главном, вытащит тот самый козырь, о котором и тот и другой прекрасно знают.
Тем не менее встреча уже показала, что линия, которой мы оба придерживаемся, одна, и это линия старика Чжуна, заместителя секретаря парткома по организационной работе. Вице-мэр это понимал, знал он и о наших со стариком отношениях. Не то чтобы эта встреча была сигналом от старика Чжуна, да и зачем ему давать такой сигнал? Достаточно одного слова его сына. Все в этом замешаны, неужели он этого не понимает? Старик Чжун, конечно, тоже не мог знать о таком деле слишком много.
Недавно назначенный на пост вице-мэра, этот Ван Гуанчжи уже преуспел в привлечении инвестиций, отдал много сил продовольственной базе городского населения. Сам я тоже не страдаю от недостатка пищи и одежды, но нужно думать и о скудной продуктовой корзине народа, и эта задача, если всеми силами не добиваться капиталовложений, очень велика. Но ведь все служат народу, так стоит ли беспокоить по этому поводу заместителя секретаря парткома провинции?
На самом деле нам сегодня незачем обсуждать базу экологически чистых продуктов, этот козырь у нас на руках, вопрос лишь в том, показывать его или нет. Сегодня только познакомимся, станем ближе. Впоследствии – раз мы оба придерживаемся одной линии – о любом деле можно долго и не разговаривать. Если во всем расставлять точки над 1, будет уже не тот уровень. А не будет уровня, то мы уже не сможем посидеть вместе, попивая чай и разговаривая о том о сем. Если не побеседовать сначала какое-то время за чаем с незнакомым человеком, разве это, мать его, не безумство? Ведь в это время могут позволять себе чего душа пожелает. Сумеет незнакомый человек пройти через эти церемонии, значит, это судьба, а судьба соединит длинной вьющейся лианой меня и множество таких, как он, чтобы всем расти и крепнуть.
Когда мы уселись, он перестал обсуждать чайную церемонию с девицей-экспертом, а с видом человека сведущего заявил:
– Управляющий Сяо, что-то больно долго ты в туалете сидел, наверняка дело какое!
«И впрямь вундеркинд этот паршивец, понял, что я звонить ходил». А вслух сказал:
– Ничего особенного, управляющий Ван из ювелирной компании докладывал о партии алмазов из Южной Африки, которую готовят выставить завтра на продажу, и спрашивал, не оставить ли один, и я сказал, мол, конечно, самый лучший. – Тут я замолчал, отложил мобильник и, взяв чашку, стал попивать чай. Потом обратился к девице сказав, что я в этом деле разбираюсь неплохо и заварю чай сам.
– Хорошо-хорошо, – согласилась она. И направилась к выходу. Дойдя до двери, обернулась: – Если господам что-то понадобится, прошу нажать на звонок вызова.
– Хорошо-хорошо, – откликнулся я.
Я сменил чайный лист, продемонстрировал, как должно, весь процесс заварки, разлил заваренный чай по чашкам, накрыл заварочный чайник крышкой и отставил на другой край чайного столика. Через некоторое время от чашек пошел аромат, я поднес одну под нос и повращал:
– Понюхайте, это тайваньский улун[30] – очень ароматный.
Ван Гуанчжи тоже взял чашку и нюхал, пока тонкий аромат чая не проник в ноздри и не дошел до души.
– Вашей невестке нести неудобно с рынка, завтра накажу малышке Ду прислать несколько сортов, пусть выберет, – сказал я.
Ван Гуанчжи принюхивался шумно, слегка приподняв голову и не отрывая губ от края чашки, чтобы насладиться ароматом. Казалось, он хотел что-то сказать, но края чашки мешали. Возможно, он хотел или отказаться, или выразить благодарность, но, когда эти слова готовы были сорваться с губ, стало очевидно, что в них нет нужды. Он, конечно, понимал, о чем я заговорил, знал он, и что алмазы эти очень редкие. Нужно ли одному из отростков лианы говорить на языке двух семей? Хоть это и первая встреча.
Видя, что пора заканчивать, я поднял чашку и стал шумно прихлебывать маленькими глотками. Когда зеленовато-желтая жидкость, достигнув кадыка, устремилась к желудку, а затем вернулась назад к кадыку, приятно щекоча горло, я протянул руку и нажал на кнопку вызова.
Постучав, вошла официантка.
– Барышня, счет, пожалуйста, – сказал я.
Официантка ушла.
За это время я почувствовал в Ван Гуанчжи человека степенного. Такой не станет, как некоторые, говорить слова благодарности, которые следует говорить при прощании, и выражать пожелания. Судя по всему, это большой мастер, и уровень его как чиновника очень высок. Возможно, впоследствии далеко пойдет. Слова благодарности, конечно, пустая болтовня, ему не за что быть благодарным, это я должен быть признателен, что он согласился прийти на чай. Обещания отблагодарить – тем более пустые слова, обещай он не обещай, это тоже не от него зависит. Сегодня он, подобно деревенщине, внезапно оказавшемуся у власти, которая вскружила ему голову, подобно не знающему, почем фунт лиха, невежественному чиновнику, может раздавать обещания направо и налево, и самое большее, что он может, это дорасти до этого уровня. В нем же высокий уровень уже чувствуется, похоже, это здоровый побег, и этому побегу расти и расти. Надо потом познакомиться с ним поближе, нельзя ждать, пока он вырастет слишком высоким.
Через пару минут вошла официантка:
– Тысяча двести юаней.
Я тут же полез за деньгами.
Но она добавила:
– Управляющий Ли сказал, что, он угощает, счета не будет.
Вот ублюдок этот Ли Чэнфан, ведь прекрасно знает, что когда я здесь пью, тоже никогда не плачу, я и счет попросил при Ван Гуанчжи для виду. А этот паршивец без обиняков решил одним выстрелом двух зайцев убить – и мне сделать одолжение, и Ван Гуанчжи. Ну, сукин сын Ли Чэнфан, окажешься в «Лаобинчэне», вот уж велю У Саньляну с тобой разобраться.
9
Образцы «цвета персика» прибыли самолетом. Когда я приехал на гранильное производство ювелирной компании, рабочие вскрывали упаковку, а рядом Ван Дунфан с главным инженером Фан Яном давали указания.
Увидев меня, Фан Ян не стал ждать, пока первым заговорит Ван Дунфан, и с таким видом, будто собирался присвоить чужие заслуги, принялся рассказывать:
– Такой камень добывают в северной части горного хребта Баян-хара, у нас в геологической петрологии он называется розовый углерод. Из-за гладкости и блеска в народе этот камень называют яшмой «цветок персика». Его можно использовать для производства браслетов, ожерелий, а также резных изделий. Сообщение там неудобное, размеры добычи на сегодня еще невелики. Этот минерал превосходит преподнесенный вам тайваньским коммерсантом розовый камень и по окраске.
– А по цене как? – поинтересовался я.
– Цена на руднике составляет семьсот, в Синине – тысяча двести юаней за тонну, – доложил Ван Дунфан.
– А тайваньский?
Ни Ван Дунфан, ни Фан Ян не нашлись, что ответить.
– Ну и как прикажете разговаривать с Хуан Хэ, если вы понятия не имеете о цене на Тайване?
– Когда Хуан Хэ преподнес вам этот камень с Тайваня, я с ним немного потрепался, – поспешил заявить Ван Дунфан, видя, что я начинаю распаляться. – И он проговорился, что камень стоит тридцать тысяч тайваньских долларов. Весит этот камешек примерно десять граммов, то есть три тысячи тайваньских долларов за грамм. Если перевести три тысячи тайваньских долларов в юани, получится почти тысяча юаней за грамм, соответственно, цена за тонну должна составлять где-то миллион юаней.
– Это цена уже готовой продукции, – добавил Фан Ян, – а мы говорим о цене на сырье. Цену, конечно, нужно хорошенько обмозговать, только потом можно обсуждать ее с этим тайваньцем. Завысишь – Хуан Хэ не согласится. Как тут быть? Судя по уровню обработки на Тайване, работа и материал у них обычно распределяется поровну. Таким образом, если из миллиона юаней – розничной цены – вычесть работу, то цена за тонну составит пятьсот тысяч. При оптовой торговле с розничными торговцами обрабатывающему производству нужно еще делать пятидесятипроцентную скидку – получаем двести пятьдесят тысяч юаней за тонну. Из этих двухсот пятидесяти тысяч вычитаем уголки и отходы, которые составляют примерно пятьдесят процентов от продукции на выходе, затем из этой же суммы нужно вычесть заработную плату. Что дает нам стоимость исходного материала в размере двенадцати целых пятидесяти тысячных юаня за тонну. Я тут проработал кое-какие материалы и обнаружил, что месторождение подобного камня на Тайване уже иссякло. По этому поводу я еще обратился к специалистам Всекитайского общества редких минералов, и их заключение совпадает с моим. Исходя из вышеприведенных данных тайваньская цена на сырье должна совсем ненамного расходиться с моей оценкой – двенадцать целых пятьдесят тысячных юаня за тонну. Если Хуан Хэ будет закупать у нас, а потом продавать на Тайване, следует предоставить ему всемерные возможности. Поэтому я рекомендую заявить цену в районе пятидесяти тысяч. При этом с вычетом транспортных расходов и других затрат он может заработать пятьдесят тысяч с тонны. Наша прибыль с тонны будет составлять около сорока пяти тысяч.
– Такая высокая доходность, точно? – Я сильно засомневался в выкладках Фан Яна: чтобы этот красный камешек и давал такую огромную прибыль!
– Редкие минералы – товар особенный, – сказал Фан Ян. – Их базовую цену определить невозможно, для этой разновидности даже департамент ценового регулирования может назвать лишь временную, не установленную твердо цену. Потому определить ее нельзя, все камни неодинаковы, себестоимость одного может составлять всего один юань, возможно, кто-то захочет продать его за десять тысяч, а камень себестоимостью десять тысяч ты можешь подарить кому-то, а он этому человеку, может, и не нужен. К примеру, фон этого камня – красный, но узор на его поверхности неповторим. Когда в этом камне много красного, а вкраплений немного, обычно его используют для изготовления браслетов, ожерелий, резных изделий. Среди вкраплений обычно преобладает черный цвет, есть и желтые, примешиваются и белые. Когда красный цвет основной, а вкрапления играют вспомогательную роль, при разрезании куска оригинального материала в основном получаются пластины толщиной восемь сантиметров, и есть возможность в полной мере продемонстрировать их узор. Получается естественный декоративный камень, в котором структура узоров образует целые картины природы, бесконечно красивые, в этом и состоит очарование редких минералов. Рекомендую эти камни не резать, а продавать Хуан Хэ как есть, в изначальном виде, потому что, не разрезав их, никто не узнает, что они собой представляют внутри. Это отчасти как в случае с сырьем жадеита, то, что называется «сделать ставку на камень», а народное название надреза на уголке – «открыть окно в небо». Это «окно в небо» обычно лазурное, с этого и начинается торговля о цене. Он называет заоблачную цену, ты в ответ – цену земную. И как только договорились, если при разрезании окажется, что материал без примесей, – прогорел, если проступает бирюзовый – значит, ты с большой прибылью. В этом и состоит прелесть «ставки на камень». Разрезать камень и позволять Хуан Хэ покупать выборочно для нас невыгодно. Лучше уж рисковать обоим. Если после разреза окажется, что рисунок особенно хорош, – в прибытке он. Нам тоже завидовать не стоит: если после разреза выявится, что в узоре ничего особенного, деньги он назад не получает, и нас обвинять не в чем.
– Ну, инженер Фан, спасибо за труды, распространяться обо всем этом не нужно, я знаю – и хорошо, можешь отдохнуть пару деньков.
– Да что там, какие труды. – Фан Ян прикусил язык, будто хотел еще что-то сказать, но передумал.
Я, конечно, не мог позволить ему говорить дальше и повернулся к Ван Дунфану:
– Управляющий Ван, инженер Фан подустал, передай в финансовый отдел, чтобы завтра перевели ему десять тысяч на кредитку «Великая Стена»[31], пусть попутешествует, расслабится немного. – И вышел в сопровождении Ду Цзюаньхун.
Вернувшись в офис, я тут же взял трубку и позвонил на мобильный Ван Дунфана:
– Дунфан? Это Сяо Цзыбэй.
– А, да, шеф, да, шеф, – затараторил он, ожидая, что я скажу дальше.
Было такое впечатление, что он польщен неожиданной честью, потому что уже не первый год дела в ювелирной компании шли не ах, ежегодная прибыль тоже составляла где-то пятьсот тысяч юаней. Я с самого начала не придавал ей большого значения и не часто вмешивался в дела. А тут сам приехал на производство, да еще лично позвонил и по-свойски назвал его по имени.
– Дунфан, – сказал я, – намотай на ус следующее. Первое: послезавтра инженер Фан должен отправиться в туристическую поездку, его нельзя допускать к участию в переговорах. Второе: содержание составленного инженером Фаном письменного отчета о командировке – все обстоятельства разысканий на руднике, месторасположение, цены, транспортная ситуация и тому подобное – нужно срочно переписать начисто со всеми подробностями и подать доклад об осуществимости данного проекта. Всего распечатай три экземпляра, один оставишь себе для архива, два пришлешь мне. В памяти компьютера этот документ не сохранять. Это сверхсекретная информация, и ее утечки нельзя допустить ни в коем случае. Если такое случится, спросим с тебя. Фан – человек ученый, надо понимать, говорит все как есть, но тебе следует со всей ясностью объяснить ему правила дисциплины в компании, в противном случае… – Я, конечно, не мог сказать по телефону, что будет в противном случае: – Хм! Ну, сам знаешь, что сказать, не мне тебя учить.
– Понятно, шеф. Однако, шеф, раз эта штука есть в Цинхае, думаю, что долго нам ее в секрете не сохранить. – Наверняка у него слегка взыграло воображение, и он перепугался, что, если утечка произойдет в Цинхае, деваться ему будет некуда, а он прекрасно представляет, как я обхожусь с теми, кто выдает тайны.
– Дунфан, – успокоил его я, – не надо падать духом, мне нужно всего полгода, самое меньшее три месяца, понятно? Три месяца, и довольно.
– Понятно, – пробормотал тот, – понятно.
Его предыдущую фразу я услышал довольно ясно, а последнюю – неразборчиво: видать, от долгого разговора у него ухо заболело и, перед тем как сказать последнюю фразу, он переложил трубку к другому.
– Завтра пришли разрезанный образец этого «персикового цветка», выбери самый лучший! – строго велел я.
– Хорошо-хорошо.
10
Лето. Сегодня оно и наступило.
Я сижу за рулем, машина мчится по шоссе.
Лета нам в этом городе бояться нечего, оно здесь как весна, и мне очень нравится. Везде распускаются цветы, воздух напоен благоуханием. В городах и деревнях севера мне не нравится – ширь да гладь, никакой изюминки. Как в Пекине: зимой холодина – околеешь, летом жарища – сдохнуть можно, вот я туда и не езжу, зачем мне такое наказание? Да еще некоторые пекинцы мне не по душе. Выходят из домов один за другим – ну чисто посланники императора, говорят один другого громче, просто противно. Поэтому, когда многие знакомые уезжают в Пекин на повышение, я еще больше стараюсь одолеть соблазн и не ехать. Да я и не считал, что, когда ты в бизнесе, ездить в Пекин придется хочешь не хочешь. Потом я туда все же ездил, но не по делам. Выбрал для этого весенний денек, Пекин был полон весенних красок, в воздухе даже плыли какие-то белые штуковины, похожие на комочки хлопка, казалось, все небо в них, раскрой рот, и точно залетит несколько. Я мало ходил по большим оживленным улицам, а взял в аренду велосипед и отправился в старинные переулочки, хутуны. Старички и старушки там, наоборот, очень приветливые. Расскажут, как куда пройти, только не говорят, направо или налево, у них все «на север», «на юг», «на восток», «на запад». А мне как быть, куда идти, если я по сторонам света не ориентируюсь? Взрослые девицы, когда говорят, пришепетывают так мило, ну совсем не так, как пекинцы, кого я встречал до того, те разговаривают, будто уже в почтенном возрасте. Испытал, что значит ездить в хутунах на велосипеде, сделал для себя вывод, что пекинцы, которые стараются перекричать друг друга, оказывается, все понаехали из других провинций. Как мои приятели, что несколько лет назад перебрались в Пекин, тоже, мать твою, изъяснялись на столичном говорке – южном диалекте с пекинским акцентом. Позвонили мне по телефону, я, конечно, сначала понимал, а потом сказал, мол, вы, мать-перемать, давайте говорите по-человечески, не выделывайтесь, а то мне аж нехорошо становится. Те, конечно, перешли на наш говор, и только тогда стало можно с ними говорить. А этот пришепетывающий местный диалект пекинцев как послушаешь – ощущение чего-то очень правильного, классического. На выезде из хутуна я спросил у одной старушки, что это за пушинки летают в небе. «Это цветки тополя», – прошамкала та с набитым ртом. Такая прелесть эта бабуля!
Вот я и в офисе. Несколько человек что-то переставляют под руководством Ду Цзюаньхун. Завидев меня, она велит всем выйти.
Рядом с футляром из красного дерева красуется подаренный тайваньцем розовый камень, на дереве мастерски выполнена изящная виньетка, из-за чего камень кажется еще более ценным. Ду Цзюаньхун поставила его у меня на столе слева. Яйцо динозавра, тоже накрытое стеклянным колпаком, поставлено на круглую колонну из красного дерева в центре стеклянной витрины. На фоне подложенного под колонну синего плюша яйцо сильно выделяется. Если его поставить на чайный столик у окна, эффект будет замечательный.
– Шеф, список нуждающихся студентов, которым оказывает поддержку компания, просматривал? – В руке Ду Цзюаньхун подготовленные для меня материалы.
– Нет, не смотрел, но с этим надо повнимательнее. Проверь этих студентов, действительно ли они хорошо учатся и на самом ли деле у них нет денег на учебу? Сейчас народ в деревне не такой честный, как раньше. Деревенским властям переводить эти деньги нельзя, могут прокутить. Рекомендовать этих нуждающихся студентов лишь по сведениям с места жительства тоже нельзя. После того как мы проверим и убедимся сами, деньги можно послать напрямую родственникам студентов или им самим.
– Это я уже организовала. Отправила начальника отдела по связям с общественностью, чтобы посетил семью каждого ученика, а вместе с ним пригласила корреспондента газеты. Компания оказывает поддержку тридцати детям, у которых нет возможности учиться, и наверняка предстоит немало волнующих моментов. Газетчикам такие вещи нужны, да и нашей компании лишняя известность не помешает. К тому же уже год, как в рамках проекта «Надежда» открылась начальная школа Боши, которой мы оказываем поддержку. После их поездки можно заодно съездить посмотреть.
Когда речь зашла о газете, я вспомнил про статью, что собирался написать. Давно уже хотелось написать ее, целых десять лет мучился. Я вообще считал себя в большом долгу перед ее старшим братом Ду Хунцзюнем, это было тяжелое бремя, давившее всякий раз, когда выдавалась свободная минутка, я вспоминал об этом, вспоминал, и на душе становилось невесело. Положишь что-то из жизни на бумагу, так это лишь бумага. Может, займет уголок в газете или станет книгой, которую поставишь в угол книжной полки, и она покроется там слоем пыли. Только то из прошлого, что помнит сердце, всегда живет в нем и не преходит. Хранимое сердцем и есть самое настоящее, самое драгоценное. Так мое сердце помнит Ду Хунцзюня, и, возможно, только с моей смертью он исчезнет из него. Человек, живущий в памяти сердца, получает самое благородное в роде человеческом обхождение, я добился этого, добился. Я часто вспоминал о нем, вспоминал, как мы болели душой друг за друга. Эта боль всегда была со мной, потому я давно и задумал статью в его память. Конечно, эта статья не просто лист бумаги, она позволит раскрыть то, что у меня на душе. Позволит выплеснуть безысходную тоску. Она будет называться «Вечно живой ветеран». С тех пор как у меня в подчинении оказался такой писатель с именем, как У Саньлян, еще с большей силой захотелось написать ее. Писатель из меня неважный, хотя в армии я год прослужил в канцелярии. Когда я поведал эту историю У Саньляну, он расчувствовался до слез. Написал он что-то или нет? Столько забот в последние дни, что даже не удосужился спросить об этом.
– У Саньлян появлялся, нет?
– Появлялся. – Ду Цзюаньхун вышла и принесла из своего кабинета его статью.
Я взял статью и принялся читать. Но когда я дошел до строк: «Его боевой друг мог постареть, но всегда будет молодым. Навечно двадцатипятилетний, он определил для себя этот прекрасный возраст, возраст расцвета, и навсегда остался в сердцах боевых друзей вечным ветераном… Хотя в ходе Оборонительной войны[32] они сражались всего лишь за небольшую высотку, это была земля нашей Родины», глаза у меня наполнились слезами.
«Ох уж этот У Саньлян, надо же так написать, чтобы растрогать до слез, ублюдок», – расчувствовавшись, ругался я. И по своей реакции понял, что он начинает мне нравиться. Хм, надо бы прибавить ему жалованье.
– Малышка Ду, скажи У Саньляну, что за работу, проделанную в «Лаобинчэне», его годовое жалованье повышается до ста тысяч. – Я назначал ему столько, сколько нужно было дать с самого начала.
– Шеф, успехи «Лаобинчэна» не сказать чтобы впечатляли. Хотя ежемесячно получается триста тысяч, но если принять во внимание, сколько туда вложено, это, считай, ничего. Предварительные цели, поставленные компанией, не достигнуты. Думаю, если на это поставить управляющего Хэ, он сможет добиться большего. Он, конечно, очень способный. – «Похоже, Ду Цзюаньхун не отказалась от амбиционных замыслов побороться за это место для Хэ Жэньцзи: рекомендует его, как только представляется возможность».
– Развлекательный бизнес сейчас не очень прибылен, слишком много таких заведений. Достичь уже достигнутого и то было нелегко. На мой взгляд, Хэ Жэньцзи на его месте не смог бы принести столько прибыли, и это вопрос уже решенный. – «Больше обсуждений с ее стороны не допущу».
– Статью публикуем?
– Публикуем.
– В газете или в журнале?
– Конечно, в вечерней газете, там тираж больше.
– Хорошо. В конце каждой недели четвертая полоса там посвящена литературе, значит, послезавтра и выйдет. – Ду Цзюаньхун забрала рукопись и пошла распорядиться.
В полдень, когда я собрался пойти перекусить, Ду Цзюаньхун ввела в кабинет Ван Дунфана.
– Шеф, – смущенно начал он, – образцов сегодня на фабрике подобрать не удалось. Камень слишком большой, да еще и твердый, седьмого уровня, у нас на фабрике камнерезные станки маленькие, подходящего оборудования для таких размеров нет. Я навел справки, разрезать можно только на фабрике мраморных изделий «Мэйли». Да и полировальные машины у нас используются для полировки браслетов или поверхности драгоценных камней, для такого большого камня не годятся, подойдут только машины большого размера, они тоже лишь на фабрике мраморных изделий. Камень после разрезания получается грубый, тусклый и неровный, отполировать до глянца можно только после первоначальной грубой шлифовки и последующей тонкой, лишь тогда он станет красивым и ярким. Но абразивы, которые используются на фабрике мраморных изделий, отечественного производства, требования по шлифовке мраморных плит не такие высокие, как для драгоценных камней. Наши камни именно такие, поэтому мы используем импортные японские абразивы. Сначала грубо полируем отечественными, потом наводим тонкую шлифовку японскими. Образцы будут готовы только завтра, видите ли, шеф… – Ван Дунфан глянул на меня, боясь, что я сейчас взорвусь.
Вообще-то такие вопросы, конечно, касаются ювелирной компании, они сами их решают, и дело с концом. Но запрос был сделан мной лично и был связан с получением компанией немалой прибыли. Ван Дунфан боялся допустить ошибку, не стал звонить и примчался сам.
Взглянув на него с этой стороны, я про себя порадовался: значит, предан и компании, и мне. И снисходительно улыбнулся:
– Ты, Дунфан, все правильно делаешь, я в ваших делах на фабрике не разбираюсь. Хм, ты чуть перестарался, можно было и по телефону позвонить. Попозже так попозже.
Фабрика компании расположена в южном пригороде, не ближний свет, похоже, он сегодня не только у себя на фабрике побывал, но и на пару фабрик мраморных изделий смотался, и так устал до чертиков, а еще в офис явился, чтобы доложить обстановку. Чувствует ответственность, так что эта его преданность заслуживает моей улыбки. Довольно было бы и пары слов, чтобы успокоить, но он наверняка посчитал, что в данном случае стоит явиться самому.
– Завтра доделаете, поместите в футляр из красного дерева и вот здесь поставите. – Я указал туда, где стоял подаренный тайваньцем розовый камень. – Его тайванец увезет с собой. Потом сообщите Хуан Хэ, что послезавтра приглашаю его в офис обсудить проект по экологически чистым продуктам.
Ду Цзюаньхун с Ван Дунфаном переглянулись, поняв, что преследую я совсем иные цели: как говорится, мысли Старого Пьяницы обращены не к вину[33]. Проект по экологически чистым продуктам еще не готов до такой степени, чтобы я мог лично обсуждать его с Хуан Хэ. Приглашал я его под предлогом обсуждения в основном для того, чтобы он увидел розовый камень нашей компании.
Они вышли, а я взял трубку и набрал номер Хэ Жэньцзи. Нужно понять, в каком состоянии его переговоры с Хуан Хэ по этому проекту. Перед появлением тайваньца необходимо подуспокоиться.
11
Я понимал, что этот день рано или поздно настанет, но не думал, что это случится так быстро и так неожиданно.
Ду Цзюаньхун в конце концов воспользовалась именем старшего брата и выложила свои карты. Это было настолько неотвратимо, словно уготовано судьбой. Речь была совсем не о том, чтобы делить со мной имущество. Она хотела выйти за меня замуж. Просто с ума сойти, мать твою.
Рассказ об этом нужно начинать с подруги ее брата.
Имя ее Ли Хунмэй. Имя как имя, ничего особенного, но для нас с ее старшим братом в пору армейской жизни оно звучало по-особенному. Для нас с однополчанами был праздник, когда в казарме появлялось письмо с этим именем. Хотя в начале письма было написано «Ду Хунцзюню», а в конце стояла подпись «Ли Хунмэй» и ко всем оно не имело отношения, но иметь в те годы женщину, которая могла, не обращая ни на кого внимания, прославлять и любить военного – этому мы все, конечно, завидовали. Мы с Ду Хунцзюнем с детства росли вместе. Высокий и сильный, талантливый и непосредственный, он в детских играх всегда был героем Ян Цзыжуном, а я – Шао Цзяньбо[34]. Хотя мой Шао Цзяньбо был старше по званию, одноклассницам, похоже, больше нравился герой. И когда мы пошли в армию, письма от них получал один Ду Хунцзюнь. Обо мне тоже иногда упоминали, но лишь в конце письма короткой фразой, мол, передай привет Сяо Цзыбэю. Из-за этого я потом очень мало общался с ними. Однажды на сборе одноклассников я и вовсе не сдержался. «Мы вот защищаем вас на переднем крае, а ни одного письма от вас не получили, как это ни печально», – вырвалось у меня полушутя-полусерьезно. В ответ одноклассницы загалдели: одни, что, мол, ты производишь впечатление человека довольно лукавого, другие без обиняков тут же заявили, что, мол, ты действительно в нашем классе человек заметный, но Ду Хунцзюнь еще более замечательный. По мнению третьих, я сейчас вроде бы многого добился, но я жив. А вот если бы Ду Хунцзюнь не погиб, разве мог бы я на что-то надеяться? На этом они и закончили обсуждать мои слова. При упоминании о смерти Ду Хунцзюня все очень расстроились. Всякий раз на этих сборах одни переживания, будто одноклассники для того и собираются, чтобы в наших застывших душах, в этом мире материального благополучия и веселья, только и можно что-то пробудить, вызвав боль, будто эта боль может сделать наши души лучше. Может, по этой причине мы с неизменной радостью и проводили эти наши сборы.
Печали и радости, разлуки и встречи – видимо, это и составляет смысл нашего существования в этом мире, то, зачем мы приходим сюда. Живем, вот и можем встречаться ежегодно. Год за годом жизнь складывается по-разному, и людей, приходящих на эти собрания, становится все меньше. Это не важно, важно то, что среди нас всегда есть живые, а если есть живые, значит, нет ушедших. Уходящие оставляют нам вечную память, и раз есть живые, им и не умереть. Пусть из нас немногих останется лишь один (может, я, может, кто другой), но, кто бы то ни был, я всегда могу представить чувства этого человека. Он может думать и об очень простом, например откуда мы пришли и куда уйдем, все эти миллиарды людей на земле, почему только мы выросли вместе. На вопрос этот еще как посмотреть. У буддистов человек идет от пределов жизни к пределам смерти; ученые же утверждают, что вышедшего из материнского чрева человека ждет обращение в прах. Из этих азбучных истин мне больше по душе первая, она хоть и умозрительная, но не производит впечатления беспредельности.
Возможно, об этом подумает последний из нас в последний миг своей жизни, когда все одноклассники явятся ему во сне. Когда он уже не восстанет ото сна, мы все снова будем вместе – в раю или в каком-нибудь другом месте, о котором не ведаем. Вероятно, туда мы будем приходить и уходить. Снова будем учиться в одном классе начальной школы, и будет ли там все так же, как в жизни, – печали и радости, разлуки и встречи? Не знаю. Но вот сможем ли мы прожить без этого? Думаю об этом, и всякий раз глаза влажнеют.
Ли Хунмэй была той самой одноклассницей, которая больше всех писала Ду Хунцзюню и в конце письма никогда не упоминала обо мне.
Но когда я вернулся с победой с полей сражений, первой, к кому я зашел, была она, Ли Хунмэй. Я хотел передать ей последние слова Ду Хунцзюня. На самом деле в свои последние минуты он о ней не заговаривал, хоть она и писала ему чаще других. Я хорошо понимал, почему он до самого конца не упоминал о ней. С малых лет Ду Хун-цзюнь был идеалистом, с детства хотел стать военным, а когда стал им, мечтал стать генералом. Ну как может человек, мечтающий стать генералом, раньше времени вступать в битву с женщиной? Поэтому Ду Хунцзюнь никогда и не говорил с Ли Хунмэй о любви. А вот она – хоть это и казалось ей несбыточной мечтой – признавалась в любви к нему. В то время признаваться в любви было в диковинку, не говорили и о постельных делах. Не то что сегодня – целый день с утра до вечера только и болтают об этом, а на самом деле это просто забава. А в ту пору только и можно было бесконечным потоком писем дать понять, что ты влюблен.
Ду Хунцзюнь прославился, еще только став командиром взвода. Званий в армии тогда еще не было, а если бы они и существовали, он был бы самое большее лейтенантом. От лейтенанта до генерала далеко, но несмотря на это в душе я считал его героем, хотя вскоре тоже получил это звание.
Вернулся домой и встретился с Ли Хунмэй я уже командиром роты. Козырнул, как положено, и поведал сочиненные мной последние слова Ду Хунцзюня. Не знаю, зачем нужно было это придумывать. Может, казалось, что это растрогает Ли Хунмэй и она сможет всю жизнь прожить с этим чувством. И еще для того, чтобы красивая женщина всегда помнила героя, потому что о героях мало кто помнит, и это очень прискорбно. Но теперь, двадцать дет спустя, я понимаю, что был не прав. Печально, конечно, что Ли Хунмэй замуж так и не вышла и на каждой встрече одноклассников появлялась словно вдова Ду Хунцзюня. Поначалу это вызывало зависть многих его поклонниц, но потом они повыходили замуж, и Ли Хунмэй больше никто не завидовал. «Как хорошо замужем!» – говорили некоторые, встречаясь первое время после замужества. И уже не завидовали Ли Хунмэй, а начинали сочувствовать ей. Ли Хунмэй оставалась тверда и упорно держалась своей позиции. Одноклассницы долго судили-рядили по этому поводу, доходило до того, что некоторые высказывали сомнения: а есть ли в ней вообще хоть капелька любви? Были и такие, которым после двадцати с лишним лет замужества жизнь настолько обрыдла, что они начинали опровергать такие суждения, мол, у Ли Хунмэй свои достоинства, ей вон как хорошо! Мужчины никогда ее не обманывают, она никогда не попадается на их уловки. Мы теперь, считай, всё поняли насчет этих дрянных мужиков, один другого хуже. Исстрадались все, а эта Ли Хунмэй – кто заставит ее страдать, ее сердце всегда принадлежит одному мужчине, как это красиво, как славно! «А ну попробуй как она», – предложила еще одна одноклассница. Тут все и замолчали.
Всякий раз от этого ее упорства, я весь аж вскипал, пару раз даже подмывало сказать, что эти его последние слова я придумал. Но когда передо мной представала эта сорокапятилетняя женщина, которая по-прежнему хранила верность, слова застревали в горле. Вот выложу все как есть, а это станет для нее еще более страшным ударом, тем более, что она, может, и не поверить. Придуманные последние слова могут повлиять на всю ее жизнь и привести к такому, что и не вообразить. Это постоянное страдание переросло у меня в сердечную муку. Поэтому Ду Цзюаньхун и знать не знала, что у ее брата есть одноклассница по имени Ли Хунмэй, которая его любит. К счастью, в детстве они жили не на одной улице, ведь, будь они знакомы, скрывать это до сегодняшнего дня было бы невозможно.
Не может быть, чтобы все было просто так, может, это судьба! Позавчера мы с Ду Цзюаньхун пили вино в баре, и тут неизвестно откуда появляется Ли Хунмэй. Не успела сесть, как тут же заговорила со мной о Ду Хунцзюне. Не будь рядом Ду Цзюаньхун, я возможно, и поговорил бы с ней, повспоминал его. Но она была рядом. Я изо всех сил пытался перевести разговор на другую тему, но было поздно, Ду Цзюаньхун уже заметила эту ухоженную, красивую и изысканно одетую женщину средних лет, которая упомянула о ее брате, и мгновенно заинтересовалась. Пришлось познакомить их и представить Ду Цзюаньхун как младшую сестру Ду Хунцзюня. Я думал, что после знакомства они поговорят пару часов о Ду Хунцзюне, и всё. Не тут-то было! Ли Хунмэй, словно встретив родственника, расплакалась и развела с Ду Цзюаньхун бесконечные сердечные разговоры – ну просто настоящая тетушка, жена ее старшего брата. Хорошо бы только это. Кто мог предположить, что, уже собравшись уходить, Ли Хунмэй принесет мне последней фразой столько хлопот?
– Цзыбэй, – сказала она, – а ведь когда Хунцзюнь умирал, он разве не наказывал тебе присматривать за сестренкой?
– Да, – подтвердил я, – да, она всегда со мной.
– Почему же тогда она одна?
– Что ты говоришь, как она может быть одна? – удивился я. – Где я, там и она.
Но Ли Хунмэй продолжала:
– Хунцзюнь разве так договаривался? – И, не ожидая ответа, потянула за собой Ду Цзюаньхун: – Пойдем, сестренка.
Я видел, что она страшно возмущена, и мне оставалось лишь провожать их изумленным взглядом.
Я посидел еще немного, хмуро подозвал официантку и расплатился. Вышел к машине, но машины не было. Пришлось возвращаться домой на такси. «Наверняка Ли Хунмэй захотела, чтобы Ду Цзюаньхун отвезла ее, – думал я. – Вот ведь разгневанный ангел, что она, интересно, задумала?»
Дома я тупо уселся на диван. Подошла жена, потрогала лоб:
– Простуды нет.
– Нет, нет, – подтвердил я.
– У тебя все в порядке? – спросила она.
– Да, – ответил я.
Увидев, что со мной что-то не так, она больше часа спрашивала о том о сем, и от ее расспросов я даже занервничал. Не хватало еще, чтобы это вышло наружу, утешения тут не помогут. Терпения ей и впрямь не занимать, да и я был не в силах сопротивляться этим ее супружеским и материнским заботам. Я переживал и переживал ужасно.
На самом деле ни о чем подобном Ду Хунцзюнь не договаривался. Перед кончиной он действительно надеялся, что я женюсь на его младшей сестре, но прямо об этом не говорил. Сестренка у него была единственная, он ее очень любил и боялся, что после его ухода неизвестно сколько тягот выпадет на ее долю в этом мире, где столько трудностей и опасностей. Еще больше его страшило, что она может встретить лихого человека. В конце концов, я был его товарищ – мы росли вместе, да еще однополчанин, мы участвовали в боях и понюхали пороха. Ему хотелось передать мне сестру на попечение, чтобы он хоть немного был спокоен. Жить ему тогда оставалось недолго, говорить о Ли Хунмэй было недосуг, и мне пришлось на основе сказанного им придумать историю, которую я ей и поведал. Ли Хунмэй была вся в слезах, и мы оба твердо решили выполнить волю павшего героя. Растрогавшись, я упомянул, что Ду Хунцзюнь хотел бы передать мне сестру на попечение. «Хорошо-хорошо», – взволнованно произнесла тогда Ли Хунмэй. Будто нужно было ее согласие, чтобы жениться на его сестре. На Ду Цзюаньхун я так и не женился потому, что в детстве она, сверкая маленькой попой, справляла большую нужду во дворе, и нередко у меня на глазах. Мы были слишком хорошо знакомы, и я никогда не смотрел на нее как на женщину, она была для меня младшей сестренкой. После смерти старшего брата им стал для нее я. Разве может брат взять в жены младшую сестру? Этим я всегда себя и успокаивал. На свою свадьбу Ли Хунмэй я не приглашал. На встрече одноклассников она как-то поинтересовалась, как дела у сестренки Ду Хунцзюня. Я сказал, что их семья переехала к родственникам на северо-восток. Она поверила и считала, что семья Ду Хунцзюня в Цзилине[35].
Жена легла в постель и принялась читать, это у нее была многолетняя привычка. Я ложился рядом, и она пристраивалась ко мне. Этим делом мы с ней занимались очень редко. Она всегда боялась чем-нибудь заразиться. Перед сном обязательно принимала ванну, непременно мыла руки перед едой и следила, чтобы в доме не было ни пылинки. Очень долго это ее чистоплюйство страшно злило. Возвращаешься домой голодный, в голове только одно: скорее перекусить. Поднесешь чашку ко рту, еще не притронулся к еде, и слышишь ее визгливый голос: «Руки мыть!» Или придешь усталый до чертиков, только соберешься опуститься на диван, как она командует: «Переоденься!» Закончишь постельные дела с ней, соберешься спать – нет: «Иди помойся!» – «Так ведь только что мылся!» – «Еще помойся!» – «Так ведь с презервативом, – говорю я. – Вот если бы слетел – другое дело». – «Никаких других дел – марш снова мыться!» Такая злость разбирала, что хотелось оплеуху закатить. Я вообще считаю, что для мужа с женой пользоваться презервативом – последнее дело. А она заявляет, мол, эта твоя штуковина больно грязная. «Что-то раньше ты не говорила, что грязная», – говорю. А она: «Так ведь еле сдерживалась, чтобы не стошнило, ребенка очень хотела». Что верно, то верно, с тех пор как родился ребенок, всякий раз требует, чтобы с презервативом. Тогда я думал, что она боится снова забеременеть, но потом понял: штуковина эта для нее больно грязная. Запах, говорит, тошнотворный, как от дохлой рыбы или тухлых креветок. Я сначала решил: всё, никаких дел, и дулся на нее довольно долго. А потом привык, и не очень-то она была нужна, потому что я на стороне развлекался. Да и боялся: занесу ей что-нибудь, так это даст ей право утверждать, что из всех моих женщин она самая чистая! Я знал, что у всех остальных моих женщин я наверняка не единственный, но у нее я был один. В том-то и дело, может, она и преувеличивает, но и поделом.
Читает она при настольной лампе, свет очень яркий, но она может читать очень долго. А мне хоть бы что, стоит лечь, как через несколько минут я уже сплю. Я еще не в такие жуткие условия попадал, с зажженным светом больно сладко спится.
Ночью приснился сон, будто я развожусь с женой, выхожу из здания суда и вижу, что меня ждет Ду Цзюаньхун.
На следующий день Ду Цзюаньхун действительно явилась, чтобы воспользоваться именем брата. Мать ее, а ведь у меня и в мыслях не было разводиться с женой.
Мы сидели в отдельном кабинете в кафе. Лицо Ду Цзюаньхун – само спокойствие. Я знал, что она провела с Ли Хунмэй не один день. «Ну давай, – думал я, – интересно, что у вас там за тайный заговор. Придется разбираться хочешь не хочешь. Совсем не хотелось бы с этим связываться, но, может, что-то и получится». И очень спокойно ждал этого вопроса, разрешить который было непросто.
Она с малых лет почитала меня и старшего брата, так же относилась ко мне, когда стала взрослой, так же было и когда она пришла в компанию. Выходить ей замуж или нет, советовалась, как с главой семьи. На самом деле я понимаю: она проверяет меня, конечно, я ей как старший брат, какой может быть иной смысл, она всегда только и могла считать меня своим родственником, старшим братом. Но ведь настойчивые попытки сделать из меня не брата, а нечто иное, эти ее фантазии никогда не прекращались. Это я разглядел, а вот дальше никогда не старался проникнуть, не хотел прорывать этот слой бумаги. Не раз думал, не перевести ли ее на другую работу, выделить ей свою компанию, чтобы она удалилась от меня, но она всегда упорно отвергала мои предложения. И демонстрировала решимость не покидать меня. Если женщине не нужны деньги, если ей нужно лишь быть вместе с тобой, – это куда годится, думаешь, может быть иной выход? Подобную ситуацию иначе как бессилием не назовешь. По сути дела, она всегда стремилась прорвать этот слой бумаги, только не было достаточного повода. Она боялась прорвать этой слой, боялась не только не добиться этого человека, а, наоборот, потерять старшего брата – а это куда хуже.
На сей раз она с полным сознанием своей правоты нашла зацепку для решения этого вопроса. Наверняка знает, что ее брат пожертвовал собой, защищая меня. Прежде она этого не знала, ей было известно лишь, что мы с ним кровные братья. Ли Хунмэй уж не преминула рассказать все, что я говорил ей, когда первый раз вернулся с победой. Теперь у нее родная тетушка, куда уж мне, разбивателю сердец, который женится не на ней, а на других!
– Брат Сяо, – заговорила она. – Ты всегда мне нравился, зачем ты прикидываешься, что не понимаешь? Когда я искала приятеля, я спрашивала у тебя, но ты не откликался. Выходи я замуж, разводись – тоже никакого отклика. Неужели я, по-твоему, совсем никуда не гожусь?
Она расплакалась и даже топнула ножкой, как в детстве передо мной и братом, когда нам приходилось играть с ней, чтобы утешить, покупать конфет или игрушку. Ну а сейчас, когда она такая взрослая, разве можно решить вопрос как в детстве? Как тут быть? Я оцепенело сидел рядом, не зная, что сказать.
Потом она перестала плакать и сидела, буравя меня глазами. Я понимал: она так смотрит, чтобы я что-то сказал. Ну а что сказать? С чего начать? Если мне, мать твою, и рта не раскрыть! Говорить не получается, лучше буду тоже смотреть на нее. За эти годы мы нередко играли в гляделки. Раньше обычно взгляд отводила она, но теперь заставить ее сделать это, видно, будет далеко не просто. Упрямая ведь, и выражение глаз не такое, как прежде. В них столько вопросов, столько обиды, они обвиняют и требуют ответа. Но их выражение и волнует, правда. В впервые я почувствовал в ней женщину, а не младшую сестру.
Первый раз в противостоянии взглядов глаза отвел я:
– Послушай, что вообще случилось, с чего ты расплакалась, ведь не небо же обрушилось? А если бы обрушилось, я бы поддержал, тебе-то что переживать. – И сделал вид, что не понимаю.
– Брат Сяо, ты же человек армейский. Я тоже. А сегодня мы в какие-то игрушки играем. Ну скажи, нравлюсь я тебе, в конце концов, или нет?
– Нравишься… А как я относился к тебе все эти годы, разве ты не понимаешь, ты всегда была для меня как близкая родственница!
– Но ведь какой смысл говорить такое, брат Сяо? Мы оба люди неглупые, говори прямо! Я выдержу. За столько лет мы настолько притерлись друг к другу, неужто ни слова по правде не скажешь? Как я была недовольна собой все эти годы! Я, замечательная и красивая женщина, но так и не смогла произвести на тебя впечатления. С этим трудно смириться, это так ранит.
– Как это не произвела впечатления? – проговорил я, и при этих словах изнутри словно поднялась рука и влепила мне пощечину: «Опять ложь!»
– Думаешь, я не вижу?
– На самом деле ты мне правда нравишься, но ты же моя сестренка, как я могу такое сказать?
Не успел я договорить, как та же рука отвесила оплеуху с другой стороны: «Что ж ты снова врешь!» Если она примет эти слова за правду, многое еще останется нерешенным. Но скажи я сейчас, что она мне не нравится, при том, что она из-за меня страдает, такая прекрасная и волнующая сердце, каким бы я оказался бессердечным!
– Неправду ты говоришь. Когда я в свое время искала себе приятеля и обращалась к тебе за советом, почему ты никак не отреагировал?
Похоже, она в мою ложь поверила, иначе не сказала бы: «Неправду ты говоришь». И то, что она рассердилась, это подтверждает. Эх! Как же легко женщина может попасться на удочку, даже такой выдающийся человек, как она, не исключение.
– Откуда мне знать, что у тебя на уме, – сказал я. – Ты искала приятеля, для твоего же блага, я-то чего должен волноваться? Ведь ты же моя сестренка! – Повторяя «моя сестренка», я напоминал ей, что она таковой и является.
– Тогда я еще не искала приятеля. А как увидела, что с тобой ничего не получается, тогда и нашла.
– Похоже, мы друг друга не поняли, – сказал я. – Ну разошлись наши дорожки и разошлись! Значит, не судьба.
– Не надо на судьбу сваливать, ты сам хозяин своей судьбы. Не думай, что никто не знает, что было сказано, когда мой брат умирал.
– Болтовню Ли Хунмэй слушать не надо, ты же не знаешь, при каких обстоятельствах это происходило. Говорил я другое, чтобы успокоить ее, понимаешь?
– Какое успокоить! Вот скажи, ведь тогда тетушка тебя спрашивала, не я? Зачем ты сказал, что я уехала на северо-восток? Чтобы успокоить, да?
Она была взбудоражена, и, похоже, многолетние близкие отношения были на грани разрыва. Я никак не мог предположить, что она так быстро сойдется с Ли Хунмэй.
– Успокоить, это как сказать.
Пока я от волнения не знал, что ответить, зазвонил ее мобильный. Она взяла его и после окончания разговора сказала:
– Шеф, Хуан Хэ хочет пятьдесят тонн «персикового цветка» и просит предложить максимум двадцать тысяч юаней за тонну.
– Раз он через тебя связывается, вот и решай.
– Тут тебе распоряжаться! Тридцать тысяч за тонну дороговато. Управляющий Ван тут посчитал, у нас себестоимость три тысячи за тонну. А Хуан Хэ говорит, что ему не нужны наши связи, он сам будет отправлять контейнеры в Сямэнь[36], а как он их доставит – не наша забота.
– Если это не контрабанда, связи не связи, у нас хоть и нет лицензии на экспорт и импорт полезных ископаемых, это не проблема. Можем вывозить через провинциальную пятую горнорудную компанию. Тридцать тысяч за тонну для него выгодно. Привезет на Тайвань – огребет кучу денег. Эти штуковины – не машины, которые нужно все время ремонтировать, списывать за непригодностью. Сколько бы времени ни прошло, они не испортятся и не сгниют, самоцветы бесценны, и он, должно быть, прекрасно это понимает. За такой бизнес нам нужно хвататься обеими руками, такое славное дельце всего-то и можно провернуть пару раз. Когда откликнутся и налетят другие, мы этим заниматься уже не будем. Пусть все этим занимаются. Прибыль, в конце концов, незначительная, рынок насыщен, еще неизвестно, стоит ли игра свеч. Тем не менее, раз уж он по этому поводу обратился к тебе, давай принимай решение!
– Думаю за тонну стоит предложить двадцать с половиной. Если будем работать через пятую горнорудную компанию, нужно еще накинуть семнадцать процентов налога на добавленную стоимость, и какая разница, куда пойдет товар, мы накладные не выписываем, налоги выплачивает он, таможню тоже проходит сам, к нам это не имеет никакого отношения, это все равно что посылать ему привет.
– Хорошо, сестренка, договорились.
Она покосилась на меня:
– Мы еще не закончили, брат Сяо. – И вышла.
Я засиделся в этом отдельном кабинете до полуночи, ничего не делая и лишь глотая кофе чашку за чашкой.
Мне бы радоваться, что за несколько дней сделаю больше миллиона, но после ухода Ду Цзюаньхун на душе остался неприятный осадок.
В тот день, войдя ко мне в кабинет, тайваньский коммерсант Хуан Хэ, естественно, с порога заметил мой розовый камень. Подошел, оглядел со всех сторон, приговаривая:
– Великолепный товар, великолепный! Вот уж не думал, что вы, господин Сяо, такой умелец, лучший в Тайбэе[37] камень приобрели. Мой-то куда скромнее, куда скромнее.
– В Тайбэе? – удивился я. – Нет, он из Китая, с материка.
– С материка? – На лице Хуан Хэ появилось сомнение.
– Это образец новой продукции, ее добычу готова начать наша компания, ее еще нет на рынке.
– А где расположено месторождение, могу ли я посетить его? – Такое впечатление, что ему уже не терпится.
– Это такой пустяк, поговорим об этом потом! А сегодня мы обсуждаем проект по производству экологически чистых продуктов. Хэ Жэньцзи сказал, что у вас, господин Хуан, есть вопросы по некоторым условиям. Мне хотелось бы самому обменяться с вами мнениями. Наша компания способна осуществить этот проект самостоятельно. Но мы учитываем то, что вы, господин Хуан, связаны многолетним сотрудничеством по торговле хрусталем с управляющим Ваном и нашей дочерней компанией «Чжубао». По представлению Вана, вы – человек что надо, здесь, на материке, делать инвестиции – дело непростое, ведь мы уже друзья. Будет хорошее дело, будем сотрудничать, есть на чем подзаработать, будем зарабатывать вместе, а зарабатывать можно без конца. Если честно, было бы здорово, если тебе не покажется большой суммой десять миллионов! Ведь, возможно, в этом городе нас ждут несколько миллионов потребителей.
– Этот… Этот вопрос… Ладно, шеф, мы с первой встречи стали друзьями, будто знали друг друга давно, а перед вами как личностью я просто преклоняюсь. К этому проекту я давно проявляю интерес, и уже кое-что сделано. Но, шеф, ты тут просто впечатлил, все провентилировал и здесь и там, у меня же многое не доведено до конца, и надо с этим смириться. Давай так: раз у нас обоих такое отношение, какой смысл хитрить? Мы с управляющим Хэ встречались уже не раз, провели несколько раундов переговоров, он тоже человек очень неглупый. Я понимаю, в конце концов, нам тоже надо бы померяться силами, но твоя компетентность не идет ни в какое сравнение. Так что, думаю, больше переговоры вести не будем, так и порешим: я вкладываю восемь миллионов юаней, что составит тридцать процентов капиталовложений, на большие уступки идти не могу, маневра у меня больше нет, надеюсь, вы, шеф, подумаете над этим.
Услышав такое, я обрадовался, но ничем радости не выдал. Моей козырной картой было предложить шесть миллионов, а он предлагает на два больше, как тут не порадоваться?
– По рукам.
– Минуточку. Еще одно условие. Этот камень я возьму с удовольствием, осваивать будем вместе, ты обеспечиваешь добычу без права передачи третьим лицам, я обеспечиваю реализацию.
– Хорошо. У нашей компании вложения по этому проекту немаленькие, стоимость добычи одной тонны сырья достигает двадцати тысяч, обработка и распил – пятидесяти. Ты ведь в области обработки спец, эти камни можно производить лишь в виде полуфабрикатов. А добавь стоимость обработки, заработную плату рабочих, налоги – страшное дело! При наших прекрасных связях – отдаем тебе за тридцать тысяч на тонне!
– Не может быть, чтобы так дорого!
– Ты эти камешки у себя на Тайване поштучно оцениваешь, а я по тонне. Так что давай, господин Хуан, торговаться не будем, это тоже последняя цена.
– Хорошо-хорошо, шеф. Мне по этому вопросу нужно созвониться с Тайбэем, обсудить с компаньонами. Условий немного. Ты даешь мне три дня, и в течение этих трех дней твоя компания, господин Сяо, не ведет ни с кем переговоров по этим камням.
– Не волнуйся, господин Хуан, я ведь тебя как друга почитаю, разве можно потерять доброе имя?
– Спасибо, господин Сяо. По экологически чистым продуктам можно составить проект договора. Обсудим его, выберем благоприятный день и подпишем.
Тайванец ушел. А я вызвал Хэ Жэньцзи. Мы уселись друг против друга и долго сидели так, не говоря ни слова. Мы ясно понимали: кризис в компании вот-вот закончится, цена, которую пришлось заплатить за переговоры, невелика. Ду Цзюаньхун всё подсчитала: шесть раундов переговоров управляющего Хэ с тайваньским коммерсантом проходили в ресторане «Цилисян», все шесть с банкетом, по калькуляции ресторана – на тысячу восемьдесят пять юаней, «ловушка с красавицей» в «Лаобинчэне» – четыре раза, услуги девочек эскорта – шесть раз, выпито три бутылки «маотай», две бутылки «реми мартэн», всего на одиннадцать тысяч двести юаней, и потратил на это управляющий Хэ в общей сложности два месяца.
Сидели мы так около получаса, и наконец я заговорил:
– Ты, Хэ Жэньцзи, сослужил хорошую службу, прими благодарность от старшего брата. – Когда я говорил эти слова, наверняка получилось очень трогательно.
– Ну что ты, шеф, это ты обо всем договорился, куда там Хэ Жэньцзи, столько хлопот тебе доставил.
Непонятно, что стряслось: и когда я говорю, и когда он – оба с какой-то внутренней церемонностью. Между нами никогда такого не было, с чего бы это сегодня?
– Между братьями таких речей не бывает, – сказал я. – Я знаю, твои дружеские чувства ко мне ценю. Про некоторые твои поступки мне известно, хоть они и не играют решающего значения, ты так поступать можешь. У меня очень хорошая память на факты, я сам тоже корыстолюбив, но тебе даже не препятствовал. – Он, видимо, не понимал, что имею в виду дело с Сяо Чжан.
– Шеф, моя жизнь принадлежит тебе, – с растроганным выражением на лице проговорил он. – Как гласит пословица, женщина – одежда, друг – руки и ноги. А ты, шеф, просто моя голова.
– А Сяо Чжан?
– Ушла.
На лице Хэ Жэньцзи было написано недоумение, он никак не ожидал, что на этой встрече я заговорю о Сяо Чжан. Поэтому ответил он довольно правдиво, прекрасно понимая: когда не знаешь, что сказать, лучше всего сказать правду, в этом случае сказать правду всегда лучше, чем сказать что-то другое. Я нередко предупреждал об этом своих компаньонов и работников.
– А дом?
– Продал, деньги ей отдал.
Недоумение на его лице сменилось изумлением: откуда мне известны такие подробности? Наверняка, это крутилось у него в голове, и он долго не мог прийти в себя от изумления.
– Слушай, Хэ Жэньцзи! Помоги-ка мне провернуть одно дельце! Ты ведь знаком с Наньлань, верно? Эта женщина – моя любовница, я никогда не говорил тебе об этом, а Чжан Хун – ее подруга. Вот тебе несколько дней, за это время нужно продать мой загородный дом в северном пригороде, продать за восемьсот тысяч! Четыреста отдашь Наньлань, остальные оставишь себе!
– Шеф!
Но я перебил его:
– Мы с тобой как братья, Хэ Жэньцзи, и скрывать мне от тебя нечего. Мне сейчас нужно уладить с твоей тетушкой и Ду Цзюаньхун. Твоя тетушка – моя жена, и бросать ее мне жалко. Ду Цзюаньхун – младшая сестра брата Хунцзюня, он оставил ее на меня. И как я, мать твою, буду из этого выпутываться, не знаю, правда, не знаю. Давай действуй потихоньку, с Наньлань мне разбираться некогда, ты с ней разберись, уладь. Нельзя мне, чтобы она снова здесь появилась.
– Шеф, с женщинами сладить непросто. Тыс ней не встречаешься, а вот встретишься, поговоришь – глядишь, она с радостью и согласится.
– Хэ Жэньцзи, не могу я с ней встречаться. Я же не деревянный, не бесчувственный. Боюсь, стану что-то говорить, она разрыдается так, что, как говорится, все цветки персика осыплются, и я опять не выдержу.
– А если она скандал закатит, как быть?
– Как быть? Мы с тобой в каких только переделках не были, а ты боишься, что женщина скандал закатит? Если нам со слабой женщиной не совладать, то с чем мы вообще совладаем? Если я укажу, куда ей идти, и она пойдет, то и все на этом. Не пойдет, так откуда я знаю, куда ей идти? Пусть сама идет куда хочет. Думаю, у Наньлань такие ноги, что сами знают, куда ее вести. Бывают ноги и потверже, но не знают, куда идти, такие ноги определенно никуда не годятся. Возможно, какое-то время она будет ненавидеть меня, ругать. Но я не из тех, кого может ругать кто ни попадя, может, потом она и поймет.
– Хорошо, шеф. Чжан Хун как раз сейчас собирается в Центральную консерваторию на повышение квалификации. Попробую уговорить, может, вдвоем туда отправятся…
Хэ Жэньцзи ушел. Ну а мне куда податься?
Зазвонил мобильный. На дисплее высветился номер Ду Цзюаньхун. Я не стал отвечать, пусть звонит. Телефон прозвонил три раза подряд, я так и не ответил. Минут через пять я перезвонил.
– Брат Сяо, что трубку не берешь? – были первые ее слова.
Я сказал, что был в туалете.
– Я на тебя не давлю, можешь решать тетушкин вопрос не торопясь, я терпеливая. Ладно, не будем о личном, поговорим о делах служебных.
Открылась дверь, и она вошла в офис.
– Что же ты звонишь, а сама за дверью стоишь? – удивился я.
Ответ Ду Цзюаньхун совсем не соответствовал вопросу:
– Шеф, в «Лаобинчэне» происшествие, управляющего клубом Ли арестовали полицейские из участка Хэси.
– С чего это вдруг? – вспыхнул я. – Какой-то паршивый начальник полицейского участка ни с того ни с сего арестовывает моего подчиненного. – Что, не во всей провинции еще покончили с порнографией? – покосился я на нее.
– На этот раз не порнография, это «борьба с наркотиками и мафией».
– Хм, «борьба с наркотиками и мафией»… – A-а, вспомнил. На прошлой встрече начальник городского управления общественной безопасности Чжу упоминал, что нужно провести какую-то «борьбу с наркотиками и мафией». Тогда я посчитал, что в нашей компании все законно, она пользуется в провинции прекрасной репутацией, какие у нас могут быть наркотики и мафия? Вот и не обратил на это внимания. – Чепуха, малышка Ду. Обратись в полицию, выясни, в чем дело, и пусть немедленно отпустят человека из участка.
– У них, похоже, есть основания, шеф. У Саньлян говорит, что на обеспечении управляющего клубом Сяо Ли пятьдесят девочек эскорта, половина из них употребляют наркотики и имеют связи с мафией. Сяо Ли тоже волей-неволей оказался замешанным. Вовлечение в занятие проституцией, незаконное хранение наркотиков – во всем Сяо Ли принимал участие. Но самое отвратительное, одна из девочек эскорта, которых он содержит, подхватила СПИД. Но он не только не выдворил ее, а, наоборот, позволял проводить ночи с клиентами. Если это дело предадут огласке, «Лаобинчэну» конец.
– Что же этот паршивец У Саньлян раньше не доложил? Ну как так можно!
– Говорит, боялся доносить на Сяо Ли, тот же заодно с мафией! Испугаешься тут, как потом вечером по улице ходить? К тому же бизнес у Сяо Ли преуспевает, всю прибыль «Лаобинчэна» дает в основном ночной клуб, ресторан и бар столько денег не приносят.
– Это дело, малышка Ду, нужно непременно поправить, компания как раз выбирается из критического состояния, и проект по экологически чистым продуктам только запущен. Мы все же работаем легально и по нелегальному пути не пойдем.
Ду Цзюаньхун молча смотрела на меня. Было ясно, что она еще не понимает, каким образом можно это поправить в том смысле, как я сказал. Я и сам отдавал себе отчет, что выразился недостаточно полно. И в конце концов распорядился сделать вот еще что: во-первых, сообщить У Саньляну, что он уволен. Во-вторых, изменить название «Лаобинчэна». Все время я слышал, что это название разлагающе воздействует на политическое сознание масс. В-третьих, что касается Сяо Ли, «Лаобинчэн» должен активно содействовать расследованию органов общественной безопасности, таким образом мы отчасти перехватим инициативу. Но нужно соблюдать чувство меры: раскрывать то, что выявлено У Саньляном, но ни в коем случае не допускать утечки данных внутреннего расследования.
– Все остальное дело плевое, шеф, ну, выпихнем Сяо Ли, ему и так впору по башке настучать, поделом, но только по его поведению нельзя судить о всем «Лаобинчэне», одно то, что совет директоров может лишить должности У Саньляна который, возглавляет «Лаобинчэна» по закону, уже ясно выражает позицию компании. А вот девица со СПИДом – точно головная боль. Если ее тоже вытурить, то ведь неизвестно, сколько народу там уже перебывало. Если каждый узнает, что, возможно, подхватил СПИД, и явится в «Лаобинчэн» со скандалом, все это разрастется, и неизвестно, сколько придется судиться и сколько выплатить компенсаций, чтобы считать дело закрытым. Но ведь есть безнадежные больные, а есть те, кто под сурдинку будет стараться извлечь для себя выгоду. Они-то в тени, а мы на свету, как с ними справиться?
– Ну и скажи тогда, как быть?
– Это дело я предлагаю задушить в зародыше. Конкретно это будет выражаться в том, что мы от имени народа вынесем ей смертный приговор. Да ее в суд доставить – уже смертный приговор, а того, сколько она наркотиков употребила, продала и перепродала, хватит на несколько смертных приговоров. Поэтому вынесение ей смертного приговора нами нельзя считать несправедливым. Если в суде ей вынесут смертный приговор, тот факт, что у нее СПИД, наверняка будет предан огласке, и тогда нашему «Лаобинчэну», в который у нас столько вложено, считай, конец. Она же там долго проработала в эскорте.
– Хм, путь этот незаконный, нам так поступать нельзя. Да, она заслуживает смерти, но мы же не можем действовать от имени закона. Малышка Ду, я не желаю идти на риск убийства, так нельзя, на худой конец не нужно нам никакого «Лаобинчэна».
– Какой же он незаконный, шеф? Все произойдет очень быстро. Денег у нее уже нет, наркотиков не купить, лекарств уже два дня не принимает, и так уже чуть живая. Если «Лаобинчэн» обеспечит ей деньги, она наверняка найдет способ купить наркотиков, а стоит ей уколоться, и она уже почти не жилец.
– Откуда ты так уверена, что она с одного укола помрет?
– Говорят, тем, кто долго не принимал наркотиков, без них так плохо, что они могут от нетерпения ввести себе слишком большую дозу. Немало наркоманов так и гибнет.
– Я в этом ничего не смыслю. Ты, малышка Ду, тоже, так что делай как знаешь! У нашей компании образ правильнее некуда, нелегальный путь всегда дело скверное, мы никогда не сможем подбросить ложные улики, чтобы кого-то арестовали. Но хоть мы нелегальным путем не идем, не можем и позволить кому-то считать, что мы к этому имеем отношение. Когда много зла и мало добра – это тяжкое преступление, а когда много добра и мало зла[38] – незначительное. В любом случае мы заходить за черту не будем, будем идти по законному пути, освещенному яркими лучами солнца…
Ду Цзюаньхун вышла.
Оставшись в кабинете один, я сидел и размышлял: «Сколько я налогов уплатил за год, скольким детям, которые не могут оплатить обучение, помог, да еще начальную школу проекта «Надежда» основал. И когда только мою компанию успели отнести к элементам, пользующимся тайным влиянием? Что же я тогда, выходит главарь этих элементов? Мать твою, надо возвращаться на путь истинный».
Я встал и собрался уходить, когда раздался звонок. Донесся голос Ду Цзюаньхун:
– Ты, брат Сяо, сегодня домой не возвращайся, мы с тетушкой ждем тебя к ужину в отдельном кабинете в «Цилисян».
Ну мать-перемать, хоть ложись и помирай!
Перевод И. А. Егорова
Любовь в городе из песка
Се Тин
Глава первая
(1)
Впервые Линь Фэй попал в Пекин в феврале 1996 года. Только-только отгремел Новый год, и Пекин ранней весной все еще окутывала стужа. Для человека, которому не доводилось переживать пекинскую зиму, такая поездка – настоящий риск, ведь он не может вообразить себе, каково это, когда за окном минус десять. Была бы какая-то другая причина, а не У Сяолэй, то Линь Фэй ни за что не поехал бы в такое время в Пекин, но человек, с позволения сказать, странное животное, он, может, и труслив, боится жары и холода, но если потребуется, то все это меркнет перед более значимой целью, а когда речь о любви, о спасении любви, то уже не существует причин важнее.
Линь Фэй и У Сяодэй вместе вернулись домой на новогодние каникулы. К этому моменту У Сяодэй уже временно перевели на работу в министерство, чтобы посмотреть, как она справится: тогда-то она, должно быть, и решила расстаться с Линь Фэем, поскольку молодые люди изначально планировали в Новый год объявить о помолвке, но У Сяодэй по разным причинам тянула. Если и были какие-то причины, то У Сяодэй их скрывала, она притворялась, что все в порядке, и даже спала с ним, когда родители уходили из дома поздравлять друзей с новым годом. Это не укладывалось у Линь Фэя в голове, он никак не мог понять: если девушка решила, что вам не по дороге, как можно спать накануне расставания? После нового года У Сяодэй вернулась в Пекин, а он в Гуандун. Когда У Сяодэй вдогонку по телефону уклончиво сообщила, что хочет расстаться, то Линь Фэй испытал не просто шок, он не поверил собственным ушам, усомнился, действительно ли голос на том конце провода принадлежит У Сяодэй. Но все оказалось именно так, и в последующих телефонных разговорах он постепенно удостоверился в этом. У Сяодэй помялась-помялась и призналась, что завела отношения с парнем по имени Чэн Тяньпэн, с которым познакомилась в прошлом году, когда ездила в Пекин в командировку, и ее перевели в Пекин именно благодаря протекции этого самого Чэн Тяньпэна. Когда ситуация полностью прояснилась, другой на его месте, возможно, захотел бы расстаться по-доброму, как надеялась У Сяодэй, уйти с достоинством, или же обругал бы ее парой фраз, чисто чтобы пар выпустить. Но у Линь Фэя в голове что-то помутилось, он упорно считал, что они с У Сяодэй любят друг друга, вот только У Сяодэй запуталась и лишь потому приняла такое ошибочное решение и рано или поздно пожалеет. На той неделе они только на междугородние звонки потратили около тысячи, но У Сяодэй все равно заявила, что нужно расстаться, однако на Линь Фэя ее слова не возымели влияния, поскольку он считал, что это все неправда и У Сяодэй вынудили так сказать. Он должен спасти У Сяодэй.
У Сяодэй плакала, хлюпала носом по телефону, просила Линь Фэя подумать о ней, говорила, что не хотела, чтобы так получилось. Тогда Линь Фэй сказал:
– Возвращайся, давай жить, как раньше, словно ничего этого не было.
Как можно такое предлагать?
И тут ему пришла в голову идея поехать в Пекин, даже не пришла, а внезапно сверкнула, но У Сяодэй испугалась. Зачем? Разве мы уже не обсудили все по телефону? А Линь Фэй вдруг возмутился и принялся орать в трубку:
– Мы с тобой вообще-то пять дет вместе, нельзя вот так сказать «ну, все» и все закончить!
У Сяодэй ничего не говорила, она специально молчала, поскольку и впрямь не могла представить, что способен натворить в Пекине в это время и при таких обстоятельствах молодой человек с разбитым сердцем.
Потом, чтобы как-то разрядить обстановку, Линь Фэй пошутил:
– Как минимум мне надо забрать у тебя то кольцо, я ж его, черт побери, своей невесте дарил.
В итоге У Сяодэй не могла дальше противиться, поэтому безнадежно вздохнула:
– Ну, тогда давай приезжай.
Линь Фэй положил трубку и почувствовал легкое головокружение. В таком состоянии он пошел и отпросился с работы. Потом купил билет на поезд, пуховик, свитер, он даже подумал о том, какая в Пекине погода, но считал, что потом теплые вещи ему больше не пригодятся, так что покупал не самые качественные и, когда торговался в магазинах с продавцами, то так и объяснял, дескать, на один раз. Должно быть, он совершенно здоров, раз даже в такой ситуации не забыл поторговаться и помнил цену деньгам, эта «одноразовость» выражала его подсознательные надежды, поскольку он не был уверен, чем закончится поездка в Пекин, переменит ли У Сяодэй свое решение, и даже в том, сможет ли он выстоять против ледяного пекинского ветра, когда температура падает ниже нуля. Линь Фэй был растерян и даже втайне надеялся, что никогда не доберется до конечной точки своего путешествия, а так и будет вечно ехать и никогда не придется встречаться с У Сяодэй.
(2)
Линь Фэя познакомили с У Сяодэй друзья, в тот момент хороший друг Линь Фэя как раз встречался с подругой У Сяодэй, они-то их и свели. На самом деле никто не надеялся на успех, поскольку окружающие, даже те, кто их познакомил, считали, что Линь Фэй не подходит У Сяодэй по всем статьям: Линь Фэй без сомнения тряпка, а деятельную натуру У Сяодэй тоже подолгу никто не выдержит, так что их знакомство в глазах окружающих скорее напоминало некую забаву, позволяющую обогатить личный опыт. Но, возможно, сами участники этой забавы чувствовали иначе, поскольку они продержались пять лет, несмотря на пессимистичные прогнозы, и это само по себе можно считать чудом. Если бы впоследствии не возник этот Чэн Тяньпэн и У Сяодэй не перевели бы в Пекин, то, вероятно, их отношения логическим образом привели бы к свадьбе и рождению детей. В нашем мире, который внешне кажется иррациональным, у событий часто есть причина, просто люди не всегда могут увидеть глубинную суть.
Родителям друг друга они тоже не понравились. Мать Линь Фэя сетовала, что У Сяолэй тщеславная и слишком эгоистичная, а мать У Сяолэй в свою очередь считала, что Линь Фэй ни на что не годится и дочка рано или поздно останется в проигрыше. Что касается проигрыша, то Линь Фэй с самого начала нечто подобное подозревал, в тот момент он работал заместителем инженера на маленьком заводе и получал больше У Сяолэй, но нельзя взять и воздвигнуть авторитет за счет преимущества в пару десятков юаней, тем более У Сяолэй в своем отделе стремительно делает карьеру и неизвестно, когда взлетит на самый верх. Поэтому когда Линь Фэй проводил время с живой и очаровательной У Сяолэй, то чувствовал себя не только довольным, но и в некоторой мере неполноценным. Непонятно, когда появилось чувство опасности, но он беспокоился, что окружающие считают его неподходящей парой для У Сяолэй и говорят, что она прогадает, если останется с ним. В тот момент как раз вошла в моду тенденция «одна семья – две системы», когда один из супругов оставался госслужащим, а второй устраивался на частное предприятие, так что Линь Фэй тоже решил, что называется, «податься в бизнес».
Выражение «податься в бизнес» очень расплывчатое, так говорят, и когда сам занимаешься бизнесом и когда получаешь место вицепрезидента в частной компании, но для таких, как Линь Фэй, «податься в бизнес» обычно означает пойти работать на дядю. Говоря языком матери Линь Фэя, ее сыночек исключительно из-за У Сяолэй отказался от гарантированного куска хлеба, это все его У Сяолэй надоумила. Мать тогда несколько дней голосила, не могла взять в толк, почему сын отказывается от хорошей работы и вместо этого идет на кого-то горбатиться, считала, что будущее его разрушено. Материны истерики сделали свое дело, Линь Фэй распустил нюни, пожалел о том, что сделал, но когда стал обсуждать это с У Сяолэй, то девушка проявила странное равнодушие и сказала, дескать, поступай, как знаешь, сам думай. Окончательным доводом в пользу решения о переезде в Гуандун стали слова бывшего директора. Директор завода сказал, мол, захотел уехать – уехал, захотел вернуться – вернулся, нет уж, все не так просто. В результате вернуться на завод, конечно, можно, но только придется три месяце мести в цеху пол. В тот же вечер Линь Фэй купил себе билет на поезд до Гуандуна. Для начала он в Дуньгуане устроился на завод техником с зарплатой в семьсот юаней, через три месяца зарплату ему подняли до тысячи, а еще через подгода перешел на другое место и стал получать три тысячи, да не в юанях, а в гонконгских долларах, то есть в десять раз больше, чем У Сяолэй. В 1996 году, когда У Сяолэй перевели работать в Пекин, Линь Фэй уже стал акционером на маленьком заводе с зарплатой почти в десять тысяч, но, несмотря на это, У Сяолэй все равно не устояла перед Чэн Тяньпэном и соблазнами Пекина.
В поезде за двое суток в пути Линь Фэй действительно осознал, что все впустую, путешествие в Пекин, во-первых, разбередило нервы, а во-вторых, заставило мучительно осознать, что, возможно, он навсегда потеряет У Сяолэй. От этой мысли стало больно, а тут еще в вагоне поставили старую песню Чжоу Хуацзяня «Любви конец и нет пути назад», слова затронули за живое, и Линь Фэй впал в отчаяние. Эту песню он исполнял в караоке бесчисленное количество раз, но сейчас словно бы наконец понял, почему «такая девушка как ты» «в себя меня влюбила, заставила страдать», но очень быстро он, как и все неудачники, начал воскрешать в себе надежду, что У Сяолэй посмотрит на него в последний раз, в ней что-то шелохнется, и девушка вопреки всему вернется с ним назад. Разумеется, потом он сам над собой посмеялся, но решил, что даже при самом плохом развитии событий почему бы разок и не увидеться?
После того, как поезд пересек границу провинции Хэнань, начались глухие места: до горизонта тянулась грязно-желтая земля, ни одного зеленого островка, деревья высохли, остались лишь слабенькие пеньки, а на пашнях, еще не тронутых весной, пробивались сорняки. Вдоль дороги редко встречались люди, случайно попался один, втянувший шею от холода, то ли старый, то ли маленький, за спиной он нес вязанку хвороста, а перед ним копошилась какая-то куча, и если бы куча не двигалась, то можно было решить, что это камни, но то были несколько баранов, неторопливо искавших на обочине молодые побеги, которые никто кроме них не видел. Наконец пастух обернулся. Оказалось, это ребенок, и теперь он простодушной улыбкой приветствовал состав, проносившийся мимо. В душе Линь Фэй испытывал целую гамму чувств, ему пришло в голову слово «сострадание», но на лице пастушка сверкала улыбка, так что Линь Фэй как минимум не мог определиться, кто из них двоих больше заслуживал сострадания.
Наконец он доехал до Пекина и вместе с людским потоком, которому не видно было конца и края, вышел из здания вокзала, но, стоя на площади перед вокзалом, Линь Фэй немного растерялся, поскольку остальные стремительно рассосались, отправившись по своим делам, а он не понимал, что делать дальше. Первое, что Линь Фэй сделал, возможно, оказалось неожиданностью даже для него самого. Первоначально Линь Фэй планировал сразу же позвонить У Сяолэй, но вместо этого поймал такси и отправился прямиком на Тяньаньмэнь. На Тяньаньмэнь, пожалуйста, на площадь Тяньаньмэнь! Хоть это и было импульсивным решением, но сегодняшнего дня он ждал много лет, поэтому выбор не показался скоропалительным, напротив, это было само собой разумеющимся, может быть, по сравнению с У Сяо-лэй Тяньаньмэнь гарантировала эмоции, которые легко испытать.
Шофер явно решил над ним подшутить, завез его куда-то на восток и постоянно рассказывал о местах, которые могут заинтересовать молодого человека, впервые приехавшего в Пекин, а потом повернул на сто восемьдесят градусов и покатил на север, по второму кольцу, чтобы пронестись там, где раньше проходила старая крепостная стена. Крепостная стена давно уже прекратила свое существование, по-прежнему оставаясь своеобразной демаркационной линией: с одной стороны – старомодные традиционные дворики, а с другой все выше и выше росли многоэтажки.
Этот почти полный круг по столице стал самым первым и самым наглядным впечатлением от Пекина, Линь Фэя поразили огромные, широкие улицы и в особенности колоссальные пространства под застройку. Линь Фэю доводилось гулять в нескольких крупных южных городах, но те места по сравнению с Пекином меркли. Линь Фэй, не отдавая себе отчета, крутился на сиденье, увлекшись рассматриванием низких старых стен слева и леса небоскребов справа. Подобное сравнение оставило в его мозгу необычайно сильный отпечаток, словно только так, крутясь без остановки, можно было вынести яркий солнечный свет, а дорога, лежавшая впереди, никуда не сворачивала и никак не заканчивалась, даже таксист спросил, первый ли раз он в Пекине, раз такой рассеянный. Когда таксист отстал, а до Линь Фэя дошел смысл сказанного, он не выдержал и раскатисто рассмеялся, сейчас его настроение изменилось, и Линь Фэй не собирался принимать близко к сердцу всякие глупости, он даже подумал, а как иначе разом составить полное впечатление от Пекина, но, поняв, что собой представляет Пекин, он понял и У Сяолэй.
Потом водитель притормозил на остановке рядом с Домом народных собраний, а когда Линь Фэй расплатился, велел ему пройти вперед. В тот момент Линь Фэй уже увидел красные стены вокруг Тяньаньмэнь, но смотрел слегка наискосок, и из-за того, как падал свет, площадь не была похожа на картинку с фотографии или с телеэкрана. Линь Фэй и представить не мог, что стоит пройти несколько шагов, и перед ним вдруг целиком предстанет самая большая площадь в мире, место, которое он всю жизнь хотел увидеть больше всего на свете.
Это случилось так быстро, что Линь Фэй не успел подготовиться, в итоге он встал как вкопанный на краю Тяньаньмэнь, глядя на площадь, а в носу вдруг невообразимо защипало.
(3)
Линь Фэй дождался окончания церемонии спуска флага на площади. Странно, но когда он собрался позвонить, У Сяолэй снова проиграла: в первый раз она проиграла Тяньаньмэнь, а во второй раз – женщине по имени Ван Лань.
В тот момент небо уже потемнело, солнце хоть и спряталось за облака, но словно свежий ленивый желток спокойно висело над рядами зданий. Температура заметно упала, ветер усилился и неприятно задувал в ноздри, Линь Фэй услышал, как у него заурчал живот, вытащил записную книжку, нашел телефонную будку и позвонил. На самом деле, уже так поздно, а он еще понятия не имел, где будет жить, и несколько волновался из-за этого. Записная книжка снаружи еще хранила тепло его тела, а внутри – телефоны родственников, друзей, однокашников, со многими из которых он давно не связывался. Линь Фэй перелистнул на страницу с именем У Сяолэй, сверху был написан ее телефон в родном городе, а пониже пекинский номер, при этом старый телефон он так и не зачеркнул, но если бы и зачеркнул, то все равно помнил бы наизусть. Телефон оказался занят, из трубки звучали короткий гудки, Линь Фэй набрал номер снова – опять занято, на седьмой или восьмой попытке он увидел имя Ван Лань и замешкался, размышляя, а не позвонить ли сначала Ван Лань, а потом уже, если не дозвонится, снова пытаться связаться с У Сяолэй.
Ван Лань – однокурсница одной из коллег и, возможно, единственный человек помимо У Сяолэй, с кем он мог связаться в Пекине. Новость о разрыве с У Сяолэй сразу же распространилась среди коллег, на самом деле о разбитом сердце даже и рассказывать никому не пришлось, просто Линь Фэй несколько дней выглядел расстроенным и потерянным, на работе беспрерывно посматривал на часы, зевал и ждал, когда окончится рабочий день, чтобы позвонить, так что все догадались, в чем причина. Окружающие ему очень сочувствовали, а что касается Вань Лань, то ее телефон стал побочным продуктом сочувствия. Коллега сказала, дескать, приедешь – позвони ей, если она не уехала в Штаты, то обязательно поможет, по крайней мере, жилье найдет без проблем. Линь Фэй набрал номер Ван Лань, в этот раз к телефону никто не подходил, и в трубке звучали длинные гудки. Линь Фэй задумался, а он сам вообще сможет найти место для ночлега или нет. Господи, он что, сам не справится?
Только он собрался сдаться, как наконец на его звонок ответили, и кто-то снял трубку.
– Алло, скажите, а Ван Лань дома? Мне нужна Ван Лань.
– Это Линь Фэй?
Линь Фэй удивился, как она так сразу догадалась. Неужто пресловутая интуиция?
– Приехал? Сяо Цзе утром позвонила мне. А ты сейчас где? На Тяньаньмэнь? Так приезжай. Возьми «булочку»[39], в смысле такси, желтенькое такое, довезет за десять юаней…
Она сказала адрес и объяснила, как добраться. Линь Фэй слушал собственные «угу», а в душе потихоньку поднималась волна тепла из-за этого вполне осязаемого женского голоса. Наконец-то в этом огромном городе он обрел конкретный ориентир, до которого можно добраться, и Пекин сжался до крошечной точки, только что в нем были У Сяолэй, Великая китайская стена, Запретный город, Тяньаньмэнь, а теперь осталась только женщина по имени Ван Лань. Когда мимо проезжал желтый микроавтобус, то Линь Фэй решительно поднял руку.
Ван Лань жила в районе Хайдянь на пятнадцатом этаже высотки, но по ее словам, это был не последний этаж, а предпоследний. Увиделись они безо всяких заминок, условившись о месте по телефону, в итоге встреча произошла рядом с памятником у входа в большой супермаркет неподалеку от дома Ван Лань – скультптура изображала женщину с голубем в руках, и на ее высокой серебристой груди толстым слоем лежала пыль. Ван Лань привела Линь Фэя к себе домой, переобулась, а потом провела экскурсию по своей двухкомнатной квартирке. Жилище Ван Лань оказалось на удивление скромным, все очень аккуратно, но даже никаких красивых вещиц, которые так нравятся девушкам, не было, зато здесь оказалось очень жарко, Линь Фэй выдержал в верхней одежде только две минуты. Он впервые приехал в Пекин, кроме того интересно было оказаться на верхнем этаже, Линь Фэю доводилось бывать во вращающихся ресторанах на крыше здания, но никогда в квартирах, которые расположены так высоко, поэтому он не выдержал и прижался лбом к стеклу, чтобы посмотреть на пейзаж за окном. Ван Лань, увидев это, отвела гостя на балкон, откуда якобы можно было смутно разглядеть Сишань, и даже было видно, как серая туча заглатывает последний луч солнца. Через несколько минут Линь Фэй вернулся, воодушевленно потирая руки, как всегда делал в минуты радости
– Ты так высоко живешь, голова не кружится?
Ван Лань опешила, не зная, как реагировать, а потом внезапно у девушки вырывалось просторечное «чё?», выдающее жительницу провинции, тут настала очередь Линь Фэя опешить, а потом они оба расхохотались. Их сближению способствовало то обстоятельство, что оба были земляками, каждый представлял собой одну трехмиллионную часть родного города, как потом сказала Ван Лань, раз они не встретились в родном городе, но умудрились встретиться в Пекине – это судьба. Разумеется, теперь Ван Лань официально жительница Пекина, с квартирой и пропиской, поэтому они говорили не на родном диалекте, а на путунхуа, хотя если прислушаться, становилось ясно, что девушке не всегда даются некоторые зубные согласные.
В этот момент Линь Фэй обратил внимание, что Ван Лань уже открыла подарочную упаковку с чаем «Те гуаньинь», которую передала коллега. Ван Лань объяснила, что дома нет чая, она не очень его любит и вечно забывает купить. Из-за этого Линь Фэй испытал некоторую неловкость, вроде как, если сидеть в гостях и пить собственноручно привезенный чай, то нет причин оставаться дольше, поэтому он принялся поспешно извиняться. А Ван Фэй в ответ лишь еле заметно улыбалась.
Большая часть чаинок осела на дне чашки, надо залить вторую порцию воды, только тогда они полностью раскроются, но из-за постоянно поднимающегося пара чай все равно постепенно становился зеленее. Они уставились в свои чашки, словно хотели, глядя на процесс заваривания чая, постичь какую-то важную истину. Ван Лань первой поднесла к губам чашку, сделала глоток и воскликнула:
– О, неплохо! Очень приятный вкус, правда, я не слишком хорошо разбираюсь в чаях.
Линь Фэй тоже отхлебнул из своей чашки, а потом с видом знатока сказал, что из керамической посуды было бы вкуснее.
Ван Лань снова улыбнулась, разглядывая Линь Фэя. Когда Сяо Цзе рассказала по телефону о земляке, то она именно таким его и представила: он с таким восторгом вошел в квартиру, а потом растерялся, вел себя бестолково, как большой ребенок, но только такой человек мог зимой без оглядки рвануть из Гуандуна в Пекин. А еще Линь Фэй напомнил Ван Лань ее младшего брата: те же густые брови, раскосые глаза, свойственные уроженцам их края, когда она спустилась встретить его, то он стоял на ледяном ветру, с шумом выдыхая воздух, а пуховик не выдерживал порывов ветра.
– Ты…
– А как…
Они заговорили одновременно и рассмеялись.
– А как Сяо Цзе, нормально? – спросила Ван Лань, немного подождав.
– Неплохо, она молодец, всего за несколько месяцев стала руководителем отдела кадров, – когда речь шла о ком-то другом, Линь Фэй отвечал без запинки. Так всегда, разговор легче начинать с обсуждения третьих лиц. – Когда она только пришла к нам в торговый зал, то каждый день должна была открывать и закрывать подъемные ворота и тратила кучу усилий, ты же помнишь, какого она роста. – Ван Лань засмеялась. – А однажды туда явился наш шеф, а Сяо Цзе попросила помочь. Она не знала, что это шеф. В результате шеф перевел ее работать в офис. – Линь Фэй и Ван Лань посмеялись, а потом он продолжил: – Сяо Цзе говорила, что ты хорошо устроилась, удачно вышла замуж и, если все срастется, скоро поедешь в Америку.
– Я-то? – Ван Лань ответила вопросом на вопрос, но продолжения не последовало, Ван Лань замолчала под предлогом того, что ей нужно долить воды, а потом спросила Линь Фэя, сколько дней он планирует пробыть в Пекине.
Линь Фэй задумался, поскольку действительно затруднялся ответить.
– Надо доделать дела, а потом сразу уеду.
Очевидно под «делами» он имел в виду У Сяолэй, но предполагал, что У Сяолэй не слишком жаждет его видеть, то есть задерживать не станет.
– Тогда поживи внизу, на первом этаже маленькая гостиница, вполне нормальная.
Линь Фэй улыбнулся, вспомнив, что не успел позаботиться о ночлеге, и может быть, Сяолэй предложит то же самое.
Ван Лань явно поняла его превратно и поспешно добавила:
– Правда, хорошая. Не подвал какой-нибудь. Мои родственники и друзья тоже всегда там останавливаются.
Линь Фэй поторопился объяснить, что дело не в этом, просто он вспомнил об одном деле. Перед ужином они зашли в эту гостиницу забронировать комнату. Линь Фэй заплатил всего за один день, поскольку думал, что на следующий день уже переберется в другое место, какое именно, он пока не придумал, просто пришла в голову мысль, что нужно как минимум переехать поближе к У Сяолэй. Пока он регистрировался, Ван Лань стояла поодаль у двери, вроде как читала буклет гостиницы, а Линь Фэй в одиночестве спокойно склонился над столом у окна, заполняя витиеватую анкету. Поскольку паспорт ему выдали в родном городе, то пришлось заполнять все, как есть, только дойдя до пункта «цель приезда в Пекин», Линь Фэй подумал немножко и в итоге додумался написать «командировка», а дальше заполнял уже наобум.
(4)
У Сяолэй он позвонил за ужином, пока они ждали, когда принесут заказ, все, что можно обсудить за такое время, они уже обсудили, и теперь смотрели через огромное панорамное окно на городской пейзаж. Мимо окна на ледяном ветру гуляла пара с собачкой, собачка под каждым деревом увлеченно водила носом, забыв обо всем на свете, по улице промчался кортеж автомобилей, и хотя это длилось всего секунду, Линь Фэй успел заметить, что это все сплошь «Лексусы», «БМВ», «Бентли» и «Луди» – все, что можно, он уже сделал, что же теперь предпринять, чтобы заполнить это внезапное одиночество, огромное, как небо. Ага, позвонить, надо позвонить, появившись, эта мысль уже не отпускала его, Линь Фэй сидел как на иголках. Ему хотелось знать, что сейчас делает У Сяолэй, она ведь тоже, наверное, ждет его звонка и так же не находит себе места. Эта иллюзия в итоге заставила его подняться с места, он напустил на себя ответственный вид и сказал Ван Лань, что должен позвонить. Ван Лань покивала и показала на стойку, мол, там есть телефон.
Телефон все еще был занят, сейчас как раз самый пик, опыт подсказывал, что сейчас дозвониться сложнее всего. У Сяолэй говорила, что в ее общежитии телефон общего пользования стоит в коридоре, в такое время он, понятное дело, оккупирован. Линь Фэй повесил трубку, подождал немножко, потом снова набрал номер, и опять раздались короткие гудки. Линь Фэй начал было ругать болтуна, висящего на телефоне, но потом подумал, а что если это У Сяолэй с кем-то разговаривает. Он в третий раз набрал номер и наконец дозвонился. Оказалось, ругался он правильно, потому что по телефону болтала не У Сяолэй. Женский голос позвал:
– Сяо У, тебя к телефону!
Он услышал, как отголоски крика разносятся по коридору, а потом кто-то отозвался, только непонятно, У Сяолэй или нет.
– Подождите!
Трубку положили рядом с аппаратом. Разумеется, ему оставалось лишь подождать. Ожидание растянулось надолго, на целую вечность, Линь Фэй гадал, что там делает У Сяолэй, может, в туалет пошла или марафет наводит, и тут наконец раздался стук высоких каблуков, которые бежали к телефону, но не быстро, а как-то степенно, а затем раздался до боли знакомый голос:
– Алло!
Линь Фэй так разволновался, что не мог вымолвить ни слова и только после долгой паузы произнес:
– Это я…
– Только приехал… Разве поезд не дневной?
Линь Фэй ощутил волну тепла. Если бы ей было наплевать на него, то она бы не запоминала все это. Пришлось признаться, что днем он ездил на Тяньаньмэнь, но он тут же забеспокоился, не обидит ли У Сяолэй подобный ответ.
– Гостиницу нашел?
– Угу.
– Поужинал?
– Поужинал.
Он и сам не знал, зачем соврал, просто вдруг испугался, что У Сяолэй сейчас захочет увидеться. Но этого не произошло, У Сяолэй сказала только:
– Ну, тогда ладно. Мне тут надо выйти по делам… По работе.
Последними словами она определенно дала понять, что сегодня они точно не встретятся, но не стала объяснять, что за работа и почему в такой поздний час, ему это не понравилось:
– Но…
– А что если завтра днем. Утром сходи в Гугун[40], посмотри, а в полдень звякни мне, и вместе пообедаем.
У Сяолэй вроде как советовалась, но не оставляла ему выбора.
Когда Линь Фэй положил трубку, уже принесли еду. Он сел за стол, но лицо посерело, сразу понятно, что разговор оставил неприятный осадок. Ван Лань спросила, дозвонился ли он. Линь Фэй лишь кивнул. Давай есть! Он схватил палочки и только тут обнаружил, что на столе всего три блюда и суп, отложил палочки, снова взял меню. Давай еще что-нибудь закажем! Есть одно такое блюдо, не знаю, ты пробовала или нет, я тебе порекомендую. Линь Фэй с улыбкой листал меню, вдруг поймав себя на мысли, что ему сейчас хочется сорить деньгами, и ища повод потратить побольше. Ван Лань не успела помешать.
Это был ресторан гуандунской кухни, хозяин, толстяк средних лет, услышав, что гости хотят дозаказать жареную голубятину, ни с того ни с сего обрадовался и крикнул помощнику, чтоб тот вынес им посмотреть голубя.
Линь Фэй спросил:
– Это образец?
– Чего? – не понял хозяин, но расслышал в вопросе вызов.
Линь Фэй снова спросил:
– Нам точно его принесут?
Хозяин обиделся и велел Линь Фэю самому пойти на кухню и посмотреть, как голубя выпотрошат, ощиплют и кинут в котел. Ван Лань сказала:
– Да ладно, вы нам его живого вытащили, как теперь есть?
Но Линь Фэй велел поварам отправляться на кухню и приготовить именно этого голубя. Изначально он хотел угостить Ван Лань, но в результате девушка его опередила и, пока он отлучился в туалет, сама расплатилась по счету.
Когда они вышли, ветер уже стих, над Пекином сгустилась глубокая, тихая и холодная тьма, если собрать воедино все эти ощущения, то возникало чувство, будто пространство расширилось и стало больше. Было, наверное, около девяти, но им казалось, будто уже перевалило за полночь. Линь Фэй сказал, мол, у нас дома только-только самое оживленное время начинается. Ван Лань поделилась своими ощущениями: когда только-только приехала в Пекин, тоже никак не могла привыкнуть, что здешние жители так рано ложатся. Поскольку время еще было раннее, да и денег потратить не удалось, и теперь они болтались в кармане, Линь Фэй предложил зайти куда-нибудь посидеть. Ван Лань улыбнулась, она уже успела понять, что за человек Линь Фэй, и знала, что если он не потратит денег, то уснуть не сможет, и согласилась, покачала головой и сказала:
– У нас дома люди до ужаса простосердные.
До ужаса простосердные. Снова она употребила диалектное словечко.
Выбор пал на один из баров, они выбрали укромное местечко на верхнем ярусе в зале, считай, на втором этаже. Линь Фэй заказал Ван Лань свежевыжатый сок и всякие там фисташки и сушеные сливы, а себе взял две бутылки пива. Ему нравилось пить пиво, как он говорил, от пива душа разворачивается. Ван Лань спросила, почему же он за ужином не выпил, а Линь Фэй сказал просто, что забыл. Может, и впрямь забыл, он и сам толком не понимал сейчас.
В зале звучала неторопливая фортепианная мелодия, а вскоре вступила еще скрипка или виолончель. Линь Фэй после нескольких глотков пива ощутил все нараставшую потребность излить душу. Он уже проболтался, а Вань Лань не стала из уважения выспрашивать подробности, но в этой обстановке да еще под жалобные звуки скрипки, в мозгу вдруг ярко всплыла их с У Сяолэй история, длившаяся пять лет. Ван Лань, сидевшая напротив, казалась старшей сестрой, хоть они только что познакомились, сестрой, на которую можно положиться, и он уже не мог притормозить.
В тот вечер Линь Фэй отвел Ван Лань домой, оказалось, что лифт уже не ходит, они вместе поднялись на пятнадцатый этаж, а потом Линь Фэй остался ночевать в гостиной в квартире Ван Лань.
Разбудил его часов в восемь или девять солнечный свет. Луч солнца проник через щелку в шторах, четко упал на стеклянный столик перед лицом Линь Фэя, преломился множество раз, и комната наполнилась ярким светом, словно от взрыва.
Глава вторая
(1)
Ван Лань снился сон. Ей очень нравились два сна. Первый, будто она в детстве едет с отцом на велосипеде и вдруг почему-то падает с багажника, отец не замечает и продолжает крутить педали, а она сидит на земле, но не плачет и не кричит, а просто смотрит на его удаляющийся силуэт. Второй сон явно был связан с жизнью в Пекине, с тем одноэтажным домом на несколько семей, где ей пришлось жить, поскольку ей всегда снилось, как одна улица переходит в другую, словно какой-то бесконечный хутун[41], из которого нет выхода, как будто все эти улочки она уже проходила и все ей знакомо, а за каждым поворотом растет старая софора, под которой стоит какой-то псих, и он бросается к ней с воплями. Наконец она прибегает к туалету без стен и двери, там только старорежимный унитаз, а бачок подвешен в воздухе.
Второй сон Ван Лань обсуждала с девочками с работы, они растолковали значение, сказали, что это эротический сон: хутун без выхода означает тревоги, а туалет без дверей – ее сексуальность, точнее сказать стыдливость в вопросах секса. Разумеется, Ван Лань не восприняла подобный анализ всерьез, только посмеялась, поскольку по Фрейду почти любой сон можно связать с сексом, например, почему бы не истолковать первый сон как проявление комплекса Электры: то, что она смотрит на удаляющегося отца, тоже выражает отношение к сексу, поскольку в основном она испытывает в этом плане безнадежность.
Ван Лань приехала в Пекин в девяносто первом году, ей тогда исполнилось двадцать четыре. Особых причин перебираться в столицу не было, начальник на работе относился к ней неплохо, отношения с молодым человеком были хоть и вялотекущие, но он ее любил и заботился, просто ей захотелось сменить обстановку. В один прекрасный день она внезапно поняла, что если так и будет киснуть дома в этой серости, то задохнется, надо проветриться! Тогда все рвались на юг, если не на Хайнань, то в Чжухай, но Ван Лань выбрала Пекин, поскольку в глубине души считала себя незаурядной, а Гуандун выбрать могли лишь посредственности. Ее молодой человек, вполне довольный своей судьбой, заметил, что у нее по венам течет кровь мужика, наверное, потому что она злоупотребляет острой пищей, в итоге чувство собственной гордости у нее зашкаливает, голова вскружилась. Потом они полюбовно расстались, и Ван Лань не испытывала никаких сожалений.
Приехав в Пекин, Ван Лань сняла за сто юаней угол в крестьянской хибаре в районе Пингоюань, а потом довольно быстро нашла работу секретаря в рекламном агентстве. В Пекине у нее не было ни родных, ни знакомых, поэтому сначала она пахала в поте лица, опираясь только на веру в свои силы и инстинкты. На какое-то время Ван Лань даже забыла, что она девушка, что ей нужно чье-то сильное плечо, надежный партнер, которому можно поплакаться. По утрам она вставала раньше всех соседей с первыми лучами солнца, поскольку нужно было успеть на автобус, потом ехала по первой линии метро, пересаживалась на кольцевую, затем на первом автобусе доезжала до района Хайдянь, а вечером тот же двухчасовой маршрут предстояло преодолевать в обратном порядке. Ужин Ван Лань начинала готовить себе затемно, а перед сном уже не было сил ни о чем думать. Так можно жить неделями, но, разумеется, и у такой жизни есть предел, предел, когда неимоверно устаешь, теряешь веру, начинаешь предъявлять к себе завышенные требования, и в этот момент жизнь тоже может внезапно продемонстрировать звериный оскал.
В мае начались ливни, температура резко повысилась. Хозяйка расхаживала голышом, как-никак уже восемьдесят лет, имеет право, но Ван Лань не осмеливалась взглянуть на нее. Обвисшие груди, похожие на пустые мешки, словно бы конечная остановка на пути каждой женщины, навевали дурные предчувствия. Бросающиеся в глаза морщины словно исторические расщелины тянулись вниз прямо от шеи. Это был увядший цветок, лишенный жизни, гордость, которую можно выставлять напоказ. Сын хозяйки, немногословный мужчина средних лет, волновался за Ван Лань, уговаривал мать одеться, но старуха обмахивалась веером и слушать его упорно не желала. Что стыдишься, а раньше мамкину сиську сосал, не стыдно было? Сыну нечего было возразить, он не мог победить голую старуху.
Перед ливнем сначала дул сильный ветер. Только тогда Ван Лань узнала, что крыша маленькой комнаты сделана из жести. Когда ветер свирепствовал, крыша с грохотом прогибалась, когда ветер стихал, крыша с громыханием возвращалась в исходное положение. Ван Лань казалось, что она сидит внутри огромного барабана, и когда раздавался грохот, то словно бы и на ее сердце кто-то играл, как на барабане. Стук дождя напоминал звук военных барабанов. Бесчисленные барабанные палочки поочередно атаковали ее мозг, а потом тело, а потом начинали стучать изнутри. В такие моменты старуха открывала зонт и выходила на улицу, семеня своими маленькими восьмидесятилетними ножками, она кричала ей. Девушка! Крыша не течет? Нет, тетушка, не течет! А не то иди ко мне, переночуем вместе! Нет, спасибо! Ван Лань лежала не шевелясь на кровати, прижав колени к груди, ей не хотелось откликаться на приглашение старухи, пока что она не прекратила сопротивляться. Ван Лань боялась, что стоит расслабиться, как все разрушится и придется ставить крест на уже достигнутом. С улицы уже не доносилось ни звука, наверное, старуха вернулась к себе.
Когда шум дождя постепенно стал стихать, она услышала странный звук, который постепенно усиливался, оказывается он шел из ее горла, она ревела навзрыд, словно бы очутилась в безлюдной местности, где можно дать себе волю. В тот день она ничего не ела, и, несмотря на это, разошлась не на шутку, расслабилась, пользуясь дождем и одиночеством. Вспомнила родителей, о которых давно уже толком не вспоминала, а еще своего молодого человека, который на прощание сказал: если не выдержишь – возвращайся! Наверное, он ей сочувствовал, о чем еще может мечтать девушка? А еще она вспомнила хитрую и мерзкую псину хозяйки, которая обожала подкрасться незаметно и, воспользовавшись невнимательностью девушки прихватить ее за голень, Ван Лань не успевала разозлиться, как собака отбегала и делала самый что ни на есть невинный вид…
В тот дождливый вечер девушка по имени Ван Лань наконец устала, наконец начала спрашивать себя, чего она хочет, зачем приехала в Пекин? Она даже начала думать, что Пекин изначально не мог дать того, что ей нужно, но задав себе еще несколько вопросов, обнаружила, что у нее и вовсе нет цели, она человек без цели.
(2)
Наверное, это была вторая ее работа, она устроилась на совместное предприятие тоже в отдел планирования, на ту же зарплату в шестьсот юаней, но название звучало куда приятнее. Тайваньцы похоже, помешаны на производительности труда, время прихода на работу и время ухода отмечались по часам, Ван Лань впервые столкнулась с такой системой. В первый день она перепугалась, поскольку за пять минут до начала рабочего дня появился вдруг генеральный директор, все повскакивали с мест, и генеральный директор поприветствовал их «С добрым утром!». Отвечая, все ритмично хлопали в ладоши, и Ван Лань вместе со всеми хором произнесла вслух «С добрым утром!», не попадая в такт аплодисментов, хорошо, что она хлопала так тихо, что можно не обратить внимания.
В отделе планирования работали три девушки, в обеденный перерыв они, естественно, собирались вместе. Та коллега, что толковала Ван Лань сон, была самая старшая, уже средних лет, поговаривали, что она говорит, что в голову взбредет, но при этом предсказывает судьбу окружающим, так вот однажды эта коллега сказала, что Ван Лань два раза выйдет замуж, незамужняя Ван Лань в ответ, разумеется, только посмеялась. Перешагнувшая тридцатилетний рубеж коллега по слухам училась в Америке, на лице ее всегда красовалось томное и сдержанное выражение, поскольку она чрезвычайно гордилась собой. Из разговора девушек Ван Лань узнала, что поскольку эта «американка» вернулась служить родине, то ей положен особый номерной знак на легковой автомобиль, вот только эта старая дева никак не могла решить, какой марки машину приобрести, поэтому они несколько дней подряд обсуждали автомобили. Однажды Ван Лань не выдержала и спросила, какой университет она закончила, на что старая дева равнодушно бросила:
– Стэнфорд.
Карта мира в голове Ван Лань, наверное, ограничивалась только столицами разных стран, потому она снова задала вопрос:
– Это в Вашингтоне?
Старая дева по-прежнему равнодушно ответила:
– В Калифорнии.
Линь Фэй впервые рассказывал кому-то свою историю о том, как за эти пять лет они с У Сяолэй чаще были порознь, чем вместе, о том, как он страдает и какая бесчувственная У Сяолэй, и даже сейчас выбирал достаточно мягкие формулировки. Хотя Ван Лань из разговора с однокурсницей уже знала кое-какие детали, но то была история, рассказанная спокойным голосом о постороннем человеке и в общих чертах, но теперь она обрела полноту, а голос и интонация рассказчика и лирическая музыка стали ее фоном. Разумеется, история была заурядной, обычная любовная история обычного человека, при этом довольно простая, без крутых поворотов, как печатают в вечерних газетах, но все же Ван Лань растрогалась, более того, когда в уголках глаз Линь Фэя блеснули слезы, у нее на душе стало вдруг тяжело, а потому девушка побыстрее опустила голову, чтобы отхлебнуть сока, лишь бы не встречаться взглядом с этими несчастными глазами.
На самом деле все люди одинаковые. Каждый считает, что его любовь самая романтическая, больше других заслуживает того, чтобы лечь в основу книги, яркого любовного романа, и так всегда. Поэтому когда Ван Лань высказывала свое мнение, то сказала, что у каждого свои стремления, насильно мил не будешь и это непреложная истина. Она не хотела вставать на сторону Линь Фэя и подливать масла в огонь. На самом деле конец истории Линь Фэя она уже знала, Ван Лань была постарше на несколько лет и могла судить с высоты своего опыта, а потому считала, что и Линь Фэй все понимает, вот только признать не хочет. Линь Фэй согласился с точкой зрения Ван Лань, даже поддакивал, но стоило поменять тему, как он тут же забыл все, что она говорила, и погрузился в собственные переживания с головой.
В этот момент женский голос запел то ли отрывок из «Турандот», то ли из «Мадам Баттерфляй», Линь Фэй не слишком хорошо разбирался в операх, но их с Ван Лань почти одновременно покорило это чистое и торжественное пение, они перестали обсуждать то, что только что обсуждали, и прислушались. В этот момент к пению прислушались почти все посетители, сидевшие и разговаривавшие в зале, в тишине наслаждаясь этой мелодией, не совсем попадающей в такт их жизни. Линь Фэй нашел взглядом певицу, одетую в белое платье, которая стояла рядом с фортепиано, положив одну руку на него. Линь Фэй не понимал, о чем песня, но ее мощь покоряла. Это любовная песня? Но она такая серьезная и даже надменная! Певица пела без микрофона, но казалось, голос такой силы, что он уносится прямиком в небо, и весь зал, весь стеклянный купол, в мгновение ока наполнился чувством, завибрировал, и все перестали даже шептать, позабыв обо всем на свете.
Линь Фэй, понятное дело, растрогался, его сейчас и так легко было растрогать, и этот момент не стал исключением, он не мог сдерживаться, и когда выступление закончилось, тут же нетерпеливо зааплодировал. В зале звучали лишь его одинокие аплодисменты, поскольку больше никто не хлопал, остальные видели выступления и на большой сцене, их все это не так тронуло. Когда певица поблагодарила его легким поклоном, Линь Фэй несколько смутился, он увидел, что на него устремлен насмешливый взгляд Ван Лань, и сказал, что надо спросить у певицы, что это за ария.
Этот прекрасный вечер был полон волнений и чудес, одно чувство подходило к концу, зато зародилось другое. Иногда Линь Фэй думал, что на самом деле бог его любит и не хочет, чтобы Линь Фэй пал духом, чтобы в любви сдался сразу же после первого поражения, как это назвать – компенсация или спасение?
Их история началась вечером, тогда Ван Лань с удивлением обнаружила, что время незаметно подобралось к одиннадцати часам. Она сказала:
– Хватит, надо поторопиться, а то в одиннадцать выключают лифт, подъем на пятнадцатый этаж меня убьет.
Они в суматохе расплатились по счету, быстро поймали такси и поехали в сторону дома Ван Лань, но явно опаздывали, то есть сегодня вечером им придется, пыхтя и поддерживая друг друга, подниматься на пятнадцатый этаж.
На третьем кольце их остановил патруль. Водитель внезапно повернул голову и сказал:
– Запомните, вы знакомы, быстро узнайте друг у друга имена.
Они еще не успели понять, что происходит, а машине уже преградили путь, и по обе стороны встали два полицейских, Линь Фэй и Ван Лань велели выйти, потом отвели на обочины по разные стороны дороги, и теперь их разделяла широкая улица.
Линь Фэй до сих пор помнит прыщавого юнца-полицейского и его низкий гортанный голос, то, как он медленно и лениво спрашивал: откуда Линь Фэй родом, зачем приехал в Пекин, какие отношения связывают его с Ван Лань.
Линь Фэй вытащил удостоверение личности со словами:
– Мы с ней земляки, вместе учились.
Это, конечно, он ляпнул наобум, но когда посмотрел тайком на Ван Лань на другой стороне дороге, то почувствовал, что девушка смешалась еще сильнее, у нее определенно нет с собой удостоверения личности, поэтому она отчаянно жестикулировала, уж не забыла ли она его имя? В конце концов он увидел, как Ван Лань листает телефонную книжку, бросив на землю сумку, отчего все ее содержимое рассыпалось, должно быть, она ужасно злилась, но ничего не могла поделать. Линь Фэю вдруг захотелось улыбнуться, поскольку Ван Лань от нетерпения притопывала ногой, как маленькая девочка. Хотя ситуация в итоге и прояснилась, но подъема на пятнадцатый этаж им было уже не избежать.
Ван Лань ненавидела себя и ненавидела этот дурацкий вопрос, но если посмотреть на документы, которые составляла старая дева, то они далеки от правильных, как минимум; чтобы достичь того же уровня, не обязательно ехать учиться в Штаты. Но зато старая дева добилась расположения директора, поскольку училась за границей, а в Стэнфорде даже директор не учился, и тут они соревновались, а потому все бредовые идеи старой девы, которые словно бы с луны сваливались и фонтанировали, как из унитаза, воспринимались как ее американский английский, типа международный уровень. Вот только проекты ее часто возвращали, поскольку они были скучнее и не отвечали духу времени. Потом, когда кто-то произносил словосочетание «дух времени», Ван Лань тут же вспоминала фонтанирующий унитаз.
Вскоре Ван Лань узнала, сколько зарабатывали две ее товарки, и лишилась дара речи. Той, что постарше, платили тысячу в месяц, а «иностранке» и того больше – целых две, поэтому она поклялась, что сменит работу и побыстрее уберется из этого дурацкого места.
Жилье она тоже сменила, и хотя по-прежнему жила в одноэтажном доме, но из Пингоюаня перебралась в Бэйсиньцяо. Одна ее коллега из рекламного отдела – ну, если точнее, то тамошняя уборщица – как-то раз спросила, не может ли Ван Лань позаниматься с ее сыном-негодником, а то ему в старшие классы вот-вот переходить, а оценки такие, что вслух и не скажешь, но сразу предупредила, что много платить не сможет. Сделай доброе дело, помоги! Ван Лань согласилась и с улыбкой ответила, что денег не возьмет. Она увидела «негодника», которому оказалось пятнадцать лет. Он был удивительно высокий, а под носом уже пробивались усики, твердолобый тупица с вонючими ногами. Каждый раз, когда она приходила, мать ругалась, дескать, ты бы хоть ноги вымыл, а то в комнате воняет! Коллега каждый вечер готовила ей и сыну тушеную курятину в соевом соусе или же брала поросячьи ножки вместо курятины. На самом деле Ван Лань вовсе не хотела, чтобы коллега тратилась, просто хотела помочь ей и «негоднику». Какие уж тут деньги, хотя как учитель она оказалась вполне на уровне, даже перед экзаменами заставила этого твердолобого юнца хоть как-то соображать, и хотя он поступил только в профтехучилище, мать осталась довольна.
Дом в Бэйсиньцяо принадлежал на самом деле пожилой тетушке коллеги, чтобы растрогать тетушку, коллега специально поехала убедить старушку освободить тот крошечный флигель, где свален всякий хлам. Арендная плата составила сто юаней в месяц с помесячной оплатой, знающие люди говорили, что Ван Лань повезло встретить хороших людей, потому что в этом районе дешевле цен не сыщешь, считай, живет задаром. Как говорится, хорошие поступки не остаются без вознаграждения.
Когда Ван Лань наконец увидела флигель и поняла, что там было раньше, она все равно бесконечно обрадовалась. Когда комнатку освободили от хлама, Ван Лань оклеила глинобитные стены газетами, а поверх наклеила белую бумагу, пол оказался земляной, потому она нашла человека, который залил его бетоном. Флигель круглый год не видел солнечного света, поскольку его загораживал основной дом, но Ван Лань купила зеленые шторы, при закрытой двери комната наполнялась зеленым светом, и даже в самые жаркие летние дни здесь было прохладно.
С ее приездом во дворике стало более оживленно, в доме напротив поселился еще один тетушкин жилец, приехавший из провинции Ань-хуэй и подрабатывавший в больнице, в другой комнате жил тетушкин младший двоюродный брат, две его дочери уже вышли замуж, так что остались только двое стариков. Хозяйка относилась к ней очень хорошо. Она курила папиросы и всегда держала наготове папиросу в руке, если происходило что-то смешное, то старушка смеялась, как молоденькая кокетка, прикрывая рот рукой, а в серьезные моменты любила приговаривать «Вот оно что». Старики пришли помочь Ван Лань клеить газеты на стены, на новый год и другие праздники дарили ей «подарочки», а зимой принесли из дома чугунную печку и попросили и для нее привезти с угольного склада сотню угольных брикетов.
Во дворике рос финик; когда Ван Лань только въехала, финики как раз созрели, и сюда часто наведывались соседские ребятишки попытать счастья. Когда все листья опали, то голые ветки напоминали рисунок тушью, и глухой ночью раздавался прерывистый хруст, а при свете луны ветви превращались в ледышки. Под деревом проходила водопроводная труба, круглый год влажная, темная и твердая, словно из железа.
Вскоре появилась и новая работа. Как только похолодало, Ван Лань перешла наконец на новое место. Осенью во время празднования дня образования КНР проводилась самая крупномасштабная ярмарка вакансий, на этом мероприятии Ван Лань уже стала постоянным гостем, а поскольку бывала часто, то уже знала ходы-выходы. Она по обыкновению неторопливо обошла весь зал, заполнила анкету, попросила материалы и рекламные проспекты, на пекинском диалекте сообщила, что она от добра добра ищет, то есть работа у нее уже есть, а потом в отличие от новоиспеченных выпускников может сначала тщательно взвесить условия в нескольких компаниях, а потом уже что-то решить. Кроме того по изначальным условиям Ван Лань проигрывала, а потому к крупным компаниям, к серьезным государственным предприятиям, а также к тем учреждениям, где требовалась местная прописка, она даже не совалась и на этой бурлящей и клокочущей ярмарке вакансий напоминала скорее беззаботную посетительницу и в любой момент могла затеряться в толпе.
На углу Ван Лань остановилась, ее привлекло объявление о приеме на работу в информационный центр одной киностудии, написанное на листе бумаги и приклеенное сразу, как только высохла тушь, иероглифы косые, как будто речь о работе не в информационном центре, а в маленьком ресторане. Но подобные рекламки на самом деле висели всюду. Такие фирмы по большей части с подвохом, очень маленькие, торопливые и своевольные, но по сравнению с честными крупными компаниями единственное их преимущество заключалось в том, что им плевать на то, откуда ты, родился ли в Пекине, есть ли официальная прописка.
Рядом с рекламой сидел молодой человек в европейском костюме, с короткой прической, причем волосы уложены муссом так, что стояли дыбом. Место было не самым оживленным, потому он сидел, закинув ногу на ногу, и тряс носком ботинка. Пока Ван Лань читала объявление, молодой человек, разумеется, искоса осматривал ее с головы до пят и обратно. Впоследствии Ван Лань узнала, что это глава информационного центра, второе лицо на фирме и ее будущий начальник.
Ван Лань спросила о характере работы, поскольку печатала очень хорошо, ведь успела поработать в издательстве, редакции газеты и рекламном агентстве, да и редактуру тоже делать приходилось. Когда она рассказывала о себе, то делала это слегка отстраненно, немножко приукрасила, но и эти сказки рассказывала с достоинством и безразлично, словно бы дает шанс кому-то другому – как ведут себя истинные пекинки, Ван Лань освоила блестяще. Молодой человек в итоге заинтересовался, посмотрел копию диплома и сказал, что она определенно подходит. Он даже притащил стул, велел садиться, продиктовал адрес фирмы и назвал зарплату. Компания располагалась очень близко от ее дома, две остановки, да и платили восемьсот, то есть больше на две сотни, чем сейчас. Но Ван Лань сдержалась и, не дрогнув ни единым мускулом, сказала, что нужно подумать. Молодой человек пригласил прийти завтра. Говорил он доброжелательно и искренне. Ван Лань обратила внимание на белые зубы, которые он продемонстрировал в улыбке, такие редко увидишь среди курящих, а глаза его напоминали глаза какого-то травоядного животного, такие же влажные – свидетельство того, что он не может быть плохим человеком. На самом деле в тот момент Ван Лань уже в душе приняла решение поменять работу.
На следующий день, когда она пришла на экскурсию в компанию и подтвердила свое мнение, ей с первого взгляда понравилось это место, все сотрудники информационного центра, как и она, приехали в Пекин работать, самое ближнее из Хэнани. Ван Лань была единственным редактором и единственным человеком, закончившим университет. Ей понравилось место, где можно ощутить собственную важность.
(3)
Когда зимой впервые упада температура, то кран во дворе замерз (на самом деде так часто случалось, как она узнада впоследствии, но в первый раз в ее душе что-то изменилось). В тот день у нее в комнате не было воды, так что пришлось идти к тетушке, чтобы поклянчить воды для умывания, и потом весь день Ван Лань пребывала в растерянности, совсем как в дождливый день, когда не можешь вспомнить, сушится ли одеяло на улице.
Сначала она по ошибке решила, что это просто беспокойство, беспокойство по поводу того, как зимовать в Пекине, но она купила черное драповое пальто и пуховик, а тревога никуда не делась, и только тогда Ван Лань поняла, что ей нужно кое-что, не имеющее отношения к погоде. Наконец она успокоилась, потихоньку привыкла к Пекину, началась новая жизнь, а в постепенно утихающем и упрочивающемся чувстве мало-помалу образовалась черная дыра, иногда это было одиночество, а порой уныние. Она стала более чуткой и осторожной, чем раньше, чаще проводила время наедине с собой, но при этом стала добрее.
Рабочий, который привозил ей угольные брикеты, за раз принес пятьдесят брикетов, так что все сто – за два раза. Она видела, как сын соседей из провинции Аньхуэй поднимает по пять-шесть брикетов и то морщится. Перед тем, как расплатиться, Ван Лань вежливо пригласила рабочего войти и присесть, достала ему кока-колу. Это был парень лет тридцати с небольшим лет от роду, с темной кожей, одетый в такой холодный день лишь в рабочую спецовку, и то расстегнутую, под которой заметно проступали крепкие мышцы. Ван Лань вспомнила, как в детстве ходила играть к отцу на завод, и рабочие, включая и отца, так же расстегивали спецовки, на самом деле ей нравилось крутиться рядом с ними и нравилось возвращаться туда. В тот день, когда она смотрела на это обнаженное тело, сердце вдруг растаяло, и тело тоже обмякло, к щекам прилила кровь. Если бы молодой человек заметил это, то она не смогла бы устоять. Но парень занимался тем, что учил ее, как пользоваться угольными брикетами, сколько надо положить в печку, чтобы уменьшить огонь, но не погасить его, а потом начал жаловаться на жизнь, на то, как тяжело им с женой работать вдали от дома, а ребенок растет без присмотра, запертый дома один. Ван Лань дала ему две банки кока-колы для ребенка, а затем терпение ее лопнуло, и она фактически вытолкала его за дверь.
Когда снова стало жарко, с Ван Лань случилось кое-что неприятное. Должно быть, в час пик по дороге домой в переполненном вагоне метро частенько происходит такое. Она тогда назвала это хулиганством. Так вот, рядом с ней стоял хулиган, который начал своим твердым хозяйством прижиматься к ее бедрам сзади. Разумеется, он делал это специально, поскольку она несколько раз попыталась увернуться, но тщетно, а вагон был переполнен. Ван Лань смутилась и испугалась, не понимая, что делать. Хулиган это явно понял, поскольку прижимался сильнее. Вагон покачивался, и они покачивались в такт. Она с головокружением вышла не на своей остановке, но не хватило смелости даже просто оглянуться и найти взглядом этого хулигана. Она сидела на скамейке перед станцией и, сдерживая обиду, долго рыдала, словно у нее украли кошелек. Потом ей пришла в голову хорошая идея – по дороге отключать голову, она словно бы все забывала. И о том случае, разумеется, хотела забыть, но с приходом зимы вспоминала несколько раз, причем во всех подробностях.
Конечно, не всем было на нее плевать. Один сослуживец чуть ли не каждый день приходил поиграть в компьютер, но, играя, постоянно посматривал на нее. Как-то раз начальник возьми и брякни: что, опять пришел проведать нашу Ван Лань? Покраснел не только парень за компьютером, но даже и сама Ван Лань. Потом она, конечно, рассердилась, а начальник продолжил: дескать, присмотрись, парень неплохой, дважды, правда, разведенный, чувствую, и в третий раз разведется.
Старая хозяйка не показывалась, но дважды заходил ее зять. Говорили, что он повар в посольстве какой-то африканской страны, но Ван Лань он категорически не нравился, поскольку в первую же встречу он в лоб спросил – что ты делаешь в Пекине? Грубо и бесцеремонно. Периодически он к ней захаживал. В первый раз ничего такого, просто перебросились парой фраз, зато во второй раз он похлопал по кровати, спросил нормальное ли одеяло, теплое ли, а то вроде кровать какая-то маленькая, а заодно хлопнул Ван Лань по бедру. Девушка так перепугалась, что сбежала под предлогом, что ей надо в туалет, полчаса гуляла по улице прежде, чем вернуться, а когда вернулась, то дверь была полуоткрыта, а зять куда-то делся.
В тот вечер Ван Лань подперла дверь стулом, она не осмеливалась крепко заснуть, сначала не осмеливалась, а потом и просто не могла уснуть. Все боялась, что зять-повар на самом деле не ушел, а спрятался где-то, дождется, когда Ван Лань уснет, выскочит и схватит: я тебе ключ принес, ключ-то я тебе так и не отдал! Она лежала на краешке кровати и тихонько прислушивалась к малейшим шорохам во дворе, но двор спал. Дом располагался близко от второго кольца, поэтому до нее доносился лишь грохот проезжавших автомобилей, словно мимо текла какая-то огромная река.
В мгновение ока наступила весна, поскольку в конце года прибыль оказалась неплохой, так что сотрудники весело отправились в ресторан пообедать. Когда уходили, то начальник спросил, не домой ли она едет, узнав, что да, предложил проводить, поскольку ехал в ее район к другу. У начальника был джип «чероки», не бог весть какая машина, но для человека его темперамента вполне подходящая. Но когда начальник довез ее до дома, то забыл о своем плане навестить друга, а вместо этого вдруг спросил Ван Лань, почему бы ей не пригласить его зайти? Ван Лань удивилась, кроме того не смогла вспомнить, заправила ли утром постель, а потому спросила, не нужно ли ему к другу, и предупредила, что у нее не прибрано. Начальник задрал нос и сказал, мол, чего испугалась-то, ты сотрудник нашей фирмы, я же должен знать, как ты живешь. Делать нечего, пришлось Ван Лань, собравшись с духом, вести начальника во двор, сказав, дескать, условия не очень, не смейтесь. Начальник отмахнулся: ну, что ты, я тоже из простой семьи.
В тот момент Ван Лань определенно превратилась в другого человека, привередливого и строгого, придирчивого к деталям. Она попыталась показать себя с лучшей стороны, сложила одеяло, но в комнате все равно стоял какой-то затхлый запах, поэтому Ван Лань быстро открыла окно, чтобы изгнать его. Когда она задергивала занавески, начальник спросил: что, боишься, что соседи узнают, что к тебе пришел друг? Ван Лань торопливо ответила, мол, не боится, сыну соседей напротив уже скоро двадцать, когда ему нечего делать, то он садится на подоконник с зеркалом, ужасно бесит. Изначально это задумывалось как шутка, но, произнеся эти слова, Ван Лань почувствовала, что вышло вовсе несмешно.
Взгляд начальника блуждал по комнате, видимо, он представил, как тут все выглядело изначально.
– Ты сама тут все обустроила?
– Разумеется, а кто мне поможет-то?
– Непросто… непросто… Если бы я был на твоем месте и пришлось переехать в незнакомое место жить, не знаю, что и делал бы…
– Тогда тебе повезло. Куда еще ехать? Тебе ведь и тут неплохо?
Она заварила чай:
– Эй, начальник, выпей чашку чая.
– Зови меня Му Линем, а не начальником, слишком уж официально.
Ван Лань улыбнулась, но просто не стала обращаться к нему ни так, ни эдак. Начальник пил чай, а потом, глядя на кончик ботинка, постучал им по краешку кровати, и внезапно произнес:
– Слушай, у меня на третьем кольце есть квартирка, ты поживи там, я с тебя денег брать не стану.
У Ван Лань екнуло сердце, чем дальше она осознавала, тем меньше хотела проявить свою радость, а потому сказала лишь:
– Хорошо, а это тебе точно удобно?
Начальник повернулся и посмотрел на нее:
– Мне-то? – затем он снова напустил на себя легкомысленный вид и сказал: – У меня жилья много, не волнуйся!
Но поговорили и проехали, слова он не сдержал, продолжения не последовало. Ван Лань предостерегала себя, что не нужно относиться к этому слишком серьезно и принимать близко к сердцу, это же мужик, он искренен только, когда задумал неладное.
(4)
Их взаимоотношения помимо работы начались снова только после наступления весны. Несколько кинокомпаний совместными усилиями организовали танцевальную вечеринку. Му Линь пригласил Ван Лань стать его партнершей. Он старательно напустил на себя невинный и беспомощный вид и сказал:
– Если только Сяо Ван со мной пойдет, а то времени уже в обрез, где я себе найду партнершу?
Танцы начинались вечером, Ван Лань сбегала домой переодеться и чуть подкраситься, буквально только наметила контур, поскольку знала, что на этом мероприятии будут знаменитости, и внешне ей с ними не тягаться, так что можно лишь продемонстрировать собственную скромность и чистоту. При встрече она-таки удивила Му Линя. Ого, так быстро? – спросил он, но видно было, что он доволен.
В тот день Ван Лань впервые испытала на практике коммуникативность Му Линя, поскольку он чувствовал себя, можно сказать, как рыба в воде: со всеми знаком, со всеми здоровался. На самом деле в тот день Му Линь большую часть времени болтался где-то сам по себе, бросив девушку одну в уголке, и помимо нескольких знаменитостей она чаще останавливала свой взгляд на Му Лине, ей было интересно наблюдать, как он беззаботно носится по залу, как стрекоза. Только тогда она обратила внимание, что синий шелковый платок с набивным узором на его шее уже развязался, Му Линь говорил уже в основном со своими друзьями, те над ним подшучивали и вместе обернулись посмотреть на Ван Лань, на что она отреагировала еле заметным кивком головы, поприветствовав подобающим образом. На самом деле в тот день состоялась презентация нового фильма, и кинопродюсер, он же по совместительству режиссер, станцевал с исполнительницей главной роли первый танец, после чего объявили о начале танцев, тогда Му Линь подошел к ней и они тоже начали свой первый и единственный танец.
Впервые Ван Лань танцевала, наверное, еще в университете, в столовой, на жирном полу, хранившем запахи еды, который оттерли стиральным порошком, превратив в танцплощадку. Мальчики были такими неловкими и так сильно сжимали руки, что казалось, они вот-вот расплавятся. Разумеется, сейчас все было иначе, Ван Лань уловила легкий и ненавязчивый запах одеколона, исходивший от Му Линя, его движения были плавными, намеки прозрачными, руки ледяными и сухими, и девушка, казалось, носилась в воздухе. Она спросила, часто ли он танцует, больно хорошо получается. Му Линь опешил, а потом спросил: что? Э, да он вообще на танце сосредоточен или на других заглядывается? При этой мысли Ван Лань испытала укол ревности, а потому наступила ему на ногу, ненарочно отомстив, и тут же сказала:
– Прости, я специально.
Он поспешно ответил:
– Да ничего, ничего.
Только когда Ван Лань рассмеялась, Му Линь понял ее коварный план и тоже рассмеялся. В тот вечер он второй раз посмотрел с особенным выражением глаз, так, что она даже собой загордилась и почувствовала себя бесподобно обаятельной.
Но этот вечер напоминал сновиденье, ливень и ураган, или же историю, в которой в ключевой момент распускаются два цветка, но речь пойдет только об одном. А меж ними снова восстановились прежние регламентированные и отстраненные отношения, как между коллегами, совершенно нейтральные, и Ван Лань даже задумалась, может, она плохо старалась и недостаточно намекала? Но она тут же отбросила эту мысль и заподозрила, что все это изначально лишь игра ее воображения, его к ней доброе отношение – следствие головокружения в танцевальном зале, а на самом деле тех чувств, что она навоображала, никогда не было, но как тогда объяснить тот влюбленный взгляд? После танца его пальцы что-то хитро нарисовали на ее ладони, что выражал этот тайный жест?
Ван Лань исподтишка наблюдала за молодым человеком, выжидала. Она обнаружила, что большую часть времени он кажется озабоченным. Му Линь родился под знаком Весов, а Весы-мужчины всегда сомневаются, и оттого Ван Лань ощутила сожаление и беспомощность. Пару раз в офисе оставались только они вдвоем, Ван Лань специально уходила последней, специально спрашивала:
– Начальник, вы остаетесь?
Он даже не оборачивался, просто махал рукой, мол, иди, не жди меня. Ван Лань потеряла надежду: этот мужчина не ее, говоря языком пекинцев «чужой», а кто захочет зря тратить на «чужого» время и силы? Но все равно, уходя, она чувствовала сожаление, ей вспомнились слова из «Джейн Эйр»: «Если бы Бог наделил меня красотой и богатством, вам было бы так же сложно расстаться со мной, как мне с вами…». Это ее любимый фильм, и судьба у нее такая же, как у главной героини. Тогда как раз летел тополиный пух и впоследствии каждый раз, когда наступала эта пора, на сердце у Ван Лань становилось грустно. Тополиный пух летел как снег, от него на душе у людей всегда неспокойно, но история, которая, как ей показалось, ничем не окончилась, как раз в тот момент только началась.
Однажды вечером после работы Му Линь попросил остаться, сказал, что у него к ней есть дело, велел подождать. Когда он все доделал, то под покровом ночи повез ее на своем «чероки» за пределы городских стен. Ван Лань понятия не имела, куда они едут, и не спрашивала, поняла только, что это какая-то загородная база отдыха, а рядом расположен ипподром. Когда добрались, то уже совсем стемнело, Му Линь взял на стойке регистрации ключ от комнаты и проводил Ван Лань. Сердце ее в ту минуту бешено колотилось. Так быстро, так быстро все случится? Мрачный взгляд администратора словно бы тоже предсказывал, что произойдет дальше.
Но ничего не произошло, он так до нее и не дотронулся. Он только курил, а потом поставил песню дуэта Карпентеров[42], даже позабыв, что они вообще-то даже не ужинали, и проделали весь этот путь словно бы для того, чтобы послушать Карпентеров. Но она понимала, что так не будет, поскольку так не бывает, а потому ждала, и лишь единожды пошевелилась, промокнув лоб бумажной салфеткой. Ван Лань знала, что сейчас произойдет нечто важное для нее. Выкурив три сигареты, Му Линь впервые заговорил:
– Я собираюсь уехать в американскую компанию…
Говоря эти слова, он на нее не смотрел.
И все ради этого?
– То есть я тоже должна буду уйти? – спросила она еле слышным голосом.
– Можешь, но… зачем?
Он словно бы не ожидал подобного вопроса, повернулся и впервые посмотрел на нее. Ван Лань заглянула в эти глаза, и ей показалось, что надежда есть, это из-за них она так долго ждала. Но в тот день она узнала, что в мире есть мужчины и другого типа, которые ищут успокоения в других мужчинах, к сожалению, сейчас перед ней стоял именно такой…
– Я голубой, голубой, ты знаешь, что это такое? Я с юности такой, не удивляйся…
Ван Лань стадо дурно, в голове все смешалось, а потом стало пусто. Зачем он мне все это рассказывает? Зачем? Зачем на корню убивает мою единственную надежду? Я бы предпочла, чтобы ты вообще ничего мне не рассказывал! Но Ван Лань молчала, лишь спокойно смотрела на молодого человека перед собой, на мужчину, который, как оказалось, повлияет на всю ее жизнь. Чтобы не показать, что у нее дрожат кончики пальцев, Ван Лань наматывала на них бумажные салфетки.
– Я знаю, что нравлюсь тебе, на самом деле ты мне тоже нравишься, мне нужно жениться, а если я хочу найти себе жену, то лучше тебя не сыскать…
Почему меня? Потому что я приезжая? Внезапно ее обуяла злость, настоящая ненависть, ты с чего такой наглый, кто тебе дал право?
– Если ты согласишься… разумеется, нужно подумать, но если ты только согласишься, то приедешь на все готовое. Работа, прописка – не вопрос…
Му Линь что-то еще дальше рассказывал, словно речь шла о сделке – может быть, только превратив их взаимоотношения в сделку, он мог свободно говорить. По крайней мере, так он испытывал некоторое чувство превосходства, мог взирать на происходящее сверху вниз. Но ей все равно хотелось спросить – почему я?
– На самом деле я все сдерживался, все хотел тебя спросить, а вот теперь пора ехать, так что я решил, что это мой шанс, ты сначала подумай…
Машина остановилась в хутуне, пора было расставаться. До этого Ван Лань не проронила ни слова, но когда выходила из автомобиля, то Му Линь внезапно протянул ей руку, а потом с улыбкой сказал:
– Увидимся!
Наверное, тогда она увидела самую-пресамую скорбную улыбку? Ван Лань опешила, а потом не сдержалась и разрыдалась. Му Линь сначала сдерживался, но потом у него самого выступили слезы, он попытался прижать Ван Лань к груди, девушка послушно обмякла, и тут Му Линь снова не выдержал и принялся каяться. Он твердил: прости меня, прости. Но Ван Лань лишь безостановочно качала головой, не говоря ни слова. В душе скопилась то ли обида, то ли отчаяние, но определенно она ненавидела мужчину, стоявшего перед ней.
Свадьбу сыграли через месяц, раз уж это сделка, то и готовиться особо не пришлось, поскольку, как и обещал, Му Линь, все было готовенькое. Родным Му Линя девушка категорически не понравилась, поскольку потом на их плечи легли заботы о ее работе и иммиграционной карте, разумеется, впоследствии родители Му Линя были ей признательны за то, на что Ван Лань пришлось пойти, и в душе они просиди прощения за распутника-сына, но сначала упорно стояли на своем и кручинились по поводу мезальянса. Семья Ван Лань, напротив, сочла подобный брак за великую честь, и родители тотчас взглянули другими глазами на свою дочку, которую считали невзрачной: надо же, смогла выйти замуж за пекинца, муж не какой-нибудь хромой калека, а умный и красивый парень. На самом деле они не знали, как выразить радость, потому все вместе приехали за тридевять земель дать Ван Лань денег на свадьбу, и этому она не смогла помешать. Ей казалось, что в те два дня отец при встрече с любым человеком скромно улыбался, будто бы внезапно породнился со всеми жителями столицы.
Разумеется, их браком остались довольны многие, с этой точки зрения здесь они без сомнения преуспели. На свадьбу приехали все однокурсники Му Линя, особенно дружны с ним оказались девочки, которые при встрече называли его панибратски Линь Линем, а когда пили за молодых, то в шутку говорили, дескать, наконец Линь Линь обзавелся семьей, можем быть спокойны.
Слово «свадьба» представило их отношения в неверном свете. Когда шутки перед комнатой новобрачных стихли, и гости разбрелись, остался один очень важный персонаж, который наконец проявился. Му Линь познакомил Ван Лань со своим другом. Какая-то закатившаяся второсортная звезда. Они мирно перекусили перед сном, а потом разбрелись спать. В комнате для новобрачных на огромной кровати осталась одна невеста, а новоиспеченный муж и его друг улеглись на диване снаружи. Ван Лань слышала, как за дверью беспрестанно слышен шепот и приглушенный смех, и думала, что она так и не сомкнет глаз, но на самом деле стоило ей лечь на кровать, как ее сморило, и она быстро и бесцеремонно уснула.
(5)
Из-за хаотических лучей у Линь Фэя возникло странное ощущение, поскольку он сразу не вспомнил, почему спит на диване, и состояние это длилось, может быть, секунд пять-шесть, а то и семь-восемь, но когда кратковременное помрачение прошло, он осознал, что смотрит на пекинское солнце и даже то, почему оказался в квартире женщины по имени Ван Лань. Из-за этого открытия он внезапно испытал воодушевление, встал, умылся холодной водой, оставил на столе записку, а потом поспешно спустился на лифте.
На самом деле Линь Фэй понимал, что уходить так рано нет необходимости, но беспокоился, поскольку при мысли, что придется столкнуться с полусонной Ван Лань, становилось не по себе, возможно, он чувствовал некоторую неловкость, ведь провел ночь у девушки, а ее муж был при этом дома. Вчерашние события – это случайность, нельзя из-за случайности позволить себе предаваться мечтам. Линь Фэй в записке написал: «Я ушел, спасибо за помощь, очень признателен». Никаких намеков на то, что они еще увидятся.
На улице было очень холодно, он затрясся от холода, едва оказавшись за дверью, потом стало получше, наконец, Линь Фэй взял себя в руки, да и ледяной воздух, что ни говори, полезен для мозга. Только-только схлынул утренний пассажиропоток, на улице царили последние минуты тишины перед гомоном, может быть из-за того, что солнце еще не успело осветить толком землю, но на ней лежала томная дымка, проезжавшие автомобили поднимали ее, а потом она медленно возвращалась на место. Запахи тоже еще не успели перемешаться и существовали отдельно друг от друга, расслаиваясь в зависимости от выраженности и силы: из лавки, торговавшей баоцзы[43], Линь Фэй, проходя мимо, уловил аромат баоцзы, из гастронома долетал запах подливы от жареного мяса, а еще пахло керосиновой копотью, то был очень резкий запах, но, смешиваясь с безоблачно синим небом над головой, он создавал ощущение свежести. Линь Фэй тут же вспомнил родной край, зимой в каждом доме топили печи, чтобы согреться, поэтому всю зиму в воздухе витал подобный запах… Он услышал несколько велосипедных звонков, самый звонкий звук среди городских шумов, это какой-то парень проехал на красный свет, и когда Линь Фэй обернулся, велосипедист уже проскакивал перекресток, а навстречу Линь Фэю шли двое пожилых супругов, только что закончивших утреннюю зарядку, они несли деревянный меч для занятий ушу и увесистую корзину.
Первым делом Линь Фэю надо было заскочить в гостиницу и забрать рюкзак, а перед тем, как съехать из номера, прополоскать рот и умыться. Дежурная, разумеется, удивилась, что постоялец не пришел ночевать, а заплатил за сутки, чтобы умыться, но она была жительницей столицы, а потому чего только не видела, а если видела нечто странное, то помалкивала. Когда Линь Фэй вернулся на улицу и ощутил прикосновение первых лучей солнца, то расслабился и почувствовал удовлетворение, словно бы под лучами солнца превратился в перышко, летящее к небу. Иногда люди ведут себя самым непостижимым образом, вот, к примеру, вчера он так тревожился и печалился, но сейчас тревоги и печали, как и все беспокойство, стали историей. Он был уже совсем другим человеком, чем вчера, и пусть внешне остался точно таким же, но те настроения, отчаяние, подавленность и тому подобные чувства явно остались вместе с тем прошлым «я» во вчерашнем дне. Естественно, он связал это с У Сяолэй и хотел увидеться с ней, и от этой перспективы стало радостно, и мыслями Линь Фэй унесся куда-то далеко. В душе его постоянно звучала мелодия, самая прозрачная в мире и лучше всего выражающая его настроение, это была та самая ария, которую вчера исполняла певица в белом, то ли из «Турандот», то ли откуда-то еще.
Это, разумеется, не соответствовало действительности, возможно, Линь Фэй упустил, что мелодия не имела ничего общего с У Сяолэй и ее слов недостаточно, чтобы вызвать подобную радость. Если уж и нужно найти какую-то непосредственную связь, то разве только перед прослушиванием этой арии он как раз возбужденно рассказывал собственную историю, а в истории присутствовал призрак женщины по имени У Сяолэй. Но у него в мозгу все еще царила некая иллюзия, даже скорее навязчивая идея, он надеялся, что радость связана с его возлюбленной, поэтому инерция чувств вела его ближе и ближе к У Сяолэй, на самом же деле его сердце бессознательно отрывалось от этой женщины, но, разумеется, этого он не мог почувствовать и не хотел поверить.
Линь Фэй добрался до Гугуна, это тоже за него придумала вчера У Сяолэй. Это место явно отличалось от Тяньаньмэнь, от того момента, когда он вчера оказался на площади: Тяньаньмэнь показалась ему такой огромной, что неясно, куда и смотреть, а сам он словно опасливый ребенок, который не знает, куда приткнуться… Гугун же напомнил огромный лабиринт, особенно внутренние покои, в которые попадаешь из зала Высшей гармонии, как назывался внешний двор Гугуна, а покои императорских наложниц, казалось, тянулись бесконечно, и были совершенно хаотичны. Когда ему надоело, время уже приближалось к двенадцати часам, Линь Фэй поспешно нашел служителя, спросил, где выход, и с огромным трудом вырвался из этого замкнутого круга, который приготовили для него покойные императоры. Помнится, когда он вышел-таки из задних ворот Гугуна, то сердце затрепетало от радости.
Обедать они шли в «Макдональдс», который попался по дороге, разумеется, это тоже была идея У Сяолэй, он бы лучше пошел куда-то в другое место, но это все неважно, важно то, что они наконец увиделись. Линь Фэй двадцать минут прождал на Ванфуцзин и издали увидел, как идет У Сяолэй: на ней была надета фиолетовая ветровка, девушка пока что не увидела Линь Фэя и глядела по сторонам, ища его глазами, причем без очков, может быть, в контактных линзах, а может и без них. Как раз было время обеда, туристы, осмотревшие Тяньаньмэнь, особенно те, что с детьми, хотели заглянуть в гости к дядюшке Рональду Макдональду. В этом галдеже кричать было бесполезно, Линь Фэй не стал кричать, лишь вытянул над головой руку и помахал – тоже не самый ясный знак, так что У Сяо-лэй заметила его лишь через некоторое время. Но в этот момент сердце Линь Фэя наполнилось восторгом, оставалось лишь по мере сил сдерживаться, но его чувства напоминали бурлящий ключ, даже корни зубов от радости начали зудеть. Прошло полмесяца, нет, шестнадцать дней, а У Сяолэй все такая же красивая, пышущая здоровьем…
Оглядываясь назад, можно сказать, что У Сяолэй специально выбрала такое место для встречи с ним, поскольку места оживленнее не найти, а в таком оживленном месте их чувства, по крайней мере его чувства, не могли вырваться наружу, точно вино в закупоренной бутылке. Но в тот момент Линь Фэй этого совершенно не понял: когда он увидел У Сяолэй, то голова закружилась, он даже слова не мог вымолвить, просто не знал, что сказать, лишь шевелил губами, а У Сяолэй сказала:
– Пошли внутрь, столько народу, что скоро и мест будет не сыскать.
У Сяолэй не дала ему ни единого шанса, но в этот момент Линь Фэй расслабился и опьянел от собственной радости, забыв даже, что кругом ходят люди, забыв, что они в переполненном фаст-фуде, он видел лишь У Сяолэй – быть с ней, что бы они при этом ни делали, это радость. Они очень долго стояли в очереди, выбирали, кто что будет есть, искали свободные места. Внутри оказалось еще более шумно, чем снаружи, музыку постоянно перекрикивали посетители, говорившие на разных диалектах. Линь Фэй накупил целую кучу всего, что они, разумеется, не смогли доесть, а потом расщедрился, еще раз спустился вниз и купил У Сяолэй ее любимый молочный коктейль.
– Ну, как, понравился Гугун?
– Слишком огромный, я там чуть не заблудился, и то еще не все обошел.
– А там все и не обойдешь, ну, хоть общие впечатления получил, и то неплохо…
Разговор они завели на нейтральную тему – о Пекине, как двое давно не видевшихся друзей или однокурсников, которые ощупью ищут новые возможности возобновить старое знакомство, но в отличие от них Линь Фэю и У Сяолэй приходилось обходить некоторые темы. К примеру, она спросила, где Линь Фэй остановился и выспался ли вчера, но не спросила, почему он поселился так далеко, в противном случае выяснила бы, что Линь Фэй провел ночь дома у практически незнакомой женщины. В этот момент, хоть У Сяолэй почему-то и прекратила расспросы, Линь Фэй испытал стыд, по крайней мере, формально он ее предал, даже позвонил сначала не ей, а другой. В тот день они не заговаривали о расставании, но для него это означало надежду, явно и для У Сяолэй тоже, эта была тема, которой они пока что не хотели касаться. После того как рядом подсели и ушли бесчисленные посетители, у Линь Фэя на душе стало намного легче, в этот момент ему страстно захотелось сесть поближе к У Сяолэй, его Лэйлэй, он смотрел на нее влюбленными глазами, а под столом соприкасался с ней ногой, потом натолкнулся на ее колени. Она отсранилась, Линь Фэй слегка усилил давление, подавшись вниз, это было уже наглостью с его стороны. Совпадение или нет, но через минуту У Сяолэй поднялась и ушла в туалет.
В половине второго они вышли из «Макдональдса», поскольку У Сяолэй пора было на работу. Линь Фэй проводил ее до работы, правда, по дороге они периодически испытывали неловкость, поскольку им встречались бесконечные влюбленные, которые держались за руки или обнимали друг друга за плечи, а одна парочка в подземном переходе просто целовалась, забыв обо всем на свете. Линь Фэй увидел это, У Сяолэй, естественно, тоже, но когда он поворачивался к девушке, чтобы проявить свои чувства, У Сяолэй тут же начинала одергивать рукав или поправлять волосы, разбивая его надежды. Одна и та же дорога показалась ему короче, а ей длиннее, но как бы то ни было, через пятнадцать минут они добрались до новой работы У Сяолэй, и пытка закончилась.
Новая работа У Сяолэй располагалась на улице Чанъаньцзе, в здании в десять с лишним этажей, отделанном снаружи синими панелями, сразу видно, представительное. Около главного входа девушка вздохнула с облегчением, а потом с улыбкой сказала Линь Фэю, дескать, все, пришли, я в общежитие не пойду, через пару минут надо на работу уже. Из ее объяснений получалось, что она не зовет его в общежитие только из-за нехватки времени, и между ними ничего сейчас не случилось по той же самой причине. Линь Фэй хоть и был недоволен, но пришлось отпустить девушку. Он смотрел на ее удаляющийся силуэт, который слегка покачивался, поднимаясь по лестнице, и от этого Линь Фэй испытал прилив нежности, так бы и смотрел всю оставшуюся жизнь ей вслед. Ему столько нужно было сказать, и только что не сказанное и еще не придуманное, все сразу же оказалось на кончике языка, но оставалось лишь смотреть на ее уходящую фигурку. В этот момент Линь Фэй внезапно вспомнил, что они не договорились, когда встретятся в следующий раз, и поспешно крикнул, У Сяолэй не услышала, услышал только привратник, дежуривший у главного входа, который повернулся и строго взглянул на Линь Фэя.
(6)
Вечером Линь Фэй сходил в Юнхэгун и Бэйхай. И это тоже предложила за обедом У Сяолэй. Должно быть, он послушный парень, а может, просто подсознательно чувствовал, что если сделает так, как хочет У Сяолэй, то подобное повиновение будет выражать их единодушие, у них и так уже столько общего, а теперь точек соприкосновения без конца становится все больше. Гугун, Юнхэгун, Бэйхай – все эти маршруты, которыми ходила и У Сяолэй, сейчас стали и его маршрутами. Когда Линь Фэй добрался до места, то обнаружил толпу людей, вокруг развевались цветные флаги, подойдя поближе, он понял, что это пункт продажи билетов лотереи с символичным названием «Любовь». Ведущий как раз зазывал прохожих:
– Дайте шанс себе, дайте шанс «Любви»!
Возможно, от этих слов сердце Линь Фэя дрогнуло, в любом случае у него было полно любви, которой некуда было расти, которую некуда было применить, так что он подошел сделать свой вклад. Эта забава словно бы разом совпала с его чаяниями: как будет, так и будет, это своего рода пробный камень, чтобы померить его удачу здесь, в незнакомом месте, или в будущем, Линь Фэй, разумеется, забыл, что такого «любовного вклада» вовсе не существовало на пути следования У Сяолэй, он уже отодвинул мысли об их точках соприкосновения в сторону.
Он вносил по десять юаней, купив друг за другом три лотерейных билета. Соскоблил защитное покрытие с первого билета, потом со второго, а на третьем увидел картинку с телевизором, которая, как он смутно припоминал, обозначала выигрыш в лотерею, и поспешил уточнить у ведущего, что это.
– Телевизор нарисован? Это плед! – ведущий тут же пригласил Линь Фэя на сцену поделиться впечатлениями. – Посмотрите, этот счастливчик всего за тридцать юаней приобрел плед известной марки, очень просто, не так ли?
С этими словами он поднес к губам Линь Фэя микрофон. Поскольку он разволновался, оказавшись в такой ситуации, то буквально онемел от внезапно свалившегося на него успеха, лицо покраснело, он долго думал, но лишь покачал головой, сказав, что не знает. По рядам зрителей пронесся хохот.
– Хотите еще билетик вытянуть?
Тут Линь Фэй уже немного успокоился, подумал и снова покачал головой, поскольку больше не хотел участвовать в лотерее и под завистливые взгляды зрителей спустился со сцены, унося с собой плед.
Хотя это был всего лишь плед, но он доказывал везучесть Линь Фэя, превратившегося из обычного участника лотереи в счастливчика, выигравшего приз, фактически изменившего свой статус. Пекин, без сомнения, выбрал его в счастливчики, а значит, он просто обязан получить уважение и почет. Разумеется, то, что приз всего-навсего плед, означает, что любовь Пекина к нему еще недостаточно глубока, но если и дальше так пойдет, то, может, впереди ждут призы посерьезнее, например, огромный цветной телевизор с диагональю двадцать девять или мотоцикл… Такая возможность совершенно не исключена, судя по его везучести, он может стать баловнем судьбы, которому все вокруг завидуют и белой, и черной завистью… Весь день Линь Фэй был погружен в размышления о призе, с одной стороны, он был взбудоражен, горд собой и доволен, но с другой стороны, чувствовал, что упустил свой шанс и даже жалел, что слишком рано оттуда ушел, несколько раз собирался вернуться туда, где тянут лотерейные билеты, но только остатки решимости не дали отклониться с маршрута, предложенного У Сяолэй. Эти размышления наполнили изначально пустой и бесконечно долгий день чувствами и волнениями, Линь Фэй был настолько поглощен мыслями, что лишь бегло осмотрел Юнхэгун, показавшийся ему неинтересным, а после этого без передышки устремился в Бэйхай.
Он уже не походил на туриста, поскольку нес в руках огромный тюк, но для местного у него на лице застыло слишком беспечное выражение. Когда он сидел на скамейке в парке Бэйхай, то задумался, об истинном смысле этого пледа: что значит этот приз? Это же одеяло, которым укрываются в холода, Линь Фэю его подарили, поскольку ему это нужно, ему холодно… Тогда значит, это и не приз, а скорее компенсация. Но он быстро снова обрадовался, как и любой на его месте. Открыв молнию на упаковке и пощупав толстый мягкий ворс, Линь Фэй успокоился, все-таки материальные вещи легче вызывают ощущение радости.
Около пяти часов Линь Фэй позвонил Ван Лань. Очень странно, он вроде бы отсутствовал весь день и захотел позвонить и спросить, как дела, но в душе почти хотел поверить, что во всем Пекине одна только Ван Лань обрадуется его призу, пусть даже и пледу.
Линь Фэй первым делом спросил, встала ли Ван Лань. Девушка засмеялась, дескать, времени-то уже сколько, а ты спрашиваешь, встала я или нет. Он тут же сменил тон и сказал, что волновался, выспалась ли она. Ван Лань спросила, где он гулял, встретился ли с девушкой. Разумеется, он ответил как есть.
– А я приз выиграл…Если ты никуда не собираешься, давай я тебя поужинать приглашу? – Линь Фэй изо всех сил старался говорить бесстрастно, вроде как речь об ужине, а вовсе даже не о призе.
Ван Лань засмеялась:
– Да ты что? Тебе везет! Что выиграл?
– Угадай, угадаешь – подарю тебе.
– Телевизор, стиральную машинку или сумку за двадцать юаней?
– Плед! – Они вместе засмеялась, словно выиграть плед было чем-то смешным.
– Пошли, поужинаем вместе? – Линь Фэй снова озвучил свое приглашение.
Он говорил от всего сердца, но Ван Лань сказала:
– Да ну, не сори деньгами, почему бы тебе не прийти ко мне, я куплю какой-нибудь еды, дома покушаем, а?
Он согласился, словно только на это и надеялся. Линь Фэй и впрямь ждал этого приглашения, он со своим свертком быстро поймал такси и поехал в сторону дома Ван Лань.
К тому моменту, как он добрался, Ван Лань уже успела в супермаркете внизу купить очищенные овощи, Линь Фэй пришел практически за ней по пятам, он еще и пробежался, выйдя из такси, а потому на лбу выступила испарина. Первым делом он продемонстрировал Ван Лань свой трофей, а потом сообщил девушке, как ему повезло, ведь до него лотерейные билеты тянули очень долго, и никто не выиграл, максимум какую-то ерунду, так что его появлению обрадовались даже устроители, хотя, разумеется, нашлись и завистники.
– Один толстяк несколько сот раз тянул билет и ничего не выиграл, так он на меня так смотрел, будто хотел сожрать.
Линь Фэй в приподнятом настроении живописал все случившееся, снова открыл молнию, чтобы Ван Лань прикинула, сколько может стоить такой плед. Ван Лань точно не знала, но ее представлениям такая марка стоила где-то в районе трехсот-четырехсот юаней. Тут Линь Фэй сказал:
– Дарю!
Ван Лань поспешно замахала рукой, говоря, что у нее и так всего полно, но Линь Фэй продолжал настаивать, дескать, ему-то вообще бесполезная вещь.
– Нет, – отказалась Ван Лань, – подари лучше своей подружке, если тебе не нужен, вдруг ей понадобится!
Линь Фэй ничего не сказал, лишь смущенно улыбнулся, выражая согласие. И действительно он почти забыл про У Сяолэй и даже не подумал, что и ей нужно сообщить.
Пока Ван Лань готовила на кухне еду, она не выдержала и задумалась, а что за люди в нашем мире страстно жаждут чудес? Линь Фэй свалился как снег на голову, и вся эта ажитация словно бы сулит что-то дурное, но она пока не уверена, лишь подозревает, это всего-навсего ее догадки. В этот момент Линь Фэй из гостиной спросил, можно ли воспользоваться телефоном, Ван Лань громким голосом ответила: пользуйся, телефон на диване!
В это время все уже заканчивали работу, весь Пекин заволокло сиреневым закатом и в каких-то невидимых им местах люди ускоряли темп, уходили с работы, перебирались из дня в вечер. Сумерки создавали дополнительные препятствия, путаницу и новые возможности, это окончание чего-то, а дальше ждет ли вас ужин в компании или вечер в одиночестве, это только начало чего-то нового, и потому сумерки – время, когда у людей особенно бурно разыгрывается воображение, а еще это время самой сильной грусти и самого сложного выбора. Но в этот раз сумерки не оказали особого влияния на Линь Фэя, он позвонил У Сяолэй исключительно на волне тех чувств, что пережил днем, все еще находясь во власти того душевного подъема. Он не хотел ничего, только рассказать ей о пережитом, о своем везении. Пока шли гудки, он думал, как сказать У Сяолэй о случившемся, сразу или же заставить ее отгадывать три раза, нет, пожалуй, просто скажет, выиграл приз – плед известной марки.
К телефону подошла какая-то женщина, они явно еще не закончили работу, женщина позвала к телефону У Сяолэй, а потом трубку подняли, но раздался почему-то мужской голос:
– Кто это?
Внезапно Линь Фэй запаниковал, неужели он ошибся номером и попал куда-то, где работает мужчина по имени У Сяолэй.
– Мне нужна У Сяолэй, – сказал он еще раз.
– А кто это? – нетерпеливо переспросил мужчина. – Вы кто такой?
– Меня зовут Линь Фэй, не могли бы вы сказать У Сяолэй, что ей звонит Линь Фэй.
– А, Линь Фэй, знаю, знаю, – мужчина внезапно понял, о ком речь, и рассмеялся. – У Сяолэй мне о вас рассказывала, а вы где…
– А вы вообще кто? – это было невежливо, но Линь Фэй смутно уже представил, как выглядит собеседник на том конце провода: голос с хрипотцой, еще и прихрюкивает, наверняка, у него или толстенная шея или свиная башка – именно этот силуэт маячит между ним и У Сяолэй.
Мужчина, как ожидал Линь Фэй, подтвердил, что его зовут Чэн Тяньпэн. Линь Фэй не унимался:
– Позовите к телефону У Сяолэй!
Чэн Тяньпэн не обратил никакого внимания и продолжал гнуть свою линию, понятное дело, специально:
– У Сяолэй столько хорошего о вас рассказывала, если будет время, давайте вместе пообедаем, у нас, можно сказать, много общего, правда ведь? Вы такой путь проделали, я просто обязан пригласить вас в ресторан…
Ну почему? Он ведь просто хотел позвонить У Сяолэй, просто хотел рассказать, что с ним приключилось, подарить ей плед, даже если она не отгадает. Линь Фэю стало больно, он сказал в трубку:
– Ты откуда вообще такой взялся, а?
Свиноголовый на том конце провода остолбенел, видимо, он не ожидал, что соперник так быстро перейдет на личности, тогда и сам свиноголовый перешел на личности вслед за Линь Фэем:
– Совсем стыд потерял, что ли?
Они говорили на повышенных тонах, ругались по телефону. Свиноголовый на другом конце провода задыхался от ярости:
– Слушай, я тебя найду и в порошок сотру, посмотрим, как ты тогда будешь буянить.
Он встал и изрыгнул чуть ли не по слогам:
– Выходи, козел, встретимся через час у входа, мать твою. Гребаный ты ублюдок, только ты ж не выйдешь!
Линь Фэй швырнул трубку, потом словно безголовая муха принялся кружить по комнате и лишь через некоторое время вспомнил, что ищет свой рюкзак, затем обнаружил, что рюкзак на самом деле все так же лежит на диване, прямо рядом с ним. Линь Фэй схватил рюкзак, вывалил его содержимое на пол и принялся рыться в вещах. Вещей было совсем немного, всего-то двое трусов, пара пачек сигарет и всякая мелочевка, но руки дрожали, что затрудняло поиски, наконец, Линь Фэй нашел некий продолговатый предмет и схватил его.
Это был нож, кинжал для самообороны, если уж на то пошло, его подарила У Сяолэй, когда Линь Фэй перебирался в Гуанчжоу, он носил его с собой, но никогда так и не пользовался, столько лет хранил кинжал под подушкой. В тот день, когда Линь Фэй решил ехать в Пекин, кинжал попался ему на глаза, и он зачем-то сунул его в рюкзак, а сейчас, глядя на оружие и испытывая невыразимую горечь, Линь Фэй наконец понял, зачем прихватил с собой кинжал.
Линь Фэй сунул нож в рукав, выдохнул и направился к выходу. Но какой-то силуэт оказался проворнее Линь Фэя, перехватил его у двери и загородил собой выход, приговаривая: ну, не надо так, не надо так!
Линь Фэй словно бы даже не узнал ее, не понял, что перед ним стоит Ван Лань, он уже целиком и полностью погряз в собственной ярости, им уже руководило бешенство, сейчас ему нужно было только одно, и он это сделает рано или поздно; более того, он ради этого и приехал в Пекин, раньше, может, не понимал, а теперь наконец осознал, так что никто не мог ему помешать. Линь Фэй смотрел на Ван Лань как на незнакомого человека, но, по сути, они и есть незнакомые люди, ей не стоило вставать у него на пути.
– Уйди с дороги! – прорычал Линь Фэй, словно дикий зверь, выражающий недовольство, он и забыл об этой женщине, стоявшей перед ним.
– Не надо так, не надо так, ну зачем… – Ван Лань начала убеждать его, даже скорее жалобно умолять, поскольку она ошибочно полагала, что жалобный тон может заставить мужчину отказаться от ненависти.
Когда Ван Лань начала вырывать у него нож, то Линь Фэй совсем разъярился, он осознал, что женщина перед ним и есть первейший враг, зачем она заступается за них да еще кинжал пытается вырвать. Линь Фэй применил силу, он просто хотел вырваться и уйти, но быстро понял, что эта дочка рабочих Ван Лань удивительно сильная и уже практически отняла у него нож. Они начали бороться, целью, разумеется, был кинжал, а потому их руки сцепились. Линь Фэй не переставал хрипло рычать: отпусти, отпустишь или нет? Ван Лань не издавала ни звука, лишь тяжелое дыхание говорило о том, что силы на исходе. Впоследствии Линь Фэй наконец применил грубую силу, потащил Ван Лань к дивану и почти преуспел в этом, но когда Ван Лань падала, то сделала подсечку, и молодой человек беспомощно рухнул на нее сверху, уткнувшись лицом в ее грудь, такую мягкую и податливую, что опешил, и тут они оба ощутили эрекцию Линь Фэя и в ужасе прекратили бороться, только смотрели друг на друга, не отрываясь.
Первым делом ему стоило бы отпрыгнуть и быстро смыться отсюда, тем более ему больше никто не мешал. Однако в процессе Линь Фэй передумал, он даже перестал бороться с Ван Лань за кинжал. Он начал срывать с Ван Лань одежду, а потом и с себя. В этот раз он не встретил такого уж сопротивления и довольно быстро смог войти в ее тело. Линь Фэй в бескрайней пустоте погружался в женскую мягкость, все ниже и ниже, но этого необоснованного успеха очень быстро возникло чувство обиды, безграничность давила на него, а он оказался таким слабым. Линь Фэй прижался к плечу Ван Лань, словно раненый волк, а из его горла вырывались сдавленные горькие рыдания.
(7)
Ван Лань сидела на унитазе и курила, это была уже третья сигарета, а она заперлась в туалете почти полчаса назад. Прошло полчаса, а она все равно тряслась и никак не могла успокоиться. Линь Фэй так и не ушел, десять минут назад он стучал в дверь, спрашивал, все ли с ней в порядке. Девушка не ответила, поскольку не могла сказать ничего нового, но ощущала, что он, должно быть, так и стоит за дверью. Он то и дело, фыркая как пес, всхлипывал в полной тишине, возможно, специально, таким образом извещая, что не сбежал.
Туалет наполнился табачным дымом, синий дым при свете лампы образовал непонятные и расплывчатые узоры, которые даже не двигались и не менялись, как ее мир, мрачный, но незыблемый. Ван Лань редко курила, обычно только после встряски, как сегодня, выкуривала пару сигарет и неожиданно оказывалась в другом мире. В мозгу ее все еще крутились подробности только что произошедшего нападения, ей, наверное, нужно было забыть, но не получалось, отказаться тоже не получалось. В душе было сыро и сумбурно, состояние напоминало те волны, что только что прошли по ее телу, когда она испытала наслаждение, вроде как ее никто и не насиловал, хотя это было самое настоящее насилие, такое же настоящее, как ее боль, но нет, в душе она этого не ощущала, ей было неприятно от внезапности, собственной пассивности и непонятных чувств. Оставалось только бояться, бояться, что снаружи она прекрасна, как красивый термос, но с разбитым нутром, бояться собственной реакции на насилие.
Ван Лань вспомнила своего бывшего парня, их напряженный секс был скоротечным, но лишь потому, что он слишком ее любил. Разумеется, еще был ее муж, голубой, однажды она даже подстриглась под мальчика с тем, чтобы заманить его в собственный мир – рациональная мысль, соблазнение с умом. Ей почти удалось, в тот день муж посмотрел на нее практически влюбленным взглядом, выпил немного и улегся сверху на нее. Ван Лань надеялась сойти за мужчину, грудь, конечно, могла бы быть поменьше и более плоской, но муж ввел в ее тело твердый член, но потом, то ли из-за позы, то ли из-за того, что Ван Лань вонзила ему ногти в спину, член утратил свою твердость прямо внутри нее. Случившееся, наверное, показалось ему настолько невыносимым, что в наказание он перебрался в гостиную и больше не касался ее, сказав:
– Не мучай себя, найди кого-нибудь!
Найди кого-нибудь! То есть не стоит питать иллюзий добиться чего-то от него.
Найди кого-нибудь! Пекин такой большой, в конце концов найдется кто-то, кому Ван Лань понравится, кто влюбится в нее, захочет ее. Но, похоже, из женских чар у нее осталось только сочувствие, она то и дело кому-то сочувствовала, словно сочувствие было физиологической реакцией ее организма, так что оставались лишь страдальцы, которые никому не нравились, типа голого по пояс рабочего, разносившего угольные брикеты, или хулиганы в метро, их печали, скорби и здоровые тела. Потом мать Му Линя пристроила Ван Лань в издательство, где объектом ее пристального внимания стал внешний редактор Лао Ван из третьего отдела; говорили, что жена у него умерла от рака груди, а он один воспитывает сына-старшеклассника. Тот запах скорби, что исходил от Лао Вана, смертельно притягивал Ван Лань, как-то раз в лифте она, глядя на его седеющие виски, чуть было не сказала, что на самом деле может утешить его и дать все, что ему нужно. Но он тоже вел себя как голубой: ходил с мрачным лицом и не встречался с ней взглядом… Что касается Линь Фэя, то и ему она, должно быть, сочувствовала, он так сильно любил свою девушку, а та его бросила, но видимо, и не так уж любил, иначе не захотел бы другую. При воспоминании об этом незнакомом возбуждающем чувстве Ван Лань стало не по себе: все, пора, надо его выгнать. Она закурила четвертую сигарету, после которой собиралась пойти приготовить ужин. «А потом пусть катится!».
Дверь открылась, снаружи было темно. Сначала Ван Лань увидела, как сигаретный дым выплыл наружу, на диване тоже блеснул красный огонек от сигареты, когда открылась дверь в туалет, огонек поднялся. Когда Ван Лань пошла на кухню, Линь Фэй отправился следом, он беспомощно смотрел ей в лицо, жалостливый взгляд словно ждал ее реакции, и что бы она потом ни делала, он следовал по пятам, молчал, лишь смотрел затравленными глазами. Много раз сердце Ван Лань таяло, она собиралась что-нибудь сказать ему, но вспоминала случившееся, и душа снова каменела. Более того, Ван Лань понимала, что Линь Фэй только и ждет ее слов, и можно одним неловким высказыванием отправить его в рай…
Когда она принесла готовые блюда в гостиную, там все еще не было освещения, сбегать туда-сюда пришлось несколько раз, Линь Фэй начал вырывать у нее из рук тарелку и после недолгой борьбы ему это удалось, и он радостно убежал в гостиную. Войдя в гостиную, Ван Лань наконец сказала, мол, свет-то включи. Она хотела придать голосу злости, чтобы выразить свой гнев, но Линь Фэй еще больше обрадовался, не переставая приговаривать «хорошо, хорошо», стремглав бросился выполнять просьбу. Ван Лань лишь горько усмехнулась, на самом деле, что сейчас ни скажи, все не то, для него любое ее слово – возможность, в итоге он как щенок прискакал обратно да еще и спросил, есть ли у нее острая лапша, он тоже хочет кое-что приготовить. Ван Лань не произнесла ни звука, напустив на себя суровый вид.
Последним блюдом был суп, Ван Лань велела Линь Фэю принести суп, а сама тем временем сняла передник. Кто же знал, что Линь Фэй поставит чашку, подойдет помочь и обнимет сзади, крепко обхватив обеими руками да так, что она как ни старалась не могла вырваться.
Он прижимался губами к уху и что-то бормотал, но не «прости» или «не бойся», только через некоторое время Ван Лань поняла, что он шепчет «я хочу тебя». Ван Лань восхитилась его смелостью, в душе выругалась, хотела и вслух что-нибудь сказать, но совершенно не было сил сопротивляться его бесконечному натиску.
Он отнес ее на кровать, включил прикроватный светильник, в тусклом свете которого Ван Лань увидела, как Линь Фэй сначала разделся сам, а потом склонился над ней и принялся расстегивать пуговицы. Он действовал очень осторожно, разумеется, куда медленнее, чем только что, и каждый раз, когда обнажалась очередная часть ее тела, Линь Фэй покрывал ее поцелуями. Она почувствовала, как он раздвигает ей ноги и устремляется к ней и телом и душой, а потом Линь Фэй убрал ее руку с глаз, чтобы видеть лицо девушки. Она почувствовала, как он вошел, а камень упал с души. Своими твердыми и мощными ударами он не только заставил ее открыться, но под этим могучим натиском словно карточный домик рассыпалась и вся та крепость, которую она усердно возводила столько лет – она уже была не та, что раньше, да и он тоже.
В тот вечер на пятнадцатом этаже горел свет, хозяева занимались любовью, ели, потом снова занимались любовью, они словно плыли в облаках, счастливые, будто и впрямь летают по небу. Потом они устали, прямо в толще облаков обнялись и улеглись, прижавшись друг к другу и сжимая друг друга в объятиях так крепко, как будто обнажились самые мягкие места из глубин их сердец.
Глава третья
(1)
Настало время прощаться с У Сяолэй. Изначально Линь Фэю этот момент представлялся мучительным, поскольку при мысли о расставании у него начинали кошки скрести на душе. Линь Фэй и представить не мог, что такой трудный миг может стать настолько бесцветным. Он готов был переступить через него и жить дальше, и если бы не кольцо с бриллиантом, то они и вообще могли бы не встречаться, созвонились бы или даже не созванивались, а просто пошли бы каждый своей дорогой.
Это означало, что чары У Сяолэй больше не имели над ним власти, она больше не привлекала его, не была для него важна, и пускай периодически он ощущал разочарование, но это чувство относилось к той старой У Сяолэй, к той У Сяолэй, что жила дома и любила его, а нынешняя пекинская У Сяолэй была ему уже безразлична. Это стадо ясно даже по тому, где они встретились – снова у «Макдональдса», но в этот раз идею предложил Линь Фэй. У Сяолэй по телефону спросила, как вернуть кольцо, а он возьми да и скажи, давай, мол, у «Макдональдса», все равно ты там обедаешь.
Нужно сказать, что Линь Фэй уже успешно выбрался из ямы, закалившей его, и, выбравшись, видел будущую жизнь в новом свете, он стал более зрелым, научился отказываться от чего-то и не считаться с теми, кто отказался от него, и даже хотел взглянуть на последнее представление У Сяолэй глазами зрителя.
В тот день Ван Лань тоже пошла, внезапно У Сяолэй вызвала у нее острый интерес, и хотя она сказала, что просто хочет сопроводить Линь Фэя, но ситуация изменилась, и ей стало любопытно, что это за женщина заставила Линь Фэя поехать в Пекин и в итоге привела молодого человека к ней. Ван Лань словно внезапно обрела права и обязанности и хотела взглянуть, как же в конце концов выглядит эта У Сяолэй.
После обеда они вышли из квартиры, погуляли по улицам, потом пришли в «Макдональдс», что-то заказали и сели за два разных столика. Линь Фэй сел лицом к лестнице, а Ван Лань у окна, разделяло их десять с небольшим метров, так что любой вошедший, естественно, попадал в поле зрения Ван Лань.
На улице подул сильный ветер, температура упала, сегодня посетителей было намного меньше и куда тише. Линь Фэй, слушая музыку, потихоньку ел гамбургер и пил колу и тут увидел, как по лестнице поднимается У Сяолэй. Она все так же была в сиреневой ветровке, но на этот раз в очках, при виде Линь Фэя ее лицо тут же расплылось в улыбке и стало очень расслабленным и естественным.
Несколько дней назад ему бы стало больно из-за этого выражения лица, поскольку он не мог бы представить и не мог бы понять подобного равнодушия, не знал бы, что это – самодовольство, или безразличие, или же бесстыдное пускание пыли в глаза, но сейчас эта улыбка утратила эффект и больше его не волновала.
Линь Фэй не шелохнулся и только когда У Сяолэй села, спросил, хочет ли она чего-то, да и то исключительно из вежливости, поскольку знал, что У Сяолэй откажется. Она и впрямь отмахнулась торопливо, будто Линь Фэй уже вскочил и побежал ей покупать еду. Он снова спросил: точно не хочешь? Разумеется, ей ничего не оставалось, кроме как снова вежливо отказаться.
Ты одна пришла? Линь Фэй откинулся на спинку стула и задал вопрос как бы между делом. У Сяолэй сначала ответила «да», но потом пару раз охнула. Хотя она и делала вид, что это так, но уже выдала себя и надеялась, что обман прокатит. Линь Фэй догадался, что она пришла с этим своим Чэн Тяньпэном, наверняка тот сейчас торчит внизу. Прошедшие полгода уже показали, как искусно У Сяолэй врет, она так долго могла его обманывать, говоря подобными недомолвками и невнятным тоном.
В этот раз У Сяолэй сняла ветровку, поправила волосы, а потом уселась. Женская интуиция заставила ее не выдержать и оглядеться по сторонам, изучая обстановку, взгляд даже задержался на девушке за столиком у окна, так будто У Сяолэй тоже не поверила, что Линь Фэй пришел один. Вот только никто из них не выдал своего секрета, они даже телефонную стычку Линь Фэя и Чэн Тяньпэна не стали упоминать, а уж это и подавно. Но Линь Фэй все-таки кое-чего не понимал, женщины оставались для него загадкой, возможно, вовек не поддающейся разгадке.
Они перебросились парой фраз про погоду и все такое. Только тогда У Сяолэй достала из кармана красный бархатный футляр и передала ему, извиняясь:
– Оригинальную коробочку я не смогла найти, взяла эту… Взгляни!
Линь Фэй хоть и буркнул «да ладно», но руки сами открыли футляр. Футляр, видимо, остался от какого-то колье, поскольку бриллиантовое кольцо в нем терялось. Но это было то самое кольцо, которое он приобрел в Гонконге за три тысячи гонконгских долларов. Линь Фэй все еще помнил свой тогдашний восторг. Они его впервые вместе изучали, клали рядом с фальшивками, рассматривали на свету, и яркий блеск бриллианта, напоминавший вспышку взрыва, ни с чем нельзя было спутать и нельзя было имитировать… Линь Фэй со щелчком захлопнул футляр, а потом покивал головой, дескать, то самое, и У Сяолэй все это время отлично за кольцом следила, оно выглядело как новенькое. На этом их отношения официально закончились, на самом деле У Сяолэй могла уходить, Линь Фэй ждал, когда она попрощается, но девушка посидела еще немного, молча, словно хотела что-то сказать, но только не могла вспомнить или не осмеливалась.
Она снова напустила на себя беспомощный вид. Если ты хочешь разрядить обстановку, нечего изображать, что ты это делаешь из-под палки, так что прости, тут я тебе не помощник… Линь Фэй усмехнулся и сказал У Сяолэй:
– Хочешь дать мне напоследок какой-то добрый совет?
У Сяолэй покачала головой:
– Нет, я просто надеюсь, что ты будешь счастлив…
Линь Фэй не ощутил признательности, лишь кивнул:
– Безусловно!
У Сяолэй начала надевать ветровку, уже поняв, что Линь Фэй и впрямь не хочет, чтобы она осталась или же пытается таким способом вынудить остаться, потому, одевшись, она еще раз уточнила:
– Ну что, я пойду?
Это был одновременно и вопрос и просьба. Линь Фэй кивнул – иди! Он даже не стал вставать и не подумал протянуть ей руку, видимо, такого У Сяолэй не ожидала, поскольку она остановилась и, глядя на него, сказала:
– Хорошо, ну тогда я и правда пойду… а ты береги себя!
– И ты тоже!
Линь Фэй так и не шелохнулся. Он заметил, когда У Сяолэй обернулась, что у нее красные веки, она явно переживала неожиданное для себя потрясение, а потом отвернулась и под пристальным взглядом Линь Фэя стремительно спустилась по лестнице и исчезла из виду. Линь Фэй ожидал, что она оступится, но этого не произошло, потом секунд пять-шесть ждал, что она опять поднимется и скажет, что кое-что забыла, но нет. На лестнице никого не было.
Через несколько минут Линь Фэй вскочил с места, одним прыжком подскочил к окну и, как и ожидалось, на площадке перед входом увидел У Сяолэй с каким-то толстяком. Наверное, это и есть Чэн Тяньпэн. У Сяолэй вроде бы вытирала слезы, толстяк обнимал ее за плечи, словно не переставал утешать девушку, а потом они двинулись по Чанъ-аньцзе в направлении отеля «Пекин». Линь Фэй вдруг рассмеялся.
– Что такое? – вопрос, разумеется, задала Ван Лань, которая интересовалась, что это он смеется.
Линь Фэй, не сводя глаз с тротуара, ответил:
– Ей больше всего не нравились свиноголовые толстяки, она все боялась, что если я буду много пива пить, то у меня вырастет пивной живот… А ты посмотри на этого парня, он как три меня! – С этими словами Линь Фэй покачал головой.
Ван Лань поднялась с места и вместе с ним выглянула в окно, но У Сяолэй со спутником уже ушли далеко, и Ван Лань не увидела «свиноголового» парня.
Потом они сидели вместе, спокойно доедали начатые гамбургеры, не говоря ни слова и думая каждый о своем. Ван Лань думала о У Сяолэй: она такая симпатичная и миниатюрная, неудивительно, что Линь Фэй примчался за ней в такую даль, не в силах отпустить… От этих мыслей на сердце стало грустно из-за собственной жизни.
Линь Фэй же думал о слезах У Сяолэй: она правда огорчилась? Так это она за себя огорчилась, она ведь так любит себя, другие у нее таких чувств вызвать не могут. Линь Фэй ощутил какую-то скорбь, а еще он немного устал.
Когда они вышли, уже совсем стемнело, ветер непонятно когда стих, на улицах царило спокойствие, уже не было такой сутолоки, как днем. Они прошлись немного и на Ванфуцзин сели на автобус, а перед зданием Пекинского универмага на огромном платане увидели целую стаю отдыхающих ворон, огромную тучу птиц, которые пользуясь тем, что ветер стих, нагло горланили, словно находились на каком-то масштабном симпозиуме. Удивительное зрелище заметили не только Ван Лань и Линь Фэй, поскольку прохожие останавливались, замедляли шаг и смотрели во все глаза. Линь Фэй спросил у Ван Лань, откуда так много ворон, но даже Ван Лань не знала, она впервые видела подобное: похоже все вороны Пекина собрались сюда переночевать, провести собрание и обменяться впечатлениями от прошедшего дня.
Если птицы и рассказывали историю, то они могли бы рассказать историю Линь Фэя. Он только что расстался с подружкой, а тут еще и его история с Ван Лань, между ними только-только все началось.
Они обратили внимание, что время разом утратило смысл, поскольку делать особо нечего, то есть никаких срочных дел не осталось, время превратилось в рабочего, меняющего декорации. Оно отвечало лишь за то, чтобы сменить обстановку, чтобы ночные звезды превратились в облака на синем небе или чтобы монотонный день вовремя уступил место сумеркам – в тот момент уже стали зажигаться фонари, заходящее солнце казалось самым красивым и ярким, багровое облако беззаботно повисло перед окном, и их настроение тоже внезапно из молчаливого стало воодушевленным, словно бы снова по каким-то причинам, не заслуживающим внимания, внезапно открылся переставший бить источник.
В тот день они яростно занимались любовью, несколько последующих дней они снова занимались любовью – и по количеству и качеству показатели значительно повысились. Они страстно хотели этого ощущения, ощущения открытости, оторванности от мира, поскольку то и дело наталкивались на новые открытия и удивление, но справлялись с этой задачей и физически, и энергетически, и ментально, как будто запускали в высоту фейерверки, но этими яркими вспышками и бесконечной чередой красок могли любоваться только они вдвоем и только они могли ими гордиться. Правда, их беспокоило, что в будущем у них уже не будет таких ярких событий, а потому они дорожили моментом, тем, что как минимум сейчас могут насладиться любовью, о какой в книгах пишут: «жили долго и счастливо и умерли в один день».
В передышках разговоры все равно крутились вокруг темы секса, Линь Фэй рассказал, что в Гуанчжоу у моста на реке Чжуцзян собирались толпами уличные проститутки. Как-то раз он явно приглянулся одной такой девушке легкого поведения, которая принялась с ним заигрывать, разговаривать о жизни, призналась, что он ей нравится и можно даже устроить все бесплатно.
– Но вы же не… – спросила Ван Лань, хотя уже догадалась, чем все закончилось.
Линь Фэй ответил:
– Разумеется, нет! Она же проститутка, как можно?
Он рассмеялся, на самом деле причина заключалась не в этом. Ван Лань ему верила, поскольку, судя по сухощавому телосложению, он во всем себя ограничивал, явно не позволял себе лишнего, не говоря уж о разнузданном поведении.
А что же Ван Лань? Она рассказала только историю времен обучения в университете. Завелся у них в кампусе загадочный эксгибиционист, которым успела полюбоваться чуть ли не половина девушек, но Ван Лань он никогда не попадался. Как-то раз он встретился одной старшекурснице, та не находила себе места и умолила Ван Лань отправиться вместе с ней на поиски этого маньяка. Ван Лань даже удивилась собственной смелости и любопытству.
– А потом что? – настала его очередь задавать вопросы.
Разумеется, она не встретила никакого маньяка, хотя уже заранее придумала, что при встрече скажет: «Ой, ну вы что, так нельзя, где это видано?»
– Наверное, после подобных нападок он стал бы более смирным…
Разумеется, они говорили и друг о друге, о том, что между ними тогда внезапно произошло, о том, что им нравится друг в друге, или же рассуждали, что если бы не та стычка со «свиноголовым», они бы так и не сошлись. Часто после очередного сеанса Линь Фэй словно ребенок вскакивал с постели и прямо голый начинал прыгать на кровати, и при этом его достоинство тоже бешено подпрыгивало вверх-вниз, а потом расхаживал по матрасу как по подиуму, поскольку по телевизору как раз шел конкурсный показ модной одежды.
Он неожиданно исчез куда-то, пошел на кухню и вернулся с тарелкой колбасы, снова исчез, на этот раз в туалет, а когда появился, бодрый и веселый, Ван Лань велела ему накинуть что-нибудь, но Линь Фэй отмахнулся, дескать, не холодно, а потом забрался в кровать и когда откинул одеяло, Ван Лань увидела, что он снова в полной боеготовности, и смущенно засмеялась: так быстро и опять?
Эти несколько дней с Ван Лань происходили незаметные для нее перемены, которые она сама не ощущала, зато заметили коллеги и знакомые, хотя и не сказали. На работе нужно было появляться раз в неделю по средам. В эту среду одна толковая двадцатидвухлетняя студентка университета, работавшая в их отделе и относившаяся к людям нового поколения, в лоб спросила Ван Лань, а не появился ли у нее возлюбленный? Она была довольно бесцеремонной, но обычно неплохо со всеми ладила, а потому пояснила, что у таких девушек, как Ван Лань, обязательно должен быть возлюбленный. Ван Лань улыбнулась, но не ответила, в то же время поняв произошедшие с ней перемены, осознав, что незаметно распустилась, как цветы весной.
Молодые люди не понимали, что скоро придет пора расставаться, не понимали, что даже если игнорировать время, оно все равно доставит каждого по своему адресу, время справедливо ко всем людям, это единственная справедливая вещь в нашем мире. Для начала позвонила Сяо Цзе, она поболтала с Ван Лань, а потом начала расспрашивать, как там дела у Линь Фэя и когда он вернется. Такие вопросы Ван Лань не могла решать за него, а потому сказала:
– Он как раз тут, спроси у него сама.
А потом, словно Линь Фэй находился где-то далеко, Ван Лань громко выкрикивала его имя, а Линь Фэй изображал, что пришел откуда-то и только тогда взял трубку. Эта хитроумная комбинация заставила обоих переглянуться и улыбнуться.
Вообще-то Линь Фэй лежал на груди у Ван Лань и из этого положения начал разговор. Ван Лань слушала, как он говорит, а его пальцы легонько поглаживали грудь девушке.
– Ну, уже почти все… – Это он говорил о себе и правильно, что без особой определенности, хотя сейчас его тон не был похож на тон человека, только что расставшегося с любимой девушкой. – Вот такие дела, потом все расскажу… Пока не знаю… – Видимо, речь зашла об отъезде, Линь Фэй говорил, что не знает, когда вернется, поскольку все еще кое-что не завершил, а Ван Лань ощутила его пальцы в глубине своего тела, если, конечно, он говорил об этом. – Ты могла бы поговорить с начальником, чтоб мне дали еще несколько дней… – Он повесил трубку. Сяо Цзе обещала, что постарается.
То есть им скоро расставаться? Ван Лань неожиданно сделала важное открытие – им придется-таки расстаться, даже если добавить несколько дней, то все равно тянуть вечно с расставанием не получится, несколько дней погоды не делают. Она, конечно, догадывалась, но впервые ощутила всю абсурдность их взаимоотношений, в которых не было любви, зато с лихвой хватало секса, но без любви! Это все равно что пить, когда испытываешь жажду, есть, когда голоден, говоря чуть более сложными терминами, они залечивали обиды сексом, применяя тела друг друга для лечения… Разумеется, если и правда так, то они успокоятся, да так, что и расстанутся спокойно. Правда, на самом деле как-то раз после очередного пика возбуждения Линь Фэй обессилено обмяк на ней, не переставая с восторгом бормотать:
– Выходи за меня, давай поженимся!
У нее ясно екнуло сердце, но вслух она холодно сказала:
– Я тебя намного старше!
– Да прямо-таки намного, всего-то на три года. Ведь говорится, жена, которая старше мужа на три года, дорожит им как золотом!
Она избегала его взгляда, а потом, словно кичась своим возрастом и опытностью, вздохнула:
– Ты сам-то знаешь, что тебе нужно? – Линь Фэй опешил, а она, воспользовавшись заминкой, продолжила: – Мужчины только к тридцати годам нагуливаются в плане секса и только тогда понимают, что им нужно, ясно?
Линь Фэй молчал, явно задавленный ее опытом. Но если бы кто-то задал аналогичный вопрос Ван Лань, то она тоже не смогла бы ответить, поскольку и сама не знала, чего хочет.
Может, просто их отношения начались в неподходящее время. Чувства, которые возникают в самую трудную минуту, недолговечны; другими словами, эти чувства существуют в воспоминаниях, а не в реальности. Но Ван Лань непринужденность Линь Фэя казалась нестерпимой, он преуспел, с ее помощью освободился от мучительных чувств, можно сказать, что даже если бы они завтра расстались, Линь Фэй точно так же особо не напрягался бы и уж точно не тосковал, но способна ли Ван Лань на такую же легкость?
Ван Лань отбросила с себя руку Линь Фэя, а потом вышла на балкон посмотреть на неясные очертания города. Это ее город, ради этого она заплатила определенную цену.
Линь Фэй подошел к ней:
– Что с тобой? Расстроилась?
Ван Лань не отвечала, но глаза ее увлажнились. Внезапно Линь Фэй понял ее чувства и хотел ее снова обнять, но не стал этого делать, а просто стоял рядом и смотрел, смотрел, как покров ночи преследует по пятам солнечный свет и накрывает всю столицу. Они довольно долго стояли так, не шелохнувшись.
В конце рабочего дня Сяо Цзе снова позвонила и сообщила, что начальник дал ему еще три дня, это максимум.
Значит, у них еще было три дня.
(3)
Слова той девушки с работы Ван Лань пересказала Линь Фэю, но в ее изложении это был анекдот, дескать, они такие разные, что это даже смешно. Однажды она увидела на улице, как девушка «нового поколения» дерется со своим бой-френдом, оба выглядели так, будто ничего особого не происходит, однако удары кулаками сыпались один за другим, но потом стало ясно, что девушка обижена, поскольку она догнала парня и наградила сильным ударом. Эта девушка любила Ван Лань, любила делиться историями о своих взаимоотношениях с парнем, и как-то раз она сообщила, что молодой человек порезал руку ножом для резки арбузов, и когда она подумала, где же ему будет больнее всего, то пришла к выводу, что больнее всего там, где свежая рана, а потом принялась бить его, то и дело попадая по ране. Ван Лань, выслушав историю, удивилась, дескать, как так можно? Но девушка не приняла это всерьез, в свою очередь удивилась, мол, а что тут такого, почему бы и нет?
Однажды эта девица ворвалась к ним, позвонила уже снизу, сказала, что как раз проходила мимо, решила заодно проведать сестрицу Ван, но Ван Лань поняла, что в тот день, нахваливая ее внешний вид, коллега не дождалась рационального объяснения и теперь явно пришла в поисках ответа, то есть, если точнее, в поисках Линь Фэя.
Они в суматохе унесли на кухню остатки еды, которую не доели вчера, а потом Ван Лань сказала Линь Фэю, дескать пойди, посмотри телевизор, ничего страшного, она еще ребенок, но сама тяжело вздохнула и пошла открывать дверь.
Девушка вошла, еще раз вежливо извинилась, а глаза бесцеремонно обшаривали все вокруг, особенно задержавшись на ботинках Линь Фэя, при виде которых вроде как появился и ответ.
– У тебя гость? – спросила коллега, специально придав голосу беззаботности.
– Младший брат. – Сухо ответила Ван Лань.
– К тебе братик приехал? Почему ты ни словечка не сказала?
– Да что тут такого, тоже мне известная персона. – Она встала и постучала в дверь комнаты. – Сяо Фэй, выходи, у нас гостья.
Ван Лань снова вернулась на диван, заварила для коллеги чай и внезапно почувствовала, что с такими девицами легко управиться, по крайней мере, их опыт не сравнить. Вышел Линь Фэй, вежливо кивнул в знак приветствия, девушка сурово осмотрела его, а потом внезапно заявила:
– А вы и впрямь очень похожи!
Ван Лань и Линь Фэй засмеялись, но не стали объяснять причин, а потом Ван Лань сказала:
– Ну что, симпатичный у меня братик? Ты бы хотела с ним встречаться?
Настала очередь коллеги краснеть, но вслух она упрямо сказала:
– Договорились, погоди только, сначала надо бросить К.
Судя по всему, она в итоге поверила, что изменения во внешности Ван Лань не связаны с наличием у нее возлюбленного, поскольку в ее понимании предлагать в бой-френды можно младшего брата, но никак не возлюбленного.
Хотя эта история и незначительная, но неужели она доказывает, что Ван Лань и Линь Фэй похожи на сестру и брата, а не на любовников? Возможно, подспудно она доказывала именно это: они не могут быть вместе, а сошлись лишь на короткое время, и вряд ли их объятия продлятся долго.
Время текло, секунды складывались в минуты, предопределяя, что болезненное расставание становится к ним все ближе, несведущее время словно хотело пересчитать дважды, сколько им отмерено, но и без этих подсчетов они понимали, что времени у них все меньше и меньше. Сначала Ван Лань в унынии не знала, за что хвататься, она жила как во сне и легко расстраивалась, то и дело спрашивала себя, любит ли Линь Фэя, что именно она в нем любит, а если любит, то почему не придумывает способов, чтобы он остался, более того, у нее даже мыслей таких не было… Она погрязла во множестве противоречий, делала все наперекор, боялась, что эти чувства лишь иллюзия, и стали такими острыми исключительно из-за скорого расставания. Определенно эти чувства для нее стали важнее, возможно, впервые она испытала к человеку, который любил ее и которого она любила сама, то чувство, когда хочется прожить с ним всю жизнь и умереть в один день. Она даже рассказала ему о Му Лине, впервые обсуждая с кем-то свои проблемы с мужем, сказав: посмотри, на самом деле все женщины одинаковые, все так прозаично. Она словно бы уравняла себя с У Сяолэй, но Линь Фэй обнял ее и поправил, шепча на ухо:
– Нет, ты не такая, как она, ты не такая.
Как-то раз на станции метро, когда электричка со свистом подъезжала к платформе, Ван Лань вдруг в толпе крепко схватила Линь Фэя за руку, как будто боялась, что он может в любой момент исчезнуть, улететь. Тогда лицо ее побледнело как мел, Линь Фэй спросил, что случилось, но она не ответила, лишь покачала головой. Через некоторое время в движущемся вагоне она призналась, что хотела вместе с ним прыгнуть вниз с платформы. Эта мысль ее сильно испугала, очень сильно. Рассказывая об этом, Ван Лань не могла унять дрожь. Линь Фэй обозвал ее дурой, но глаза его тут же увлажнились, он прижал Ван Лань к груди, и они впервые открыто поцеловались. Эта девушка любит его, бедная девочка, а они не могут быть вместе… Пассажиры в вагоне глазели на них, но им было плевать, они не останавливались и самозабвенно целовались, даже хотели, чтобы другие видели, как они любят друг друга.
Разумеется, потом Ван Лань успокоилась, проявив благоразумие зрелой женщины, сказала, что в будущем будет счастлива, поскольку испытала любовь, которой хватит на всю жизнь. Когда она это говорила, Линь Фэй стоял напротив, он молчал, лишь смотрел на нее блестящими глазами, но никак не мог выразить свои чувства, а потому оставалось лишь внимательно и долго смотреть…
Возможно, их чувства и не дотягивали до какой-то там великой любви, но в те несколько дней они в процессе постоянного сближения обнаружили, что эти чувства, пока они задавали друг другу вопросы, навеки обрели вкус. Словно они все время смотрели друг на друга, на пятнадцатом этаже многоэтажки, в небе над Пекином, они никогда не смогут от этого отказаться и позабыть.
Потом, в тот день, когда Ван Лань проводила Линь Фэя, она внезапно обнаружила на тумбочке у кровати красный бархатный футляр, внутри которого оказалось бриллиантовое кольцо, а под ним лежала записка от Линь Фэя, в которой говорилось: «Я не знаю, как выразить мои чувства к тебе, это кольцо на самом деле я больше всего не хочу увозить обратно, поэтому оставляю его тебе на память, надеюсь, ты не станешь возражать».
Примерно через полмесяца Линь Фэй получил от Ван Лань посылку, в которой все так же лежал футляр с кольцом, отличие заключалось лишь в письме от Ван Лань: «Я прочла твое письмо и буду его хранить, но кольцо принять не могу, поскольку у меня нет права… Пусть он станет моим подарком, подари его своей невесте».
Это был единственный раз, когда они общались.
(4)
На самом деле Линь Фэй уехал из Пекина на два дня позже оговоренного срока, поскольку в первый вечер, когда он собирался уехать, поступило сообщение, что на Пекин надвигается самая крупная за последние десять лет песчаная буря.
Вышедший из-под контроля песок, который нес ураган, застилал все небо, моментально превратив Пекин в город из песка, в итоге рейсы в Гуанчжоу были отложены.
Ван Лань помнила, что когда в то утро они встали, все небо окрасилось в грязно-желтый цвет, ничего не было видно, как в тумане, как будто они встали раньше и сейчас вовсе не столько времени, сколько показывают часы. Они сразу и не поняли, что произошло, а потом из новостей узнали, что это песчаная буря. Сначала Линь Фэй волновался, без остановки названивал в авиакомпанию уточнить про свой рейс, но потом потихоньку успокоился и вскоре заинтересовался странной картиной за окном… Деревья гнулись под ветром, буря громыхала электропроводами, обрывала рекламные щиты, без остановки доносился звон разбивающегося стекла, в воздухе кружились разноцветные пакеты для мусора. А еще, разумеется, дул желтый ветер, то был желтозем из северных пустынь, который несся по ветру, шурша по окнам. Они почувствовали, что все многоэтажное здание шатается под этими неустанными порывами. Сначала Линь Фэй так и стоял у окна, спокойно глядя на происходящее, картина явно зачаровала его, а потом после очередного порыва ветра он с интересом сказал одну фразу, а именно:
– Мне кажется, вот кто настоящий хозяин Пекина. Настоящий хозяин Пекина прибыл!
Эту фразу Ван Лань запомнила навсегда.
Перевод Н. Н. Власовой
Кем работает папа?
Хэ Вэнь
Внезапно приехал отец. Бабушка четко сказала, что после смерти матери отец в другом городе завел новую семью и больше не вернется, я не понял, зачем он возвращается, нет, я не говорю, что он не должен приезжать меня проведать, но он бросил меня пять лет назад, и, хотя бабушка рисовала его негодяем и запрещала переступать порог нашего дома, я чувствовал лишь, что он приезжает не вовремя. Бабушка две недели назад попала в больницу, и я жил в свое удовольствие один в трехкомнатной квартире.
Бабушка мне малость надоела, каждое утро начиналось с одних и тех же слов: я тебя с детства вырастила, ты мое все, надо хорошенечко учиться. Чтобы я вырос нормальным человеком, она отключила телефон (ну, после того раза, как я позвонил на горячую линию и пришел счет на девятьсот с лишним юаней), не разрешала мне подходить близко к маленькому черно-белому телевизору, каждый раз, уходя из дома, она откручивала какую-то детальку и уносила с собой, а вечером прилаживала на место, чтобы полчаса посмотреть новости, а потом с удивлением рассказывала мне о соевом соусе из грязных волос, о ветчине, обработанной дихлофосом, о курице в подливке из химического сырья, а еще о том, как где-то вырос черный хлопчатник, а от взрыва газа погибла целая куча народу. Она требовала от меня, чтобы я только учился и спал, как последний ботан. Но мне вообще-то уже четырнадцать, где же вынести такую скучную жизнь? Если бы бабка узнала, что я увлекся Интернетом и скатился по всем предметам, то она с ума сошла бы. После того как ее положили в больницу, я, можно сказать, вздохнул с облегчением. Тогда я должен был учиться в загородном филиале школы, и по правилам ученики начальных классов средней школы должны были вторую половину семестра жить в школе. Я поклялся у больничной койки бабушки, что буду хорошо учиться, но ведь если я стану жить в школе, то не смогу ухаживать за старушкой и буду очень сильно переживать. Я уже научился врать, не краснея, а бабушка очень растрогалась, принялась успокаивать меня, что с ней все в порядке. Однако обещание я нарушил, сказал школе «бай-бай» и привел домой Цинтяо.
Мы познакомились в Интернете. Она на год старше, училась в четвертой школе. Внешне очень симпатичная, но оценки хуже некуда, даже слово «Рождество» писала «раждейство», а во втором классе средней школы и вовсе забросила учебу. Цинтяо говорила, что раньше была старостой в классе, но я не верил, однако, услышав от нее «Я тебя как увидела, так сердце екнуло», почувствовал себя на седьмом небе от счастья. Я тут же попал в любовные сети, а следом начал прогуливать занятия. Она говорила, что в школе много правил, а еще надо экзамены сдавать, на то, чтобы поступить в будущем в университет, все равно денег нет, так лучше сейчас весело проводить время. Я целиком и полностью согласился.
Цинтяо была обеими руками за то, чтобы приехать ко мне домой, но с порога заявила, что ей не нравится моя квартира, нет ничего, чтобы развлекаться. Цинтяо любила слушать музыку, ей нравились группы «sHE» и «F4», но мне это было совершенно неинтересно. Она сказала, что хочет домой, но тут я понял, что она врет, она вовсе не собирается возвращаться к себе: дом у нее просто «прекрасный», куча народу, и все как на подбор картежники, предки даже ее хотели проиграть в карты. Цинтяо сбросила туфли, уселась на диван и принялась есть картошку фри, я и не помню, когда ее рот был не занят, она всегда смачно что-то пережевывала. Иногда она и мне давала кусочек, но не любила, когда я облизывал ее пальцы. Она заявила мне, что у нее есть парень, я не поверил, но потом она и впрямь приволокла своего парня по имени Сыдин – шестнадцатилетнего раздолбая, которого исключили из третьего класса средней школы, очень странно одетого, с кучей всяких висюлек и кармашков, и с высветленными перекисью волосами. Сыдин внешне мне проигрывал: глаза навыкате, да и низкорослый какой-то, думаю, я к его годам буду выше. Но Цинтяо его обожала, этот лупоглазый реально пользовался всеобщим расположением, правда, я когда вместе с ними гулял, то стоило этому придурку появиться у входа в школу, как тут же кто-нибудь ему что-нибудь отдавал, а губа у Сыдина была не дура, он все брал – и деньги, и проездные, и мобильники, еще и ругался, если кто замешкается. Я не мог с этим смириться и пытался ему подражать, но меня все игнорировали. Сыдин, когда у него появлялись деньги, тут же снимал себе номер в гостинице, дома у него не было, он бродяжничал, родителей арестовали за употребление наркотиков, а выйдя из тюрьмы, они занялись перевозкой наркотиков, так что скоро снова сели. Когда речь заходила о Сыдине, то Цинтяо неторопливо причмокивала и говорила, что рано или поздно он тоже сядет, причем таким тоном, словно речь шла о поступлении в известный университет.
Потом Сыдин взял да и переехал вместе с Цинтяо ко мне домой, занял бабушкину большую кровать да еще и позвонил по отобранному у кого-то мобильнику и пригласил своих дружков в гости. Пришли самые отвязные парни из разных школ, большая часть бросила учебу; у меня дома они начали стучать по столу и табуреткам, как по барабанам, а потом разлеглись поперек комнаты и закурили. Я не мог с ними справиться и в душе уже даже жалел, что пригласил домой Цинтяо; из школы уже известили бабушку о прогулах, и она велела соседям сходить ко мне; соседи так стучали, что дверь сотрясалась, мы притворились, что дверь не открыть, я не мог ничего поделать, поскольку Сыдин не позволял мне и шелохнуться, он меня выжимал как лимон, наверняка это Цинтяо шепнула ему, что я рохля. Самое ужасное, что Цинтяо презирала меня за трусость, каждый раз, когда доходило до дела, я нарочно тянул, даже ее двоюродная сестра по прозвищу Комарик и та меня хвалила, по крайней мере от нее я слышал что-то лучше, чем «раззява». Я понял: если я хочу приобрести вес в глазах Цинтяо, то необходим какой-то потрясающий поступок, например при ней ограбить банк; разумеется, о таком я мог только мечтать, но и терпеть дальше ее выходки сил не было. За короткое время эта компашка сожрала в моем доме всю рисовую муку, а купить было не на что, более того, полиция организовала дежурство возле входа в каждую школу. Сыдин заволновался, велел, чтобы каждый прикинул, откуда взять денег. Чтобы завоевать «странное» сердце Цинтяо, я придумал способ: заняться закусочной дядюшки Чжа, я знал, где у него сейф, я даже план составил, к примеру, вечером Цинтяо начнет в переулке звать на помощь, а когда дядюшка Чжа выскочит посмотреть, в чем дело, мы войдем и стырим сейф. Я говорил путано, даже не смог толком объяснить, о какой конкретно закусочной идет речь, но они очень обрадовались и даже решили, что прямо сегодня вечером можно и заняться; я даже толком не понимал, что испытывал – радость или печаль. Отношение Цинтяо ко мне разом изменилось, вечером она выскользнула из спальни и позвала меня, в спальне было тихо, поскольку компашка по вечерам бузила, а днем отсыпалась. Цинтяо вышла в одном нижнем белье, хотя дело было в марте, погода еще пока стояла холодная, я пулей метнулся к ней, но Цинтяо всего лишь попросила у меня туалетную бумагу. А я, как назло, все отнес бабушке в больницу. Цинтяо улыбнулась, легонько потянула меня за мочку уха и спросила: а еще где спрятана? Взгляд у нее был странный, в тот момент я мог поклясться, что нравлюсь ей, и внезапно осознал, что стоит только предложить ей со мной переспать, и она не сможет отказаться, поскольку я нечаянно оказался на одной с ней волне. Цинтяо и правда не убегала, ее ароматное нижнее белье было прозрачным и искрящимся, и все на крючках, я дрожащими руками дотронулся до Цинтяо, она велела подождать и не распускать руки раньше времени, а потом сама расстегнула все крючки один за другим.
И, как назло, в этот момент явился отец.
Он мне не понравился с первого взгляда, ладно расстроил все мои планы, но еще и самолюбие мое не пощадил ни капельки; он не стал заходить через главный вход, а вместо этого влез по вентиляционной шахте, а мы живем на пятом этаже, но он все равно влез, я даже сначала решил, что это вор: грязный, лицо в пыли, во рту окурок, отец стал громко ругать меня, почему я не открываю дверь. Цинтяо от испуга завизжала, я на самом деле постеснялся признаться, что это мой отец, поскольку он разительно отличался от папы-директора, которым я хвастался перед ней, даже его произношение – смесь южных и северных диалектов – заставило меня покраснеть. Я хотел увести Цинтяо из гостиной, но папа резво спрыгнул вниз и нагло встал передо мной, потом чертыхнулся, выплюнул сигарету, протянул руку и сорвал с моей головы шерстяную шапку, сказал:
– Как ты вырос-то, неудивительно, что я тебя не признал – когда уезжал, ты был совсем ребенок.
Я тихонько шепнул Цинтяо, что это мой дальний родственник, Цинтяо выругалась:
– Вот ведь старый черт!
Мне дико не понравилось, что этот Старый черт моей шапкой отряхнул с себя пыль, Цинтяо говорила, что моя шапка связана из самой качественной шерсти. Я отобрал у отца шапку, а он повернулся и нагло велел, чтоб я шапкой стряхнул у него копоть со спины; я, разумеется, не послушался, тут Цинтяо не выдержала, открыла было рот, чтобы выругаться, но я быстро нагнулся и шепнул ей на ухо, мол, он сейчас уходит. Старый черт повернулся и стал чудно тыкать пальцем в Цинтяо и приговаривать, чтобы я велел ей убираться. Я не понимал, чего это с ним, и хотел объяснить, что это Старый черт просто ослышался, но Старый черт, как назло, добавил:
– Провожать не будем.
Эта фраза Цинтяо очень расстроила; закрыв обеими руками лицо, она убежала в спальню за Сыдином, я хотел броситься на Старого черта и укусить пару раз, это уж слишком, а он еще спросил меня: а шлепанцы на Цинтяо не наши ли, а то пусть снимет.
Цинтяо открыла дверь спальни и попросила меня зайти, поджарый Сыдин лениво поднялся с постели, натянул одежду и велел мне вытолкать Старого черта. Мне очень не понравилось, что он строит из себя хер знает кого, даже не смотрит на меня, но, увидев, что из глаз Цинтяо текут слезы в три ручья, ужасно расстроился; и в тот момент, когда меня охватили сложные чувства, Старый черт втащил через окно свой тюк, спокойнехонько открыл молнию, достал полотенце и зубную щетку, я перепугался и упрашивал не делать этого, ведь скоро вернется бабушка. Он взглянул на меня, а потом вытащил электробритву. Внезапно я в ярости долбанул кулаком по столу, но Старый черт велел мне умерить пыл, поскольку из столешницы торчит маленький гвоздик, он его только что приметил; с этими словами он начал снимать верхнюю одежду. Скрипнула дверь спальни и в гостиной появился Сыдин, с кислой миной он уселся на диван, вынул из кармана брюк носки и натянул их. Старый черт велел ему встать, чтобы не мять его одежду. Попутно он ухватил гвоздик, торчавший из столешницы, и с одного раза выдернул наружу, я аж крякнул от изумления. Цинтяо бросилась в спальню и привела оттуда остатки компании. Сыдин, поглядывая искоса на Старого черта, заворчал по-стариковски:
– Этот малый вообще, что ли, уходить не собирается?
Старый черт поморщился и сказал ему, дескать, я тебя прошу не мять мою одежду, ты что, не слышишь? Сыдин и не вздумал пошевелиться, тогда Старый черт бесцеремонно сдернул его с дивана, обычно внушительный и воинственный Сыдин в руках моего отца казался жалким цыпленком. Сыдин пару раз трепыхнулся, а потом отец бросил его на пол, парень жалобно ойкнул, а я едва не рассмеялся. Сыдин покраснел, мышцы напряглись, он вынул ножик и собрался «поникать» Старого черта; Цинтяо пронзительно завопила, вопль получился жутким, я даже дышать перестал. Старый черт с ухмылочкой ждал, когда Сыдин бросится на него, а потом резко схватил того за локоть и завел его за спину так, что парень сложился пополам и запричитал. «И поделом!» – чуть было не вырвалось у меня. Хоть мне и не нравился Старый черт, но Сыдина я ненавидел сильнее, а потому одобрил, когда Старый черт развернул Сыдина и дал ему хорошего пинка по острой заднице; когда Сыдин ударился головой о стену, и на лбу выросла огромная шишка, я очень обрадовался. Парень бросился было к дверям, но Старый черт снова загнал его на кухню, протер шишку свиным салом, чтоб опухоль спала, а потом велел убираться. Я перепугался так, что все тело обмякло, поскольку считал, что Старому черту не стоит отпускать Сыдина, ведь он обязательно вернется отомстить; я хотел договориться оставить остальных, но Старый черт был неумолим и всех прогнал, не веря, что так можно навлечь на себя беду, – толпа мажоров, а он только рявкнул, и они уже в панике разбежались. Цинтяо уходила самой последней, посмотрела на меня и с грохотом захлопнула дверь.
Я собирался выскользнуть следом и извиниться перед ней, но Старый черт меня тут же схватил и развернул. Неужели и меня бить собирается? Я яростно вырывался, но его сила была так велика, что я просто зря тратил усилия, по глазам я понял, что отец готов меня прибить, и в душе испугался: как он может так со мной поступить? Внезапно Старый черт ослабил хватку, вода с носков, висевших на веревке, капнула ему за шиворот, это были носки Цинтяо; Старый черт резко сорвал их и бросил в корзину для мусора. Моя и без того малая симпатия к нему растаяла как дым, Старый черт, не глядя мне в лицо, велел принести рюкзак, достал оттуда новый замок, собравшись поменять наш старый на новый. Я тут же воспротивился: вообще-то он не у себя дома, если поменяет замок, бабушка как домой попадет? Такое впечатление, что он меня не слышал и старательно заворачивал болты на двери, и только потом сказал мне, мол, подозревает, что та компашка давно уже сделала копию старого ключа. Ой, я чуть было не вскрикнул от удивления, сердце при этом екнуло. Он что, в полной боеготовности явился? Да нет, вряд ли. Старый черт запер дверь, я попросил дать мне новый ключ, но он меня отпихнул, я в ярости прошипел:
– Ты не можешь тут командовать, я бабушке расскажу!
Отец на меня не смотрел, переобулся в домашние шлепанцы и велел немедленно прибраться, да побыстрее! От его рыка стало не по себе, я и подумать не мог, что он в конце концов так поступит, если б бабушка была дома, то не позволила бы ему шуметь, и я даже немножко заскучал по бабушке. Старый черт притопнул ногой, и я волей-неволей, подавив злость, сделал так, как он велел. Старый черт остался доволен и, посвистывая, поставил ботинки в шкафчик для обуви и вдруг заорал:
– Что за придурок засунул в шкаф для обуви жвачку, а еще и дырки на мягких тапках от сигарет, ты только посмотри!
Я стоял далеко и не осмеливался приблизится, понятно это дело рук Сыдина и его дружков, а это самые любимые бабушкины тапочки, она с ума сойдет от злости. Старый черт вытаращил глаза и спросил:
– Эта компашка что, каждый день приходит безобразничать?
Я испугался так, что пот прошиб, а потом сказал, дескать, не говори ерунды, это просто мои одноклассники. Он закрыл дверцу шкафа и снова спросил, а почему я сегодня не на уроках. Я ответил, что школа организовала поход на выставку научных достижений, а потому нас на полдня отпустили с занятий. Это, разумеется, была ложь, но тут я мастер, Старый черт больше не приставал с расспросами, думаю, он еще и позлорадствовал, что с тапками такая беда случилась. Отец не любил бабушку. Я набрался смелости, потому, когда он не разрешил мне больше общаться с ребятами, я заявил, что это не его дело. Отец охнул, взял ботинок и швырнул в меня, но, к счастью, я оказался проворнее и увернулся, потом взял метлу и специально махал ею так, чтобы поднимать облако пыли. Отец подскочил, я тут же струхнул и открыл окно, чтобы проветрить. Старый черт снова принялся орать, на этот раз из-за того, что творилось в туалете, я вошел и глянул: ой, в луже плавали бесчисленные окурки, но что еще хуже – унитаз был сломан. Старый черт, не переставая крыть по матери, присел на корточки и принялся чинить унитаз, я боялся, что он меня сейчас отругает, и специально сухо сказал, дескать, ну и что тут такого, можно ж новый купить. Старый черт ударил меня по заднице. Я охнул и в бешенстве пулей вылетел из туалета, Старый черт проявил еще большее вероломство и отвесил мне еще и пендаль, я его возненавидел, сел на пол и принялся думать, чем бросить в него в ответ. Старый черт спросил:
– Что ты там ищешь?
Я удивился, поскольку отец точно сидел на корточках спиной ко мне. Я состроил ему гримасу, на что он сказал, мол, уродство еще то. А я внезапно понял, что он видит в зеркало на стене все, что я делаю, ничего тут странного, я скривил рот. Старый черт закончил с ремонтом, вышел и велел мне открыть спальню, хотел навести там порядок. Я оробел, боялся, что и там возникнут проблемы. К счастью, беспорядок царил только на кровати, да еще расшатался плетеный стул, но ему было уже лет двадцать, странно было бы ожидать, что стул переживет случившееся целым и невредимым. Старый черт снова разорался, выудив коробку презервативов, меня реально достало, что он шумит по пустякам, во-первых, не я ими пользовался, более того, в этих вопросах нужно быть осторожным. Старый черт побледнел и размахнулся, а я тут же прикрыл голову руками, но оплеуха еще не успела достичь цели, как взгляд Старого черта уже привлекла булавка на тумбочке, это Цинтяо оставила после себя, я мигом схватил, а отец меня ударил, взял булавку и тщательно осмотрел, не мамина ли. Я сказал:
– Жаль тебя расстраивать, но маминого тут ничего не осталось.
– Я говорил правду: мама прихватила все свои вещи и сбежала с любовником, а потом погибла в аварии.
– Убери постель! – заорал опять Старый черт.
Я догадался, что он боится, как бы я не понял, что у него на душе, и специально отвлекает мое внимание, так, значит, он все еще скучает по маме и по нашей семье? Я затрясся мелкой дрожью, действительно испугавшись, что отец вернулся с этой мыслью, но тогда он может надолго подзадержаться, тут уже даже проблема не в том, что он вернулся в неподходящий момент.
– Иди, иди.
Старый черт вытолкал меня в гостиную, он с пыхтением расстегнул пуговицы, обдав запахом потного тела, он собирался помыться.
Я снова напугал его, мол, а не боишься, что бабушка придет? Отец разделся догола и повернулся ко мне:
– Что ты там говоришь?
Мне было неловко смотреть на его обнаженное тело, я понурился, но он специально поднял мою голову за подбородок, вот ведь приставучий, и вырваться ведь не вырвешься, отец предупредил меня, чтобы я больше не водил сюда никого и впредь не сидел в Интернете. Я перепугался: откуда он все про меня так хорошо знает? Или это бабушка сказала? Нет, быть того не может, они всегда цапались, как кошка с собакой. Старый черт загадочно велел мне снять обувь, я недоумевая, смотрел, как он отнес все мои ботинки в ванную, а потом запер дверь, включил воду и принялся плескаться; и внезапно я понял, что он боится, как бы я не сбежал, растерялся, поскольку не понимал, что конкретно отцу обо мне известно. Но потом подумал и перестал бояться, собственно, самое плохое то, что я прогуливаю уроки, а бабушка говорила, что Старый черт и сам не подарок. Мой взгляд остановился на его рюкзаке, я решил порыться и посмотреть, что там. Звук воды стих, Старый черт сказал, что в рюкзаке одежда для меня. Я опешил: ну не мог же он оттуда увидеть! Вода снова зажурчала, я вынул новую одежду, а потом и кошелек. Ух ты, сколько денег, ворованные? Решил укрыться у нас от неприятностей, узнав, что бабушка в больнице? Старый черт крикнул, чтоб я не трогал кошелек, я тут же нашелся – сказал, что мне надо купить учебные принадлежности. Ну и пускай он не согласен, я для начала вытащил сотню, а потом решил, а почему бы и не взять; когда отца схватят, то и денежки тю-тю, а сейчас хоть сигарет куплю, а то Цинтяо вечно ругается, что я курю на халяву.
Кто-то хлопнул меня по плечу, сильно испугав, оказалось, это Цинтяо, я не понимал, как она вошла, обведя нас вокруг пальца, оказалось, я просто не запер дверь. Она говорила визгливым тоном, я поспешно показал на ванную, и Цинтяо тихонько сказала, что знает, она долго стояла у двери, так что даже полюбовалась на голого Старого черта, а вернулась, чтоб забрать носки. Я быстро закрыл от нее плетеную корзину, но она оказалась даже половчее Старого черта, оттолкнула меня и выудила носки. Я сказал, что это не я выкинул их. Цинтяо сквозь зубы заявила, что их компашка люто зла на этого забулдыгу и на меня, мало того, что я не выставил Старого черта, так тот еще отколошматил Сыдина, и теперь Сыдин жаждет мести. Я рассердился и испугался. Цинтяо сказала, что у меня есть единственная возможность спастись: скоро стемнеет, я должен отвести их в закусочную Чжа. Я тоскливо показал свои голые ноги. Цинтяо ничего эдакого не увидела в этом, мол, носки наденешь, и нечего бояться. Но я не согласился: можно поранить ступни о мелкие камни и битое стекло. Цинтяо расстроилась, что мне совершенно не понравилось, а потом вдруг заулыбалась, заявила, что я ей нравлюсь и после того, как мы разберемся с дядюшкой Чжа, мы пойдем и снимем номер. У меня кровь забурлила, дыхание участилось, я чуть было не сказал, что хочу снять номер и с дядюшкой Чжа уже все решено, но промолчал, поскольку боялся, что она переменит свое решение и продинамит меня, про таких обычно говорят «вареная утка прямо с тарелки улетела». Я пообещал, что надену ботинки, а потом найду ее. Я решил повести ее прямо сразу в гостиницу, сунул ей под нос только что раздобытые деньги. Глаза Цинтяо блеснули, она сказала, что надо поменять на две купюры по пятьдесят, и выхватила сотню. В этот момент вода в ванной стихла, лязгнул замок, Цинтяо, как змея, выползла наружу, и только тут я вспомнил, что она так и не отдала мне обратно деньги.
Пять лет назад я вот так же вышел из ванной, а отец как раз второпях искал туфли, чтобы догнать мать. Но мать оказалась умнее и оставила только пару шлепанцев без задников, отец в них не мог быстро бегать, в итоге мать сбежала, она была очень хитрая, а еще и обольстительная и прославилась в наших местах. Отец говаривал, что и не стоило за ней гнаться.
И вот через пять лет я стоял нос к носу со Старым чертом, и какую бы ложь ни придумывал, он меня не отпускал. Я пытался сказать, что пойду за учебными принадлежностями, проголодался и хочу съесть лапшу с говядиной, потом соврал, что надо в больницу навестить бабушку; он был неумолим, а потом заявил, что ему надо у меня кое-что спросить. Возможно, пронюхал, что Цинтяо приходила, я реально его испугался.
Старый черт велел мне сесть, я не решился сказать, что он намотал себе на голову мое полотенце для ног. Он достал из сумки сигарету, закурил и выпустил струю дыма со словами:
– Хорошо-то как!
Я сказал, что тоже хочу. Отец протянул руку и выхватил у меня изо рта сигарету, потом щелкнул пальцами, и сигарета со следами моей слюны полетела в мусорное ведро. Ну какого черта, я очень разозлился, понятно же, что ты сам меня соблазнил. Я поторопил, что он там хотел спросить. Он взглянул на меня и спросил:
– Догадайся, зачем я приехал.
У меня екнуло сердце, но сейчас меня это не особо заботило, поэтому я сухо ответил, что знать не знаю.
Отец сделал еще одну затяжку, а потом сообщил, что в этот раз приехал меня проведать. Я чуть было не добавил «Ну и уезжай», внезапно ощутив прилив надежды. Старый черт неторопливо пододвинул пепельницу и стряхнул пепел. Я начинал волноваться, ведь приближался вечер. Я сказал, что понимаю цель его визита, у меня все хорошо, можно обо мне там у себя не беспокоиться, ну а то, что ударил меня, так и ладно, а сейчас мне правда надо идти навестить бабушку. С этими словами я поднялся с места.
– Остальное обсудим, когда я вернусь, если не дождешься, то оставь ключ у соседей.
– А ну-ка вернись. – Старый черт властно стукнул по столу, я удивился, он велел мне сесть, я послушно сел, а в душе вздохнул: мне крышка!
Отец посмотрел на меня в упор:
– Тебе нравится Цинтяо?
Я вспыхнул и принялся всячески отнекиваться. На лице отца появилась редкая для него участливость, он тихонько сказал, что Цинтяо по уши влюблена в другого.
– Ей нравлюсь я, – сорвалось у меня с языка, и я тут же пожалел.
Старый черт отмахнулся, сказал, что Сыдин покруче меня и она меня дурит. В итоге я повесил голову, в душе тайком восхищаясь Старым чертом, все-то он знает. Может, он придумает вместо меня какой-то план? Но я не знал, как заикнуться об этом, чесал голову, а потом вытащил из кармана упаковку сушеной морской капусты и стал есть; это мне Цинтяо дала, тогда я ее не поблагодарил, она украла несколько пачек из супермаркета и маленький пакетик дала мне, сказав: если захочешь еще, то попроси у Сыдина, но где уж мне? Старый черт спросил, что это я жую. Пожадничать и не поделиться? Я еще не забыл, как он отобрал у меня сигарету. Я сказал, что это вообще ничуточки не вкусно, а сам тем временем отправил остатки в рот и только потом вспомнил, что хотел просить отца о помощи, и покаянно извинился, цель моя одна: как мне заполучить Цинтяо? Отец проникся, положил ногу на ногу и спросил: а что мне нравится в Цинтяо, она цветущая? Я чуть не рассмеялся, ну ты село, надо говорить «красотка»! Отец изо всех сил пытался скрыть неловкость, хорошо, что кожа темная, и покраснеешь, а не видать. И тут он громко заявил:
– Тебе ее никогда не заполучить!
– Почему это? – не понял я.
Отец сказал, что я не только трус, но еще и хвастун, она меня только за нос водить будет. Мне становилось все больше и больше не по себе. Я сказала, мол, не надо ее изображать совсем уж испорченной. Старый черт чуть не обжегся дымом.
– То есть, по-твоему, она лапочка? А где тогда мои сто юаней?
Я задрожал от страха, крыть было нечем, я не смел взглянуть на отца, только слушал. Отец обозвал меня простофилей, меня ужасно бесит это слово, я не простофиля, напротив, я злодей еще тот. Отец холодно рассмеялся: эх ты, мажор, единственный выход для тебя – учиться старательно. В мозгу что-то щелкнуло, он меня задел своими словами, меня это взбесило, я ему не верил.
– Потеряв мою маму, ты разрушил мое счастье.
Старый черт пнул меня, а потом спросил, что это я там бормочу себе под нос. Я упрямо отворачивался от него, он хотел, чтобы я посмотрел на него, но я назло этого не делал! Старый черт ухватил меня за обесцвеченные (по указке Сыдина) волосы, больно было так, что я скрежетал зубами, но решил, что чем больше его боюсь, тем сильнее он становится, лучше просто орать благим матом, чтоб отпустил. Но я и подумать не мог, что он меня переупрямит, отец меня крепко схватил, взял со стола ножницы и одним махом отрезал мне волосы. Я не представлял, что он так поступит, и только жалобно скулил, мол, хватит, хватит, как я пойду встречаться с Цинтяо. Я выл что есть мочи и пинал стол. Отец быстро принес из ванной расческу и велел сидеть тихо и не дергаться, а то если порежет меня, то он не виноват. Старый черт, орудуя ножницами и расческой, подстриг меня, а потом дал мне зеркальце, пояснив, что когда подрабатывал на чужбине, то первым делом научился стричь.
Я смотрел в зеркало, хотелось плакать: волосы слишком короткие, почти под ноль. Отец же озорно подул на мою новую прическу да еще и спросил, не холодно ли? Потом он отпустил ревущего меня и бодро пошел на кухню готовить еду, я с отвращением сказал ему вслед, ага, хрен тебе, дома ни рисинки нет. Отец вернулся, а я пулей помчался в ванную помыть голову и со страхом тайком на него поглядывал. Старый черт открыл свой рюкзак и вытащил какой-то мешочек, я удивился, сколько там оказалось всякой снеди, отец глянул на меня с довольным видом и сказал, что купил все это в супермаркете. Я поклялся, что буду его игнорировать, но ему и дела не было, он не замечал моей злости, велел мне перелить соевый соус и уксус в одну бутылку, я чуть помедлил, думая, что он сейчас придет в ванную и извинится, но Старый черт и не подумал, еще и возмутился, чего это я там копаюсь. Отец, оживленно жестикулируя, велел мне со второй полки серванта принести молотый перец и бутылку из-под глутамата натрия, вымыть и поставить на первую полку. Черт, все-то он знает, где лежит, еще получше меня, словно бы и не уезжал никуда. Я с отвращением гремел посудой, отец опять обругал меня простофилей, я только улыбнулся, а он уставился на меня во все глаза, ничего-то с ним не поделаешь. Бабушка говорила, что отец очень деспотичный человек, в молодости он часто шел, волоча за собой мать по асфальту, потому что она его не слушалась и общалась еще с парнем по имени Сяосяо. Бабушка говорила, что мать не любила отца за грубость, а он ей не доверял, да и слухи всякие ходили, которые ее порочили. В этом месте бабушка не поясняла, вранье это или нет, а я своими глазами видел, как мать в одних трусах шмыгает за штору, посмотреть, как удаляется силуэт отца, а потом из-под кровати вылезает Сяосяо. Мне тогда не было и шести лет, а я знал, что Сяосяо не единственный любовник матери. Однажды я чуть не проговорился Цинтяо, мол, посмотри, в какой я обстановке рос.
Сначала я даже немного сочувствовал отцу, его в компании образованной молодежи еще школьником во время «культурной революции» отправили ремонтировать железную дорогу, он вырос босяком и задирой, даже ударил Сяосяо ножом и чуть было не угодил в тюрьму. Я всегда был на его стороне, но сейчас подумал, что будь я на месте матери, было бы странно, если бы она жила с таким человеком и не делала все наперекор.
Старый черт воткнул в розетку электрическую рисоварку, а сам повернулся и принялся со стуком нарезать морковь очень тонкими кружочками; он что, еще и поваром работал? Я внезапно почувствовал голод.
– Свет включи, – велел Старый черт, в это время за окном уже сгустились сумерки. – Чайник поставь, – снова распорядился он, словно не мог вынести, что я сижу без дела.
Он ловко нарезал курицу, а потом поставил сковородку. В этот момент соседи сверху по фамилии У снова положили мокрую швабру на окно, и вода закапала нам на подоконник, бабушка уже много раз поднималась и просила так не делать, но соседи не слушали. Зато Старый черт без лишних слов пошел в туалет, помочился в пластиковую бутылку и зашвырнул ее к соседям, а потом, напевая какую-то частушку, сделал так, что вода с швабры текла к соседям снизу; в итоге соседи переругались в пух и прах, а Старый черт включил газ и приготовился жарить. Ох, я чуть было не начал его нахваливать, непонятно, то ли я восторгался воображением Старого черта, то ли его чувством юмора, но невольно вдруг подошел и повязал ему передник.
К нам кто-то постучал. Уж не Цинтяо ли? Я разволновался так, что бросился со всех ног, потом резко притормозил, поискал шапку, а когда напялил ее, то Старый черт уже пулей вылетел из кухни в прихожую. Я правда не преувеличиваю, он почти летел, аж чайный столик по дороге сшиб, я испугался, что сейчас он отчитает Цинтяо, и тоже со всех ног бросился к двери.
Но это пришли взять с нас оплату за воду.
Только я расслабился и тут же снова начал бояться, поскольку в этом месяце был большой перерасход, ведь Сыдин и его дружки каждый день тут плескались. Старый черт не стал меня упрекать, молча отдал деньги и продолжил готовить, я напомнил, что надо посолить, а он вроде как и не слышал, лицо мрачнее тучи, очень странно…
И тут снова раздался стук в дверь. Старый черт резко повернулся, возможно, он заметил мой ошарашенный вид, понял, что слегка перегнул палку, умерил обороты и снова пошел к двери. А мне оставалось только, глядя ему в спину, молиться, чтобы это оказалась не Цинтяо.
На сей раз пришли проверить счетчик газа.
– Все верно. – Отец сердито постучал по краю сковородки, а потом покосился на меня: до вокзала ведь только первый автобус идет? У меня екнуло сердце, я удивленно спросил, уж не собирается ли он прямо сейчас уехать, но отец понурился, а потом взревел: – Вода закипела!
– Старый черт. – Я за его спиной занес руку, но стоило ему повернуться, как я уже снимал чайник.
Когда постучали в третий раз, Старый черт не пошел открывать, а я долго пыхтел и возился с замком, собираясь предложить Цинтяо увидеться в другой день.
На пороге стояла незнакомая женщина средних лет.
Только я собирался спросить, кто ей нужен, как меня оттеснил отец, я улыбаясь потирал то место, куда он меня толкнул, и думал: так он, оказывается, ждал ее, неудивительно, в этот раз ему надо проявить себя во всей красе, так что я пропал, Цинтяо рассердится, конечно. Но Старый черт степенно принял у женщины сумку и шарф и спросил, на чем она добралась, все чинно-благородно, как будто его подменили. Я вроде сказал ей, что он притворяется, и только что вел себя, как волчара голодный. Задница Старого черта чуть дернулась, но в этот раз я оказался проворней: даже и не думай проучить меня. Женщина посмотрела на меня и сказала:
– Так это твой сын.
Я словно бы стал ниже, да и потом сидел как на иголках и все думал: что же, отец такой же лох, как и я, тоже не смог завоевать женщину?!
Гостья притворно хихикнула, а потом лицемерно притянула меня к себе, что мне категорически не понравилось, поскольку от нее чем-то пахло, интересно, она мясом торгует или рестораном заведует? Тетка снова рассмеялась, сказала, мы с отцом очень похожи.
– Да вообще не похожи.
Отец стоял позади меня, он стащил с меня шерстяную шапку, потом похлопал по моей башке, как по арбузу. Гадость! Я увернулся. Старый черт снова отправился на кухню и занялся готовкой. Женщина спросила, в какую школу я хожу. Я не задумываясь брякнул:
– Хулиот.
Мы все так отвечали, это сокращение от «отпетых хулиганов». Женщина по ошибке решила, что я сказал «Полет», и начала нахваливать, что у них в городе есть школа с таким названием, очень хорошая, я едва не рассмеялся. Она спросила про оценки, я с улыбкой ответил, мол, в первой десятке. Женщина потрепала меня по щеке и сказала:
– Преподавателям ты наверняка нравишься.
Я ответил, что преподавателям нравится только трогать за попы моих одноклассниц, я сам видел. Старый черт строгим голосом крикнул:
– Чай завари!
Женщина пить чай не стала, закатала рукава и пошла помогать на кухню, тут Цинтяо ей проигрывала, признаю.
Они там шушукались, а я прятался за дверью и подслушивал. Женщина чистила лук и приговаривала, вот, мол, какой любящий отец, столько блюд наготовил. Отец ответил, что он для нее готовил. Я даже хотел влепить самому себе пощечину, вдруг он порадуется? Женщина сказала, что Старый черт любит пышные фразы, а сам не дождался ответа и сбежал, пришлось даже ресторан на день закрывать. А я закивал, понятно, Старый черт у нее в ресторане работает поваром и сбежал, недовольный зарплатой. Женщина снова заворчала, мол, мне все говорили, что на тебя нельзя положиться, уговаривали выгнать тебя, но я аж сюда приехала, это доказывает, что ты мне нужен. Эх, я подумал, что такие слова Цинтяо должна говорить мне. Я снова услышал вздох, вытянул шею и увидел, что рука Старого черта лежит на толстой заднице женщины, впечатляющее зрелище, а еще обманули меня, что между ними ничего такого; я корил себя, что не вел себя так же с Цинтяо, а потом увидел, что женщина чуть потерлась о его ногу, Старый черт дернулся, сказал, мол, ты с ума не сходи, обожгусь. Я фыркнул и тут же зажал рот рукой. Женщина спросила, сколько отец планирует тут пробыть, мол, ей надо точно знать, у нее поклонников пруд пруди. Я чуть было не вошел и не сказал отцу: да она тебя пугает, за ней ухаживать могут только хромые да слепые, пусть зарплату прибавляет!
Старый черт крикнул, чтобы я собирал на стол.
Мы втроем уселись за стол, отец почувствовал себя как дома, я молчал, женщина тоже, как я догадался, она думает о своем ресторане, подсчитывает убытки за день простоя. Я хотел было сказать, что печалиться не надо, отец у нас важная птица, специально изображает невесть что, а добавишь денег – и побежит как миленький.
Женщина с улыбкой положила еду сначала мне, приговаривая, дескать, у отца твоего золотые руки, он так вкусно готовит. Я скривился, хотел сказать, что надо уважать своих работников. Женщина подцепила палочками креветку и дала мне, сказав, что моего отца все любят. Я реально заволновался за нее, вроде умная тетка, что же с пустыми руками приехала, отец у меня человек практичный. Старый черт зубами открыл бутылку. Женщина спросила, не выпью ли я стопочку, но отец не разрешил. А я такой человек, что, если мне запретить, я назло сделаю, пока они ходили за жареным арахисом, я глотнул прямо из горла. Я вместе с компанией Сыдина уже пил и пиво, и вино, но папина водка оказалась гадкой на вкус, какой-то жгучей. Отец подошел, оттащил меня за ухо и сказал, чтоб я не безобразничал, ему это не нравится, мол, сначала подрасти, а потом уже пей по-нормальному. Мне стало нехорошо. Женщина принесла жареный арахис, Старый черт с улыбкой налил ей водки.
– Волокита, – шепнул я так, чтобы отец слышал, а потом поспешно добавил, что курица по-сычуаньски очень вкусная.
Отец велел мне смотреть на него, я сказал, что не привык. Над его затылком горела очень яркая лампочка, которая резала глаза, сто ватт. Но отец не пощадил меня, сказав, что в ней всего сорок. Я хохотнул пару раз, пережевывая курицу, которую мне положила женщина. Отец спросил, я перестану пороть чушь или нет, добавив, мол, в тихом омуте черти водятся. Мне эта фраза очень не понравилась, а вино прибавляет смелости, поэтому я постучал палочками по ободку чашки и сказал:
– Послушай, дождь пошел, первый весенний дождь.
Женщина засмеялась кудахтающим смехом. У отца вытянулось лицо, он прикрикнул, мол, ты когда перестанешь болтать всякую ерунду? Я показал ему язык, а Старый черт вдруг улыбнулся, я впервые увидел, как он улыбается, хотя, возможно, он просто притворялся перед «начальницей», но мне это придало смелости. Старый черт потрепал меня по голове и сказал, что мы с ним похожи.
– Ага, озорным видом, – сказал я.
Старый черт опять рассмеялся. Он решил, что мы поладим, а по мне, так было бы странно. Я совсем распоясался и закинул ноги на стул, на котором сидела женщина. Мне показалось, что в этом нет ничего эдакого, но Старый черт попросил меня убрать ноги, тогда я сказал, что не стоит перегибать палку, вот стану я в будущем начальником, появятся у меня деньги и квартира, придется меня слушаться. Дошло до того, что Старый черт поднял руку, только тут я опешил, женщина принялась уговаривать его, а отец, все еще с трудом переводя дыхание, велел мне побыстрее доесть и собрать портфель на завтра. На сердце стало тяжело: отец хочет меня выгнать, чтобы тут единолично хозяйничать! Но я не осмелился сказать этого вслух, поскольку вид у него был очень суровый, стоит мне еще что-то «выкинуть», и он меня поколотит. Он повторил, чтобы я ел быстрее, у меня на глаза почти навернулись слезы, я усиленно чавкал, несколько раз отказавшись, когда женщина хотела положить мне добавку. Старый черт назвал меня невежливым, снова поднял руку, да этот парень привык всем отвешивать тумаки, самый плохой отец на свете. Я отставил в сторону чашку и вышел из-за стола, заявив, что завтра пойду все бабушке расскажу. Женщина рассмеялась, сказав, что приезд отца – бабушкина идея, старушке со мной не управиться. Я вытаращил глаза и открыл рот, а женщина велела не удивляться, все деньги на мое содержание присылал отец. Мне было ужасно неприятно, особенно из-за того, что на лице Старого черта появилось самодовольное выражение.
А за окном шумел дождь.
Я нехотя собрал портфель, никак не мог вспомнить, где лежат эти проклятые книжки, в туалете вроде физика валялась, литература и история в углу кровати, вроде за диваном еще несколько книг, я так и не понял, хотя меня это и не заботило, я не хотел возвращаться в школу; притворился, что ищу повсюду, а сам тайком вытащил мобильник женщины, спрятался в спальне и набрал Цинтяо, сказал, что приду к ней завтра с утра, я не собирался испытывать благодарность к Старому черту. Она обрадовалась и предложила встретиться на старом месте. А еще я попросил не говорить Сыдину, она чмокнула меня в трубку, я был на седьмом небе.
Старый черт велел мне выйти, помог найти книги, заодно переворошил всю кучу, я жалел, что не сжег все еще вначале, напрягся и ждал тумаков, но отец не стал меня наказывать, сказал только, чтоб я умылся, вымыл ноги и шел спать. А еще он мне приготовил сумку, положил туда зубную щетку, пасту, полотенце, у меня кровь застыла в жилах: если я со всем этим барахлом пойду к Цинтяо, она меня засмеет!
Старый черт спросил, хочу ли я молока. Я ответил, что нам в школе дают. А сам знал, что, пока я не ходил, преподаватели могли этим молоком хоть умываться. Женщина тоже уже прополоскала рот и умылась и, шаркая тапочками, пошла в спальню; я-то думал, что Старый черт тут же ломанется за ней, а он специально копался в гостиной, я догадался, что он просто не хочет, чтобы я видел, так что быстро умылся и проскользнул к себе. Перед сном я услышал, как они начали ссориться. Женщина просила вернуться с ней, здесь нельзя жить, город маленький, возможностей для развития нет. Я хотел уже возликовать, но дальше она сказала очень неприятные для меня слова, мол, твой сын шпана, и это уже не поправить, я невольно стиснул зубы. Старый черт упрямился, твердил, что не поедет. Хлопнула дверь, а потом отец вошел ко мне, я притворился, что сплю, поскольку ужасно испугался, что он сейчас ляжет со мной, это меня свело бы с ума. Старый черт присел на краешек кровати, несколько раз позвал «малыш Додо» – это мое детское имя, он мне сам его дал, когда в детстве рассказывал сказки, в этот момент сердце мое наполнилось невыразимым чувством, но я по-прежнему игнорировал его. Старый черт вышел, когда он закрыл дверь, мне стало грустно, возможно, я ранил его в самое сердце, хотя если подумать, а есть ли у него сердце? Определенно сейчас он как ни в чем не бывало помирится с этой теткой, Старый черт ведь не промах.
На следующее утро я проснулся рано и хотел ускользнуть, пока они крепко спят, тихонько открыл дверь, прокрался в гостиную и невольно ахнул, поскольку Старый черт прямо в одежде лежал на диване, глядя в потолок, оказывается, вчера он лег в гостиной. Клянусь, в тот момент я действительно ему посочувствовал. Дверь в большую спальню была приоткрыта, женщина стояла спиной к двери, определенно не в духе. Атмосфера в гостиной накалилась, того и гляди драка начнется, Старый черт поднял было руку, но не успел, я с ним тут же простился, но он махнул рукой, встал и заявил, что отвезет меня в школу. Такого поворота я никак не ожидал, но, глядя на его понурое лицо, не осмелился возразить, хотя в душе страдал.
Всю дорогу я думал, как бы от него избавиться. Уже рассвело, но в переулке еще горели фонари. Старый черт помогал мне нести сумку, он завидовал, что я иду учиться, говорил, что в моем возрасте уже «работал на земле». Его рука лежала у меня на плече, я пару раз пытался тихонько отгородиться от него портфелем, но отец его отодвигал. Может, из-за перспективы скорого расставания отец стал болтливым, даже обстоятельства своего отъезда пять лет назад и то «вывалил». Мол, в тот день дом старого Лю ремонтировали, сам старик сидел у ворот и курил листовой табак, а куча ребятишек гоняла по переулку железный обруч. Я велел отцу идти вперед, сказал, что мне надо завязать шнурок, но он терпеливо ждал, так что пришлось идти с ним. Он спросил, я слышал или нет. Я раздраженно ответил, что речь шла о железном обруче. Отец обрадовался, сказал, что искал меня среди ребятишек. Я не стал говорить, что в тот день меня заперли дома, тогда еще был жив дед, он не разрешал мне видеться с отцом, дед и бабка ратовали за то, чтобы родители развелись, и, даже когда мать сбежала с любовником и погибла в аварии, во всем винили отца. Я знал, что основная причина их неприязни – его бедность. Старый черт сказал, что когда уезжал, то у него в мозгу крутилось только одно слово – «деньги». Я не стал говорить «ага, а сейчас ты вдруг понял, насколько важен я» и все такое, и вообще хотел улизнуть с восточной развилки, но отец не отставал, спрашивал, можно ли считать, что он потерпел поражение. Мне уже порядком надоело, я представлял, что Цинтяо там уже потеряла терпение. Я напряг извилины, а когда мы проходили мимо общественного туалета, то соврал, что мне надо по-маленькому, зашел внутрь и в два приема залез на стену; я вообще очень проворный, в классе по физкультуре у меня одни из самых лучших оценок. Со стены я спрыгнул в другой проулок, но только приземлился, как меня скрутил Старый черт, эй, говорит, забыл, что из туалета можно выйти и сюда тоже? Я торопливо ответил, что так ближе, а в душе удивился, что Старый черт сегодня в таком добром расположении духа. Мы дошли до выхода из переулка, где торговали всякой снедью: и палочками во фритюре, и пельменями, и острой лапшой с курицей. Я сказал, что проголодался, Старый черт молча взял табуретку, велел мне посидеть, а сам занял очередь. В этот момент я приметил, что в магазинчике рядом на прилавке стоит телефон, я тут же сбегал туда, рассказал Цинтяо о том, где я, велел не ждать, мне надо обратно в шкоду. Она рыдала в трубку, я не выдержал и захотел ее увидеть немедленно, Цинтяо велела мне как-нибудь провести Старого черта, она придумала, как уговорить его позволить нам общаться, и обещала не говорить Сыдину.
«Старое место» располагалось рядом с городским защитным рвом, изначально здесь был зал игровых автоматов, который оборудовал специально для нас родственник Сяо Мими.
Я сказал Старому черту, что можно там сесть на автобус до школы, уж не знаю, что там помутилось у Старого черта в голове, но он верил всему, что я говорил. Мы стояли около нашей пустой «игровой», внизу журчали сточные воды. Старый черт то ли с улыбкой, то ли без положил мне ладонь на голову и спросил: а как сюда автобус-то подъедет? Я не рискнул признаться и лишь с нетерпением ждал, когда же придет Цинтяо. Я услышал, как она зовет меня, мы дошли до галереи, и тут я увидел, что она во дворе, а с ней Сыдин и вся их компания, они велели мне спускаться и идти грабить лавку Чжа, а на Старого черта наплевать. Внезапно я их всех возненавидел, повернулся и потащил отца прочь, но тут под нами загудели перекрытия, и только тогда я понял, что их специально расшатали, хотел предупредить отца, но мы уже наступили на перекрытие, в самый критический момент Старый черт отпихнул меня, а сам провалился вниз, в защитный ров.
– Папа! – истошно завопил я, плюхнувшись ничком на перекрытие.
В итоге Сыдина и компанию арестовала подоспевшая полиция, это женщина «капнула».
Потом я наконец снова вернулся в школу и стал учиться, раз в неделю нас отпускали домой, я надеялся, что вернусь домой и увижу папу. С ним все обошлось, поскольку плавал он как рыба. Но когда я вернулся, отец уже уехал, тогда уже бабушку выписали, а они с ним никогда не ладили. На летних каникулах я позвонил папе. Он расстался с той женщиной, перебрался в другой город и устроился на работу, зарабатывает, живет, можно сказать, хорошо. Я слушал его голос, и на глаза наворачивались слезы.
Перевод Н.Н.Власовой
История одной шевелюры
Дай Бин
До средней шкоды у Ма Тяня было три прозвища: Блин, Свин и Молчун. Все три прозвища соотносились с его внешностью, фигурой и замкнутым характером. Многие соседи за его спиной горестно вздыхали, причитая: «Ну надо же, маленький Ма Тянь прямо как мусорный бачок: собрал в себе абсолютно все недостатки родителей». – «Зато у нашего сына волосы невероятной густоты», – успокаивали себя родители, и по мере взросления эта его особенность становилась все более заметной, поэтому к средним классам школы его прозвали Шевелюрой. Поначалу это прозвище воспринималось с удивлением, но, тщательно поразмыслив, люди приходили к выводу, что ни одно другое не было бы более уместным. Ма Тяню тоже нравилось, когда его так называли, и в душе он был очень благодарен однокласснику, придумавшему это имя. Ма Тянь даже подарил ему свою любимую плетеную корзинку. В этой корзинке кроме нескольких листотелов[44], также находились два сверчка, ящерица и кусок змеиной кожи длиной в три чи[45].
Прозвище прикрепилось к Ма Тяню вплоть до выпускного класса. Провалив экзамены в университет, Ма Тянь не отважился готовиться к поступлению на будущий год, как другие одноклассники, а сразу пошел в ученики в гончарную мастерскую, где работал отец. Его задачей было покрывать эмалью керамические изделия. Ма Тянь был нетерпелив, а для успешного выполнения этой работы как раз и требовалась выдержка. Он расстраивался, что родители смогли найти ему только такое занятие, поэтому часто прогуливал работу и оставался дома. Повадки сына поначалу тревожили родителей, а потом и вовсе расстроили. Мать сетовала: «Целый день только и знает, что дрыхнет, как бы не превратился в жирную тетку». Отец тоже ругался: «Посмотри на себя, у тебя что зад, что лицо – на улицу не выходишь – не то, что другие». Но слова эти не задевали Ма Тяня, он по-прежнему находился в глубокой апатии, и его доводы раздражали людей: «Скучно, – говорил он, – ничего интересного».
На самом деле не все казалось ему скучным. Лет с восемнадцати одно занятие все же стало доставлять ему удовольствие – а именно посещение парикмахерской, каждый раз новой, раз в две недели.
Частое посещение парикмахерской объяснялось вовсе не тем, что волосы Ма Тяня росли быстрее, чем у других людей, а тем, что только в парикмахерской его волосы холили и лелеяли – так же, как мертвеца в крематории.
Каждый раз, как только Ма Тянь заходил в парикмахерский салон, какой-нибудь наблюдательный человек обращал внимание на его волосы. Реакция женщин среднего возраста зачастую была довольно бурной. «Вот это парень, – шлепнув себя по бедру, восклицали они, – породистый, вы только посмотрите на его шевелюру!» Но если в парикмахерской вдруг оказывались только взрослые мужчины, то положение становилось неловким. Мужчины, на голове которых были реденькие пряди или жалкие патлы, сразу же невозмутимо отводили взгляд или запрокидывали голову и закрывали глаза, будто бы они только что так много болтали, что внезапно утомились.
Если парикмахер оказывался мужчиной средних лет, но при этом подходил к делу профессионально, то от него можно было ожидать более объективной оценки. Зачарованно тормоша гриву клиента, он произносил: «Какие же это волосы? Это прямо-таки…» Потом он недоверчиво спрашивал парня: «Волосы совсем не длинные, зачем их стричь-то?»
В этот момент Ма Тянь выглядел робким и отстраненным. В полном молчании, закрыв глаза, он сидел на шершавом деревянном стуле, пока парикмахер теребил его волосы. Услышав вопрос, он открывал глаза и, глядя в зеркало как будто бы удивленно, бормотал: «Ну, тогда намочите и аккуратно расчешите…»
Однако городок действительно был совсем маленький: на всех жителей всего 17–18 парикмахерских. Ма Тянь бывал в них часто, поэтому люди все меньше удивлялись его шевелюре и переставали обращать на него внимание. Некоторые парикмахеры наспех проводили по волосам и нетерпеливо говорили: «Волосы хорошие, длина в самый раз, нечего стричь, неужто хочешь проверить мое мастерство?»
Ма Тянь открывал глаза и смотрелся в зеркало. «Ну, тогда сбрызните водой и причешите гладко», – мямлил он. «Это будет стоить пять мао, – говорил парикмахер. – А голова у тебя будто б из рогатки обстрелянная».
После нескольких таких случаев парень начал ощущать неясную тревогу. Эта тревога походила на глиняный кувшин на огне: сначала появляются пузырьки на поверхности, потом они превращаются в пену, затем в бурлящий водоворот. Все это время взволнованный Ма Тянь ходил по улицам, прячась под карнизами домов и опустив голову, лишь бы никто из прохожих не узнал его. Только дойдя до какого-нибудь переулка на перекрестке двух дорог, он резко останавливался, поднимал голову и нерешительно оглядывался по сторонам. Он раздувал ноздри и, как собака, учащенно дышал, пытаясь учуять запах парикмахерской, в которой еще не бывал. Только в этот момент те, кто хорошо знали Ма Тяня, могли обнаружить изменения в его внешности: на лице выскочило множество блестящих, разноцветных прыщей и оно приобрело мрачное выражение. Набухшие прыщи и угрюмое выражение плоского лица с первого взгляда пугали молодых девушек, и они невольно обходили его стороной.
В это время в городок одна за другой стали возвращаться кое-кто из той группы девушек, что впервые уехали в другие места на заработки. Их красивая одежда шокировала людей. Голоса у девушек стали хриплыми. Некоторые жители даже видели, как те передают друг другу сигарету с голубым фильтром. Большинство этих девушек на деньги, вырученные за работу, открыли много оригинальных магазинчиков, и в том числе три парикмахерских салона. Их лавки разместились почти на каждом углу городка, украсили его улицы и привлекли внимание многих местных молодых людей. Среди этих парней было достаточно шалопаев. Судя по походке девушек, их развязному смеху и слегка покрасневшим глазам, парни заключили, что, несмотря на юный возраст, на самом деле они уже женщины с большим опытом. Это предположение не то намеренно, не то случайно распространилось по городку и привело к тому, что жители возмутились скандальными слухами. Вслед за этим происшествие с резиновой куклой, изъятой уездным отделом полиции, всколыхнуло новую волну скандала: одна девушка по фамилии У, напившись, пригласила домой приставших к ней трех парней и показала им надувную фигуру женщины, которую привезла издалека. Резиновая женщина по размеру была похожа на настоящую, с прекрасной внешностью, изготовленная с полной достоверностью, трогаешь – все равно что человек. Потребовав с них по пять юаней, девушка по фамилии У даже позволила каждому уединиться с куклой на час в задней комнате правого флигеля дома, где она жила.
В это дело было замешано больше двадцати человек, оно вызвало скандал на весь город и округу и в конце концов подмочило репутацию этим девушкам. Их называли бесстыдными обольстительницами, а их магазинчики – злачными заведениями, опасными для молодежи. Многие молодые люди и девушки под давлением общественного мнения или следуя родительскому приказу, больше не решались переступить порог этих лавочек, и в них стало тихо и безлюдно.
Однако среди этой молодежи Ма Тянь был исключением. Он по-прежнему любил ходить в те несколько парикмахерских салонов. По его мнению, ничто не приносило такого удовлетворения, как посещение этих трех парикмахерских, одновременно открывшихся в городе.
Две из них находились на перекрестках в центре города, а одна – довольно далеко на юге. Ма Тянь больше всего любил наведываться в самую отдаленную по причине того, что ее хозяйка – девушка по имени Ван Цин – казалась ему не такой, как все. Отличие состояло в том, что она никогда не восхищалась его волосами, а, наоборот, часто возмущалась. «Ох, – вздыхала она, всем телом изображая страдание, – твои волосы слишком трудно стричь, такие толстые и жесткие, только срежешь один слой – а за ним еще один». Кроме того, взгляд Ван Цин был не такой, как у других девушек: было в нем что-то неуловимое, отчего ее слова звучали то искренне, то лицемерно. Ма Тяню нравилось слушать Ван Цин и следить за выражением ее глаз.
Однажды в полдень, когда Ван Цин брызгала водой на волосы Ма Тяня, она вдруг занервничала, швырнула пластмассовый пульверизатор за перегородку, задев и уронив маленький фен. «Надоело, – сказала она, – стрижешь-стрижешь, а все равно копна, как у чабана шапка, самому-то не надоело?»
Ма Тянь посмотрел на Ван Цин, отражавшуюся в зеркале. Та разозлилась: «Чего на меня глазеешь, деревенщина!» И вдруг ее осенило. Показав на настенный плакат с модельной прической, она сказала Ма Тяню: «Сделаю тебе такую прическу». На картинке был запечатлен красивый мужчина с бритыми висками, волосы на макушке торчали вверх как петушиный гребень. «Наши городские – люди устаревших взглядов, – презрительно скривилась Ван Цин, – ничего не соображают и понятия не имеют, что это самая модная прическа в мире». Она хлопнула Ма Тяня по плечу: «Ну что? Решишься на такую?» Вытянув шею, Ма Тянь покосился на плакат, и сердце его учащенно забилось. «Далеко не каждый может носить такую прическу, – сказала Ван Цин, – а только тот, у кого на редкость хорошие волосы, как у тебя. Кроме того, у тебя круглое лицо. С такой прической очертания щек сразу выделяются».
Ма Тянь изо всех сил вглядывался в зеркальное отражение своего лица, претерпевшего метаморфозы из-за выскочивших на нем прыщей. Вдруг в глубине души он почувствовал назревающий гнев и выдохнул: «Ладно, давай эту прическу…»
Когда прическа наконец была готова, было два часа пополудни. Выйдя из парикмахерской, Ма Тянь с опущенной головой мелкими перебежками от одного козырька к другому двинулся к дому.
На самом деле, когда сооружение прически было в самом разгаре, Ма Тянь пожалел о своем решении. Он не знал, как будет выглядеть его новая стрижка со стороны – может быть, еще более странно, чем у какого-нибудь сумасшедшего. Однако дружелюбный взгляд Ван Цин подбадривал его, и он был не в силах спасовать на полпути.
До дома оставалось менее двух ли[46], однако еще предстояло миновать несколько оживленных улиц. Ма Тянь с трудом себе представлял, как он средь бела дня преодолеет оставшийся путь.
Перед поворотом с Восточной улицы в Каштановый переулок от смелости Ма Тяня не осталось и следа. Он сделал несколько торопливых шагов и резко свернул, помня, что у входа в старую католическую церковь в середине переулка был кран с грязной водой. Если повезет и удастся открутить кран, то он сможет соскрести гель для волос, затвердевший, словно скорлупа. Волосы тогда будут смотреться натуральнее. Кран он нашел, но совсем заржавевший. Ма Тянь и так и эдак вертел его изо всех сил, и неожиданно кран все-таки расшатался и нехотя выдал пару черно-бурых капель. Ма Тяня охватило чувство несказанной радости, и как раз в тот момент, когда он собирался еще немного подкрутить кран, из переулка рядом с церковью вдруг вынырнул тощий молодой человек.
Это был старший брат одного из одноклассников Ма Тяня, по кличке Птичий король. Дома у него было более десяти клеток с дроздами, белоглазками, воробьями и бурыми суторами[47]. Увлечение птицами отразилось на характере его отношений с людьми: он любил трещать без умолку и болтать всякий вздор. Еще издалека увидев Ма Тяня, он тут же завопил, будто на мину наступил: «Эй, Шевелюра, ты прическу сменил что ли?»
Ма Тянь не знал, куда и деваться от стыда. Он резко опустил голову и вытянул руку, чтобы прикрыть лицо, но, очевидно, уже было поздно. Птичий король обошел Ма Тянь вокруг и остановился напротив, часто моргая. «Крутая у тебя прическа, черт побери, – искренне восхитился он, – прямо как член эрегированный!»
Ма Тянь шагнул вперед, уставился на Птичьего короля и в душе почувствовал, что наверняка без драки не обойдется. Но взгляд парня излучал не свойственное ему искреннее чувство, что привело Ма Тяня в замешательство. Он пригляделся к нему и наконец отступил на шаг назад, отряхнул ржавчину с рук и как ни в чем не бывало сказал: «Давно надо было сменить, все время один и тот же стиль – это скучно». С этими словами, не дожидаясь ответной реакции Птичьего короля, Ма Тянь неторопливо миновал переулок и зашагал по улице.
Необычная прическа Ма Тяня тем летом привлекла внимание почти всей молодежи маленького городка. Увидев его, они откровенно демонстрировали презрение и зависть, даже ощущали какую-то скрытую неприязнь. А Ма Тяню эти многозначительные взгляды доставляли почти физическое удовольтвие. Почти все лето, несмотря на палящее солнце, без устали бродил он туда-сюда по улицам маленького городка в состоянии крайнего возбуждения и сосредоточенности, будто бы хранил в душе какую-то тайну. Его коренастое тело все покрывалось потом, рубашка на груди и на спине становилась влажной, и на ней выступал беспорядочный узор, зато мрачное выражение лица и прыщи, похожие на подгнившую хурму, за одну ночь бесследно исчезли, будто бы никогда и не было. К середине августа Ма Тянь превратился в совершенно другого человека. Он даже осмелился заигрывать с Ван Цин, пробормотав что-то вроде комплимента ее пышной груди, которая смогла бы вскормить целую ватагу детишек с густыми волосами, как у него.
Сияющий облик Ма Тяня очень порадовал его родителей. «Не было бы счастья, да несчастье помогло, – размышляли они, – пусть он делает что хочет. Всего-то прическу поменял».
Однако к осени возле уездного универмага и кинотеатра стали появляться молодые люди с точно такой же прической. Они казались выше и худее своих сверстников – как журавли среди кур. Когда Ма Тянь проходил мимо, они и в ус не дули, даже глаз не поднимали. Однажды после обеда в воротах восточной городской стены Ма Тянь столкнулся с парнями среднего роста с такой же прической, как у него, за исключением того, что волосы на затылке были длинные и падали на плечи, словно плюмаж на шлеме древних воинов.
Трое парней, даже не покосившись в его сторону, шли в ряд плечом к плечу. Из темных ворот вдруг выглянуло солнце, уже начавшее по-осеннему бледнеть, и застигло врасплох Ма Таня, собиравшегося проскользнуть в ворота. Он испуганно отскочил в сторону, позволив трем парням преспокойно пройти мимо. Возможно, из-за того, что в воротах стояла вода, Ма Тянь обнаружил, что они оставили позади себя на гранитном покрытии три ряда четких следов. Причем тот парень, который был в центре, шагал прямо посередине улицы. Чтобы проверить свою догадку, Ма Тянь, взяв следы этого парня за среднюю линию, подсчитал и обнаружил, что количество плит по обе стороны от нее равняется двенадцати.
В тот день, вернувшись домой, Ма Тянь сразу же принялся отмывать гель в тазике с теплой водой, в результате чего волосы повисли надо лбом, как ворох сырой рисовой соломы. При виде своей шевелюры ему захотелось плюнуть. В конце концов он достал маленькое круглое зеркало с ручкой и заплевал все отражавшееся в нем лицо.
В течение двух следующих дней Ма Тянь никуда не вылезал. Только на третий день он отправился в парикмахерскую с вопросом к Ван Цин: «Разве ты не ругала всех в городе за то, что они старомодные, почему же они соорудили себе ирокезы?» Поначалу Ван Цин не поняла, о чем это он, а догадавшись, разразилась смехом: «Ты правда тупой, как свинья! Модных причесок навалом. Вот здесь все, выбери, какая тебе нравится. Боюсь, что в глазах у тебя рябить будет от разнообразия». С этими словами Ван Цин кинула ему стопку мятых цветных журналов.
Но Ма Тянь даже не взглянул. «Не буду смотреть, – сказал он, – ты мне все прически оттуда сделай по очереди». – «Ты с ума сошел? – Ван Цин взвизгнула. – Там их несколько сотен, и многие я еще не пробовала». «Самое большее – неделя на одну прическу, – сказал Ма Тянь равнодушно. – Ты сама выбери. Сначала сделай те, которые умеешь. Те, которые не умеешь, – мы вместе подумаем как. Самое главное – не повторяться! Повторяться я не разрешаю».
При этих словах в глазах Ма Тяня промелькнул злобный огонек – такой, что Ван Цин похолодела от ужаса. Это было одиннадцатого сентября 1984 года – для многих людей, возможно, ничем не примечательный день, но на самом деле для истории городка он имел огромное значение. Этот факт случайно обнаружился только через 20 лет: однажды вечером в конце 2004 года редактора, входившего в группу по составлению сводного описания уездов, в процессе работы над историей очередного уезда осенило, что процесс модернизации маленького городка фактически начался осенью 1984 года. Причина в том, что история с резиновой женщиной оказала дурное влияние на людей и вынудила их шарахаться от всего и вся до такой степени, что в течение длительного времени жители упорно открещивались от новшеств. В результате этого, как говорится, мух и комаров отпугнули, но при этом перекрыли доступ солнечному свету и свежему воздуху. Однако к осени 1984 года внезапно проснувшийся соревновательный азарт молодежи в копировании модных причесок невероятным образом прорвал все препоны. Городок именно в процессе преодоления этой разноголосицы незаметно обрел новый облик.
Однажды на совещании редакционной группы редактор вспоминал обстоятельства того времени: «Улицы были заполнены жизнерадостными молодыми людьми. В то время меня только что распределили из университета в управление государственного архива. Я обратил внимание на странную оригинальность их причесок, прямо глаза разбегались. А вслед за прическами менялась и одежда, речь, даже походка… Это было совершенно новое поколение. Они напоминали некие высокоактивные химические вещества, словно за одну ночь разрушившие прежнее равновесие и в результате ускорившие перерождение маленького города». Согласно составленной редактором статистике, всего лишь за один 1985 год количество парикмахерских в уезде увеличилось до тридцати. Количество частных магазинов одежды, обуви, косметики и ювелирных изделий вслед за этим ежеквартально возрастало на 5–8 заведений. Кроме того, для привлечения молодых потребителей брюки клеш, очки «стрекоза» и мужские туфли на высоком каблуке впервые в истории появились на полках уездных универмагов. Механизм активной конкуренции быстро внедрился на территории всего уезда. Следуя принципу домино, обыкновенные украшения уже не могли превзойти серебряных изделий «Ювелирного магазина Вана Второго» на Западной улице. Эта семья из поколения в поколение производила шестьдесят видов моделей украшений на протяжении вот уже 120 лет, однако, идя навстречу современным веяниям, ювелирный магазин за один только 1986 год выпустил двадцать пять новых моделей.
«Сильный ветер начинается с верхушек колышущейся травы, – заключил редактор. – Кто бы мог поверить, что прически нескольких молодых людей смогут изменить историю целого города?»
Однако редактор не знал, что «верхушки колышущейся травы» были не чем иным, как кончиками волос Ма Тяня. С осени 1984 года по начало лета 1987 года именно Ма Тянь стал зачинателем новых парикмахерских тенденций. Он, словно иллюзионист, неустанно обновлял свою прическу. Можно со всей ответственностью заявить, что Ма Тянь был первым мужчиной в городе и даже, возможно, во всей провинции, кто сделал себе химическую завивку. Не то чтобы никто раньше не пробовал этого, на самом деле среди молодежи многие пытались, но в конце концов все потерпели фиаско и оставили свои безумные фантазии. Причина была в том, что ничьи волосы не могли вынести стольких издевательств, кроме густой шевелюры Ма Тяня. Обыкновенные волосы под напором фена и средств для завивки быстро увядали и жухли, как осенние листья. Поэтому, если Ма Тянь перепробовал уже множество вариантов, остальным приходилось остановить свой выбор на одной прическе.
Ван Цин быстро и проницательно оценила уникальные природные дарования Ма Тяня. Она сразу же отменила для своего постоянного клиента плату за парикмахерские услуги, к тому же сама выразила желание сотрудничать с ним – вместе создавать новые, невиданные прежде модели причесок с условием, что парень оставит работу в гончарной мастерской, зарплату будет получать от нее, станет ходячей рекламой ее салона и все время будет находиться рядом с ней.
В течение двух лет тесного сотрудничества с Ма Тянем парикмахерская Ван Цин была местом паломничества молодежи маленького городка. Это время для Ма Тяня стало самым счастливым в его жизни. Некоторые молодые люди, сгоравшие от зависти к его успеху, не раз строили ему козни и даже однажды вечером, когда на улице было так темно, что глаз выколи, срезали ему волосы бритвой. Однако, как только волосы отросли, Ма Тянь снова стал самым модным и счастливым жителем города. Никто не мог помешать ему отращивать волосы и был не в силах лишить его счастья.
В канун нового, 1986 года Ван Цин, подсчитав доход за год, выпила вина с Ма Тянем и, захмелев, соорудила на его голове прическу ее самого любимого мужчины-модели. Очевидно, прическа получилась чрезвычайно удачной, поскольку в тот вечер в темной и неубранной спальне за салоном Ван Цин с трудом отличала своего клиента от того красивого мужчины. Когда они занимались любовью, девушка невольно называла Ма Тяня другим именем. Но для парня это был первый любовный опыт, радость и смятение опустошили его мозг, еще и кот с кошкой резвились на крыше в это же время, поэтому он так и не осознал, что Ван Цин на самом деле взывает к другому мужчине. Счастье Ма Тяня достигло в ту ночь своего пика. После этого случая он почти две недели ходил с одной и той же прической, что было совершенно неслыханно, ведь по правилам надо было бы давно ее сменить. Это повергло жителей города в недоумение. Однако я не собираюсь здесь описывать историю любви Ма Тяня, а буду излагать историю его шевелюры.
В 1987 году весна – любимое время года Ма Тяня – пришла в назначенное время. Он любил весну именно потому, что в этот влажный сезон его волосы, подобно большинству растений, расцветали пышным цветом. Однако спустя некоторое время после весеннего цветения он заметил, что волосы начали вылезать.
Дело было так: утром 18 марта Ма Тянь, проснувшись, по обыкновению стал убирать постель (эту привычку он выработал с той счастливой ночи). Складывая наволочку, он заметил на ней волосы – несколько десятков волосинок.
Однако два дня назад Ма Тянь как раз стригся и если на подушке оставались волоски, которые не выпали во время мытья волос, то это было совершенно нормальным делом. Парень заметил, что белоснежная подушка, усыпанная волосами, вдруг оказалась черно-белой, но не придал этому большого значения.
В полдень армейская похоронная процессия строем прошла мимо парикмахерской, черно-белые траурные полотна и траурные повязки снова напомнили Ма Тяню об утренней истории с подушкой и волосами. Он смутно припоминал, что среди выпавших волосков были и длинные, но не мог оценить их количественное соотношение.
В тот день после обеда Ван Цин стояла перед стеклянной ширмой и коричневым карандашом для бровей набрасывала на ней контуры самой креативной на тот момент прически – это был начальный замысел впоследствии быстро вошедшей в моду прически под названием «павлин распускает крылья». Девушка поправила пару штрихов, потом приказала одной из учениц приготовить горячую воду, чтобы помыть Ма Тяню голову. Когда парень наклонился над раковиной, ее белоснежное дно снова всколыхнуло в памяти утреннее происшествие. На душе у него стало неспокойно, и он, подумав, попросил ученицу принести светлый пластмассовый тазик.
Помыв голову и просушив волосы полотенцем, Ма Тянь убрал пену с поверхности воды и пальцем поводил в тазике против часовой стрелки. Как и следовало ожидать, он обнаружил, что большая неприятная тень сгустилась на дне сиреневого пластмассового таза.
В тот день все оставшееся время Ма Тянь думал, как бы ему ухитриться еще раз помыть голову, но в парикмахерской все время торчал народ, и он в конце концов ни на что не решился. Задавшись целью еще раз проверить свои наблюдения, в которые трудно было поверить, парень всю ночь боролся со сном и каждые два часа укладывался на новую белую наволочку, а потом обеими руками с силой выдергивал волосы. К семи утра вся подушка была усыпана волосами. Они лежали в полном беспорядке, отчего свежая наволочка будто бы покрылась мелкими трещинами. Выпавшие волосы в основном были пожелтевшими и сухими, но некоторые короткие волоски были тонкими и почти прозрачными. Это означало, что много волос выпало, не успев как следует вырасти.
Эти эксперименты продолжались несколько дней кряду, и результаты в общем и целом совпадали. На душе у Ма Тяня становилось все тяжелее. Он тщательно собирал выпавшие волосы вместе – каждые три дня в отдельную стопочку – и складывал их в белые конверты, указывая дату, чтобы было удобно сравнивать изменение количества и качества выпавших волос. Проводя детальный сравнительный анализ при свете настольной лампы, каждый раз во рту он ощущал вкус ржавчины, будто только что проглотил что-то едкое и несъедобное. Ма Тянь старательно обдумывал причины потери волос. Начав лысеть, он смутно почувствовал, что дело, возможно, в том, что на протяжении нескольких лет он безжалостно терзал свои волосы. Но даже если и так, то Ма Тянь не мог прекратить эти терзания, поскольку давно не без горести обнаружил, что только свежая прическа теперь выглядела такой же пышной и густой, как его шевелюра раньше.
Тогда Ма Тянь и словом не обмолвился о том, что происходило, и как ни в чем не бывало сидел в парикмахерской, воплощая в жизнь неистощимые идеи и фантазии Ван Цин, или по ее требованию отправлялся в людные места демонстрировать плоды их совместного творчества. Возможно, из-за его действительно густой копны и только начавшегося выпадения волос в течение довольно долгого времени никто, даже Ван Цин, не обнаружили его проблему. Но сам Ма Тянь осознавал, что, судя по исследованию содержимого тех конвертов, дело медленно двигается к невообразимым результатам. Нежелание или боязнь раскрывать эту тайну другим людям вызывало множество необъяснимых и сумрачных ночных кошмаров.
Чтобы затормозить процесс, Ма Тянь тайком предпринимал ряд действий, которые были ему по силам, например стоял вверх ногами, опираясь на стену, полагая, что так можно обеспечить волосам хорошее питание. Также он усиленно использовал народные рецепты против выпадения волос: колдуя на кухне, он уверял родителей, что варит лекарство от прыщей (можно себе представить, что в тот момент прыщи снова остервенело разукрасили его лицо). Кроме того, перед сном Ма Тянь девять раз декламировал вслух чудодейственное имя бодхи-сатвы Кшитигарбхи.
Его бабушка была глубоко верующей буддисткой, поэтому мальчик с детства запомнил имена множества бодхисатв и явленные ими чудеса. Он выбрал именно Кшитигарбху, потому что считалось, что он обитает в аду, – Ма Тянь инстинктивно ему больше доверял. А цифра девять была самой большой цифрой и воплощала в себе высшую божественность.
Неизвестно почему, но из всех предпринятых им мер Ма Тянь больше всего верил именно в молитву на сон грядущий, поэтому вскоре читать всего девять раз показалось ему недостаточным. В эти моменты Ма Тянь напоминал больного, находящегося в тяжелом психическом расстройстве: неважно, сколько раз читать молитву, все равно будет казаться недостаточно. Поэтому с приближением лета число ежевечерних молитв возросло до 99. Число это во мраке человеческого одиночества выглядело чуть ли не бесконечно большой величиной, а грусть, усталость, необоснованная надежда на авось вновь вернулись и изводили Ма Тяня, поэтому часто он, подолгу молясь, впадал в состояние прострации, кратковременного сна, через несколько минут просыпался, только теперь понимая, что давно заблудился в замкнутом круге этих чисел. В итоге снова, загибая пальцы, начинал все сначала.
Однако это ничего не меняло.
Двадцатого августа в десять вечера, когда парикмахерская уже закрывалась, Ма Тянь и Ван Цин согласно плану готовились осуществить новый замысел, начатый днем ранее. Ученица к этому времени уже ушла, и Ван Цин пришлось собственноручно мыть клиенту голову. Вымыв наполовину, девушка вдруг вскрикнула: «Ой мамочки!»
Ма Тяню, конечно, ничего не было видно, но, услышав этот внезапный крик, он сразу догадался, что дело в его волосах. Открыв глаза, он увидел, что Ван Цин держит пучок волос, весь в мыльной пене. Оказывается, его шевелюра лишилась целой пряди…
Дальше держаться и сохранять спокойствие стало невозможным. Ма Тянь глядел на Ван Цин, и на глаза медленно наворачивались слезы. «Как же так? – спросил он девушку. – Как так получилось?» – «Откуда я знаю, что это такое? – Казалось, Ван Цин на мгновение охватила паника. – Может, скоро осень, а осенью разве не все животные линяют?» – «Я уже давно начал лысеть, – ответил Ма Тянь, – тогда еще была не осень». – «Ну, тогда я не знаю, – сказала Ван Цин. – Ты же человек, разве можешь линять, как животное?»
Противоречивый ответ смутил Ма Тяня, он настороженно уставился на нее, сердце вдруг заколотилось, внезапно он как будто все понял. «На самом деле ты давно знала, что я лысею, ведь так? – спросил он. – Не может быть, чтобы ты не знала, но тебе бы только денег заработать, поэтому ты скрывала от меня, ах ты злодейка…» – «Иди ты к черту! – Девушка вдруг выпрямилась и встала напротив Ма Тяня. – Кто в самом начале бегал сюда и умолял сделать ему прическу, это я, что ли, заставляла? Еще раз так скажешь, больше общаться не будем…»
Некоторое время Ма Тянь молчал, уставившись на Ван Цин. К горлу подступил комок, стало трудно дышать. Правая рука поднялась, чтобы дать Ван Цин хорошенькую затрещину, но вместо этого он сильно толкнул девушку…
Впоследствии Ма Тянь с грустью размышлял, что, если бы в тот день за спиной Ван Цин не было стула на колесиках, как было бы здорово, беды бы не случилось. Однако той ночью, которую и вспомнить-то страшно, Ван Цин по воле судьбы налетела на вертящийся стул, ось которого как раз недавно смазали маслом, поэтому, когда падающая девушка толкнула его, стул проворно и резко откатился, и она ударилась затылком об угол стеклянной ширмы.
Звон разбитого стекла разлетелся по всей комнате. Ма Тянь, смотревший на лежащую Ван Цин, на кровь, стекавшую по стеклу, на пол, усыпанный осколками, почувствовал странное ощущение нереальности. Ему показалось, что эта сцена поразительно напоминает его ночные кошмары.
Ван Цин застонала и медленно открыла глаза. «Убил», – произнесла она спокойно.
Утром уже никто во всем городе не сомневался, что Ма Тянь и есть убийца, потому что доказательств было вроде бы предостаточно: парочка была неразлучна на протяжении нескольких лет; ученица подтвердила, что перед ее уходом в салоне, кроме Ван Цин, был только Ма Тянь; к тому же тем самым вечером заначка в пятьсот юаней, которую мать Ма Тяня хранила в обувной коробке, бесследно исчезла вместе с ее сыном.
Однако полиция не торопилась подтверждать обвинение. Они считали, что все это лишь нити, ведущие к разгадке, но еще не сами доказательства, поэтому согласно протоколу отправили на автобусную станцию, в гостиницу и общественную баню уведомления для помощи расследованию, но вовсе не приказ об аресте, на который надеялись родители Ван Цин.
В свободное от негодования и разочарования время родители Ван Цин воспользовались советом учителя языка и литературы средней школы и написали от своего имени объявление о розыске Ма Тяня, в котором пообещали хорошо вознаградить человека, который предоставит точные сведения о преступнике.
Объявление было размером приблизительно в одну восьмую книжного формата и кроме описания горя родителей от потери любимой дочери содержало еще и то, что было пропущено или небрежно указано в уведомлениях, а именно приметы убийцы: густая шевелюра и болезненное помешательство на модных прическах. Вспомнив о волосах Ма Тяня, отец Ван Цин преисполнился отвращения и многократно повторял такой явно унизительный эпитет, как «свиная щетина».
Напечатав объявления большим тиражом, родители девушки немедленно распространили их повсюду. Ма Тянь увидел одно из них на телеграфном столбе всего в пятидесяти ли от городка.
До этого он скрывался в заброшенной печи для обжига кирпича недалеко от телеграфного столба. Он бредил, словно лихорадочный больной: то ему мерещилось, что Ван Цин на самом деле скончалась, то чудилось, что Ван Цин не умерла, а получила тяжелую травму. В печке при свете дня стояла кромешная тьма, и от этого все вокруг казалось призрачным и абсурдным.
Однако объявление вывело Ма Тяня из состояния растерянности. Оно не только убедило его в смерти Ван Цин, но и подарило ему огромную надежду. Парень рассуждал так: те, кто увидит объявления и кинется искать его, возможно, не осознают, что человек по прозвищу Шевелюра, помешанный на волосах, словно одержимый манией величия, на самом деле и волос-то не имеет. Поэтому, перед тем как навсегда стереть из памяти тот кошмарный вечер, Ма Тянь взял в руки бритву, которую носил с собой, и без тени сомнения сбрил свои черные волосы. Впоследствии, в течение всего долгого времени, что он находился в бегах, Ма Тянь постепенно при помощи горячей смолы, извести и соли сделал так, что кожа на голове понемногу высохла и сморщилась и в конце концов превратилась в выделанную дубленую кожу, и ни один волосок больше не вылез на ее поверхности.
В дальнейшем Ма Тянь, воспользовавшись этим умением, получил место в цехе по выделке шкур на скотобойном заводе где-то на юге страны.
Перевод А. А. Никитиной
Жестяная крыша
Ян Дате
Обнаружение
Мы проскользнули во дворик дома бывшего директора и, прильнув к оконному стеклу, заглянули внутрь комнаты. – Кроликов на кане не было! Ань У рассердился:
– Всякий раз, когда верю тебе, неизменно в дураках остаюсь!
Я только что относила сюда письмо и тогда действительно видела, как на кане сидели четыре сереньких крольчонка и торопливо грызли большой кочан пекинской капусты… Ну, ладно, пусть не кочан капусты, а капустную кочерыжку, но это ведь за вранье не считается!
Бывший директор школы уже давно умер, а его вдова превратилась в седовласую, словно лунь, старушку. Уездную среднюю школу № 1 любили очень многие – на территории этой старой школы возвышалось давнишнее здание с зеленой крышей и серыми стенами, а еще там рос один очень древний вяз, вызывавший у всех крайнее умиление и жалость, – и вовсе даже не потому, что был обнесен прочной железной решеткой… Наша семья жила прямо на территории Первой шкоды, в длинном – протянувшемся почти на всю улочку – одноэтажном строении, где под одной общей крышей, вплотную примыкая друг к другу, соседствовали около десятка отдельных жилищ – каждое со своим входом и крошечным двориком впереди. Вдова бывшего директора жила в том же бесконечно длинном строении, что и мы, но только между нашими домами было еще пять-шесть других смежных дворов. Стоило выйти за ворота нашего дома и пройти через два ряда больших ивовых деревьев, как ты через пару шагов сразу же оказывался прямо на школьной спортивной площадке.
У покойного директора был необщительный сын-молчун, который спал целые дни напролет, просыпаясь только ради того, чтобы что-нибудь перекусить. Раньше он работал учителем в Первой школе, а когда началась Культурная революция, его погнали для трудового перевоспитания на жестяную крышу четырехэтажного здания. Оттуда он свалился и с тех пор превратился в безучастного ко всему сонливца. Тогда мой папа тоже был на крыше – с них обоих только недавно сняли позорные бумажные колпаки с надписью «правый уклонист». У каждого из них было по малярной кисти и одно на двоих маленькое ведерко с темно-зеленой краской, они начали красить от края ската крыши и постепенно продвигались кверху. Если смотреть с земли, то два этих человечка в синей одежде, будто бы уменьшились во много-много раз, и почти невозможно было различить, где был папа, а где – директорский сын. Они выкрасили кусок крыши и затем, присев на корточки, стали отступать по направлению к коньку… После того, как с сыном покойного директора произошел этот несчастный случай, к нам домой приходили с дознанием и спрашивали, по своей ли воле он с крыши прыгнул или же соскользнул вниз по неосторожности. Папа отвечал, что этого он не разглядел и что сам несколько раз чуть не свалился с высоты. С тех пор сын директора только и знал себе, что спать без просыпу, а зарплату ему начисляли, как и прежде. Папа же каждый день брал для него молоко, а иногда еще покупал уголь или колол дрова для него и для его матери.
У вдовы бывшего директора волосы были гладко-гладко зачесаны назад и на затылке связаны в маленький хилый пучок. Я говорю брату:
– Ей наверняка уже лет сто десять. Глаза круглые такие, блестящие, а лицо-то белое какое! Глянь-ка на ее рот, когда ест, то плотно сжимает губы, а пухлые щеки так и ходят, так и ходят… Ну, скажи, похожа ведь на кролика?
Но Ань У – на то он и есть Ань У – недовольно пробубнил:
– Кто еще на кролика похож? Опять ты начала чепуху молоть.
Старушка доела печенье и, протерев ладони, откинула край одеяла, которым был укутан ее сын, оттуда стремительно повыскакивали четыре крошечных серых крольчонка и – шлеп, шлеп, шлеп, шлеп – спрыгнули с кана на глинобитный пол.
В этот момент Ань У прямо остолбенел. И я тоже, я даже представить себе не могла, что крольчата окажутся спрятанными под ватным одеялом.
– Не двигаться! – крикнул кто-то у нас за спиной.
– Ты кто такой? – от неожиданности я потеряла равновесие и, падая, поцарапала немного коленку.
– Кто я такой? Я, может быть, Мышь Летучая, – ответил мне рослый паренек, на его бледном, едва тронутом загаром лице играла веселая улыбка, он стоял и, словно от дуновения ветерка, несколько раскачивался из стороны в сторону. Паренек, похоже, вовсе и не хотел вырастать таким высоким, однако ничего поделать с этим он не мог.
– Мы хотим у Лэй Фэна[48] учиться – будем добрые дела делать. Да вот только люди тут нам дверь не отпирают, – Ань У действительно был специалистом по развешиванию лапши на уши.
– А я вас знаю, тебя зовут Ань У, а ее – Ань Вэнь, вы близнецы учителя Аня. Точно, я как раз вспомнил, это как говорится – «редупликация сил, как у тигра, которому добавили еще и крылья»! Ну и ну, этого еще не хватало! У тигра еще и крылья выросли, куда же это годится!
– У тигра выросли крылья, здорово ведь будет!
– Ань Вэнь, перестань с ним ерунду молоть, будто он все на свете знает!
Летучая Мышь вытянул руку и постучал в дверь, затем обернулся к нам и спросил:
– Ну что, заходить внутрь будете?
Я посмотрела на Ань У – у него было такое выражение лица, будто он готовился треснуть изо всех сил этого паренька и сразу же дать отсюда стрекача. Поэтому мы сердито буркнули ему:
– Не будем мы заходить!
– Если снова захотите «учиться у Лэй Фэна», то милости просим в любое время! А еще лучше захватите с собой травы или листьев капустных – кроликов кормить.
Мы
Наш маленький братик еще не умеет разговаривать, ему пока только четыре месяца. Он все время лежит на кане и сладко спит. Ань У спросил у мамы:
– Можно мне положить под ватное одеяло кроликов и спать вместе с ними?
– Откуда у тебя такая бредовая идея? – удивилась мама. – Тебе? Спать вместе с кроликами?!
Я, надувшись от сознания собственной значимости, похвасталась перед мамой:
– Жена прежнего директора так делает! Четыре маленьких крольчонка – все сидят под одеялом у ее сына!
– Кролики сильно воняют, к тому же гадить любят повсюду, это крайне негигиенично! – попыталась объяснить мама. – Старушка с возрастом и вправду все хуже и хуже соображать стала.
У нас в семье четверо детей – два мальчика и две девочки. Может быть, это простое совпадение, но мы всегда держим четырех куриц, а на стене в комнате всегда приклеена простонародная картинка – няньхуа[49], на которой, как нарочно, всегда бывает четверо деток – ни одним больше, ни одним меньше. В этом году у всех четырех деревенских ребятишек, нарисованных на картинке, щечки пухлые и румяные-прерумяные, а глаза и носики у всех одинаковые – будто отштампованные по одному образцу. На этом красочном рисунке льет дождь, густо зеленеют рисовые всходы, а в маленькой речушке вода весело пузырится и брызжет от падающих сверху капель. Молоденькая учительница, раскрыв большой желтый зонт из промасленной бумаги, заботливо переводит детишек через мост. Наши курочки – четыре беленьких чистеньких леггорна[50] – каждый день ранним утром уходили со двора, а когда вечерело, то нам не было необходимости бежать разыскивать их – они всегда сами возвращались домой. Если ворота были заперты, то курочки начинали забавно кудахтать и стучаться в дверь своими остренькими клювиками:
– Мы вернулись! Пустите нас! Мы вернулись!
Дома леггорнов ожидали полмиски дробленой кукурузы, смешанной с мелко нарубленной ботвой, и плошка чистой водицы, которые мы сразу же им выносили. Стемнело, и папа загнал на ночь курочек в плетеный короб, а потом, глянув на небо и забеспокоившись, что может пойти дождь, отыскал большое корыто и на всякий случай накрыл им сверху короб.
Вдова директора, освещая путь электрическим фонариком, шла в общественный туалет и, следуя мимо нашего дома, увидела, как папа задумчиво стоит во дворе и неспешно курит. Она поздоровалась с отцом:
– Вечер добрый, учитель Ань, еще не ложились?
– Луной вот любуюсь.
Справив нужду, старушка по пути обратно к себе вновь проследовала мимо нашего дома. Подняв голову и оглядев ночное небо, она произнесла:
– Луна сегодня как-то…
– Туманно все, туманно, – со вздохом продолжил отец.
Старушка пошла к своему дому, ее седые волосы отливали луннобелым серебром, а забинтованные ножки-лотосы удалялись совершенно беззвучно.
Все соседи в округе считали, что семейка покойного директора – и его вдова, и его сын – оба были особами незаурядными и весьма странноватыми. Но пожалуй, именно кролики, что жили в их доме, завораживали нас с Ань У так сильно, что мы места себе не находили.
Вся наша семья – шесть человек – улеглась спать на большом теплом кане. Когда выключили свет, Ань У попросил папу помочь ему сделать кроличью клетку – он собирался разводить кроликов. Уже наступила весна, и в школьном дворе повсюду стала пробиваться зеленая травка. А к летним каникулам травы разрастутся, как сумасшедшие, и заполонят всю спортивную площадку. Нет, вы не подумайте, что Ань У окончательно сдурел и дошел до того, чтобы выпасать на спортплощадке кроликов. Он просто пытался убедить маму, что, имея под боком «огромное пастбище» Первой школы, разведение кроликов не будет стоить нам ни копейки.
– Если уж зашла речь о травоядных, – предложила я, – давайте лучше заведем козу, и тогда мы будем каждый день пить свежее козье молоко!
Это и вправду была неплохая идея, но все-таки они посчитали, что полакомиться крольчатиной будет куда как проще. Кроме того, в деле, не испробованном никем из знакомых, уверенности у них не было, да и тем более никто из нас не знал, откуда можно достать козу. Ань У загадал желание, что мы сможем не только наесться крольчатины, но еще к зиме мы все будем спать на теплых-претеплых одеяльцах из кроличьих шкурок. Я тоже – не будь простушка – вызвалась вместо папы брать молоко и относить его директорской вдове и ее сыну. Мама включила свет и, меняя маленькому братишке пеленку, удивленно спросила:
– Что это с вами приключилось? Неужто вы оба вдруг повырастали?
– Конечно, – уверенно ответила я, – тех, кто продолжает бестолково и праздно дни проводить, в нашей семье теперь осталось только двое – пятилетняя сестренка да крохотуля-братик.
– А сын бывшего директора, – глупо улыбаясь, добавил Ань У, – такой, считай, как наш братишка махонький, только и знает что дрыхнуть целые дни напролет.
– Перестаньте насмехаться над другими людьми, если б тогда это наш папа свалился с крыши, то и представить нельзя, как бы нам сейчас тяжко было.
Зуб
Почти каждый вечер, стоит мне только закрыть глаза, сразу же появляется длинный строй из силуэтов полностью обнаженных людей. Они идут и идут один за другим, сколько их всего – непонятно, куда они направляются – тоже неизвестно. Они вроде бы прямо перед моими глазами, но в тоже время далеко-далеко от меня. Кроме белесых расплывчатых очертаний, ничего другого разглядеть не получается. Иногда они словно бы неторопливо бредут по петляющей горной дорожке, которая то поднимается, то опускается вниз… Иногда они вовсе не похожи на силуэты людей, а скорее напоминают столбы линии электропередач, часто-часто мелькающие за окном летящего поезда… Однажды я заметила, что несколько силуэтов из строя уже вроде бы прошли мимо, но затем вновь вернулись. Я страшно перепугалась: «Как я могла опознать эти очертания? Ведь изначально они все выглядели полностью одинаковыми!» Затем произошло нечто еще более поразительное: белые силуэты стали похожи на ряд зубов, и где-то ближе к центру не хватало одного – для него там явно оставалось пустое место. То есть эти зубы строем прошли мимо меня и затем опять вернулись, снова и снова покрутились на одном месте и, в конце концов, остановились без движения. «Чего же они хотят?» – от ужаса я не смела даже перевести дыхание. Не знаю уже, куда именно мне удалось спрятаться, но больше всего я боялась того, что они меня обнаружат.
Обычно, когда у нас менялись молочные зубы, следовало по старому поверью подобрать выпавший зуб, а потом, если это был верхний – закинуть его на крышу дома, а если был нижний – выбросить его в сточный колодец[51]. Если все сделать как следует, тогда новый зуб будет расти ровным и в правильном месте. Предположим, что эти белесые силуэты и вправду просто зубы, самые обычные зубы – как у всех людей во рту, тогда разобраться с ними будет пустяковым делом. Для начала я их спрошу: «Вы ведь, кажется, собрата потеряли?» И потом сообщу: «Вам нужно забираться на крышу или спуститься в сточный колодец, и там искать своего сотоварища. А если вдруг не сможете отыскать, я даже готова вырвать свой зуб и подарить его вам». Но это было лишь мое тщетное, несостоятельное предположение, так как мне было совершенно понятно, что я и эти бледные силуэты существуем в разных реальностях и никогда не сможем друг с другом поговорить.
Когда белесые очертания привиделись в первый раз, я от ужаса сжалась так, что от меня ничего не осталось, кроме бешено колотящегося перепуганного сердца. Некому было меня спасти – рядом на кане дрых без задних ног Ань У, и ни одно сновидение никогда не нарушало его покой. Но постепенно я привыкла и, закрывая глаза, сразу же начинала думать: сейчас должны появиться бледные силуэты. Мне это было совсем не по душе, но в то же время ничего поделать я не могла. Впрочем, белесые тени никогда не причиняли мне никакого вреда, а через несколько минут благодаря их монотонному мельканию голова начинала затуманиваться, и вскоре я оказывалась погруженной в сон.
Летучая Мышь
Ань У очень восхищался Летучей Мышью, он своими глазами видел, что этот паренек может бегать быстрее ветра. Однажды за ним гнались хулиганы с ножами, швыряя вдогонку кирпичи и куски черепицы, которые летели со свистом, подобно пулям, однако Летучая Мышь в мгновение ока оторвался от преследователей и был таков. Потом он рассказывал Ань У, что всыпал как следует главарю тех хулиганов, на том дело и закончилось.
Вдова прежнего директора была бабушкой Летучей Мыши по материнской линии, а тот безучастный ко всему сонливец приходился ему дядей. Родители Летучей Мыши развелись, и его мама работала учительницей в средней школе № 3, поэтому они с матерью и жили на территории Третьей школы. Он рассказывал, что его бабушка так отзывалась о нашем отце:
– Учитель Ань очень образованный и эрудированный, но совершенно не годится в преподаватели.
Наш папа разговаривает с сильным южным акцентом, и, по словам Летучей Мыши, однажды отец вместо «у ворот стояли двое на часах» прочитал «у ворот стояли двое на носах». У брата, как только он услышал об этом деле, словно пелена с глаз упала, он сообразил, отчего соседские ребятишки обзывали нас «носачами» и придумали дразнилку: «У-у-у, на носу стоит Ань У». Брат вернулся домой и рассказал об этом, мне стало смертельно обидно и отчаянно больно, точь-в-точь как если б меня ударили ножом. С тех пор я возненавидела Летучую Мышь лютой ненавистью.
Однажды он пришел к нам и позвал меня с Ань У пойти на спортивную площадку вместе рвать траву. Я наотрез отказалась, но потом все же побежала за ними, захватив с собою сестренку.
В сумерках спортивная площадка Первой школы казалась совершенно беспредельной – такой же необъятной, как открытая степь, ну, может быть, не совсем как степь, но уж точно как приличное хлебное поле. Золотым сиянием сверкали заостренные верхушки трав, а листва на деревьях бархатисто, словно перешептываясь, шелестела. Это только называлось «рвать траву», по-настоящему ее надо было тянуть и одновременно отщипывать ногтями, оставляя ненужные корни. Мы специально выбирали траву с плоскими и широкими листьями, поскольку Летучая Мышь сказал, что кроликам она больше всего нравится. В воздухе носилось целое полчище настоящих летучих мышей, они суетливо наматывали хаотичные круги… Постепенно на площадке окончательно стемнело. Мы скинули свои матерчатые туфли и стали подкидывать их – тапок за тапком – в кишевшее крылатыми зверушками небо. Не знаю, кто выдумал эту нелепицу, будто летучие мыши любят забиваться в ботинки, на поверку оказалось, что ничего подобного не происходит. Летучие мыши пугались подбрасываемых тапок и суматошно метались из стороны в сторону. А мы, разыскивая матерчатые туфли, ползали на четвереньках в высокой траве, словно какие-то странные животные. И все это казалось нам ужасно занимательным. Когда мы уже устали дурачиться, я, надевая тапочки, спросила Летучую Мышь, едва сдерживаясь, чтобы не прыснуть от смеха:
– А почему ты тогда сказал, что ты, может быть, Мышь Летучая?
Он очень удивился, оказалось, что он уже совершенно позабыл, что когда-то говорил такое. Но потом Летучая Мышь сообщил мне, что ему очень нравятся эти странные зверьки – и не мыши вроде, и не птицы, да и, вообще, он страшно любит всякие такие бестолковые и нелогичные штуки.
– А вы слыхали когда-нибудь, – вдруг спросил он, – что такое «наэлектризованный труп»[52]?
– Наэлектризованный труп? Кто же этого не знает! Это когда мертвец трепыхнется и – прыг – вскочит на ноги и в остолбенении пройдет вперед несколько шагов. А как наткнется на что-нибудь, тут ему полная крышка будет! – авторитетно, как по писаному отвечал Ань У.
Сестренка испугано заревела, а я тоже вставила свой комментарий:
– Когда человек только-только умер и к нему прислонится вдруг котенок, или щенок, или еще какой зверек, тогда-то он и может превратиться в наэлектризованный труп.
– Здорово! Вы оба на редкость сообразительные. А теперь мне пора домой возвращаться. Не в службу, а в дружбу, отнесите, пожалуйста, эту траву бабушке. Ань У, ты вроде как хотел кроликов разводить? Я уже потолковал с бабулей об этом.
Я смотрела вслед Летучей Мыши, силуэт которого постепенно исчезал в вечерних сумерках, и тут меня осенила гениальная идея. Я говорю Ань У:
– Человеку, который спит без просыпу целые дни напролет, всенепременно будет проще «наэлектризоваться», чем обычному мертвецу!
Ань У обмозговал это и решил, что моя гипотеза весьма убедительна, а потом добавил:
– Ну, конечно, жена бывшего директора наверняка именно поэтому и подсаживает кроликов под одеяло к своему сыну.
Какой ужас! Мы побросали охапки травы во дворе директорского дома и что есть мочи пустились оттуда наутек.
Белые бабочки
Дворик перед нашим домом был небольшой, такой же, как и у других, он был обнесен плотной живой изгородью из маленьких вязов, которые мы ровненько подстригали, чтобы не разрослись очень высоко. Во дворе росли кукуруза и горох, и плети гороха ползли вверх, взбираясь по стеблям кукурузы. Пурпурный вьюнок[53] никто специально не высеивал, но эти однолетние лианы всходили сами и, цепляясь за ветви вязов, поднимались все выше и выше, распуская огромные цветки-граммофоны разных цветов – фиолетовые, белые или нежно-розовые. Семиточечным божьим коровкам – здесь на Севере их еще называют «пестрыми барышнями» – тоже нравились вязы. Эти яркие жучки – большие, как половинки соевых бобов – сосредоточенно ползали по темно-зеленым листочкам ильмов. По мне, так некоторые виды «веселенького ситца» штампуются как раз по образцу раскраски божьих коровок. Например, вот у моей мамы есть одно такое платье – черное с красными горошками.
Белых бабочек было ужасно много, у кого во дворике распускались цветы, к тому и устремлялись бабочки. Белянкам больше всего нравились цветки душистого лука, но лук цвел только во дворе у покойного директора, поэтому легионы бабочек налетели туда в несметных количествах. Порхающие белянки и цветы душистого лука – изящные зонтики, сплетенные из благоухающих крошечных звездочек – превращались в одно белое-пребелое облако, от пронзительной яркости и беспрерывного мельтешения которого начинало слепить глаза. Опираясь грудью об ильмовую изгородь, окружавшую дом бывшего директора, я просунула во двор ветку, к кончику которой была привязана маленькая круглая бумажка, и принялась тихонько ее раскачивать, так чтобы бумажка вертелась и подпрыгивала. Вскоре заинтригованные этими пируэтами, ко мне стали подлетать – одна за другой – белянки. Тогда, обеими руками подняв повыше эту ветку, я поспешила домой, увлекая за собой целую вереницу веселых бабочек. Опережая меня, Ань У заранее примчался домой и ждал у распахнутой настежь двери. Стоило мне вбежать в комнату, как брат сразу же плотно захлопнул за мной дверь.
– Сколько получилось бабочек? – со двора прокричал Ань У.
Зажимая уши – поскольку смертельно боялась, что из-за пыльцы на крылышках навсегда потеряю слух[54], я стала искоса обводить глазами комнату и в итоге насчитала семь бабочек. Я счастливо закричала брату на улицу:
– Ты, главное, дверь только не открывай!
Потом наступила очередь Ань У, но он все время слишком спешил и чересчур резко болтал веткой, оттого-то и не получалось у него заманить хоть сколько-нибудь белянок. А один раз Ань У прибежал домой с одной только яростно трепыхающейся в воздухе белой бумажкой, а несколько увязавшихся было за ним бабочек ускользнули, даже не долетев и до середины пути.
– Не переживай, – успокаивала я брата, – попробуй еще разок! Все равно, ведь бабочек там так много, что всех их никогда не переманишь.
Дома у бывшего директора
Поскольку нигде было не найти металлической проволочной сетки, мечта Ань У о том, чтобы сделать настоящую кроличью клетку, лопнула как мыльный пузырь. Они с папой построили из кирпича крошечный домик, приделали к нему деревянную дверку и сперва поселили туда четырех курочек.
А я каждое утро брала три бутылки молока: одну – для нас, а две другие относила в дом покойного директора. Я входила к ним во двор, брала с подоконника пустые молочные бутылки и через несколько минут снова возвращалась, чтобы оставить две бутылки, полные молока. Бегая вот так с бутылками туда и обратно во двор бывшего директора, я частенько заодно прислонялась к оконному стеклу и заглядывала на секундочку внутрь комнаты.
В тот раз мы прошли в дом покойного директора вдвоем с Ань У. Когда мы подошли к двери, я недовольно забурчала:
– Только бы ее сын вдруг не «наэлектризовался»!
– Вот забавно было, если бы «наэлектризовался», мы разве не собирались поглазеть на это чудо! – очень уверенно заявил мне Ань У.
Четыре больших серых кролика играли на глинобитном полу в комнате. Старушка предложила нам выбрать тех, что приглянутся, а потом добавила, что можем и всех разом забрать, у нее еще малышня подрастала – четыре крошечных крольчонка. Ань У ответил, что двух будет вполне достаточно, лучше всего, конечно, кроля да крольчиху, чтобы потомство было удобно разводить. Старушка взяла на руки тех двух кроликов, которые не пришлись нам по нраву, и вынесла из комнаты во двор, где посадила в сарай. Вернувшись в дом, она сказала нам:
– Вы не спешите убегать, лучше разуйтесь да посидите чуть-чуть на кане.
Кан у них тоже был низкий и очень большой – занимал половину всей комнаты. Ее сын спал на дальнем от топки краю кана, освещение там было довольно тусклым, и если не присматриваться, то рассмотреть что-либо было почти невозможно. Впрочем, оттуда действительно сильно воняло кроликами. Под ватным одеялом, к нашему великому разочарованию, было абсолютно тихо – совершенно невозможно, чтобы там сейчас прятались крольчата.
– Вы можете с ним поговорить.
– А он услышит?
– А он сможет поправиться?
– Он не болен, просто поспать любитель. Эй, просыпайся, близнецы учителя Аня пришли тебя проведать! – старушка попыталась растормошить сына, а потом обратилась к нам. – Вы поговорите с ним, он все слышит, глядите, глаза так и подмигивают.
Он казался просто заснувшим и ни капельки не был страшным. Я не знала, как следует разговаривать со спящими людьми, и тем более не могла себе представить, что он во сне летает.
– Он во сне умеет летать!
Я очень перепугалась, а старушка говорила о том, что ее сын умеет летать во сне, так, словно боялась, что мы ей не поверим. Она снова добавила:
– Я тоже умею летать во сне, но летаю только тогда, когда что-нибудь ужасное привидится.
Я вспомнила, что, когда младший братик еще не появился на свет, у мамы на животе под кожей то вздувались, то пропадали маленькие бугорочки. Мама говорила, что это ребеночек толкается кулачками и ножками. Я не осмеливалась прикасаться к этим бугорочкам, было неприятно и даже, можно сказать, отвратительно, поскольку мне казалось, тот, кто еще не родился на свет, и за человека-то считаться не может, а скорее похож на какое-то чудовище. Равно как, если кто-то заснул, то он словно бы погрузился в склеп где-то в пустынной глуши. И в такое место, кроме самого уснувшего, никто иной попасть никогда не сможет. А даже если бы ты и сумел туда попасть, то тот уснувший человек наверняка предстал бы перед тобой в каком-то необычном виде, а, может быть, даже вовсе и не в людском обличии. Однако Ань У не устоял перед увещеваниями старушки и стал лицемерно сюсюкать с ее сыном:
– Эй ты, проснись, в Первой школе скоро занятия начнутся!
– Не проси ты его больше учительствовать, – опять заговорила старушка, – ему давно это уже опротивело.
Она достала коробку с печеньем, но оказалось, что там осталось лишь несколько крошек на дне. Старушка изумленно пробормотала:
– Совершенно точно ведь было еще два миндальных печеньица… Что же это такое? И куда они могли запропаститься?
Тут я в замешательстве заметила, как закрытые глаза сонливца слегка зажмурились, словно он улыбался. Я сказала:
– Наверняка это печенье кто-то потихоньку слопал!
Старушка отыскала откуда-то кусок леденцового сахара, завернутый в носовой платок, и хотела было передать его Ань У, чтобы тот расколол леденец на несколько частей, но тут же передумала:
– Да ладно, это леденец хоть и старый уже, но все еще такой же сладкий. Если не верите, сами попробуйте облизните!
Какая гадость! Этот леденец она обсусолила уже раз пятьсот, и лизать его после старухи никакого настроения у нас с Ань У не было.
– Вы говорите, что он умеет летать во сне, – спросила я, – это он сам вам сказал?
Старушка, потрясенная, растерялась:
– Я говорила? Откуда мне знать, что он летать умеет?
От злости я была совершенно обескуражена: неужели это у меня мозги помутились? Разве минуту назад она своим языком не говорила этих слов? И не только говорила, что сын умеет летать, а еще говорила, что сама тоже умеет летать? Я переспросила Ань У, он промямлил, что «вроде как» говорила. Старушка рассердилась:
– Из трехсот танских стихотворений, какое, по-твоему, я не расскажу наизусть?
А к танским стихотворениям какое это имеет отношение? Некоторые люди абсолютно неисправимы, болтают всякую ерунду только ради того, чтобы одурачить других. Я была раздосадована до слез и сказала Ань У:
– Пойдем скорее домой!
Старушка слегка наклонила вбок голову и, пристально глядя на меня, заворчала:
– Ох, барышня-барышня, вот уж любительница проказничать! Вы даром что близнецы, Ань У – тот куда как более толковый. По мне, так совсем не похоже, что вы одной матерью рожденные!
Как раз в этот момент безучастный ко всему сонливец, лежавший на краю кана, открыл рот и заговорил:
– Нет на свете такого человека, который бы не умел летать во сне. Даже если он думает, что не умеет летать, это просто значит, что память у него плохая. На заре человечества все были большими птицами, и только когда в небе налетались вдоволь, они спустились на землю и превратились в людей. Они стали строить жилища и возделывать посевы, начали делать кучу всяких вещей, проводя дни в бесконечных хлопотах. Конечно, у птиц жизнь куда как более беззаботная и вольная, чем у людей. Но людям сожалеть об этом совершенно бесполезно – в любом случае превратиться обратно в птиц уже нет никакой возможности.
– Да что вы? – изумленно спросил Ань У. – Разве люди не от обезьян произошли?
Возможно, это было сонным бредом апатичного лежня, а может, сын старушки просто притворялся спящим. Однако когда он заметил, что проговорился о своих сокровенных мыслях, то больше уже не произнес нам ни одного слова.
– Эволюция человечества – процесс долгий, может, и доводилось людям бывать обезьянами… Что же в этом необычного? – вторила старушка словам сына. – Люди не могут забыть, что когда-то у них была пара крыльев, поэтому-то во сне и взмывают в небесные выси.
Кролики
Мы отнесли домой двух взрослых кроликов, и вскоре у них появился целый выводок крольчат. Крольчата вырастали и снова приносили потомство до тех пор, пока кроликов не стало так много, что прокормить их было уже совершенно невозможно. Обезумевшие от голода зверьки подкапывали себе лазейки и убегали из крольчатника. Некоторых кроликов, что не успели сбежать, нам удалось-таки съесть, а других у нас разворовали. Судьба этих зверьков оказалась такой же, как и у курочек, которых мы откармливали, – они, если в конечном итоге не оказывались у нас в желудках, то тогда уж точно попадали на обеденные столы к кому-нибудь из соседей. Один тип – второгодник по прозвищу Эрлюйцзы – Малый Осел – даже продавал кроликов Ань У прямо в начале нашего переулка. Взрослых кролей он сбывал по юаню, а крольчат – за пол-юаня, всего ему удалось загнать штук семь-восемь. Он с переменным успехом распродавал их до тех пор, пока не остался один большой кролик, которого он хотел было отдать за полцены старой бабке, подбиравшей мусор. Сборщики мусора всякой ерунде рады, иногда даже барахлишко разное могут стянуть с веревки, где белье сушится. Наглец Эрлюйцзы только-только сторговал кроля, как тут подоспел Ань У и, размахивая палкой, стал дубасить этого бесстыжего переростка. Малый Осел заорал, взывая о помощи, а бабка-мусорщица воспользовалась суматохой и, прихватив кролика, была такова.
– Довольно уже, Ань У, хватит тебе кроликов разводить! – потешаясь, уговаривала я брата. – Ты запер бедняжек в сарае и кормишь их испортившимися овощами. Ну, скажи, что в этом забавного?
– Тупица ты! Только что еще одна крольчиха разродилась. Не смей туда ходить, если ты глянешь на крольчат, то крольчиха непременно сожрет своих малышей![55]
– Сам ты тупица! Нет ничего постыдного в том, чтобы деток рожать, с чего бы матери поедать своих же детенышей? Крольчиха, наверняка, совсем одурела от голода или, может быть, отравилась чем-то, вот и помешалась окончательно.
– Со мной твои номера не пройдут! – обиделся Ань У. – Среди моих кроликов нет ни единого, кто был бы глупее тебя.
Ань У всегда много обещал, но умел только пыль в глаза пускать, поэтому к зиме от кроликов не осталось ни тени, ни следа, не говоря уже об одеяльцах из кроличьих шкурок. На улице было ужасно холодно, и мне страшно хотелось бы иметь у себя двух тепленьких новорожденных крольчат, чтобы положить их внутрь хлопчатобумажных варежек.
Утром во дворе дома покойного директора все было покрыто белым снегом, а оконные стекла полностью обледенели и заиндевели. Вчерашнее молоко по-прежнему стояло на подоконнике и, видимо, давным-давно уже замерзло. Как же мне принести свежее молоко, если нет пустых бутылок? Я вернулась домой, рассказала обо всем папе, и он поспешил туда. Когда отец вернулся, он сообщил, что жена бывшего директора серьезно заболела, она сильно температурила и просила принести ей яблок.
– Сейчас так холодно и снежно, только бы не приключилось с ней никакого несчастья, – волновался папа.
Прелесть зимы в том, что повсюду на земле лежит снег. На тропинке, ведущей к школе, утоптанный снег превратился в застывшие оконца – поблескивающие черные ледышки. Мы прицеливаемся, разбегаемся и, чуть повернувшись, – «в-ж-ж-жик!» стремительно скользим по ледяной дорожке. Мы поднимаем руки и проносимся, подобно ласточкам. Да только от этих толстых и грубых хлопчатобумажных варежек нет никакого проку – они совершенно не держат тепло, и руки вот-вот отвалятся от мороза. Я говорю Ань У:
– Вот если бы можно было положить в варежку живого крольчонка, как бы было тепло!
– Ты что хочешь, чтобы крольчата задохнулись? – ворчит Ань У. – Вот уж любительница всякую ерунду выдумывать!
Мы засовываем руки внутрь своих ватных курток, прячем ладони под набрюшники, которые соединены с ватными штанами, и прикасаемся замерзшими пальцами к теплым животам. Если шагать так без рук, то ватники постоянно сбиваются кверху, и быстро идти у нас никак не получается.
Отец ездил на рынок, но даже там не удалось купить ни одного яблока. Несколько человек, которым он сообщил, пришли в дом директора, однако никто также не смог принести яблок. Они отрезали старушке ломтик зеленой редьки, она несколько раз его лизнула, причмокнула губами, словно очаровательная большая крольчиха, и затем испустила дух. Летучая Мышь тоже пришел. Его мама, очень красивая и еще довольно молодая женщина, увидев четырех сереньких крольчат, которые ютились у ног ее брата – безучастного ко всему сонливца, сразу же нахмурила брови и велела Летучей Мыши немедленно вынести зверьков из комнаты. Мы с Ань У пошли за Летучей Мышью в сарай, там было очень темно и очень холодно, даже взрослые кролики и те, вероятно, замерзли бы тут насмерть.
– Жалко их, – сказал Ань У, – давай я заберу крольчат к нам. Он положил четырех сереньких крольчат себе за пазуху и стремглав убежал домой, подпрыгивая от радости.
Когда из жилой комнаты начали доноситься приглушенные всхлипывания и неясные голоса, я заметила, что Летучая Мышь стал еще выше, чем прежде. Он был одет в темно-серое, землистого цвета пальто старого фасона, оно висело на нем слишком свободно, пуговицы не были застегнуты, а обе руки он вставил под углом в карманы пальто. Летучая Мышь встряхнул руками в разные стороны, и стало очень похоже на то, что он собирается раскрыть свои крылья – я была поражена и очень захотела взлететь в небеса вместе с ним.
– Сколько тебе лет?
– Двенадцать.
– Ну, тогда ты еще не понимаешь, что такое смерть.
Мне хотелось поговорить с ним совсем о другом, но стоило мене открыть рот, как я стала нести вздор:
– Я умею летать во сне.
– Неужели? – безучастно отозвался он. – А я не умею летать.
Наверное, он очень горевал из-за смерти бабушки, но он совершенно не замечал моего присутствия и в оцепенении стоял одиноко в темном сарае.
После смерти директорской вдовы родственники увезли ее сына куда-то в другое место, в их доме никто не жил, и он пустовал очень долгое время. Когда пришла весна, во дворе директорского дома вновь повырастал душистый лук, и люди частенько заходили туда чтобы нарвать пучок-другой. Когда душистый лук зацвел, во двор опять прилетели белые бабочки, но у нас с Ань У уже не было настроения играть с белянками. Однажды мы встретили Летучую Мышь, и он рассказал, что собирается на Великую северную целину[56], поэтому пришел сюда взять старый кожаный чемодан. Летучей Мыши еще не было и шестнадцати лет[57], как он нам объяснял, в школе он начал учиться раньше других, а кроме того еще «перепрыгивал через класс». Я спросила:
– А что Великая Северная целина – это и вправду неохватное полотнище невозделанной пустоши?
– Конечно, – с самым, что ни на есть, серьезным видом ответил он, – у Великой Северной целины ни конца нет, ни края, если что там и есть, так это – множество диких зайцев.
Летучая Мышь превратился в очень красивого парня, и он, весело улыбаясь, еще пару минут поболтал с нами о всякой чепухе. Как-то солнечным днем весь город высыпал на улицы, с фанфарами провожая «образованную молодежь», которая направлялась на трудовое воспитание в глубинку и отдаленные районы. Четырехтонные «цзефаны»[58] – грузовик за грузовиком – торжественно провозили их через весь город, но, к тому времени, как они доехали до нашей улицы, мне уже так и не удалось повидаться с Летучей Мышью.
На крыше
Однажды папа сообщил нам, что сын прежнего директора начал поправляться и теперь уже может выходить гулять на улицу, да вот только стал он очень уж неразговорчивым.
– Видать, когда он очнулся и обнаружил, что остался сиротой, то, наверняка, пришел в полнейшее отчаяние, – сострила я.
– Дело вовсе не в этом, – заметила мама, – он и прежде был очень необщительным человеком.
Ань У вдруг ни с того ни с сего ляпнул:
– Если бы его матушка не подсаживала к нему под ватное одеяло кроликов, он бы уже давным-давно погрузился в вечный сон.
Родители спросили, о чем это Ань У говорит, а мы с братом переглянулись и заулыбались, ничего им не объясняя. Вспоминать нам было очень забавно: в детстве мы часто такие невообразимые чудеса и глупости выдумывали, однако если попытаться рассказать кому-нибудь постороннему, то ему наверняка показалось бы это ужасно скучным.
Мы с Ань У учились в разных классах, но почти все знали, что мы близнецы. Только к тому времени я осознала, что спортивная площадка в Первой школе, оказывается, вовсе не была беспредельной: когда по утрам учителя и ученики делали коллективную гимнастику по радио, длинные шеренги, проходя через два ряда больших ив, выстраивались прямо до ворот нашего дома. Каждый раз после утренней зарядки среди моих одноклассниц и одноклассников Ань У всегда находилось с полдюжины надоедливых субъектов, которые любили забегать к нам во двор, чтобы выпить немного воды. В тот день, по обыкновению, к нам домой гурьбой устремились две стайки одноклассников, и некоторые ребята еще не успели и воды отхлебнуть, как вдруг мы услышали, что снаружи закричали:
– Человек с крыши прыгает!
На крышу четырехэтажного здания забрался человек, он был одет в белую рубаху и сиротливо сидел на коньке. Людское море бурлило и шумно вздымалось, начальство школы и некоторые учителя заняли лучшие наблюдательные позиции на площадке рядом со зданием, за ними уже расположились все остальные зрители – более тысячи человек. Кто-то из руководства приложил обе ладони к лицу, охватил ими губы, и, задрав высоко голову, стал что-то громко кричать человеку, сидевшему на крыше. Но что именно он кричал, разобрать было совершенно невозможно, вообще ничего нельзя было разобрать. Из высокочастотного динамика разносилась мелодия революционной песни, внезапно звук хрустнул и оборвался, а потом какая-то женщина начала командовать через репродуктор строгим и настоятельным голосом:
– Учащиеся! Товарищи учащиеся! Время идти на урок! Время идти на урок!
Она снова и снова настойчиво твердила эти слова, словно заклинания. Но кто будет прислушиваться к ее указаниям, когда дело касается самого важного в мире – человеческой жизни? Как потом пересказывали, в конце концов председатель ревкома велел ей замолчать и распорядился отключить репродуктор. Высокочастотный громкоговоритель заменили теперь на обычный старомодный рупор, и не было видно, кто держал этот рупор, но, когда раздался звук, все сразу четко расслышали произнесенное имя. Ошибки быть не могло, тот человек на коньке крыши – это сын покойного директора. Среди присутствующих уже почти не было никого, кому доводилось встречаться с прежним директором. Говорят, он ездил учиться во Францию и круглый год ходил в традиционном длинном халате из плотной блеклосиней ткани, да и вообще казался совершенным интеллигентом. Он еще сочинил для Первой школы особый гимн, однако мелодия и слова этой песни уже давным-давно позабылись…
– Отчего же не посылают никого забрать «его» с крыши?
– Так не годится, если кто-нибудь поднимется туда, то «он» может перепугаться и броситься прямо вниз!
На площадку повытаскивали губчатые маты, на которых мы занимались на уроках физкультуры, и уложили их перед зданием – в то место, куда, как ожидалось, «он» свалится при приземлении. А еще кто-то принес ватные одеяла и военные шинели, полагая, что будет сохраннее, если постелить на землю это барахло. Но никому почему-то и в голову не приходило, что будет, если «он» решит прыгать с противоположного ската крыши.
– Глядите! Глядите! – со вздохом вся площадка колыхнулась и словно бы заходила волнами. – Глядите, он на ноги поднялся!
– Неужели он покончить с собой собирается? Зачем же нужно было обязательно приходить в Первую школу, чтобы свернуть себе шею?
– Видать, в прошлый раз у него не получилось сломать себе шею, а теперь, хоть он и проспал пару лет, но мозги у него до сих пор так и не выправились…
Прибыли бойцы НОАК и, вставши кругом перед зданием, растянули огромную камуфляжную сетку, во всех ячейках которой были приделаны искусственные листья и пучки травы. Ну, теперь-то все будет хорошо, главное только, чтобы «он» прыгал в нужную сторону.
«Он» поднялся на ноги и стал созерцать далекие дали, вглядываясь куда-то за край горизонта и словно бы намеренно игнорировал огромную толпу людей, собравшуюся у здания внизу. Лето еще не началось, он был одет в белую рубаху и оттого казался особенно бесприютным и осиротелым. Я вспомнила те белесые расплывчатые силуэты, которые раньше мне часто снились, вспомнила, что однажды они мне привиделись как зубы, в ряду которых недоставало одного собрата. Теперь понятно, что этот зуб-фантом, по-видимому, сбежал прямо на крышу четырехэтажного здания… В сумбурном гуле голосов я вдруг стала абсолютно невесомой, едва-едва ощутимой, и лишь сознание мое оставалось еще активным. В таком наваждении меня вдруг обуяло альтруистическое стремление – помогать людям и полагать это величайшей для себя радостью. Я закрыла глаза, сомкнула губы и – одним рывком оторвавшись от земли, взлетела на конек жестяной крыши.
Весеннее солнце светило нестерпимо ярко, на деревцах только-только начали пробиваться первые нежные листочки, и оттого казалось, что деревья окутаны тончайшей изумрудно-зеленой вуалью. Лица людей были едва различимы, сверху были видны только их головы – колышущееся море черных волос, досадно, но у меня никак не получалось разглядеть, где же в этой толпе стою я сама.
– Что ты вмешиваешься в чужие дела? – недовольно попрекнул меня сын покойного директора. – Я совсем не собираюсь отправляться на тот свет, просто я еще не придумал, как следует жить дальше.
– Но забраться на крышу, чтобы обдумывать этот вопрос, не кажется ли вам это странным?
– А кто сказал, что этот вопрос нельзя обдумывать на крыше? – рассердился он.
Ответить было нечем, и мне подумалось, что стоит только раскрыть рот, как я сразу выставляю себя совершеннейшей тупицей. Видать, я до полного обалдения зубрила математику и физику, и сейчас мой мозг еще слишком переутомлен, мысли постоянно стремятся куда-то упорхнуть, и поэтому абсолютно не получается прийти к какому-нибудь дельному решению. И теперь, когда я собралась поразмыслить своей собственной головой, у меня выходило только что-то совершенно бессмысленное и безнадежное. Пребывание на крыше, открытой тысячам взоров, очень угнетало меня, и мне постоянно думалось, что было бы куда лучше оставаться безучастным зрителем в этой толпе любопытствующих, что было бы куда приятнее потонуть без остатка в этом необъятном море людей. Но в то же время мне не хотелось возвращаться обратно безо всякого результата. Поэтому я ему предложила:
– Если вы и дальше будете так предаваться размышлениям, то вовсе не обязательно, что придете к какому-нибудь дельному выводу. Давайте мы с вами все-таки попробуем, посмотрим, получится ли у нас взлететь?
Он него по-прежнему сильно воняло кроликами, поэтому мне пришлось пересиливать себя, но, тем не менее, я взяла его за руку, и мы вместе воспарили ввысь… Мы плавно реяли в воздухе, описывая мерные круги над спортивной площадкой, которая – из-за цвета волос собравшихся там людей – казалась иссиня-черной.
Неожиданно я почувствовала, как слабеют мои руки, а кончики пальцев начинает покалывать от онемения… и тут вновь очутилась в самой гуще разгоряченной и взволнованной толпы.
Финал
Каждый раз, когда сын прежнего директора появлялся перед воротами средней школы № 1, старичок-охранник с криком и бранью бросался к нему наперерез, не пуская во внутренний двор. Однажды он проскользнул-таки внутрь и вошел, подобно блуждающему духу, в старое здание, но был пойман в тот момент, когда уже начал было подниматься по лестнице. Папа дома сказал:
– Вот уж любители по пустякам переполох устраивать! Пустили бы его посидеть маленько на крыше, ничего страшного не случилось бы!
Но люди не пускали его в Первую школу и, тем более, не подпустили к тому старому зданию. Впрочем, он тоже отнесся к этому с безразличием и, как ни в чем не бывало, молча удалился.
Еще через некоторое время мы узнали, что Летучая Мышь умер при каких-то путаных обстоятельствах и был погребен где-то на бескрайних просторах Великой северной целины.
Тогда нам с Ань У еще оставался целый год до окончания средней школы старшей ступени[59], но мы уже загодя начали ощущать некоторое беспокойство. После окончания школы всем нам как «образованной молодежи» надлежало отправиться в деревню на трудовое воспитание. Выпускников Первой школы, по большей части, направляли в деревни нашего же уезда селиться в производственных бригадах. Глядя на то, как некоторые бедолаги из соседних домов, проторчав в деревне уже восемь лет, так до сих пор не могут вернуться в город, никто из нас не хотел уезжать в глубинку. Но мысль о том, что придется снова жить рядом с Ань У в одной и той же народной коммуне, не говоря уже о том, чтобы быть в одном производственном корпусе[60], была для меня абсолютно невыносима, и поэтому я была согласна ехать куда угодно, лишь бы только одна:
– Пустите меня одну, хоть бы даже на Великую северную целину!
С каждым днем Ань У все сильнее и сильнее раздражал меня, он, можно сказать, превратился в моего главного противника. Когда я находилась дома, то каждую минуту готова была сорваться от копившегося недовольства. Мне казалось, что я живу, напялив неуклюжий допотопный ватник, и моя жизнь совершенно не стоит того, чтобы придавать ей хоть какое-то значение. Каждый раз, стоило мне прийти домой хоть на полчаса позже, они, задыхаясь от негодования, сразу же набрасывались на меня и не давали прохода. Отец с руганью обрушивался на меня, а мать, вторя ему, закатывала шумный скандал, крича до хрипоты и требуя, чтобы я созналась, что совершила что-то абсолютно, по их мнению, непотребное.
– Который сейчас час?! – орал папа, сотрясая прямо у меня перед глазами будильником «лошадиное копыто»[61]. – Ты мне хорошенько посмотри, который теперь час?!
Мне это все уже смертельно опостылело, но в то же время они казались мне такими жалкими и беспомощными, что отвечать им совершенно не хотелось. Тут отец как взмахнет рукой и как грохнет «лошадиную копыто» об пол – хрясть! – во все стороны разлетелись блестящие осколки.
Со временем не поспоришь, и лишь по всей комнате то там, то сям оказались разметаны сотни покореженных деталей.
Общую жилую комнату разделили перегородкой, и нам с сестренкой приходилось спать в крошечной глухой клетушке, где было нестерпимо душно и жарко. Пока я не возвращалась домой, сестренка не могла уснуть и беззвучно рыдала так, что подушка оказывалась полностью мокрой от слез, она полагала, будто со мной произошло что-то ужасное. Кроме как убиться да влюбиться, что еще ужасного могло со мной произойти? Приглянулись, всего-навсего, мы друг другу с одним пареньком, и хотелось нам быть с ним вместе ежечасно, ежеминутно и ежесекундно – вместе до самой смерти. Но в те годы мозги у нас у всех были хорошенько промыты, и потому даже мы вдвоем считали свои чувства чем-то постыдным и преступным. Целыми днями мы с ним пребывали в тревоге и страхе, порядком хлебнув печали оттого, что все старались растерзать и разлучить наши тела и души.
Ань У ворвался в аудиторию, где занимался мой класс, схватил из-за двери швабру и крепко-крепко треснул ею моего паренька – так, поганой метлой, он и изгнал мою первую любовь. Как-то раз потом, не сдержав-таки ярости, я выпалила только ради того, чтобы хоть как-нибудь ответить брату:
– Я люблю Летучую Мышь!
Ань У не обратил на меня никакого внимания. Тогда я снова заголосила:
– Я всегда-всегда буду любить Летучую Мышь!
Ань У отложил в сторону учебник «Методы культивации риса» и, сочувственно взглянув на меня, сказал:
– Тот тип, он ведь жутко странный был, верно?
В доме покойного директора поселился преподаватель по ИЗО, он вернулся к нам после трудового перевоспитания в деревне. После восстановления в Первой школе никаких предметов в расписании для этого старого холостяка предусмотрено не было, и он превратился в «сотрудника без определенного круга обязанностей». Он привез с собой из деревни целую кучу деревяшек и свалил их все во дворе, там, где прежде рос душистый лук. Тонкие, похожие на траву, побеги лука пробились между деревяшками через трещины в них и стали весло разрастаться. А у холостяка-учителя был одна любимая коряга, которая, прислонившись к углу дома, дни и ночи напролет пряталась под карнизом. Из-за влажности и отсутствия света на всей поверхности этой коряги повырастали черные древесные грибы. Учитель, набрав прохладную воду в черпачок, сделанный из тыквы-горлянки, часто подходил туда и, отпив глоток воды, – фррр – громко фыркал водою, опрыскивая эту чернющущую, огромную – выше человеческого роста – коряжину.
Это и вправду было забавно, я захихикала, получилось довольно громко, вышло очень неловко.
Я повернулась и, взглянув в просвет между двумя рядами больших ивовых деревьев, увидела густые травяные заросли, заполонившие всю школьную спортплощадку.
Перевод О. В. Халиной
Деревенская проза
Сто птиц летят к Фениксу
Сяо Цзянхун
1
Когда мы перешли через реку, отец в очередной раз предупредил меня: Что бы ни говорил наставник, во всем его надо слушаться, понятно? Я кивнул. Отец присел на корточки, поправил на мне одежду – короткую двубортную куртку, которую два месяца назад сшила мать, чтобы я выглядел постарше, и материал она специально выбрала темно-синий. Только сегодня, когда настало время уезжать из дома, мать отдала ее мне. Когда я ее надел, отец был недоволен и нахмурил брови.
– Нет, не скроешь, что он так молод, – произнес отец. Судя по всему, темно-синий цвет не смог увеличить время моей жизни. Все-таки мне было всего лишь одиннадцать лет, а возраст – это не одежда, которую постирал, – и она либо села, либо растянулась.
Ранним утром, когда мать подняла меня с кровати, я увидел гнев на ее лице, она ненавидела до глубины души мою привычку спать допоздна. Однако когда я уже должен был уезжать, ее взор наполнился надеждой, жалостью и еще безысходностью. Отец же был готов расстаться со мной надолго, ведь его мечтой было, чтобы я стал мастером игры на сона. В нашей деревне Шуйчжуан такого мастера не было, на любые свадьбы или похороны нужно было звать кого-то из другой деревни, а это было нелегким делом, ведь если у мастера уже были заказы как раз на нужное нам время, то радостные и печальные события в Шуйчжуане проходили в глубокой тишине. Без этой живой энергии и хозяину было неловко и стыдно, и гостям казалось, что чего-то не хватает. Поэтому мастера игры на сона в Шуйчжуане принимали всегда с высочайшими почестями. Сигареты, вино, чай – все это подавалось по первому требованию, а также обеспечивалось питание по высшему разряду. Когда мастер уезжал, хозяин лично провожал его почти два ли[62] и еще дарил деньги – небольшие, но выражавшие его теплое отношение. Естественно, гость обычно сначала отказывался, но в итоге все-таки принимал подношение. Все понимали, что таковы правила: давать деньги – правило, принимать деньги – правило, и даже отказ от денег также был частью правил.
По словам матери, отец хотел, чтобы я стал мастером игры на сона не только из-за денег. В молодости он сам мечтал стать таким мастером, обращался ко многим наставникам, однако ни один его не взял, он обошел практически всех в радиусе ста ли, но ни одного дня не играл на сона. Наставники говорили, что он странный и не подходит для игры на этом музыкальном инструменте. Столько лет прошло, все думали, что мечта отца исчезла, как сгнивают листья поздней осенью, превращаясь в грязное месиво, однако все было совсем не так. С тех пор, как себя помню, я замечал, что у отца при виде меня взгляд становился странным – как у голодного туберкулезника, сидящего перед кастрюлей с супом из собачатины, потирающего руки от нетерпения и желания попробовать. Однажды мой учитель встретил меня с отцом на деревянном мостике Шуйчжуана. Он взволнованно сообщил отцу, что по математике я ни разу не набрал больше тридцати баллов за все время учебы с первого по пятый класс. Я в смущении опустил голову, полагая, что за этим, естественно, разразится буря. Учитель договорил, но отец, кивнув головой, лишь великодушно махнул рукой, мол, тридцать баллов – это уже неплохо. А потом взял меня за руку и увел прочь. Когда мы спустились с моста, отец обернулся, взглянул на жалкого, промокшего учителя, саркастически хохотнул – откуда же господину преподавателю знать, какие далеко идущие планы были у Ю Бэнынэна по поводу его сына.
Я и правда не любил учиться, никто из детей в нашей деревне не любил учиться, поначалу еще было желание, но потом оно постепенно остыло. Главной проблемой было непонимание. Например, учитель математики и сам ничего не знал: сегодня дает нам один ответ, а на следующий день, стоя перед классом, тихим голосом объявляет – вчера я думал всю ночь, сидя у очага, мне все казалось, что что-то есть странное в ответе на вчерашний вопрос, он неверен! Поэтому я всю ночь не спал от ужаса и сегодня хочу его исправить. Мы в ответ посмеялись, а потом лишь узнали, что у него за плечами лишь начальная школа, а некоторые даже говорили, что и ее он не закончил. Поневоле у нас зародилось презрительное отношение к нему, что выразилось в пропуске занятий, когда мы, как сумасшедшие, шатались повсюду.
Я не любил учиться, но и мастером игры на сона я не хотел быть, хотя объяснить почему не мог, с детства я слушал, как отец нахваливает прелести профессии мастера игры на сона, наслушался столько, что это уже набило оскомину и вызывало неприязнь. К тому же я пришел к выводу, что отец хочет, чтоб я стал мастером сона, лишь ради тех денег, что мастер получает в дар.
2
За горой Даинынань виднелась деревня Тучжуан, в которой находился дом наставника, которого я никогда в жизни не видел. У нас в округе было пять деревень – Цзиньчжуан, Мучжуан, Хочжуан, Тучжуан, вместе с нашей Шуйчжуан получался большой поселок[63], который, по логике вещей, следовало бы назвать Поселком пяти деревень, однако он назывался Несравненным поселком. Дом моего будущего наставника располагался в густой бамбуковой роще – это был глинобитный домик в тени ярко-зеленых листьев. Когда-то я нашел в старом чемодане деда иллюстрированное издание «Троецарствия», в котором была картина под названием «Лю Бэй трижды посещает шалаш Чжугэ Ляна», так вот то, что я видел перед собой, было очень похоже на то изображение. Дорога, ведущая к глинобитному домику, была ровной, однако отец шел, тяжело дыша, лоб его был покрыт маленькими капельками пота, кулаки плотно сжаты. Я бросил на него взгляд, и ему стало неловко от того, что я разглядел его волнение, поэтому он улыбнулся, смеясь над собой.
Слегка смущенный, отец сменил тему. Слава Богу! Он сказал: посмотри, слева – синий дракон, справа – белый тигр, позади – красный феникс, впереди – змея с черепахой, сразу видно – дом необычного человека. Я хотел улыбнуться, но не посмел, отец не разбирался в геомантии-фэншуй, даже цитату перепутал. Эту фразу я слышал от шуйчжуанского мастера фэншуй, однако тот говорил иначе: впереди – красный феникс, позади – змея с черепахой. Я подумал, что отец действительно слишком взволнован, он боялся, что трагедия, которую он пережил в детстве, повторится и со мной. Внезапно у меня возникло приятное мстительное чувство: хорошо бы, чтоб я не понравился наставнику, ну а лучше всего было бы уйти из дому, а еще лучше уехать далеко – на год или полгода.
Глядя, как я лениво тащусь по дороге, отец нервно прикрикнул:
– Вот проклятье! Да иди ты прямо, не дай бог, наставник увидит тебя в таком виде!
Судьба была более благосклонна к отцу, чем он полагал: самый известный в Мучжуане наставник игры на сона был дома.
Лицо у моего будущего наставника было черное, и халат он носил черный, чем походил на кусок древесного угля лучшего качества. Выходя из комнаты, он на ходу разжигал табак, который издавал такие же звуки, как фейерверк. Я напрягся, испугавшись, что искра может сжечь его самого. Вероятно, он почувствовал мое беспокойство, поднял одну ногу и положил ее на колено другой, повернув подошвой к небу, и потом затушил об нее остатки табака из трубки. Производить такие сложные движения, чтобы всего лишь затушить табак? – судя по всему, мой будущий наставник – необычный человек.
– Наставник Цзяо, меня зовут Ю Бэньшэн, а это мой сын Ю Тяньмин, иероглиф «мин» в его имени означает «кукарекать», а не «понимать». – Отец, согнувшись, семенящей походкой подбежал к стоявшему под навесом темнолицему мужчине. На бегу он, постоянно суетясь, протянул руку в сумку и нащупал сигареты, а глаза его всматривались в черное лицо с величайшим почтением. Бедный отец хотел за шесть-семь шагов сделать одновременно столько действий, а необходимое спокойствие утратил, в итоге его правая нога подралась с левой, и он рухнул на землю, прямой как стрела. Грязь забила ему рот, сигареты, выскользнув из рук, не отклоняясь от курса, приземлились прямо в лужу на краю дворика. Сердце сжалось, я поспешил помочь отцу подняться, но он оттолкнул мою руку и сказал:
– Чего ты меня поднимаешь? Скорее иди поклонись наставнику!
Я его не послушал, все-таки я отца знал намного дольше, чем наставника, по уму и по совести следовало помочь встающему из лужи шуйчжуанскому мужчине. Решение было принято, я по-прежнему непреклонно тянул отца за руку, а подняв голову увидел, что на лбу у него появилась новая рана, бордовые капельки крови наперегонки вытекали из нее, у меня защемило сердце, слезы выступили на глазах.
Наставник махнул рукой:
– Кланяться? Зачем? Почему он должен мне кланяться? Кланяться надо не всякому!
Отец замолчал, с трудом достал из лужи сигареты, вынул одну, но она размокла, вода вытекала из нее словно слезы.
– Вот? – смущенно сказал отец и протянул руку с зажатыми между пальцами сигаретами.
Мужчина, стоявший под навесом, показал трубку:
– Я курю это.
Я, отец и мой будущий наставник с черным лицом застыли молча, главным образом потому, что не знали, что говорить. Самым спокойным был «кусок угля» – все-таки это была его вотчина, поэтому его лицо было расслаблено. Он посмотрел на небо, я тоже посмотрел на небо; он наверняка думал, что сегодня хорошая погода, и я тоже подумал, что сегодня хорошая погода. Солнце было похоже на свежеподжаренную яичницу, оно слепило глаза, мой будущий наставник, прикрыв ладонью глаза, взглянул на солнце, затем медленно набил трубку, раскурил ее и, наконец, заговорил.
– Из какой деревни? – говоря это, он не смотрел ни на меня, ни на моего отца, однако отец обрадовался даже его высокомерию. Он сделал два шага вперед и сказал:
– Из Шуйчжуана. Приехали по рекомендации Ю Шухуа. – Отец особенно выделил интонацией имя Ю Шухуа. Ю Шухуа был моим дядей по отцу, а также старостой нашей деревни Шуйчжуан.
Я услышал какой-то звук, раздававшийся из носа наставника игры на сона, было похоже, что какая-то гусеница пытается оттуда выбраться. Он продолжал курить, низко наклонив голову, как будто не слушал, что говорил ему отец. Увидев, что фамилия старосты Ю не произвела должного впечатления, отец пал духом.
– Лет сколько? – снова задал вопрос наставник.
Мои губы дрогнули, я был готов дать ответ, но отец как будто поющей стрелой выстрелил:
– Тринадцать!
Это было на два года больше, чем я собирался ответить. Опасаясь, что наставник не поверит, отец добавил:
– Одиннадцатого числа этого месяца исполнилось.
– Вы ведь знаете правила: тринадцать – нижний порог, – сказал наставник.
– Знаем, знаем! – ответил отец.
– Пацан не выглядит на тринадцать, – глаз у наставника был наметан.
– У паршивца лицо слишком детское, с десяти лет не меняется, незаметно даже, что уже вырос.
– Хорошо! – наставник кивнул головой. Поняв, что мастер уже составил свое мнение, брови отца внезапно взлетели, он подбежал к навесу и с трепетом спросил:
– Вы согласны?
– Хм! Еще рано об этом говорить!
Я полагал, что стать мастером игры на сона – это пустяковое дело: найти наставника, выучить пару мелодий, и дело сделано. Однако, судя по тому, что происходило перед глазами, премудростей в этом деле было много.
Во дворике располагался стол, на котором стояла пиала, сделанная из тыквы и наполненная водой. Пиала эта была половинкой огромной тыквы-горлянки. Наставник вручил мне палочку из тростника длиной примерно в чи[64]. В замешательстве я взял ее, не понимая, что же наставник от меня хочет.
– Надо высосать за раз через эту трубочку всю воду из тыквенной пиалы, дух переводить нельзя, – строго сказал наставник.
Я взглянул на отца, он беспрестанно кивал, зубы его были плотно сжаты, ему с огромным трудом давалось это поощрение.
Я окунул трубочку в воду, посмотрел на них обоих, взгляд наставника явно отличался от отцовского, он был непринужденный и спокойный, словно вода в пиале.
Я выдохнул воздух, наклонил голову и взял в рот трубочку, затем закрыл глаза, напряг щеки, и сокрушающий все холод хлынул в горло. Я открыл глаза, вода в пиале-тыкве стремительно уходила, я преисполнился уверенности, но когда она уменьшилась наполовину, мне стало не хватать воздуха. А когда ее осталась одна треть, тут не только воздух перестал поступать, даже голова начала кружиться, грудь невыносимо сжало, показалось, что я умираю.
– Быстрее, быстрее, быстрее, еще немного, – голос отца раздавался словно с небес.
В итоге я плюхнулся на землю и, задрав голову, шумно перевел дух. Я снова увидел солнце, эту подгоревшую яичницу.
Когда солнце снова стало желтым, я услышал, как отец упрашивает наставника.
– Уважаемый, вы все-таки возьмите его! – в голосе отца слышались слезы.
– У него нет достаточных сил, он не подходит для обучения игре на сона.
– Есть у него силы! Обычно, когда он зовет своих двух сестренок, вся деревня слышит!
Наставник засмеялся, но промолчал.
В этот момент я увидел, что отец идет ко мне, со слезами на глазах и скрипя зубами, он схватил пиалу-тыкву, стоявшую на столе, и со всей силы ударил меня.
– Ах ты ублюдок! Даже воду из этой пиалы высосать не можешь, на что ты вообще способен? – пиала ударила меня по лбу, и я услышал, как хрустнула кость. Я вскрикнул и упал на землю, солнце погасло, остались лишь пятна желтков, вертевшиеся по кругу.
– Ну как? Громко он кричит? Хватает сил? – голос отца был странным, мрачным и влажным.
Я с трудом открыл глаза и увидел, как отец снова замахивается тыквой.
– Кричи! Кричи громче! – заорал отец.
Я не понимал, зачем отец так делает. Пусть я не стану мастером игры на сона, но почему он так разозлился?
В этот момент, когда я страшно перепугался, я увидел руку.
Эта рука крепко ухватила отца за запястье.
3
Спустя много лет наставник сказал мне:
– Знаешь, почему я тогда взял тебя в ученики?
Я ответил:
– Потому что у вас доброе сердце, вы побоялись, что отец убьет меня.
Наставник отрицательно покачал головой:
– Нет, ты ошибаешься, я оставил тебя из-за твоей слезы.
– Какой слезы?
– Из-за той слезы, которая появилась у тебя на глазах, когда твой отец упал, а ты помогал ему подняться.
Отец ушел. Когда я смотрел на его удаляющийся силуэт, у меня вдруг возникло ощущение беспомощности. Раньше, когда я глядел на него, мне он не казался кем-то важным, и когда он меня бил, я частенько про себя ругался: «Ё…ый Ю Бэньшэн!». А сейчас я обнаружил, насколько отец был важен для меня. Он был словно дерево, защищающее от ветра и дождя: только когда отойдешь от него, понимаешь, как холоден дождь и как палит солнце.
С этого момента я был один. Глядя на удаляющийся силуэт отца, я не сдержался и расплакался, наставник стоял рядом, легонько похлопывая по плечу, на душе стало тепло, и я зарыдал еще сильнее.
За ужином наставник представил меня своей супруге – тощей и такой же черной, при ходьбе она раскачивалась из стороны в сторону и была похожа на сваренную макаронину из гречневой муки. Она болтала без умолку, расспрашивая меня обо всем, особенно о Шуйчжуане, а еще она сказала, что ее родственник живет там. По сравнению с супругой наставник был молчалив, за весь ужин произнес всего две фразы, когда я подавал еду, он лишь сказал: «Приступим к еде». А когда я опустил пиалку: «Наелся».
После еды я сам вызвался почистить пиалы. И пока я их мыл, вытянув шею, поглядывал на сидевших в гостиной наставника с женой. Жена, время от времени указывая на меня рукой, безостановочно кивала головой, а на лице ее играла еле ощутимая улыбка. Наставник же не двигался, а лишь беспрестанно курил, дым был густым, напоминая мне дни, когда мы с отцом ходили выжигать сухую траву на горе. Я понимал, что смех жены наставника был как-то связан с тем, что я мою посуду. А мытье посуды было, в свою очередь, связано с ворчанием матери при свете лампы накануне отъезда из дома. Она говорила:
– Уедешь из дома – все будет по-другому, нужно быть усердным и иметь острый взгляд, необходимо поджать свой ленивый хвост.
Когда я домыл посуду, супруга наставника сказала:
– Все три моих сына женились и разъехались, дома остались лишь мы с мужем, поэтому тебе придется заниматься посильным трудом.
Вечером, лежа в кровати, я думал о том, что завтра буду играть на сона, при мысли об этом я испытывал воодушевление и некоторый страх, мне казалось, что моя жизнь не должна была так круто меняться, ведь я еще не наигрался, я же еще ребенок, а дети должны играть. Мне вспомнились товарищи по играм, в этот момент они наверняка ловят светлячков у деревянного мостика в Шуйчжуане, складывают их в прозрачные бутылки, которые ночью могут служить фонарями.
Рано утром, когда я еще видел сны о светлячках, над ухом дважды раздался резкий кашель, это был наставник. Я испугался, осознав, что это сигнал подъема. Все-таки наставник – это не отец, который врывался утром в комнату, срывал с меня одеяло и шлепал по голой попе. Думаю, что он пока считает меня гостем, поэтому пользуется окольными путями. Одевшись, я вышел на улицу и поздоровался с супругой наставника, стоявшей под карнизом и перебиравшей бобы, в ответ она кивнула мне головой. Широко зевнув, я обнаружил, что солнце окрасило кроваво-красным другую сторону горы, в душе возникла досада на то, что меня подняли, хотя солнце еще не взошло. Дома отец хоть и шлепал по попе, но на тот момент солнце хотя бы было уже в зените. Посмотрев на мое недовольное лицо, жена наставника сказала:
– Твой наставник пошел к заводи, иди и ты туда же!
Посмотрев в направлении, которое указала женщина, я увидел заводь деревни Мучжуан. В Мучжуане, хотя и носившей название, которое в переводе означало Деревня Деревьев, заводей было больше, чем в Шуйчжуане – Деревне Воды. По берегам реки росли ивы. Ив и у нас в Шуйчжуане было много, издалека они напоминали округлые клубы дыма. Ивы со всех сторон окружали изумрудно-зеленые воды заводей, несколько белоснежных журавлей беззаботно кружили в небе. Наставник стоял на отмели и спокойно смотрел на поверхность воды, его силуэт был таким одиноким, таким маленьким.
Наставник выдернул у самого основания один тростник, отломил его верхушку-колосок и протянул мне стебель длиной примерно 3 чи. Он сказал:
– Иди, всасывай воду из реки, но запомни, стебель должен лишь слегка погружаться в воду.
Поначалу мне казалось, что это проще простого, но, начав, я понял, что это не так. Лицо мое покраснело, ноги стали как ватные, низ живота свело судорогой, но ни одной капли я не смог втянуть. Обернувшись, я взглянул на наставника, он нахмурился:
– Когда втянешь воду, тогда и домой пойдешь.
Только когда стало совсем темно, я вернулся в дом наставника, тот сидел вместе с женой у лампы, напоминавшей боб. Когда я вошел, женщина подала мне пиалку с рисом, но не успел я ее взять, как наставник заговорил:
– Воду втянул?
Я покачал головой.
– А тогда зачем вернулся-то? – Наставник вдруг поднялся и в гневе бросил свою трубку на пол, его и без того темное лицо стало еще чернее.
Только в этот момент я понял, что он не шутит.
Наставник отобрал у меня полпиалы ужина, хотя жена пыталась увещевать его словами: «Отец Тяньмина полностью оплатил его повседневные расходы, к тому же ребенок должен есть, чтобы расти!»
– Ребенок?! Какой из моих учеников не был ребенком? Да я сам, когда просил учителя взять меня к себе, три дня не ел!
Вечером я горько рыдал в кровати, потом вспомнил, как отец решительно оставил меня, а затем подумал, какая хорошая мать. Думал, думал и сам не заметил, как заснул. Казалось, что проспал совсем немного, как услышал покашливание. Я поднялся и подошел к окну: даже следов кроваво-красного солнца с той стороны горы не было видно.
В следующие десять дней я с тростниковой трубочкой в руках втягивал воду, стоя на отмели. Проезжавшие мимо люди зи деревни Тучжуан кричали издалека: «Господин Цзяо снова взял себе ученика!» А другие кричали: «Уж если этот пацан смог стать учеником господина Цзяо, то, судя по всему, у него есть способности!» Я слышал нотки печали в этих криках: вероятно, их собственные дети не понравились наставнику. У меня зародилась вера в себя, и я стал нормально заниматься самым скучным делом на свете – втягивать воду через трубочку.
Однажды в сумерках – я помню, в тот день на отмели было особенно много журавлей, они медленно парили над поверхностью воды, их ослепительно-белоснежные хвосты выделялись на ярко-зеленом фоне – я, как и миллионы раз до этого, наклонялся, втягивал воздух, но в итоге только крепко сжимал во рту холод. Погоняв воду во рту, я тихонько выплюнул ее на ладонь. Неплохо! Я втянул воду! Глядя на прозрачную и чистую воду на ладони, я словно отрешился от всего. Что-то смутное, что не выразишь словами, всколыхнулось в душе, горло постепенно напряглось. Сломя голову, я бросился в глинобитный дом наставника. Он сидел во дворике под карнизом и плел циновку из камыша.
– Получилось втянуть воду! – сказал я, делая паузы.
Я считал, что наставник улыбнется, кивнет головой и скажет, что теперь я смогу играть на сона. Однако все получилось не так. Наставник выслушал меня, вытащил из сложенного у ног вороха камышей самый длинный, очистил его и протянул мне. Я поставил трубку рядом – она оказалась выше меня, я с недоверием посмотрел на наставника, но он по-прежнему был погружен в плетение циновки, лишь через какое-то время он, подняв голову, сказал:
– Иди же! Продолжай втягивать воду!
4
Прошло два месяца и четыре дня, как я прибыл в Тучжуан, и тогда приехал Лань Юй.
Накануне его приезда вечером в Тучжуане прошел редкий ливень. На другой день утром я поднялся и увидел, что во дворе на коленях стоит мальчик. Он весь промок, одежда и штаны были вымазаны в грязи. Рядом с ним стоял мужчина тридцати с лишним лет, он также промок, непрерывно потирал руки, неотрывно следя за наставником.
Наставник же в этот момент в хлеву кормил корову, большими горстями он кидал траву в загон и ходил туда-сюда по двору, а на Лань Юя и его отца даже не смотрел, словно они были призраками. Я увидел, как неловко отцу Лань Юя, вспомнил, как сам прибыл сюда и посочувствовал людям, стоявшим во дворе.
В этот момент Лань Юй поднял голову и взглянул на меня, я слегка улыбнулся ему, измазанный в грязи Лань Юй улыбнулся в ответ, его улыбка была слабой и легкой, словно рябь на озере от камешка размером с большой палец. Спустя много лет Лань Юй сказал мне, что в тот момент, когда он стоял в грязи, у него было ощущение, что небо вот-вот обрушится, тогда он принял решение вернуться домой, невзирая на мнение отца, а остался он именно из-за моей улыбки.
Наставник согласился взять на обучение Лань Юя только после того, как его отец встал на колени в грязь. В тот момент наставник как раз шел к хлеву, держа в охапке траву. Тот необычный звук все еще звучит в ушах, я увидел, как ноги отца Лань Юя подкосились и вслед за этим вода перед ним разлетелась брызгами. Бум! Весь двор содрогнулся. Наставник обернулся и замер, а потом сказал:
– Вставай! Я могу посмотреть, подходит ли он для игры на сона. Если нет, то заберешь его обратно!
По сравнению со мной у Лань Юя было намного больше испытаний. Помимо всасывания воды он должен был еще дуть на куриное перышко, наставник бросил вверх перо, а Лань Юй должен был дуть на него, удерживая в воздухе и не давая упасть, пока наставник не докурит пачку табака. Еще была стрельба по мишени. Лань Юй должен был набрать в рот воды и с четырех шагов плюнуть ею в мишень на столе так, чтобы она упала. Я очень беспокоился за него, потому что даже черпак воды не мог втянуть до конца.
Лань Юй легко прошел все испытания, удивив не только меня, поражен был даже наставник. И хотя свое изумление он тщательно скрывал, но когда Лань Юй сбил мишени на столе, его брови сошлись на переносице, между ними пролегла узкая и глубокая ложбина. Сейчас я признаю, что таланта у Лань Юя было намного больше, чем у меня.
Лань Юй остался, спал он на той же кровати, что и я. Наставник торжественно представил меня ему, сказав:
– Это старший ученик, старший брат, вы должны быть теперь как родные братья, ясно? – Лянь Юй кивнул головой, и я тоже.
Ночью Лань Юй спросил меня:
– Здорово играть на сона?
– Не знаю.
Лань Юй изумленно повернулся ко мне:
– Как не знаешь? Ты же ведь тут уже два месяца!
– Я еще ни дня не занимался на сона!
– А чем же ты тогда занимаешься-то?
– Пью воду. Из реки.
После приезда Лань Юя детей, втягивающих воду из реки на отмели, стало двое. Проезжавшие мимо жители Тучжуана кричали, что наставник Цзяо опять взял себе нового ученика, и что все его ученики, играющие на сона, прямо как на подбор.
Когда мы втягивали воду, наставник с его командой более десяти раз выезжали из дома, они объездили все деревни Несравненного поселка. Мы с Лань Юем познакомились со всеми старшими братьями-учениками. Самый старший по возрасту был почти как мой отец, наставник сказал, чтобы мы с Лань Юем называли его «Старший брат», а нам было неловко, ведь это был взрослый человек, да еще и с бородой. Мы робко сказали: «Старший брат», и он погладил нас по головам, а потом рассмеялся, глядя на наставника. Тот сказал: «Скоро лепешки уже созреют!» Старший брат снова рассмеялся, широко раскрыв рот и шевеля бородой, из-за которой, когда он брал инструмент в рот, не были видны ни тростниковый мундштук, ни медное кольцо вокруг него.
После получения заказа и накануне отъезда вся команда обычно собиралась, чтобы еще раз сыграть на сона. Во дворе выставлялся большой стол, на котором стоял чай из падуба и жареные соевые бобы, приготовленные женой наставника. Наставник и его ученики рассаживались во дворе, сначала обсуждая повседневные дела. В этот момент громче всех звучал громоподобный голос одного человека – второго брата. По словам супруги наставника, это был лучший ученик, самый способный и усердный, ему лучше всего удавались траурные мелодии, он их играл так, что рыдали все в погребальном зале. Поболтав о том, о сем, учитель кашлял два раза, все понимали намек и доставали из мешков сона. Первым делом надо было настроить инструменты, проверить, верна ли тональность сона. Потом наставник задавал мелодию: если заказ был на свадьбу, то играли веселую музыку в быстром ритме, которая легко разносилась по всему дворику. А если заказ был на траурную церемонию, то играли погребальную музыку, медленную и печальную, казалось, будто густой рисовый отвар льют на землю. Когда наставник заканчивал свою сольную партию, глаза у меня и Лань Юя были на мокром месте.
Большая часть семей из Несравненного поселка давала заказ на «Четырех мастеров», то есть исполнять мелодию должны были четыре мастера игры на сона. Большое внимание уделялось также и «Восьми мастерам» – тогда играли не только четыре мастера сона, а также один барабанщик, по одному игроку на чашах, гонге и тарелках. Обычно «Восемь мастеров» заказывали на крупные мероприятия с необыкновенным размахом. Жена наставника рассказала, что во время репетиции «Восьми мастеров» вся деревня Тучжуан собирается у них во дворе, тихонько слушают, а потом расходятся. Все-таки это сложное и дорогое выступление, не каждый может себе его заказать. Тем, кто живет недалеко от реки, повезло – они за год могут пару раз услышать его. Я спросил, нет ли чего-то покруче «Восьми мастеров». Жена наставника рассмеялась:
– Есть
– И что же это?
– «Сто птиц летят к фениксу», – ответила она.
– А как это играют?
– Это сольное выступление! – благоговение читалось на лице жены наставника.
– Сольное? А кто с ним выступал? – в изумлении спросили мы с Лань Юем.
Ночной ветер пошевелил волосы жены наставника, выражение лица было похоже на историческую книгу, лишь через некоторое время она сказала:
– Естественно, ваш наставник!
5
Через три месяца я смог выдувать воду через трубку тростника в человеческий рост, но на сона я так и не играл. Наставник сказал мне, чтобы я помог его жене выпалывать траву на кукурузном поле. Лето в Тучжуане, казалось, было намного жарче, чем в Шуйчжуане, а еще у нас в это время было очень влажно. Работая на поле, я говорил жене наставника, что Тучжуан хуже Шуйчжуана, у нас в Шуйчжуане не так жарко, а она смеялась, а отсмеявшись, сказала: «Мальчик-бродяга скучает по дому!» Когда мы в обед возвращались домой, я видел, как Лань Юй, присев и расставив ноги, втягивает воду из реки. Он был очень талантлив, всего через месяц наставник дал ему тростниковую трубку длиной в человеческий рост. Мне на это потребовалось на целый месяц больше времени.
После ужина Лань Юй пошел мыть посуду, это была его обязанность с тех пор, как он тут поселился. Поначалу я обрадовался: не надо было самому этим заниматься. Но не прошло и двух месяцев, наставник сказал мне отправляться с его женой работать на поле. И уже через полдня я хотел снова мыть посуду. Лань Юй делал это как-то особенно звонко, я знаю, что это такое – трудно избежать стука пиалок друг об друга, однако звук никак не может быть таким громким. Даже чайник он брад с оглушительным шумом – он наклонялся и кряхтел, как будто в руках не чайник, а каменный жернов. Очень скоро Лань Юй вышел из кухни, встряхнул мокрыми руками и посмотрел на наставника с супругой, всем видом он показывал, что все, что нужно было, он уже сделал.
Лань Юй удостоился похвалы от жены наставника:
– Лань Юй более проворно и шустро моет посуду, чем Тяньмин, – чуть погодя добавила: – Быстро-то быстро, но не так чисто, как Тяньмин.
Лань Юй не просто много болтал, он делал это умело. Сидя между наставником и его женой, он рассказывал разные удивительные истории из жизни Тучжуана, супруга наставника от его историй весело смеялась, и даже каменное лицо наставника время от времени расслаблялось. Я не обладал таким даром речи, как Лань Юй, поэтому всегда скучал в сторонке, похоже, что жена наставника это заметила, потому что она спросила меня:
– Тяньмин, ты что, по дому скучаешь? Если да, так съезди домой! – говоря это, она всё смотрела на наставника, как будто спрашивая мнение мужа, так как в этом вопросе не она принимала решения.
Когда заговорили о доме, мои глаза запылали, я действительно скучал по дому, по родителям, двум сестренкам, они наверняка тоже думают обо мне.
Я не сводил глаз с наставника, лишь через какое-то время он сказал:
– Пораньше выедешь, пораньше вернешься.
Я вернулся в Шуйчжуан.
Раньше мне все не нравилось в Шуйчжуане, но лишь я ступил на его землю, тут же обнаружил, что все в Шуйчжуане прекрасно: горы выше, чем в Тучжуане, вода зеленее, и даже люди более привлекательны.
Когда я вошел в ворота своего дома, мать сидела на корточках под карнизом и рубила траву для свиней, отец стоял на лестнице, утепляя крышу соломой. Увидев меня, мать бросила все, что было в руках, кинулась ко мне, она гладила меня по голове и лицу, приговаривая:
– Тяньмин вернулся, исхудал.
Руки матери пахли травой, этот запах показался мне особенно ароматным. Как давно я не видел лицо матери, кажется, оно стало более черным, при взгляде на мать мой взор помутнел.
– Бэньшэн! Тяньмин вернулся! – крикнула мать отцу.
Отец не слез с лестницы, он нагнулся, взглянул на меня и продолжил свою работу.
– С тобой же все нормально, чего вернулся-то? – донесся голос отца с вершины лестницы.
– Наставник разрешил мне вернуться, – ответил я, вытянув шею.
– Чего? Вот же, мать твою, никак не лезет! – он с размаху швырнул вниз деревянные платины для затыкания щелей, несколько разбились при падении.
– С ребенком все в порядке, чего ты на него орешь?
– Все в порядке? В таком порядке, что наставник его выгнал? – отец спустился с лестницы и злобно ткнул в меня рукой. – Ты, ты, ты… – он словно выплевывал слова.
Вечером мама приготовила мне солонину, даже сестренкам не давала съесть больше, она все подкладывала лучшие кусочки в мою пиалку. За столом отец все так же смотерл на меня с ненавистью, как будто хотел проглотить живьем.
– Когда назад поедешь? – спросила мать, положив мне последний кусочек солонины.
– «Пораньше выедешь, пораньше вернешься», – так сказал учитель.
– Правда? – отец наклонил голову. Я кивнул в ответ. И только в этот момент Ю Бэньшэн из Шуйчжуана рассмеялся, да еще и легонько стукнул меня по затылку палочками. Я заметил, что палочки отца за все время ужина не дотронулись до мяса, тогда я свой последний кусок положил в пиалу отца, отчего тот засмеялся еще более радостно, сказав, что «такому почтению лучше покориться».
Взошла луна, обе сестрички заснули, я сидел с родителями во дворе и рассказывал им о жизни в Тучжуане.
– Пап, а ты знаешь, какие еще бывают способы игры на сона, кроме «Четырех мастеров» и «Восьми мастеров»? – спросил я отца.
Отец рассмеялся, взглянул на мать, и она тоже засмеялась.
– Неужели «Шестнадцать мастеров»? – сказала мать.
Я покачал головой:
– Вершина мастерства игры на сона – это сольное исполнение! Знаете, как называется?
В этот момент я заметил, что отец перестал улыбаться, его взгляд устремился на луну, на лице его застыло непонятное выражение. Лишь спустя долгое время он повернулся ко мне и спросил:
– Знаешь, почему я отдал тебя играть на сона?
Я отрицательно покачал головой.
– Именно затем, чтоб ты выучился играть «Сто птиц летят к фениксу».
Пораженный, я взволнованно сказал:
– Так ты тоже знаешь про «Сто птиц летят к фениксу»? – и добавил: – Не волнуйтесь! Я научусь, потом приеду и сыграю для вас!
– Это не так-то просто… У твоего наставника было не менее двадцати учеников, но ни один не смог научиться… – ответил отец.
– Это так сложно?
– Да, в общем, нет. Эта мелодия – секретное умение мастера сона, передается лишь одному ученику из всех, и это должен быть самый талантливый и порядочный человек. Это очень почетно! Мелодия эта играется лишь на похоронах того, о ком осталась только самая добрая слава, иначе он будет недостоин такой мелодии.
– Сможет ли наш Тяньмин выучить ее? – спросила мать.
Отец покачал головой и ушел к себе. Во дворике остались лишь мы с матерью, да ущербная луна на небе.
6
Только вернувшись в Тучжуан, я узнал, что Лань Юй уже смог выдувать воду из реки.
Преисполненный радости, он спросил меня, сколько времени у меня ушло на то, чтобы научиться выдувать воду через длинную тростниковую трубку. Загибая пальцы, я сосчитал:
– Чуть больше полутора месяцев.
– А у меня ушло всего десять дней, – гордо сказал Лань Юй.
На душе стало немного больно:
– Учитель же говорил, что ты более талантливый.
Лань Юй похлопал меня по плечу со словами:
– Ты тоже молодец!
Но я понял, что совсем я не молодец.
После того, как Лань Юй научился выдувать воду, он должен был, как и я, идти в поле работать, но всего через пару дней все изменилось.
Я отчетливо помню, что в тот день стоял сильный-пресильный туман, природа выглядела грозно, весь Тучжуан не было видно. Я еще не проснулся, как услышал пронзительный крик Лань Юя. Перевернувшись на другой бок, я попытался еще поспать. Лань Юй всегда вставал раньше меня, и даже раньше жены наставника, за что получил похвалу от наставника. Говоря по правде, мне хотелось бы вставать так же рано и получить похвалу, однако я никак не мог подняться, и, даже если, скрепя сердце, поднимался, то был словно в забытьи, и весь мир как будто вращался довольно долгое время. И впоследствии я не стал более решительным, и похвала не была нужна – если дадут хоть чуток поспать подольше, и то хвала Будде!
– Вставай! Скорее поднимайся! Тучжуан не видно! – Лань Юй вбежал в комнату и потряс меня.
– Угу, – пробормотал я, не обращая на него внимания.
– Тяньмин! Тучжуана нет!!! – он сгреб с меня одеяло.
Делать нечего, пришлось вставать, и лишь выйдя на улицу, я понял, что Тучжуан и правда не видно.
Это был самый сильный туман из всех, что я видел в своей жизни, небо и земля – все было скрыто. И даже стоявшего рядом Лань Юя не было видно. Перед глазами все было белым-бело, и еще в воздухе стояла влага. Я никогда не видел такого тумана, даже дышать было тяжело. Я подошел к Лань Юю, который пытался двумя руками поймать эту белизну, повисшую в воздухе, словно огромный паук, захваченный в плен своей же собственной сетью.
– Вы, оба, зайдите внутрь! – крикнул наставник.
Мы вернулись в комнату, наставник сказал:
– Из-за такого сильного тумана невозможно будет отправиться в поле, ну и хорошо, мне как раз надо с вами кое о чем поговорить.
Наставник извлек из-под кровати покрытый ржавыми пятнами жестяной ящик. Он открыл его, мы с Лань Юем подошли поближе, света не хватало, видно было лишь примерно, что лежит внутри – там были сона, большие и маленькие, длинные и короткие. Согнувшись, наставник перебирал инструменты в ящике, выбирал, присматривался, в итоге вытащил одну короткую сона, взял ее в рот и она тут же издала долгий звук – гудение. Выпрямившись, наставник передал ее стоявшему рядом со мной Лань Юю:
– С сегодняшнего дня тебе не надо больше ходить в поле, сосредоточься на игре на сона. Сначала научись выдувать звонкие звуки, а потом я научу тебя основным мелодиям.
Я не могу описать выражение лица Лань Юя в тот момент. Когда он взял сона, показалось, два ярких луча света пронзили сумрак комнаты, это были глаза Лань Юя. Я видел, как слегка подрагивали руки, державшие сона, потом он неловким движением положил ее в рот, надул щеки, сона издала сдавленный звук, он снова надул щеки, и снова раздался сдавленный звук.
Я думал, что теперь учитель даст и мне сона, может даже и подлиннее, побольше, чем у Лань Юя. Я, не отрываясь, смотрел на руки учителя, надеясь, что он возьмет длинную сона, испытает ее и передаст мне. Но я не буду так нерешителен, как Лань Юй, не буду играть при всех, а найду место, где никого не будет, и попытаюсь поиграть.
Учитель действительно достал сразу несколько сона, вытащил одну, поиграл на ней, затем, засучив рукава, протер ее и положил на место, затем вынул другую, также поиграл на ней и убрал. Я во все глаза смотрел на него, надеясь, что следующая сона предназначается мне. Увидев короткую, я пугался, что это для меня, мне хотелось сона длинее, чем у Лань Юя. Но чем меньше становилось сона на дне ящика, тем более тяжело становилось на сердце. Я подумал, что и короткая сойдет, любую возьму.
«Хлоп!» – наставник захлопнул крышку ящика.
Я не сыграл на сона. Вечером я сказал Лань Юю, что хочу вернуться домой. Тот ответил:
– Ты же только что ездил домой!
– Я не хочу учиться играть на сона. Я только сегодня понял, что не понравился наставнику.
Лето в Тучжуане было не таким красивым, как в Шуйчжуане, однако осенью тут всегда было красиво. Хотя горы в Тучжуане мелковаты, однако они покрыты деревьями разных видов, вечнозеленые сосны и клены с опадающими листьями переплетались между собой. Летом все было одинаково зеленым, а вот осенью клены словно напивались вина. И этот ряд гор, в котором красное перемежалось с зеленым, уходил вдаль, словно ожившее многоточие. С сумкой на спине я шел вдоль этого многоточия, шел и плакал, горе мое было велико. В Тучжуане дни так и тянулись, на сона я не научился играть, а вместо этого стал батраком в семье наставника Цзяо. Потом я подумал о том, что жители Шуйчжуана, конечно, посмеются надо мной, если я вернусь туда, так и не дотронувшись до сона. А больше всего беспокойства вызывал отец, я не боялся, что он побьет меня, а волновался, как бы его удар не хватил от злости.
Я хотел тайком сбежать – с того самого дня, когда Тучжуан пропал из виду. Вчера вечером мой друг Лань Юй залез ко мне на кровать и начал играть на сона, искоса поглядывая на меня, уголки его глаз самодовольно поднялись вверх. Я понимал, что это он выделывается передо мной, но не испытывал к нему враждебных чувств, потому что повел бы себя точно так же на его месте. Голова у Лань Юя была большая, поэтому он был очень умный, он уже мог сыграть траурные мелодии, которым его обучил наставник, так, что у меня увлажнились глаза. В самом интересном месте он остановился и объяснил, что это называется портаменто, то есть «долгая нота». Я каждый день ходил работать в поле с женой наставника, он приходил туда, где я работал, закапывался в стог сена и начинал играть. По пути к дому у меня болело все тело, даже покачивался от усталости при ходьбе, а Лань Юй скакал и прыгал, свежий, словно зеленая трава, покрытая утренней росой.
Я ушел. Никто не знал, что я ухожу. В этот момент Лань Юй бормотал что-то во сне, сжимая при этом свою сона. Я поначалу хотел с ним попрощаться, но испугался, что он своими криками разбудит наставника с женой. Выйдя из дома, я обнаружил, что еще не рассвело, вокруг стояла темнота, от которой сжималось сердце. Я на ощупь сел на крыльце под карнизом и подумал о своей жизни в Тучжуане, о наставнике и его жене. Жена наставника была хорошим человеком, похожа на мою мать, в поле она не давала мне много работать, во время еды всегда подкладывала мне кусочки. Больше всего я не был привязан к наставнику и даже про себя придумал ему прозвище – Головешка Цзяо. В нем не было ничего хорошего, целыми днями он молчал с каменным лицом, да еще и на сона не дал мне поиграть. В результате раздумий в душе смешались разные чувства, горло сжалось, и я тихонько заплакал. Плакал я, пока небо не начало проясняться и стало видно дорогу домой. Только тогда я поднялся и отправился в путь. Пройдя немного, я обернулся, и слезы снова закапали из глаз.
Настал момент уходить из Тучжуана. Больше всего на свете я боялся, что не смогу стать мастером игры на сона. Вспомнилось, как я заявил родителям, что обязательно научусь играть мелодию «Сто птиц летят к фениксу». Но в нынешней ситуации даже и речи об этом не могло быть, я даже простой траурной мелодии не освоил. Мне казалось, что больше всего я провинился перед Ю Бэнынэном из Шуй-чжуана. Он с чистым сердцем послал сына учиться играть на сона, а тот, проучившись полгода, не получил даже возможности извлечь сдавленный звук из инструмента, если об этом узнают в Шуйчжуане, у людей зубы от хохота повыпадают. Я снова впал в тоску, но свое намерение вернуться домой не оставил, ведь все равно рано или поздно я, не солоно хлебавши, вернусь домой, так лучше пусть это произойдет раньше, так хоть смогу дома помогать по хозяйству.
Шуйчжуан возник на горизонте, где земля сливается с небом, спокойный, словно спящий ребенок. За поворотом уже была земля Шуй-чжуана. Узкая дорога, извиваясь, шла под уклон, она походила на вырезанную и брошенную на горном склоне кишку курицы. По обеим сторонам росли кустарники пираканты, их ветви буйно разрослись и нависали над дорогой, недовольные своей участью. Из-за этого путь стал таким узким, что его практически не было видно.
Завернув за угол, я услышал голоса за пригорком. Я приподнялся на цыпочках и увидел, что это старый дядюшка Чжуан вместе с целой толпой людей затыкает соломой щели в крыше своего нового дома. Среди них был и мой отец, Ю Бэньшэн из Шуйчжуана. Я потихонечку пробрался сквозь заросли пираканты и затаился в траве.
– Тяньмин давно не был дома? – спросил дядушка Чжуан отца.
– Так он играет! Столько мелодий уже выучил! – громко ответил отец.
– А я и не думал раньше, что из Тяньмина выйдет мастер игры на сона! – снова сказал Чжуан.
– Тяньмин умнее меня, вы не смотрите, что он обычно помалкивает, как возьмется за дело – так все здорово получается, – ответил отец. – Недавно приезжал домой, так заявил мне и матери, что обязательно научится играть «Сто птиц летят к фениксу»!
Дядюшка Чжуан засмеялся, он понимал, что отец хвастается:
– «Сто птиц летят к фениксу»! «Сто птиц летят к фениксу»! Я и то столько лет не слыхал эту мелодию – последний раз это было лет десять назад. Тогда умер учитель Сяо из Хочжуана и наставник Цзяо играл на похоронах. До сих пор помню тот день: родственники и ученики стояли на коленях во дворе, сливаясь в одну черную массу, наставник Цзяо сидел в кресле возле гроба и сосредоточенно играл эту мелодию! Картинка прямо стоит перед глазами.
– Когда Тяньмин вернется, я попрошу его сыграть для вас, – пообещал отец.
– Тогда это принесет славу и нам, и Бэньшэну, только я боюсь, что Тяньмину так не повезет, ведь эту мелодию передают лишь одному из учеников из всех, – сказал дядюшка Чжуан.
– Вы можете не верить в него, а я верю в своего сына! – ответил отец.
Словно змея я вылез из травы, домой возвращаться не хотелось, мне захотелось играть на сона – впервые за все это время у меня возникло такое желание.
По той же тропе я поднялся на вершину горы и, обернувшись, посмотрел на Шуйчжуан. И вблизи и издалека был виден слабый дымок, поднимавшийся от крыш домов, Шуйчжуан проснулся.
Когда я вернулся в Тучжуан, наставник сидел во дворике и точил нож. Увидев, что я с потерянным видом стою под глинобитной стеной, сказал:
– Жена пошла на поле, иди к ней!
7
Наставник вручил мне сона. Это был небольшой инструмент, мундштук был выполнен из тростника, втулка – из меди, а все остальное – из сального дерева. Медная часть была покрыта пятнами. Я гладил ее, эта сона была меньше, чем у Лань Юя, но я был доволен – наконец-то я мог играть на ней! Я изо всех сил ущипнул себя за ногу – больно!
– Это – сона, которую в свое время мне дал наставник, моя сона, – пояснил наставник, сидя на корточках во дворе и раскуривая трубку. – Ты не смотри, что она маленькая, однако ноты берет высокие. С сона всегда так, чем выше ноты, тем мельче инструмент, – добавил он, выпуская дым.
Я кивнул, фигура наставника, стоявшего у ворот, постепенно становилась расплывчатой.
Наступила зима, в Мучжуане было шумно. Мы с Лань Юем мешали всем целыми днями. У реки, на сеновале, у камней, что на востоке деревни – везде были слышны ужасные звуки сона. В основном, это были звуки моей сона, Лань Юй уже играл довольно благозвучно. Когда он играл, проходившие мимо жители деревни останавливались, прислушивались, а потом кричали:
– У наставника Цзяо появился преемник!
Ко мне относились по-другому – заслышав звуки моей сона, сельчане стремились поскорее унести ноги, а я и Лань Юй смеялись им вслед.
Наставник был скуп, того, чему он учил нас, было до ничтожности мало. Он требовал, чтобы каждую мелодию я играл десять дней.
У команды Цзяо появился новый заказ. Накануне отъезда все участники собрались вокруг очага. На деревянном столе все так же были чай из падуба и жареные соевые бобы. Мы с Лань Юем сидели вместе со всеми, обнимая свои сона, в жилах бурлила кровь. Мы наконец стали частью команды. Возможно, вскоре мы сможем отправиться с наставником и его учениками далеко-далеко. После репетиции старший брат сказал:
– Оба младших брата уже здесь давно, пора бы и им показать себя.
Я слегка испугался, ведь играл я еще плохо, поэтому придумал отговорку:
– Пусть младший брат первым сыграет!
Лань Юй не стал отказываться, по всем правилам он сначала встряхнул рукавами, взял сона обеими руками, поднял ее и медленно взял мундштук в рот, словно уже опытный мастер сона. Играл Лань Юй, и правда, очень хорошо, почти не отличимо от других учеников наставника, как мне казалось. Он играл веселую мелодию, которая легко разлеталась по комнате, его голова раскачивалась в такт музыке, комната наполнилась веселым настроением. Когда Лань Юй закончил, старший брат погладил его по голове, повторяя:
– Потрясающе! Потрясающе!
Все остальные ученики тоже хвалили Лань Юя, и только наставник молчал, затягиваясь табаком.
После выступления Лянь Юя все в комнате уставились на меня, сердце забилось, а руки, державшие сона, вспотели. Второй старший брат кивнул мне, и я понял, что это он подбадривает меня. Дрожа, я вставил мундштук в рот и сдержанно выдал портаменто и вибрато, затем наклонил голову:
– Это все, что я умею.
В комнате воцарилась тишина, только подрагивал свет лампы. Старшие ученики торжественно и с почтением взирали на наставника, который по-прежнему курил, низко опустив голову. Лишь спустя какое-то время второй брат сказал, обращаясь к нему:
– Поздравляю вас, наставник!
Наставник затушил трубку, постучав ею по ножке скамьи:
– Ладно, сегодня на этом закончим. Расходитесь! Завтра предстоит дальняя дорога!
Я не понял, почему второй брат начал поздравлять наставника, играл ведь я плохо, за такое длительное время выучил лишь базовые мелодии, и наставник с безжалостным видом каждый день заставлял меня их исполнять.
Эти несколько мелодий я играл всю зиму.
Наконец настала пора первого снега, он зрел несколько дней и лишь прошлой ночью наконец выпал. Посреди ночи мы с Лань Юем услышали, как снежинки скользят за окном. Заснуть мы уже не могли, но не из-за этого снега. Ночью, широко раскрыв глаза, мы ожидали волнующую минуту, которая нас ожидала утром, когда рассветет. Накануне вечером, когда вся команда, сидя у очага, закончила играть последнюю мелодию, наставник сказал:
– Тяньмин и Лань Юй, завтра поедете с нами!
Лань Юй открыл окно и сказал мне:
– Снег выпал. Интересно, а у нас, в Мучжуане, тоже выпал снег?
Я ответил:
– У нас, в Шуйчжуане, точно идет снег. Каждый год в это время много снега, летает по всему небу, вся деревня в нем утопает.
Я встал рано, наспех умыл лицо, осторожно упаковал сона. Мешок для сона сшила мне жена наставника из синей ткани в цветочек. Сона как раз туда помещалась, можно было уложить как следует. У Лань Юя тоже был мешок для сона – из темно-синей хлопчатой ткани. Я лишь потом узнал, что материалом для него послужили штаны наставника, но так и не рассказал Лань Юю об этом. А еще позже я обнаружил, что мой собственный мешок сшит из трусов жены наставника.
Сегодня мы должны были идти играть на похоронах. Только я успел упаковать инструмент, как за нами прибыли встречающие. Это были два молодых человека, ненамного старше нас с Лань Юем, над губами у них только начал пробиваться пушок. У каждого за плечами была корзина, они боязливо стояли посреди двора. У нас в Несравненном поселке так было заведено – если приглашали мастеров сона, то обязательно надо было послать людей встречать их, чтобы помочь мастерам донести инструменты, а потом после выполнения заказа – отвезти их назад.
Вскоре подошли семеро старших учеников, Судя по всему, заказчик пригласил «Восемь мастеров»: семь учеников плюс наставник – как раз восемь человек. Естественно, мы с Лань Юем еще не могли принимать участие в исполнении. На самом деле, Лань Юй мог бы, но наставник сказал:
– Сначала поиграй отрывок вместе с нами, а потом посмотрим.
Сопровождающие проворно положили гонги и барабаны в корзины на спине и увидели, что я и Лань Юй все еще прижимаем к груди наши сона, они протянули руки со словами:
– Кладите сверху!
Я не отдал инструмент:
– Сам понесу! Он не тяжелый!
Сопровождающие запротестовали:
– Где это видано, чтобы мастер сона сам нес вещи! У нас в Цзинь-чжуане нет такого правила, да и во всем Несравненном поселке нет!
Я уже собирался ответить вежливым отказом, как стоявший в стороне наставник сказал:
– Отдай им, надо следовать правилам.
Фамилия заказчика была Чжа, почти все в горах вокруг Цзинь-чжуана имели эту же фамилию.
Нас проводили в отдельную тесную комнату с двумя жаровнями. Мы не успели присесть, как наставник сказал:
– Берем инструменты и начинаем работу!
Договорив, он вышел во двор.
Наконец-таки я увидел собственными глазами настоящее выступление «Восьми мастеров». Члены команды расселись веером, наставник находился в центре, он окинул взором стоявших вокруг людей, люди поняли намек и воцарилась нужная атмосфера. Зазвучал гонг, команда наставника Цзяо начала свое торжественное представление в деревне Цзиньчжуан. То, что я услышал сейчас, разительно отличалось от вчерашней репетиции, наставник и его ученики вкладывали всю душу в исполнение. Звуки сона разливались по бескрайнему пространству между небом и землей. Сначала шло мощное исполнение в унисон, мрачное и печальное, затем – соло наставника, я впервые слышал, как он играет, музыка, наполнявшая людей скорбью, безостановочно лилась из его сона: в ней было отчаяние перед смертью, замешательство человека, потерявшего близкого и не понимающего, в каком направлении двигаться теперь, вздохи и плач одиночества. В особенности этот плач – он выходил как наяву. Налетел порыв ветра, он пошевелил траурный флаг, висевший во дворе, и унес плачущий звук инструмента наставника, мир вокруг вдруг наполнился холодом.
Подошли трудившиеся во дворе люди, все они молчали, взгляды были прикованы к сона наставника. Послышался нарастающий плач – это были сыновья покойного. Вскоре плач стал громоподобным, словно скорбь передавалась как зараза, расползаясь по двору. Все – и знавшие покойного, и чужие ему люди – все рыдали из-за музыки сона наставника.
Закончилась мелодия, наставнику поднесли пиалу горячей китайской водки со словами:
– Наставник Цзяо, вы устали, промочите горло!
Подали ужин, и в этот момент подошел заказчик. Сначала со слезами на глазах он отвесил земной поклон наставнику:
– В этот холодный, снежный день вы смогли прийти проводить моего отца, я благодарен вам! При жизни он был главой клана Чжа, высоконравственным и известным человеком, – сказал заказчик, поднимаясь.
Наставник кивнул.
– Он столько хорошего сделал, что и не сосчитать, – продолжал заказчик.
Наставник снова кивнул.
– Наставник Цзяо, не могли бы вы сыграть «Сто птиц летят к Фениксу»? – заказчик вытянул голову в сторону наставника.
Тот покачал головой.
– Деньги не проблема!
Наставник опять покачал головой.
Заказчик еще долго приставал с просьбой, но наставник только молчал и качал головой, поэтому тому ничего не оставалось, как со вздохом уйти. Уже у двери он, в последней попытке, обернулся:
– Моему отцу правда нет такой удачи?
Наставник поднял голову:
– Идите, займитесь делами!
Заказчик вышел, а второй брат спросил наставника:
– Наставник, старый господин Чжа был человеком высоконравственным и известным!
Тот хмыкнул в ответ:
– А ты знаешь, почему фамилия Чжа самая часто встречающаяся в Цзиньчжуане? Все, у кого была другая фамилия, уже давно покинули Цзиньчжуан, переселившись в другие села Несравненного поселка, и это – «заслуга» старого господина Чжа!
Следующие несколько дней мы с Лань Юем были словно в раю. Каждая трапеза была с мясом, кроме того мы еще тайком попробовали китайскую водку, а когда команда Цзяо во дворе играла мелодии, мы курили, укрывшись в комнате. Табак нам дали родственники заказчика. Поначалу мы отказывались, но они настояли на своем.
В день отъезда сыновья заказчика проводили команду Цзяо довольно далеко, а в конце один из них всучил наставнику пачку денег, тот отказывался, и они, стоя на мостике, несколько раз передавали деньги туда-сюда, и в итоге наставник неохотно принял их.
Другие ученики стояли у моста, глядя на них с вялым интересом, ведь таких сцен они уже навидались вдоволь.
8
Пришла весна.
Весна в деревне связана тысячами нитей с ритуалами. Например, в Несравненном поселке сразу, как только она наступала, праздновали День поклонения злакам, накануне посева и стар и мал в каждой деревне брали предметы для жертвоприношений и отправлялись на самое большое рисовое поле для подношений Духу Злаков. Вскоре после этого праздника следовал День поклонения Богу домашнего очага – Цзаовану, во время которого не обходилось без свиных голов, а еще каши из чумизы, ведь как говорят старики, на небе нет такой каши, поэтому именно она привлекает и удерживает Бога домашнего очага Цзаована. После этого празднования наступает День засушенных растений, когда поклоняются Господину Солнцу и Богине цветов, а так как их двое, то и подношений должно быть немало – мед, рис, засушеные хризантемы, а еще – круглые кукурузные лепешки. Солнце еще не взошло, а сельчане уже разложили все вещи в надлежащем порядке в направлении восхода. Когда кроваво-красное солнце появляется над горизонтом, все дружно кланяются до земли, говорят добрые слова, а так как крестьяне не алчные, то просят хорошего урожая.
После Дня засушенных растений в Тучжуане снова наступало оживление, люди приходили во двор наставника Цзяо один за другим, словно бутоны цветов на ветке софоры, они приносили скамьи, двигали столы. Люди, встречая праздношатающегося прохожего, звали его:
– У наставника Цзяо пройдет церемония «Передачи мелодии»!
Лицо прохожего оживало, он сразу же вливался в толпу и отправлялся во двор к наставнику.
Жители Тучжуана уже давно ожидали это торжественное событие.
У каждого поколения команд мастеров сона в Несравненном поселке был свой руководитель. Передача этого звания сопровождалась определенной церемонией, которая называлась «Передача мелодии». И передавали не что иное, как мелодию «Сто птиц летят к Фениксу», которую мало кому в поселке удавалось услышать. Ученик, которому «передавалась мелодия», с этого момента становился независимым, мог сам набирать учеников и к тому же получал собственное имя – например, если его фамилия была Чжан, то набранная им команда называлась «Команда наставника Чжана», если фамилия была Ван, то – «команда наставника Вана». Одним словом, это было не просто мастерство, но и слава, практически это имя обозначало сочетание высоких человеческих качеств и квалификации мастера сона. Каждая из пяти деревень, входящих в состав Несравненного поселка, гордилась такими людьми.
Эта церемония привлекала внимание не только тем, что была редка, а еще своей таинственностью. До начала церемонии никто не знал, кто станет следующим руководителем команды мастеров сона. Поэтому все ученики команды наставника Цзяо должны были принимать в ней участие, и даже их родственники съезжались отовсюду, так как любой мог стать следующим руководителем.
Людей собралось так много, что все не уместились во дворе дома наставника, поэтому даже ветви деревьев были увешаны желающими посмотреть. Я и другие ученики сидели в самом центре двора, по бокам расположились наши родственники, приехали мои родители и обе сестры; мой друг Лань Юй сидел рядом, его родственники прибыли раньше моих. Их лица светились плохо скрываемой надеждой и возбуждением.
Под карнизом стоял стол на восемь человек, а под ним – только что забитый поросенок. В данный момент это было подношение, а после окончания церемонии он станет частью пира. Перед свиной головой была установлена жаровня, в которой все еще горели поминальные деньги. Наставник сидел позади стола. Он непрерывно курил, его табак был особенный – листья были высушены до такой степени, что дым получался чрезвычайно густым. Вскоре его лица не стало видно, и даже половина тела скрылась за завесой дыма, он был похож на божество, шагающее по облакам, – такая у меня вдруг появилась смутная ассоциация.
Прошло много времени, и он наконец поднялся, спокойно затушил трубку, повернулся лицом к толпе, вытянул руки и сделал движение, как будто что-то придавливал книзу, только что шумевшие люди мгновенно успокоились. Плюнув на землю, наставник начал говорить:
– Я скоро уже не смогу играть, но в нашем далеком горном уголке должен быть наставник игры на сона! Вы много трудитесь, устаете, а услышав сона, можете восстановить свои силы. Поэтому в нашей местности традиции сона не должны прерываться! Я очень долго размышлял о том, что следует найти того, кто сможет продолжить играть вместо меня, – наставник прокашлялся и замолчал, снизу снова раздался шум.
В этот момент я тайком скосил глаза на Лань Юя и обнаружил, что он тоже исподтишка смотрит на меня, в уголках его глаз таилась улыбка. Так мы переглядывались, и я покраснел, будто мой секрет раскрыли. Лань Юй же не краснел, он еще выше поднял голову, словно петух, только что одержавший победу. В душе зародилось неприятное чувство, я подумал, что ведь еще не видно дна, как можно заранее знать, есть ли там камни. После некоторых раздумий я пришел к выводу, что из всех учеников Лань Юй подходит больше всего, он сообразительный, талантливый и трудолюбивый. Как бы там ни было, я совсем не удивлюсь, если бы выбрали его. А потом пожалел других учеников, почему бы наставнику не передавать мелодию всем? Так было бы справедливо, всем бы досталось – каждый смог бы научиться играть «Сто птиц летят к Фениксу». «Команда Цзяо», «Команда Лань», «Команда Ю» – разве не здорово звучит?
Наставник снова заговорил:
– За эти годы у меня было немало учеников, взрослых и молодых, у всех были некоторые успехи, все занимались с энергией и старанием, не посрамили имя мастеров сона, – помолчав, он продолжил: – Игра на сона, так или иначе, это своего рода мастерство, а раз это мастерство, то на мне лежит ответственность по его передаче дальше, поэтому, человек, которого я искал, неважно, насколько хорошо играет, важно, пробирает ли его музыка до мозга костей, так как только такой мастер будет, не щадя своей жизни, сохранять и поддерживать мастерство игры на сона.
Наставник снова прокашлялся, а затем кивнул стоявшей рядом супруге. Та подошла и подала ему черный шелковый мешок. Наставник взял мешок и со всей осторожностью вынул из него сона. Даже издалека мне стало видно, что это очень старый инструмент. Хотя медная часть ослепительно сверкала, однако она была тонкой, словно крылья цикады. Основная деревянная часть была из желтого дерева, хотя обычно она белого цвета. Желтое дерево – лучший материал: когда сона такого цвета, сразу видна ее редкость. Сельчанам обычно нечасто выпадала возможность увидеть такой редкий инструмент.
– Эту сона передал мне мой наставник, ею уже владели пять-шесть поколений мастеров сона, на ней играют только одну мелодию, а именно, «Сто птиц летят к Фениксу». Сегодня я передаю ее и надеюсь, что мастер сона в нашем Несравненном поселке также будет передавать ее из поколения в поколение, – говорил наставник, высоко подняв сона.
Во дворе стояла мертвая тишина, я слышал, как тяжело дышит Лань Юй, все взгляды были устремлены на инструмент в руках наставника. Я уверен, что этот момент был самым торжественным в Тучжуане, и в полной тишине эта торжественность казалась еще более густой, в итоге я слышал лишь собственное дыхание.
Я скосился на Лань Юя, он втянул шею, голова его походила на бутон, но постепенно шея выпрямилась, и он стал похож на распустившийся цветок, ожидающий дождь и росу, беспокойство и жажда подрагивали на нежных лепестках. Вдруг распустившийся цветок завял, практически в мгновение ока цветок, что расцвел на ветру, беззвучно осыпался, лепестки превратились в прах, стебель сломался посередине. Этот только что полный жизни цветок в одно мгновение обрел цвет отчаяния. Печаль поднялась в моем сердце – мой друг Лань Юй так быстро увял прямо на глазах! Его взгляд медленно обратился ко мне, я понимал его чувства – неверие, невозможность смириться, отчаяние и еще ненависть. Однако ее было мало, она была слабая, словно маленькая звездочка.
В этот момент мой отец, Ю Бэньшэн из Шуйчжуана, крикнул мне:
– Чего застыл? Наставник к тебе обращается!
Голос отца, словно реквизит фокусника, был полон неожиданности и восторга.
9
Лань Юй ушел, укутанный яркой утренней зарей, туда, где всходило солнце. Я стоял на земляном укреплении Тучжуана и смотрел, как его силуэт становится все бледнее. И завтра взойдет солнце, но Лань Юя я уже не увижу. И его появление в моей жизни, и уход из нее были внезапными. Словно дождливый день, он появился передо мной, и теперь, словно яркий закат, обязательно должен был уйти.
Ужин вчера был обильный, был картофельный суп, который лучше всего удавался жене наставника, она добавляла в него помидоры, которые в Несравненном поселке назывались по-другому – томаты-черри, это был особый сорт мелких помидоров, напоминавших вишенки. Жена наставника смешивала вместе мелко порезанные томаты и картофель, потом добавляла пол-ложки топленого свиного сала, цвет получался кроваво-красный, и на вкус суп был кислым, возбуждал аппетит. Еще была холодная закуска – блюдо из мари белой, особо любимая Лань Юем. У себя в Шуйчжуане я никогда не видел такого растения, Лань Юй говорил, что и у них в Мучжуане оно тоже не росло. Мягчайшее блюдо из мари на мгновение опускалось в воду, высушивалось и было готово, более того оно неожиданно приобретало вкус мяса.
За столом жена наставника постоянно подкладывала кусочки в пиалу Лань Юя, почти вся марь досталась ему, он был доволен и все время строил мне гримасы, да еще и издавал громкие звуки. Наставник ел тихо, все его движения были осторожны, за столом вы бы не заметили его присутствия. Только когда он положил марь в пиалу Лань Юя, тогда я заметил, что и он находится рядом. Этот его жест заставил нас с Лань Юем открыть рты от неожиданности. Следует знать, что в семье Цзяо глава семьи не имел привычки накладывать кому-либо еду, он обычно безмолвно сидел за столом, занятый своим делом. Он и говорил-то мало, что уж говорить о подкладывании еды в чужие пиалки. Когда приходили гости, он говорил лишь пару слов: когда подавали еду на стол, он произносил: «Приступим!», и когда гость опускал свою пиалку: «Наелся!» Увидев наше с Лань Юем изумление, наставник сказал Лань Юю:
– Ешь побольше, такая марь есть только у нас в Тучжуане.
Внезапно у меня появилось нехорошее предчувствие, которое, в итоге, получило подтверждение после ужина.
Наставник все так же курил, сидя у керосиновой лампы, Лань Юй сидел перед ним.
– Перед сном собери все вещи, а завтра утром возвращайся в свою деревню! – сказал наставник Лань Юю.
Лань Юй, низко опустив голову, ковырял ногти и молчал.
– Свадьбы, похороны – почти со всем ты сможешь справиться, – снова заговорил наставник.
– Наставник, я что-то сделал не так? – спросил Лань Юй.
– Нет, все так, ты – самый толковый из моих учеников.
– Так почему вы прогоняете меня? – Лань Юй наконец заплакал.
– Наши пути здесь расходятся, – вздохнул наставник.
– Лань Юй, не плачь, если будет время – приезжай в Тучжуан, я тебе приготовлю твою любимую марь, – с глазами, полными слез, произнесла жена наставника.
– Я же играю лучше Тяньмина, почему он может сыграть «Сто птиц летят к Фениксу», а я нет? – стиснув зубы, возмущался Лань Юй, он так сильно ковырнул ноготь на среднем пальце левой луки, что пошла кровь.
Глаза наставника сверкнули и вновь погасли. Он встал, похлопал себя по заду, трубка висела у него в уголке рта. Заложив руки за спину, он повернулся и уже у двери вынул трубку и, обернувшись, произнес:
– Пора спать, завтра еще много дел! – казалось, что он обращается к жене, но в то же время и ко всем остальным, кто был в комнате.
Уже в кровати я собирался о многом поговорить с Лань Юем, но не знал, что сказать. До самого утра мы не проронили ни слова. После окончания церемонии в доме наставника Цзяо Лань Юй еще долго горевал. Вскоре он, помедлив, сказал мне, что если бы у него была возможность подольше побыть с наставником, то он точно смог бы сыграть «Сто птиц летят к Фениксу». Я верил ему, я понимал, что наставник передал эту мелодию мне потому, что я искренний, а Лань Юй слишком хитрый. На самом деле наставник был неправ, Лань Юй более талантлив, и он действительно сообразительней меня, что плохого в сообразительности? Я от чистого сердца надеялся, что наставник передаст мелодию «Сто птиц летят к Фениксу» Лань Юю, я ему так и сказал, но Лань Юй не поверил и даже сказал, что я издеваюсь над ним.
А сейчас наставник прогонял его, и последняя его надежда разрушилась!
Когда Лань Юй уходил, он никак не мог найти наставника – весь дом обыскал, но того нигде не была. Жена сказала, что тот точно ушел в поле работать. Тогда Лань Юй во дворе отвесил жене наставника шесть земных поклонов со словами:
– Я вам кланяюсь шесть раз, вам с наставником каждому по три поклона.
Жена наставника помогла Лань Юю подняться, из глаз ее катились слезы. Взвалив на спину узел с вещами, Лань Юй ушел, повернувшись ко мне осунувшейся спиной.
Когда Лань Юй скрылся из виду, из-за стога сена, что стоял позади дома, вышел наставник. Я обернулся, взглянул на него, и он сказал:
– С сегодняшнего дня я буду учить тебя играть «Сто птиц летят к Фениксу»!
10
Я уже и забыл, в каком году была создана команда Ю. Кажется, что мне тогда было девятнадцать лет, а может быть двадцать? Я часто пытался по вечерам найти ключ к разгадке времени создания моей команды мастеров сона. Те воспоминания, что приходили по ночам, словно сученая шелковая нить, в большинстве случаев не имели отношения к моей команде, какие-то совершенно незначительные вещи упорно выплывали из щелей памяти, и никак их было не прервать.
Больше всего запомнилось, как моя двоюродная сестра Ю Сючжи сбежала со своим возлюбленным. Сючжи, дочь моего четвертого дядюшки, была честной деревенской девушкой с вечно красным лицом. При виде незнакомца она краснела еще больше. Ничто не предвещало того, что она может покинуть Шуйчжуан, в котором родилась и выросла. Тем обычным утром мой четвертый дядя обнаружил, что дочь пропала. Вся семья в панике безуспешно искала ее целый день, пока какой-то человек не сказал дяде, что рано на рассвете видел, как Сючжи и Чжао Шуйшэн переходят через гору, что находилась за Шуйчжуаном. Чжао Шуйшэн был сыном Чжао Лаоба, он только вырос из детских штанишек и сразу уехал с отцом в дальние края, говорят, что в большой город. А Сючжи сидела в школе с ним за одной партой, многого от него натерпелась – я даже один раз избил это отродье в отместку за ее обиды.
Нет никаких сомнений, что он обманом увел ее.
Четвертая тетушка постоянно плакала, она рассказала, что этот Чжао в последние дни прибегал к ним в дом, и они запирались с Сючжи и о чем-то шушукались, чувствовалось, что что-то происходит. Потом тетушка принялась ругать этого Чжао, а потом и свою дочь. А дядя каждый день с самым свирепым видом неоднократно обещал, что заживо четвертует Чжао. Лишь через год ситуация повернулась к лучшему. Пришло письмо от Сючжи, в котором она писала, что у нее все хорошо, она работает в Шэньчжэне на фабрике по производству кожаной обуви, хорошо зарабатывает, да еще и фото прислала, фоном для которого был огромный водоем – даже больше, чем дамба в Шуй-чжуане. Только потом мы узнали, что это был не водоем, а море.
Мне кажется странным, почему вспоминаются вещи, никак не связанные с командой Ю. Я надолго погрузился в самобичевание из-за этого и попытался воспоминаниями ослабить это беспокойство. Однако перебирание нитей, связанных с моей командой, подтолкнуло меня к новому кризису, ведь в этих воспоминаниях не было ничего светлого, наоборот, они, словно стена, которая рушится с диким грохотом, погребли под собой и меня, и мои сны.
Не помню, спустя четыре года или пять лет наставник передал свою команду мне.
В тот день он сказал собравшимся в комнате братьям:
– Начиная с сегодняшнего дня, в Несравненном поселке больше нет команды Цзяо, есть только команда Ю.
Все взоры обратились ко мне. Я растерялся, чувствуя замешательство. Их глаза улыбались, были полны доброты и тепла. Однако я испытывал страх. Я не понимал, что делать, смогу ли? Я знал лишь то, что эти люди теперь должны жить под моими слабым, детским крылом. Я вспомнил, как в 6–7 лет пас скот, отец доверил мне семь или восемь коз со словами:
– Хорошенько присматривай за ними! Хоть одну потеряешь – даже и не думай просить есть!
Больше всего я боялся, что горные козы разбегутся, куда глаза глядят, поэтому надеялся, что они собьются в стадо. По дороге я с козами все обсудил, но как только мы вышли на склон, они позабыли все правила, глядя лишь на густорастущую траву. Где росла трава, туда они и мчались, у меня перед глазами зарябило – они напоминали разбросанные белые зерна. А по возвращении домой этого белого зерна стало еще меньше. Я не мог придумать ничего лучше, как зарыдать.
А в это время мужчина по имени Ю Бэньшэн, взвалив на плечи две корзины, мчался по горной дороге и повторял каждому, кого встречал на своем пути: «Тяньмин принял эстафету! Теперь в Несравненном поселке мастера сона будут входить в команду Ю!» Кроме гордости в этой фразе чувствовалось и самодовольство предсказателя, чье пророчество сбылось.
То, что я внезапно начал руководить собственной группой, стало для меня церемонией взросления, с того дня Шуйчжуан лишился привычной теплоты, каждая травинка и деревце – все дышало холодом, а камни стали острыми, режущими.
11
Первым заказчиком команды Ю стал Мао Чаншэн из Шуйчжуана.
Заказ делал его племянник. Войдя во двор, он тут же протянул отцу сигареты, которые тот затянул со счастливым выражением лица. Ведь это был первый раз, строго говоря, когда его сын, мастер сона, принес ему реальную выгоду, ощущения, естественно, были необычные.
Когда я вышел из комнаты, отец крикнул:
– Восемь мастеров!
– Ведь ты знаешь, кто мой дядя? Что говорить о Восьми мастерах, и Шестнадцать не проблема! – произнес заказчик.
Отец скосил глаза на племянника Мао Чаншэна:
– Твою… мать! Разве ж бывают Шестнадцать мастеров?!
Заказчик скривил губы:
– Разве не Тяньмин теперь главный? Он может сам создать! Что говорить о Шестнадцати мастерах, он за раз создаст команду и из восьмидесяти одного!
В этот раз отец рассмеялся, радостно затянулся, затем вскочил с низенькой, длинной деревянной скамейки:
– И то верно!
Я назвал имена наставника и нескольких других учеников, племянник Мао Чаншэна поскакал извещать их, напоследок оставив отцу еще одну сигарету. Приняв ее, отец сказал:
– Ты, сын черепахи, иди быстрее, вечером еще надо порепетировать!
Пришли все ученики, но наставник и Лань Юй не явились. Заказчик сказал, что он уговаривал и так, и эдак, аж во рту пересохло, а наставник ни в какую не соглашался прийти, придумал лишь отговорку – якобы плохо двигается. А почему Лань Юй не пришел, я не стал спрашивать.
Комната у меня в доме была не слишком большая, а соседей пришло немало, весь двор заполонили, всем хотелось посмотреть на первую репетицию команды Ю. Пришел и дядюшка Чжуан. Отец выделил ему отдельную скамеечку и поднес крепкий чай. Дядюшка Чжуан улыбался:
– Вот уж не думал, что преемником наставника сона станет Тянь-мин! Обычно он такой молчун – слова не выбьешь! И на сона играл, словно птичка щебечет. Когда твой отец сказал, что ты можешь играть «Сто птиц летят к Фениксу» я не поверил. Судя по всему, над могилами предков семьи Ю «вьется голубой дымок[65]»!
Другие ученики говорили мало, смеялись, отец каждому из них налил пиалку китайской водки, безостановочно подгоняя:
– Пейте, пейте! Промочите горло!
Никогда в Шуйчжуане не было так шумно по вечерам. Четыре сона гудели в унисон. Когда отыграли первую похоронную мелодию, кто-то выкрикнул:
– Тяньмин, а сыграй-ка нам «Сто птиц летят к Фениксу»!
– Нет, нельзя! Наставник запретил ее играть просто так.
Толпа снова зашумела. Дядюшка Чжуан передвинул скамейку поближе ко мне:
– Один отрывок! Пусть все послушают. Я ее слышал давно, играл наставник Цзяо, когда провожали учителя Сяо. Это было, мать твою, потрясающе! Все косточки в теле размякли…
Я покачал головой. Отец, стоя у меня за спиной, сказал:
– На сегодня закончим. Потом будет еще возможность! Тяньмин обязательно сыграет для вас всех!
Дядюшка Чжуан посмотрел на отца и тоже произнес:
– Верно-верно! Нельзя не следовать правилам! Потом еще услышим много раз. Расходитесь по домам!
Когда все разошлись, я сказал остальным ученикам:
– Это первый заказ команды Ю, нельзя все испортить, давайте еще порепетируем.
Чаншэна было видно издалека. С белой повязкой на голове в знак траура он стоял посреди двора, ожидая нас. При встрече он тут же раздал нам всем по пачке сигарет и сам затянулся. Я спросил:
– Когда ушел ваш отец?
Чаншэн выпустил колечко дыма и с улыбкой сказал:
– Да он в этом месяце три или четыре раза умирал, но каждый раз приходил в себя, а вчера утром, можно сказать, умер по-настоящему.
Стоявший рядом старик сухо кашлянул два раза:
– Чаншэн, скорее соверши обряд встречи мастера!
Под обрядом встречи мастера подразумевались земные поклоны. Чаншэн обернулся к старику:
– Какой, к черту, обряд? Знаешь, какие у меня отношения с Тянь-мином? Да мы с ним пиписьками мерялись в детстве!
Потом он посмотрел на меня и рассмеялся, и я засмеялся в ответ.
На самом деле, мне хотелось, чтоб Чаншэн поклонился мне. Он был старше на пять лет, выше ростом, в детстве, когда мы вместе пасли быков, он часто бил меня, бил так, что я звал его отца, даже и не помню, сколько раз это было. Мне всегда хотелось отомстить, но, повзрослев, я понял, что месть надо отложить в сторону. А сегодня был как раз такой шанс, однако Чаншэн в очередной раз показал, что отличается от других. Можно сказать, что он первым в деревне начал носить пиджак и джинсы. Глинобитные дома, которые на протяжении тясячелетия из года в год охраняли жители Шуйчжуана, были вытеснены ровными рядами кирпичных домов, украшенных ослепительнобелыми облицовочными кирпичами. Чаншэн, увидев эти перемены, вместе с товарищами построил на отмели в Шуйчжуане кирпичный завод. И теперь большинство людей больше не зовут его по имени Чаншэн, а величают начальник Мао.
Его отношение к команде Ю в полной мере показало, что такое обращение к нему – это не пустые слова. Он сразу раздал всем по пачке сигарет, в отличие от других, которые протягивали лишь по сигарете. И такая щедрость действительно была приятна, я увидел у других учеников такой взгляд, какой бывает у рыбаков, которые обычно вылавливают лишь мелкую рыбешку и рачков, а в этот раз в сети попался целый тюлень.
Потом можно было увидеть, как изо всех сил стараются члены моей команды, я даже испугался, что они от усердия поломают свои инструменты. Особенно, когда Чаншэн проходил мимо нас, старался мой старший брат – он надувал щеки, словно живот его беременной жены на девятом месяце.
Кроме сигарет щедрость начальника Мао нашла воплощение во многих деталях – например, вино для того, чтобы промочить горло, было дорогим вином в бутылках из погребов. Или, например, в еде для наставника неожиданно оказались раки. Они, абсолютно красные, лежали на тарелке, и даже я остолбенел: про раков я слышал, что они живут в воде, воды у нас в Несравненном поселке было много, но раки в ней не водились, только лишь целое море светло-зеленых водорослей. Но главная щедорость Чаншэна выразилась даже не в этом. Он увидел, как мы стараемся, подошел и раздал всем по пачке сигарет со словами:
– Да не берите в голову, как-нибудь сыграйте и х… с ним!
В день, когда мы уезжали, Чаншэн не пошел нас провожать, однако каждому раздал по пачке денег. Старший брат сказал, что это самая большая сумма, что он заработал, играя на сона, а второй брат добавил, что это были и самые большие деньги, и играть было легче всего.
Сжимая в руках деньги, я стоял на мосту в Шуйчжуане, в оцепенении глядя на дымок, поднимавшийся над деревней.
12
Когда рис склонился под тяжестью колосков, я отправился навестить наставника.
Я снова увидел осень в Тучжуане, желтая равнина простиралась до самого неба.
Наставник только вернулся с поля. Казалось, он стал еще чернее и худощавее, голыми ногами с высоко закатанными штанинами он ритмично стучал по полу, от которого поднималась пыль. Подойдя ко мне, он поставил на пол мотыгу, оперся об ее рукоять подбородком и улыбнулся, потом протянул руку, испачканную в земле, и потрепал меня по голове.
– Ты глянь на свои лапы! – упрекнула его жена. Она тоже была с босыми ногами, штанины также были высоко закатаны, в тот момент она как раз вытаскивала скамейку из комнаты.
Я вытащил все, что принес из Шуйчжуана и выложил на стол. Там были любимые наставником листья трубочного табака, которые я купил во время выполнения заказа в Цзиньчжуане, потому что наставник когда-то говорил, что именно там – самый лучший табак во всем Несравненном поселке. Еще было вяленая свинина лучшего цвета и качества, которое лично приготовил мой отец, для наставника я выбрал окорочок, который в глазах сельчан был самой драгоценной частью. А еще мать передала для жены наставника ткань в цветочек, чтобы та сшила себе осеннюю одежду.
– Приехал и хорошо, зачем еще такую кучу всего притащил? – жена наставника, как всегда, была скромна.
Мы с наставником сидели во дворе, солнце уже начало клониться к закату, в Шуйчжуане оно было ослепляющим в это время. Далекое золото кипело и клокотало на ветру, я даже застыл от такой картины. Указывая вдаль, наставник сказал:
– Посмотри туда, это моё, чумиза – растет пышно!
Я ответил, что знаю, на это наставник рассмеялся:
– Верно-верно! Когда ты тут жил, работал на том поле!
Я набил наставнику трубку, тот затянулся, потом – еще раз:
– Не то купил. В Цзиньчжуане самый лучший табак – тот, что собран у подножия Гаочаншань, вот там выращенный табак – самый настоящий, а этот – не оттуда.
– Хотел поесть в гостях, а в итоге наложил дерьма в миску, – вступилась за меня жена наставника, обдиравшая чеснок.
– Пару дней назад твой второй брат приходил и рассказал, что вам денег щедро отвалили. – Наставник сплюнул мокроту.
– Немного. Просто те, у кого есть деньги, щедрее, чем остальные.
– Люди такие алчные, словно змея, мечтающая заглотить слона.
За ужином наставник достал чайник с китайским вином.
– Уже прошло почти десять лет, – воодушевленно рассказывал он, – это вино из винной лавки семьи Чэнь из Хочжуана. Мне его дали, когда я выполнял заказ господина Чэня, с тех пор ни капли оттуда не было взято.
За столом наставник как всегда молчал, низко наклонив голову, шумно ел. Периодически он поднимал наполненную вином пиалу, я в ответ поднимал свою, а затем было слышно, как вино льется в рот.
В Тучжуане я провел целых три года, но ни разу не видел, чтобы учитель выпил хоть каплю вина. Он на самом деле умел пить, после трех пиал зеленого вина его лицо приобрело оттенок свиной печёнки. Глаза необычно сверкали.
Самым удивительным было для меня то, что в тот день наставник после вина разговорился. Он сказал больше, чем я от него слышал за все три года пребывания в Тучжуане! Некоторые его слова произвели глубокое впечатление, потому что наставник, произнося их, был похож на старого волка, руками он опирался на стол, лицо наклонено в мою сторону, глаза налились кровью. Он сказал:
– Глаза мастера сона не должны видеть лишь белые банкноты, они должны смотреть на сона. На ней играют не для других, а для самого себя!
В итоге наставник не смог преодолеть высокоградусное вино семьи Чэнь, бережно хранившееся десять лет, он повалился на стол. И в этот момент он сказал, глядя мне в глаза:
– Как будет время, навести своего друга Лань Юя.
На следующее утро я не увидел ни наставника, ни его жену. Я знал, что они ушли работать на поле, это была их жизнь, в которой все было расписано, словно рассвет и закат. Голова немного кружилась, я вышел во двор, на столе в плетеной корзинке лежала вареная картошка, это был мой завтрак. И раньше так было, мы с Лань Юем каждое утро боролись за эту картошку.
Стоя на гребне горы, я обернулся посмотреть на Тучжуан, казалось, что он сильно постарел: горы и река как будто пожелтели.
13
Двор семьи Ма, на первый взгляд, казалось, стал намного шире, чем был пять лет назад, и сам дом, словно подросток, за несколько лет прибавил три этажа. Семья Ма привыкла быть во всем первой в Мучжуане, оставляя остальных далеко позади. Когда у них был двухэтажный дом, остальные ютились и голодали в тростниковых хижинах. С большим трудом жители Мучжуана переселились наконец в двухэтажные дома, глядь, а у семьи Ма уже пять этажей. Сельчане вечно плелись за ними в хвосте: как ни старайся, а никак не обогнать. Причина этому была не только в уме старшего Ма, но и в его здоровых и сильных четырех сыновьях. Они давно разъехались по стране, как говорят, во всех крупных городах Китая есть отпечатки их ног.
К сожалению, расчетливый старик Ма не смог пережить болезнь. Ему и шестидесяти не было. Еще в прошлом году он стоял на мосту, заложив руки за спину и обозревая окрестные пейзажи, а год спустя жизнь дала ему пинок под зад. Сыновья поспешили примчаться на похороны, каждый – на своем автомобиле, шестнадцать колес одновременно выстроились на улице Шибаньцзе в Мучжуане, став редким и странным пейзажем в деревне.
Команда Ю расселась веером во дворе семьи Ма, естественно, это был заказ на Восьмерых мастеров. Естественно, не могло обойтись без сигарет, вина, чая, а еще было печенье в блестящих упаковках – положишь такое печенье в рот, а оно мягкое и рассыпчатое, прямо тает во рту. Члены команды возбужденно переговаривались между собой, и даже обычно молчаливый третий брат никак не мог угомониться, словно ополоумев, он говорил, забрасывал вкусности в рот, и пару раз, когда должен был звучать его гонг, он все еще набивал рот. Я даже немного рассердился, пару раз на него прикрикнул, но вскоре его гонг опять замолкал.
Внезапно мне стало страшно. С того момента, как мы вошли во двор семьи Ма, казалось, что никто не обращает внимания на звуки сона, я начал подозревать, что члены команды не выкладываются по полной, поэтому бросил на них гневный взгляд. Они воспряли духом, у старшего брата глаза от усердия вылезли на лоб. Однако наше положение никак не изменилось. Люди, по-прежнему, сновали по дворику, шумели дети, и никто не обращал на нас внимания. Один человек задел бутылку вина, стоявшую рядом с ногой второго брата, водка полилась на землю, а он сделал вид, что не заметил и продолжил свой путь.
Я протянул руку, чтобы поднять бутылку, в этот момент я ничего вокруг не видел.
– Угадай, кто я?
Тут и угадывать не надо, я сразу понял, что это мой друг Лань Юй, его руки стали грубее, чем раньше, и голос – солиднее, из мальчишеского превратившись в мужской.
Глаза у меня мгновенно увлажнились, хотя на самом деле, я давно уже его заметил, его красная куртка мелькала в толпе. Периодически он искоса посматривал на команду Ю, а я не осмеливался пойти и поздороваться с ним, не знаю – от недостатка смелости или еще по какой причине.
Лань Юй давно заметил меня, но все не подходил, и я решил, что он и не подойдет.
А он закрыл мне глаза руками и спросил, угадаю ли я, кто он.
Лань Юй испуганно разжал руки, в изумлении глядя на влагу на ладонях, потом поднял голову и посмотрел мне в глаза, внезапно и из его глаз потекли слезы. Мы стояли друг против друга, примерно одного роста, его усы были пышнее моих, но выглядел он более худосочным.
Вдруг у меня возник горячий порыв обнять его. Много лет назад у нас дома жила собака с желтой шерстью и короткими ушами, и однажды она пропала, в первые дни я скучал, а потом постепенно забыл. Примерно через два месяца собака появилась у нас во дворе, со сломанной ногой и вся покрытая грязью, глаза ее были полны скорби и обиды. В тот момент у меня возникло такое же горячее желание, я подбежал, обнял ее и заплакал.
Я смотрел на Лань Юя, а он на меня, ни один не двигался.
– Брат! – крикнул я.
Лань Юй подошел хлопнул по плечу.
– У тебя когда-нибудь пропадала собака? – спросил я.
– Да, уже десять лет как! – ответил Лань Юй.
Вдруг раздались звуки сона нескольких братьев.
Вечером Лань Юй не пошел домой, остался со мной – мы пили вино, хвастались, курили.
Заполночь другие члены команды отправились спать, практически все разошлись. Мы с Лань Юем сидели во дворе. Я дал ему сона со словами:
– Сыграй что-нибудь.
Лань Юй принял сона с огромным воодушевлением, только он поднес мундштук ко рту, как сразу полилась мелодия. Затем он вернул мне сона и со смущенной улыбкой сказал:
– Хватит! Столько лет не играл, все забыл уже!
Я также улыбнулся:
– С твоими мозгами за десять минут все мелодии вспомнишь!
Лань Юй взял две пиалы и наполнил их китайской водкой, мы начали пить и продолжали, пока луна не ушла, а в небе не забрезжила заря, не испытывая при этом никакой сонливости.
Все эти годы я помню, что сказал мне в тот вечер Лань Юй. И даже помню выражение его лица, как он наклонял голову, как кивал и прочищал уши – все эти детали до сих пор в моей памяти. Например, он рассказывал, что когда он уходил из Тучжуана, то словно бродячая собака бесцельно брел по тропинке в поле, и даже были мысли о смерти. Рассказывая это, он утрированно втянул голову в плечи, я с трудом смог расслышать вздох, вырвавшийся из его глотки. А еще он сказал, что не винит наставника, его решение было правильным, если бы выбрали его, то команда мастеров сона в Несравненном поселке уже давно перестала бы существовать, ведь у него непостоянный характер, никаким делом не может заниматься долго, все время возникают странные идеи. На этих словах Лань Юй вытянул шею, голова словно уперлась в розовое облако. Он расхохотался, а затем яростно сделал большой глоток водки и лицо его приобрело тот же оттенок, что и небо.
В моей жизни было много перемен, которые ставили людей в тупик, как и климатические изменения. Но всегда появлялось некое смутное предзнаменование. Перед дождем всегда собриаются черные тучи; если вокруг Солнца заметен ореол, то вслед за этим наступит засуха, а если ореол возникает вокруг Луны, то придет время бесконечно моросящего дождика. В тот вечер в Мучжуане мы с Лань Юем встретились впервые за десять лет, разговор был таким радостным, и я смутно почувствовал, что в моей судьбе снова произойдет поворот.
14
Четверо сыновей старого Ма оказались щедрее, чем даже представлялось.
Накануне похорон в Мучжуан въехал грузовик.
Четверо сыновей Ма вышли его встречать. С грузовика слезли несколько человек и перебросились парой фраз со старшим из братьев, тот махнул рукой, и деревенские молодые люди принялись разгружать вещи из машины.
Поначалу это была груда каких-то мелких деталей, соврешенно непонятно, что из себя представлявших, а когда их собрали вместе, стоявший рядом Лань Юй в изумлении произнес:
– Твою ж мать! Это же целый оркестр!
Команда Ю полукругом стояла во дворе дома Ма, я удивленно заметил, что все члены моей команды пребывали в замешательстве, все взоры были прикованы только к одному месту, рты были открыты, словно рядом находилось что-то совершенно изумительное, как будто на горизонте появился сказочный мираж. В итоге простыми словами они неуклюже попытались выразить сложные чувства:
– Что за хрень?
– Откуда эти ублюдки взялись?
– Ого!
– Ох!
…
Стемнело, пошел дождь, сначала такой мелкий, что даже не ощущался, попадая на руки и лицо, лишь создавал впечатление легкой прохлады, проведешь рукой – и нет ничего. Постепенно он стал сильнее, капли становились все больше, больно били по обнаженным спинам. Люди начали прятаться в доме, под карнизом и в комнате, где стоял гроб с покойным.
Оркестр, прибывший из города, продолжал работу под дождем. Второй брат, глядя на вымокших до нитки людей за пеленой дождя, сказал:
– Может, нож в них кинуть?
Я взглянул на него, он, видимо, понял, что это пожелание действительно злобное, смущенно исправился:
– Можно и камень кинуть…
Камень и я одобрял, поэтому промолчал. Однако я быстро обнаружил, что камень прибывшему из города оркестру не причинил бы существенного вреда. Старший сын Ма созвал людей, чтобы поставить брезентовый шатер во дворе. А еще, смеясь, раздал всем сигареты, у каждого уже за ушами было по сигарете, а он все раздавал, от радости забыв про усталость.
Вскоре оркестр закончил подготовительную работу, инструменты у них были намного разнообразнее, чем сона восьми мастеров. От своего всезнающего друга я узнал, что то, что стояло слева, называется барабанная установка, та штука, похожая на пулемет, которую держал в руках один парень, – это электрогитара, а вещь, напоминающая кухонную доску, – это синтезатор. Но больше всего меня поразила сона в руках у парня со щетиной, стоявшего справа, – она казалась длинее и толще, самое узкое место было не такое, как у тех сона, что использовала команда Ю, во всем она была хуже. Я даже подумал, как играть-то на таком инструменте?
– Цзынь! – гитарист извлек из инструмента чистую ноту. Я сейчас и во снах слышу этот звук, он всегда задает им мрачную тональность, проснувшись, я долго лежу, положив руки под голову. Почему этот звон уже больше не был просто звуком музыкального инструмента, а странным образом преобразился в различные звуки чего-то ломающегося. Например, чиню я дом – цзынь! – разломилась несущая балка, или забираюсь я на огромный тутовник – цзынь! – и он ломается напополам. Или еще – иду я один рядом с отвесной скалой – цзынь! – и она вдруг с клыками бросается на меня.
…
Единственное, в чем я уверен, что в тот вечер во дворе дома Ма в Мучжуане звук взрыва, словно раздавшийся с небес, нарушил заранее установленный порядок. У каждого в душе шевельнулось что-то невыразимое словами, словно в тесте, которое уже замесили в деревянном тазу, происходят какие-то не понятные никому изменения.
В тот момент, когда прозвучал этот страный звук, я в изумлении увидел, что все во дворе дома Ма словно застыло. Падающие капли дождя зависли в воздухе, переливаясь красками в свете лампы; редька, которую чистили и бросали в таз женщины, тоже застыла в полете – она была ослепительно белой; а еще огонь свечей в зале с гробом покойного в мгновение превратился в горячее месиво, твердое словно кусок льда; мальчик, бежавший по двору, застыл в полунаклоне в дверях, руки его были раскинуты в стороны – одна впереди, другая сзади, он напоминал изваяние из плоти. Я в растерянности брел среди этого застывшего мира, вытянув руку, потрогал каплю воды, висящую в воздухе, а она лопнула, превратившись в водную дымку. Я сложил пальцы и щелкнул застывшее пламя – бац – и оно раскололось на кучу оранжевых искорок.
Я, страдая, схватился за голову и сел на корточки во дворе.
– Бам! – раздался еще один тоскливый звук. Ужасная какофония обрушилась на меня, аж в уших зазвенело. Я поднялся и понял, что все ожило, жизнь продолжается. Все так же идет дождь, редька, переворачиваясь в воздухе, летит в таз, радостно горят свечи, а ребенок безостановочно бегает по двору.
– Ты только что что-нибудь видел? – спросил я Лань Юя.
Лань Юй взглянул на меня:
– Ты что-то потерял?
Я отрицательно покачал головой.
– А чего ж ты тогда ищешь по всему двору? – спросил Лань Юй.
15
Похороны старого Ма отличались новизной и оригинальностью.
Деревенские похороны не обязательно должны быть мрачными, но они, по меньшей мере, должны быть торжественными. Когда умирает старик, которому было за семьдесят, то это светлые похороны, можно и пошуметь. Старому Ма не было и шестидесяти, на его похоронах нельзя было веселиться. Но накануне погребения во дворе дома Ма возникло небывалое веселье. Опоздавшие на похороны гости, с ног до головы покрытые капельками дождя, думали, что ошиблись адресом. Казалось, что кто-то из сыновей Ма женится, а когда говорили, что тут похороны, никто не верил, хоть убей.
Эту атмосферу создавал тот самый оркестр.
Сначала несколько человек вразнобой начали играть на инструментах, а потом распелись.
Гитарист играл и пел, попутно качая головой в такт. Я не понимал, о чем он поет, а Лань Юй подпевал, стоя рядом. Я спросил, что он напевает.
– Да это сейчас очень популярно, но я могу только напевать мелодию, потому что слов не помню, да и название мелодии тоже забыл.
Поначалу жители Мучжуана стояли во дворе с гневными лицами, на которых читалось сдержанное недовольство. Одна пожилая женщина в сердцах швырнула кочан капусты на землю, взгляд ее выражал возмущение, она тихонько причитала вслух, потом посмотрела на зал, где стоял гроб. Я знал, что так она словно заступается за несправедливо обиженного покойного Ма.
Постепенно лица разгладились, молодые люди с воодушевлением окружили оркестр, и когда играла знакомая им мелодия, невольно подпевали.
Команда Ю стояла во дворе дома Ма, смущенная, словно невеста, только что переступившая порог своего нового дома. Опустив голову, я посмотрел на сона и внезапно вспомнил, что и у нас здесь есть работа, которую надо выполнить.
Дождь прекратился, воздух стал необычнайно свежим, прохладным и чистым, во дворе все еще стояли расставленные веером скамейки. Мы расселись. Я взглянул на своих братьев.
– Все-таки будем играть? – спросил один из них.
– Как не играть? Мы же не член покойника сосать приехали! – меня разозлила его трусость.
Еще я поднял стоявшую на полу бутылку водки и сделал большой глоток, торжественно, словно воин, готовящийся к битве.
– У-у-у! У-у-у!
Обычно звонкая сона в этот момент звучала слабо, как паутинка, я бросил взгляд на членов комнады, они поняли и стали еще сильнее надувать щеки и пучить глаза, но звук все равно получался слабый. Там музыка была мощной и гордой, а здесь, у нас, получалась дефективной, как плач по умирающему. Когда мы доиграли, вид у всех был понурый, мы переглядывались между собой.
– Играйте! Играйте как в последний раз! Заиграйте до смерти этих ублюдков! – подбадривал нас Лань Юй.
Мы играли со всем усердием. Когда там музыка слабела, сквозь какофонию прорывались чистые звуки сона, это будоражило сердца, словно закопанная в земле жизнь нашла выход, это радовало, словно в темноте, когда не видно и пяти пальцев на руке, вдруг зажглась спичка.
Мы все радовались, а взгляды музыкантов оркестра то и дело устремлялись в нашу сторону, в них читались презрение, высокомерие и даже отвращение.
Говоря по правде, я принимал взгляды этих непрошенных гостей, и понимал, что они должны испытывать отвращение к сона, которую я держал в руках. Единственное, что не могло прийти мне в голову, что не только они испытывают эту неприязнь.
Один из молодых людей, который веселее всех подпевал оркестру, каким-то образом оказался передо мной. Наклонив голову, он смотрел на меня со странным выражением на лице, как будто увидел тысячелетнюю мумию, которую только что выкопали из земли. Я вынул мундштук сона изо рта, сплюнул и спросил:
– Ты чего?
– Сколько вы зарабатываете за раз?
– А тебе какое дело?
– Я заплачу тебе двойную цену при условии, что вы замолчите.
Я покачал головой:
– Нет, так не пойдет!
– Никому не нравятся звуки, которые доносятся из ваших этих членообразных инструментов!
– Я все равно буду играть.
В этот момент Лань Юй встал, подошел и толкнул парня со словами:
– Лю Сань, что ты делаешь?
Парень, которого звали Лю Сань, ответил:
– Какое твое дело?
– Да вот есть дело, и что?
Они начали толкать и пихать друг друга, подошли люди, стали их уговаривать, в этот момент Лю Сань как будто пытался что-то вспомнить, а потом сказал:
– А, чуть не забыл! Ты же тоже раньше играл на дурацкой сона! – договорив, он саркастически захохотал.
Я увидел, как кулак Лань Юя через три головы просвистел к голове Лю Саня, послышался глухой звук удара, и из носа Лю Саня хлынула темно-красная кровь. Тут же повсюду воцарился хаос, крики, ругань, звуки ударов кулаков – и все это под сумасшедшую музыку, вся картина напоминала сковороду с кипящим маслом.
На следующий день Лань Юй пришел проводить нас – с забинтованной головой, левый глаз напоминал поле для сушки угля. На горном хребте, который остался далеко позади, на извилистой горной дороге, по которой тащилась похоронная процессия, – каждый уголок Мучжуана заполнила пронзительная, словно острая стрела, музыка приглашенного оркестра.
16
В Шуйчжуане в последнее время многое изменилось, некоторые изменения происходили из года в год – например, подошло время собирать чеснок, а некоторые были новыми, вдохновляющими – например, была зацементирована дорога из Шуйчжуана в уездный город, детишки радостно резвились на только что отстроенной дороге, большие и маленькие машины мчались в Шуйчжуан, казалось, что за одну ночь Шуйчжуан слился воедино с уездным городом. Следует сказать, что раньше было нелегко попасть туда, уездный город можно было увидеть лишь после пяти-шестичасовой тряски в машине по рытвинам и ухабам. А теперь все просто, будто к соседу в гости зайти.
В это время мой отец Ю Бэньшэн, смеясь, стоял на своем поле чеснока. Ему казалось, что такая новинка, как зацементированная дорога, не имеет к нему отношения, его больше всего заботило собственное поле. В этом году чеснок упорно рос, с момента, как показались ростки, все шло успешно, подошло время сбора, дул мягкий ветерок, и крепкие головки чеснока сияли. Отец каждый день приходил взглянуть на поле, а потом, потягивая сигарету, садился на корточки на бугре – ничто не доставляло ему такого удовольствия.
Отец, нагнувшись собирал чеснок, налетел ветер, я увидел его тощие ягодицы и сказал:
– Отдохни!
Отец разогнулся и обернулся ко мне в гневе:
– Отдохнуть?! Если бы от отдыха появлялась еда, я бы уже давно начал отдыхать!
Я промолчал, пожалев о сказанном. Возникла мысль, что лучше мне вообще заткнуться, потому что на каждую мою фразу отец находил аргумент, чтобы заставить меня почувствовать неловкость.
Однако я обнаружил, что молчать – это тоже не выход, потому что тогда отец выражал свое недовольство взглядами или действиями. В этот год его взгляд, обращенный ко мне, был исполнен сомнений и настороженности. Я был словно дикий кот, прокравшийся к ним домой, тайно поедающий запасы и застигнутый на месте преступления. Мне оставалось поджать хвост, опасаясь, что хозяин, будучи в плохом настроении, вышвырнет меня за дверь.
Начало лета было самой прекрасной порой в Шуйчжуане, он наполнялся жизненной силой, небо и вода были чистыми и лазурными, и чеснок, который вот-вот должны были собрать, тоже был чистого лазурного цвета. Самым трогательным было то, что, куда бы ты ни пошел, на лицах сельчан играли улыбки. Жители Шуйчжуана и правда не обладали особыми притязаниями, простой сбор урожая превратил всю деревню в щедрое место. Отец не разговаривал со мной, с головой погрузившись в сбор чеснока. Я поднялся, на небе не было ни облачка, бескрайнее поле чеснока в лучах солнца напоминало картину, написанную маслом. Далеко-далеко третий дядюшка махал мне рукой, я его просил сообщать другим членам моей команды о том, что поступил новый заказ. Не знаю, с какого момента у команды мастеров сона Несравненного поселка был упразднен обряд встречи мастера, а с ним вместе ушло и правило перевозки инструментов. Вприпрыжку я добежал до дядюшки, сначала дал ему сигареты, он же, подняв полу одежды, вытер пот с лица, зажег сигарету и сказал:
– Всем сказал, но только твой старший брат согласился прийти.
– А остальные? Что они сказали?
– А что они могли сказать? Что заняты или что им неудобно.
Договорив, дядюшка пошел прочь, однако с полпути вернулся, как будто что-то вспомнил:
– Да, второй брат просил передать, чтоб ты больше к нему не обращался.
– Почему?
– Говорит, что в следующем месяце уезжает.
– Куда?
– Не знаю, в город, наверное!
Я сердито обернулся и увидел черное лицо отца, его руки были скрещены, а взгляд устремлен прямо на меня. Опустив голову, я обошел его и услышал, как он холодно смеется. Отсмеявшись, отец сказал:
– Что, скоро будешь один как перст? Как дальше-то играть будешь? На бычьем х…е будешь играть!
Вечером я не стад ужинать. Лежа на кровати, уставился в потолок. На потолке сидел паук, который со своей сети спустился по паутинке прямо к моему носу, я протянул руку, чтоб он приземлился на ладонь, он начал карабкаться по руке. Я не знаю, куда он полз, возможно, у него и не было какой-то цели, он просто полз вперед и вперед, если уставал, то плел паутину – можно сказать, обзаводился собственным домом. А возможно, его съел враг тихо и без единого звука, кого заботит будущее какого-то паука!
Словно в один момент мир вокруг меня стал чужим, хотя ничего не изменилось – горы были такими же, и река оставалась той же. Поменялись некоторые невидимые глазу вещи – как вода в реке Шуйчжуана казалась тихой и спокойной, а на самом деле это была лишь видимость: когда в детстве я ходил на реку плавать, нырнув под воду, я видел, что внизу вода бурлит тайным течением.
Только когда отец заснул, я вышел из комнаты, мать заново разогрела мне еду. Я ел, а она, как и в детстве, молча сидела рядом, неотрывно глядя на меня глазами, наполненными неистощимой любовью и нежностью.
– У тебя послезавтра новый заказ? – спросила мать.
Я кивнул в ответ.
– Отец сказал, что многие члены команды не придут.
Я снова кивнул.
– Эх, – вздохнула мать и продолжила: – Тяньмин, а может ты вообще играть не будешь? Чем-нибудь займешься, своими руками заработаешь на жизнь!
Я поставил пиалу и повернулся к матери:
– Это я понимаю, но когда я несколько лет назад просил наставника обучать меня, я дал клятву: играть на сона до последнего вздоха.
– Но сам посуди, ты один не сможешь играть!
– Через два дня я поеду навещу наставника.
17
Не успел я уехать, как наставник сам пришел ко мне домой.
Он начал с порога ругать меня:
– Ублюдочный Ю Тяньмин, выходи давай!
Я вышел из дома и увидел учителя, стоящего посреди двора. Ноги его были в грязи и даже подол был усеян горошками грязных пятен. Лицо все такое же черное, как и несколько лет назад, когда я впервые увидел его, разве что морщин прибавилось, я внезапно испытал грусть, увидев, как он постарел. Глава некогда известной в Несравненном поселке комнады Цзяо напоминал старую софору зимой – дерево удручающе загубленного вида. Самое печальное – это его серая холщовая одежда, представляющая из себя двубортную рубаху старого образца с заплатками: стоит сказать, что в Несравненном поселке такой одежды с заплатками ныне почти и не встретишь, а если и встретишь такого человека, то никто и не подумает, что это простой труженик, а подсознательно отнесет тебя к нищим.
Я окликнул наставника.
– Не смей называть меня наставником! У меня нет такого ученика! – наставник зло сплюнул мокроту. – Что ты раньше говорил? Заявлял, что будешь передавать наше искусство до конца, а сейчас что? Вчера мне передали, что твоя комнада распалась! Развалилась! Заказы не берете! В Несравненном поселке больше нет мастера сона!
– Наставник, вы пройдите в дом, там поговорим.
Он отмахнулся:
– Да как же мне входить в твой драгоценный дворец? Разве ж ты сейчас будешь играть на сона?
Вышла мать.
– Господин наставник, вы не волнуйтесь, проходите в дом и поговорите. Тяньмин посылал человека за членами команды, скоро будет заказ.
Говоря это, она непрерывно подмигивала мне. Я поспешно подтвердил:
– Да-да-да!
Только тогда гнев наставника немного стих. Он прошел в дом, заложив руки за спину и не глядя на меня, сказал лишь:
– Не надо мне зубы заговаривать, смотри, как бы я не порвал твой ублюдочный рот!
Наставник сел, принял чай из рук матери, кипя от гнева и ожидая от меня разъяснений. Выслушав, он зло бросил чашку на стол:
– Пойду за ними! Взбунтовались, уроды!
Наставник вышел за ворота и, увидев, что я все еще стою на пороге, закричал:
– Остолбенел что ли? Кто глава команды Ю? Ты или я?
Я поспешил следом.
Я шел за ним, за все время наставник не проронил ни слова, однако я ясно слышал, как он тяжело дышал.
Для второго брата наше появление стало неожиданностью. Он как раз собирал вещи, пытаясь запихать ворох одежды в старую сумку из змеиной кожи. Сумка была слишком мала, и все необходимое для дальнего путешествия не помещалось, обиженно вырываясь на волю из всех щелей и издавая странные скрипучие звуки. Второй брат выругался, поднял голову и только тогда увидел нас. Он приоткрыл рот, словно собирался что-то сказать, но по лицу наставника понял цель нашего визита, поэтому промолчал, положил сумку и выпрямился. Затем вышел из-под карниза и встал перед наставником – тихо и беззвучно.
Наставник не обращал на него внимания, хмыкнул в нос и пошел к карнизу. Затем он принес сумку во двор, и все вещи – одну за одной – вынимал и бросал на землю. Длилось это долго, я в изумлении смотрел на эту казавшуюся небольшой сумку с такой внушительной вместительностью. Когда наставник закончил и выпрямился, двор превратился в пестрое поле для сушки белья.
Наставник наступил ногой на сдувшуюся сумку и уставился на второго брата. Этот взгляд был как июньское солнце Шуйчжуана, которое могло зажарить человека до обморока.
Второй брат молчал, низко опустив голову и беспрестанно теребя руки. В этот момент прилетели два воробья и радостно начали прыгать на разбросанной по двору одежде. Внезапно второй брат расцепил руки, низко опустив голову, обошел наставника, сел на корточки и начал поднимать вещи – одна за одной – и складывать их на плече. Кроме того, он еще и бил по ним рукой, пытаясь стряхнуть пыль. Когда на руке уже не осталось места, второй брат медленно, все также на корточках переместился к наставнику и, протянув руку, потянул сумку, лежавшую у того под ногами. Наставник не сдвинулся с места. Второй брат упорно тащил сумку со все нарастающей силой. Я увидел, что наставник пошатнулся. Эта странная пара наставника с учеником словно разыгрывали пантомиму – каждое действие, каждый взгляд были наполнены смыслом, все проявлялось в беззвучных движениях. В этот момент наставник вытянул ногу и со злостью пнул второго брата в лицо. Я увидел, как он стремительно повалился назад, словно только что опустошенная сумка из змеиной кожи. Лишь через какое-то время второй брат как ожившая змея приподнялся с земли, две бордово-красные полоски вились по всему лицу из носа. Он не встал полностью, по-прежнему стоя на коленях, потихоньку перебрался к наставнику, протянул руку и упрямо продолжил тащить сумку из-под его ног.
В этот момент я увидел, что лицо наставника приобрело сероватый оттенок, все лицо свело судорогой, оно стало похоже на разваренные пельмени. Прошло время, он наконец поднял голову и протяжно вздохнул, этот вздох был словно ледяной ветер зимой в Шуйчжуане: проходил через кожу прямиком в костный мозг, даже сердце мог заморозить. Он все-таки убрал ногу с сумки, повернулся и стремительно ушел, силуэт его подрагивал без остановки.
18
Дорога кружилась и вилась, деревенские тропы были такими же: упрешься взглядом в какую-то точку, всмотришься вдаль, а дороги уже и не видно. А дойдешь до туда, понимаешь, что она свернула в другое место. Снова бросишь взгляд вдаль, а там все та же отломаная макаронина. Мы шли по такой вот непродуманной дороге. Впереди – наставник, затем двое – старший брат и Лань Юй, а я завершал процессию.
С того момента, как Лань Юй уехал из Тучжуана, он ни разу не брал заказы. У меня было странное чувство по поводу того, что он будет сегодня выступать в составе команды Ю. Я не знал, как именно наставник уговорил его выступать с нами. В тот день, когда наставник покинул дом второго брата, он прямиком направился в Тучжуан. А вчера вечером Лань Юй постучался в мою дверь.
Наставник был в новой одежде с четкими заломами складок. Он шел быстро, словно старый, но крепкий дикий заяц. Лань Юй специально замедлил ход, и наша команда разделилась на две части: впереди – наставник и старший брат, позади мы с Лань Юем.
Шедший рядом Лань Юй вдруг сказал:
– Наставник постарел!
Я кивнул. Лань Юй продолжил:
– Сегодня – мой первый официальный заказ. И последний тоже.
Я обернулся и посмотрел на него, не понимая, что он хочет сказать.
Спустя целую вечность он сказал:
– Я дал обещание наставнику, а он – мне.
Лань Юй вечно так – заставляет меня мучаться над его словами, говоря загадками. Я спросил:
– В смысле?
Лань Юй засмеялся и не ответил. Я, низко наклонив голову, думал, а когда поднял ее, на укромной горной дорожке никого не было.
В Несравненном поселке Хочжуан всегда слегка отставал от других деревень. Дома там были бессистемно построенными тростниковыми хижинами, дороги – не такими широкими, как в других деревнях, зато люди там отличались честностью и порядочностью. Жители Несравненного поселка, покупая на ярмарке куриные яйца и особенно деревенские куриные яйца, сперва спрашивают, из какой именно они деревни. Если называют любую другую, то никто не осмеливается покупать, потому что не раз обжигались: когда спрашиваешь, беспрестанно ручаются, что это настоящие деревенские яйца, купишь, принесешь домой, откроешь и сразу видно, что обманули. И только деревенские яйца из Хочжуана обладали истинным качеством при довольно разумной цене. Нынешний заказчик жил на западе Хочжуана, на первый взгляд казалось, что его материальное положение самое обычное, дом был отремонтирован, но совершенно пуст внутри, там находились лишь вещи, необходимые в повседневной жизни. Судя по всему, все средства ушли на ремонт.
Хотя материальное положение семьи было самое обычное, однако она была как всегда шумной и веселой, что было тесно связано с покойным, который был секретарем партийной ячейки в Хочжуане. Добродетельный и прославленный секретарь лежал в гостиной спокойно, словно спящий кот. Наставник подошел к нему и зажег три палочки благовоний. После ужина мы втроем собрались в гостиной, в глубоком унынии. Наставник достал свою сона из желтого дерева и непрерывно чистил ее.
Старший брат взял мундштук сона в рот, чтобы настроить инструмент, но наставник произнес:
– Уберите, пусть сегодня играет один Тяньмин.
Сказав это, он протянул мне свою начищенную сона.
Я был крайне изумлен, старший брат удивился так, что забыл вынуть мундштук изо рта.
– Почему? – спросил я.
– Покойный бывал в Корее, уничтожал бандитов, он руководил жителями Цзиньчжуана во время ремонта дороги, и тогда же на него упал камень и сломал ему четыре ребра, – сказал наставник. На его лице не читались эмоции.
– «Сто птиц летят к фениксу»! – Ленивое выражение слетело с лица Лань Юя.
Все было готово. Перед комнатой с гробом покойного поставили огромное деревянное кресло, почтительные сыновья, склонив головы, встали передо мной на колени. Остальные люди собрались во дворе, вытянув шеи, пытались заглянуть в комнату. И даже весело бегавшая собака в этот момент чинно уселась во дворе.
Внезапно у меня возникло возвышенное чувство – как у воина, наделенного какой-то особой миссией. Взгляды людей были такими, каких не увидишь в повседневной монотонной жизни, – спокойные, без тени злых мыслей, они походили на чистый воздух в горах после дождя или же на туман, опутывающий верхушки гор во время зимнего снегопада.
Наставник встал, три раза поклонился в сторону гроба, затем повернулся и сказал, обращаясь к собравшимся:
– «Сто птиц летят к фениксу» – лучшее, что досталось нам от предков, эта мелодия передается от поколения к поколению, несет радость от великой печали, и только тот, кто обладал высочайшей добродетелью, достоин ее. – Я знал, что это были начальные строки титульного листа нот к мелодии, но остальные никогда их не слышали, поэтому хранили молчание. Наставник продолжил: – Я не буду много говорить о секретаре Доу, жители Цзиньчжуана прекрасно знают и помнят все его поступки. Если в Несравненном поселке кто и достоин мелодии «Сто птиц летят к фениксу», так это он. Сегодня, провожая секретаря Доу в последний путь, ее исполнит глава команды Ю – Ю Тяньмин.
Слова наставника, шедшие от сердца, заставили стоявших передо мной на коленях людей тихо заплакать.
– С величайшей печалью провожаем в последний путь! Начинаем! – громко выкрикнул наставник.
Я положил мундштук сона в рот, перед глазами вдруг потемнело.
До сих пор я испытываю раскаяние. Я мог спокойно выполнить высочайшую для деревенского наставника миссию, мог сделать так, чтобы потомки, вспоминая об этом почти легендарном событии, упоминали и мое имя, я мог сделать так, чтобы профессия музыкального наставника прогремела в деревне, и даже мог почти священным способом завершить свою музыкальную карьеру. Но в тот момент все эти возможности исчезли. Мое поведение так ужасно и таким ужасным способом завершило существование этой древней профессии в Несравненном поселке, и даже в последний момент, когда она уже тонула в изменениях времени, не смогла сохранить былое достоинство. Поэтому, описывая тот период времени, я сталкиваюсь с ужасными муками памяти, ощущая, как снова открывается рана в глубине души, которая со временем начала затягиваться. Я четко вижу, как льется из нее кровь, а затем приходит боль, пронизывающая до костей.
Открыв глаза, я увидел, что все взоры устремлены на меня. Я медленно достал мундштук изо рта, поднялся и сказал, обращаясь к наставнику:
– Простите меня, я забыл эту мелодию.
Неожиданно наставник рассмеялся, люди внизу тоже рассмеялись. Они еще не закончили смеяться, как наставник заплакал. Он сидел на корточках и рыдал в голос. Я, старший брат и Лань Юй молча стояли перед ним. Через какое-то время наставник встал, отвесил три земных поклона все еще стоявшим на коленях сыновьям покойного и сказал:
– Простите нас, уважаемый секретарь Доу! Простите нас, уважаемые сыновья!
– Наставник Цзяо, сыграйте вы сами и все! – предложил кто-то из толпы.
Наставник отмахнулся:
– У меня давно уже нет этого права, теперь это не моя команда. Право играть эту мелодию есть только у главы команды Ю.
Договорив, он повернулся вырвал у меня из рук свою сона, согнул ногу в колене и со всей силы опустил сона вниз.
Крак!
Наставник ушел, моментально растворившись в ночи Цзиньчжуана, такой черной, что не видно пальцев на вытянутой руке.
Лань Юй поднял с земли разломанную на две половинки сона:
– Судя по всему, теперь я никогда не услышу «Сто птиц летят к фениксу»…
19
Отец обращался со мной все хуже и хуже, ему все было не так: чан для воды опустел – он обзывал меня слепцом, который даже не видит, что воды в чане нет; стоило мне наполнить чан водой, он снова ругался, вопрошая, что я еще умею делать, кроме как воду носить?
Говорил он все верно, мне было уже двадцать шесть лет, а я все сидел дома. Все молодые люди в Шуйчжуане кто женился, кто родил детей, а большая часть собрала багаж, села в автобусы в уездные и провинциальные города и уехала. Мы могли видеть их лишь на Новый год или другие праздники, а в обычное время в деревне практически нельзя было встретить молодых людей моего возраста.
С того момента, как распалась команда Ю, я ни одного дня не играл на сона.
Не было никакой церемонии, все произошло естественно, словно испарился воздух, никого не приглашали, никто не играл на инструментах, я столкнулся однажды со старшим братом на ярмарке Несравненного поселка, мы поздоровались, обсудили рост посевов и еще выпили в ресторанчике китайского вина, но ни один из нас не обмолвился о команде Ю, ни слова не проронили, словно она никогда и не существовала.
Мне исполнилось двадцать восемь, пришла зима. Зима в Шуйчжуане ныне все более странная, даже нормального снега на полях нет. В последние два года зима совсем обнаглела, даже декоративной изморози не было, все выглядело неопрятным и лишь беспрестанно лил ледяной дождь. Весь Шуйчжуан превратился в грязную жижу, не говоря о том, как больно он бил по лицу и рукам.
Больше всего я боялся столкнуться с отцом, не только из-за того, что он мог обругать меня, а потому что я испытывал угрызения совести, глядя на его стареющий облик. Сыновья других людей каждый год присылали родителям разные денежные суммы, а я лишь мог сидеть дома нахлебником. Мать не ругала меня, как отец, но она постоянно вздыхала, и эти звуки были похожи на губку, из которой никогда не отжать воду досуха, и это было еще ужаснее, чем ругань отца. Таким образом, мне пришлось скрываться в этом тесном пространстве. Каждый вечер после ужина отец отправлялся смотреть, как народ играет в карты, сам он не принимал в игре участия, лишь наблюдал, на самом деле он мечтал попробовать, но состояние карманов не позволяло. Мать же занималась делами при свете лампы до полного изнеможения и только тогда шла спать.
Каждый вечер я рано ложился в кровать, но заснуть не мог до самого рассвета.
В этом году с того момента, как зазеленели побеги риса, не выпало ни капли воды. Сгущались черные тучи, небо внезапно темнело, все предвестники были налицо, сельчане ждали ливня. А в результате падало несколько реденьких капель, оставлявших на земле пару влажных вмятин, а потом сразу же тучи рассеивались. Так повторялось несколько раз, надежды и терпение сельчан высохли, как и рис на поле.
Спина отца становилась все более сгорбленной, напоминала черпак. Целые дни он проводил на рисовом поле, лицо приборело такой же желтоватый оттенок, что и рис, его взгляд беспомощно бродил по волнам высохших побегов риса, которые покачивались туда-сюда на ветру, слабые и безжизненные. Так продолжалось до сумерек, только тогда он разгибался и под скрип костей нес свое больное тело домой.
Время от времени я встречался с ним во дворе, застывшим взглядом он смотрел на меня – без гнева и иронии, мягким, словно нити паутины, опутавшие меня так, что я не мог дышать.
Я точно помню, что в тот год рис в конце концов весь погиб от засухи. Я стоял на горе за Шуйчжуаном и видел обжигающую желтизну, простиравшуюся к небу, этот цвет приводил меня в отчаяние. Но еще больше лишал меня надежды Ю Бэньшэн из Шуйчжуана. Его лицо неудержимо желтело. Рак печени на последней стадии. Мы с матерью настаивали на том, чтобы продать старого быка из загона и оплатить ему лечение, но Ю Бэньшэн сказал:
– Ладно, я и есть этот самый рис в поле – никакой дождь уже не спасет.
За месяц тело отца, все время лежавшего на деревянной кровати, все больше усыхало. После возвращения из больницы он больше никогда не покидал ту широкую кровать. Она осталась еще от деда, на ней отец и родился, а теперь он должен был на ней умереть, будто заканчивая забавный круг перерождений.
Утром я повел старого быка пастись на отмель Шуйчжуана, а когда в обед вернулся домой, то увидел отца, стоявшего на околице деревни, на солнце он выглядел особенно худым, отец стоял, прислонившись к земляному валу, который был покрыт густой зеленью, он походил на желтый гриб, выросший посреди травяных зарослей. При виде отца, когда прошло первое изумление, слезы потекли из глаз.
Я боялся, что он увидит мои слезы, поэтому подошел к нему только после того, как хорошенько их вытер. Он подошел ко мне, дрожа всем телом, словно малыш, который только учится ходить. Похлопав быка по холке, он сказал:
– Ладно, продавайте его!
Внезапно две слезинки скатились вниз, я понял, отец все-таки не хотел умирать, ведь ему было всего пятьдесят с небольшим, его ровесники из Шуйчжуана – все здоровые и крепкие – сновали туда-сюда по полям, еще были неиспользованные силы и далекая дорога впереди.
– Давно уже надо было продавать, чем раньше продали бы, тем раньше начали лечение, и не дошло бы до такого… – ответил я.
В день, когда мы продали быка, я купил отцу обувь с мягкой подметкой. Я подумал о том, что во время поездок в город на лечение придется много ходить, мягкая обувь не натрет ноги, тело отца – сплошные кости, поэтому все должно быть мягким.
Когда я вечером принес ему обувь, он внезапно соскочил с кровати влепил мне пощечину:
– Кто тебя просил тратить эти деньги? Вот ублюдок – ничего в руках не держится!
Пощечина была не звонкой, послышался лишь хруст кости.
Я ничего не ответил, довел отца до кровати, он громко хрипел носом и ртом. Через какое-то время отец успокоился, сначала протяжно вздохнул, с трудом перевернулся на бок и сказал мне:
– Тяньмин, я слышал, что на сона играют в Цзиньчжуане.
Я кивнул в ответ.
На самом деле, кроме Цзиньчжуана на сона играли и в других деревнях Несравненного поселка. Даже не знаю, в какой момент оркестр из города исчез из поселка, словно дымка на отмели, которая после ветра пропадает бесследно. Оркестр испарился, и зазвучали звуки сона.
– Собери обратно команду Ю. Нельзя, чтоб в Несравненном поселке не было сона!
– Есть. Кроме Шуйчжуана, есть везде.
– Мать твою! Да разве ж это сона! – Лицо отца приобрело пепельный оттенок, он снова стал задыхаться, на лбу выступила испарина.
Я в оцепенении молча сидел у его кровати. Из горла отца вырывались хрипы, словно подводная река, несущая тайны, недоступные людям. Прошло время, и я услышал плач – пронзительный, но слабый, словно остро наточенный нож, он прорезал застывшую в комнате атмосферу, а потом подобно треску рвущейся ткани стал печальным и мощным.
И только тогда я понял, что мой отец, Ю Бэньшэн из Шуйчжуана, всегда мечтал, чтобы его сын играл на сона. Его презрительные взгляды, удары, насмешки после того, как распалась команда Ю, на самом деле были проявлением крайней печали, ведь его мечты разбились, как кувшин. Я снова вспомнил тот дождливый день, когда отец впервые отвел меня к наставнику, а еще вспомнил бородово-красные следы крови на его лице после того, как он упал.
Я протянул руку и погладил отца по плечу с выступавшей ключицей, которая давила мне не только на руку, но и на сердце.
– Я попробую, – тихо произнес я, но отец, тем не менее, расслышал.
Хотя в комнате было темно, я увидел, как вспыхнули глаза отца, мои слова, как факел, резко зажгли лампу, в которой почти кончилось масло.
– Я так и знал! Ты, ублюдок, ведь скучаешь по сона! – улыбка расплылась по исхудалому, узкому лицу отца, разогнав печаль и уныние. – Знаешь, зачем я продал быка? – отец был искренним, словно ребенок. – Это все для того, чтобы купить инструменты для команды Ю! Я подумал, всякие барабаны, гонги – это все старое, надо бы поменять на новое.
Он опять закашлялся, отец был слишком взволнован, поэтому успокоился лишь через какое-то время.
– Когда я умру, сыграйте для меня вчетвером – этого будет достаточно.
– Для тебя я сыграю «Сто птиц летят к фениксу»! – ответил я.
Отец замахал на меня немощными руками, потом только сказал:
– Нельзя! Я недостоин!
20
Состояние отца все ухудшалось, говорил он все меньше и меньше, он перестал спать ночью, а потом заснул и однажды уже не проснулся. Мать все время сидела рядом, периодически поглядывая на него, трогала рукой нос, лоб, опасаясь, что заснув, он уже не проснется.
Днем и ночью я ходил по деревням Несравненного поселка.
Я прожил здесь столько лет, но сейчас впервые услышал за небольшой промежуток времени столько кваканья лягушек на полях, криков птиц в горных долинах. Вечером я шел один по узкой горной дороге, лишь холодная луна равнодушно освещала мой путь, земля была холодна, как рука покойника; укутавшись в одежду, я понял, что невозможно сопротивляться холоду. В памяти всплыл одинокий и потеряный взгляд отца и его лицо, увядающее с каждым днем. Я боялся, что он не дождется, пока я соберу команду Ю и так и не услышит звуков сона. Ю Бэньшэн из Шуйчжуана не мог представить похороны без сона.
Весь Несравненный поселок был исхожен мною вдоль и поперек, а я по-прежнему напоминал рыбака, который уже месяц как вышел в море, а до сих пор ничего не поймал. Мои братья по команде трудились в поте лица в процветающих и далеких городах, словно сговорившись, они одновременно покинули взрастившую их землю.
Здесь еще оставался старший брат. В город он не поехал не потому, что не хотел, а потому что у него была сломана нога из-за несчастного случая, и эта нога стала вечным препятствием, стоящим между ним и городом. Когда я дал ему сигареты, он с восторгом рассказал мне, как в прошлом году к нему приезжал Лань Юй.
– Маленький засранец, у него одна сигарета стоит больше, чем вся твоя пачка, и это еще не все: закуришь и так, мать его, хорошо идет! Судя по всему, в городе, и правда, легко, мать твою так, разбогатеть!
Узнав, зачем я пришел, старший брат в изумлении уставился на меня, а потом вымолвил:
– Ты когда-нибудь видел, чтобы два человека играли на сона? В старину даже бедняки заказывали четырех мастеров сона, ты что, хочешь играть вдвоем? Это что – похороны дохлой собаки что ли?
– Не дохлой собаки… Это похороны моего отца.
В этот момент на лице старшего брата появилось выражение сочувствия, он сделал затяжку и сказал:
– Давай сходим в Хочжуан. Там сразу несколько команд мастеров сона, говорят, на крупные события по шестнадцать человек играют на инструментах! Мать его, шестнадцать человек, они же и мертвого поднимут!
Я отошел уже довольно далеко, как старший брат прокричал мне с горы:
– Сходи посмотри! Сейчас они заправляют всеми мастерами сона в Несравненном поселке!
Когда я прибыл в Хочжуан, команда мастеров сона как раз работала.
И правда, было чему удивиться.
Шестнадцать мастеров заполонили весь двор, и даже покойник – главное действующее лицо – был задвинут куда-то в угол. Целый ряд огромных столов выглядел крайне внушительно. На подносах лежали сигареты и семечки. Бутылки с вином для смачивания горла вдохновляюще выстроились в ряд. Все мастера сона в темно-красных европейских костюмах с широкими полукруглыми воротами, полы пиджаков были закруглены, они выглядели как женихи, готовящиеся войти в номер для новобрачных. Во главе стола сидел человек в серебристо-сером костюме с ярко-красным галстуком, на груди у него висел блестящий значок. Судя по виду, это и был глава команды.
Однако в глаза бросался не глава команды, а пачка денег, лежавшая перед ним на подносе. Каждая купюра была в сто юаней, они представляли собой ослепительную картину. «Начинаем!» – заговорил глава команды, затем поднялся грандиозный шум, слишком много было сона, поэтому им трудно было достичь единства звучания, поэтому было ощущение, будто стая птиц вырвалась из леса и с шумом и гамом носятся в небе, вызывая испуг и замешательство. Я даже со злорадством отметил, что щеки двух молодых мастеров сона оставались впалыми, а ведь всем известно, что так не сыграешь на сона по-настоящему. Это была самая впечатляющая по масштабам команда сона, и самая ужасная игра на сона. Старший брат ошибался, шестнадцать мастеров не поднимут мертвого, наоборот, они могут и живого заиграть до смерти.
Когда я вернулся домой, отец уже не мог говорить, я пододвинулся поближе к его уху и сказал:
– Я приглашу тебе восемь мастеров сона из Хочжуана!
Внезапно отец широко раскрыл глаза, изо всех сил начал качать головой, изо рта вырывались хрипы. Я понимал, что ему не нужны сона из Хочжуана, ведь он говорил, что хочжуанские сона – это не настоящие сона!
Ю Бэньшэн из Шуйчжуана покинул этот мир, когда река начала покрываться льдом. Он ушел тихо, накануне вечером еще из последних сид поел подчашки рисовой каши, а на следующее утро мы обнаружили, что тело его уже остыло. Умерший, он был худым словно только что родившийся младенец, кровать на его фоне выглядела несравненно огромной. Я похоронил отца на деньги, вырученные с продажи быка. Его похороны были такими же холодными, как и сам тот сезон. Естественно, не было и звуков сона, впрочем во время всей церемонии безостановочно завывал северный ветер.
В наступивших сумерках я сидел у могилы отца. Больше в Шуйчжуане не будет Ю Бэньшэна, он печально улетел и сгнил словно осенний лист. Я много размышлял в лучах заходящего солнца и никак не мог вспомнить, что же я дал своему отцу, я лишь приносил ему одно разочарование за другим. Не было ни моей сона, ни моей команды, даже не было звуков сона, которые проводили бы его в последний путь.
Давно уже в Шуйчжуане не было таких сумерек. В моих воспоминаниях сумерки обычно наступали в мгновение ока, только увидишь, что они наступили, как они уже превратились в темную ночь. Если действительно присматриваться, то можно было бы увидеть, как красивы сумерки в Шуйчжуане: заходящее солнце словно остановилось за горами, верхушки травы гладят его по лицу, немного щекотно; ветер перекатывается с горного хребта вниз, откидывает полы одежды гор, выставляя на всеобщее обозрение их темно-красную голую спину. В единении всего этого земля казалась древней и теплой.
Я вынул из-за пазухи сона, повернул ее в сторону заходящего солнца, его лучи отражались в медном раструбе.
Вязко потекла мелодия, сделав несколько витков, она опустилась на свежую могилу, по трещинам в земле она проникала вглубь холодной земли. Я знал, отец слышит сона, на которой играет его сын. С того момента, как я начал учиться, и до самой смерти он не слышал, как я играю «Сто птиц летят к фениксу». Сначала звуки были торжественными и звонкими, постепенно становясь все ниже и печальнее, из-за слез мелодия была мокрой и скорбной, под глухую повторяющуюся мелодию я увидел, что отец стоит передо мной, его взгляд, теплый как солнце, дни, которых не вернуть, постепенно отчетливо встали перед моим расплывавшимся взором.
Поднялся ветер, звуки сона становились все более хаотичными, скидывая с себя торжественность и становясь еще более печальными. От горя горло болело до икоты, и сона наконец заплакала, она сначала всхлипывала, а потом разрыдалась. Непрерывная цепь гор была разбужена рвущими сердце и душу звуками сона.
21
Сразу после первого снега ко мне пришел деревенский староста и еще несколько человек.
Я стоял во дворе, староста подошел ко мне и, похлопав по плечу, сказал:
– Это и есть глава команды Ю нашего Несравненного поселка.
– Какой молодой! – произнес мужчина средних лет в очках. – Дело вот в чем. Нас прислали из провинциального центра для выявления и сбора народного фольклора и культуры.
– Вы скажите, что вы от меня хотите, – ответил я.
Мужчина в очках сказал:
– Нам бы хотелось услышать, как ваша команда играет на сона.
– Команда Ю больше не существует. В Хочжуане есть, вы туда съездите.
Тот человек рассмеялся:
– Да мы только что оттуда! Как вам сказать? – он прокашлялся. – Прослушали мы их… Строго говоря, их игра не может считаться истинной игрой на сона. Как вы думаете?
Он протянул мне сигарету.
– Боюсь, ничего не получится… Все братья разъехались по разным городам…
В этот момент подошел мужчина помоложе. Подскочил и староста, чтобы представить его:
– Это глава отдела и пропаганды нашего уезда!
Молодой начальник отдела широким жестом махнул рукой:
– Соберите их! Мы оплатим все расходы.
От его интонации и позы моя кровь забурлила, я словно наяву представил, как вся наша команда в полном составе выходит на сцену, какая бы это была восхитительная картина! Семь-восемь человек выстроились в один ряд, звучат переливчатые звуки сона – эта картина часто представала в моих снах.
Я ответил:
– Хорошо!
Зима была уже на исходе, когда я получил письмо от Лань Юя. Он писал, что уже обосновался в провинциальном центре и у него своя фабрика по производству картона. Я решил отправиться туда и вернуть всех братьев, собрать обратно мою команду Ю, я собираюсь вернуть Несравненному поселку истинное звучание сона!
Провинциальный центр действительно был огромен. Когда я сошел с поезда, мне показалось, что я тону.
Долго я искал нужный адрес, и в итоге в одном из переулков нашел фабрику Лань Юя.
За металлической дверью в темной комнатке сидел и читал газету старик-сторож.
– Извините, Лань Юй здесь?
– Директор Лань уехал, – ответил старик. – Вы к нему по какому делу? – подняв голову, спросил он.
– Наставник!!!
* * *
Тем же вечером Лань Юй известил всех братьев, которые жили в этом городе, да еще и пригласил всех на ужин в роскошный ресторан. Наставник совсем не изменился, за столом не произнес ни слова, ел молча. Я рассказал о цели своего приезда, глаза наставника сверкнули, он вытер рот и сказал:
– Вот и наверху обратили внимание, и это очень хорошо!
– Столько лет не прикасался к инструменту… – вздохнул второй брат.
Я достал из сумки сона и протянул ее второму брату:
– Попробуешь?
Он принял сона, бережно держа перед собой, затем положил мундштук в рот, и тут его глаза внезапно погасли, он поднял правую руку, и я увидел, что на ней у работавшего на заводе по производству древесины второго брата не хватает среднего пальца.
– Лесопильный аппарат сожрал, – сказал он, – никогда мне не играть на сона.
Четвертый брат, который разгружал товары на цементном заводе, взял сона и произнес:
– Давай попробую.
Его высокомерие никуда не делось, он должным образом принял нужную позу, однако сона не зазвучала так звонко, как предполагалось и ожидалось, раздались глухие звуки и в муках прекратились. Четвертый брат вынул мундштук сона изо рта, сплюнул на землю, и я увидел, что его слюна – цвета цемента.
– Не уезжай! Останься! – сказал Лань Юй, глядя на меня. Я хлебнул вина и ответил:
– Мне надо вернуться, обязательно надо!
Я посмотрел на братьев, сидевших за столом, и не выдержав, заплакал, заплакал и наставник.
Я понял: сона уже полностью покинул меня; эта, когда-то такая возвышенная и поэтическая вещь, словно кровь, брызнувшая из раны, все-таки вытекла, иссохла.
Вечером наставник и братья проводили меня на вокзал. Мы шли по холодным улицам города, все молчали, лишь проезжавшие машины издавали визги, от которых учащалось сердцебиение, иногда проходили какие-то люди, все как один – низко наклонив голову и вытянув ее вперед, они стремительно бросались в запутанные улицы и переулки.
Под огромным рекламным плакатом возле станции сидел оборванный нищий, в его руках плакала сона, печальные звуки поднимались высоко в небо в мерцающей ночной темноте.
Это была истинная мелодия «Сто птиц летят к фениксу».
Перевод Е. И. Митъкиной
Флаг
Ван Хуа
1
Наша деревня Древесные грибы Муэрцунь расположена через реку напротив села Трех мостов – Саньцяо-чжэнь. Когда мы у себя громко разговариваем, у людей в селе уши закладывает, а вот нам, чтобы купить в селе пачку соли или ребятам тетрадки для школы, приходится попотеть. Улицы села раскинулись, как спящая кошка, на берегу Пионовой реки Муданьцзян, отсюда и упоминание Трех мостов, но ни один из них не ведет в нашу деревню. Дело в том, что возле деревни река такая широкая, что мост через нее не построить. Чтобы попасть на сельскую ярмарку, приходится идти вдоль реки около часу до каменного арочного мостика. Эта дорога выматывала даже мужчин, которые считали, что ноги у них гораздо крепче женских, поэтому и малышню не пускали учиться в центральную начальную школу. У нас в деревне издавна была своя начальная школа и свои учителя. Но недавно было введено требование закрыть все деревенские младшие школы в радиусе пятидесяти километров от центральной школы. В округе они были закрыты, а у нас остался один пустой класс и единственный учитель, который выучил три поколения людей в нашей деревне. Он получал зарплату от односельчан.
В этой школе были две комнаты с глинобитными стенами. Учителя звали Аймо, он начал преподавать в шестнадцать лет, а сейчас ему было шестьдесят. Имя Аймо он себе выбрал в первый же день работы в школе, до этого у него была только детская кличка – Крепыш. Он решил, что имя, полученное от родителей, простовато, и поменял его на Аймо, что значит «Возлюбивший тушь». Когда он носил имя Крепыш, никто не обращал на него внимания, крутись он поблизости хоть полдня. А как стал зваться Аймо, то люди начали провожать его взглядами. С новым именем он словно излучал свет культуры, стар и млад звали его уважительно – «учитель Аймо». Когда к нему обращались женщины, то смотрели на его нос. Дело в том, что в нашей деревне жил старик по фамилии Цяо, который разбирался в физиогномике, от него все узнали, что размер носа человека очень важен. У кого нос большой, у того детородный орган тоже большой. Нос у Аймо был не такой уж и огромный, тем не менее, когда мы глядели на него, сердца наши учащенно бились. Учитель изучал такую сильную ауру культуры, что все мечтания о нем становились возвышенными. Мы все, как одна, погружались в грезы.
Когда вся деревня, от мала до велика, почтительно к нему обращалась, это было как бальзам на душу учителю Аймо, а когда еще и женщины, не скрывая, пялились на его нос, то сердце его радостно трепетало. Он ощущал, как его лицо ласкают жаркие волны их страсти.
Как-то учитель Аймо начал замечать, что вежливое обращение услаждает его слух все реже, причина заключалась в том, что все мужчины деревни на время уехали. Затем он ощутил недостаток сладкой неги в сердце: мужчины увезли с собой всех женщин. А потом и малышня почти перевелась. Некоторых увезли в другие края родители, у других отцы отправились на заработки, а матери арендовали дома поближе к сельской начальной школе, в которую отправили детей. Вот и получилось, что сначала в его классе осталось всего два ученика, а затем лишь грубо сколоченные столы и скамейки.
Как-то под Праздник фонарей, на пятнадцатый день первого лунного месяца, ветер поднял на реке Мудань-цзян гребни волн. Погода стояла пасмурная, метались тени в человеческий рост, учитель Аймо уже больше получаса стоял на пороге пустой школы и смотрел через реку на размытую дождем сельскую дорогу. Дорога эта, подобно кокетливой моднице, что демонстрирует взору мужчин притягательную полоску голого животика, приковала к себе его взор. Полчаса назад туда ушли из его школы двое малышей, их за руку повели вниз с холма родители. Вдоль реки вилась, прижавшись к скату холма, тропинка, при всем желании он не мог разглядеть на ней путников. А тот отрезок сельской улицы был как на ладони, но учитель Аймо тут же увидел бы детей, появись они там.
«Все до одного ушли, неужели на двух последних детишек не дадите насмотреться?» – думал Аймо, а ребятишки все не появлялись на сельской дороге. Его взор уже не излучал той мужественности, которая когда-то заставляла трепетать женские сердца, последние его силы унесли с собой эти два ученика, покинувшие школу.
Аймо намеревался приступить к занятиям после Праздника фонарей, два ученика – это уже что-то, есть для кого вести уроки, значит, он остается учителем. С утра он приступил к стирке государственного флага – самое важное дело перед началом занятий. Не слыхали про стирку флага? А учитель Аймо делал это после окончания каждой четверти, затем уносил флаг домой и аккуратно складывал в коробку с ароматными травами, а перед началом четверти опять его тщательно простирывал. Когда ткань флага теряла свой цвет, он ее подкрашивал красителем. Красный цвет подновленного флага горел особенно ярко в лучах солнца или промокнув под дождем.
В тот день учитель только закончил стирку флага и вывесил его на веревку сушиться, как последних двух ребятишек увели родители. Они заранее договорились, что придут домой к учителю Аймо попрощаться, раньше все его выпускники, прежде чем отправиться на учебу в сельскую школу средней ступени, приходили к нему на поклон. Но эти двое ребятишек еще не закончили младшие классы, Му Сяоци только перешел во второй класс, а Сунь Фэй – в четвертый.
По одну сторону бельевой веревки стоял учитель, а по другую – ученики со своими отцами. На лица детей падал красный свет пронизавшего флаг солнца, блики от воды в тазу мерцали на детских личиках. А лица отцов покрылись красными и лиловыми пятнами, будто они только что крепко выпили или тужились в нужнике.
Есть такая поговорка: «Кто день был твоим учителем, остается отцом на всю жизнь». Когда жители деревни Муэрцунь приводили к Аймо своих детей, он становился для них вторым папой. А теперь они, получается, больше этого не хотели. Аймо учил их отцов, их самих и теперь их малюток. Но никто не задумался, во что превратится жизнь учителя после того, как он останется без учеников.
Оба отца в душе понимали, что намерением забрать детей они ранят сердце учителя.
Учитель догадался о цели их прихода:
– Какими стройными рядами вы пришли, уж наверно, неспроста!
Мужчины виновато втянули шеи и сглотнули слюну, приветствие учителя их смутило, лица стали напряженными. Из дома послышался кашель, судя по его надсадности, он вырвался из горла больного человека.
– Болезнь у матушки-наставницы все не проходит.
Вся деревня почтительно обращалась не только к нему, но и к его жене.
– Матушка-наставница очень устает, кабы учитель Аймо меньше тревожился о наших ребятках, ее здоровье пошло бы на поправку, – папаши поспешили завести разговор о кашле, надеясь облегчить тяжесть прощания.
Учитель не клюнул на эту уловку, вперив взор в двух учеников. Те не решались смотреть ему в глаза и уставились на свои руки. Пальцы сплетались все туже, а взгляд стал блуждающим.
– Оба уходите? – В голосе добавилось суровости, в ответ последовало молчание.
Один из папаш заговорил:
– Вот заберем этих двух озорников, учитель Аймо сможет вздохнуть свободно, уж мы-то знаем, как они могут досаждать.
Второй отец добавил:
– Да это те еще бандиты, учитель избавится от стольких тревог!
Из дома опять донесся кашель, вышла жена Аймо. Внешность ее была такой, что у мужчины при взгляде на ее не возникло бы никаких мечтаний, а у женщины – ни грамма зависти. Похожа на ходячий скелет, за спиной корзина.
Мужчины поспешили обратиться к ней с почтительным «матушка-наставница».
Изо всех сил сдерживая кашель, она поддержала пустой треп:
– Пришли записать детей в класс?
Оба тут же закачали головами и перевели разговор на другую тему:
– Болезнь матушки стала серьезней, наступает весна, погода переменчивая, берегитесь простуды.
– Мед у вас еще остался? Как начинается приступ, надо тут же пить его с водой.
– Мое старое горло уже никуда не годно, от меду никакого толка, глотка превратилась в засахаренную морковку, – матушка-наставница пыталась шутить, чтобы поддержать разговор, но ее слова вновь прервал приступ кашля, шея напряглась и покраснела, из горла вырывался свист, будто в ее глотке, терзая голосовые связки, дрались два беса.
– Иди в дом, надо делами заниматься, – попросил учитель.
Кашель не оставлял в покое несчастную матушку, она смогла только скривить рот в морщинистой улыбке, повернувшись к детям, и тут учитель Аймо добавил:
– Они не записываться пришли, а попрощаться.
Матушка вдруг перестала кашлять, стихло сипение в горле. Взгляд ее на миг просветлел, но в воздухе повис смрадный запах слюны, она пыталась остановить новый приступ кашля.
– Все ребятишки из деревни уехали, как же теперь быть учителю?
Отцы покраснели и переглянулись, на лицах была написана неловкость, они заговорили наперебой:
– Да эти двое такие сорванцы, без них учителю будет спокойней.
– Учителю станет спокойней, у матушки-наставницы жизнь станет полегче, надо бы вам излечить недуг горла.
Но учитель прервал их:
– Вы собрались уезжать из деревни, там оправите детей в школу?
– Конечно, как же можно не ходить в школу!
– Ладно, идите, в других местах учат лучше, чем у нас, не ровен час ваши дети вырастут и станут опорой государства, а мы еще загубим талант!
Отцы еще больше смутились и от испуга принялись мямлить себе под нос. Так и не ответив ничего вразумительного, они подвели детей, чтобы те поклонились учителю Аймо. Дети с готовностью встали на колени и принялись истово ударять головой о землю. Учитель бросился их поднимать. Дети встали, колени и лоб были в земле. Аймо решил было отряхнуть их, но передумал и, расправив флаг, пошел к двери, позвав матушку-наставницу.
Сначала он собирался вместе с женой нарезать в поле травы для свиней, но на полпути остановился и решил пойти в школу. После стирки флага положено было привести в порядок школу. Вчера, перед тем как заснуть, он принял решение об уборке. Пусть два последних ученика ушли и школа опустела, он все равно собирался наводить там порядок. Он был очень упрямым человеком и никогда не отказывался от принятого решения. Ученики ушли, но школа-то стоит, надо кое-где починить и подлатать. Он не может бросить школу, как бросили ее школьники. Свыше было предопределено, что эта деревенская школа станет его судьбой.
Учитель все ходил вокруг глинобитного здания из двух комнат, а глаза были устремлены на берег реки, высматривая фигуры только что ушедших детей. В тот день Аймо подобно каменной скале, простоял у школы до обеда, но так и не разглядел на дороге села покинувших его школу учеников.
Вечером, возвращаясь домой из школы, Аймо простудился. Он пожаловался матушке-наставнице, что все тело у него ломит, кости ноют, надо бы прилечь. Жена сварила ему настойку с имбирем, он выпил, но не помогло. Принял несколько таблеток, ночью жена спросила, не полегчало ли. Он сказал, что нет. Слова жены сопровождались свистом в легких, как из кузнечных мехов, который почти оглушал его, она неотрывно следила за его взглядом. Обычно излучающие мужскую силу и энергию, теперь его глаза были прикрыты слабыми уставшими веками. Из-за поседевшей реснички казалось, что из глаза исходит пугающий белесый свет. Сердце матушки-наставницы сжалось, она часто заморгала, как если бы в глаза попал песок.
– В деревне еще остались ребятки? – спросила она.
Аймо открыл глаза, жена продолжала смотреть на седую ресницу.
– Ребенок Кайхуа уже должен пойти в школу. – Женщина улыбнулась, из горла послышался свист.
– Он какой-то большой и странный, что-то с головой не так, думаешь, Кайхуа отправит его в школу? – Учитель Аймо опять закрыл глаза.
Матушка хотела вырвать эту седую ресничку, ее пальцы как два сухих сучка осторожно приблизились к его глазу, веко вздрогнуло, и муж отдернул голову.
– Тебе надо сходить к Кайхуа, она должна согласиться, – предложила жена.
Его глаза открылись, в них вновь загорелся огонек жизни.
2
Во дворе у Дэн Кайхуа выросло дерево цедрелы необъятной толщины. Три года назад по весне Дэн Кайхуа вбила там деревянный столб из цедрелы, чтобы привязывать к нему своего ребенка по имени Дуаньдуань. Кто бы мог подумать, что на следующий год столб даст побеги! Молодые ветви быстро тянулись вверх. Прошло две весны, и столб превратился в дерево. Вот только этой весной Дуаньдуань принялся грызть его кору, неизвестно, как это могло сказаться на росте дерева.
Ребенок вышел из чрева Дэн Кайхуа шесть лет назад, в полгода он уже умел ходить. Отродясь никто не видал малыша, который пошел бы в шесть месяцев. Кайхуа с мужем очень этим гордились. Скоро оказалось, что Дуаньдуань быстро растет, а вот учиться разговаривать не собирается. В три года он еще не умел говорить. Родители звали его по имени, он будто и не слышал. Подумали, что он глухой, но он мог расслышать стрекотание кузнечика в нескольких метрах, и тут же мчался туда, чтобы схватить его и засунуть в рот. Подумали было, что немой, но той весной, когда ему стукнуло три года, он вдруг громко закричал, побежал навстречу уходящему за горизонт солнцу с воплем: «Ли Муцзы, мать твою!»
Ли Муцзы звали его отца, но тот не рассердился на ругань, все-таки это были первые слова, которые сказал ребенок. Пусть от таких слов уши вяли, но отец на радостях обнял и закружил сына. Кто теперь посмеет говорить, что Дуаньдуань немой, он ведь заговорил! Чтобы вызвать у ребенка желание еще что-то сказать, Ли Муцзы тоже понесся в сторону красного заходящего солнца и заорал во все горло: «Ли Муцзы, мать твою!» В тот вечер из их двора доносились крики отца и сына, они своей руганью испугали солнце, а затем и тень горы, за которую оно закатилось.
Тем вечером мать и отец без устали обсуждали своего сына, пока глотки не пересохли, но Дуаньдуань больше не открывал рта. Он даже не слушал, о чем они говорят, играя с пластиковой крышкой от бутылки. Мать на радостях отвинтила ее от банки с лекарствами и дала сыну поиграть. Кайхуа просила его позвать папу – он ни в какую, Ли Муцзы требовал, чтобы сын позвал маму – ноль внимания. В конце концов терпение у Кайхуа лопнуло, и она в сердцах отняла у него крышку, но сын даже не взглянул на мать, а тут же повалился и уснул.
На следующий день Дуаньдуань держал свой рот так же плотно сжатым. Чтобы заставить его говорить, Ли Муцзы с наступлением сумерек специально отнес его на то место, где было видно заходящее солнце, но ребенок так и не изрек желанное ругательство, которое могло бы сотрясти землю. Тем не менее в тот день он выпалил имя Дэн Кайхуа, глядя на большого муравья у себя под ногами.
Услышав это, Ли Муцзы расхохотался, как умалишенный, и отпустил шутку в адрес своей жены:
– Этот черепаший отпрыск, еще сидя в животе у матери, нахватался дрянных слов, обругал отца и не угомонится, вот и тебе досталось. – После взрыва смеха он вдруг помрачнел.
Вскоре Дуаньдуань взял привычку ковырять стены и пытался грызть изделия из пластика. В это время его отец, как и все мужчины в деревне, уехал на заработки.
Ли Муцзы был плотником, он ходил по деревням, предлагая свои услуги. Он остался в доме Дэн Кайхуа после того, как сколотил ей мебель в приданое. Тогда у нее остался только старик отец, который давно страдал заболеванием гортани. Чувствуя приближение конца, старик желал лишь одного: чтобы его доченька Кайхуа привела в дом зятя. У него не было сил хлопотать по этому поводу. Понимая, что не успевает, он приказал срочно начать подготовку приданого для дочери. Когда выяснилось, что к приданому добавился и зять, старик со спокойным сердцем отошел в мир иной.
Ли Муцзы после переезда в дом жены по-прежнему ходил по деревням в поисках заказов. Когда был холост, больше времени проводил вне дома, а теперь стал чаще бывать в семье. Уходил на два-три дня и спешил вернуться. Дэн Кайхуа и помыслить не могла, что однажды он уйдет и пропадет на три года.
Поначалу он звонил пару раз в месяц, высылал деньги, а потом звонки стали редки, а денег все меньше. В конце концов кончились и звонки, и деньги. Только под Новый год односельчане передавали кое-что от него, и ни слова больше. Деревенские говорили, что он только просил передать деньги жене и ничего не сообщал о себе. У него спрашивали, может, что передать о его делах, он открывал было рот, но ничего не говорил. На дальнейшие расспросы Кайхуа ей отвечали, что давно пора самой ехать к мужу, а она все не соберется. Женщина спрашивала:
– Муцзы так сказал?
– Он мне ничего не говорил, – отвечал односельчанин, потупив взгляд, – если решишь ехать, то после Нового года я заберу тебя с собой.
– А как быть с Дуаньдуанем?
– И его бери. Но как бы ни вышло, что, приехав к нему, ты тут же захочешь вернуться.
На лбу у Дэн Кайхуа собрались складки, выражение лица было горестное.
– Дуаньдуань в последнее время ковыряет стены и пытается их грызть.
– Да, такой малец и впрямь обуза, но в двоем ее тянуть проще, чем тебе одной.
Глаза женщины наполнились слезами, она никому не хотела говорить, что Ли Муцзы тяготится сыном.
– А если твой муж через восемь или десять лет так и не вернется, ты так же будешь ждать?
Эти слова ее окончательно отрезвили.
Она прожила в слезах целый год, затем отдала деньги от мужа тому, кто их привез, добавив:
– Отдай эти деньги Ли Муцзы и скажи, что если он не собирается возвращаться, то и денег от него не надо.
Она сказала это очень спокойно, но в сердце все клокотало и бушевало, сердце пронзила боль, выступили слезы. Вернувшись домой, она увидела, что привязанный к дереву Дуаньдуань, как волчонок, оскалившись, грызет кору на столбе. На душе стало тяжело, хотелось удариться головой об этот столб и покончить собой, но она сдержалась. «Вот умру и избавлюсь от страданий, а Дуаньдуань как будет жить?» Мысли о смерти посещали ее не раз, но останавливала тревога о сыне. Кайхуа думала умереть вместе с ним, но быстро прогнала это наваждение.
На стволе цедрелы появились почки, ветки покрылись сочными красноватыми побегами, каждый такой побег дней за десять мог вырасти на метр в длину, а за два месяца стать толстой веткой. На боковых ветках тоже были почки, но более нежные, их обычно обрывают и используют в пищу. Городские обжоры считают блюдо из почек цедрелы, пожаренных с яйцом, деликатесом. Кайхуа их тоже собирала. Она оттащила жующего кору Дуаньдуаня от дерева и сунула ему в руку твердую бамбуковую палку со словами:
– Почки с дерева повкусней коры, я их соберу и пожарю тебе с яйцом.
Она понимала, что уши сына глухи к ее словам, но и разочаровавшись, продолжала надеяться. Ребенок не хотел брать палку и тянулся ртом к коре. Пришлось взять его на руки и отнести подальше от дерева. Мальчик рос очень быстро, в шесть лет уже доставал до плеча матери. Когда она держала его на руках, казалось, что это мать повисла на теле ребенка, он изо всез сил сопротивлялся и даже потащил мать за собой по земле.
Аймо спокойно наблюдал эту сцену, пока Кайхуа не оказалась на земле, а зубы Дуаньдуаня вновь впились в древесную кору. Увиденное его слегка ошарашило. Когда Кайхуа шмякнулась на землю, а ее грудь всколыхнулась, учитель опешил. Подобно тому, как высохшие ветки мечтают покрыться свежими почками при дуновении весеннего ветерка, колыхание пышной женской груди заставило тревожно затрепетать сердце шестидесятилетнего учителя, он на миг растерялся и невольно уставился на Кайхуа. Измученная женщина хотела посидеть немного на земле и отдышаться, но, заметив учителя Аймо, застеснялась своего глупого вида и вскочила на ноги. Растрепанные длинные волосы упали на лоб, как ветви плакучей ивы, она быстрым движением убрала их за уши. Женщины всегда очень озабочены тем, как выглядят в глазах мужчин. Даже если перед ними слепой, все равно стараются выглядеть очаровательными. Перед Кайхуа стоял вовсе не слепой, а мечта всех женщин деревни учитель Аймо, славившийся воспитанием и культурой, какой не могли похвастать остальные мужчины. Молодой женщине тем более хотелось выглядеть хорошенькой. Не успели страстные желания дать побеги, как были пресечены в корне: между ними стоял жующий кору Дуаньдуань.
– Возишься с ребенком? – спросил учитель.
Кайхуа покачала головой, она выглядела смущенной. Не успела пригладить волосы и приосаниться, как на нее написал сын, сердце ее сжалось, а на глаза навернулись слезы.
– Я… твоему Дуаньдуаню в этом году шесть лет, я хотел сказать, что ему надо в школу, – учитель перевел взгляд на мальчика, который жевал и проглатывал кору.
К этому времени эротические флюиды, что возникли было между взрослыми, улетучились, осталась лишь суровая реальность.
Кайхуа казалось, что Дуаньдуань не грызет древесную кору, а гложет ее сердце, в груди будто что-то разрывалось.
Учитель подошел к ребенку:
– Дуаньдуань, тебе надо идти в школу.
Тот и бровью не повел, продолжая заниматься своим делом. Аймо поднял его и понес к дому, но не смог войти внутрь – мешала веревка, которой мальчик был привязан к столь обожаемому им дереву цедрелы. Дуаньдуань вдруг издал пронзительный вопль, подобный громкому гудку тепловоза. Немолодой уже учитель чуть не оглох, в ушах зазвенело, пришлось поставить ребенка на землю. Тот вновь упрямо направился к дереву и принялся наслаждаться любимой корой.
Увидев, что учитель испачкался в грязи, Кайхуа виновато сказала:
– Посмотрите, вы весь в земле.
– Если он так себя ведет, то надо бы его привязать подальше от дерева.
– Ничего не поделаешь, днем он еще и на стену бросается, его еще угораздит в стену головой биться. Погрызет кору и только зубы испортит, а если на стену кинется, то бог знает что выйдет.
Учитель тяжело вздохнул:
– Я слыхал, что эта болезнь, аутизм, случается у городских детей, как же получилось, что беда случилась с Дуаньдуанем из деревни!
– Это рок.
– Как ты думаешь, он сможет учиться?
– Вы же видите, какой он…
Аймо сделал глубокий вдох и изрек:
– Может статься, что, начав учиться, он избавится от этих вредных привычек.
– Он доставит вам столько хлопот.
– Ну, хлопоты хлопотами, а учить его все равно надо. Я всех в нашей деревне учил, а его не смогу что ли? Приводи его завтра в школу, – Аймо не сказал, что школа уже опустела и Дуаньдуань будет единственным учеником.
3
Учитель ушел, чтобы навести порядок в школе. Он уже убирал вчера днем, после того как от него ушли последние ученики. Тогда он не столько хотел подмести вокруг школы, сколько прогнать из сердца печаль и уныние. Но теперь у него опять появился ученик, уборка помогла бы ему привести в порядок мысли, успокоить бьющееся сердце. Настроение радостного нетерпения овладевало им накануне каждой четверти, все радовало глаз и услаждало уши, в животе ощущался приятный холодок. Каждый раз после уборки учитель Аймо вставал у доски и репетировал начало урока, он выступал и в роли актера, и в роли публики. Игра на этой сцене полностью захватывала его, когда радостное опьянение проходило, он ощущал прилив энергии во всем теле, мускулы и нервы были напряжены. В таком приподнятом настроении он возвращался домой, с нетерпением ожидая, как затащит матушку-наставницу в постель, чтобы со всей страстью предаться с ней любви. Жена понимала, что для него это часть ритуала начала четверти, и всегда была готова посодействовать. За день до начала уроков она планировала свои дела так, чтобы к моменту, когда возбужденный учитель Аймо вернется домой, не быть ничем занятой. Более того, по молодости она могла так подгадать, чтобы самой быть уже достаточно разогретой к его приходу.
За всю жизнь Аймо столько раз начинал новую четверть, и у семейной пары только два раз случались накладки. В первый раз, когда он пришел домой, жена как раз насыпала рис в кастрюлю, к концу любовного акта белый рис превратился в черный, а по всей деревне разнесся запах пригоревшей пищи. В другой раз вернувшийся домой учитель застал жену наливающей в сковороду масло, дело чуть не обернулось бедой. Когда супруги занимались любовью, то увидели огонь, ползущий по стене. Приятное занятие пришлось прервать, дом чуть не сгорел, да и хозяева могли бы погибнуть, мысль об этом вызывала у них панический страх.
И все же эти два случая никак не изменили привычки учителя Аймо отмечать начало четверти любовными утехами, для него это была такая же насущная потребность, как трубка для курильщика опиума. Он становился буквально наэлектризованным, перед мысленным взором вставали картины, от которых его тело таяло в сладостной неге. Однако в этих воображаемых амурных баталиях участвовала вовсе не его жена. Деревенские женщины заглядывались на его нос, а он порой позволял односельчанкам стать участницами своих любовных фантазий. Когда женщины в открытую пялились на его нос, другие части его тела не могли не реагировать, но, как учитель, он должен был блюсти себя, и все его подвиги ограничивались воображением. Для него это было как приправа к хорошей еде, добавляло пикантности в его половую жизнь с матушкой-наставницей.
Но о себе начал заявлять возраст, возможности перестали отвечать желаниям. Теперь во время «церемонии начала четверти» он справлялся с задачей, распаляя себя необузданными фантазиями. А нашей матушке-наставнице казалось, что она от года к году высыхает, старея, она все чаще испытывала угрызения оттого, что уже не испытывает такого возбуждения от соитий с мужем, как прежде.
В этот день она обычно готовилась, нагревала чан воды, обтиралась и поджидала из школы мужа, который, как обычно, опьяненный страстью, тащил ее в постель. Долгое ожидание становилось особенно тягостным, каждая такая церемония начала учебы становилась праздником для них обоих. В этот день учитель Аймо пылал, как огромный факел, а она была как прекрасный, только распустившийся цветок. Она всегда с особым нетерпением ожидала дня накануне начала учебы, подобно сливе мэй, жаждущей капель весеннего дождя. Такой она была в молодости, не изменилась и постарев. Но молодое дерево радостно зацветает после первого дождя, а дряхлое под дождем только жалобно стонет. Цветение – это радость в чистом виде, а в стонах к радости порой примешана и горечь бессилия.
До прихода мужа женщина помазала у себя между ногами слюной, она с досадой заметила, что там у нее совершенно сухо и слюна быстро высыхает. В последние два года она прибегала к этой секретной уловке, чтобы на время увлажнить почву, которую будет возделывать учитель Аймо. Она полагала, что муж пребывает в неведении об этой хитрости, и эта мысль доставляла ей радость. Но ей все равно не удавалось избавиться от скованности, она неотступно следила за тем, как змеевидная дорожка устремляется в ложбину между холмиками. Дорожка углубилась между холмов и пропала, остался только хвостик, задержавшийся у входа в ее дом. Как только учитель Аймо появлялся в начале дороги, ей нужно было бежать в дом, раздеться и ждать. Вот уже много лет все происходило в этой последовательности, раньше она притворялась, что занята делами, став старше, перестала. Отказ от притворства указывал, с одной стороны, на то, что с возрастом в ней угасли игривость и кокетство, с другой – что к празднику надо готовиться как следует. Так накануне Нового года женщины готовят много вкусного.
Учитель Аймо подмел в двух классных комнатах, аккуратно расставил парты, еще раз протер доску. Она была совсем старой и облупленной, как ее ни три, все равно выглядит грязной. Понадобилась влажная тряпка: вода поистине обладает чудесными свойствами, покрытая белесыми пятнами доска вновь стала гладкой и черной. Стоя у доски, учитель повернулся к пустому классу и собрался было начать урок, но замялся, потому что теперь его учеником должен был стать больной аутизмом Дуаньдуань. Честно говоря, у него никогда не было таких учеников, как же с ним заниматься? Учитель поразмыслил, и решил вести вводный урок по обычной методике. «Неважно, болен он или нет, он мой ученик, и надо отнестись к работе с ним серьезно», – подумал Аймо, после чего запер школу и направился домой.
Он летел как на крыльях. Много лет подряд деревенские кумушки пристально наблюдали за этими возвращениями учителя Аймо. Им казалось, что в это время он как никогда притягателен, спина прямая как струна, руки ритмично движутся вдоль тела, женщины воображали, как красиво он смотрелся бы скачущим на лошади. От таких мечтаний уши краснели, а сердце замирало, мы и представить не могли, что в этот момент он тоже грезит о нас. Его наполняла энергией воображаемая любовная сцена, он несся как стрела по узкой дорожке, захваченный выдуманным сюжетом, чтобы быстрей оседлать возлежащую на постели заждавшуюся женщину; наконец из тучки пролился бы дождик и увлажнил землю[66].
Они всегда предавались любви в полной тишине. Возможно, они просто не догадывались, что голос сможет усилить удовольствие, подбавить, так сказать, огня. А может быть, потому, что Аймо был учителем и считал необходимым сдерживаться, а его жена, как матушка-наставница, предпочитала блюсти себя. Во время любовных утех они стискивали зубы так плотно, что на губах проступали капельки крови. Подступи к горлу удушье, они все равно не издали бы ни звука.
Вот почему когда Дэн Кайхуа с сыном подошла к их дому, она и не догадывалась о том, что происходит внутри. Женщина принесла подарок учителю Аймо, завтра ее сын должен пойти в первый раз в школу, но неизвестно, сможет ли он учиться. А сколько беспокойств она доставит учителю! Надо поднести подарок, чтобы сгладить неловкость положения.
Дуаньдуань был привязан к ее талии веревкой длиной с вытянутую руку матери. Мальчик иногда становился настолько тихим, что не слышно было даже его дыхание. И сейчас он был именно таким, а его мать, пережившая в последнее время столько невзгод, тоже стала молчаливой, она предпочитала лишний раз промолчать. Именно поэтому они так тихо вошли во двор дома учителя.
В прихожей никого не было, Кайхуа поставила корзину и за руку повела сына внутрь. До нее донесся звук шумного дыхания матушки-наставницы похожий на свист кузнечных мехов. Судя по частоте дыхания, она была сильно взволнована, воздух с трудом вырывался из легких, казалось, у нее в горле застрял тряпичный кляп. Вероятно, матушка лежала на кровати и тяжело дышала. Кайхуа хотела принести из кухни чашку горячей воды, но, не найдя термоса, передумала.
Она и не представляла, что увидит такую сцену! Кайхуа вовсе не была несообразительной, но в этот раз она растерялась. Вместо того чтобы тут же выйти из комнаты, она застыла на пороге, пока, двое на кровати от испуга не спрятались под одеяло. У нее между ног повлажнело, и Кайхуа не могла сдвинуться с места. Так заброшенная земля жаждет, чтобы пахарь, обрабатывающий другой кусок, взборонил и ее.
Женщина все не уходила, а двое в постели не решали высунуться из-под одеяла. Строгий голос учителя донесся из-под толстого покрывала, было слышно, что он очень рассержен:
– Сказал же тебе, завтра приводи Дуаньдуаня в школу записываться!
Матушка-наставница зашлась под одеялом кашлем, как будто в спальню ворвалась не Кайхуа, а порыв ледяного ветра, который продул ее до костей, ее бедное больное горло вновь терзал сильный приступ.
Дуаньдуань вдруг тоже раскашлялся, он был похож на попугая, который подражает хозяину: кашлянул несколько раз и затих. Звуки, издаваемые сыном, вывели Кайхуа из оцепенения, возбуждение, охватившее тело, прошло. Она взяла мальчика на руки и вышла, а Дуаньдуань вдруг выдал:
– Матушка-наставница, кхе-кхе!
За всю свою жизнь он заговорил только два раза, когда обругал своего отца на закате дня и обозвал мать, рассматривая муравья у себя под ногами, больше не произнес ни одного нормального слова. Только что услышанное потрясло Кайхуа не меньше, чем постельная сцена с участием учителя. Выходит, что она дважды испытала шок в доме Аймо.
Затем женщину охватила радость: Дуаньдуань наконец заговорил! В прошлые два раза его реплики звучали совсем невпопад, а на этот раз слова были связаны с происходящим вокруг, это же невиданный прогресс! Для матери только что услышанное было таким же нежданным подарком, каким становится цветение засохшего дерева для заботливого садовника.
Она прижала ребенка к себе, пытаясь заставить его сказать еще что-нибудь:
– Как Дуаньдуань сказал про матушку-наставницу, кхе-кхе, да?
Но мальчик наотрез отказался говорить и молчал. Похоже, он вообще не сознавал, что вымолвил слова, и подавно никак не давал понять, что намерен сказать что-то еще.
Но Кайхуа отказывалась верить, что ее сын не заговорит, веру в лучшее она прятала в глубине души, теперь она все надежды возлагала на учебу в школе. Коли Дуаньдуань сказал что-то дома у учителя, это значит, что у провидения есть какие-то намерения в отношении ее сына. Мальчик до сих пор был заперт в каком-то другом мире, может статься, что учитель Аймо выпустит его оттуда. Аймо стал чуть не святым в представлении женщины, а на святое нельзя покушаться. Только что увиденная сцена и охватившее ее при этом страстное желание были еще свежи в памяти, но быстро меркли и уходили в прошлое, превращаясь в туманное видение. Теперь ей казалось, что все это не связано с учителем.
Кайхуа повела сына домой, надо было как следует подготовиться к первому дню в школе. Первый раз в первый класс – это повод для стольких материнских хлопот, надо купить ранец, новую одежду. Начало учебы – это же начало нового этапа в жизни ребенка, почти историческое событие. Любая мать возлагает самые большие надежды на этот день. Дуаньдуань не такой, как остальные дети, поэтому у Кайхуа не было чрезмерных ожиданий, она лишь надеялась, что благодаря учебе он станет обыкновенным ребенком, как все. Задача непростая, поэтому мать Дуаньдуаня очень серьезно отнеслась к ритуалу подготовки к школе.
Сначала она решила пойти в магазин и купить сыну ранец и новую одежду. Ровно два года не прогуливалась она по улицам села. Хотя до него рукой подать, стоит только пересечь реку Мудань-цзян, но выбраться туда давно не удавалось. Муж Ли Муцзы под предлогом заработков бросил ее одну, оставив наедине во всеми тяготами воспитания такого ребенка, поэтому она почти не выходила со двора, даже соль и стиральный порошок просила купить соседей. А теперь, опять же благодаря сыну, она сможет пройтись по торговой улице села.
Дорога до села долгая и узкая, Кайхуа вела сына за собой, привязанным к своему поясу. Это странное зрелище тут же привлекло много удивленных взоров. Несколько лет назад Дуаньдуань схватил с уличного прилавка пластиковый таз и со смаком принялся его грызть, вот тогда удивленные и возмущенные взгляды чуть не придавили ее к земле. Под этими обвиняющими взорами невольно хотелось провалиться сквозь землю и становится так больно, словно от тебя по кусочкам отрезают плоть.
Но сегодня Кайхуа не собиралась сгибаться ни под чьими взглядами. «Как-никак мой сын идет в школу!» – подбадривала она себя всю дорогу.
На каменном мосту дорога расширилась, можно вести ребенка за руку, но веревку Кайхуа не отвязала, потому что Дуаньдуань в любой момент мог вырваться и убежать. Он был гораздо крупней и сильней ровесников, отличался упрямством. Если мама не отпускала руку сама, он начинал ее кусать, пока не освободится. Тыльная сторона обеих ладоней у Кайхуа была покрыта ссадинами и следами укусов, оставленных зубами сына. Эти раны врезались в память матери, причиняя не столько физическую боль, сколько душевные муки. Таким образом, веревка была необходима на случай, если Дуаньдуань выдернет руку, после чего непременно попытается стукнуться головой о ближайшую стену.
На дороге любопытных взоров стало больше, они, как репей, цеплялись ей за спину. Кайхуа старалась идти с прямой спиной и не опускать голову. Ребенок пристально следил за проехавшей в клубах пыли машиной. Когда она исчезла за поворотом, он начал вырываться. Устремившись в направлении уехавшей машины, он принялся выдергивая руку. После двух неудачных попыток ребенок, как дикий зверек, развернулся, собираясь броситься на мать. Он уже открыл рот, чтобы вцепиться в ее руку, но тут Кайхуа его отпустила. Дуаньдуань, как сорвавшийся с поводьев дикий жеребец, понесся что было сил и протащил мать по земле на расстояние шагов десяти. Кайхуа уселась на землю, она сделала это специально, чтобы остановить сына. Этот прием она придумала давно. Стоящее дерево легко повалить, а вот сдвинуть лежащий камень совсем не просто.
Догнать машину не удалось, и Дуаньдуань впал в бешенство: он вопил не своим голосом, яростно мотал головой, брызжа слюной, которая разлеталась вокруг и пачкала чистую одежду, в которую его одела с утра мать. Вокруг них быстро образовалась толпа зевак, глазевших на мать с сыном, посыпались и реплики. Эти слова были похожи на пугающий треск разрывающихся хлопушек, которые поджигает гурьба ребятишек под Новый год:
– Что же он творит! Он что, сумасшедший?
– Откуда взялся этой идиот?
– Безумного вывели на улицу, во дают!
Подъехала другая машина, люди расступились, Дуаньдуань помчался за ней в переулок, а Кайхуа следом. Погнавшись за сыном, она смогла избавиться от раздраженных взоров толпы. Благо по улицам села ездит много машин. Сегодня у Дуаньдуаня вдруг пробудился к ним интерес, он как вкопанный остановился напротив микроавтобуса и принялся его ощупывать. Кайхуа казалось, что так глядят на только что родившегося младенца, столько в его движениях было любви. Рядом оказался магазин одежды, женщина решила воспользоваться тем, что сын увлечен машиной, и попросила владельца подобрать подходящую одежду ребенку. Хозяин лавки оглядел Дуаньдуаня, его смутило, что мать и сын были связаны веревкой, а на лице у ребенка было отсутствующее выражение. Кайхуа поторопила его, и он вынес на примерку спортивный костюм зеленого цвета с двумя белыми полосками на лампасах. Мать на глаз прикинула, что костюм впору, и расплатилась. В это время к микроавтобусу подошел молодой мужчина с рыжеватыми волосами и жидкой бородкой и грубовато спросил:
– Чей это бутуз, что он делает возле машины?
Кайхуа поспешила прижать мальчика к себе и объяснить:
– Он совсем маленький, не видел машин…
Не успела она договорить, как Дуаньдуань вновь закричал и бросился на машину.
Мужчина посуровел, глаза стали узкими щелочками. Он вдруг завопил так, будто у него штаны загорелись:
– Ты что творишь, не испорти мне машину! Если повредите эмаль, будете платить мне две тысячи восемьсот юаней, поняли!
Кайхуа рассердилась:
– Разуй глаза, это всего лишь ребенок, разве ему по силам эмаль отодрать?
Парень еще сильней разошелся:
– А что, маленькому позволено безобразничать! Сразу видно, что он дурачок, еще вывели такого на улицу.
Ее гнев улетучился, злые слова парня вдруг подействовали успокаивающе. Она посмотрела ему в глаза, схватила Дуаньдуаня за руку и хотела увести от машины, но мальчик упрямо продолжал тянуть к ней руки. У женщины не было сил остановить его, пришлось, нагнувшись, оттащить его на веревке.
Если бы в этот момент Кайхуа обернулась, то увидела бы на лице молодца довольную мину, будто он урвал что-то ценное. Такие ухмылки бывают у тех, кто думает только о себе и плюет на чувства других.
Кайхуа шла вперед, не оборачиваясь, и волокла за собой Дуаньдуаня, они остановились возле книжного магазина. Мальчик горько плакал, она повернулась, чтобы вытереть ему лицо:
– Дуаньдуань, какой тебе нравится ранец, мама тебе его купит.
Ребенок не обращал на нее внимания, погрузившись в свое несчастье. Он в жизни не ответил ни на чей вопрос, и мать не стала ждать ответа, сам выбрала ранец, ручки и тетради и повела Дуаньдуаня назад. Улицы села были грязными, опасаясь, как бы сын еще что-то не выкинул, она хотела как можно быстрей вернуться домой.
Ребенок перестал плакать только у моста через реку Мудань-цзян, мать тоже успокоилась, вытерла ему как следует лицо и повела за руку домой. Тем вечером Кайхуа сначала искупала сына, затем помылась сама, зажгла ароматные палочки и совершила поклоны до земли перед домашним алтарем, молясь бодхисатве. На следующее утро она одела сына в новую одежду, повесила ему на спину ранец и повела в школу.
4
Ночью прошел дождь, утреннее солнце сияло ярко, будто умытое водой, Дуаньдуань с утра все на него поглядывал. Опасаясь, как бы он не оступился, мать велела ему смотреть под ноги, но он не слушался и все задирал голову. Отрезок узкой дороги, скользкий как мыло после вчерашнего дождя, проходил между залитыми водой полями. Опасаясь, что Дуаньдуань упадет и испачкает одежду, Кайхуа взвалила его себе на спину.
Учитель Аймо уже поджидал их в школе. Завидев путников, он встал возле столба с флагом у ворот школы, флаг он закрепил заранее и теперь держал его кончик в руке. Обычно после сбора всех учеников он включал магнитофон и поднимал флаг под звуки гимна. Раньше в школе даже была группа флагоносцев, которые отвечали за поднятие флага. Когда почти все ученики разбежались, учитель по-прежнему поручал школьникам поднимать флаг со словами: «Поднятие государственного флага это священное действие, подобное омовению в святой воде, каждое такое омовение возвышает ваш дух, только человек возвышенной души может стать истиной опорой государства».
Все ученики мечтали стать опорой государства, поэтому каждый хотел оказаться в группе поднимающих флаг. То рвение, с каким счастливчики исполняли возложенную на них обязанность, доставляло учителю Аймо немалое удовольствие. В прошлом году на всю школу осталось всего два ученика, и учитель доверил им это почетное право, он всегда требовал, чтобы школьники отдавали честь национальному флагу.
Но вот у него появился особенный ученик, который не проходил подготовки для поднятия флага, учитель не мог доверить ему это великое дело. Кайхуа подвела Дуаньдуаня к учителю, поправила ему одежду и утерла лицо со словами:
– Учитель Аймо, учащийся Дуаньдуань явился на учебу.
От волнения у нее сосало под ложечкой, словно она сама пришла учиться в первый класс. Выражение лица Аймо стало торжественным, он изрек:
– Поднять флаг!
Кайхуа тоже училась в этой школе, и тут к ней вернулись воспоминания: много лет назад она сама стояла на спортивном дворе и смотрела на поднимающийся флаг. Ее охватило радостное воодушевление, она вместе с Дуаньдуанем встала на площадке лицом к учителю Аймо, стараясь всем своим видом продемонстрировать почтение к церемонии поднятия флага. Она опасалась, что Дуаньдуань не справится, потому что у него была привычка разглядывать землю под ногами. Она мельком глянула на сына и, заметив, что взгляд ребенка медленно остановился на куске красной материи в руке учителя, возликовала: похоже, учеба у Дуаньдуаня начиналась неплохо.
На спортивной площадке собралась странная компания: новенький ученик и ученица, закончившая школу почти двадцать лет назад, связанные друг с другом веревкой. Учитель спросил:
– Нельзя снять с него веревку?
– Тогда не справлюсь с ним.
– Ты так и будешь каждый день водить его в школу на веревке?
– Может быть, учитель позволит мне поучиться еще раз? В классе-то пусто, – Кайхуа уже поняла, что во всей школе остался один ученик, но ей не стоило так открыто заявлять об этом.
Учитель изменился в лице, женщина почувствовала, что невольно задела его за живое и поспешила объяснить:
– Боюсь, что стоит мне уйти, как Дуаньдуань начнет безобразничать.
– Учитель не может бояться своего ученика.
– Я вам говорила, что он любит биться головой в стену.
– Помню.
– Еще ему нравится глодать кору деревьев.
– Я все помню, буду привязывать его к себе.
Она согласно покачала головой:
– Тогда давайте поднимать флаг!
– Ты тоже будешь принимать участие?
– Да, буду, я хочу еще раз побыть вашей ученицей.
Эти слова порадовали Аймо, он просиял и выкрикнул в сторону спортивной площадки:
– Смирно!
Кайхуа почти инстинктивно сделала шаг на месте и вытянулась, но движения ее не были отточенными, все-таки прошло столько лет, многое забылось. Дуаньдуань не сводил взгляда с флага в руке учителя, никак не реагируя на его слова.
Учитель включил стоящий у ног магнитофон, раздался гимн, вверх поднялось ярко-красное полотно, и флаг затрепетал высоко в небе. Дуаньдуань пристально следил за тем, как флаг медленно взмыл в небо, звуки гимна смолкли, а он все смотрел вверх, запрокинув голову.
Учитель выкрикнул очередную команду:
– Вольно! Разойдись!
Дуаньдуань не выполнил команду «Вольно!» по той простой причине, что до этого не встал «Смирно!», продолжая неотрывно смотреть на флаг.
Учитель попросил Кайхуа завести сына в класс, но ребенок, как гвоздик, воткнутый в землю, не сдвинулся с места и вдруг произнес:
– Флаг.
От удивления и радости лицо Кайхуа стало глупым, она с гордостью закричала:
– Дуаньдуань знает, что это флаг!
Но учитель не спешил радоваться, а, напротив, надменно спросил:
– А кто ж не знает, что это такое?
– Но мой сын никогда не видел флага.
Учитель окинул взглядом мальчика и флаг, промолчал.
После того, как Кайхуа с сыном нечаянно стали свидетелями «церемонии начала четверти» в его доме, Аймо не мог вести себя непринужденно. Для него было крайне важно, как он выглядит в глазах односельчан, а вчерашний конфуз мог нанести сокрушительный удар по его давней благопристойной репутации, по крайней мере в глазах Кайхуа точно.
Хотя матушка-наставница и не уставала повторять, мол, кто ж дома с женой или мужем этим делом не занимается, но ему все равно было неспокойно, как-никак он учитель.
– Учитель тоже человек, – отвечала матушка, – залезать на свою законную жену – разве это преступление?
Ее слова были резонными, но Аймо по-прежнему терзало чувство стыда. Чтобы скрыть от Кайхуа неловкость, ему оставалось только делать каменное лицо и изображать из себя строгого учителя.
Возле спортплощадки, на персиковом дереве, еще не проснувшемся после зимней спячки, висел ржавый тесак без ручки. Учитель приспособил его в качестве гонга: три удара означали начало урока, четыре удара – конец урока, шесть ударов – всеобщий сбор. Все в деревне понимали, что значат эти удары.
Аймо дал сигнал к началу занятий. Кайхуа толкнула сына и напомнила, что начинается урок и пора идти в класс. Тот продолжал рассматривать флаг.
Учитель дождался, пока Кайхуа отвяжет от пояса веревку, и привязал ею мальчика к себе со словами:
– Ты иди занимайся делами, наш первый урок пройдет тут, на площадке.
Потоптавшись немного, мать медленно вышла из школы, и до нее донеслось, как учитель спрашивает:
– Что ты там увидел?
В его произношении на общепонятном китайском проскакивали нотки местного говора, он всегда старался вести занятия на нормативном языке, объясняя это тем, что во всех центральных школах этого требуют, а значит, и в его школе надо так говорить. Казалось, он смог докричаться-таки до ушей Дуаньдуаня, тот вдруг коротко ответил:
– Флаг.
– Правильно, это флаг нашей страны.
– Флаг, – повторил мальчик.
От этого слова в душе Кайхуа засияло солнце, она невольно замедлила шаг. Не желая уходить, она тихонько спряталась в классной комнате и слушала, что происходит на площадке. До конца урока Дуаньдуань продолжал смотреть на поднятый флаг и повторял одно и то же слово. Первый урок у него длился два часа, и на все вопросы учителя, например, «Дуаньдуань, какая у тебя фамилия?», «Сколько тебе лет?» – он упорно говорил слово «флаг».
Мать не могла скрыть разочарования, но учитель попятался утешить ее:
– Я знаю, как тебе тяжело, ведь ты все время была в школе.
Аймо так увлекся уроком, что воспоминания о вчерашней неловкости отступили, сейчас на его лице уже не было той напускной строгости, а в глазах читалось понимание чужой беды.
– Не бойся, не будем спешить. И на сухом дереве через тысячу лет могут зацвести цветы. Дуаньдуань не глупый, он словно заперт на замок, надо только отпереть дверь и выпустить его наружу.
Кайхуа покачала головой, ее глаза были похожи на лепестки цветов, омытые дождем.
– А сейчас идите домой, после обеда уроки по расписанию.
5
Когда учитель вернулся, матушка-наставница чистила яйцо. Отделив белок от желтка, она разложила их по плошкам, это была давняя традиция их семьи: белок учителю, желток – матушке. Дело в том, что, когда они впервые вместе ели вареные яйца, учитель сказал, что предпочитает белок, а матушке пришлось сказать, что она обожает желток.
Услышав шаги мужа, она повернула голову:
– Уроки кончились?
Учитель молча взял с домашнего алтаря сигарету. У всех жителей нашей деревни в доме есть алтарь, перед ним поклоняются местному богу по имени Господин неба и земли, под алтарем ставят круглый стол «восьми бессмертных», во время празднования Нового года на него кладут подношения, зажигают ароматные курения и совершают перед ним поклоны. На алтарь не принято класть абы что, а только ароматные палочки и бумажные деньги. Учитель делал подношения съестным, а также клал сигареты. У него не было пристрастия к курению, крепкий табак он не любил, но на алтаре у него всегда лежала пачка, из которой он порой выкуривал сигаретку. Матушка-наставница поставила перед ним плошку с яичным белком и тарелочку с толченым красным перцем:
– Ешь, пока горячее, так вкусней.
Учитель выпустил изо рта клуб дыма, обмакнул белок в перец и откусил. Супруга стояла рядом и смотрела. Сегодня был первый учебный день, ученик был всего один, к тому же не совсем здоровый, матушка следила за его лицом.
– А ребенок Кайхуа сможет?…
– Я подумал было, что он глухой.
– Вроде бы говорили, что его водили к врачу, с ушами у него все в порядке.
– Я все же думаю, что он глухой.
Матушка слишком долго сдерживала кашель, теперь ее горло словно было набито куриными перьями, терпеть было невозможно, и громкий кашель вырвался из глотки, отчего шея вытянулась. Она подавила новый приступ, достала из комода початую бутылку водки и рюмку. Жующий учитель искоса смотрел, как она наливает водку:
– Все-таки какой-никакой, а ученик.
Матушка дождалась, пока муж не опрокинет рюмку водки, издав булькающий звук, после чего убрала все со стола и принялась накрывать к обеду со словами:
– Верно, пока есть этот ребенок, школа остается школой, а ты – учителем.
Она смешала желток с медом и принялась за еду.
– Эти яйца принесла Кайхуа? – спросил Аймо.
Жена согласно кивнула, горло опять сдавило.
– Надо бы что-то подарить ей в ответ.
От этих слов потухшие глаза матушки расширились. Испокон веков повелось, что родители первоклассников приносили подарки, а учитель их с радостью принимал, но им в ответ никогда ничего не дарили. Учитель объяснил свое решение тем, что ребенок у Кайхуа не такой, как обычные дети, и, может быть, выучить его не удастся, да и вообще его матери нелегко приходится.
Два дня подряд Дуаньдуань только и делал, что пялился на поднятый флаг. Учитель подумал, что так дело дальше не пойдет, нельзя же, чтобы мальчик целую четверть смотрел на флаг! Если бы на его месте был другой ученик, Аймо давно бы вышел из себя. Ждать вечно он все-таки не мог, это было безответственно в отношении Кайхуа и ее сына. Он пытался силком затащить ученика в класс, но Дуаньдуань вцепился зубами ему в руку. Мальчику нравилось грызть кору, он, видимо, принял руку учителя за кусок древесины. Учителю Аймо пришлось замазать кровавые следы от укуса мелом и подумать о другом способе. Он верил в то, что толковый человек выходит из-под розги, и был крайне строг с учениками. Дуаньдуань тоже не должен был избежать «розги» – бамбуковой палки ярко-желтого цвета. Перед домом учителя были заросли бамбука, уж палок ему хватило бы для воспитания бесчисленного множества учеников! Он предпочитал именно этот материал из-за его гибкости, палка если и могла переломиться, то не повредила бы детских костей. Кроме того, «розга» издавала в воздухе такой свист, что провинившийся тут же начинал молить о прощении.
Прежде чем приступить к наказанию, учитель Аймо обычно помахивал палкой перед учениками, чтобы припугнуть свистом. Провинившийся, услышав этот леденящий душу звук, тут же падал на колени и просил прощения. Но на Дуаньдуаня этот свист не произвел никакого впечатления. Он все так же смотрел на флаг, запрокинув голову, как будто ничего не услышал. Учитель Аймо заключил, что с ушами у него не все в порядке. Если так, то бить его нельзя, ведь мальчик не виноват, что ничего не слышит. Все же Аймо постарел, и не боящийся палки ученик его обескуражил. Привязанный к поясу учителя мальчик упирался и не хотел идти в класс, и сам Аймо не мог сдвинуться. Он нервно ходил кругами вокруг своего ученика, как дикий зверь, облепленный муравьями. Дуаньдуань все менял угол зрения, стараясь уклониться от учителя, заслоняющего ему обзор. Когда мальчик двигался, его болезнь была незаметна, более того, в его глазах светился живой ум, какой не у каждого здорового ребенка можно заметить. Поэтому учитель продолжал надеяться. Вот он поднял палку перед лицом мальчика и спросил, что это такое. Но взгляд ученика вновь ускользнул и устремился вверх. Тогда учитель ударил его пару раз по руке, ребенок вздрогнул, но глаз так и не отвел. Его взгляд был накрепко прикован к флагу на шесте. Тогда учитель ударил его посильней, мальчик наконец-то взглянул на свою руку, но не задержался на красной полоске от удара и никак не среагировал. Затем его глаза опять уставились вверх.
Учитель сделал вывод, что Дуаньдуань не понимает, что такое боль, против такого ребенка палка бессильна, и он ее отбросил.
На следующий день Кайхуа отвязала от себя веревку, а учитель Аймо вынес из класса стол и скамейку, он решил обучать мальчика письму во дворе. Ему показалось, что ребенку очень тяжело вот так стоять, вытянув шею. Он проговорил: «Вот скамейка, Дуаньдуань, посиди-ка», после чего мальчик и впрямь сел. Это озадачило учителя: можно ли считать, что Дуаньдуань послушался его, или неосознанно сел от усталости? В любом случае этот поступок вселял оптимизм. Аймо пододвинул стол поближе к мальчику, тот был не против, затем разложил на столе тетрадь и карандаши и сказал:
– Дуаньдуань, сегодня мы будем учиться писать.
Ученик все так же смотрел на флаг, подняв голову. Учитель написал в тетради цифру «один» и поднял тетрадь на уровень глаз мальчика, тем самым заслонив ему обзор. Дуаньдуань хотел отклонить голову, но вдруг его привлекла цифра в тетради, он задержал на ней взгляд, затем выхватил тетрадь и бросил на стол. Учитель тут же схватил карандаш и сунул ему в руку:
– Правильно, Дуаньдуань, напиши единицу и покажи мне.
Ребенок взял карандаш и вывел единицу, размером раз в двадцать больше написанной учителем. Цифра заняла всю страницу в тетради, но учитель был бесконечно рад: неужели Дуаньдуань начал писать?! На самом деле он вовсе не писал, а нарисовал флаг, учитель понял это полминуты спустя. Вероятно, мальчик по-своему понял подсказку учителя, подумав, что это флагшток, и нарисовал свой такой же, а затем дорисовал полотнище флага. Учитель вовремя сдержал гнев: что поделать, Дуаньдуань все-таки не такой, как все. В тот день он изрисовал всю тетрадку флагами, они были прямоугольными, и ничуть не похожи на колышущееся в воздухе знамя. Это был флаг, живущий в сердце Дуаньдуаня.
Когда Кайхуа пришла забирать сына, учитель показал ей тетрадь.
– Это вы учили его рисовать?
– Нет, это он сам.
На ее лице мелькнула радость, но тут же погасла и сменилась печалью:
– Эх, он только и знает, что флаг рисовать.
– Главное, чтобы ему нравилась тетради и карандаши, тогда у нас есть надежда, вдруг он станет художником?
Вернувшись домой, Дуаньдуань нашел палку и принялся рисовать флаги на земле, сначала нарисовал много маленьких, затем один огромный, почти в полдвора. Мог бы и во весь двор размахнулся, да не позволила веревка, привязанная к дереву. Он покружил вокруг столба, но до дальнего угла было не дотянуться. Поэтому он додумался, чтобы отвязать веревку. После того как Ли Муцзы, его отец, бросил их с матерью, у него появилась привязь, и все эти годы она лишала его свободы. Но только сегодня ему пришла в голову мысль отвязать ее.
Освободившись, Дуаньдуань приступил к реализации своего грандиозного плана. Теперь флагшток начинался у порога дома и тянулся до восточной стены двора, одна из сторон флага брала начало у восточного кончика флагштока и заканчивалась у северной ограды, затем линия разворачивалась на юг и охватывала еще полдвора.
Кайхуа вышла из дома и увидела, что мальчик, наклонившись выводит длиннющую линию. Заметив, что на поясе у него нет веревки, она тут же подбежала и вновь привязала его к столбу крепким узлом. Дуаньдуань не смог его развязать и издал почти что волчий рык, Кайхуа все же была довольна, что он научился отвязывать веревку – как-никак сам додумался.
Учитель Аймо сделал два флажка из бумаги красного цвета, а на доске нарисовал один большой флаг. Один флажок он держал в руке, а другой вставил в щель на парте. Флажком в руке он завлек Дуаньдуаня в класс и заставил мальчика сесть за стол. После этого он помахивал флажком, чтобы прилечь внимание ребенка к доске, на которой на фоне флага были написаны три иероглифа «человек», «рот», «рука». Дуаньдуань часто с удовольствием вытаскивал флажок из щели в парте и держал в руке, взгляд его перемещался с флага на доске к флажку в руке учителя. Им учитель указывал на иероглифы на доске и давал пояснения. Дуаньдуань молча смотрел на флаги. Через несколько дней учитель стер с доски первые три иероглифа и написал иероглиф «флаг», после чего флажком в руке указал на него и объяснил мальчику, как его надо читать. Дуаньдуань и впрямь произнес это слово вслед за ним. В первый раз учитель не поверил своим ушам, полагая, что ученик всего лишь автоматически повторяет слово, как было несколько дней назад, тем не менее мальчик повторил за ним это слово несколько раз, отчего в сердце учителя распустились цветы. Он быстро подписал рядом иероглиф «страна», и получилось сочетание «государственный флаг». Дуаньдуань прочел вслед за ним, четко выговаривая именно эти два слова. Учитель возликовал! Затем он подписал еще несколько иероглифов, и получилось сочетание «красный флаг с пятью звездами». Дуаньдуань и его смог прочесть вслед за Аймо. Он и вправду все исправно повторял! Эх, старость, старость… Аймо вдруг, как ребенок, начал выплясывать перед доской и громко смеяться.
В тот день, не дождавшись прихода Кайхуа, он сам отвел мальчика домой – так велико было его желание поскорей рассказать матери о том, что он разыскал тот самый ключик от двери, за которой был заперт Дуаньдуань. Вне себя от счастья, Кайхуа отварила учителю яйца в сладком сиропе, он все съел и подарил женщине маленький флажок, добавив, что, получив его, ребенок больше не будет биться головой об стену и грызть пластик, а еще добавил:
– Попробуй-ка отвязать веревку.
Но Кайхуа не решилась это сделать, а ее сын действительно больше не пытался бросаться на стену и грызть пластиковые изделия. Учитель Аймо учил его произносить разные выражения со словом «флаг», а также показывал, как их правильно писать. Вернувшись из школы домой, ребенок тут же принимался, сидя за столом, рисовать флаги, повторять выученные словосочетания и писать их. Учитель вверху страницы его тетради писал ряд иероглифов, но Дуаньдуань записывал их измененными до неузнаваемости. Аймо порой очень скучал по своим бывшим ученикам Му Сяоци и Сунь Фэю и говорил матушке-наставнице:
– Вот было бы хорошо, если бы эти двое взяли шефство над Дуаньдуанем!
Раньше он всегда разбивал учеников в классе на группы, те, кто писал хорошо, помогали тем, кто писал плохо, кто считал хорошо, вел за собой тех, кто был слаб в счете, рано или поздно отстающие наверстывали упущенное.
6
Персиковое дерево в школьном дворе, на котором висел кухонный нож, отцвело, на ветках завязались маленькие, плоды по форме похожие на соски девственницы. В школу пришли начальник отдела образования волости и директор центральной начальной школы с регламентной проверкой хода учебного процесса. Младшая школа деревни Муэрцунь продолжала работать после того, как вышло указание о закрытии всех деревенских младших школ в радиусе пяти километров от поселка. Уже пять лет она на бумагах считалась закрытой, не значилась в списке и была похожа на брошенную матерью сироту. Но все равно каждый год сверху являлись с проверкой и задавали кучу вопросов. Эти расспросы не значили, что потом для школы что-то будет сделано. Так, однажды проверяющие спросили учителя Аймо, есть ли у него какие-то трудности в работе, на что тот ответил, что со всеми трудностями может справиться, кроме одной – здание уж слишком ветхое. Он показал множество трещин на стенах, полагая, что это строение надо признать аварийным, а если его поддержат, он готов возвести новую глинобитную постройку. Посетители посмотрели на ужасные трещины и дружно согласились:
– Конечно, это аварийное здание, в нем опасно находиться!
Ни слова не было сказано о помощи, о выделении средств на строительство нового здания:
– Надо бы эту школу закрыть! Разве в таком здании можно вести занятия, если что случится, кто будет отвечать?
– А где же будут учиться деревенские ребятишки?
– Да отсюда рукой подать до школы в поселке.
– Вроде бы и недалеко, только надо идти вдоль реки, разве это не безопасно для детей?
Они невольно наморщили носы:
– В этом нет ничего страшного.
После этого учитель Аймо еще раз ходил в поселок по вопросу школьного здания, и ему прямо заявили:
– Да ты просто-напросто не имеешь права преподавать. О каком строительстве нового здания может идти речь? В радиусе пяти километров от центральной школы не положено открывать младшие школы, ты что, забыл?
Учитель Аймо, конечно, помнил об этом, от таких вопросов у него зарделось лицо, и уши запылали от гнева, оставалось только заткнуться и уйти. Он и без того был в бешенстве, а тут в спину еще бросили такие слова:
– И не дай бог будут проблемы с безопасностью, если у тебя там что-то случится, за все будешь отвечать ты один.
Аймо никогда не считал, что кто-то должен нести ответственность за его действия, он нашел помощника, вместе с которым заново покрыл крышу, замазал глиной глубокие трещины в стенах.
Каждый раз проверяющие сверху заговаривали о закрытии школы, словно загипнотизированный, он наконец согласился. А теперь в школе остался всего один ученик, к тому же больной. Учитель Аймо издали разглядел, кто приближается к школе, и старался не обращать внимания. В этот момент он обучал Дуаньдуаня арифметике. На доске были нарисованы три маленьких флажка, он как раз рисовал большой флаг, собираясь научить сложению «три плюс два». Процесс рисования второго флага был прерван посетителями, вошедшие были полными и светлокожими, как две жирные гусеницы шелкопряда. «Шелкопряды» решили тихонько посидеть за партой и дождаться, когда учитель закончит рисовать. Но их тучные тела не смогли протиснуться между партой и скамьей – какие же, оказывается, узкие места для школьников! Стиснутые партой и скамьей они громко заохали. Из-за этого учитель Аймо обернулся, взглянул на них мельком и снова принялся рисовать. Закончив и продолжая игнорировать пришедших, он приступил к объяснениям:
– К трем флажкам вверху.
Дуаньдуань повторял за ним:
– К трем флажкам вверху.
– Прибавим еще два флажка.
Учитель не успел сказать результат сложения, как мальчик вдруг подошел к доске, на поясе у него по-прежнему была веревка, привязанная к ремню учителя. Кайхуа так и не решилась отвязать сына, учитель тоже не рискнул, опасаясь, как бы Дуаньдуань не вздумал опять кинуться на стену и разбить себе голову. Взгляды двух начальников тут же упали на странную веревку. Этот любопытный факт отвлек их, и они забыли, что собирались разозлиться на Аймо, который не обращал на них внимания.
Дуаньдуань вышел к доске, чтобы нарисовать на большом флаге пять звездочек, ему казалось, что они непременно нужны. После этого он вернулся на свое место и внимательно уставился на доску, как обычный прилежный ученик. Не дождавшись подсказки учителя, он выпалил:
– Всего пять флагов.
Аймо заметил, что в глазах ребенка засветилось торжество, в них словно засияли всполохи праздничного салюта. Учитель и ученик были переполнены радостью и гордостью перед лицом начальства. Учитель попросил мальчика повторить, но тот не повторил, а снова вышел к доске и на другом ее конце нарисовал на этот раз флаг компартии Китая, который учитель Аймо показал ему только вчера.
Тут начальник отдела образования даже одобрительно крякнул, а директор сельской школы спросил:
– У тебя только этот ученик?
Аймо покачал головой, с усмешкой поглядывая на их заплывшие жиром лица, которые затряслись от показного смеха:
– Из-за него одного держишь школу? А где же остальные ученики?
– Уехали из деревни.
У начальника отдела что-то заклокотало внутри, из горла вырвалось подобие свиста, после чего послышался надтреснутый смех, как звук поломанного приемника. Насмеявшись вдоволь, он добавил:
– Ты его привязал к себе, потому что боишься, что и он уйдет?
Тут засмеялся и директор школы, во всем стараясь подражать начальнику.
Учитель Аймо слушал их насмешки, опустив голову, выражение гордой ухмылки, с каким он их встретил, исчезло с лица:
– Это больной ребенок.
– Я сразу заметил, что он дурачок, – заметил директор.
– Он не дурачок, вы же видели, что он может нарисовать флаг, умеет считать, – с грустью поправил его Аймо.
Начальник отдела образования снова рассмеялся, в этот раз его хохот был похож на катящийся по полу картофель:
– Мы не пытаемся третировать твоего ученика, дело в том, что такой ребенок должен быть направлен в специальную школу, например для глухих и немых.
В это время Дуаньдуань все еще рисовал флаги, не обращая никакого внимания на разговор. Аймо заявил двум начальникам:
– Он не глухой.
Проверяющие переглянулись и стали подниматься. Теперь им не надо было соблюдать тишину, парта была отодвинута с грохотом и скрипом, скамья из-под них опрокинулась. Начальник отдела образования не стал ее поднимать, а только глянул презрительно на пол, похлопав себя по заду. Скамьи в школе деревни Муэрцунь были грубо сколоченными, примитивным, не покрыты лаком, к тому же очень старые и пыльные. Начальник подумал, что испачкался. Отряхнувшись, он подошел к Дуаньдуаню и, потрепав его по голове, спросил:
– Как тебя зовут? Сколько тебе лет?
Рисующий флаг мальчик скинул с головы его руку, начальник покосился в сторону учителя:
– Преподавание такому ребенку без специальной подготовки может ему навредить.
В этот раз они не сказали: «Закрывай», а заявили: «Категорически требуем остановить работу школы».
Эти двое с головами как паровые пампушки, в сторону которых ни одна женщина не взглянула бы, вовсе не шутили и перед уходом предупредили:
– Даем тебе неделю на закрытие школы, а то сам будешь расхлебывать все последствия!
Учитель хотел было узнать причину такого решения, но они не пожелали с ним больше разговаривать.
Вернувшись домой, Аймо слег. Ему казалось, что голова у него тяжелая, словно залита жидким свинцом. Матушка-наставница наклеила ему на виски пластырь, дала выпить таблетки, сварила миску лапши с красным перцем, потом накрыла тремя одеялами, чтобы он как следует пропотел. Ночью он проснулся и сказал, что ему полегчало. Матушка ответила:
– Я сегодня видела двоих, которые шли к школе, опять этот начальник и директор?
– Да.
Матушка помолчала, понимая, что эти двое могли здорово нагадить школе, а потом язвительно добавила:
– Они выглядят как вздорные бабы, с первого взгляда видно, что добра от них не жди.
– В этот раз они категорически запретили мне дальше работать.
– Категорически запретили? А если ты будешь дальше работать, то нарушишь закон? Впервые слышу, чтобы работающая школа нарушала закон.
Матушка расстроилась, из горла опять послышалось сипение.
– Они мне сказали, что я не прошел специальной подготовки и не имею права обучать Дуаньдуаня, они считают, что он дурачок, – добавил Аймо. – Если бы удалось найти одного или двух ребятишек и с ними заниматься, то школу нельзя было бы прикрыть.
Но во всей деревне, увы, остался один Дуаньдуань.
Матушка-наставница больше не стала развивать эту тему, ее горло болело, она выпила размешанный в воде мед.
Учитель Аймо поднялся с постели, чтобы сделать новый флаг, он уже познакомил Дуаньдуаня с флагами страны, компартии, комсомола и пионерии, также научил его этим названиям. Теперь он собирался сделать армейские флаги – флота, сухопутных войск, авиации.
– Новые делаешь? – спросила матушка.
– Надо делать, Дуаньдуаня только флаги интересуют.
– Так ведь школу закрывают.
Муж тяжко вздохнул и молча продолжал мастерить флаг.
– Если закроют, ничего, не помрем.
Учитель опять вздохнул, но дела своего не оставил.
– Я так думаю, все-таки надо сохранить эту школу, даже если сейчас детей увезли, не все они смогут учиться в городе, стоимость учебы там высокая, многие не будут ходить в школу. Например, семья Дэн Сяохуэя, они оба зарабатывают сбором мусора, разве их двое ребятишек там смогут учиться? Наверняка с родителями будут собирать мусор. А еще Му Тяньцин, он строит дома, его жена на стройплощадке готовит пищу, сколько они на пару зарабатывают? Разве они смогут позволить себе отправить Му Сяоци в нормальную школу? В городские школы не так-то легко попасть, или вот еще…
Матушка прервала его:
– Они все равно не вернутся, даже если не смогут там учиться, теперь в нашей дыре никого не удержишь.
Аймо скорчил грустную гримасу, словно проглотил желчный сок, на душе было тяжело:
– Это начальство дальше своего носа не видит, разве можно допускать, чтобы дети не учились? Если не ходить в нормальную школу, то потом так и будут по мусоркам лазить.
Матушка ответила:
– Да они скорей всего и твою шкоду не считают нормальной.
– Может, у меня и не солидная школа, но далеко не все могут снимать дома в селе, как Сунь Эрлэн или Дэн Чуаньфан, чтобы их детишки могли учиться в центральной школе, так и у меня учиться сгодится, мои ученики потом отправляются в среднюю школу в поселке, все как один там отличники.
Матушка-наставница не мигая смотрела на него высохшими глазами:
– Ты хочешь сказать, что сможешь зазвать назад тех детей, которые в других местах не могут учиться?
– Я думал об этом.
7
На следующий день учитель взял из рук Кайхуа веревку, но не привязал ее к своему поясу. Когда женщина ушла, он снял веревку с мальчика. Он помнил, что тот уже долгое время не бросался на стену в припадке гнева, сегодня он решил рискнуть и отвязать ребенка.
Сняв веревку, учитель бросил ее на пол перед мальчиком, тот на нее и не взглянул, его взгляд был прикован к флажкам в руке. Сегодня учитель дал ему сразу четыре разных флажка, Дуаньдуань никак не мог наглядеться. Учитель спросил:
– Дуаньдуань, нам больше не нужна веревка, правда?
Мальчик был погружен в созерцание флажков. Учитель взял его за руку и повел в класс, а на пороге отпустил его со словами:
– Иди на свое место и садись, сегодня я расскажу тебе про эти флаги.
Дуаньдуань не двигался, все еще считая, что его с учителем связывает веревка, если учитель стоит, то и он сдвинуться не может. Аймо направился к доске, мальчик следом за ним. Из-за веревки Дуаньдуань всегда сидел за первой партой в центральном ряду, и сейчас он сел туда же, вставив в щель четыре флажка рядком.
Аймо принялся рисовать на доске флаг, ученик внимательно смотрел. Он вынимал такой же флаг, как нарисованный на доске учителем, подходил к доске и сравнивал их, накладывая бумажный флаг поверх нарисованного. Закончив сравнивать, он с флажком шел за парту и брал следующий.
Затем учитель на каждом из флагов написал их названия: флаг армии, флота, сухопутных войск, авиации.
За этот день он рассказал мальчику про эти несколько флагов и заучил с ним написание их названий. Не дождавшись прихода Кайхуа, он раньше обычного закончил занятие и повел Дуаньдуаня за руку домой.
Матери дома не оказалось, они ждали ее во дворе. На земле еще можно было разглядеть линии флагов, нарисованных Дуаньдуанем, тот поднял палку и пошел подновить рисунок. Его палка, подобно плугу, проводила новые борозды поверх старых, делая их более глубокими, очертания флагов стали отчетливей. Учитель Аймо тоже нашел палку и принялся на этих флагах писать иероглифы. Когда Кай-хуа вернулась домой с коромыслом навоза на плече, Дуаньдуань был занят чтением написанных учителем иероглифов. В нос учителю ударил запах навоза, он поднял голову и увидел Кайхуа. Со лба женщины стекал пот, волосы были взъерошены, от нее самой пахло навозом, от неожиданности она совсем забыла про необходимость быть всегда привлекательной и аккуратной. Кайхуа даже не сообразила поставить коромысло на землю, продолжая держать смердящие ведра на плече, она спросила:
– А где веревка, которой привязываем Дуаньдуаня?
Аймо молча взглянул на нее, палка в его руке выполняла роль плетки, под ее руководством мальчик читал особенно старательно. Кайхуа наконец опустила коромысло на землю и увидела валявшуюся в стороне веревку, похожую на убитую змею. Распространяя запах навоза, она подошла к сыну с веревкой и собиралась привязать его. Учитель смотрел за ее действиями. Она привязала другой конец веревки к своей руке крепким узлом, и Аймо спросил:
– Ты собираешься всю жизнь его так привязывать?
Кайхуа откинула назад сбившиеся на лоб волосы:
– Ничего не поделаешь.
– Сегодня в школе Дуаньдуань учился непривязанным.
Мать ответила, побледнев:
– А если бы он вздумал удариться головой об стену?
– Но он этого не сделал, весь день он был спокойным, выучил названия нескольких флагов, а также много новых иероглифов. Домой я довел его за руку.
Кайхуа не верила своим ушам, она посмотрела на сына, который палкой выводил иероглифы на земле и читал их:
– Армия, флаг. – Вот только написанные им знаки были похожи на странных насекомых.
– В школу приходили начальник отдела образования и директор сельской школы, они запретили мне дальше вести уроки.
– Это почему?
– Говорят, у меня нет права преподавать такому ученику, как Дуаньдуань.
Кайхуа смотрела на него онемев, не в силах подобрать слов.
– Они правы, Дуаньдуань должен учиться в спецшколе, учителя там прошли подготовку, у них есть знания и опыт, – продолжал учитель.
– Что такое спецшкола? – спросила мать хриплым голосом.
– Это школа, где обучают таких детей, как твой сын, там есть специальные учителя и правильные методы преподавания.
– Вы же так хорошо его учите!
– Боюсь, что невольно наврежу ему.
Кайхуа стояла перед ним как вкопанная, даже на голове ни один волосок не шелохнулся.
– Отвяжи веревку и пойди умой лицо, – приказал ей учитель.
Только тут Кайхуа заметила, как неопрятно она выглядит, стала торопливо поправлять одежду и приглаживать волосы, веревку отдала учителю Аймо и пошла в дом. Зашумела вода, женщина быстро вышла посвежевшая, вынесла холодного чая. Чашка была вымыта, на стенках остались капельки воды. Лицо ее просветлело, но брови все еще были сдвинуты. Бескровное лицо напоминало лист желтой бумаги, который гоняет по двору ветер. Она подставила учителю скамейку, а Дуаньдуаню дала попить.
Аймо потряс веревкой:
– Отвяжи уже его, в спецшколе никто не будет привязывать его к себе.
– А где эта спецшкола?
– В уездном городе, таких школ мало, в селе обычно их не бывает. У нас в уезде есть школа под названием детский центр «Веселый кораблик».
Кайхуа плотно сжала губы, откуда же у нее средства отправить сына в уездный город? Увидев, как она расстроена, Аймо сказал:
– Отправь его, я помогу тебе с деньгами. Я разузнал, питание и проживание предоставят в школе, ты отправишь туда ребенка, и руки у тебя развяжутся. За четверть надо заплатить тысячи две, не более.
– Даже если вы одолжите, я потом не смогу вернуть, учитель Аймо. Где же мне найти две тысячи?
– Ты пока не думай про деньги, устрой сначала ребенка, деньги как появятся, так и вернешь. Если сын начнет потом работать, каждый месяц будет присылать тебе деньги, а мне с матушкой много не надо.
– Но как я могу отправить Дуаньдуаня одного в такую даль?
– Будешь иногда ездить его навещать, из-за нежелания расставаться с ним ты не можешь лишить его возможности учиться. Рыба в банке не вырастет, нельзя держать его при себе.
Кайхуа опустила глаза и увидела следы зубов Дуаньдуаня на своих руках, капелька упала на полукруглый шрам, затем еще одна и еще, ее руки стали влажными от слез. Сизые полумесяцы шрамов заполнила влага. Дуаньдуань вдруг поднял голову и, взглянув на нее, выпалил:
– Мама!
Это слово прозвучало для Кайхуа как гром среди ясного неба, она опешила и забыла.
Учитель Аймо тоже был ошарашен. Позвав маму, Дуаньдуань опять принялся за свои дела, он рисовал маленький армейский флаг внутри большого государственного.
Прошло немало времени, прежде чем Кайхуа пришла в себя и спросила учителя:
– Дуаньдуань позвал меня? Он назвал меня мамой?
– Да, позвал.
Женщина попросила мальчика снова назвать ее мамой, но он не обращал никакого внимания, оказавшись вновь запертым в своем мире, куда не доносились голоса людей. От досады кровь прихлынула к ее лицу, она присела на корточки перед сыном, чтобы развернуть его к себе лицом, чтобы он посмотрел ей в глаза. Но мальчик упорно отворачивал лицо, взглядом он искал недорисованный флаг.
Кайхуа резко выдохнула, подобно прохудившемуся кожаному мячу, и вздыхая, смотрела на ребенка.
– Все наладится, если позвал первый раз, то позовет еще, надо поскорей отправить его в спецшколу. Он умненький, не надо терять время. – Учитель повернулся к ученику, – Дуаньдуань, учитель Аймо уходит, как следует напиши уроки.
Мальчик подскочил и побежал за ним, схватил его за руку, он смотрел на дорожку, ведущую со двора, ожидая, что учитель возьмет его с собой в школу, но тот объяснил:
– Я пойду домой, сегодня уроков больше не будет, а ты оставайся дома делать уроки.
Ребенок все держал его руку, не отводя глаз от тропинки.
Кайхуа подошла к ним и попыталась увести Дуаньдуаня:
– Раз так, может быть, учитель согласится покушать с нами?
– Сейчас еще рано обедать. Делай как я говорю, соберись, и поедем вместе в уездный город, вопрос денег уладим так, как я сказал.
Он удалялся прочь по тропинке, Дуаньдуань не сводил с него глаз. И вдруг выкрикнул ему в спину: «Учитель Аймо!» Тот остановился, обернулся и посмотрел на ученика, но мальчик опять начал бормотать про себя: «Учитель Аймо, учитель Аймо», уставившись под ноги. Увидев, что по щекам Кайхуа стекают ручейки слез, Аймо громко сказал:
– Завтра мы поедем в уезд первым же автобусом.
В тот вечер учитель смастерил несколько десятков флажков, на следующий день он подарил их Дуаньдуаню, которого определили в спецшколу «Веселый кораблик». Получив такой подарок, мальчик от радости забыл свое «я», которое жило одиноко в замкнутом мире. Он не видел, как его мать вытирает слезы, не слышал, как она несколько раз повторила директору, что ее сын часто впадает в гнев и тогда может начать биться головой о стену, и ему нравится грызть пластик и древесную кору. Со слезами на глазах Кайхуа обратилась к сыну:
– Дуаньдуань, мама уезжает, ты слушайся учителей.
Но мальчик остался глух к ее словам.
8
После отъезда Дуаньдуаня из деревни Муэрцунь у двух человек словно душа покинула тело – это были Кайхуа и учитель Аймо. Женщина ощутила, что в доме и холодно, и пусто, а учитель понял, что окончательно опустела его школа. Кайхуа выдержала дома два дня и тайком поехала в уезд проведать сына. Убедившись, что там ему живется хорошо, вернулась успокоенная. Когда в душу вновь начинало прокрадываться одиночество, она отправлялась в уезд. Учитель Аймо не ездил к ученику, но всякий раз расспрашивал о нем Кайхуа. В школе не осталось ни одного ученика, уроки давать было не для кого, но он по-прежнему проводил церемонию поднятия флага. Утром каждого понедельника он становился возле флагштока, включал магнитофон и поднимал знамя. Каждую пятницу спускал его и уносил домой. Каждый день он шел в школу ко времени начала уроков, стоял и смотрел на развевающийся флаг, заходил в класс, выравнивал парты и скамьи, стоял некоторое время у доски. Так прошло десять дней, и друг он заявил матушке-наставнице:
– Мне надо съездить в город.
– Поедешь ребят повидать?
– Не все ученики хорошо устроены, я поеду разыскать Дэн Сяо-хуэя, двое его детей наверняка не ходят в школу, я хочу привезти их с собой.
На следующий день он уехал и вернулся ни с чем через три дня, весь заросший щетиной и исхудавший. Матушка без слов взяла его сумку, налила ему воды, подала с алтаря сигарету. Он сначала закурил и раскашлялся от дыма, вытянув шею, как это часто делала матушка. Женщина осторожно спросила:
– Один вернулся?
Учитель сдерживал кашель и молча выпускал дым. Матушка продолжала расспрашивать:
– Дети будут учиться у тебя?
Учитель вдруг плюнул с досадой на пол и крикнул:
– Да какая к черту учеба, будут собирать мусор вместе со взрослыми!
Матушка не стала продолжать разговор, она быстро приготовила для учителя таз горячей воды помыться, развела огонь и поставила на него сковороду, плеснула туда масло чайного дерева, принялась взбивать яйца. В это время со сковороды пошел дым, она бросила на нее порезанное кубиками жирное мясо, которое тут же начало шипеть, по дому разнесся приятный аромат жареного. Учитель Аймо повел носом, принялся умываться. Тем временем масло уже весело шипело на сковороде. Мясо с яйцом, поджаренное на чайном масле, скоро было готово – такого лакомства и в городе не поешь. Учитель Аймо почувствовал голод, он принялся ходить кругами вокруг печки. Матушка засмеялась:
– Оголодал! За эти дни ничего вкусного в рот не попадало?
Когда все было готово, она положила вкуснятину в тарелку мужа, который с жадностью набросился на еду и чуть не обжег язык.
После сытного обеда учитель сразу посвежел, будто его тело впитало чайное масло, как губка. Он приободрился и принялся ругать Дэн Сяохуэя:
– Какой глупый мужик! У него дети грязней щенков, ничем не краше нищих, он еще говорит, что лучше пусть деньги зарабатывают, а не учатся!
Матушка хлопотала у плиты и спрашивала:
– Ты пытался его убедить?
Учитель возбужденно крякнул:
– Конечно пытался, до пены у рта вдалбливал ему.
Руки матушки замерли, она внимательно смотрела на мужа, ожидая продолжения.
– Но все равно муж с женой на пару все твердили, что пусть лучше дети деньги зарабатывают, чем учатся, когда есть деньги, будет все, что пожелаешь. Говорят, что учиться десять лет бесполезно, а вот если десять лет деньги зарабатывать – совсем другое дело.
Школа учителя Аймо оставалась такой же пустой и холодной, он по-прежнему ходил туда каждый день и тосковал. Видя, как муж день ото дня худеет, матушка тоже высыхала и чахла. Однажды она сообщила, что хочет съездить в дом родителей. Учитель не стал спрашивать зачем, она и не сказала. Она ушла и долго не возвращалась, родительский дом был недалеко, в деревне по соседству, надо было час идти вдоль реки Мудань-цзян. Раньше она успевала сходить и вернуться за день, а тут уже два дня прошло. Учитель Аймо почуял неладное и пошел ее искать. В доме родителей жил теперь двоюродный брат с женой, он удивленно выпучил глаза:
– Она же вчера ушла назад.
По его словам, матушка приходила за их внуками.
– А зачем ей понадобились ваши внуки?
– Сказала, что отправит их учиться в твою школу.
На обратном пути учитель Аймо обнаружил матушку ниже по течению реки уже мертвой. Из горла не доносилось больше сиплого дыхания, тело ее распухло. Учитель, долго не отрываясь смотрел на нее, ему показалось, что располневшая от воды матушка стала выглядеть более молодой, как жаль, что она больше никогда не обратит к нему нежный взор! В юности матушка одним таким взглядом заставляла учителя трепетать, а теперь ее глаза, еще открытые, навсегда погасли.
Во время похорон жены Аймо узнал от ее двоюродного брата, что матушка хотела забрать двоих внучатых племянников из сельской школы, чтобы они учились в его школе. Но мать детей не согласилась, она снимала дом в селе, готовила детям еду и следила за их учебой, возвращались домой они только на выходные. Жена племянника утверждала, что сельская школа настоящая и они надеются, что из детей в будущем выйдет толк. Тем самым она намекала на то, что школа учителя Аймо ненастоящая и ученики его не хватают звезд с неба. Матушке не удалось заполучить учеников, и она, раздосадованная пошла домой.
Позже учитель Аймо вспомнил, что в день возвращения матушки домой над рекой Мудань-цзян небо вдруг почернело, затем вода вспучилась и поднялась волной, как водяной дракон грязно-желтого цвета. Когда учитель, стоя у ворот школы, смотрел на реку, этот дракон скачками мчался вниз по реке. Учитель ошарашенно смотрел на эту картину. Придя в себя, он пробормотал под нос: «В верховьях реки началось наводнение». Он решил, что матушка, наверно, утонула в волне, поднявшейся на реке. Дорога до их деревни в одном месте очень близко подходила к реке, этот отрезок всегда заливало поднявшейся водой. Наверняка она как раз была в этом месте, ее захлестнуло гигантской волной, разъяренный дракон протащил ее далеко вниз по течению.
Матушка-наставница погибла, стараясь заполучить учеников для его школы.
После похорон сын захотел забрать его к себе в город. Сын учителя много лет крутился в большом городе другой провинции, жилось ему там неплохо, сам не бедствовал и родителям каждый месяц присылал деньги. Вот только квартиру все не мог купить и снимал жилье вместе с другими. Сын сказал, что забирает отца к себе, они снимут отдельную квартиру, и старик точно не будет жить в стесненных условиях. Но Аймо не спешил давать согласие, он еще не так стар, чтобы стать обузой для сына, и хочет дождаться, когда двое детей Дэн Сяо-хуэя вернутся учиться в его школу, может, до взрослых дойдет наконец, что это важно. Он пообещал Дэну, что возьмет на себя питание детей, пусть родители не беспокоятся, он их точно прокормит. Сын так и не смог уговорить Аймо и уехал в город.
Вот уже много дней учитель не ходил в школу. Поднятый флаг, поблекший от дождей и не раз им перекрашенный, все реял на флагштоке, некому стало спускать его накануне выходных и поднимать в понедельник. Аймо заболел, голова от малейшего движения просто раскалывалась. В глазах рябило, предметы расплывались, будто на глаза ему набросили сеть. Сердце было опустошено, а нутро словно вынули, тело стало легким, как бумага, при ходьбе казалось, что он летит, не касаясь земли.
Кайхуа часто приходила его проведать. В первый раз она принесла два мандарина, очистила и дала учителю. Во второй раз принесла три пакетика китайских снадобий, сама сварила из них отвар, принесла кружку к его постели. Молодая женщина слегка подула на отвар, влажный теплый воздух коснулся лица учителя, в глазах у него прояснилось, он смог лучше разглядеть Кайхуа и промолвил:
– Кайхуа, поставь там, я сам выпью, и так слишком тебя беспокою.
Но женщина не слушала его, желая напоить мужчину из ложки.
Смутившись, учитель сначала не желал открывать рот, затем схватил чашку трясущейся рукой и выпил сам. На третий раз Кайхуа принесла ему из школы аккуратно сложенный флаг, в ее руках он смотрелся ярким, притягивающим взор пятном. Передавая флаг учителю, женщина сказала:
– Сегодня пятница, я его спустила.
Учитель прижал флаг к груди и, закрыв глаза, поднял побледневшее лицо к потолку:
– Ты ездила повидать Дуаньдуаня?
– Ездила, он там ни разу не бился головой об стену и не грыз пластик с корой.
– Я сразу понял, что из этого паренька со временем выйдет толк, если бы не предупреждение начальника отдела, то навредил бы ему.
– Но он там ни одного иероглифа не научился писать, он только флаги рисует и повторяет в слух слова, которым вы его научили.
Учитель Аймо уставился на женщину с изумлением.
– Я не знаю, где он научился ходить на одной ноге… у него же обе ноги в порядке, а он упорно ходит вприпрыжку на одной ноге, – добавила Кайхуа.
– Играет, наверно, в колченогого.
– Он не играет, учитель говорит, что он с самого начала так ходит. Как одна нога устанет, он начинает скакать на другой, а двумя ногами он никогда не ходит. Кто-то его научил, и теперь он не желает бросать эту привычку Я приехала, отругала его, а он все равно за свое. Уходя, я увидела, что опять скачет на одной ноге по двору. Кайхуа начала всхлипывать, на глаза навернулись слезы.
В тот день она пробыла в доме учителя Аймо до вечера, перестирала его одежду, принесла корзину травы для свиньи. Раньше учитель откармливал двух свиней – большую и поменьше. Большую зарезали для поминок матушки. Через несколько дней Кайхуа принесла из дому готовое варево для свиньи. А нынче взяла бамбуковую корзину из дома учителя, нарезала на поле травы, приготовила ей варево. Помогла и свинье, и человеку – как своим домочадцам.
Учитель каждый раз просил ее поскорей возвращаться домой, но она притворялась, что не слышит. Когда темнело, она наконец переделала дела. Учитель Аймо упрямо из последних сил вставал с постели, чтобы налить себе лечебный отвар, тем самым доказывая, что может позаботиться о себе сам. Кайхуа не желала ничего слушать и тащила его обратно в кровать. Она была молодой, у нее в руках было достаточно силы, чтобы совладать с больным исхудавшым учителем. При этом на его лице была написана неловкость, а Кайхуа прикидывалась, что ничего не замечает. Она принесла из другой комнаты чашку отвара и, прежде чем старик его выпил, вдруг выпалила:
– Учитель Аймо, давайте жить вместе.
Тот не на шутку испугался, глаза чуть не вылезли из орбит, видя такое его состояние, Кайхуа поспешила добавить:
– Вы такой добрый, я так этого хотела бы.
Взор учителя вдруг потускнел, подобно перегоревшей лампочке, он долго шевелил губами, подбирая нужные слова:
– Ты что такое несешь, я же твой родственник!
Но Кайхуа отвечала:
– Я знаю вас как учителя.
– Я прихожусь тебе дядей.
– Родство у нас очень дальнее, пятисотлетней давности, не будем уж с этим считаться.
Кайхуа поднесла учителю лечебный отвар, но тот отстранил чашку.
9
В тот понедельник рано утром учитель Аймо пошел в школу. После лечения он значительно окреп, в голове просветлело, ноги стали легче. Он решил снова поднять флаг, эта мысль пришла к нему среди ночи, он так и не заснул до утра. Лежа в кровати, старик пытался внушать себе, что в школе не осталось учеников, так зачем поднимать флаг? Но только рассвело, он подскочил, взял флаг и отправился в школу. Часто бывает, что человек не может переубедить самого себя.
После поднятия флага Аймо не стал выкрикивать «Смирно!». Тут он увидел Кайхуа и спросил, зачем она пришла. Та показала ему пакет с вареными яицами, гордо посмотрев на учителя, как ребенок, ожидающий похвалы:
– Вы были больны несколько дней, а в яйцах по китайской медицине содержится холод, я не решалась вам их предложить.
Аймо не мог предположить, что Кайхуа в такую рань принесет ему вареные яйца, но когда она принялась совать еще теплые яйца ему за пазуху, он словно оцепенел. Женщина на это и рассчитывала. После этой шалости она побежала в класс и вынесла оттуда скамью, заставила учителя сесть с ней рядом. Учитель нерешительно сел, продолжая ерзать. Тогда Кайхуа снова сбегала в класс и вынесла еще одну скамейку для себя. Увидев, что Аймо теперь сидит спокойно, она вытащила у него из-за пазухи куриное яйцо и принялась его чистить, приговаривая:
– Я хочу поехать и забрать Дуаньдуаня.
– Ему надо как следует учиться, наступят каникулы, тогда можно забирать.
– Я хотела бы, чтобы его учили вы, под вашим началом он хоть что-то запоминает, и я смогу его видеть каждый день.
– Он учится в спецшколе, открытой для таких детей, как он, и ты заблуждаешься, ему наверняка лучше учиться там.
Кайхуа протянула очищенный белок учителю со словами:
– Эта школа для глухих, немых и дурачков. А мой Дуаньдуань не слепой, не глухой и не дурачок.
Аймо следил взглядом за приближающимся яйцом и не спешил его брать, он не расслышал ее слов, все его внимание было обращено на кусочек белка. Он вспомнил обезображенное водой лицо своей жены, оно почему-то сливались с картиной множества яичных белков. Он ответил невнятно:
– Ты сама ешь, я еще не голоден.
– Да это не завтрак, вы болели долго и ослабли, это вас подкрепит. Все те пищевые добавки, что продают повсюду, не сравнятся с обычным яйцом.
– Если я захочу поесть, то сам очищу, а ты поешь.
Кайхуа засунула в рот желток, который держала в другой руке, после чего осталась еще половинка белка, другую руку она упрямо держала вытянутой перед учителем, ему пришлось смириться и взять половинку. И тут женщина сунула ему в руку и второй кусочек белка. Он не спешил его есть. Как же она похожа на покойную матушку, угощает его только белком! Неужели это просто совпадение? Или же непостижимая загадка?
Кайхуа съела желток, тут же очистила второе яйцо, отделила белок и подала учителю. Он еще не успел съесть предыдущий кусочек. Она замахала рукой и закричала:
– Ой, быстрей ешьте, а то остынет!
Учитель Аймо, не скрывая удивления, спросил:
– Тебе нравится желток?
– Нет, но вы точно любите белок.
– Кто тебе сказал об этом?
– Матушка-наставница, она говорила, что тоже любит белок, но из-за вашего предпочтения ей всю жизнь пришлось довольствоваться желтком.
Эта новость изумила учителя:
– Она тебе сказала, что любит белок?
Кайхуа согласно качнула головой:
– Ага, говорила, что с детства любила белок, в детстве мать варила ей яйца, она всегда отдавала желток ей.
Учитель вытянул шею и вытаращил глаза, словно увидев диковинного зверя, потом хихикнул и сказал:
– Может же такое быть, вот совпадение!
Аймо охватило странное оживление, лицо раскраснелось, он принялся размахивать туда-сюда белком в руке, губы его шевелились, как у жующей коровы. Так продолжалось довольно долго, пока он не разразился облегчающим душу смехом до слез на глазах. Успокоившись, он поведал Кайхуа, что на самом деле предпочитает желток – а вовсе не белок. Он думал, что желток – это более вкусная часть яйца, и поэтому всю жизнь отдавал его матушке.
Слушая его, Кайхуа опечаленно повесила голову. Уставившись в пол, она вдруг подумала о своем муже Ли Муцзы, желая вспомнить хоть один пример такой же теплой заботы с его стороны. Но, увы, на ум ничего не приходило, в памяти всплывали только серые унылые будни. Сколько она не силилась, ничего вспомнить не могла, и из глаз покатились слезы.
Учитель увидел два мокрых пятна у ног Кайхуа, ее полные скорби глаза смотрели на него, сердце Аймо охватила жалость, он опять побледнел, его странная веселость улетучилась.
– Что с тобой, дочка?
Женщина не могла объяснить, что с ней, в сердце теснились грусть и обида, которые не выразить словами.
Учитель пристально посмотрел на нее:
– Дочка, поезжай и разыщи своего мужа, а я присмотрю за Дуаньдуанем.
Кайхуа так резко подняла голову, что капли слез упали на одежду и руку учителя. В его пальцах по-прежнему был яичный белок. Глаза женщины были полны слез, она с трудом проговорила:
– Я ни за что не пойду искать этого бессовестного человека.
Учитель опешил и не нашелся что ответить, слова застревали в горле.
Кайхуа поднялась, утерла лицо и побрела прочь, но вдруг обернулась:
– Отдайте мне ключ, я пойду готовить.
Жители села Трех мостов всегда начинают большую готовку утром, у них с утра сразу обед. А в нашей деревне это называется завтраком. Обычно ранним утром мужчины уходят на поле, а женщины начинают готовить для домочадцев и свиней. Кайхуа вела себя как жена учителя.
– Нет-нет, я здоров и сам справлюсь, ты иди занимайся своими делами, – возразил Аймо.
– Вы справитесь?
– Да. – Чтобы она поверила, мужчина напряг мышцы на руках, показывая свою силу.
– Тогда сегодня я поеду забрать Дуаньдуаня. – Женщина не дождалась ответа и добавила: – В дальнейшем вы будете снова его обучать, а я буду готовить вам еду.
– Не глупи, – поспешил ответить Аймо.
Но все произошло не так, как задумала Кайхуа, ее сына не стало. Он убился от удара головой о стену. Учителя из спецшколы говорили, что они только отучили мальчика от дурной привычки скакать на одной ноге, как он взял манеру ходить вверх ногами, как в цирке. Конечно, так можно поиграть какое-то время, учителя позволили ему тренировку для укрепления мышц. Но Дуаньдуань не собирался оставить эту привычку, по словам учителей он уподобился Оуян Фэню из книги «Подлинный канон девяти светлых начал», почти научился проходить через огонь и проделывать другие трюки. Кайхуа не читала эту книгу писателя Цзинь Юна и не слышала об этом герое. Учителя потратили немало времени, чтобы растолковать, что Дуаньдуань только во время еды и на уроках сидел как все, а все остальное время ноги у него были выше головы и ходил он на руках. Чтобы отбить у него эту странную привычку, и пришлось прибегнуть к наказанию, ему пару раз ударили плеткой по рукам, он вдруг взбесился и бросился на стену. Они показали Кайхуа то место на стене, куда он ударился головой, где виднелись потемневшие пятна крови. Учителя и представить себе не могли такую силищу, что он смог с одного удара пробить себе голову.
Дуаньдуань ведь давно перестал бросаться на стену, почему он вдруг опять это сделал? От ужасной новости у Кайхуа потемнело в глазах, и она потеряла сознание. Домой она привезла маленькую коробочку с прахом сына. Она просидела дома, стиснув урну, весь день и всю ночь. На утро появился учитель Аймо, чтобы узнать, что случилось с Дуаньдуанем. За день до этого он услышал, как с другого берега Чжан Цин надрывает глотку и через громкоговоритель срочно зовет Кайхуа к телефону. В тот день на реке не было ветра, слова долетали с того берега отчетливо. Голос сообщал, что спецшкола «Веселый кораблик» разыскивает Дэн Кайхуа, он покричал так час, потом опять принялся объявлять, чтобы Кайхуа немедленно подошла и приняла звонок. У нас в деревне нет ни одного телефона, телефонную связь обеспечивает Чжан Цин из села на том берегу. Когда по телефону разыскивают кого-то из нашей деревни, он тут же начинает вызывать человека через громкоговоритель.
За час Кайхуа как раз вышла из дома и добралась до дома Чжан Цина. Все это время учитель Аймо высматривал, что происходит на открытом пространстве центральной улицы, он увидел, как Кайхуа пробежала по ней и долго не возвращалась. Он понял, что после звонка по телефону она сразу отправилась в уездный город. Что же там стряслось? И учитель пошел к дому Чжан Цина с пустой бутылкой, чтобы взять у него домашнего вина и разузнать, что это был за звонок.
– Я не в курсе, когда я поднял трубку, там сказали только, что ищут Кайхуа, – развел руками Чжан Цин, – не уточнили, по какому делу.
– Она после разговора даже не намекнула?
– Я не обратил внимания, – покачал Чжан головой.
Оставшееся время учитель Аймо провел в мучительных догадках о том, что могло случиться с Дуаньдуанем, ломал голову, пока та не заболела. Он надеялся, что Кайхуа вернется на следующий день, но она и через день не вернулась. Что можно так долго делать в уездном городе? Должно быть, она оформляет бумаги, чтобы забрать мальчика. Наверняка, вернувшись, тут же придет к нему с сыном. В томительном ожидании он провел целый день, но никого не дождался. И ранним утром он сам пошел к ней домой.
Кайхуа сидела неподвижно, как каменная, учитель стоял перед ней, но она не реагировала. Женщина прижимала к груди маленькую коробочку, очень красивую, кто бы мог подумать, что внутри останки Дуаньдуаня! Учитель видал раньше урны для праха, но ему в голову не могло прийти, что это она и есть. Он был уверен, что это просто обычная симпатичная коробка. Аймо кашлянул, желая привлечь внимание Кайхуа, но она все так же сидела неподвижно. Он снова покашлял, но безрезультатно, тогда он прямо спросил:
– Повидала Дуаньдуаня?
Женщина продолжала молча сидеть, Аймо увидел у нее на макушке длинный седой волос, он бросался в глаза на фоне копны черных волос, и учителю казалось, что он, как серебряная игла, указывает на него. По спине вдруг поползли мурашки, напал озноб, на душе стало тревожно, он пристально посмотрел на коробочку в руках Кайхуа, и буквально ощутил, какая она холодная.
– А Дуаньдуань? Ты ведь ездила повидать его? – спросил учитель.
Женщина наконец очнулась и автоматическим движением подняла коробочку и поднесла к лицу учителя. У Аймо все внутри похолодело, он сжал зубы, глядя на коробочку как на готовую к броску ядовитую змею. Кайхуа подняла голову, глаза у нее были красные и сухие. Она долго смотрела на учителя, пока тот не взял из ее рук коробочку.
– Дуаньдуань тут внутри, – прохрипела она.
Теперь Аймо все стало ясно, к горлу подступил комок, он вдруг ощутил, какая урна тяжелая, как ему трудно ее держать.
– Как это случилось? – Его голос тоже стал хриплым.
Кайхуа заговорила:
– Дуаньдуань хочет снова стать хорошим ребенком, послушным, который не будет огорчать меня, которого не бросит отец.
Кайхуа не отрываясь смотрела прямо на учителя, и вдруг в ее глазах загорелись искры. Она вдруг потащила учителя в заднюю комнату, а это место, куда не заходят чужие. Учитель понял, что этот порыв может привести к непоправивым последствиям, и инстинктивно отпрянул назад. Все-таки он был мужчиной, и Кайхуа не могла сдвинуть его с места против воли. Но она вдруг бросилась его обнимать и бормотать как в лихорадке:
– Хочу, я хочу, очень хочу… давай же. Хочу! – При этом она как обезумевшая ощупывала тело учителя.
Тот рассердился и ударил ее по щеке. Из-за близкого расстояния пощечина оказалась слабой, но она привела женщину в себя. Аймо высвободился из ослабевших объятий, поставил урну с прахом Дуаньдуаня на стол перед алтарем. Ему было стыдно перед этой урной, и он смущенно уставился на нее. Тут Кайхуа громко крикнула:
– Аймо!
Он повернулся и вновь напоролся на взгляд ее покрасневших глаз. Она тяжело и часто дышала, будто бежала к нему издалека. Задыхаясь, она выпалила:
– Ты обязательно должен дать мне ребенка, хорошего ребенка. Иди ко мне, Аймо. У меня здоровье хорошее, твое семя уже завтра в моем животе даст побег, иди же ко мне…
Она продолжала кричать, из глаз вдруг хлынули слезы и закапали на пол. Красные глаза наполнились влагой, как цветочные бутоны во время дождя. Если бы она продолжала звать его, если бы учитель и дальше смотрел в ее тоскующие глаза, то он может и забыл бы, что приходится ей дальним родственником, прижал бы ее к себе, отнес на кровать и зачал с ней ребенка. Но она рыдала все громче, ее горе выплескивалось короткими прерывистыми всхлипами, она чуть не задыхалась от недостатка воздуха.
10
Со временем стали происходить странные вещи. Каждый раз, как учитель Аймо приходил в школу, туда приходила и Кайхуа, она прилежно слушала, что он рассказывает на уроке. Учитель не назначал ей встречу, ему просто необходимо было продолжать вести уроки, он нуждался в этом даже в отсутствие учеников. Кайхуа так объясняла свое поведение:
– У вас потребность вести уроки, а у меня – еще раз побыть вашей ученицей, все сходится.
На это учитель отвечал:
– Дуаньдуаня больше нет, тебя ничто не держит, поезжай разыскивать своего мужа.
– Я лучше умру, чем поеду его искать, – отвечал она, поджав губы.
На это учителю нечего было ответить.
– Продолжайте-ка лучше урок.
Аймо помрачнел, продолжая молчать. Женщина оглядела класс и призналась:
– Я скучаю по сыну, когда я здесь, на душе спокойней.
Учителю ничего не оставалась, как продолжать урок.
Долгое время в школе деревни Муэрцунь можно было наблюдать эту картину, Кайхуа за партой, Аймо у доски. Это была всего лишь игра, но относились они к ней со всей серьезностью.
Однажды учитель получил письмо от Му Сяоци и Сунь Фэя, где было сказано, что у них нет городской прописки, за учебу нужно платить много денег, таких денег у их родителей нет, их отдали в школу для глухих и немых детей. Им там очень скучно, они очень хотели бы вернуться в школу учителя Аймо.
Учитель отправился в уездный город забрать детей. Накануне вечером Кайхуа пришла, чтобы попросить ключ от дома и заниматься домашними делами в его отсутствие. Учитель отказал, дома и дел-то никаких нет, еще не успевшую подрасти свинью он продал. Он специально от нее избавился, чтобы не давать Кайхуа повода заниматься его домашними делами и ключа ей не дал. Но тем вечером он решил поговорить с молодой женщиной по душам:
– Дочка, послушай своего дядю, отправляйся-ка в город, как все молодые из нашей деревни, бог с ними, с деньгами, тебе просто надо сменить обстановку. Ты еще молода, красива, мир ведь огромный, кто знает, может, через год-полтора ты встретишь хорошего человека.
В комнате горела одинокая лампочка, друг напротив друга сидели одинокие мужчина и женщина, Кайхуа не особо слушала, что внушает ей учитель, она не отрываясь смотрела на его нос, так что учителю стало неловко. Он напустил на себя строгость и спросил, почему она уставилась на его лицо. Кайхуа ответила начистоту:
– Я смотрю на ваш нос. Всем бабам в деревне нравится смотреть на ваш нос, вы знаете почему?
Учитель смутился, лицо стало похоже на стену, выкрашенную неумелым маляром, – все в пятнах разных оттенков. Он смог лишь пробормотать:
– Я уже стар.
– Да, вы постарели.
Эти слова его задели, внутри него все напряглось. Как бы он мечтал показать этой женщине, сидящей напротив, каким был в молодости, чтобы она на себе испытала это! Но этот запал очень быстро прошел, потому что Кайхуа отвернулась и перестала пялиться на его нос. Аймо взглянул на ее ставшее рассеянным лицо, только что оброненные слова теперь казались чем-то призрачным, вероятно, это тщеславие учителя ему нашептало, а не вымолвила Кайхуа. Уходя, она подвела итог:
– Я вижу, что в этом доме и впрямь нет никаких дед, поезжайте спокойно встречать учеников.
Когда учитель уехал, Кайхуа выкопала на своем заднем дворе высокое, ростом с человека, апельсиновое деревце и посадила возле персикового дерева на школьном дворе. Персики были уже размером с куриное яйцо, скоро должно были созреть. Она подумала: «Пройдет несколько лет, мое дерево тоже зацветет. И тогда в школе весной будет цвести персик, а летом апельсин, вот будет благоухание!»
Перевод Е. Л. Завидовской
Два брата по фамилии Цао
Цао Юн
1
С корзинами за плечами Цао Дашу и его младший брат Цао Сяошу отправились на поле за красной фасолью. Едва они вошли в заросли, листва поглотила их, словно морская пучина. Стебли один к одному вытянулись плотной стеной. Братья трудились бок о бок. Вдруг Цао-младший заговорил. Он объявил, что хочет жениться. В ответ старший брат, точно немой, никак не прореагировал. Младший решил, что тот не расслышал, и повторил еще раз. Старший брат продолжал хранить молчание, слова Цао Сяошу просто позабавили его: кто же не хочет жениться? Вопрос в том, есть ли такая возможность. Бабы – они ведь не огурцы, которые выращивают на грядке, их просто так не сорвешь. Видя, что старший брат никак не отзывается, Цао Сяошу несколько озлобился и напористо спросил:
– Ты чего это не разговариваешь, оглох что ли? Я сказал тебе, что хочу жениться, ты слышал? – На этот раз его голос звучал громко, словно старая треснутая труба.
Цао Дашу понял, что если он снова никак не отреагирует, то младший, чего доброго, закричит ему прямо в ухо, поэтому раздраженно ответил:
– Да у нас же нет ничего, без штанов ходим, за тебя если только нечисть какая пойдет.
Младший захохотал:
– Нечисть не пойдет, а вот Хуан Лянь пойдет.
Цао Дашу подумал, что ослышался:
– Кто? Кто, ты сказал?
Цао Сяошу весь просиял и повторил, что намерен жениться на Хуан Лянь.
– Не бывать этому, я против. Если ты возьмешь в жены Хуан Лянь, то опозоришь всю нашу семью. Так что и разговора тут никакого быть не может!
Младший перестал смеяться и спросил, почему брат настроен столь категорично. Цао Дашу понимал, что не обо всем можно открыто говорить, поэтому просто сказал, что нельзя и все. Младший рассерженно выкрикнул:
– Я все равно женюсь на Хуан Лянь!
Испуганный этим его криком, Цао Дашу с каменным выражением лица произнес:
– Если женишься на Хуан Лянь, то считай, что старшего брата у тебя больше не будет.
Цао-младший отшвырнул собранную фасоль в сторону, развернулся и пошел прочь. Было слышно, как он выкрикнул:
– Не будет так не будет, не велика потеря!
Цао Сяошу ушел, вокруг сразу стало тихо, лишь было слышно, как ветер колышет траву. У Цао-старшего пропала вся охота собирать фасоль. Он уселся посреди поля, словно одинокая рыбешка, прибившаяся ко дну, и не шевелился. Он никак не мог понять, как его брат спутался именно с Хуан Лянь. Хуан Лянь – искусительница еще та, несмотря на свою заурядную внешность, она вела распутную жизнь. С ней переспал практически каждый из деревенских мужиков, и ему было совершенно непонятно, о чем вообще думает младший брат. Тут он несколько сконфузился: ведь как-то раз и сам он заплатил пятнадцать юаней, чтобы переспать с ней. Если только брат приведет ее в дом, то не общаться с ней будет невозможно, ну не срам ли это?
Когда Цао-старший был чем-то озадачен, работа у него не ладилась. Закинув за спину корзину, которую он так и не наполнил, Цао Дашу отправился домой. По дороге он все думал над тем, как же ему расстроить свадьбу. Но когда он со своей полупустой корзиной ступил на порог, то впал в полное отчаяние, поскольку в доме уже сидела разряженная в пух и прах Хуан Лянь.
Цао-старший раскаивался, что сразу же не догнал младшего брата, ведь если бы он пошел за ним следом, то проблему можно было бы уладить намного проще, тогда наверняка удалось бы избежать катастрофы, пятнающей семейную репутацию.
Опорожнив во дворе свою корзину с фасолью, Цао Дашу с каменным лицом вошел в дом. Он заметил, что посреди комнаты стоял стол, уставленный разными блюдами. А еще он заметил два рта, уплетающих еще горячие кушанья. Его чуть не разорвало от злости, он с возмущением подумал, что это полное безобразие – сесть обедать, не дождавшись его. В этот самый момент Цао-младший громко пригласил его к столу. В ответ старший брат грубо огрызнулся:
– Жрите сами, я уже сыт по горло!
Цао-младший, не обращая внимания на настроение брата, то и дело подмигивал Хуан Лянь, они оба просто пожирали друг друга глазами. Глядя на эту сцену, Цао старший понял, что дело зашло слишком далеко и его не повернуть вспять. Его охватило отчаяние, как будто у брата не любовь случилась, а тот попал в логово тигра, который вот-вот его растерзает.
Подавленный этим обстоятельством, Цао Дашу решил в тот день больше не ходить на поле. Весь вечер он просто грелся на солнышке: поворачивался то одним, то другим боком, уподобившись фасоли, которую просушивают на солнце. Разморенный, он чувствовал, что размяк, точно попавшая в кипяток лапша.
Под конец дня к нему вышла Хуан Лянь и позвала ужинать. Вспомнив ее гладкое, скользкое, словно у рыбки, тело, Цао-старший покраснел и ничего не ответил, как будто ничего не услышал. Хуан Лянь с невозмутимым видом снова позвала его к столу. Но тот по-прежнему молчал. Тогда Цао-младший сказал:
– Он просто упрямится, зачем его звать? Ну не пойдет он, ты хоть надорвись, а он все равно есть не будет. Оставь его, пошли уже.
Цао-старшему не хотелось ужинать, но желудок говорил обратное, напоминая о себе непрерывным урчанием. Поэтому Цао Дашу все-таки направился к столу. Сегодня на ужин был тот же набор блюд, что и всегда, однако непонятно почему их вкус был совершенно другим. Цао-старшему казалось, что он ест просто безвкусную землю. Он жевал, а про себя почем зря крыл эту парочку негодяев.
Вечером Цао Дашу никак не мог уснуть, ему хотелось услышать, чем там занимаются его брат и эта хищница. Он долго лежал, навострив уши, но так ничего и не уловил. Это обстоятельство окончательно лишило его всякого сна; он никак не мог взять в толк, почему не раздавалось ни единого шороха.
На следующее утро, когда Цао-старший проснулся и увидел веселую перепалку между младшим братом и Хуан Лянь, он с горечью осознал, что репутации семейства Цао пришел конец. Когда он стал умываться, к нему подошел Цао младший.
– Брат, чего ты встал, поспал бы еще, – начал он.
«Ты тут еще будешь за меня решать, когда мне вставать», – подумал Цао-старший.
– Брат, я хочу кое-что с тобой обсудить.
Цао Дашу, сосредоточенно умываясь, продолжал хранить молчание. Младший начал терять терпение и громко спросил:
– Брат, ты слышал, что я сказал? Я хочу кое-что с тобой обсудить.
Кипя от злости, Цао Дашу огрызнулся:
– Не называй меня братом.
Цао-младший проявил пример послушания и на самом деле перестал употреблять слово «брат». На полном серьезе он объявил:
– Цао Дашу, я хочу поделить дом.
Цао-старший даже подпрыгнул от неожиданности:
– Повтори, что ты сказал? Сяошу, что ты сейчас сказал?
– Поделить дом, я хочу жить от тебя отдельно.
– Зачем это? – громко спросил Цао старший. – Мы нормально жили, что это ты надумал отделяться?
– Да это не я надумал, это Хуан Лянь хочет. Она говорит, что если мы не разъедемся, то не выйдет за меня.
– Оказывается, это фокусы твоей ведьмы. Что в ней такого, что ты ее слушаешься?
Вспылив, младший, тыча пальцем в лоснящийся нос Цао Дашу, сказал:
– Если ты еще раз обзовешь Хуан Лянь, я тебе врежу.
Цао-старший понял, что младшего брата ему не спасти.
– Так, значит, ради этой ведьмы ты и с братом старшим больше знаться не хочешь? – с горечью сказал он. – И что ты в ней хорошего нашел? Ведь она – сучка, с ней все деревенские мужики переспали. Что в ней может быть хорошего?
Едва Цао-старший произнес эти слова, как в его нос врезался увесистый кулак. Кулак младшего брата оказался твердым, словно молоток, после такого удара из глаз Цао Дашу потоком хлынули слезы, а вместе с ними таким же мощным потоком хлынула и кровь из носа. Цао провел по лицу рукой, размазав кровь. Казалось, что вместо лица у него сплошная зияющая рана. Зажав нос одной рукой, другой Цао-старший изо всех сил пытался нанести ответный удар. Все это время он рычал:
– Ну, Цао Сяошу, сейчас ты у меня получишь!
Словно обнявшись, братья вцепились друг в друга мертвой хваткой. Перепуганная Хуан Лянь ринулась к ним, чтобы разнять, однако по силам она явно уступала братьям. Она уже взмокла от усилий, но все было без толку. Решив оставить их в покое, она уселась рядом перевести дух. Чувствуя, что у нее пересохло во рту, она сходила глотнуть воды, а потом вернулась и стала дальше глазеть на их драку, словно то были просто две обезьяны. Она никак не могла взять в толк, почему эти двое здоровых, крепких мужиков все никак не могут отлипнуть друг от друга, выбрав такую вялую тактику.
Хуан Лянь посмотрела на них еще немного. Похоже, ничего интересного больше не предвиделось, и она, почувствовав, что ее клонит в сон, решила прилечь. Но в тот момент, когда она, зевая, приготовилась уходить, Цао-старший подмял под себя младшего, на какое-то время одержав верх. Оседлав, словно лошадь, младшего брата, Цао старший занес над ним кулак и ударил так, что расквасил Сяошу физиономию. Увидав, что дело приняло слишком плохой оборот, Хуан Лянь схватила скамейку и с яростью обрушила ее прямо на голову Цао старшему. На какую-то секунду он замер, после чего весь обмяк, словно у него не имелось никаких возражений. Не издав не единого звука, он повалился на землю, разом и бесповоротно.
Цао-младший приподнялся и стал ругать Хуан Лянь:
– Ты зачем его так сильно ударила? Неужели не боишься убить насмерть?
– Если бы я его не вырубила, то он бы тебя забил насмерть, – ответила Хуан Лянь.
Беспокоясь, как бы и впрямь чего не стряслось, Цао-младший принес таз с холодной водой и окатил брата. Тот очнулся и повращал глазами, прежде чем наконец вспомнил, что произошло. Почувствовав нестерпимую боль в затылке, он протянул руку, чтобы пощупать его. И тут обнаружил, что среди спутанных, как трава, волос совершенно на ровном месте выросла огромная шишка. Он тотчас вскочил и рассерженно заявил:
– Отделяться так отделяться, иначе жить все равно будет невыносимо…
2
Цао-старший и Цао-младший разделили дом.
Это дело оказалось непростым. Ну как, к примеру, поделить дом, в котором было три помещения: гостиная и примыкающие к ней две боковые комнаты? Однако младший нашел выход: он предложил каждому отвести по одной боковой комнате, а в гостиной провести известкой разделительную черту, чтобы каждому досталась ровно половина, включая дверь со створкой. Такой способ разделения представлялся, на его взгляд, совершенно справедливым и наименее затратным. Итак, дом они поделили, однако оставались некоторые моменты, вызывающие неудобство. Не поделишь ведь такие штуки, как чан с водой. В противном случае потребность в воде станет причиной конфликтов из-за вторжения на чужую территорию. Но делать нечего, и Цао-младший, рассердившись, все-таки распилил чан на две половины. Забрав свою часть, он сказал, что сделает из нее корыто для свиней.
Эта выходка вконец вывела из себя Цао-старшего. Он отшвырнул оставшуюся половину и громко объявил, что ее выбрасывает.
Разделив имущество, Цао-младший тут же приступил к хлопотам, связанным с подготовкой к свадьбе. Пару дней до назначенной даты очень многие приходили им помочь. Это весьма обрадовало младшего, который воспринял это как знак хорошего расположения к нему. Ведь в противном случае, размышлял он, и сама свадьба получилась бы скучной. Он и не подозревал, что на самом деле все эти люди стремились к Хуан Лянь, с которой у них раньше или сейчас были «теплые» отношения. Именно поэтому они и проявляли такое усердие. Все эти люди воспринимали свадьбу Цао-младшего как свою собственную, ведь они, можно сказать, были его соратниками и воевали в одном окопе. Доходило даже до того, что, помогая ему, они подшучивали, мол, тут свои люди собрались, чужаков нет!
Фактически, если бы не особый статус отдельных людей, не позволявший им показаться в этой компании, то свадьба была бы еще веселее. Являясь по большей части уже женатыми мужчинами или руководящими лицами, эти люди вынуждены были маскировать свои чувства, а потому им приходилось лишь сожалеть, что они не могли присоединиться к многочисленной армии поклонников Хуан Лянь.
В сложившейся ситуации Цао Дашу также имел полное основание занять свое место среди других. Но он никак не мог смириться с тем, что Хуан Лянь станет женой его младшего брата, поэтому, проявляя непреклонность, не переступал проведенной известкой черты. А чтобы выразить свой протест, Цао-старший стал нести вахту у пограничной черты, и когда замечал, что кто-то пытается переступить границу, он тотчас прогонял нарушителей со своей территории. Он говорил: «Это мой дом, и свадьба вовсе не у меня, зачем вы ко мне приходите?»
Все это очень раздражало Цао Сяошу, он даже специально притащил скамейку и поставил ее у границы, чтобы гости не заходили куда не надо.
– Будьте внимательнее, – предупреждал он, – только на этой половине вы находитесь в «освобожденном районе».
В ярости Цао-старший также притащил скамейку и уселся напротив. Таким образом, братья решили взять один другого измором.
Когда Цао Сяошу позвали к столу, он отказался:
– У меня сейчас нет времени, принесите еду сюда.
Считая Цао-младшего за абсолютно родного, своего человека, услужливые помощники старались проявить беспримерную сердечность. Услышав просьбу Цао Сяошу принести ему покушать, они тотчас поспешили удовлетворить его желание. Наевшись, Цао младший захотел в туалет. Данная проблема оказалась достаточно щекотливой, тут помочь никто не мог. Стиснув зубы, Цао-младший держался сколько мог, а когда терпеть уже не было сил, он ужаснулся мысли о последствиях и попросил Хуан Лянь подержать рубеж в его отсутствие.
Хуан Лянь уселась напротив и растянула рот до ушей. Улыбаясь, она строила глазки Цао-старшему.
Поскольку на стороне Цао Сяошу оказалась большая группа поддержки, избравшая тактику измора противника, старшему брату очень скоро пришлось сдать позиции. В первую ночь, несмотря на сильное желание уснуть, «легкораненый» Цао Дашу так и не ушел с передовой и из последних сил смог продержаться. Однако провести без сна вторую ночь для Цао-старшего оказалось невмоготу, и, изнуренный, он повалился прямо на скамейку. Проснулся он уже засветло. В ярких лучах рассвета он вдруг обнаружил, что линию границы совсем растоптали, а на полу повсюду виднелись многочисленные следы.
Цао-старший огорчился: он никак не ожидал, что проиграет в войне с этим выродком, Цао Сяошу. Бешенство переросло в решимость переломить ситуацию.
Дождавшись темной ночи, Цао-старший отправился с визитом к Бай Лин, вместе с ним к ней направилась увесистая вяленая нога. Бай Лин слыла в деревне известной свахой. Сама она, едва выйдя замуж, потеряла мужа, Косого Ли, который разбился насмерть, упав с обрыва. И если бы она не ухаживала за своей неизлечимо больной свекровью, то наверняка уже давно бы повторно вышла замуж. Все эти несколько лет она зарабатывала на жизнь главным образом сватовством. Она успела свести друг с другом немало деревенских жителей, благодаря чему снискала хорошую репутацию. Оглядевшись по сторонам, Цао тихонечко постучался к Бай Лин. Дождавшись, когда она выглянет, он, ничего не сказав, сунул ей в руки вяленый окорок и ушел восвояси. Бай Лин очень удивилась, сколько ни пыталась, она никак не могла понять его скрытый намек.
Несколько последующих вечеров Цао-старший продолжал делать подношения. Он приносил Бай Лин то тыкву, то два кочана капусты – в общем, много чего. Проведя в догадках несколько дней, Бай Лин решила, что Цао ей симпатизирует. И когда Дашу заявился снова, она, словно девчонка, от смущения покраснела. Лишь спустя полмесяца Цао-старший наконец все ей объяснил и она поняла, что принимала желаемое за действительное. Цао Дашу обратился к ней как к свахе, чтобы та подыскала ему вторую половину. Когда Бай Лин спросила о его предпочтениях, тот промямлил, что полностью ей доверяет.
Несмотря на некоторое разочарование, Бай Лин, будучи отменной свахой, со всем пылом отдалась своему делу и уже очень скоро привела к Цао-старшему одну вдову. Вдова оказалась не одинока, с ней прибыла целая гвардия: мало того, что одного ребенка она вела за руку, второй висел у нее за спиной. Цао Дашу почувствовал некоторую неловкость, точно его заставляли жениться. Он приготовил для вдовы и ее детей ужин, нагрел воду для мытья. Вдобавок к этому он уступил вдове свою собственную кровать, а сам всю ночь провел на лавке. Да только нормально поспать ему не удалось: целую ночь плакали дети. Их рев был подобен мощному потоку разливающейся реки, так что сомкнуть глаз ему так и не пришлось.
На следующее утро, встав с красными глазами, Цао-старший приготовил для вдовы целую кастрюлю лапши, после чего выпроводил женщину вместе со всем ее выводком за порог.
Через какое-то время Бай Лин снова привела к Цао одну девушку. Все ее лицо сплошь покрывали веснушки, красавицей ее назвать было нельзя, однако внешность Цао Дашу совершенно не волновала, его успокоило уже то, что с нею не оказалось оравы ребятишек. Бай Лин была уверена, что данная партия наверняка всех устроит, однако она снова ошиблась. На следующий день Цао с кислой физиономией заявился к ней и попросил забрать девицу туда, откуда она ее взяла. На вопрос, что его не устроило, тот ответил, что женщина показалась ему ленивой: «Солнце ей уже весь зад спалило, а она вставать не торопится, вот уж и вправду лентяйка». Бай Лин пыталась его уговорить, чтобы тот остановил на ком-нибудь свой выбор:
– Ты ведь уже тоже не мальчик. Не годится и дальше ставить условия, хватит рядиться. Мне кажется, что можно как-то приспособиться.
На это Цао-старший, нахмурившись, ответил:
– Она настолько ленивая, что приспособиться вряд ли удастся. Ну, женюсь я на ней, а как дальше-то жить?
После этого Бай Лин приводила к нему еще нескольких кандидаток, однако ни с одной из них он так и не сошелся. Сколько ни умолял Цао Дашу подыскать ему нормальную женщину, Бай Лин, качая головой, только говорила:
– Тебе, то одну, то другую подавай, очень уж сложно угодить.
Но Цао все-таки просил ее подобрать кого-нибудь еще.
3
Цао-старший спал, когда на него вдруг стал капать дождь. От этого он проснулся.
Дом был совсем старый, и многие годы лежавший на крыше камыш уже сгнил, поэтому дождевая вода без всяких препятствий проникала через дыры и капала прямо на постель Цао Дашу. До того как его разбудил дождь, Цао-старшему снился сон, будто он женится на красавице и у него шикарная свадьба. Ему также приснилось, как его, вдрызг пьяного, подхватив с двух сторон под руки, завели в комнату для новобрачных… И тут, на самом интересном месте, сон прервался. Что ни говори, мало кому такое понравится. Цао посмотрел наверх, но в кромешной тьме ничего не обнаружил. Дождевая вода, точно струйка песка, шелестя, лилась на его лицо, и скоро оно все стало мокрым.
Цао отыскал клеенку и, словно обезьяна, вскарабкался на крышу, чтобы заделать дырки и остановить потоп. Дом их совсем обветшал, срок его службы давно вышел, и Цао Дашу по неосторожности провалился с крыши на чердак дома, прямо как капли дождя. Когда он с грохотом повалился на потолочные балки, ему показалось, что он переломал себе все кости. Попытка подняться обернулась мучительной болью. На глазах его выступили слезы, но все усилия оказались тщетны. Он хотел было позвать на подмогу младшего брата, но едва открыл рот, как вспомнил, что они разделились, а до того успели еще и подраться. Поэтому рот ему пришлось закрыть. У него, собственно, и выбора-то не было. Его увечья оказались столь серьезны, что, попробуй он открыть рот, тотчас бы раздались стоны, которые, того и гляди, дошли бы до ушей Цао-младшего и Хуан Лянь. А Цао Дашу уж никак не хотел, чтобы его услышала эта парочка развратников.
Полежав какое-то время на ледяных балках, Цао почувствовал, что боль несколько утихла. Тогда он с трудом стал спускаться вниз по лестнице.
Лежа в промокшей постели, Цао-старший с горечью думал о том, что когда небо прояснится, то обязательно нужно будет починить дом, иначе жить в нем станет невозможно. Цао Дашу предавался своим планам, а дождь лил еще двое суток, пока наконец не прекратился.
Утром того дня, когда наконец выглянуло солнце, Цао-старший взял острый серп и, ковыляя, отправился на склон горы. Он собирался нарезать травы, чтобы заново покрыть крышу. Левая нога у него еще побаливала, поэтому он не мог ступать в полную силу. Малейшее усилие – и боль, словно тысячи маленьких змеек, распространялась по всему телу. По-хорошему ему бы сейчас полежать во дворе и прогреться на солнышке, чтобы оправиться от ушибов. Однако стоило ему подумать о прогнившей крыше, как его охватывала тревога. Теперь его страшило хмурое небо, а еще больше его пугал дождь. За два последних дня ливни устроили в его комнате настоящий потоп, повсюду развелась слякоть, словно на болоте. Стоило только ступить на пол, как ноги тонули в этой грязи, напоминая две воткнутые туда палки. Если бы он не уложил на пол несколько плит, то и совсем не было бы места, куда можно ступить.
Добравшись до склона, Цао-старший приуныл: буйные заросли дикой травы напомнили ему громадную крышу без конца и края. Не обращая внимания на больную ногу, Цао Дашу взял серп и с головой нырнул в травяную чащу, стеной стоявшую выше человеческого роста, после чего рьяно принялся за работу. Со стороны могло показаться, что в траве опрометью бежит заяц, потому как трава колыхалась несмотря на отсутствие ветра. Цао работал так проворно, что его размашистые движения серпом напоминали круговые движения колеса. И уже очень скоро в зарослях образовалась большая расчищенная прогалина.
Срезая стебли, Цао мысленно подводил итоги своего труда. Работая, он прикидывал: вот у меня уже имеется крыша размером со стол, а вот размером с дверь… И когда, по его подсчетам, запасов травы хватало на полкрыши, от усталости он уже не мог шевельнуться. С трудом переводя дух, он углубился в заросли, желая укрыться в тени и отдохнуть. Погода стояла жаркая, казалось, что над головой висит раскаленный котел.
Цао старший уселся под сенью раскидистого дерева. Оно было настолько кривым, что, казалось, корчится от боли. Похлопав по стволу, Цао пустился в рассуждения:
– Какие думы тебя одолели? На самом деле все можно вынести, стисни зубы – и все пройдет. Ничего непоправимого нет, так что выше голову.
Почувствовав голод, Цао Дашу вытащил из кармана несколько запеченных утром картофелин и принялся их жевать. Уплетая за обе щеки картошку, он достал бутыль с холодным чаем и припал к горлышку. Его переполнило ощущение счастья, ведь у него имелось все, что надо – и еда, и одежда, и жилье… Конечно, дом несколько обветшал, но волноваться не стоит: он покроет крышу новой травой, и все будет нормально. Имелась, правда, еще одна проблема – отсутствие невесты, но и об этом не нужно беспокоиться. Вот придет время жениться, а там, глядишь, и невеста появится.
Наевшись, Цао взял серп, собираясь возобновить работу. И тут вдали под огромным валуном он заметил шевеление в траве. Предполагая, что это заяц, Цао Дашу стал осторожно подкрадываться поближе. Увиденное его потрясло: там оказались его невестка Хуан Лянь и Ли Баотянь, которые предавались плотским утехам. Длинные ноги женщины, закинутые на плечи мужчины, напоминали две направленные в небо пушки. Цао-старшему стало не по себе, он подумал о младшем брате: «Ну вот, отговаривал я тебя жениться на Хуан Лянь, а ты не послушался. И что же? Не прошло и нескольких дней после того, как она переступила порог нашего дома, а рогов тебе уже понаставила». Но Цао недолго злорадствовал: до него вдруг дошло, что это обстоятельство задевает честь всего их семейства. Сначала он хотел было ринуться к Ли Баотяню, чтобы как следует вздрючить его, но, поразмыслив, остановился. Во-первых, тот работал в их деревне бухгалтером, а это все-таки высокая должность, так что если его обидеть, то потом себе дороже будет. Во-вторых, помня о драке с Цао-младшим, он посчитал неуместным подставляться ради него. Поразмыслив, Цао Дашу тихонько удалился прочь.
С одной стороны, ему не хотелось проявлять инициативу, а с другой – он не мог просто так все оставить. Размышляя над этим, он вдруг увидел, как со склона горы, с наплечной корзиной, полной листьев, спускается Большеротая Ян, приходившаяся женой Цао Шули. Цао-старший треснул себя по лбу, его вдруг осенило. Он направился вперед поприветствовать Большеротую Ян. Перекинувшись с ней дежурными фразами о делах житейских, он наклонился к ее уху и поведал о только что увиденном. Большеротая Ян остолбенела от удивления, что позабавило Цао Дашу. Когда же женщина заторопилась куда-то со своей ношей, тот намеренно попросил ее не распространять эту новость, объяснив, что чем меньше людей будет об этом знать, тем лучше. На самом деле Цао Дашу прекрасно знал характер Большеротой Ян, об этой сплетнице по всей деревне ходила дурная слава. Что бы ни происходило в их маленьком околотке, любую мелочь всегда разносила Большеротая Ян. Поэтому Цао рассчитывал на то, что уже совсем скоро эта женщина, точно почтовый голубь, донесет эту новость до ушей его младшего брата. Именно на это он и рассчитывал.
4
Услышав весть, принесенную Большеротой Ян с горного склона, Цао-младший подскочил как ужаленный, а приземлившись, нацелился было бежать, чтобы разобраться во всем самому. Но, пробежав несколько метров, он внезапно остановился и принялся колотить в грудь, точно виноват во всем был он, а не его жена. Все это время он приговаривал:
– Вот сучка, вот сучка!
Большеротая Ян, которой не терпелось поглазеть на дальнейшее развитие событий, подзуживала Цао-младшего:
– Неужели тебя не задевает, что твоя жена завела любовника?
Цао младший готов был разрыдаться:
– Да как же не задевает? Да я готов разорваться от злости. Сама подумай, как меня может это не задевать? Если бы меня это не заводило, то какой же я мужик после этого?
– Ну, раз тебе не все равно, то надо и выдать им по заслугам.
– А что я могу сделать? Сейчас уже поздно, дело сделано.
– Неужели даже посмотреть не пойдешь?
– На что смотреть-то? – горько ответил Цао Сяошу – Я опоздал, они, скорее всего, уже прикрыли лавочку, так что соваться к ним бесполезно. А раз так, зачем мне туда бежать, только напрягаться лишний раз.
– Неужели ты все так и оставишь? – не унималась Большеротая Ян.
Цао младший, сверкнув глазами, ответил:
– Разумеется, не оставлю. Вот дождусь Хуан Лянь и как следует вздрючу! Эта сучка так просто у меня не отвертится.
Когда Большеротая Ян удалилась, Цао Сяошу встал посреди двора и уставился вдаль. Он решил, что, как только Хуан Лянь вернется, он устроит ей разнос по полной программе. Он ей так врежет, что у нее все зубы повыскакивают. От этих мыслей ему сразу полегчало, словно он уже отделал Хуан Лянь. Все это время Цао младший, не опуская глаз, глядел по сторонам. Это напоминало сцену из фильма, где пастушок Ван Эрсяо стоит в дозоре, помогая бойцам Восьмой армии. Цао Сяошу пристально всматривался вдаль, пока от долгого напряжения у него не заболели глаза. Однако он не терял бдительности, вросши в землю как вкопанный, он желал во чтобы то ни стало дождаться и как следует проучить Хуан Лянь. Но сколько он ни старался, ничего разглядеть не мог, горный склон находился слишком далеко, так далеко, что расплывался вдали. Цао-младший думал, что ему достаточно просто смотреть туда, так он чувствовал, будто исполняет свой долг, и ему от этого становилось чуть легче.
Дело близилось к вечеру, и солнце, словно увядший, пожелтевший лист, повисло, колышась, на западной макушке горы. Тот факт, что Хуан Лянь до сих пор не возвратилась, выводил Цао-младшего из себя, он не находил места и метался из стороны в сторону, точно таракан на сковородке. Он подумал, что теперь оставить Хуан Лянь просто без зубов будет слишком гуманно, ее следует отделать так, чтобы она своих зубов и не нашла вовсе.
Когда солнце наконец скрылось за горным склоном, Цао Сяошу заметил, что в его сторону медленно движется сноп травы. Когда сноп поравнялся с ним, Цао увидел и несущего его человека, им оказался старший брат. Уложив несколько связок на спину, Цао-старший с трудом двигался к дому. Младший брат хотел было спросить у него, не видел ли он Хуан Лянь, но, открыв рот, он все-таки промолчал. Ему вдруг подумалось, что нельзя, чтобы Цао Дашу узнал о случившемся, иначе тот наверняка поднимет его на смех. Поэтому, поразмыслив, Цао-младший закрыл рот. Цао Дашу, похоже, раскусил младшего брата и хмыкнул себе под нос. Цао Сяошу вспыхнул:
– Чего смеешься?
Вытирая пот со лба, Цао-старший ответил:
– Я не смеюсь, я просто иду.
– Ты не увиливай, я видел твою ухмылку.
Но Цао Дашу с самым серьезным видом повторил:
– Да не смеялся я, с чего мне смеяться?
Младший брат рассердился пуще прежнего:
– Я же отчетливо все видел, а ты заявляешь, что не смеялся!
– Я тут еле тащусь со своей травой, устал до смерти, у меня и сил-то нет смеяться. А если даже и посмеялся, то не ты тому причина. Да и что тут вообще такого?
Цао-младшего такое объяснение явно не устроило, но никаких зацепок у него не имелось. Не мог же он зазря, без всякой причины избить человека.
Ноздри возмущенного Цао-младшего раздувались от злости, вытаращив глаза, он в сердцах выпалил:
– Твою мать!
– Я перед тобой ни в чем не виноват, чего ты на меня ругаешься? Да если бы даже и виноват был, все равно, это не повод для оскорблений. Моя мать – это и твоя мать, так что, оскорбляя меня, ты оскорбляешь себя.
– Я тебя матом не оскорблял! – гневно отозвался Цао-младший.
– Считай, это то же самое, что матом.
Сказав это, Цао Дашу занес траву под навес, после чего скрылся в доме.
Вечером до Цао-старшего уже второй раз за день донеслись стоны Хуан Лянь. Но только на этот раз то были не стоны сладкого вожделения, а стенания от боли. По части истязаний Цао-младший превзошел даже полицейских. Для начала он связал Хуан Лянь, словно сверток, после чего стал демонстрировать свое искусство. Он делал заходы то слева, то справа, нанося удар за ударом. Делал он все это методично – не спеша и не суетясь. Ударит разок, сделает передышку, отхлебнет холодного чая, а потом по новой, все сначала. Пока он избивал Хуан Лянь, та каталась по полу, неистово завывая и рыча.
Поскольку и у стен есть уши, Цао-старший всю ночь не мог уснуть. Едва ему удавалось закрыть глаза, как он снова просыпался от диких криков Хуан Лянь. Так как заснуть не удавалось, Цао Дашу он вынужден был лежать, вперившись в темноту, и ночь напролет слушать эти разборки. И все же, как бы там ни было, Цао-старший от души радовался. Ему казалось, что такую женщину, как Хуан Лянь, не мешало бы отделать как следует.
Рука у Цао-младшего оказалась тяжелой, он надолго уложил Хуан Лянь. Проведя после побоев несколько дней в постели, жена младшего брата еле-еле передвигалась. Синяки еще не зажили, но Хуан Лянь, встав на ноги, забыла о боли и поставила себе цель выяснить, кто же проболтался о ее похождениях. А поправившись, эта женщина уже из кожи вон лезла, желая во что бы то ни стало разведать, кто же ее застукал и заложил мужу. Образно говоря, она решила, двигаясь по плети, добраться до тыквы. Первой такой «тыквой» оказалась Большеротая Ян. Определившись с объектом, Хуан Лянь развернула свое наступление. В палящий полдень, взяв старую мотыгу, она направилась к Большеротой Ян. Кто-то из очевидцев утверждал, что мотыгу она подобрала у ворот Цао Шуюя, но мы не будем вдаваться в подробности о происхождении мотыги, отметим лишь неоспоримый факт: Хуан Лянь направилась к Большеротой Ян, вся кипя от злости.
Застав ту дома, Хуан Лянь потребовала, чтобы та выложила все начистоту. Сперва Большеротая Ян ни в какую не соглашалась. Крепко сжимая серп в целях самообороны, она сопротивлялась:
– Ты зачем попусту на хороших людей клевещешь?
Подняв над головой мотыгу, Хуан Лянь возразила:
– Я ничего не придумала. Я спрашивала у мужа, и он сказал, что это ты. Так что не увиливай, если сейчас же не расколешься, то даю слово, что вырежу твой свинячий язык.
Большеротая Ян никак не рассчитывала на столь скорое примирение супругов. Она уступала своему противнику не только по вооружению, но и по смелости. И поскольку ее загнали в угол, она просто вынуждена была честно и в деталях рассказать обо всем, что произошло в тот день. Хуан Лянь не собиралась так просто уходить от противника. Проучив Большеротую Ян, словно девчонку, она отправилась на огород к сплетинце и, размахивая мотыгой, разнесла несколько кочанов капусты.
Выяснив, что с Ли Баотянем ее обнаружил Цао Дашу, который и растрепал эту новость, рассерженная Хуан Лянь решила нанести тому ответные удары. Теперь каждый раз, когда Цао-старший возвращался домой, он обнаруживал какую-нибудь пропажу: то деньги по мелочи исчезали, то кусок нового мыла, а иногда даже ношеные носки… Пропавших вещей становилось все больше, так что Цао Дашу старался без особой нужды из дома не выходить, чтобы следить за своим добром. Он прекрасно понимал, что, отлучись он, и у него обязательно что-то да украдут. Но что поделать, в их комнате даже ширмы не стояло, никакой преграды, кроме проведенной по полу известковой черты. Так что своровать в таких условиях было проще простого.
Сложившаяся ситуация не на шутку перепугала Цао-старшего. Он даже не мог спокойно выйти в туалет: справит кое-как свою нужду и бегом назад. Понимая, что далее так продолжаться не может, Цао решил изменить положение дел. Иначе, пусти он все на самотек, в следующем году ему придется положить зубы на полку. В расстроенных чувствах Цао Дашу направился к Бай Лин, умоляя ее найти жену, которая присматривала бы за домом. Выслушав жалобы Цао, Бай Лин тяжело вздохнула:
– Если так будет продолжаться, ты, того и глядишь, совсем разоришься.
Цао-старший тоже вздохнул:
– Поэтому тебе следует поторопиться с поиском невесты, а то я вот-вот без штанов останусь.
– Непростое это дело, – ответила Бай Лин, – тебя не устраивают те, кто уже побывал замужем, а ты не нужен тем, у кого еще не было семьи.
– Да мне особо не важно, были женщины замужем или нет, основная претензия, что все они уже с детьми.
Бай Лин усмехнулась:
– Ну и что с того, без всяких усилий с твоей стороны ты задаром получаешь детишек.
– Да я не то чтобы не любил детей, – со вздохом сказал Цао Дашу, – просто у меня нет средств, мне их не вырастить. Тут бы двоим прокормиться, а если нас будет больше, то и с голоду помереть недолго.
Бай Лин снова хихикнула:
– Похоже, для тебя только я сгожусь.
Раньше у Бай Лин был ребенок, но потом он где-то подхватил простуду. Мать помчалась за единственным в Емачуне врачом Ма Бухуанем. Тот, преисполненный энтузиазма, захватил чемоданчик с лекарствами и явился на вызов. Не разобравшись в сути дела, он поставил ребенку укол, а малыш той ночью взял и умер.
Увидев, что Цао остолбенел от ее неожиданного заявления, Бай Лин повторила:
– Как ни крути, а я тебе больше всех подхожу, а то, что ты бедный, меня не смущает.
Услышав это, Цао Дашу вдруг просиял.
5
В тот вечер Цао старший оказался в постели Бай Лин.
Он решил провести исследование. Ему захотелось выяснить, насколько отличаются между собой побывавшие замужем женщины от молодых девушек. Цао Дашу никак не ожидал, что, несмотря на замужество и рождение ребенка, обнаженное тело Бай Лин окажется похожим на нетронутый конверт. У нее не обнаружилось практически никаких изъянов, что стало для Цао в высшей степени приятным сюрпризом.
Глядя на взбудораженного Цао, Бай Лин спросила:
– А у тебя в жизни были другие женщины?
Как-то раз Цао-старший переспал с Хуан Лянь, теперешней женой его младшего брата, именно она была мерилом для только что проведенного им сравнения. Но не мог же он сказать об этом Бай Лин, она непременно подняла бы его на смех. Поэтому Цао замялся и ответил, что никого у него не было.
– Это правда? – удивилась Бай Лин.
– Конечно правда, говорю все как есть, с чего мне тебя обманывать?
Тогда Бай Лин крепко обхватила голову Цао Дашу и запричитала:
– Ах ты бедняжка, ах ты мой бедняжечка.
В последующие дни Бай Лин только и успевала мотаться туда-сюда: на день она прибегала домой ухаживать за свекровью, а вечером мчалась к Цао-старшему, с которым проводила ночь. Цао настаивал на ее переезде, но Бай Лин отказывалась, объясняя это невозможностью оставить свекровь одну.
Старушка была уже совсем немощной, от нее остались кожа да кости, между тем она оказалась очень живучей. Уже несколько лет будучи прикованной к постели, она не подавала никаких признаков ухода в мир иной. Она и сама мучилась из-за этого, понимая, что сильно обременяет Бай Лин, и уже не один раз уговаривала женщину снова выйти замуж. Но каждый раз Бай Лин заливалась слезами:
– Мама, ну что вы такое говорите? Неужели я могу вас бросить?
– Бай Лин, я уже старая. Будь что будет. Мне кажется, что Цао Дашу человек неплохой. Никого лучше ты в нашей деревне не найдешь. Так что давай-ка ты уже оставайся с ним, не хочу я тебя больше мучить.
– Нет, мама, я не уйду. Ведь я вам как дочь родная, я останусь с вами.
Свекровь тоже расплакалась.
– Ну что за непослушное дитя! – говорила она, утирая слезы.
– Вы, мама, больше ничего мне не говорите, я все равно вас не брошу и никуда не уйду.
– Вот грех-то какой! – причитала матушка. – Не ведаешь ты, Всевышний, что творишь!
После таких душещипательных разговоров намерение Бай Лин остаться со свекровью только укрепилось. И, чтобы уделять ей побольше внимания, по вечерам она перестала навещать Цао Дашу. Тот приставал к ней с постоянными уговорами, но она ответила решительным отказом, взамен предложив приходить к ним самому.
– Да как я посмею? Ведь у тебя дома свекровь. Пусть она и не встает, но слышать-то все слышит.
– Матушка моя – это не тигр какой-нибудь, не съест она тебя, чего ты боишься?
– Пусть и не съест, – засмущался Цао, – но как-то нехорошо получается, что я прибегаю в ее дом и краду у нее дочь.
Бай Лин зарделась и, опустив голову сказала:
– Да свекровь сама просит, чтобы ты к нам ходил.
Цао-старший удивился:
– Не может быть! Как она может звать того, кто крадет у нее дочь?
– Что ты заладил про какую-то кражу, прямо слушать страшно.
– Что тут страшного, я просто называю все своими именами.
Бай Лин опечалилась:
– Я же не вещь какая-то, чтобы меня красть.
– Ну раз ты сама не соглашаешься на переезд, значит, можно сказать, что я тебя краду. – Тут же, словно опомнившись, Цао спохватился: – А твоя свекровь точно не заругается, если я приду к тебе?
– Верить или нет – это твое право, – пробурчала Бай Лин.
Выдержав паузу, Цао Дашу ответил, что он ей верит.
Тогда Бай Лин чуть слышно спросила:
– Ну, так ты придешь сегодня вечером?
– Нет, не приду, я лучше дома спать буду, – покачал головой-Цао.
Бай Лин вдруг опечалилась:
– Ну почему? Что тебя опять не устраивает?
– Да все в порядке, просто я как представлю, что кто-то будет лежать в комнате и следить за мной, так сразу не по себе становится.
Сказав это, Цао поспешил удалиться. Словно боясь, что Бай Лин его не отпустит, уходил он почти бегом: какой-то миг – и он превратился в маленькую черную точку.
Цао-старшему показалось, что эта ночь тянется бесконечно долго. Сон его умчался неизвестно куда, и сколько он не силился, уснуть никак не получалось. Он лежал в кровати, уставившись в потолок, и пытался хоть что-то разглядеть. Но, как ни старался, ничего, кроме кромешной тьмы, увидеть не мог. «Так вот она какая, оказывается, слепота! – вздохнул про себя Цао Дашу и тут же порадовался: – Хорошо, что я не слепой, тяжко бы мне пришлось».
И тут он вдруг услышал как, словно мышь, пискнула дверь, после чего раздались осторожные шаги.
Теперь, когда братья жили раздельно, каждому из них принадлежала лишь одна створка двери. Поэтому створки теперь тоже не соприкасались и жили каждая своей жизнью, как давно разъехавшиеся родственники. А поскольку дверь перестала выполнять свою основную функцию, в комнату теперь мог войти, кто ни попадя.
Тут Цао Дашу понял, что к ним в дом кто-то зашел. Прислушавшись к разговору, он различил голоса Рябого Вана, Чэнь Чаншэна и Ли Собачьи Яйца. Цао знал, что эти трое были деревенскими бездельниками, они ничем не занимались и промышляли воровством. В Емачуне никто не решался им перечить, и, сколько бы проблем они ни доставляли, с ними предпочитали не связываться. Цао-старший тоже обходил этих хулиганов стороной, но сейчас эти люди пришли воровать его добро, и он просто должен был остановить их.
Цао сполз с кровати и стал шарить в поисках светильника. Едва он сделал несколько шагов, как налетел на скамейку, ощущения были, будто он ударился о камень. Боль показалась ему нестерпимой, словно при переломе. От этого он перегнулся пополам и со всего маху ударился головой об угол стола. Цао Дашу так сильно долбанулся об острый край, что на глазах выступили слезы. Он ощупал голову, крови не было, но, словно вылезший из-под земли гриб, на месте удара выскочила огромная шишка. Наконец Цао нащупал подоконник и зажег светильник. Тусклый свет развеял темноту, и теперь Цао Дашу мог беспрепятственно пройти в комнату. Но только он, держа перед собой лампу, вошел, как кто-то из-за двери ударил его прямо по руке. Он услышал глухой стук, после чего лампа упала на пол и потухла. И снова наступила кромешная тьма. В комнате распространился запах керосина, Цао-старшего просто выворачивало от этой вони. Он сделал было попытку нагнуться и подобрать лампу, но на него обрушился новый удар, на этот раз кто-то врезал ему палкой по спине. От дикой боли он, словно раненый зверь, развернулся и ринулся в сторону противника. Ему показалось, что он ткнулся кому-то в живот, поскольку, кроме живота, вряд ли на теле человека нашлось бы более мягкое и подходящее для ударов место. Послышался чей-то стон, Цао Дашу замахнулся и со всей силы выбросил кулак в том же направлении. Снова послышался стон; но едва Цао удалось меткими ударами атаковать противника, как чьи-то сильные руки, точно клещи, впились ему в шею сзади. Его свалили на пол, и на него посыпался град ударов. Несколько раз он порывался подняться, но все напрасно: его обрабатывали долго и методично, словно боксерскую грушу, пока он не растянулся на полу, как дохлая собака, не в силах шевельнуться. После этого воры стали хозяйничать, словно у себя дома. Они прихватили два куска вяленого мяса, принадлежавшего Цао-старшему, несколько бутылок вина из запасов Цао-младшего и как ни в чем не бывало ушли.
Цао Дашу лежал на ледяном полу, ему казалось, что у него переломаны все кости. Он с горечью подумал, как было бы хорошо, если бы вечером дома остался Цао-младший: смелый и сильный, он наверняка помог бы ему справиться. Ведь эти хулиганы ограбили не только его самого, но прихватили и вещи брата. Если бы они с братом объединили усилия, то уж точно одолели бы воров. Если бы Цао-младший пришел на помощь, эти трое на коленях бы перед ними ползали, моля о пощаде. Однако он знал, что Цао Сяошу дома не было. Брат любил играть в мацзян и часто проводил время в медпункте Ма Бухуаня в компании с деревенским секретарем Цао Шулинем, бухгалтером Ли Баотянем да с лысым Чэнь Чанпином. И нередко случалось, что просиживали они там до самого утра.
6
На следующий день, едва рассвело, Цао-старший уже был на ногах. Он хотел дождаться возвращения брата, а потом вместе с ним отправиться к хулиганам, за своим добром. Поднявшись с постели, Цао Дашу вышел на порог, оглядывая окрестности. Он простоял довольно-таки долго, но Цао-младшего так и не увидел, лишь солнце, зардевшись, словно стыдливая девица, выползло из-за восточного склона горы. Стоя в лучах яркого солнца, Цао-старший прикинул: «Уже и рассвело совсем, почему это Цао Сяошу до сих пор не возвращается, неужто он и себя проиграл!» И тут Цао Дашу наконец заметил брата. Цао-младший едва передвигал ноги, он тащился даже медленнее, чем солнце. Цао-старший подумал: «Солнцу простительно, оно на склон взбирается, а ты по ровной дороге идешь, и так медленно?» Цао Сяошу полз, словно улитка, и прошло полдня, прежде чем он добрался до дома. Только тогда Цао-старший заметил, как он жутко выглядит: волосы торчат в разные стороны, точно пучки соломы, вокруг глаз, словно у панды, залегли черные круги, а сами глазные яблоки все красные от кровоподтеков. Особенно впечатляло его лицо – мертвенно-бледное, оно напоминало лист бумаги. Никогда раньше Цао не видел брата в таком состоянии, но внешний вид мало его волновал, ведь не женой же он ему приходился, так что синяки Цао Сяошу его не тревожили. Цао Дашу рассказал, что ночью их ограбили. Позевывая, Цао-младший спросил, кого именно из них обокрали.
– Обоих, – ответил брат, – я лишился двух кусков вяленого мяса, а ты – нескольких бутылок вина.
Цао Сяошу сразу вскинулся:
– Если бы я знал, кто эти ублюдки, я бы с них тут же шкуру спустил!
– Мне известно, кто они, – откликнулся Цао Дашу.
– Так скажи мне, и я пойду разберусь, – ответил младший, сжимая кулаки.
– Это были Рябой Ван, Чэнь Чаншэн и Ли Собачьи Яйца.
Цао-младший раскрыл рот и выдержал долгую паузу.
– Так это они, – только и сказал он.
– Так идем же, ты ведь собирался, я тоже пойду, – поторопил Цао Дашу.
– Нет уж, баста, – замотал головой младший брат, – идти к ним пустое дело, нам их все равно не одолеть.
– Я не собираюсь с ними драться, – ответил Цао-старший, – я просто хочу вернуть свое мясо.
– Они выродки те еще, их лучше не задевать. И если ты пойдешь к ним, то уж точно нарвешься на неприятности.
– Раз ты боишься, я пойду один, – хладнокровно сказал Цао Дашу, – ну не съедят же они меня!
Все это время младший брат продолжал зевать, будто не спал несколько лет.
– Ну раз собрался, то иди сам, а я еще пожить хочу.
Цао-старший рассердился и пошел один. Он знал, что эти негодяи если не сидят за картами в харчевне Ма Гуйхуа, то уж точно собрались дома у Чэнь Чаншэна. Не найдя их у Ма Гуйхуа, Цао Дашу направился к Чэнь Чаншэну. По дороге он чувствовал, что сердце у него кототится так сильно, точно он сам шел на грабеж. Ему было страшновато и хотелось вернуться, но в то же время он боялся, что над ним посмеется младший брат. Поэтому он стиснул зубы и, собравшись с духом, направился вперед. Это преисполнило его скорбным упорством, словно он и впрямь шел на верную смерть.
Когда Цао-старший мужественно подошел к воротам, где жил Чэнь Чаншэн, на него вдруг накинулся черный дворовый пес. Цао Дашу так напугался, что дал деру. Отдышавшись, он подобрал с земли камень и снова пошел к дому. Заметив это, собака струсила и отбежала в сторону. Но через какой-то миг пес снова бросился на Цао Дашу, словно узрел в нем лютого врага. Цао Дашу замахнулся и как следует запульнул в собаку камнем. Та не ждала такого сопротивления и, громко завыв от боли, побежала вон, поджав хвост и раненую заднюю лапу. На шум из дома повылазили Чэнь Чаншэн, Рябой Ван и Ли Собачьи Яйца.
– А, это ты, – произнес Чэнь Чаншэн, обращаясь к Цао.
– Я, – ответил тот.
– Ты ко мне по делу?
– По делу. Я за своим вяленым мясом пришел.
Чэнь Чаншэн расхохотался:
– Не могло же мясо само убежать, как бы оно оказалось у меня?
– Вы вчера украли его у меня, я все видел, – ответил Цао-старший.
– Жрать можно что попало, а вот нести всякую чушь нельзя. Ты тут на порядочных людей зря не наговаривай. Каким это ты глазом увидел, что мы своровали у тебя мясо? – спросил Чэнь Чаншэн.
– Обоими глазами видел, это точно были вы, – ответил Цао Дашу.
Осклабив два ряда почерневших блестящих зубов, Чэнь Чаншэн засмеялся:
– Ну, допустим, что своровали мы, и что же ты собираешься с нами сделать?
– Мне до вас дела нет, да и не справиться мне с вами. Я просто хочу забрать свое мясо.
– Договорились, ты получишь свое вяленое мясо. Но вот скажи, что делать с собакой, которую ты только что ранил?
– Твоя собака первая бросилась на меня, я защищался.
– Меня это не колышет. Так или иначе, она от тебя пострадала, как ты собираешься это исправлять?
Цао Дашу почувствовал, как его лоб покрывается испариной.
– Я, конечно, ее ушиб, но ведь только слегка, с ней ничего не случилось.
– Это сейчас кажется, что ничего не случилось, но кто знает, может быть, у нее какие-то внутренние повреждения. Не исключено, что какие-то последствия еще обнаружатся, – заключил Чэнь Чан-шэн.
– Что предлагаешь? – промямлил Цао Дашу.
– Мы с тобой часто пересекаемся, так что специально озадачивать я тебя не стану. Сделаем так: ты съездишь в город за «неотложкой» и отвезешь мою собаку в больницу на обследование. Если ничего серьезного не обнаружится, то, считай, дело закрыто.
Цао опешил и осипшим голосом переспросил:
– Отвезти в больницу?
– Отвезти в больницу, – на полном серьезе повторил Чэнь Чан-шэн, – если ее не обследуют, то как же мы узнаем о тяжести повреждений.
Цао Дашу вытер лоб и засомневался:
– Ты, верно, шутишь, какая «неотложка», какая больница?
– Шутить с тобой в аду будут, – ответил Чэнь Чаншэн, – живее давай. Если из-за твоей нерасторопности моя собака сдохнет, тогда у тебя появятся по-настоящему большие проблемы.
Ноги у Цао Дашу задрожали, он взмолился:
– Чаншэн, хватит уже шутить, да и мяса мне уже никакого не нужно, будем считать, что я вам его подарил.
– Я в мясе не нуждаюсь. Что я, не ел его никогда? Моя семья не бедствует, так что отдам я тебе твое мясо, ты только сперва собаку мою вылечи.
Цао от этого заявления весь как-то сник, казалось, что он вот-вот упадет.
– Чаншэн, мы же свои люди, соседи, можно сказать. Ну, прости меня на этот раз.
Чэнь Чаншэн окинул его хмурым взглядом.
– Ну, так крали мы твое вяленое мясо? – спросил он.
– Нет-нет-нет, – поспешил ответить Цао Дашу, быстро кивая, словно подбиравший зерна петух, – это у меня что-то с головой. Простите меня, пожалуйста.
Чэнь Чаншэн, не обращая внимания на его мольбы, заявил:
– Тебе так просто не отделаться, кто тебя просил хороших людей чернить?
В этот момент к ним, хихикая, подошли Рябой Ван и Ли Собачьи Яйца.
– Готовы? – обратился к ним Чэнь Чаншэн.
– Готовы, – кивнул Рябой Ван.
Не понимая смысла их слов, Цао Дашу тут же смекнул, что они касались его. Рябой Ван и Ли Собачьи Яйца, словно двое полицейских, взяли и с двух сторон заломили Цао руки за спину так, что его голова оказалась внизу, а зад, точно у страуса, подскочил кверху. Струхнув не на шутку, Цао Дашу запричитал:
– Что, что это вы задумали?
– Да ничего, я просто собираюсь отточить свою технику. – С этими словами Чэнь Чаншэн вытянул два пальца, похожие на заостренное копье, после чего по самое основание воткнул их прямо в задний проход Цао-старшего.
Пронзительно вскрикнув, Цао Дашу вырвался из рук обидчиков и, прикрывая зад, ринулся вон, словно ополоумевшая дикая лошадь. Он бежал, захлебываясь слезами, внутри у него все горело, казалось, что в него вставили огромный жгучий перец. Всю дорогу, пока он спасался бегством, позади слышался заливистый смех Чэнь Чаншэна, Рябого Вана и Ли Собачьи Яйца.
7
Цао-старший бежал так, что ветер свистел у него в ушах. Полы его расстегнутой одежды развевались, словно крылья у птицы. Молниеносно преодолев большое расстояние, Цао прибежал в полицейский участок Емачуна. Вихрем влетев в участок, он увидел всего лишь тощего, словно хворостина, полицейского. Цао узнал в нем Хуна Большую Пушку. Хун широко раскрыл рот, удивленно взирая на неожиданно появившегося в комнате посетителя.
– Полицейский Хун, – начал Цао-старший, – я пришел с жалобой. Меня обокрали, избили, и я хочу возбудить дело. Вы меня слышите, полицейский Хун? Я пришел с жалобой.
Хун Большая Пушка пришел в себя и спросил:
– Говори, что случилось. Рассказывай все обстоятельно, не спеша, а то выходит сплошной сумбур и ничего не понятно. Переведи дух и выкладывай по порядку.
Цао Дашу, словно лягушка, раскрыл рот и пару раз жадно глотнул воздух, после чего подробно изложил суть дела. Хун Большая Пушка проявил живой интерес к случившемуся. Особенно его поразил способ расправы с Цао Дашу, который применил Чэнь Чаншэн и его шайка. После детального допроса он хлопнул себя по ляжкам, удивляясь их изощренности:
– Кто же это такое выдумал? Ну, мать его, они дают!
– Полицейский Хун, схвати этих воров. Это же выродки, задержи их всех, помоги мне как следует воздать им по заслугам. А я тебя потом в харчевню свожу – и напою и деликатесами угощу. Я ведь знаю, что ты любитель выпить, а еще больший любитель поесть свиные уши…
Хун Большая Пушка нахмурился:
– «Революция – это не званый обед»[67]. Если они нарушили закон, то никуда меня зазывать не нужно, мы их и так задержим.
– Так давайте же поторопимся!
– Задержать мы их задержим, но только не сию минуту. Прямо сейчас мы этого сделать не сможем.
– Почему это не сможем? – заволновался Цао. – Эти трое такое натворили. Если их сейчас не изловить, то неизвестно, каких бед от них еще ждать.
– В эти дни в нашем уезде впервые проходит международная птичья ярмарка, поэтому всех полицейских направили туда, здесь на дежурстве оставили только меня. А я лишним временем не располагаю, поэтому вернемся к твоему делу через несколько дней.
– Да все будет нормально, – снова оживился Цао Дашу, – пока ловим этих ублюдков, никакой вор, даже белены объевшись, не придет грабить участок.
– Да я не боюсь, что они придут сюда грабить, – строго сказал Хун Большая Пушка. – Я опасаюсь другого: вот уйду я вместе с тобой на задержание, подумав, что ничего страшного не случится, и как раз в эту минуту произойдет что-нибудь судьбоносное. Как тогда быть? Неужели из-за двух кусков твоего вяленого мяса мы будем рисковать безопасностью всех наших жителей?
– Полицейский Хун, – взмолился Цао, – ну задержите их все-таки сейчас, ведь полицейский участок совсем рядом, доставить их сюда – дело недолгое. За это время никто в нашей деревне не помрет, а вот мясо может и пропасть. Если мы промедлим, то эти сукины дети его сожрут.
Хун Большая Пушка привел в порядок свою шевелюру и ответил:
– Если съедят, то за это с них потом взыщется. Возвращайся уже домой, я тебе так быстрее помогу.
– И когда именно мне ждать помощи?
– А я откуда знаю?
– Тогда я никуда не сойду с этого места. Буду ждать здесь до тех пор, пока не решите мое дело. – С этими словами Цао Дашу развалился в мягком кресле.
Хун Большая Пушка изменился в лице и закричал:
– А ну проваливай отсюда! Да поживее! Это полицейский участок, ты тут не хулигань!
Этот резкий крик напугал Цао Дашу, он поднялся с места и злобно сказал:
– Тогда я буду ждать у порога. Там ведь я закон не нарушу?
На следующий день Цао-старший не пошел работать в поле, а спозаранку направился к полицейскому участку, чтобы ждать там Хуна Большую Пушку. Время ожидания тянулось томительно долго, Цао уже устал от безделья. Он нашел метлу и стал приводить в порядок территорию у входа в участок, заодно натаскал воды и полил вокруг все цветы и кустарники. Все это он проделал отнюдь не для того, чтобы порадовать Хуна Большую Пушку.
– У меня на самом деле нет времени, – сказал подошедший Хун. – То, что ты решил здесь обосноваться и ждать до победного, – это не вариант. Так что лучше уходи, давай.
– Нет уж, никуда я не уйду. Не уйду, пока не получу своего мяса.
– Так два дня прошло, мясо, наверное, давно уже съели. А раз так, то толку в твоем ожидании – ноль.
– Ты же говорил, что в таком случае они должны возместить мои убытки. Пусть сначала заплатят, а потом я уйду.
Хун Большая Пушка рассердился, смачно сплюнул и пошел к себе внутрь.
– Хочешь ждать – жди, посмотрим, насколько тебя хватит, – проговорил он.
– Время у меня как раз имеется, – бросил Цао вдогонку, – подождать я смогу, буду ждать, пока ты не приведешь этих подлецов.
На третий день Цао-старший снова пришел к порогу участка наводить чистоту. Уже заканчивая подметать, он вдруг почувствовал, что его клонит в сон, поэтому уселся во дворе и как-то незаметно для себя задремал.
Когда Цао проснулся, кругом была кромешная тьма. Кроме бродячей собаки, на улице не было ни души. Цао Дашу постучался в ледяную железную дверь, надеясь застать там Хуна Большую Пушку. Однако вопреки ожиданиям внутри стояла мертвая тишина. Было совершенно непонятно, куда девался Хун. Цао разок пнул железную дверь, эхо гулко отозвалось в ночи. Дверь осталась цела-целешенька, а вот Цао, обхватив руками пострадавшую ногу, запрыгал от боли. Выругавшись, он поплелся домой по дороге, освещенной бледной луной. Проходя мимо харчевни Ма Гуйхуа, Цао вдруг заметил Хуна Большую Пушку. Кроме него за столиком сидели Рябой Ван, Чэнь Чаншэн и Ли Собачьи Яйца. Как закадычные друзья они выпивали и закусывали свиными ушами. Цао Дашу даже услышал, как собутыльники смачно пережевывают свиные хрящики. У Цао-старшего по спине пробежал холодок, он понял, что на Хуна Большую Пушку ему больше рассчитывать не стоит.
8
Наступила осень, все вокруг пожелтело. Листья, словно множество золотых бабочек, слетали с веток. В эту самую пору умерла свекровь Бай Лин. Под вечер, когда в воздухе кружился листопад, ее жизнь, словно такой же листок, была незаметно оборвана холодным осенним ветром и унесена прочь.
И именно в эту золотую пору Бай Лин с выцветшим добела узлом на спине направилась в дом к Цао-старшему. Подойдя к воротам, она увидела возившегося с курами Цао и спросила:
– Цао Дашу, я тебе нужна?
Тот опешил, и она повторила:
– Ну, говори же, чего ты молчишь? Скорее отвечай, нужна я тебе или нет. Если нужна, то я останусь и буду жить с тобой, а если нет, просто уйду.
– И куда же ты пойдешь? – спросил Цао, очищая руки от земли.
– Сама не знаю, куда глаза глядят. Где понадоблюсь, там и останусь.
Цао Дашу взял с ее плеч узел и сказал:
– Ну тогда и не уходи никуда, оставайся со мной.
– Правда?
– Правда!
– Да только я ведь вдова, тебе и вправду нужна вдова?
– Ну, раз ты выйдешь за меня замуж, то у тебя появится мужчина, так что вдовой ты быть перестанешь.
Бай Лин улыбнулась, и по лицу ее маленькими змейками расползлись морщинки.
– Цао Дашу, ты такой хороший, – сказала она.
Цао тоже улыбнулся, обнажив два ряда совершенно желтых зубов. Ничего не ответив, он повел Бай Лин в дом.
Войдя в совсем пустую комнату, женщина попросила:
– Цао Дашу, сделай для меня какой-нибудь шкаф.
– У тебя же свекровь умерла, давай просто перенесем сюда твою мебель.
– Ради ее лечения я по уши залезла в долги. А чтобы отдавать деньги – распродала всю мебель. Да что там мебель, я даже дом продала!
– Ну, продала, так продала, – ответил Цао-старший. – А шкаф – это не проблема, завтра же я срублю грецкий орех за нашим домом и сам сделаю тебе шкаф. Ты знаешь, что я в этих делах мастер на все руки? Кому только в нашей деревне я мебель не делал! Может, тебе еще что-то нужно? Только скажи, я все сделаю.
– Ты для начала смастери мне шкаф, а то, гляди, даже вещи положить некуда.
– Ну хорошо. Завтра срублю дерево и сделаю.
– А почему не сейчас? – спросила Бай Лин.
– Сейчас не выйдет, топор у меня заржавел от долгого лежания. Для начала нужно топор наточить. Не будешь же ржавым орудием работать! Не волнуйся, завтра же приступлю к делу.
На следующий день Цао-старший чуть свет был на ногах. Проснувшись, он тут же взял топор и отправился во двор.
– Топор ведь еще поточить нужно? – окликнула его Бай Лин.
– Да я его еще вчера наточил, а сегодня займусь деревом.
Очень скоро за домом раздались удары топора, которым работал Цао-старший. Это встревожило Цао-младшего, и он выбежал на улицу:
– Ты чего это делаешь?
– Дерево рублю. Сделаю из него шкаф для Бай Лин.
Глядя на изуродованный ствол грецкого ореха, младший брат вдруг подскочил на месте:
– Так не пойдет. Это дерево наполовину мое, ты не можешь его рубить.
– Какая чушь, с какой стати это дерево должно быть наполовину твоим?
– Мы все домашнее имущество делили поровну. Поэтому и с деревом нужно поступить так же.
– Вот скандалист. Пока я к дереву не притрагивался, так ты молчал, а тут оно тебе вдруг понадобилось.
– Так или иначе, а рубить прекращай, дерево не только твое, бросай это дело.
– Да я буду его рубить, где я иначе древесину возьму, чтобы шкаф для Бай Лин смастерить?
– Если ты не прекратишь, я с тобой буду драться, – произнес Цао Сяошу, сжимая кулаки.
Старший брат вышел из себя. Потрясая топором, он выкрикнул:
– Драться так драться, не думай, что я боюсь тебя!
Глянув на сверкающее лезвие топора, Цао младший злобно огрызнулся:
– Ну хорошо, погоди же у меня, погоди! Думаешь, что на тебя управы не найдется?
Сказав это, младший брат, слившись с осенним ветром, унесся в неизвестном направлении. Бежал он что было сил, так, что одежда за спиной надулась парусом, ни дать ни взять – мастер ушу из какого-нибудь фильма.
Посмотрев вслед брату, Цао-старший снова принялся рубить дерево, гулкие звуки эхом разносились вокруг. Кора на дереве оказалась толстой, и через какое-то время руки у Цао Дашу уже не поднимались от усталости. Он отложил топор, чтобы перевести дух, вытащил сигарету и закурил. Очень скоро его голову окутал сизый туман. Когда же дым рассеялся, он увидел Цао-младшего, за которым следовали Рябой Ван, Чэнь Чаншэн и Ли Собачьи Яйца. Словно небольшой отряд, они направлялись к нему и очень скоро оказались рядом.
Осклабившись, Рябой Ван захохотал и осведомился:
– Ну что, Цао Дашу, твоя задница выздоровела?
Цао, залившись краской, злобно спросил:
– Зачем пожаловали?
– Да так, специально пришли посмотреть на твой зад.
Старший брат покраснел еще больше. Он раскрыл было рот, но так ничего и не произнес.
Тут слово взял Цао-младший:
– Цао Дашу, ты ведь собирался рубить дерево, чего вдруг остановился?
Старший поднял свой топор и сказал:
– С чего бы мне останавливаться, это ведь ничье дерево, почему бы мне его не рубить?
Но только он замахнулся топором, как сзади его неожиданно схватил Ли Собачьи Яйца.
– Ты не можешь рубить это дерево, потому что теперь оно принадлежит нам, – сказал он.
– С какой это стати оно вдруг стало вашим? – удивленно спросил Цао-старший.
Тут к нему подошел Чэнь Чаншэн и, похлопав по плечу, заявил:
– А нам это дерево подарил Цао Сяошу. Вот и думай сам, можешь ли ты рубить наше дерево?
Цао-младший подтвердил слова Чэня:
– Верно. Я подарил дерево им, так оно ни мне, ни тебе не достанется.
Старший брат собрался ему возразить, но Рябой Ван его опередил:
– Если вы двое хотите выяснять отношения, то катитесь отсюда подальше, в любом случае никто из вас теперь не претендент на это дерево. А кто посмеет к нему притронуться, то мы тому тоже топором врежем.
С ненавистью глянув на них, Цао-старший взял топор, развернулся и пошел в дом. Бай Лин, увидев его, спросила:
– Почему ты не рубишь дерево, уже срубил?
Словно немой, Цао Дашу молча забрался на кровать и провалился в сон. Он не знал, сколько проспал, но очнулся он от оклика Бай Лин, которая приглашала его за стол. Повернувшись, словно бревно, Цао старший процедил сквозь зубы, что есть не будет.
– Почему не будешь? Ты что, заболел? С чего бы здоровому отказываться от еды?
– Не буду я есть, отстань от меня!
– Я ведь добра тебе желаю, – надув губки, пролепетала Бай Лин.
Вдруг Цао Дашу встал и выкрикнул:
– А я не прошу тебя об этом, и вообще катись отсюда, да подальше!
Глаза женщины налились слезами.
– Куда же ты меня гонишь?
– Туда, где о тебе будут заботиться, а мне ты не нужна.
Бай Лин расплакалась, ее тихие всхлипывания ранили сердце сильнее, чем нож. Цао Дашу не мог этого вынести, поэтому сказал:
– Ты тут в моей комнате не реви, а если хочешь выплакаться, так иди в другое место!
Утерев слезы, женщина взяла свой узел и вышла из дома. Дойдя до порога, она загадала, что если Цао ее сейчас окликнет, то она никуда не уйдет. Но она уже подошла к калитке, однако никто ее не остановил. Ничего не поделаешь. Бай Лин обернулась, желая посмотреть, чем занимается Цао-старший, но он так и не появился на пороге. Из глаз ее снова полились горючие слезы, тогда она вернулась в дом, подошла к кровати, на которой остался лежать Цао Дашу, и сказала:
– Завтрак я приготовила, стоит у печки, не забудь покушать. И вот еще что, всю твою одежду я постирала, она сохнет на улице, не забудь вечером снять.
– Мне ничего от тебя не нужно, иди уже! – проговорил Цао-старший с закрытыми глазами.
– Ну, тогда я пошла, – всхлипнула Бай Лин.
– Вон! – словно забил гвоздь, рявкнул Цао Дашу.
Слыша, как постепенно удаляется звук ее шагов, он закрылся с головой одеялом и разрыдался в голос.
9
Быстрым шагом Цао Дашу подошел к единственной в их деревне харчевне «Гуйхуа», хозяйкой которого была Ма Гуйхуа. С топором за спиной зашел внутрь. В зале не оказалось посетителей, только комары кружили в воздухе. Ветер со свистом залетал в окно, отчего Цао Дашу пробрала дрожь.
Он уселся за столик у двери и обратился к Ма Гуйхуа:
– Мне бы пообедать. Сготовь-ка мне поскорее чего-нибудь.
– Что именно? – спросила хозяйка.
– Неси все, что там есть у тебя вкусненького, только быстрее.
Цао Дашу не понравилось удивление на лице Ма Гуйхуа, которая не проявила любезности к клиенту, поэтому он с силой хватил по столу, так что тот задрожал.
– Ты что, боишься, что у меня денег не хватит? Есть у меня деньги, в долг просить не буду.
Ма Гуйхуа тут же отправилась на кухню и наготовила ему блюд на целый стол. Цао-старший потребовал принести ему пол-литра водки, после чего накинулся на еду. Он ел и заливал свое горе, а на душе у него скребли кошки. Эти два дня он провел в размышлениях и в результате решил убить младшего брата. Обидчиков у Цао-старшего накопилось много: и Рябой Ван, и Чэнь Чаншэн, и Ли Собачьи Яйца, да тот же Хун Большая Пушка… Но ко всем этим людям Цао Дашу не питал ненависти. Он рассуждал так: мол, все они чужие, и нечего удивляться, что они его обижали. Одного он не мог взять в толк – как мог его родной брат оказался на стороне врагов? Цао-старший думал над этим целых два дня, так что голова распухла, и в конце концов решил избавиться от младшего брата. На самом деле эта мысль пришла ему на ум еще с тех самых пор, как он прогнал из дома Бай Лин. А прогнал он ее именно для того, чтобы беспрепятственно устроить самосуд. Перед таким важным делом, естественно, не следовало ни в чем себе отказывать, помирать – так на сытый желудок. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что за убийство придется поплатиться жизнью. Так что если он убьет Цао-младшего, его самого будет ждать холодная, как лед пуля.
Сперва в его планы входило убить и эту сучку Хуан Лянь, но, глядя на ее растущий живот, он распрощался с этой мыслью. Как бы там ни было, а жена брата носила в своем чреве семя, которое, скорее всего, принадлежало семейству Цао. Поэтому, избавься он от Хуан Лянь, некому будет потом выполнять обряд возжигания свечей в честь предков.
Наевшись и напившись досыта, Цао Дашу попросил выставить счет. Ма Гуйхуа насчитала семьдесят восемь юаней. Цао вынул сотенную купюру и дерзко сказал, что сдачи давать не нужно. Потом он попросил Ма Гуйхуа заварить хорошего чая. Потягивая обжигающий напиток, он почувствовал полное блаженство и подумал, что, быть может, это последняя в его жизни чашка чая. Эти мысли его несколько напугали. В решающую минуту он чуть было не струсил, но, вспомнив о своих обидах, подумал: «Всю жизнь я провел никчемно, за что, собственно, и натерпелся. Мне, наконец, уже необходимо сделать что-то такое, что потрясет всех». Тут он резко отставил чай и широким шагом ринулся прочь из харчевни «Гуйхуа», направляясь в Хэйнивань. Цао-старший знал, что сегодня младший брат вскапывает там участок земли.
– Ты куда? – громко окликнула его Ма Гуйхуа.
– Убивать собаку! – не поворачивая головы, ответил Цао Дашу.
От харчевни до Хэйнивань было рукой подать, но Цао этот километр пути показался нескончаемо длинным, он словно выступил в «Великий поход длиной в двадцать пять тысяч ли». Преодолев это расстояние, он наконец добрался до указанного места. Там он увидел Цао Сяошу, который отдыхал, усевшись на меже. При виде младшего брата сердце Цао Дашу замерло, он почувствовал, что даже ладони у него стали скользкими. Однако он продолжил идти прямо к нему, никаких причин останавливаться не было.
– Цао-младший, а ты умеешь наносить обиды!
Брат оставил эти слова без ответа, на лице его играла насмешка. Если бы не это его выражение, то Цао-старший, возможно, и не вытащил бы свой топор. Но высокомерие младшего брата вызвало настоящую ярость. А он-то едва не оказался дезертиром, чуть было не пойдя на попятную в своих мыслях прикончить Цао Сяошу! Но поведение последнего превратило Цао Дашу в решительного храбреца.
– Ты умеешь наносить обиды, Цао-младший! – громко повторил он, неожиданно доставая из-за спины блестящий топор.
Цао Сяошу явно недооценивал противника. Вид топора его ничуть не насторожил, напротив, он продолжал нарываться:
– Что это ты собрался сделать, меня, что ли, зарубить?
– Именно так, – отозвался старший брат, занося топор.
Цао-младший явно не воспринимал эти слова всерьез и – кто бы мог подумать! – даже не двинулся с места.
– Да у тебя кишка тонка! Ты что, хочешь еще раз испытать на себе приемчики Ли Собачьи Яйца и его товарищей?
Цао-старшего такое поведение брата просто вывело из себя, и он злобно выкрикнул:
– Так у меня, говоришь, кишка тонка? Да я тебя сейчас на куски изрублю!
Младший брат, подставил ему шею и, хихикая, стал подначивать:
– А ну давай, меть сюда, скорее же! Чего медлишь?
Цао Дашу, чувствуя дрожь в руках, прикрикнул:
– Не вынуждай меня! Я могу это сделать.
Но младший брат продолжал в том же духе:
– Раз можешь, значит, делай!
Крепко сжимая топор в руках, Цао-старший еще раз предупредил:
– Ты пожалеешь об этом, точно пожалеешь!
Но Цао Сяошу, не меняя вызывающей позы, проявлял нетерпение:
– Ну давай уже, руби скорее.
Тут Цао Дашу почувствовал, как его буквально захлестнула злоба, он громко зарычал, занес топор над головой и ударил им наотмашь. Мощной струей брызнула кровь, и Цао-младший повалился в кровавую лужу. С его лица исчезли презрение и усмешка, остались лишь страх и страдание. Чуть слышно он залепетал:
– Брат… брат мой, как ты мог? Ведь я… родной тебе!
Эти слова вдруг, как гром среди ясного неба, возвратили Цао-старшего к реальности. Он упал на колени и, обнимая залитого кровью брата, зарыдал во весь голос…
Перевод О. П. Родионовой
На смертном одре
Цао Юн
1
Уже несколько дней я видел один и тот же сон. Мне снилась широкая степь. Сочно-зеленая, она напоминала бездонный изумрудный водоем. Ветер проходился по верхушкам густой травы, она вздымалась и опускалась, словно накатывающие волны. Я всегда стоял на краю степи и дышал полной грудью, а потом неторопливо начинал углубляться в степные просторы. И каждый раз, как только я доходил до середины, неизменно чувствовал, что земля теряет свою твердость, после чего медленно в ней увязал.
Снова и снова я начинал отчаянную борьбу за жизнь, безостановочно колошматя руками и ногами. Я взбивал размягченное месиво так, что на его поверхности появлялись пузыри. В мои ноздри ударял едкий запах гнили. Будучи уже на пределе, я громко кричал, взывая о помощи, но никого другого в этом сне не появлялось. Единственное, что мне оставалось, это продолжать борьбу, но ни разу мне не удалось выбраться. Словно провалившись в настоящее болото, чем ожесточеннее я пытался из него выкарабкаться, тем быстрее в нем утопал. Глиняная жижа постепенно проникала мне в рот, потом в нос, мне становилось трудно дышать… и, уже начиная задыхаться, я вдруг резко просыпался. В такие моменты я обнаруживал, что мой лоб покрыт испариной, совершенно мокрый, я ощущал себя точь-в-точь как в тот раз, когда много лет назад чуть не утонул.
Сначала я не придавал этим кошмарам особого значения, но они снились мне постоянно, напоминая друг друга, словно ксерокопии одного и того же документа. Меня охватила паника, и каждый вечер я про себя решал больше не ходить в ту коварную степь. Но из копированного текста строчки не выкинешь, и мне никак было не ускользнуть от судьбы. Я оказывался в путах этого заколдованного сновидения, вот уже в который раз повторяя пережитое.
В самих по себе кошмарах ничего удивительного нет, но их навязчивое повторение всегда вызывает страх. Мне было неясно, что именно мог означать такой сон, но я был уверен, что за ним что-то стояло. Жизнь подтвердила, что мой вывод не был ошибочным. Когда я увидел, что Баотянь вдруг повалился на землю, сразу понял, что знамения из моего сна наконец начали сбываться.
Баотянь приходился мне дядей, но мы с братом никогда так к нему не обращались, а называли просто по имени. Более того, мы не только не называли его дядюшкой, но в душе даже сторонились такого родственника. Помнится, в детстве я и мой старший брат частенько ссорились с другими ребятами. Однажды, когда во время перепалки один из наших соперников уже не находил, как огрызнуться в ответ, то, задумавшись, вдруг напомнил, что Баотянь приходится нам дядей. Это очень разозлило нас с братом, мы бросились на мальчишку и жестоко избили его.
Но хотя мы и не признавали его родственником, я не мог пройти мимо упавшего старика, иначе это стало бы мне укором на всю оставшуюся жизнь. Ведь в глазах окружающих я оказался бы непочтительным и меня вспоминали бы самыми последними словами. Поэтому, когда я увидел Баотяня на земле, то, несмотря на колебания, все-таки поспешил к нему.
Подойдя поближе, я заметил, что на лице упавшего Баотяня не было ни кровинки. Свои штаны он обмочил, и от него жутко воняло. Точно дохлую собаку, я перетащил его на кровать, налил стакан горячей воды и попытался напоить. Он открыл рот, однако ни капли проглотить не смог, вся вода стекла прямо ему на одежду.
Сначала я подумал, что ему просто нужно очухаться и он понемногу отойдет. Но, заглянув к нему чуть позже, я увидел, что он обделался под себя. Едва я зашел в комнату, в нос мне ударила жуткая вонь. Приподняв одеяло, я увидел желтую жижу. Я тотчас выбежал на улицу, где присел на корточки и стал блевать, меня вывернуло чуть ли не наизнанку, казалось, даже кишки вышли.
Больше всего на свете мне не хотелось снова заходить к нему в комнату, но Баотянь был не в силах встать с кровати, поэтому я не мог не убрать за ним. Меняя белье, я все время старался зажимать пальцами нос, в противном случае я бы просто помер. Мне было непонятно, как у такого старого человека могли быть настолько зловонные испражнения.
Когда рассвело, я пошел к врачу и попросил, чтобы тот поставил старику капельницу. Баотянь даже бровью не повел, когда ему в вену ввели иглу, словно протыкали вовсе не его кожу. Пока ему вливали лекарство, он вроде как несколько ожил, однако, когда капельница закончилась, Баотянь снова угас. В общем, никакого эффекта. Прошло несколько дней, и врач перестал ставить капельницы. Со скорбным лицом он потянул меня во двор. Я справился о состоянии Баотяня, и он, покачав головой, ответил, что старик совсем плох, плох настолько, что можно уже готовиться к похоронам.
Этот старый хрыч при жизни не завел ни жены, ни детей, и на старости лет мы остались единственными, кто должен был провожать его в последний путь. И как бы меня это ни возмущало, выбора у меня не было. Коль скоро других родственников он не имел, теперь я должен был оставаться у его постели. В противном случае я бы и глазом не моргнул, пусть бы даже его тело досталось на съедение бродячим псам.
С каждым днем Баотянь становился все слабее, словно кто-то вытягивал из него жизненные силы. Его кости обтягивала только посеревшая дряблая кожа. Я дежурил у постели, боясь отойти от старика хоть на шаг. Видя, как он тает прямо на глазах, я понимал, что ему остались считанные дни.
Вот уже несколько раз мне казалось, что он коченеет и дыхания его уже не слышно, имелись все признаки, что старик отходит. Однако только я собирался бежать и звать на помощь кого-нибудь из соседей, как глаза его медленно раскрывались, мне даже становилось не по себе. Проводя время рядом с ним, я не решался задремать. И спустя несколько дней меня от недосыпа уже пошатывало. Я не мог понять, каким образом такой ослабший человек так долго держался в этом мире. Я чувствовал, что вот-вот сойду с ума. Если Баотянь и дальше продолжит в том же духе, я определенно отдам концы раньше его.
В тот вечер, когда я дремал, сидя у постели Баотяня, он вдруг заговорил со мной и попросил позвонить старшему брату с просьбой поскорее приехать. На мой вопрос «зачем?» Баотянь только широко раскрыл рот и с трудом снова произнес ту же фразу:
– Позвони брату… пусть поскорее приедет!»
Видя, как ему тяжело, я попросил его не волноваться, заверяя, что завтра обязательно выполню эту просьбу. Я также сказал, что сегодня звонить брату уже поздно, да и телефон у него наверняка отключен.
Старший брат уехал в Гуйян заниматься литературным творчеством, и мне не хотелось, чтобы он срывался с места, я боялся отнимать у него время. Все в деревне говорили, что он занимается чем попало, только и знает, что книжки читает да ест задарма. Однако я считал иначе. Мне приходилось читать его рассказы, напечатанные в двух номерах журнала «Шаньхуа», которые я купил в газетном киоске, когда выбирался в город. Я слышал, что эти два рассказа потом перепечатали в журнале-дайджесте. Не понимая, что такое дайджест, я, тем не менее, был уверен, что это очень круто. Когда я еще учился в средней школе, у меня выходили хорошие сочинения, и я всегда мечтал стать писателем. Но я не выдержал экзамена в среднюю школу старшей ступени, и уж тем более не смог стать писателем. Брат тоже не сдал этот экзамен, но он умел писать по-настоящему хорошие вещи, так что, можно сказать, мою мечту осуществил он. Мне казалось, что иметь такого брата действительно здорово.
Итак, у меня не было ни малейшего желания вызывать брата в деревню, я боялся зазря отвлекать его, но поведение Баотяня говорило о том, что тот не сможет спокойно отойти в мир иной, не повидавшись с ним. Поразмыслив, я все-таки набрал номер брата и сообщил, что Баотянь уже совсем плох и просит, чтобы он приехал домой. Брат спросил, вызывал ли я врача. Я ответил, что врач приходил, два дня ставил Баотяню капельницу, но, так как улучшений не последовало, он велел готовиться к похоронам. На другом конце провода повисло молчание. Опасаясь, что брат посчитает, будто это моя собственная идея заставить его приехать и ухаживать за Баотянем, я поспешил добавить, что об этом меня попросил сам старик. Скорее всего, он хотел повидаться, чтобы сообщить нечто важное. На вопрос брата, что же такое важное собирался поведать ему Баотянь, я не смог ответить. Но я тут же добавил, что если он не хочет приезжать, то ничего страшного. Он выдержал паузу и сказал, что все-таки приедет, объясняя это тем, что у Баотяня, кроме нас, никого из родных не имелось. Я добавил, что старик давно не встает, я уже несколько раз считал, что тот помер, но тот все никак не умирал, а тут еще попросил позвонить брату и вызвать его к себе.
Брат приехал вечером. Я смотрел телевизор, когда скрипнула дверь и на пороге появился он. Я поднялся с места, мы поздоровались. Я предложил ему поесть, но он сказал, что перекусил в дороге, когда делал пересадку в Емачуне. На вопрос о самочувствии Баотяня я ответил, что все без изменений и что старик отказывается от еды.
Вместе с братом я отправился в комнату Баотяня. Но, дойдя до порога, решил дальше не проходить: уж слишком сильно воняло внутри, я уже не мог выносить этого запаха, а потому остался стоять в дверях, наблюдая за вошедшим к Баотяню братом. Они обменялись какими-то словами, после чего брат вышел ко мне и попросил сварить для Баотяня болтушку из двух яиц. Я объяснил было, что ему такого уже не съесть, но все-таки отправился на кухню выполнять распоряжение.
Приготовив горячую болтушку, я передал ее брату, потом выключил телевизор и пошел подбросить в печь уголь. Огонь, словно птаха, подпрыгивал внутри. Прошло не так уж много времени, как из комнаты Баотяня вышел брат. Тяжело вздохнув, он попросил у меня сигарету. Зная, что вообще-то он не курит, я удивленно взглянул на него, вытащил сигарету и бросил ему. Он сделал одну затяжку и тут же закашлялся. Он сказал:
– Похоже, Баотянь и вправду совсем плох.
Я ответил, что смерть в таком случае нужно считать за благо, ведь он еле-еле каждый день дотягивает. Брат со мной согласился:
– Баотянь считай что уже помер, а нам дальше жить нужно. Да к тому же, когда-то такой день все равно наступает, всем суждено уйти в мир иной. А жить так, как сейчас, ему тоже уже невыносимо. Так что его смерть всех только освободит.
На этом мы разговор и закончили. На улице поднялся ветер, из оконных проемов доносилось его завывание. Брат продолжал курить, и вскоре его окутало густое облако дыма, отчего в комнате стало трудно дышать.
Затушив сигарету, брат вдруг сказал:
– А ведь Баотянь на самом деле был неплохим человеком.
– Да знаю, – откликнулся я, – но полюбить его я не смог бы.
– Когда мы были детьми, Баотянь частенько покупал нам леденцы, – обмолвился брат.
– А еще, – добавил я, – давал нам иногда мелочь.
Неожиданно брат спросил, помню ли я, как однажды Баотянь спас меня. Знаковые события жизни лежат в кладовых нашей памяти и, словно псы, по первому зову бегут к нам, а потом возвращаются на место.
– Как не помнить! – ответил я. – В тот раз, если бы не Баотянь, я бы утонул.
Вопрос брата сработал как приманка для гончей собаки, напавшей на след зайца, и заставил меня вытащить наружу глубоко запрятанные события прошлого.
Много лет назад в одно знойное лето мы с братом отправились погулять на пруд рядом с нашей деревней. Сначала мы скинули одежду и устроили соревнование, кто из нас сможет дальше пописать. Наши струи, словно нитки жемчуга, дугой ниспадали в воду, мелкой рябью взбудораживая ее гладь.
У брата процесс шел с перерывами, его струя вышла неказистой, из-за чего он мне проиграл. А поскольку ему это показалось унизительным, он предложил мне еще одно состязание: устроить заплыв и посмотреть, кто быстрее доплывет до противоположного берега. Точно две лягушки, мы практически одновременно запрыгнули в воду и поплыли наперегонки. Когда я оказался примерно на середине, у меня вдруг свело судорогой ногу, и я начал тонуть. Я позвал на помощь. Брат же, наверное, подумал, что я просто хочу отвлечь его, и никак не отреагировал. Я почти потерял сознание, когда рядом показался Баотянь. Прямо как был, в одежде, он кинулся меня спасать. Послышался оглушительный всплеск, словно в воду упал тяжелый снаряд. Он молниеносно подплыл ко мне. Когда Баотянь уже поравнялся со мной, я мертвой хваткой уцепился за него руками и ногами. Он изо всех сил пытался добраться до берега. Быстро вытолкнув меня на берег, Баотянь едва выбрался сам.
Пока я предавался этим воспоминаниям, брат предложил мне идти спать, сказав, что сам посидит с Баотянем. Я решил заглянуть к старику, и вместе с братом мы вошли к нему в комнату. Внутри стояла такая тишина, что было слышно сиплое дыхание Баотяня. Словно полуторалетний малыш, он свернулся калачиком под одеялом. Глаза его оказались закрытыми, как у спящего. Брат отправил меня отдохнуть. Я поправил одеяло Баотяню и предупредил брата, чтобы он в случае чего тут же звал меня.
Словно подкошенный, я повалился на кровать. Хотя я очень утомился, уснуть мне никак не удавалось. Мой мозг, словно потерявший контроль механизм, продолжал непрерывное вращение шестеренок, между тем как тело лежало без всякого движения, больше напоминая старый мешок. Так я и мучился, пребывая в этом взбудоражено-коматозном состоянии. Чтобы заснуть, я уже и баранов пытался считать, но сон ускользал, как изворотливая лиса от расставленных капканов.
Я вертелся на кровати, словно какой-то червяк. Тараща глаза, я видел вокруг только полную темноту. Это состояние полузабытья было просто невыносимым, казалось, еще немного, и я сошел бы с ума.
У меня просто руки чесались взять кирпич и треснуть им себя по затылку, чтобы забыться и наконец передохнуть. Не знаю, сколько продлились мои мучения, но в тот самый момент, когда я оказался на пределе, послышались торопливые шаги, вслед за этим хлопнула дверь, и до меня донесся растерянный крик брата:
– Вставай скорее, брат скорее, вставай!
Голос брата подействовал на меня как колыбельная, вдруг стал наваливаться сон. Я даже почувствовал, как потяжелели мои веки. Вот он и пришел, долгожданный сон, мне по-настоящему захотелось спать. Однако снаружи не утихали громкие всхлипывания брата:
– Вставай же скорее, слышишь? Скорее, старик уже дух испускает…
2
Мне позвонил младший брат, сообщив, что Баотянь уже совсем плох, и попросил, чтобы я приехал домой. Я поинтересовался, осматривал ли его врач, на что брат ответил, что осматривал и даже два дня ставил ему капельницу. Однако, поскольку улучшений не появилось, врач посоветовал готовиться к похоронам. Я замолчал, обстоятельства представлялись несколько затруднительными, ведь, случись что с Баотянем, отправлять его в последний путь, разумеется, придется мне и младшему брату.
Заметив мое молчание, брат тут же пояснил, что идея с моим возвращением принадлежит не ему, а старику. Похоже, Баотянь хотел сообщить что-то важное. Это меня удивило, я спросил, что именно он хотел рассказать, но брат тоже оказался в неведении. Однако он обмолвился, что если я не приеду, то ничего страшного. Подумав, я все-таки сказал, что приеду, ведь, как ни крути, а кроме нас, у Бао-тяня на этом свете других родственников не было. Брат также добавил, что старик уже очень долго не поднимался. Несколько раз казалось, что он умирает, но этого все никак не случалось, а тут еще попросил позвонить и сказать, чтобы я приехал.
По интонации младшего брата я понял, что того тяготит сложившаяся ситуация с Баотянем, который все никак не мог умереть. Старик не оставил после себя никакого потомства, поэтому провожать его в последний путь предстояло нам. Чтобы заниматься писательским трудом, я подался в большой город, и все заботы о Баотяне, естественно, легли на плечи младшего брата. Затянувшийся уход за больным могут вынести только почтительные дети, и случись мне ежедневно ухаживать за таким человеком, как Баотянь, то и меня посещали бы всякие мысли.
Поговорив с братом, я тут же поспешил на автовокзал. На мое счастье, еще не ушел последний автобус до уездного центра. В дороге я все размышлял, зачем же Баотяню понадобилось увидеть меня. Хотя он и считался нашим кровным родственником, мы не жаловали его. О чем же в таком случае он мог мне поведать? Я долго думал об этом, но на ум ничего не приходило.
Личность Баотяня была окружена легендами. В детские годы мне частенько приходилось слышать от старших какие-то истории о нем. При этом каждый раз его поминали недобрым словом. Когда наш отец был еще жив, он наставлял меня на путь истинный и предостерегал от ошибок Баотяня, заставляя как следует учиться, не в пример дяде, который ни к чему не стремился и прожил никчемную жизнь. Я пытался выведать у отца, что именно натворил Баотянь, но он всегда отмалчивался, говоря, что иметь такого родственника стыдно. По настроению отца я догадался, что в молодые годы Баотянь совершил какой-то дурной поступок, навлекший на семью позор. И хотя отец не распространялся о Баотяне, из разрозненных рассказов других людей я худо-бедно осознал, какой именно постыдный поступок лежит на совести Баотяня.
В 1942 году, когда через нашу деревню проходил антияпонский отряд, руководимый компартией, Баотянь совершил славное дело, присоединившись к бойцам. Практически все тогда решили, что Баотянь и вправду стал солдатом, но спустя полгода он неожиданно вернулся в деревню. На вопросы окружающих он ничего не отвечал. И только через много лет в деревне узнали, что Баотянь дезертировал. В тот момент, когда люди говорили мне об этом, я замечал, что они как-то странно посматривают на меня, словно я тоже был дезертиром.
Когда я приехал в деревню, уже стемнело. Небесный владыка что рассердившийся малый – стоит ему нахмуриться, как сразу темнеет. Из окон домов, словно мерцание светлячков, сочился тусклый свет. Кто-то еще ходил по улицам, но силуэты расплывались во тьме. И хотя на плечах людей смутно угадывались круглые головы, черт лица было уже не разглядеть.
Я открыл дверь в дом, и наружу, осветив меня, тотчас вырвался прямоугольник света. Мой младший брат смотрел телевизор. Увидев меня, он встал, и мы поздоровались. Он предложил мне перекусить, но я отказался, сославшись, что поел в Емачуне, где делал пересадку. Когда я спросил о самочувствии Баотяня, брат нахмурил брови и ответил, что все без изменений и старик по-прежнему отказывается от еды.
Вместе с братом я направился в комнату Баотяня. Уже подойдя к двери, брат остановился у порога и, зажав нос, предпочел там и остаться. Я же вошел в комнату, там стояла кромешная тьма, в лицо мне тут же ударила такая вонь, что меня чуть не вывернуло.
Заслышав шаги, Баотянь, словно догадавшись, кто это был, окликнул меня. Подойдя к кровати, я увидел, что старик уже совсем превратился в скелет, его жизнь, казалось, висит на волоске. Я обратился к нему, Баотянь увидел меня, и его затуманенный взор неожиданно просветлел. Он ухватился за меня и заговорил:
– Ты приехал, ты все-таки приехал, я так боялся, что не дождусь тебя. – Его костлявая рука скорее напоминала хворостину.
Я стал подбадривать его:
– Все с тобой будет в порядке, ты обязательно выкарабкаешься.
– Я свой организм знаю, мое время уже на исходе, скорее всего мне осталось дня два.
Такой серьезный настрой Баотяня меня несколько удивил. Ведь он был простым смертным, а не просветленным монахом, чтобы точно судить, сколько ему осталось жить на белом свете. Похоже, смерть – действительно какое-то загадочное явление, которого нам не постичь.
– Не переживай, – продолжал я, – человек не волен сам управлять процессами жизни и смерти.
– Я знаю, о чем говорю, – уверенно проговорил Баотянь, – я себя знаю.
На все мои уговоры не думать о плохом старик только покачал головой и уныло произнес:
– Я уже должен был умереть, но вот задержался немного, хотел дождаться тебя. И ты все-таки приехал.
Раньше я не горел желанием идти на сближение с Баотянем, однако сейчас, глядя на него, такого бледного и изможденного, почувствовал, как защемило в груди.
– Баотянь, ты голоден? Я бы сообразил что-нибудь для тебя, – предложил я.
– Мне уже ничего в горло не лезет, – ответил умирающий, – эти несколько дней я слышал, как кричат на улице вороны, это они меня поторапливают.
Помнится, когда мы были детьми, Баотянь относился к нам с большой симпатией и часто покупал то леденцы, то лимонад. Мы и подумать не могли, что пройдет совсем немного времени, и мы вырастем, а крепкий, словно дерево, Баотянь, вдруг совсем заплошает и будет лежать, как трухлявый пень. С жалостью глядя на старика, я успокоил его, как мог, и вышел к брату с просьбой приготовить горячую яичную болтушку. Тот равнодушно заметил, что Баотянь все равно откажется от еды, однако отправился на кухню.
Когда еда была готова, я усадил старика в кровати и протянул к нему тарелку.
– Баотянь, – обратился я к нему, – поешь немного, глядишь, и силы появятся.
Но тот только покачал головой, отказываясь от еды. Подув на горячую болтушку, я снова предложил:
– Ну поешь немного, хотя бы бульон похлебай.
Видимо, просто чтобы угодить мне, Баотянь с трудом открыл рот и склонился к миске. Его седые усы погрузились в жидкость, но ее ни на сантиметр ни убавилось, он даже капли не проглотил.
Царившее в комнате зловоние упорно проникало в нос, мне стало уже совсем дурно. Я встал с места, собираясь пойти проветриться, но Баотянь ухватил меня за руку и произнес:
– Не уходи, мне нужно кое-что тебе рассказать.
– Я только отнесу тарелку, – отозвался я.
– Поскорее, – попросил Баотянь, – мне нужно кое-что тебе рассказать.
– Я мигом, – пообещал я и вышел из комнаты.
Брат мой как раз подбрасывал уголь в печь, языки пламени, словно пташки, подпрыгивали внутри. Телевизор уже был выключен, и его потухший экран теперь напоминал черную доску.
Я сделал глубокий вдох, но, не в силах до конца избавиться от этого жуткого запаха, попросил у брата сигарету. Сделав затяжку, я тут же закашлялся.
– Похоже, Баотянь и вправду совсем плох, – проговорил я.
– Смерть в таком случае нужно считать за благо, ведь он еле-еле каждый день дотягивает, – устало отозвался брат.
– Да, Баотянь считай уже помер, а нам дальше жить нужно. К тому же когда-то такой день все равно наступает, всем суждено уйти в мир иной. А жить, как сейчас, ему уже невыносимо. Так что его смерть всех только освободит, – согласился я.
На этом наш с братом разговор и закончился. На улице поднялся ветер, из оконных проемов доносилось его завывание. Я делал одну затяжку за другой, и вскоре меня окутало густое облако дыма, в комнате стало не продохнуть. Закончив курить, я произнес:
– А ведь Баотянь на самом деле был неплохим человеком.
– Да знаю, – откликнулся брат, – но полюбить его я не смог бы.
Между тем я продолжал:
– Когда мы были детьми, Баотянь частенько покупал нам леденцы.
– А еще, – добавил брат, – давал нам иногда мелочь.
– А помнишь, – спросил я, – как однажды Баотянь спас тебя?
– Как не помнить! – потеплевшим голосом ответил брат. – В тот раз, если бы не Баотянь, я бы утонул.
Я заметил, что глаза у брата совсем красные от переутомления, поэтому предложил ему пойти поспать, сказав, что сам подежурю у Баотяня. Прежде чем отправиться отдохнуть, брат захотел заглянуть к старику.
Вместе мы вошли к нему. В комнате стояла такая тишина, что было слышно сиплое дыхание Баотяня. Словно полуторагодовалый малыш, он свернулся калачиком под одеялом. Глаза его оказались закрытыми, словно он спал. Я отправил брата отдыхать, а он в ответ поправил одеяло Баотяня и предупредил, чтобы в случае чего я тут же позвал его.
Брат ушел к себе, а я пододвинул стул и сел у кровати. В комнате почти не было мебели, толко шкаф и обычный стол, стул да табуретка – вот и все.
В воздухе стояло зловоние. Особенно провонялось одеяло, уже, видимо, давно не стиранное, оно замусолилось, словно старая тряпка. Для моего носа это стало невиданным доселе испытанием. Глубоко запавшие глаза Баотяня были закрыты, он уснул. Глядя на него, и я вдруг почувствовал, что на меня нападает дремота. Пристроившись рядом, я закемарил, а потом и вовсе уснул.
Неизвестно, сколько прошло времени, но, когда я открыл глаза, старик уже не спал. Черты его лица заострились, глубокие морщины несли на себе отпечаток горечи многолетнего позора, смотреть на него было жутко. Я не почувствовал, как сверху меня, сонного, укрыли какой-то ветошью. Протирая глаза, я спросил Баотяня, когда он проснулся.
– А я и не засыпал, – ответил тот, – ты ведь весь день провел в дороге, устал, поэтому я и прикрыл глаза, чтобы ты спокойно вздремнул.
Эти слова Баотяня, словно солнечные лучи, коснулись меня, отчего я сразу почувствовал тепло. Старик предложил мне отдохнуть еще.
– Да ничего, я в порядке, – ответил я.
– Я, наверное, уже не доживу до утра, – откликнулся Бао-тянь, – побудь со мной, у меня на душе столько всего накопилось за эти годы. Если я сейчас все это не расскажу, то другой возможности не будет.
– Хорошо, Баотянь, говори, я тебя слушаю.
– Я слышал, твой брат рассказывал, что ты пишешь?
Не совсем понимая, о чем он говорит, я кивнул.
Баотянь продолжил:
– Ты знаешь, из-за чего мне пришлось стать дезертиром?
Я отрицательно покачал головой. Старик вздохнул и сказал:
– Как-то вечером, вскоре после того как я присоединился к анти-японскому отряду, нас спешно перебрасывали в один пункт. Во время этого перехода я по неосторожности споткнулся, из-за чего выстрелила моя винтовка и был убит шедший впереди командир.
– Ну что же тут поделать! – откликнулся я. – Ведь ты не специально.
– Но с того самого дня, как я убил собственного командира, – взволнованно продолжал Баотянь, – мне каждую ночь снились кошмары. Стоило мне закрыть глаза, передо мной появлялась тень командира. Не в силах и дальше оставаться с отрядом, я решил сбежать.
Потрясенный его рассказом, я спросил:
– И все эти годы ты мучился из-за этого поступка?
– Да, – с дрожью в голосе произнес старик, – с того самого часа, когда я по неосторожности убил командира, я ни одного дня не провел спокойно.
– Но, ведь винтовка сама выстрелила, – отозвался я, – к чему было изводить себя все эти годы?
Из глаз Баотяня покатились слезы.
– Но ведь командир погиб из-за моей винтовки.
Морщинистое лицо умирающего выглядело словно летопись пережитого. Я спросил:
– С тех пор прошло не одно десятилетие, почему после стольких страданий ты никому не рассказал, что именно произошло?
Баотянь, через силу качая головой, ответил:
– Да кто бы меня слушать стал! Ведь все старались держаться от меня, словно от черта, подальше. Никто бы меня не послушал.
В носу у меня защекотало.
– Баотянь, – сказал я, – зачем же ты сам себя в угол загнал? Мало ли кто какие ошибки совершает в этом мире, но все как-то спокойно продолжают жить и не изводят себя денно и нощно.
Голос старика звучал все слабее:
– Я промучился много лет и теперь, умирая, снимаю с себя этот груз. На пороге смерти мне хотелось все рассказать, иначе я не мог бы умереть спокойно. Прослышав от твоего брата, что ты занимаешься писательством, я попросил о твоем приезде. Ты должен написать обо всем, что случилось со мной, дав людям понять, что я не специально убил командира. Хотя он и погиб от моей винтовки, я промучился всю свою жизнь, исчерпав наказание, которого заслуживал.
Сказав это, Баотянь вдруг дернулся всем телом, словно зарезанная курица. Перепугавшись, я встал как вкопанный, не зная, что лучше предпринять. Между тем взгляд умирающего начал тускнеть. Уже совсем слабым голосом он добавил:
– Этот случай я несколько десятилетий хранил в своей душе. Рассказав обо всем, я освободился и теперь могу спокойно закрыть глаза.
Заметив, что конвульсии Баотяня ослабевают, я понял, что он уже на самом пороге смерти. Я так растерялся, что рванулся было позвать младшего брата. Но старик из последних сил протянул ко мне свою костлявую руку и сказал:
– Можешь на прощание исполнить одну мою просьбу?
– Говори, Баотянь, – сказал я, – обещаю тебе исполнить все, что в моих силах.
– Не называй меня по имени, зови просто дядей. Ты ведь за всю жизнь никогда не называл меня дядей.
Никак не ожидая от него такой просьбы, я вмиг почувствовал, как мои глаза затуманились слезами, я упал на колени перед кроватью и запричитал:
– Дядюшка, дядюшка!
Дядя перестал шевелиться. На его лице проступила теплая улыбка, постепенно, словно рябь на воде, она улетучилась. Я крепко сжал в своих руках его ладонь, пытаясь своим теплом удержать его хрупкую жизнь, но он уже окоченел. Покойный лежал с закрытыми глазами, как будто просто крепко уснул. Он выглядел совершенно безмятежно, на лице его еще виднелись следы улыбки.
3
Про дряхлых стариков можно сказать, что жизнь похожа на мыльный пузырь. Вот и моему пузырю пришла пора лопнуть.
В тот вечер я помочился у стены дома. Неожиданно у меня закружилась голова, и, не закончив свои дела, я повалился на землю. Я валялся, словно дохлая собака, не соображая, куда подевались все мои силы. Не имея никакой возможности пошевелиться, я лежал на ледяной земле, мне было тяжко. В ушах свистел ветер, донося жуткий запах испражнений и сырой земли.
Наконец меня заметил младший племянник и перетащил меня на кровать. Потом он принес стакан кипятка и заставил выпить. С большим трудом я раскрыл рот, но не смог проглотить ни капли, и практически вся вода, стекла мимо, прямо мне за шиворот. Кожу мою обдало жаром, словно по ней струилась свежая кровь. В тот вечер я еще и обделался на постель. Сразу я этого не понял, и только учуяв вонь, сообразил, что натворил.
За мной все пришлось прибирать племяннику. Едва он зашел в комнату, то, словно охотничий пес, несколько раз дернул носом, после чего содрал с меня одеяло. Увидев мои испражнения, он тут же выбежал вон, чтобы проблеваться. Видя такую его реакцию, я устыдился своего положения. Я и подумать не мог, что доживу до таких лет, что буду, словно грудной ребенок, ходить прямо под себя. Племянника стошнило, но он все-таки снова зашел ко мне и все убрал. Меняя испачканное белье, он не переставал одной рукой зажимать свой нос. Глядя на его кислую физиономию, я еще сильнее почувствовал свою вину за то, что порядком нагрузил парня.
Племянник вышел, а я остался лежать один. В комнате стояла полная тишина, не единого шороха, как в могиле. Так я и пролежал весь вечер, ощущая себя скорее червяком, который только и может, что еле-еле шевелиться. В эту долгую ночь мой сон вдруг куда-то улетучился, иногда, правда, он начинал потихоньку подступать, однако каждый раз из дремотного состояния меня выводил кошмар. Мне продолжал сниться убитый командир. Истекая кровью, он смотрел на меня и вопрошал, зачем я убил его. Несколько десятков лет он неотвязно преследовал меня по ночам, не желая отпускать даже при смерти.
Когда рассвело, племянник пошел за врачом, чтобы тот поставил мне капельницу. Иголки я практически не почувствовал, прокол вены оказался не больнее укуса комара. На какой-то момент поступившее в организм лекарство придало мне сил, однако, едва капельницу убрали, силы тотчас оставили меня. Мое тело напоминало мягкую вату, в нем не осталось ни капли энергии. Через пару дней врач перестал делать мне капельницы. Я видел, как он с печальным выражением лица вывел племянника из комнаты и что-то тихо ему сказал. В тот момент я понял, что болезнь мою никакими лекарствами уже не вылечить.
Я умирал, но никто не приходил меня проведать. Я знал, что деревенские избегают меня. И не просто избегают, но даже ненавидят.
В молодости я вступил в организованный КПК антияпонский отряд. В 1942 году этот отряд проходил через нашу деревню. Все наши жители, решив, что это были разбойники, от испуга укрылись в пещерах на юге деревушки. Я же, вспомнив, что у меня во дворе осталась корова, незаметно спустился с гор, вошел в деревню, но на полпути к дому остановился. Увидав солдат, уплетавших пампушки, я, голодный как волк, в надежде на подачку остановился как вкопанный в отдалении, глотая слюни. Потом меня увидел командир отряда, он подошел и стал спрашивать, кто я такой, чем занимаюсь. Я молчал, уставившись на пампушки в руке командира. Тогда он погладил меня по голове и сунул две пампушки прямо мне в руки.
Съев все до последней крошки, я продолжал стоять на месте. Командир спросил, не нужна ли мне добавка, но я покачал головой и попросил взять меня в отряд. Командир спросил, почему я хотел пойти вместе с ними и знаю ли, чем они занимались. Я ответил, что мне все равно, и что я готов выполнять все, что скажут. Когда командир стал выяснять причину моего горячего желания присоединиться, я сказал, что просто хочу каждый день есть пампушки. Мой ответ вызвал дружный смех окружающих, и в конечном итоге меня взяли-таки с собой. Тот командир был хорошим человеком, и кто бы мог подумать, что этот хороший человек будет по неосторожности мною убит.
Когда наш отряд форсированным маршем преодолевал долгий путь, я от усталости стал прямо на ходу засыпать. Но это еще полбеды – потом я вдруг споткнулся и упал. Падая, я зацепил винтовку, она выстрелила, разорвав тишину, и идущий передо мной командир, словно срубленное дерево, повалился на землю. С тех пор меня практически каждую ночь мучили кошмары, я чувствовал, что вот-вот сойду с ума. Наконец я убежал из отряда.
Я возвратился в деревню, вскоре нашу страну захлестнули большие события. Сначала мы одержали победу в войне с японскими захватчиками, потом коммунисты прогнали всех гоминьдановцев куда-то на Тайвань и основали Новый Китай, а чуть позже по всей стране начался голод, который, как говорили, унес много жизней. Услыхав про голод, жители нашей деревни поначалу в это не поверили. Ведь такое могло случиться только в старом обществе, а с образованием Нового Китая смерть от голода казалась невозможной. Но уже через какое-то время селянам пришлось в этом убедиться. Из-за нехватки зерна их желудки постепенно узнали, что такое голод. У людей началась водянка, они покрывались холодной испариной, им становилось трудно дышать… Доведенные до крайности, они становились все более тощими и невесомыми, словно листья пожухшего дерева, готовые в любую секунду сорваться от ветра и улететь далеко в небеса.
Позже я раздобыл охотничье ружье и стал каждый день ходить в горы. Во время охоты я все пытался понять, каким образом можно было выстрелить нечаянно. Этот вопрос продолжал мучить меня, словно тяжелый недуг, то и дело повергая в панику. В те дни мне порой случалось подстрелить то зайца, то нескольких фазанов. Поначалу я частенько вручал свои трофеи голодающим. Со временем таких людей становилось все больше, и я уже оказался бессилен помочь всем. Теперь мое ружье могло гарантировать пропитание лишь мне одному. Если меня муки голода серьезно не затронули, то другим повезло гораздо меньше. Без единой кровинки в лицах, они напоминали ходячие скелеты. В деревне тогда было безлюдно. Даже дворовые собаки, которые раньше лаяли повсюду, теперь вдруг куда-то исчезли. Люди старались меньше двигаться, чтобы сберечь силы, но, несмотря на это, то и дело кто-то совсем ослабевал и таял, уходя навсегда.
С охоты я все чаще возвращался с пустыми руками, так как уже практически полностью истребил водившихся поблизости птиц и зверей. Поэтому я, с ружьем на плече, естественно, подался в более отдаленные места на склонах гор. Порой я уходил на несколько суток подряд.
В то время как в деревне постоянно кто-то умирал от голода, я вроде как в полном довольстве жил между домом и лесом. Видя такое, некоторые из жителей стали мне завидовать. Их пронзительные взгляды, точно стрелы, осыпали меня со всех сторон. Так что где-то с того времени ко мне стали относиться враждебно.
Голод отступил, обстановка постепенно нормализовалась. Люди перестали питаться только кореньями и древесной корой, их больше не страшила смерть от голода, повсюду снова стали слышны хвалебные песни во славу социализма. Народ подумал, что дожил-таки до светлых дней, однако спустя всего ничего пришла новая беда. Наш социализм породил движение, называвшееся «великой культурной революцией». Поначалу казалось, что оно не имеет никакого отношения к деревенской жизни. Но однажды из уездного города к нам вдруг нагрянуло несколько человек с красными повязками на рукавах. Уж и не знаю, откуда им стало известно, что во время антияпонской войны я убил своего командира и стал дезертиром.
Когда эту ужасную новость узнали деревенские, то их долгое время копившиеся негодование с силой выплеснулось наружу. Под руководством хунвэйбинов они развернули против меня беспощадную публичную критику, не только на словах щедро поливая грязью, но и оттачивая на мне свое мастерство кулачного боя. Утратив свой естественный вид, моя кожа переливалась тогда всеми цветами радуги.
Бедствия одно за другим приходили и уходили. Но меня, по мнению окружающих, требовалось проучить еще больше, можно сказать, я превратился в козла отпущения. Все деревенские чувствовали стыд за то, что рядом с ними жил такой ублюдок, как я. Завидев меня на улице, люди старались обойти меня дальней дорогой, словно шелудивого пса. Особенно я переживал из-за племянников: кто бы мог подумать, что детям запретят называть меня дядей, заставив обращаться ко мне как к чужому, просто по имени – Баотянь! Каждый раз, когда я слышал из уст детей свое имя, у меня сжималось сердце. Все эти годы они называли меня только так.
Никого не волновало, как сильно я страдал. Я же ощущал себя бредущим по бескрайней пустыне верблюдом, мне было одиноко, и в душе моей царила абсолютная пустота. Наверное, поэтому впоследствии я продолжил охотиться. Ни на миг не забывая про случайное убийство своего командира, я непременно хотел выяснить, каким образом ружье могло выстрелить само. Мои бесконечные опыты никак не могли разъяснить этот вопрос. Наконец я потерял всякую надежду, решив, что у меня вместо мозгов всего лишь грязная жижа. Тогда-то мне и пришла в голову мысль о самоубийстве. Раз я не в силах выяснить даже элементарную вещь, то лучше мне вообще не жить. А после смерти я разыскал бы своего командира и попросил бы его оставить меня в покое. Я поставил ружье дулом вверх и засунул в рот. Уже приготовившись взвести курок, я вдруг услышал громкие крики о помощи. Прислушавшись, я узнал голос младшего племянника. Почувствовав тревогу, я забыл о своем замысле, отбросил ружье и ринулся на зов. Подбежав к деревне, я увидел, как в местном пруду тонет мой племянник. Плаваю я плохо, но тогда я об этом даже не подумал и как был, в одежде, плюхнулся в воду. Едва я поравнялся с племянником, он обвился вокруг меня, словно веревка. Отчаянно барахтаясь, я и сам чуть не утонул, но в конце концов все-таки вытащил его на берег.
После того как я спас племянника, на душе у меня несколько полегчало, словно я спас не родственника, а командира. А поскольку я чуть не утонул, то на самоубийство уже не решался. Я и впрямь оказался слабовольным, поскольку у меня не было смелости ни для того, чтобы жить, ни для того, чтобы умереть, я чувствовал себя ничтожным, словно какая-то букашка.
Ну вот, наконец, пришел мой смертный час. На этот раз жизнь моя подошла к последней черте, и я уже увидел тень смерти. И поскольку у меня детей не было, похороны могли организовать только племянники, несмотря на то что они никогда и не называли меня дядей. Это были мои единственные родственники.
Младший племянник, заметив, что я с каждым днем становлюсь слабее, ни на шаг не отходил от постели, он понимал, что дни мои сочтены. Вид у него был настолько измученный, что я чувствовал некоторую неловкость. Мне уже и самому хотелось поскорее умереть, такой исход устроил бы всех, однако все то невысказанное, что накопилось в душе, никак не давало уйти в мир иной.
Хотя смерть подбиралась ко мне все ближе, я ее совсем не боялся. За все эти годы я так и не обрел спокойствия, каждый прожитый день доставлял только ужасные страдания, поэтому смерть оказалась бы лучшим освобождением, вместе с ней закончились бы все мои горести. Однако душевный груз тяжеленным камнем лежал у меня на сердце, отчего было нестерпимо тягостно. Тогда я попросил младшего племянника позвонить старшему брату и попросить его приехать. Если бы я рассказал ему о своих тревогах, то спокойно смог бы уйти в мир иной.
Поскольку в последнее время я уже едва дышал, то беспокоился, что не дотяну до приезда старшего племянника, но, к счастью, он приехал быстро. Я его очень любил, едва он вошел в комнату, я сразу узнал его по шагам. Он подошел ко мне и назвал по имени:
– Да, Баотянь, это я. Я приехал.
Я взял его за руку:
– Ты приехал, ты все-таки приехал, я так боялся, что не дождусь тебя.
Он стал успокаивать меня:
– Все с тобой будет в порядке, ты обязательно выкарабкаешься.
– Я свой организм знаю, мое время уже на исходе, скорее всего мне осталось дня два, – ответил я.
– Баотянь, ты не переживай, – продолжал он, – человек не может сам управлять процессами жизни и смерти.
Мой язык совсем уже пересох, так что даже говорить было больно, и я с трудом произнес:
– Я знаю, о чем говорю.
Он все уговаривал меня не думать о плохом, но я уныло покачал головой:
– Я уже должен был умереть, но вот задержался немного, хотел дождаться тебя. И ты все-таки приехал.
Я заметил, что старший племянник вдруг как-то сник. Он предложил приготовить для меня что-нибудь поесть, но я сказал:
– Мне уже ничего в горло не лезет, эти несколько дней я слышал, как кричат на улице вороны, это они меня поторапливают.
Приготовив яичную болтушку, племянник усадил меня в кровати, чтобы покормить.
– Баотянь, – обратился он ко мне, – поешь немного, глядишь, и силы появятся.
Я только покачал головой, отказываясь от еды. Тогда он подул на горячую болтушку и снова предложил:
– Ну, поешь немного, хотя бы бульон похлебай.
Он так растрогал меня, что я готов был заплакать. Всю мою жизнь меня только бранили и избивали, с собаками и то лучше обходятся, еще никто и никогда не относился ко мне так хорошо. Племянник проявлял ко мне такую заботу, что я, несмотря на свое нежелание есть, все-таки не хотел его разочаровывать. Я с трудом открыл рот, но в моей глотке словно стояла пробка, и проглотить мне ничего не удалось.
Я действительно хотел что-то съесть, чтобы порадовать старшего племянника, но мой желудок отказывался принимать пищу, и я ничего не мог с этим поделать. Заметив, что племянник поднялся, собираясь уходить, я ухватил его за руку и сказал:
– Не уходи, мне нужно кое-что тебе рассказать.
– Я только отнесу тарелку, – отозвался он.
– Поскорее, – попросил я, – мне нужно кое-что тебе рассказать. Если не сейчас, то потом уже не смогу.
– Я мигом, – пообещал он.
Через какое-то время я услышал, как он снова вошел в комнату, поэтому поспешил закрыть глаза. «Человек, – подумал я, приехал издалека и устал с дороги, нужно дать ему отдохнуть». Он пристроился рядом и скоро уснул. Глядя на спящего племянника, мне так захотелось протянуть к нему руку, чтобы просто погладить. У меня самого никогда не было ни жены, ни детей, эти племянники были моими единственными родственниками. Маленькими я любил их без памяти, мне так хотелось обнять их при встрече, но они не любили меня и всякий раз старались убежать подальше.
На улице, не затихая, дул ветер, ночь выдалась холодной. Беспокоясь, как бы парень не простудился, я накинул на него какую-то одежду. Чувствуя себя, словно разваренная лапша, я приложил все свои силы, чтобы укрыть его. Но он вдруг проснулся и, протирая глаза, спросил, почему я не сплю.
– А я и не засыпал, – ответил я, – ты ведь весь день провел в дороге, устал, поэтому я и прикрыл глаза, чтобы ты спокойно вздремнул. – Я предложил ему отдохнуть еще.
– Да ничего, я в порядке, – ответил он.
– Я, наверное, уже не доживу до утра, – сказал я, – побудь со мной, у меня на душе столько всего накопилось за эти годы. Если я сейчас все это не расскажу, то другой возможности уже не будет.
– Хорошо, Баотянь, говори, я тебя слушаю, – ответил он.
– Я слышал, твой брат рассказывал, что ты вроде как пишешь? – спросил я.
Заметив, что он кивнул, я продолжил:
– Ты знаешь, из-за чего мне пришлось стать дезертиром?
Парень отрицательно покачал головой. И тогда я поведал ему о том, как я случайно убил своего командира.
– Ну что же тут поделать! – откликнулся он. – В ведь ты не специально.
– Но с того самого дня, как я его убил, – продолжил я, – мне каждую ночь снились кошмары. Стоило мне закрыть глаза, как передо мной появлялась тень командира. Не в силах и дальше оставаться вместе с отрядом, я решил сбежать.
Племянник выглядел потрясенным, он спросил:
– И все эти годы ты мучился из-за этого поступка?
– Да, – с дрожью в голосе произнес я, – с того самого часа я ни дня не провел спокойно.
– Но, ведь винтовка сама выстрелила, – отозвался племянник, – к чему было изводить себя все эти годы?
Из глаз моих покатились слезы:
– Но ведь командир погиб из-за моей винтовки.
– С тех пор прошло не одно десятилетие, почему после стольких страданий ты никому не рассказал, что именно произошло? – спросил он, глядя на меня.
– Да кто бы меня слушать стал! – с горечью отозвался я. – Ведь все старались держаться от меня, словно от черта, подальше. Так что никто бы меня не послушал.
– Баотянь, – сказал племянник, – зачем же ты сам себя в угол загнал? Мало ли кто какие ошибки совершает в этом мире, но все как-то спокойно продолжают жить, вместо того чтобы денно и нощно изводить себя.
Чувствуя, что слабею, я отозвался:
– Я промучился много лет и теперь, умирая, снимаю с себя этот груз. На пороге смерти мне хотелось все рассказать, иначе я не мог бы умереть спокойно. Прослышав от твоего брата, что ты занимаешься писательством, я попросил о твоем приезде. Ты должен написать обо всем, что случилось со мной, дав людям понять, что я не специально убил своего командира. Хотя он и погиб от моей винтовки, я промучился всю свою жизнь, исчерпав наказание, которого заслуживал.
Сказав это, я почувствовал, как тело мое стали сотрясать судороги. Племянник перепугался и встал как вкопанный, не зная, что предпринять. Между тем я продолжил:
– Этот случай я несколько десятилетий хранил в своей душе. Рассказав обо всем, я освободился и теперь могу спокойно закрыть глаза.
Чувствуя, что душа уже покидает тело, я протянул к нему руку и спросил:
– Можешь пообещать мне на прощание исполнить одну просьбу?
Он ответил, что исполнит все, что в его силах. Тогда я попросил:
– Не называй меня по имени, назови просто дядей. За всю жизнь ты никогда так не называл меня.
Из глаз парня полились слезы, он упал на колени перед кроватью и запричитал:
– Дядюшка, дядюшка!
Он назвал меня дядей, все-таки назвал. Услышать перед смертью эти слова было для меня настоящим счастьем. Глаза мои медленно закрывались, но я чувствовал, как крепко он сжимает мою ладонь своими сильными теплыми руками. Я знал, что он пытается хоть как-то удержать жизнь в моем коченеющем теле, но он был бессилен сделать это. Никто не в силах избавить человека от смерти, когда она уже пришла. Я постепенно становился невесомым и вскоре, словно порыв ветерка, воспарил куда-то вверх.
Перевод О. П. Родионовой
Дуаньхэ
Оуян Цяньсэнь
Речка Дуаньхэ, Отсеченная, на самом деде никакая не отсеченная и несет воды еще очень долго – сколь долго, никто не знает, главное, путь ей еще неблизкий.
Старик Ма Девятый погрузил шест в синеву вод, нанизывая на него отливающие жемчужным блеском капли, и лодка с полукруглым черным навесом из бамбука заскользила, покачиваясь и рассекая похожие на цветки лотоса облака.
Про название речки ему рассказали в детстве деревенские старики. Повзрослев, он понял, что на самом деле никто ему ничего не рассказывал, он и сам знал почему. Воды реки выходят наружу бурным потоком из расселины в скале у подножия большой горы, эта расселина внушает страх, уж очень напоминает разинутую пасть огромного крокодила. Наверное, река текла во мраке слишком долго, под пологом небес она тут же меняет цвет на небесную синеву. Словно вырвавшись на свободу, прозрачная бирюза потока азартно и весело играет волнами, которые теснятся и обгоняют друг друга. Поток принимает очертания ущелья, а через пять ли[68] на восток вновь скрывается в глубокой пещере у подножия горы, которая тоже похожа на пасть гигантского крокодила. Ущелье это зовется Дуаньгу, от него пошло и название деревеньки Дуаньчжай из нескольких десятков дворов в трех ли от него.
На здешнем наречии «дуаньчжай» звучит, как и «дуаньцзай», – «оставить бездетным», но с выражением «дуаньцзы цзюэсунь», «остаться без потомства», это никак не связано, потому что женщины из Дуаньчжай могли нарожать полный дом детей любому, кто брал их в жены.
Дуаньчжай лежит на востоке карстового плоскогорья, которое простирается на тысячу ли. Здесь, на красноземе, непрерывной чередой встают невысокие холмы, они застыли в веках целой флотилией лодок с поднятыми парусами. Дуаньчжай расположен в самом конце этой флотилии, в трех ли на восток, – высокая гора, ущелье Дуаньгу, глубокая расщелина, по которой течет река, а если пройти по ущелью на восток еще полсотни ли, взору откроется величественная горная цепь Улин. Чего только нет в непроходимых лесах! Но вот уже двести лет, как братья Ма покинули деревню Хэйваньчжай, чтобы обосноваться в этой приютившейся на клочке краснозема деревушке, и вернуться уже не вернулись. Женщины рода Ма могли уходить в дом мужа, равно как Хэйваньчжай могли покидать лишь женщины рода Лун.
В каком колене предков деревню рода Ма стали именовать Дуаньчжай – неведомо. У мужчин рода Ма созвучие этого названия с «дуаньцзай» вызывало панический страх. В результате они с женами производили на свет детей одного за другим, как помешанные.
А краснозем родит скудно. Вокруг все больше оголенная горная порода, а на разбросанных тут и там клочках земли слой краснозема тонкий, и деревца на нем невысокие, расти они хоть тысячу лет. Эти участки земли в несколько десятков му разбросаны по впадинам и извивам гор, и им давно уже не прокормить расплодившийся за несколько поколений род Ма. Вот предки дуаньчжайских и установили за правило: всем после третьего по старшинству в семье жить в Дуаньчжае не позволялось.
Дуаньчжайские давно хотели поменять название деревни, однако ни одно новое не прижилось, и чужаки привычно называли их по-старому. Жители деревушки перестали задумываться над сменой названия еще и для того, чтобы сыновья и внуки, уехавшие в другие края на заработки, могли найти родные места, когда приедут на побывку.
Ма Девятый, единственный из девятых по старшинству, остался жить в деревне по очень простой причине: из старших у него была лишь одна сестра.
Ему шел уже шестой десяток, он сгорбился, морщинистое лицо напоминало торчащий из краснозема валун – обветренный, омытый дождями. Перекрестные узоры от эрозии на нем, похожие на шрамы от меча, могли образоваться не за день-два и не за год-два, они формировались десятилетиями, столетиями, тысячелетиями. Ведь для камня десять тысяч лет – что для человека день, верно?
Под ударами весла разлеталось отражавшееся в воде небо, скользящая вперед лодка рассекала облака. Ма Девятый не улыбался, но из полуоткрытого рта вырвалась пара смешков, через щербины в когда-то белоснежных, а теперь желтовато-черных зубах с шипением вылетал воздух, отчего смешки эти походили на всхлипывания.
Если не считать детство, когда он еще не понимал, что к чему, за прошедшие годы Ма Девятый никогда не смеялся. А все из-за Старшого Луна. Заправлявший в Хэйваньчжае Старшой Лун в живых его оставил, но жизнь Ма Девятого проходила больше по ночам. Чтобы понять, почему Ма Девятый, простой житель Дуаньчжая, порвал отношения с внушительным и воинственным Луном, нужно рассказать об отце Ма Девятого, которого звали Лао Дао – Старина Нож.
Дело было семьдесят пять лет назад. Лао Дао решил померяться искусством владения ножом с человеком по прозванию Лао Лан – Старина Волк. А слова у Лао Дао с делом не расходились. Ножом он владел отменно, бил без промаха. Этим он и славился, в этом у него была вся жизнь.
Черные вихры, как щетина дикого кабана, свирепый взгляд на загорелом, цвета старой бронзы, лице – настоящая гора мускулов. Всякий раз, когда его начинали расхваливать, Лао Дао поднимал бровь и, поигрывая мышцами, выплевывал толстыми губами: «Ничего особенного, всего лишь мастерство».
Это выражение он выучил в единственной хэйваньчжайской частной школе почтенного Фэна. В устах Лао Дао, с его внешностью, это смиренное речение тысячелетней древности[69] звучало заносчиво.
Лао Лан тоже славился в тех краях мастерским обращением с ножом, ловкостью и точностью, да и смельчак был отчаянный, на ходящих по земле зверей охотился без ружья. Как-то раз встретил дымчатого леопарда и сразил его парой ножей: одним попал в горло зверя, другой вонзился в сердце. Густобровый, большеглазый, Лао Лан тоже мог похвастать выпирающими загорелыми мускулами, которые блестели как зеркало.
Прозвание свое Лао Лан получил не зря: завидев его, женщины спешили скрыться. А тут он и вовсе разошелся: надо позволить себе такое – тронуть Мэй До, женщину Лао Дао, первого клинка в округе. Ясное дело, чьей еще могла быть первая красавица в тех краях? И как еще расценить подобную дерзость Лао Лана? Только как вызов Лао Дао.
Родители Лао Дао умерли, когда ему было четырнадцать, остался у него лишь старый пятилетний пес. Когда Лао Лан умыкнул возлюбленную Лао Дао, именно этот пес и вытащил из зарослей травы за штаны не успевшего натянуть их Лао Лана, этакое неопровержимое доказательство.
Когда Лао Лан вместе с той женщиной показался на околице, перед ними, словно вихрь, возник Лао Дао со своим псом. Стоило ему встать поперек улицы, как он своим массивным корпусом загородил весь проход. Брови взлетели вверх, нож вытащен из ножен. Лао Лан отступил на десять шагов – само воплощение отчаянной храбрости – и сложил руки на груди в знак приветствия, мол, бросай свой нож. Лао Дао надменно расхохотался. Разве будет мастер по ножам в округе начинать? Да он первым ножом остановит нож Лао Лана в воздухе, а вторым поразит противника еще до того, как тот вытащит свой второй.
Лао Лан – и откуда только храбрость взялась? – тоже ни за что не соглашался метать первым.
Тогда позвали они рассудить их деревенского старосту, почтенного Фэна, старого сюцая[70], дававшего частные уроки в деревенской школе. Тот много повидал на своем веку и пользовался авторитетом у нескольких поколений деревенских. Почтенный Фэн не стал искать виноватого, как пристало бы деревенскому старосте, а лишь взмахнул иссохшей маленькой ручкой и порешил, что оружием одного будет нож, а оружием другого – ружье, каждый отступает на десять шагов и стоит не двигаясь. А кто первый, кто второй, решает жребий. В итоге Лао Лану выпало быть первым с ножом, а Лао Дао – вторым с ружьем.
Лао Лан в душе был доволен, Лао Дао же не сказал ни слова.
Отступив на десять шагов, Лао Лан сложил руки на груди и выдохнул: «Чэнжан»[71]. Эта вежливая формула выдавала его уверенность, что он одним броском отправит Лао Дао на тот свет.
Почтенный Фэн в ножах не смыслил, вот и повелел стоять не двигаясь. Как тут проявишь высокое искусство уходить от ножа? Погубил Лао Дао почтенный Фэн, нож Лао Дао проворнее, но его не вытащишь.
Лао Дао понял, что ему конец, и сердце, его по правде говоря, окаменело. Достал он из-за пазухи кусок мяса и бросил псу. Кусок был у него последний. Пес ловко подпрыгнул и проглотил его. Потом Лао Дао высоко поднял голову, взметнул брови и, выпучив налившиеся кровью, как у быка, глаза, злобно уставился на Лао Лана: хотелось видеть, как полетит нож, который вонзится ему в грудь.
«Следи за ножом!» – прозвучал дикий вопль Лао Лана. Сразу вслед за этим нож вылетел у него из руки и подобно молнии полетел прямо в грудь Лао Дао. Раздался надсадный вой, но упал не Лао Дао, а его свирепый и проворный пес. Нож глубоко вошел ему в горло, даже ручки не видно, из пасти свешивалась красная бахрома на конце. Когда нож вылетел из руки Лао Лана, пес в прыжке перехватил его. Проглотить нож не удалось, он оглянулся на Лао Дао округлившимися глазами, вильнул хвостом и рухнул.
У Лао Лана аж глаза на лоб полезли и язык отнялся.
Лао Дао хотел было тоже взяться за нож, но почтенный Фэн не позволил: мол, нож у первого, у второго – ружье, как уговорились, слово не воробей. Делать нечего, пришлось Лао Дао просить принести ему охотничье ружье. Он выменял его на шкуру тигра у англичанина, искавшего здесь месторождения киновари.
Неторопливо подняв ружье, он прицелился в Лао Лана. Лао Дао был первым не только в метании ножей, стрелок он тоже отменный, стоило ему нажать спусковой крючок, и Лао Лан точно покойник.
Перепуганная Мэй До бросилась к Лао Дао, обхватила его за ногу и стала умолять опустить ружье и смилостивиться.
Лао Лан разразился бранью, обозвал ее дрянной бабой, мол, помру, так помру достойно, шла бы ты со своими причитаниями!
Мэй До метнулась к нему и загородила собой со словами: «Если умирать, умрем вместе».
Но Лао Лан пинком отшвырнул ее на землю и заорал: «Подумаешь, умереть! Лао Дао, сукин сын, стреляй, если ты настоящий мужчина, убей меня, я твою женщину взял и пса твоего убил». Ни капли страха у этого Лао Лана, он, как говорится, на смерть смотрел как на возвращение домой.
Лао Дао целился-целился, а потом опустил ружье. «Герой, Лао Лан, сукин ты сын, не боишься смерти, – надменно проговорил он. – А ежели так, мне и убивать тебя унижение одно. Попомни сегодняшний выстрел». И, забрав тело пса, удалился.
Пролетели три года. Лао Лан с Мэй До жили в любви и согласии, у них появились две дочки, а тут Мэй До снова понесла, десятый месяц уже, со дня на день должна родить.
В надежде, что она родит сына, Лао Лан с ног сбился, готовясь.
Он возвращался с охоты в горах, и на полпути ему сообщили добрую весть: родился пухленький сынок. Сам не свой от радости, он бросил добычу и со всех ног припустил домой. У ворот деревни его встретил нацеленный в него ствол ружья. Лао Дао поджидал там уже давно, исполненный прежней надменности. Лао Лан остановился, не зная, что сказать.
Лао Дао тоже молчал. Он потихоньку поднимал ружье, целясь в голову Лао Лана и не сводя с него вытаращенных, как у быка, глаз.
Тень от ружья понемногу удлинялась.
Лицо Лао Лана стало мало-помалу бледнеть, по нему заструился пот, капли повисали на подбородке и застывали под лучами солнца и легким ветерком поблескивающими крупицами соли.
Лао Дао не стрелял, но по-прежнему держал голову Лао Лана на мушке.
В глазах Лао Лана, на казалось бы исполненном твердости лице отразились метания в поиске спасительного выхода. И это не ускользнуло от острого взгляда Лао Дао.
Среди душевных терзаний Лао Лан услышал грохот выстрела, и с небес прямо перед ним упал белый журавль.
Брови Лао Дао взметнулись, он передернул плечами и, прищурив бычьи глаза, заговорил: «Мое ружье не стреляет по тем, кто ходит по земле. Почтенный Фэн, мать его, в ножах не смыслит, не дал ножичком воспользоваться, а то бы я тебя подрезал, сукин сын, недоносок и трус». – И ушел, даже не оглянувшись.
Лао Лан вернулся домой, чтобы глянуть на сына, вышел из ворот навстречу Лао Дао, и грудь его пронзил нож.
Лао Дао устроил ему пышные похороны и решил вырастить его сына, чтобы тот из волчонка стал волком, а потом померяться на ножах и с ним. Сын этот Старшой Лун и был.
Год спустя Лао Дао вместе с Мэй До, ее двумя дочерьми и сыном обосновался в Дуаньчжай.
В двенадцать лет Старшой Лун узнал от словоохотливых стариков в деревне, что Лао Дао ему не родной отец, и получил ответ на давно мучивший его вопрос: почему у двух старших сестер и у него самого фамилия Лун, а у пяти младших сестренок фамилия Ма?
Лао Дао ежедневно со всем тщанием учил Старшого Луна искусству ножа. Когда мальчику исполнилось четырнадцать, он упражнялся в том, чему его обучил Лао Дао, и ненароком выполнил прием, в котором было немало от блистательного мастерства Лао Лана. Он постиг искусство Лао Дао, но в нем проснулся и дух мастера ножевого боя, каким был его отец. Лао Дао глубоко вздохнул, но ничего не сказал.
«Отец», – обратился к нему Старшой Лун.
«Моего клинка тебе не превзойти», – сказал тот.
«Превзойду или нет, приемы-то твои», – ответил мальчик.
«Верно говоришь», – поразмыслив, согласился Лао Дао.
«Отец, – продолжал Старшой Лун, – по матушке мы родственники, но я уже разбираюсь, где добро, где зло. Родной отец родил меня, ты меня вырастил, так что на ножах с тобой состязаться мне никак не с руки».
«Я твоего родного отца убил», – сказал Лао Дао.
«Но твое мастерство тут ни при чем», – возразил мальчик.
«Верно», – согласился, подумав, Лао Дао.
«Вот если бы вы с матушкой родили брата, с ним мы могли бы померяться, когда вырастет».
Лао Дао надолго замолчал, но потом согласился.
Через три дня Старшой Лун вместе с двумя старшими сестрами решил вернуться на землю предков, покинул Дуаньчжай и перебрался в Хэйваньчжай.
Обустроив там сына, Лао Дао вернулся домой. Мэй До с пятью дочерьми сидели за столом и ужинали. Заграбастав женщину одной левой в охапку, он прошел с ней в дальнюю комнату, правой захлопнул дверь, швырнул Мэй До на кровать, набросился на нее и не успокоился, пока не довел до полуобморочного состояния.
Доказать, что он силен в постели, он доказал, но на следующий год снова родилась девочка.
Изругал он Мэй До в пух и прах: мол, ей больше по нраву Лао Лан, тому после двух дочек принесла-таки сына, а ему – шесть дочек и ни одного. Под конец поколотил ее так, что в деревне все попряталась. Вы мне оба нравитесь, заявила жена, но кто-то всегда первый, это уж судьба. То, что у тебя, Лао Дао, нет сыновей – тоже судьба, признал бы лучше, что на все воля Неба. Но тот в судьбу не верил. Мэй До даже предложила ему попытаться с другой женщиной, но он отказался, сказав, что ему нужен сын непременно от нее. Вся в синяках от побоев, Мэй До была вынуждена продолжить яростные упражнения с Лао Дао. Ясно, почему он так старается: если встретятся два мастера ножа, один из них точно не жилец, а их жажде мести и подавно несть конца, если только она не родит Лао Дао сына. Лишь поединок братьев сможет стать соревнованием, а не смертельной схваткой.
Но, как они ни старались, сын так и не родился. После появления на свет восьмой девочки всё стало настолько угнетать мужчину, что он старел день ото дня. Сорокалетний Лао Дао кручинился так, что аж виски поседели. Мэй До очень переживала, понимая, что его страдания с душевными не сравнить. Несколько раз она порывалась уговорить его оставить затею с поединком, но так и не решилась сказать об этом. В искусстве владения ножом Лао Дао первый, и все же для подтверждения этого нужен кто-то второй. Но чтобы непревзойденный мастер по ножам отрекся от своего деда – это потруднее, чем взобраться на небеса. Для нее все было яснее ясного, она все понимала, но смотреть, как муж чахнет день ото дня, было невыносимо. Она по-прежнему хотела предпринять с ним последнюю попытку, но Лао Дао уже не верил в успех и делить с ней постель больше не желал, как она к нему ни ластилась.
Как-то раз Мэй До стала тащить Лао Дао в постель особенно настойчиво. Он ни в какую, а она знай свое. Рассвирепев, тот набросился на нее с кулаками, и она с плачем убежала.
Лао Дао не стал и искать ее, сидел дома и пил вино.
Три дня спустя она вернулась. Пьяный Лао Дао лежал в постели. Она раздела его и оседлала.
Раньше он никогда снизу в нее не входил, и в ходе этой неистовой скачки несколько раз с громким воплем пытался оказаться наверху. Перевернуться-то он перевернулся, но прежде уже истек похожим на жидкую грязь семенем.
Через десять месяцев Мэй До родила сына, это и был Ма Девятый.
Лао Дао воспрянул духом и на радостях закатил пир на всю деревню.
В тот год Старшому Луну минуло восемнадцать. Как раз тогда войска восьми держав вошли в Пекин[72], и, он, исполнившись печали, с оставшимся от родного отца ножом за спиной мужественно отправился в одиночку спасать трон.
Об этом тут же прознал почтенный Фэн. Хворый, лежа в постели, он трижды воскликнул: «Герой!» Несмотря на годы и слабое здоровье он вместе с младшим старостой Сяо Фэном провел в седле три дня, нагнал Старшого Луна на реке Юаньцзян, что на границе с уездом Таоюань, и, выразив свои пылкие чувства в слезах простился с ним.
По возвращении почтенному Фэну уже было не совладать с дряхлым телом. Перед кончиной ему ненадолго стало лучше, он с трудом поднялся, поклонился на север и из последних сил воскликнул: «О государь, в немощи подданные твои! К счастью, один добрый молодец выступил на твою защиту». – И рухнул ничком на землю.
Сяо Фэн бросился поднимать его, но старик уже не дышал. Как все и ожидали, новым старостой стал Сяо Фэн.
Зимой того года, когда Ма Девятому исполнилось двенадцать, шли обильные снегопады. На тропинке, что вела к Дуаньчжай, показались скачущие во весь опор всадники. Из-под копыт десятка лошадей летеди ошметки снега, и на фоне заснеженной дороги издалека выделялся черный плащ мчавшегося впереди всадника на вороном коне.
Ма Девятый как раз в это время с ватагой детворы возился на околице в снегу. Конные промчались мимо. У стоявшего по-над водой дома Ма Девятого они натянули поводья, и шедший первым вороной со ржанием вздыбил белоснежные копыта. Верзила всадник легко спешился, бросился на колени в снег и громко воскликнул: «Отец, мать!»
Лао Дао был при последнем издыхании, но заслышав ржание коней, с трудом разлепил глаза и рывком сел на постели.
Из дверей метнулась Мэй До. Она с плачем обняла сына после почти десяти с лишним лет разлуки, а потом потянула в дом. Охваченный любопытством Ма Девятый подбежал посмотреть, в чем дело, и, поняв, что вернулся старший брат, опрометью бросился вслед.
В доме Мэй До подтолкнула Старшого Луна к постели Лао Дао: «Быстро на колени перед отцом».
«Отец!» – торопливо повиновался тот.
Лицо Лао Дао порозовело, но он не промолвил ни слова, дав Мэй До знак вывести Ма Девятого. Та указала мальчику на Луна: «Ну же, поприветствуй старшего брата».
Ма Девятый собрался было так и сделать, но, встретив свирепый взгляд, струхнул и спрятался за Мэй До, которой ничего не оставалось, как только вывести его.
Лао Дао вытащил из-под подушки нож, достал из ножен и вложил обратно. Потом с тяжелым вздохом протянул Луну.
Тот встал и принял нож. «Ну давай, убей отца, отомсти», – задыхаясь, выдавил из себя Лао Дао.
«Отец!» – рассердился Лун.
«Давай-давай, убей отца, убей».
«Он мой брат, но не твой сын!» – воскликнул Лун, указывая на дверь.
Старик закашлялся, изо рта у него вылетел сгусток крови, он хохотнул три раза и испустил дух.
Высоко держа в руках нож, Лун трижды отвесил покойному земной поклон.
Вошла почуявшая неладное Мэй До и с плачем бросилась к телу мужа.
«Ты убил отца», – причитала она сквозь слезы.
Ударился в рев, колотя Луна по спине, и Ма Девятый: «Зачем ты убил отца, старший брат?!»
Содрогнувшись, Лун встал. Мальчик чуть не отлетел кувырком и, захныкав, метнулся к матери. Он обхватил ее за ногу и со страхом уставился на Луна. Слезы струились по лицу жалкими ручейками. Заплаканная Мэй До погладила его и с удивлением спросил: «Как ты узнал?»
«По ножу», – ответил Лун.
Женщина долго смотрела на нож у него в руках.
Два дня подряд Мэй До с сыновьями провела у гроба Лао Дао. На третий день вновь зашла в дальнюю комнату. Лун посчитал, что она просто устала – в годах ведь, – и не придал этому значения. Через какое-то время оттуда донесся стон. Ворвавшись туда, он увидел в ее теле рукоятки двух ножей, изо рта пузырилась кровавая пена. «Матушка», – позвал он, подняв ее.
«Славные ножи», – проговорила она, поглаживая рукоятки. А потом схватила Луна за руку: «Отца твоего и меня похорони непременно рядом с родным отцом».
«Хорошо», – пообещал Лун.
Она потянула его за край одежды: «Ну же, пообещай матери, что оставишь младшенького в живых».
«Но матушка…» – возразил Лун.
«Искать его родного отца не нужно, – продолжала Мэй До, – это случайный прохожий. Здоровьем младшенький не вышел, оставь его, пусть живет».
«Матушка…»
«Ну же, обещай матери», – рассердилась Мэй До.
«Добро», – процедил сквозь зубы Лун.
Тело ее ослабло, и руки разжались.
В это время в комнате с ревом появился Ма Девятый. Он хотел броситься к матери, но, увидев, что ее обнимает Лун, подойти не осмелился, а лишь без конца плакал и дрожал. Лун вытащил из тела матери ножи, вытер кровь и, покосившись на мальчика, рыкнул: «А ну не хнычь, за пиписку вон подержись, вспомни, мужик ты или нет. Будешь ныть, отправишься у меня вслед за отцом с матерью». И отшвырнул ножи в сторону. Перепуганный Ма звал то отца, то мать.
Спустя три дня Старшой Лун со своими конниками перебрался в Хэйваньчжай.
Прошел месяц, и он предложил Сяо Фэну сложить полномочия старосты. Мол, время нынче смутное, у власти военные, возвращайся-ка ты лучше домой и живи в свое удовольствие! «Как еще только голову сносил», – говаривал потом Сяо Фэн.
Так Старшой Лун стал старостой, но Ма Девятому ничего доброго это не сулило. Еще незамужних сестер – седьмую и восьмую – Старшой Лун перевез в Хэйваньчжай, и в Дуаньчжае остался один двенадцатилетний Ма. С тех пор Луна он больше не видел. Тот, конечно, о нем заботился, прислал лодку, которую построили по его приказу на берегу реки. Ма Девятый ловил для него рыбу и получал два ляна серебром в месяц. Этого было вполне достаточно, почти столько же получали работавшие на добыче киновари. Это были уже годы республики[73], англичане давно уже не могли добывать руду в тех краях. Но не бросать же выработки, и Старшой Лун, потратив не так уж много серебряных даянов [74], возобновил добычу. Получаемые ярко-красные прозрачные кристаллы после тепловой обработки превращались в отливавшую металлическим блеском белую ртуть. На ртути Лун сколотил целое состояние, накупил оружия и набрал отряд числом больше ста человек для охраны прииска. С тех пор его могущество в округе еще больше укрепилось.
Рыба в речке водилась лишь одна: усеянная черными крапинками по темно-серому фону, она обладала отменным вкусом. По форме она напоминала меч, который, по легенде, есть только на небесах, и с древности его прозывали «пестрый небесный клинок». Из-за прозрачности вод Дуаньхэ днем эту рыбу не увидишь, она появлялась из мрака подземного русла под нависшим над ним утесом лишь по ночам, при ясном свете луны, и, заслышав малейший звук, тотчас скрывалась обратно. Вот Ма и приходилось в сумерках подгонять лодку к входу в пещеру, бросать камень-якорь и напряженно ждать в тишине.
Да вот беда: «пестрый небесный клинок» не обязательно появлялся и по ночам, когда светила круглая, как серебряное блюдо, луна. А Старшой Лун без этой рыбы жить не мог, говорил, мол, просто пристрастился к ней. Печаль лишь в том, что, подкарауливая рыбу, Ма Девятый жил больше по ночам, чем при свете дня. Да и то за месяц бдения в лучшем случае удавалось наловить цзиней[75] с десяток. А от Луна приходили за рыбой через два дня на третий.
Осенью того года, когда Ма Девятому исполнилось двадцать пять, подручные Старшого Луна привели ему женщину и сказали, что она будет ему женой. Никакой встречи невесты у ее дома, никаких проводов в дом жениха, пришла и стала жить в старом доме семьи Ма. Давно уже не чувствовалось, что в нем кто-то живет, и лишь появившаяся там женщина вдохнула в него жизнь. Раньше Ма Девятый редко возвращался домой и в основном спал под навесом в лодке. С приходом женщины он, если не караулил рыбу на реке, всегда приходил ночевать в старый дом. Женщина была из крестьянской семьи, в жизни разбиралась и жила с ним мирно. Она видела, что жизнь у человека несладкая. Переживая, нередко пеняла ему, мол, когда спать надо ложиться, тебя нет, а когда никто не спит, ты за порог. Не удалось избежать и пересудов о неправоте Старшого Луна. В Дуаньчжае никто понятия не имел, о чем спорили муж с женой, а вот Старшой Лун, как ни странно, узнал. Когда на глазах Ма Девятого подручные Луна связали женщину и бросили в воды Дуаньхэ, он сотрясался в рыданиях и клялся Небом, что не он раскрыл тайну. Женщина поверила его словам и, перед тем как погрузиться в пучину, воскликнула: «Чем жить как ты, Девяточка, лучше помереть, давай и ты тоже!» Она хотела крикнуть что-то еще, но на поверхности воды лишь поплыли пузыри, которые потом полопались один за другим. Так Ма Девятый и не узнал, что она хотела сказать. Кровь прилила к сердцу, он суетливо выбежал на берег, ноги на валуне задрожали, так же суетливо он отступил на несколько шагов, рухнул на колени и взвыл, обратившись в сторону Хэйваньчжай: «Эх, старший брат, старший брат!»
А Старшой Лун в это время на вороном скакуне наблюдал за ним с биноклем в руках. Пораженный увиденным, он воскликнул, обращаясь к небу: «Сын твой старался как мог, матушка, неужто не хотелось иметь родного брата, такого, с кем и на тигра ходить можно, и на бой выступать в едином строю? Не думай, что сын твой не знает пощады, пусть твой Девяточка живет как знает! Твоему сыну довольно было одним глазком на него глянуть, чтобы понять – человек он никчемный. Уж как безжалостно твой сын к нему ни относился, он так ни на что и не осмелился! Хотел вынудить его на непокорность, но ты только глянь на этого слизняка: собственная жена от моих рук погибла, а он даже в реку прыгнуть не осмелился! Придется, матушка, и дальше быть безжалостным, только тогда он выживет, слишком много врагов у твоего сына!»
Ма Девятому, конечно, было не понять стараний Старшого Луна. Тот в те годы всех подмял в округе, а большому человеку без жестокости никак.
Поступать безжалостно с Ма Девятым не хотелось, и оттого, что иначе было нельзя, славившегося бессердечием Старшого Луна мучили угрызения совести. На самом деле он Девяточку жалел, но был вынужден скрывать эту жалость и никогда ее не выказывать. Он прекрасно понимал: стоит ему признать Девяточку братом, трудно даже сказать, сколько врагов начнут точить на него ножи. Здесь, в горах Улиншань, где воинские искусства были делом привычным, по традиции мужчины с женщинами не воевали, и старшим сестрам Ма Девятого ничего не угрожало. Данное матери обещание оставить ее Девяточку в живых не позволяло Старшому Луну поступать иначе. Несмотря на могущество, обеспечить кому-то абсолютно безопасную жизнь с помощью военной силы ему было не по плечу. Такое кругом лихолетье и беззаконие! Одолеть кого-то можно лишь еще большим беззаконием. Без многообещающих, многозначительных заявлений старостой Хэйваньчжая, деревни в тысячу с лишним дворов, мог запросто стать кто-то другой. Чего-чего, а распрей в борьбе за положение, за то, чтобы что-то отобрать, Лун хлебнул с лихвой. Бывало, он даже завидовал Девяточке: чем плохо – лови себе рыбу по ночам, и никаких тебе переживаний и необязательных неприятностей!
Рыба в Дуаньхэ такая, что и на небесах редкость, а на земле и подавно единственная в своем роде. Он часто вспоминал, как в детстве после занятий с отцом по метанию ножей ходил рыбачить. Отец, которому казалось, что Лун растет недостаточно крепким, удумал приучить его к рыбалке, чтобы добавить силешек. А рыба какая – пальчики оближешь! За десять с лишним лет в чужих краях жил он хоть и неплохо, но всегда вспоминал ее несравненный вкус, да и вернуться домой решил по большей части из-за нее. Местные знали, что рыбачить на Дуаньхэ – дело непростое, ни у кого это не получалось, это все равно что каторга, кто бы сомневался! Вот Лун Девяточку на это и определил. Всем он, без сомнения, говорил, мол, Ма Девятый и Ма Девятый, и ко мне, Луну, никакого отношения не имеет. Так что, кто бы с ним ни вздорил, Ма Девятого это не касалось.
Ма Девятый человек никчемный, а такие разве понимают, что всё их усердие и старания бессмысленны? Вот он и жил так же, больше по ночам, и день за днем, из года в год ловил рыбу.
Прошло немало лет, со Старшим Луном он по-прежнему не виделся, да и тот больше ничего не присылал. В округе знали лишь, что Девяточка – рыбак, и хотя он унаследовал родовой дом семьи Ма, никто из дуаньчжайских Ма не признавал в нем сына Лао Дао, своего геройского предка. Не считали его потомком рода и единокровные старшие сестры.
Он ловил рыбу, ее у него всегда кто-то брал, и он не интересовался ничем, кроме рыбной ловли. Не вспоминал и о единокровном старшем брате, которого боялся до смерти. Старшой Лун в эти годы вел себя не как прежде. Раньше всегда что-то да пришлет, даже женщину когда-то прислал. А раз ничего не присылает, ослаб и страх перед ним.
В месяц по-прежнему удавалось поймать около десяти цзиней рыбы, серебром покупатели больше не платили, иногда предлагали серебряные даяны, иногда еду. Ма Девятый много лет уже не приходил в старый дом, а вернувшись однажды, услышал женскую речь. Так перепугался, что больше и не возвращался, счел за лучшее оставаться на реке. Во сне к нему на лодку не раз забиралась мокрая женщина, всякий раз оставляя его в приятном удивлении. Из-за этого тем более не хотелось возвращаться в Дуаньчжай. Во время бдений на реке он много думал о ней, но женщина не приходила. За весь год только и явилась пару раз.
Так как домой он не возвращался, старый дом перестали считать его домом. Он прослышал, что приходившая навестить его Ма Гоува, с которой он играл в детстве, говорила, мол, Старшой Лун старый дом продал и накупил оружия, собирается вступить в смертельную схватку с какими-то красными бандитами[76]. В чью пользу в конечном счете решилась эта схватка, Ма Девятый не знал, спрос на рыбу по-прежнему был, деньги и продукты, которые оставляли покупатели, позволяли кормиться. Давно хотелось попробовать, какова рыба на вкус, но тайком оставить себе хоть одну он не решался.
Когда ему исполнилось тридцать четыре, такой случай представился. На берегу появились несколько человек в серых полотняных шапках с винтовками за спиной и стали спрашивать дорогу. Он удивленно уставился на них: надо же, на серых шапках пятиугольная штуковина из красного кумача, пощупал – не снимается. Не сердятся на него, смотрят дружелюбно. И он, глядя на них, похахатывает внутри, словно смеется, но без тени улыбки на лице. Дорогу вот спрашивают, а он и не знает, как и куда. Рыба – да, есть, но и только. Тут они принялись эту рыбу варить, и он впервые увидел, как она трепыхается в котелке. А когда перестала трепыхаться, когда вода закипела, стали подниматься и опускаться пузыри, в нос Ма Девятого проник нежный аромат. Рот тут же наполнился слюной, он старательно сглатывал ее, но чтобы есть рыбу – такое даже в голову не пришло. Как его ни звали, так он к ней и не притронулся и случаем не воспользовался.
Уходя, они оставили ему серебряный даян.
Проходил за годом год, а ежедневный улов оставался прежним – лишь с десяток цзиней.
В осень, когда ему стукнуло сорок, явился человек с винтовкой и спросил, верно ли, что он – Ма Девятый. Ма молча кивнул, в изумлении глядя на желтую шапку, на которой красовалась восьмиугольная голубая с белым звезда[77]. Потрогал – стальная. Но обладатель шапки хлопнул его по руке: «Спятил что ли?» А потом неохотно вручил пятьдесят серебряных даянов. Ма перепугался и не хотел принимать деньги, но пришелец нетерпеливо выругался: «Мое дело подневольное – хочу не хочу. Начальник сказал: утаишь хоть монету, не сносить тебе головы». Продолжая сыпать ругательствами, он вскочил на коня и ускакал.
Спустя месяц явился еще один. Он привел тридцатилетнюю женщину, а еще вручил две сотни даянов. Женщина купила дом в Дуаньчжай и два му земли. Там они и зажили.
Через год она родила сына и назвала его Ма Лаода – Ма Старшой. Ма Девятый все так же пропадал по ночам. Когда пора было ложиться спать, не приходил, а когда никто уже не спал, возвращался. В отличие от прежней женщины, эта никогда его не упрекала, она вообще ни по какому поводу не позволяла себе упрекать его, мол, не по ней жить с ним в неудовольствии, и уже когда они жили вместе, говорила, что их жизнь ее устраивает. Подход у нее был такой: приходишь – не прогоню, не вернешься – кричать «вернись!» не стану. Она и о Старшом Луне не находила причин заговаривать, словно не знала или делала вид, что не знает о его безжалостном старшем брате. Казалось, ей известно, чем кончила прежняя женщина Девяточки.
Год за годом, месяц за месяцем пролетели десять лет. Ма по-прежнему ловил рыбу. Приходившие за рыбой денег уже не платили, да он в них, по сути, и не нуждался: еда была всегда. Сначала ее приносила его женщина, потом несколько лет – старуха-вдова из деревни, которую та подрядила, а последние годы – сынок Ма Старшой.
Ма Девятому пошел шестой десяток. Он постарел, постарел не по годам. Женщина уже несколько лет не справлялась, ни как он себя чувствует, ни вернется ли домой. Девяточку это тоже устраивало, он мог в свое удовольствие дожидаться тех добрых снов, что снились ему один-два раза в год. Удовольствие в этих снах он по-прежнему получал лишь от залезавшей к нему в лодку мокрой женщины. Сын теперь тоже навещал редко, Ма чувствовал, что он на него не похож, даже чуть смахивает на старшего брата Луна: здоровый и дюжий мальчуган в десять лет был уже почти с него ростом. Потом сын перестал приносить еду и десять дней, и полмесяца, вместо него явилась Ма Гоува, с которой они играли в детстве. Голова лысая, риса с десяток цзиней на коромысле. Девяточка уже много лет не видел ее и подивился:
«Что же ты, Гоува, так облысела, бровей и то не осталось?»
«Да все обжиг руды этой киноварной, отчего же еще? – отвечала Ма Гоува. – Она ж после обжига ртутью становится, а ртуть ядовитая, раньше я на эту работу ни ногой, но в последнее время жить тяжело стало, есть нечего, дома стар и мал ждут риса в котле! Будь какой другой выход, не пошла бы, страшно. В деревне вон из тех, что на обжиге работали, все понемногу потравились, уж никого в живых-то осталось. Я и проработала всего пять лет, а вон какая стала. За эти пять, почитай, лет на двадцать состарилась!» «Ты уж больше не ходи туда, лучше с голоду помереть», – сказал Ма Девятый. «Ты, видать, не знаешь, как твой старший брат лютует, – вздохнула Ма Гоува. – Людей на прииске не хватает, так он удумал такое, что волей-неволей пойдешь. Ладно-ладно, не буду больше, рассказывать – и так расстройство одно».
Рыбы удавалось наловить лишь цзиней десять. Любовь к жизни у этой рыбешки невероятная, силища огромная. Подпрыгнет, бывало, забьет хвостом по воде, но он-то знает: как она ни сильна, из сетки ей не уйти. Ему нравилось смотреть, как полная жизни, трепыхающаяся рыбешка извлекается из воды и попадает в ведро. Нравилось слушать, как она стучит хвостом о стенки ведра. Так и проходила жизнь – день за днем, месяц за месяцем, – и ничего невыносимого в ней не было.
Но вот однажды весной тысяча девятьсот пятьдесят первого он наловил аж двадцать цзиней, а покупателей нет и нет. Он забеспокоился. Все глаза проглядел, всматриваясь в дорогу, что вилась по ущелью, в надежде увидеть кого. Прошел день, второй, он совсем уже извелся. Наконец на третий появились двое в желтых шапках. Но им, похоже, на рыбу было наплевать. Зайдя на лодку, они засыпали его вопросами, а он лишь кивал, не в силах отвести глаз от пятиконечной красной звезды на шапках. Не удержавшись, протянул руку и дотронулся до одной. «Ага, вот оно что, никакой это не атлас, из стали они». «Возвращайся домой, земляк!» – усмехнулся владелец шапки, отведя его руку.
«Мой дом здесь», – сказал Девяточка.
«Теперь тебе не нужно рыбачить по ночам, главарь бандитов Лун приговорен властями к смертной казни и расстрелян».
«Как это – расстрелян?»
«Ну, убит».
«Вы убили моего старшего брата?»
«Он что, твой старший брат?»
«Ну да», – кивнул Девяточка.
«Понятно, ты человек честный». Поднялся и сошел с лодки на берег. На горной тропинке обернулся и крикнул: «Возвращайся домой, Ма Девятый, – конец твоим темным ночам».
На другой день спозаранку Девяточка забрал рыбу и вернулся домой. Женщина встречать не вышла, из дома доносился ее плач.
Рыбу у него принял вышедший навстречу сын: «Отец, давай всю сварим и съедим».
«Вари, – согласился Ма Девятый. – Всю и вари».
Обрадованный Ма Старшой этим и занялся.
«Это, что ли, мой дом? – думал Ма Девятый, усевшись в светлой и просторной комнате. – Такой хороший дом, и чего эта женщина плачет?» Поразмыслив, не стал ее спрашивать, столько лет уже с ней не говорил.
Ближе к полудню сын принес приготовленную рыбу, женщина тоже пришла, и они всей семьей уселись за стол. Ма Старшой уплетал за обе щеки и за один присест умял десяток рыбин.
«На что похожа эта рыба?» – чуть погодя спросил Ма Девятый сына.
«Рыба как рыба, – ответил тот с набитым ртом. – На что еще ей быть похожей?».
Ма Девятый вспомнил, как в детстве отец дал ему попробовать курицы. И помолчав, спросил: «Вкус как у курицы, да?»
Ма Старшой выплюнул кость, хотел что-то сказать в ответ, но мать пнула его ногой…
Ма Девятый отправился на Дуаньхэ, решив разглядеть ее как следует при свете дня. Лодка с навесом скользила по речке из конца в конец по всей ее протяженности в пять ли. Уже стало темнеть, а Девяточка и не собирался выходить на берег. Он решил заночевать на лодке, в надежде снова увидеть, как любезная его сердцу женщина появляется, вся мокрая, из реки и забирается на борт.
Послесловие
В ту ночь возлюбленная в лодку так и не забралась и Ма Девятый проснулся в слезах. С тех пор он и канул навечно, как слеза, в воды Дуаньхэ.
Тела отца Ма Старшой не нашел. Несмышленыш, ему было всего двенадцать, он оцепенело смотрел на журчащие воды. Какое-то время спустя он вдруг спросил мать: «А почему ты плакала в тот день, когда отец вернулся?» «Не по нему я плакала, – сказала она. – Под нашим участком нашли залежи киноварной руды, и управление прииска хочет его реквизировать. А какая там земля плодородная! Теперь ничего и не посеешь». Мальчуган сделал вид, что понял, но на самом деле не понял ничего. «А чего ты тогда пнула меня, не дала ответить отцу?» – снова спросил он. Вообще-то он никаких сильных чувств к отцу не испытывал, но сегодня, когда его не стало, все же переживал в душе, вот и пытал, что она сделала не так. «Глупенький, – сказала мать. – Отец старый уже, вот вкуса и не разбирает».
Еще одно послесловие
Прошли годы, в тех краях появилась первая в стране особая экономическая зона, главной отраслью которой стала добыча киноварной руды. Киноварь, или сернистую ртуть, после переплавки именуют ртутью, это уже отдельный химический элемент.
Ма Старшой вырос и работал на ртутном прииске. Экономическая зона уже славилась как «мировой центр по добыче ртути». К счастью, к тому времени технология выплавки ртути и эффективность защиты рабочих уже значительно усовершенствовались, и это позволило ему проработать тридцать с лишним лет. Когда он уходил на пенсию, особая зона разрослась в целый город, и работало там уже нескольких десятков тысяч человек.
Через десять лет должен был наступить новый век. В один из дней день конца века ртутный прииск, который превозносили как особую экономическую зону центра добычи ртути, из-за иссякнувших запасов руды объявили банкротом. Прииска не стало, а городок остался. Осталось и правительство особой зоны.
Земли, где велась добыча, поднять было уже невозможно. Ртуть опасна для здоровья, а ее несомненно повышенное содержание в собранном на этой земле урожае никак не могло соответствовать санитарным нормам для продуктов питания.
Увы, в Тигровых горах сегодня уже нет тигров, в Утиных прудах нет уток, на склоне Зеленых Сосен нет сосновой зелени, бывает, что нет нефти в «городе нефти», нет угля в «центре добычи угля» – в этом тоже что-то есть.
Перевод И. А. Егорова
Жертвоприношение выдры
Чжао Цзяньпин
В горной реке воды немного, но течет она бурно и шумно. Лао Хуан и Мань Шуй, взяв с собою выдру, на лодке-пятидоске медленно спускались по реке, высматривая, когда где-нибудь на реке появятся всплески воды. Местами на стремнинах и порогах им приходилось выбираться на берег и, таща на себе лодку, вместе с выдрой пробираться по берегу пешком. Горные рыбаки привыкли к постоянной качке в лодке на быстрой воде, и, став босыми ногами на твердую землю, они вдруг, наоборот, начинали покачиваться и чувствовали себя неуверенно.
На третий день к вечеру, когда солнце стало садиться за синеющие в вечернем свете горные хребты, а между небом и землей натянулась черная-пречерная сеть сумерек, они наконец добрались до своей цели – до Большой запруды.
– Буду ловушку здесь ставить.
С этими словами Лао Хуан толкнул лодку носом к берегу и крепко привязал. С грохотом бросил он из лодки на берег закопченный дочерна медный таз, а следом два подковообразных железных крюка.
Мань Шуя бил озноб и, как будто обращаясь к серой куче на корме, он пробурчал под нос:
– Говорят же, никаких выдр на этой реке давно не осталось… И чего ловушки ставить?!
– Это… совсем не обязательно… И пусть это уже не кормит, но, может, повезет и наткнемся хоть на одну! – С этими словами Лао Хуан спрыгнул с лодки и, расправив свою широкую спину, ушел.
Узкую полоску этого берега покрывал слой иссиня-черного пятнистого сухого мха. Противоположный берег реки был высоким и резко обрывался. От ряби на воде отражения утесов в реке причудливым образом постоянно менялись. Где-то посреди из толщи воды торчал огромный валун, о который шумно разбивались волны, издавая мучительный протяжный вздох.
На носу лодки рыбак ржаво-черным ножом разделывал рыбу. Тонкая кожа легко поддавалась лезвию. Нож разрезал рыбеху сначала пополам и, едва раздвинув половинки в разные стороны, продолжал свое движение. Следующий звонкий разрез – и вот уже четыре куска. В конце концов Мань Шуй разрезал рыбу на мелкие кусочки с палец толщиной и сложил их в деревянный черпак. Рукоятка ножа гулко брякнула, упав на дно ковша. Бросив все в лодку, Мань Шуй спрыгнул в воду, но далеко уходить не стал. Он снова повернулся и в нерешительности замер, глядя на нос лодки, откуда доносился стойкий запах крови.
Лодка чуть покачивалась на волнах. Привязанная выдра, словно по команде, подошла с кормы. В этом сумеречном свете животное очень походило на призрак. В бурой сверкающей шкурке со сложенными короткими лапками и приподнятыми вверх коротенькими ушками, выдра принялась бесшумно лизать приготовленные для нее в черпаке рыбные кусочки.
Лао Хуан собрал на берегу хворост и развел костер, над которым подвесил закопченный медный таз, до краев заполненный водой, и принялся бросать туда пойманных симов с тщательно промытым маслом брюхами. Когда вода начала постепенно закипать, рыба в котле забилась в агонии и мучительно трепыхалась там, пока глаза ее не побелели и по воде не пошли белые нити мутной накипи.
Рядом с Лао Хуаном в песок были воткнуты воротцами два весла. В просвете этих ворот серый валун посередине реки был похож на бастион, мрачно закрывавший собою всю реку. Черная птица, одиноко сидевшая на каменной глыбе, вдруг крикнула разок-другой и стрелой исчезла в черных утесах.
Чуть ожив, мартовская ночь снова погрузилась в свое холодное безмолвие.
Мань Шуй чувствовал пронизывающий холод. Постоянно поджимая то одну, то другую ногу, а руки сложив на груди, он смотрел на выдру в лодке, сам как будто пребывая в оцепенении.
В устье реки Уцзян в споре за передел пруда Лао Хуан переломал как-то всем рыбакам весла, за что его осудили на 3 года. Во время ареста этот всю жизнь попадавший в разного рода передряги суровый мужчина, так и не сказавший ласкового слова ни жене, ни двум маленьким детям, от глубокой и нежной привязанности к своей лодке и ручной выдре лил слезы в три ручья.
Выдра, оказавшаяся очень сообразительной, словно почуяла нависшую над ней угрозу и, продолжая все время поскуливать, стала вырываться, мотать из стороны в сторону головой, затягивая веревку на шее все туже и туже.
Разве мог Лао Хуан не беспокоиться?! Куда вода – туда и лодка, куда лодка – туда и человек. От зари до зари, от заката до рассвета… каждый день похож на предыдущий, все знакомо и идет по накатанному, но если вдруг что-то оказывается не так, как обычно, сразу начинаешь волноваться и беспокоиться: с привычным трудно расставаться. Выдра эта, купленная с рук, хотя и была со сломанной в западне лапкой, все-таки была хорошей выдрой. Зверьки эти вообще очень трепетные, тем более если они ранены. Тогда Лао Хуан каждую ночь бегал к партийному секретарю Вану, у которого в Юньнани в армии был сын. Как говорили, настоящий женьшень был только у них там, и его можно достать только по почте. Рыбаку было очень нужно это лекарство. Партийный секретарь постарался, и порошок доставили быстро. Лао Хуан готовил выдре рыбные шарики, добавляя туда это чудодейственное лекарство, и любимая выдра пошла на поправку, ее раненая лапка была вылечена.
Трудно приручить корову, трудно объездить лошадь, а уж выдрессировать выдру требуется огромное терпение. Выдры живут в темноте, а тут ее нужно вытащить на яркий свет да дождаться, чтобы она привыкла к нему. Тогда можно начать приближаться, найти подход к ней, выждать момент и коснуться. Приближаешься к ней до тех пор, пока она не развернется своим гибким телом, не оскалит острые зубки и легонечко куснет тебя. Пойдет кровь, но нужно перетерпеть боль и все так же спокойно, как и раньше, продолжать сближение. И только тогда она поверит, что нет у тебя злых помыслов, только тогда перестанет защищаться и постепенно привыкнет к тебе.
А вот натаскать выдру ловить рыбу, какую именно рыбу, как приносить ее, зависит от умений хозяина. Дикая выдра – это бронза, а ручная выдра – золото! Все в жизни Лао Хуана – и женитьба, и воспитание детей – все как-то шло само собой, только на приручение выдры у него ушло очень много сил. А теперь совсем другое дело: выпустил ее в реку, она рыбу тебе приносит, чем не золотая пора?! Кто ж мог знать, что долгий путь к благополучию будет перебит этими поломанными веслами.
Схватившись за свою высушенную грудь, всю в кровоподтеках, он уже ушел очень далеко, потом обернулся и, вытянув шею, крикнул жене:
– Сокровище… выдра моя!
Вот такой был этот Лао Хуан. К тому времени жена уже ни в какую не хотела с ним оставаться, братья ее все как один, были подрядчиками с замашками богачей. Как только Лао Хуан отправился отбывать наказание, шурины тут же увезли его жену с детьми к себе. А бедная выдра, признававшая только Лао Хуана и знавшая только одну лодку, предпочла бы умереть, чем уехать с кем-нибудь. Шурины пару раз пытались ее увезти, но так и не смогли даже приблизиться к ней. Она дико рычала, как разозленный тигр, и однажды, метнувшись молнией, прокусила зубами мужчине руку. Рассудив, что ничего не выходит, женщина решила тут же продать выдру, но запросила за нее тысячу монет. Выдра для бывалого рыбака всегда настоящий друг, и дружба их дороже денег, при дележе она тоже получала свою долю, как и человек. А уж продать ручную ловчую выдру – это позор, каких свет не видывал!
Но что еще оставалось делать женщине?! Соседи собрались на берегу реки, и, вздыхая и всхлипывая, принялись судачить: лодка-пятидоска далеко не новая, не стоит почти ничего, а вот выдра-то самка, а они гораздо послушнее самцов. Да и умения этой ручной выдры все видели, тут все было по-честному. Видно совсем безнадега, раз продают ее сейчас.
Мань Шуй, скрепя сердце, переселился из пятикомнатного дома с черепичной крышей в маленький двухкомнатный деревянный домишко и выкупил натасканную плыть за лодкой выдру.
Кто ж знал, что уже прирученная выдра в новых руках снова дичает. Мань Шуй, кроме как пускать ворон, не особенно много умел, а выдра совсем другое дело, тут надо было быть осторожным. Взяв с собою денег на дорогу, он отправился в Цзуньи к Лао Хуану, думая разведать характер выдры, чтобы пользоваться ею так же, как раньше Лао Хуан.
Услышав, что и лодку, и выдру продали, Лао Хуан в тюрьме стал от горя выть не своим голосом и успокоился, только когда утихомирить его вышли смотрители. Поразмыслив, он понял, что раз уж Мань Шуй так далеко приехал к нему, чтобы узнать и понять эту выдру, значит, все-таки не так все плохо, и хозяин из него может получиться неплохой. Тогда Лао Хуан в подробностях и без утайки рассказал Мань Шую все о выдре.
Дрессируя выдру так же, как и Лао Хуан, Мань Шуй быстро понял ее. Он по-прежнему делил еду на три кучки – большую, среднюю и маленькую – и строго следовал принципу награды в зависимости от пойманного. Поймала большую рыбу – ешь вдоволь, поймала мало – ешь мало, а если ничего не поймала и лезешь в лодку, только лодки коснулась – тут же иди обратно в воду. Так со временем выдра снова привыкла слушаться и работать. Нет рыбы – она ищет ее по пещерам. Если ей не удается пролезть в узкую щель, она развернется, засунет туда свой сильный хвост и начнет им быстро-быстро крутить, пока не выгонит рыбу наружу. Если попадается мелкая рыбешка где-то в цзинь весом, выдра ее хватать не станет, а зажав хвостом, сразу тащит наверх. Большую рыбину весом в двадцать с лишним цзиней ей с места не сдвинуть, так она сначала схватит ее за плавники, хвост перегрызет, большой рыбе всплывать становится тяжело, силы у нее быстро кончаются, и она безвольно дает выдре утащить себя на поверхность воды.
И вдруг ручная выдра стала теперь совсем другой, совершенно забыв все, чему была обучена. Для речных выдр, натасканных на лов рыбы, она была еще совсем не старая. Она могла есть, нырять под воду и совсем не походила на больное или стареющее животное. Мань Шуй даже пробовал кормить ее женьшенем, купленным втридорога.
Трудно представить, как такое могло случиться, но снова все шло не так, как надо. Глядя на эту ставшую вдруг снова такой чужой выдру в своей лодке, Мань Шуй почувствовал уныние, глубокое страдание и боль. Тогда рыбак выпустил ловчую ворону. Если и птица не станет, летая над водой, нырять за рыбой в воду, это совсем дурной знак, тогда рыбаку ничего другого не останется, как собрать сети и возвращаться с пустыми руками.
С выдрой точно что-то случилось: уйдя под воду, она не ловила больше рыбу. Если хозяин не кормил ее, она начинала грызть деревянные борта лодки. А если кто подходил к ней поближе, то в страхе она, как дикий зверь, свирепо нападала на него. Вот и еще один дурной знак! Если бы не договоренность с Лао Хуаном, лучше вообще не выходить на реку.
Над утесом показался месяц в ярко синем небе. Огромная тень от гор, словно распростершая свои мрачные крылья над долиной, накрыла собою реку, которая погрузилась в удушливое безмолвие, и только в середине реки чуть поблескивал в лунном свете тот серый камень.
Широко надувая щеки, Лао Хуан долго и тщательно пережевывал рыбу и наконец проглотил ее. Вытерев рот подолом, он встал и, взглянув на Мань Шуя, отошел от уже потухшего костра, в задумчивости прошел между двух воткнутых в песок весел и отнес что-то на прибрежную полосу мокрого песка.
Порыв ветра с низовий реки, пронизанного на закате тонкими весенними ароматами, освежил воздух в долине и принес с собою два больших облака, разделенных узкой полоской чистого неба. В своем постоянном дрожании и волнении эти облака были тоже похожи на реку с волнами и водоворотами.
– Я ловушку поставил. В воду не лезь.
Вернувшись тяжелой поступью, Лао Хуан оглянулся и, как будто обращаясь к безмолвному и пустынному берегу реки, сказал что-то явно злобное и враждебное, и, согнув широкую спину, тяжело опустился на землю. Посидев какое-то время в молчании, словно раздавленный тяжелым безмолвием этой ночи, он тяжело повалился на землю.
Мань Шуй встал и пошел туда, где была привязана лодка. Подойдя поближе, с кормы лодки он услышал свист, замедлил шаг и тоскливо, но спокойно вздохнул. Вернувшись, он лег сбоку от Лао Хуана, по молчаливому согласию засунув свои ступни к нему под одежду и прикрыв собственным халатом полуобнаженное тело рыбака. Каким-то внутренним чутьем Мань Шуй почувствовал, что Лао Хуан не спит, как будто подслушивая и подглядывая за кем-то. Сердце его мучительно сжалось…
После строительства электростанции в устье реки Уцзян и сооружения дамбы все пути и подходы для выдр были отрезаны. Эти зверьки не могут перебраться через препятствие выше одного чжана; учуяв человеческий запах и не слыша шума волн, они вынуждены с полпути вернуться обратно в воду. Выдр становилось все меньше и меньше, а Лао Хуан продолжал расставлять свои ловушки все дальше и дальше. Вернувшись с трудового перевоспитания, Лао Хуан поначалу скинулся с Мань Шуем на покупку лодки. Старая лодка-пятидоска уже разваливалась, дно у нее прохудилось, и Мань Шуй решил сменить ее на новую. Но выдра в лодке была все та же, и команды ей отдавали оба хозяина – и старый, и новый.
По всей реке Уцзян было известно рыболовное умение Лао Хуана. На веслах он ходил, как палочками работал, а сети бросал, как ситом махал, очень уж лютовал старый рыбак. За сетью следовала ловчая ворона. Рыба, пытаясь спастись, подпрыгивала над сетью, так он еще и весло в руках держал, чтобы ни одну не упустить. Но сейчас, когда он стал рыбачить с Мань Шуем в лодке, всем стало ясно, что он по-прежнему любит свою выдру. Ведь это именно он на свои кровные лечил ее, приручал, потом стал пускать в воду за рыбой, а теперь всем этим пользуется кто-то другой. Как такое могло ему нравиться?! Но это всего лишь переживания, умысла силой вернуть ее себе у него не было.
Откуда ж Лао Хуану было знать, что памяти у выдр нет, она просто его забыла. Больше двух месяцев ходил вокруг нее Лао Хуан, но так ничего и не добился. И даже наоборот, выдра как будто что-то почуяла и стала намеренно убегать от Лао Хуана, злить его. Если Мань Шуя не было в лодке, она в воду не шла; а из воды вылезет, нет Мань Шуя, она отвернется и опять в воду прыг. У Лао Хуана каждый раз душа уходила в пятки, выдра принимала человека за выдру, и постепенно он ею и стал на самом деле. В порыве гнева Лао Хуан обругал эту дрянь непомнящую на чем свет стоит и ушел с лодки Мань Шуя. Завел свое собственное хозяйство, и ладно бы просто потратился, но и рыбы в реке было уже не так, как в былые времена, да и силы его стали уж не те, что раньше. В результате Лао Хуан смастерил несколько железных капканов и занялся истреблением выдр. Когда в реке не останется рыбы, рыбаки побросают свои сети и займутся чем-нибудь другим, тогда и выдра сразу перестанет быть такой ценной! Шкурка у выдры отличная, шерсть густая, воду не пропускает, из нее получаются отличные кожаные вещи и воротники на одежду, а печень выдры – это ценное лекарство в китайской медицине, довольно эффективно лечит целый ряд серьезных болезней. Стоит печень дорого, а если срочно кому понадобится, так сразу дорожает еще больше, и можно заработать даже больше, чем с продажи живой выдры целиком.
Как и в рыбалке, в истреблении выдр Лао Хуан меры не знал и практически потреял на этом разум. Из остроги он, отпилив два зубца посредине и оставив два по краям, сделал себе рогатину. С этой рогатиной в руках, в синем платке вокруг головы и плетью вокруг пояса и заткнутой туда флягой, он был похож на настоящего первобытного дикаря. Все соседи при виде его пугались, боялись даже смотреть в его сторону и говорили, что это он всех выдр на этой реке и повывел. Свою добычу, если выдра не погибла в капкане, он каждый раз зажимал за шею своей рогатиной и топил на мелководье, чтобы как можно скорее покончить с нею. Руки у него давно не дрожали, а сердце не трепетало. Шкуру снимет, печень вырежет и, покачиваясь из стороны в сторону, уходит. А окровавленная тушка выдры так и останется, брошенная у реки. Речная вода окрашивается цветом и запахом крови и разлагающихся трупов животных. Людей от такой воды тошнило, а животных валила эпидемия. Когда труп полностью разлагался, на берегу оставалась лишь кучка белых костей, которую смывало большой волной, и только тогда постепенно исчезал запах крови и разложения. Но уже через год рыбаки на реке перестали замечать какие-либо следы пребывания выдр. Если вдруг в капкане не оказывалось пойманной выдры, Лао Хуан впадал в уныние. У человека, привыкшего целыми днями только и делать, что свежевать тушки животных и доставать печень, сердце давно уже окаменело, и ничто не могло больше тронуть его или заставить заняться чем-то еще в этой жизни.
И вот пришел день, когда Лао Хуан, стоя на носу утлой лодчонки, обращаясь к своим соседям, то ли от радости победы, то ли от тоски поражения крикнул, что не осталось больше на этой реке выдр совсем. И весь в слезах то ли от воодушевления, то ли от горя он сильным рывком швырнул свою самодельную рогатину, и описав в воздухе дугу, она далеко-далеко ушла под воду. А Лао Хуан в безумстве бегом вернулся домой, напился до бесчувствия и стал кататься по земле со связкой выдрьих шкурок в руках.
От лежания на песке затекла спина, Мань Шуй разогнул ноги, чуть отодвинулся назад, решив, что лучше бы сесть. Никто не заметил, когда рассеялись те два облака и вновь показалось бесконечное небо цвета индиго. Серп месяца уже пересек долину реки и криво повис напротив среди скал. Спустился небольшой туман, все вокруг застыло, как в ледяном сне. Была уже глубокая ночь.
По словам Вана, деревенского старосты, рыбы в этой реке становилось все меньше. Выйдешь рыбачить дня на три, бросишь там-сям сети, а уловато прокормить своих еле-еле хватает, да на выдру чуток. Такой жизни Мань Шуй навидался вдоволь и жить так дальше ему совсем уже не хотелось. Сколько можно ему в его тридцать с лишним лет в самом расцвете сил вечно гоняться за рыбой, но и ручная ловчая выдра стоит аж тысячу юаней, почти как полдома по деньгам! Не так-то легко на такое решиться.
На электричестве, что появилось в устье реки Уцзян со строительством гидростанции, в деревне построили карбидный завод. В управляющие выдвинули секретаря партийной ячейки Вана, свои люди везде нужны. Мань Шуй пришел к старосте Вану устраиваться рабочим на тот завод, все-таки они со старостой росли на воде из одного колодца и без задней мысли пригласил земляка пообедать.
– Земляк нашелся, дело какое есть до меня? Хотели меня в старосты?! – он бил себя в грудь, открыто и без утайки. – Я все улажу! Ну давай, выпьем!
Поел-попил за чужой счет, а про работу на заводе речи так и не дошло, словно выкинул на ветер кучу денег. Мань Шую стало совсем не по себе.
– Ты у нас на реке… за последние пару лет хоть одну выдру видел? – староста уже порядком захмелел. – У меня тут… у отца приступ сердечный случился, нужно найти печень выдры… черт… нет ее нигде!
Мань Шуй с сомнением покачал головой:
– За эти два года Лао Хуан был невыносим и повывел всех выдр на реке. Им со стороны Уцзяна не зайти, плотина им путь перекрыла.
– Лао Хуан…будь он проклят… только и знает, что позорными вещами заниматься. А сын его еще хотел на завод устроиться! Ну, выпьем!
Поставив стакан, староста Ван дружески хлопнул Мань Шуя по плечу:
– Езжай к себе! Будет время, заглядывай. Все равно рыбы в реке стало мало, если будешь по-прежнему баловаться сетями да выдрами, толку не будет.
Мань Шуй побагровел лицом.
После возвращения он не мог спать несколько ночей подряд. Выдра была заперта тут же где-то в углу, она постоянно скулила, отчего хозяин беспокоился еще больше.
Уже очень давно он не выходил на рыбалку. И с какого момента эта выдра стала вести себя не так, как обычно? В таком состоянии от нее толку никакого. У человека к выдре есть сострадание, а у выдры к человеку обязанность, работая в паре в дождь и непогоду на реке, они привязываются друг к другу. Пустить ее на лекарство у кого рука поднимется?! Мучаясь от подобных мыслей и не найдя выхода из этого тупика, Мань Шуй пошел к Лао Хуану, чтобы тот взглянул на выдру, есть ли шанс поправиться. Если, и правда, нет противоядия, то устроится он тогда на завод. Скрепя сердце, ведь все равно больше не будет заниматься он рыболовством, рукой палача добудет эту печень для лекарства.
Пришел Лао Хуан, долго-долго издалека дразнил палкой животное, потом спросил:
– Сбегала?
Мань Шуй задумался и вспомнил об одном случае прошлой зимою у большого валуна: в тот день выдра поймала толстолобика весом более 10 цзиней. Давно ей не попадалось такой большой рыбины. Хорошо поев, она снова ушла под воду и очень долго не возвращалась. Глядя на этот наполовину утопленный в воде, но высоко торчавший на середине реки валун, Мань Шуй начал волноваться. На прибрежном мелководье постоянные течения подтачивают скалы, образуя подводные пещеры ли вымывая песок со дна реки. Об этих изгибах рельефа, недоступных для глаза человека, выдры знали очень хорошо. Там было безопасно и удобно. Поэтому выдры устраивали там свое логово. Мань Шуй взял бамбуковую трубку и стал обшаривать ею эти щели в камнях. Он поджег красный перец и наобум сунул внутрь. Если обычно таким способом удавалось найти лазейку и попасть в нужное место, то выдра, не в состоянии вдохнуть, выбиралась из пещеры наружу. Но на этот раз Мань Шуй обшарил все щели, от постоянного дутья лицо его раскраснелось и побагровело, но даже тени от выдры он нигде не онаружил. Потеряв всякую надежду, он сел на носу лодки, с шумом опрокинул тыквенный ковш с кормом и начал трясти оловянными грузилами и деревянными поплавками на сети. Монотонный стук звучал упрямо, призывая выдру выйти поесть. На шее у выдры был повязан веревочный ошейник, который давал ей возможность схватить рыбину, но не позволял проглотить ее. Проголодавшись, животное выходило на стук, чтобы поесть готового корма. Но на этот раз Мань Шуй испортил уже два ковша, выстукивая свою выдру, звал ее два дня и две ночи, но она не появлялась. К концу четвертого дня, когда солнце уже клонилось к закату, Мань Шуй в бешенстве швырнул оба испорченнных черпака в возвышавшуюся над водой каменную глыбу, подхватил с песчаного берега весла и печально двинулся на веслах против течения в сторону дома. В этот момент со стороны кормы в лодку из воды влезла пропавшая выдра и трусливо посмотрела на Мань Шуя. Рыбак сначала опешил, а потом радостно схватил выдру, чуть не перевернув лодку своим прыжком. Он сжал эту нечисть не то в радостных, не то в ненавидящих объятьях, а она своими острыми зубами прокусила на его руке две дырки. Он словно одеревенел, утратив всякую чувствительность.
После этих слов глаза Лао Хуана угрожающе вспыхнули, теперь он в молчании то качал головой, то кивал ею. Через пару дней он прибежал к Мань Шую и стал горячо, как заправский рыбак, звать того выйти на реку. У него явно было что-то нехорошее на уме, но Мань Шуй ничего не подозревал и ни о чем не догадывался.
На рассвете услышав возню, стук и звон железа, Мань Шуй и Лао Хуан вскочили почти одновременно. Вокруг все еще пребывало в глубоком сне. Лао Хуан достал из песка весло и побежал с ним по мокрому песку к воде. Мань Шуй удивился и замер на мгновение, но потом, как будто очнувшись, подхватил второе весло и поспешил вслед за Лао Хуаном. Под покровом ночи Мань Шуй увидел огромную выдру, из последних сил яростно боровшуюся в капкане на берегу недалеко от лодки. Выдра то сжималась в клубок, то вытягивалась, тяжело дышала в смертельной агонии, непрерывно скуля, не то чтобы с плачем, а скорее с досадой. Было ясно, что это был могучий самец выдры, у самок не бывает такого громадного тела и столько силы. Лао Хуан был зорок глазами и скор на руку, ударом первого весла он завалил выдру на песок, перевернув ее в капкане. Затем то ли с тревожным, то ли с радостным криком он другим веслом зажал выдре голову. Животное старалось вырваться изо всех сил, но весло так и ходило с громким стуком вверх-вниз. Толстый хвост огромной выдры дернулся пару раз, она опрокинулась на землю и больше не трепыхнулась. Лао Хуан собрал весла, воткнул их в песок, глубоко вздохнул, почувствов радость и усталость победы.
– Лао Хуан! Ты?… Этот валун… там же еще выдры или…?
Голос Мань Шуя слегка дрожал, как будто он только очнулся от дурного сна, но все еще был в страхе и ужасе от увиденного.
– Тупица ты! – Лао Хуан даже не посмотрел в сторону Мань Шуя, уставившись на освещаемый лучами восходящего солнца валун посредине реки так, словно перед ним лежал поверженный им мир. – Выдра твоя беременная, а под валуном жил самец. Скажу, что это была самая последняя выдра на этой реке, и это был муж твоей самки. Точно говорю! Эх ты… Мань Шуй! Ну ты и дурак!
Мань Шуй крепко схватил весла, с трудом сдерживаясь, чтобы не ударить. При дневном свете щеки его побагровели, в глубине души он чувствовал себя опозоренным, обессиленным и подавленным, преисполненным ненависти к самому себе. Лао Хуан нагнулся, со скрипом разомкнул стальные челюсти дугообразного капкана и вынул тяжелое тело самца. На прохладном речном ветру в предрассветных сумерках слились воедино палач и жертва, человек и выдра. Эта сцена, освещаемая яркими лучами восходящего солнца, – Лао Хуан с созданием в бурой шкуре на руках – совсем не походила на жестокое истребление, а наоборот, скорее напоминала торжественный обряд, священный и величественный в своей красоте.
Кровь из уголка рта выдры стекала между пальцев Лао Хуана, капала на берег, окрашивая высохший мох на берегу. Лао Хуан схватил кинжал, собираясь как ни в чем не бывало продолжить свое кровавое дело. Но в этот момент с носа лодки к нему метнулась самка выдры. Рывком тяжелого тела она молниеносно впилась Лао Хуану в руку, старый рыбак, застигнутый врасплох, злобно вскрикнул и повалился на землю, выронив нож и тело самца.
Глядя прямо перед собой на эту дико дрожавшую беременную выдру, Лао Хуан сжал кровоточащее запястье и стал хвататься за весло, однако Мань Шуй обеими ногами наступил на него и гневно уставился на Лао Хуана. Старик-рыбак испугался и впервые за свою жизнь в этой речной долине почувствовал одиночество и страх. Этот утес, возвышавшийся посередине реки, был стеной эха, холодная водная гладь – зеркалом. Он боялся услышать себя, боялся увидеть свое отражение.
Тем временем сорвавшаяся с привязи самка выдры со вздыбленной бурой шерстью, с выпученными и налитыми кровью глазами, словно натянутая стрела в борьбе с новым и старым хозяевами, захватив тело самца, уволокла его в реку, и оно стало медленно погружаться в воду. На поверхности показались тонкие полоски крови, но их быстро размыло волной. Оба рыбака в растерянности следили за выдрой, потрясенные чем-то древним и одновременно очень необычным и новым для себя перед лицом бесконечной тишины и беспредельной вечности.
И вдруг тишину речной долины разорвал мучительный вой. Мань Шуй подхватил весло и махнул им так, что сбил Лао Хуана с ног. Затем он отбросил весло и в бешенстве кинулся наземь. Сцепившись в клубок с Лао Хуаном, они стали кататься кубарем по берегу реки. Одежда их разорвалась, оголив мужские тела, покрывшиеся синими и фиолетовыми пятнами. И только когда из их черных, как у крабов, ртов пошла белая пена, они перестали драться и кататься, расцепили руки и, словно два куска мяса, в изнеможении разлеглись на берегу под палящими лучами солнца, не прикрытые ничем.
Время тянулось мучительно медленно, как будто прошел целый век. Лао Хуан съежился, сложив руки на груди. Снаружи он весь был в кровоподтеках, а внутри него горел обжигающий огонь, от которого ему стало невыносимо больно. Он все время рыдал и продолжал кричать одно и тоже:
– Я не… печень… только ради лекарства… а что было делать… ууу… дети… сын мой… это все из-за печени выдры.
Взошло солнце, такое же яркое, как и вчера. Через какое-то время долина наполнилась прекрасным утренним светом зари. На прибрежной полосе у носа лодки были по порядку разложены около десятка рыбех: уж такая манера у выдр разложить рыбу по размеру, как для жертвоприношения, и наслаждаться ею неспешно. Несколько ленков еще не сдохли, в бессилии вытянув свои красные хвосты и отчаянно подергиваясь в солнечном свете.
Мань Шуй закрыл глаза, чувствуя сильную боль. “Моя выдра”, – причитал он все время про себя. То было не сожаление, не тоска. Трудно сказать, сколько времени прошло, но когда рыбак снова открыл глаза, то увидел торжественно-прекрасную картину: вспыхнули под солнцем высокие утесы, наполовину скрытые водой, вспыхнул возвышающийся посреди реки серый валун. Выдра взвалила себе на спину тело уснувшего самца и втащила его на самый верх валуна. Как будто черно-красное пламя взметнулось высоко в небо. Глядя прямо перед собой на берег реки, на лодку, людей, капканы и весла, на разложенную и несъеденную жертвенную рыбу, она приподнялась, чуть наклонив свое тело, и словно соединившись с небосводом, жалобно взвыла. Через мгновение выдра тяжело рухнула рядом с телом самца. На большом валуне вспыхнули два костра.
Перевод Е. Н. Колпачковой
Духи́
Ван Хуа
Пэн Жэньчу был видным мужчиной приятной наружности, вот только одна нога у него была короче другой из-за перенесенного в детстве полиомиелита. В деревне его считали калекой и при случае норовили как-либо ущемить. Он работал учителем в сельской начальной школе, это была негосударственная школа, открытая на средства односельчан. Он единственный в деревне умел красиво выводить иероглифы. Его кисти принадлежали все парные надписи, которые вывешивали на дверях накануне Нового года, а когда у кого-то в доме была свадьба или похороны, без него тоже было не обойтись – его приглашали вести записи в книге гостей. В школе он тоже был незаменим, когда надо было выпустить стенгазету ко Дню образования КНР или основания партии. Пэн Жэньчу гордился своей значимостью, которая не только скрашивала его физическую ущербность, но и давала основание ставить себя повыше окружающих.
Ему очень нравилась Чэнь Лили – учительница той же школы. Он никогда не проявлял своих чувств открыто, но особенно и не скрывал. Чэнь Лили была замужем, поэтому он считал, что признания в любви неуместны. Сотрудники же были уверены, что его поведение – не что иное как проявление малодушия. Они подначивали его одним и тем же вопросом: «Когда ты наконец решишься открыться ей?».
Чэнь Лили была самой красивой учительницей. В те времена далеко не всякая женщина решалась красить губы и пользоваться духами, опасаясь пересудов. А она считала это само собой разумеющимся. Как настоящая красавица, она не боялась злых языков, те и помалкивали. Чэнь Лили хоть и была привлекательна, но не зазнавалась, люди к ней тянулись. Многие крутились вокруг нее, в том числе и Жэньчу, но окружающим почему-то казалось, что Пэн Жэньчу своим увечьем оскорбляет красоту Чэнь Лили. В школе из тридцати учителей большинство составляли женщины, а учителя-мужчины при случае стремились попасть в поле зрения красавицы, в том числе и Пэн. То и дело над ним подтрунивали: «Учитель Пэн, тебя кто-то разыскивает, похоже, твоя жена». Откуда же у него жена? Над ним насмехались не со зла, просто очень не хотелось людям видеть, как он увивается вокруг Чэнь Лили. Если он не двигался с места, все равно находили что сказать: «Да тебя не проведешь!».
Пока сослуживцы отирались вокруг красотки Чэнь Лили, остальные учительницы затеяли возбуждающую игру со стягиванием штанов, желая привлечь к себе внимание. Если поблизости не было учеников, то женщина могла подкрасться сзади и стянуть штаны с мужчины сослуживца. В те времена мужчинам нравилось носить тренировочные штаны с двумя красными полосками по бокам, падавшие вниз от одного резкого движения. Такие же штаны были у Пэна, но со всех мужчин учителей штаны стягивали, а с него ни разу. Ему очень не нравилось быть таким исключением, он решил пойти против моды и больше не носить штаны с лампасами. В результате он вновь стал единственным учителем, который не носил спортивные штаны, зато стал непохожим на других.
Пэн Жэньчу заинтересовался искусством пользования помадой, ради этого он даже съездил в уездный город и в самом большом книжном магазине купил книги о помаде. Он старательно изучил привезенные книги и вновь принялся крутиться перед Чэнь Лили, которая начала смотреть на него по-другому. Широко раскрыв свои большие красивые глаза, она не моргая слушала, как он бахвалится вновь обретенными знаниями:
– В период между 1660 и 1789 годами во Франции и Англии среди мужчин была в моде помада.
– Вот как! Я никогда не слышала, что мужчинам тоже нравится помада, – Чэнь Лили была приветлива со всеми, но беседуя с Жэнь-чу, она проявляла искреннюю радость.
– Мужчины Древнего Египта тоже любили помаду, но они в основном использовали черный, оранжевый и лиловый цвета, – продолжал Пэн.
– Ух ты! У меня тоже есть лиловая помада, – Чэнь Лили поискала в ящике стола и показала ему, – у них была такая же, как эта?
Он внимательно ее рассмотрел:
– Должно быть, вот только в те времена она была другой формы, помада в тюбике была впервые изготовлена в Америке в 1915 году.
– Ой! – Лили принялась рассматривать в зеркальце свои губы, с которых стерлась помада, и вновь их подкрасила лиловым цветом.
При виде ее влажно блестящих манящих губ в душе у Пэна всколыхнулось странное чувство. Его будто черт дернул за язык, и он вдруг выдал:
– Некоторые социологи считают, что украшать раньше всего начали половые органы, губы – вызывают ассоциацию с влагалищем, накрашивание губ – это намек на секс.
Чэнь Лили бросила на него быстрый взгляд, лицо ее словно окаменело. Пэн Жэньчу было подумал, что ему крышка, благо тут в их разговор вмешались: «Учитель Пэн, опять ты тут топчешься, к тебе жена пришла, беги к ней». Он было намеревался уйти, как Чэнь Лили неожиданно встала на его сторону. Раньше когда кто-то пытался отогнать Пэна прочь от нее, красотка лишь безразлично посмеивалась. Тут она впервые серьезно заявила встрявшему в разговор:
– Это к тебе жена пришла, вот и иди к ней, у нас со стариной Пэном серьезный разговор.
Пришлось тому убраться восвояси.
– Старина Пэн, продолжай.
Хитрый план сработал: его россказни вызвали интерес Чэнь Лили, более того, она жаждала слушать дальше. Не переводя дыхания, Пэн продолжал разглагольствовать:
– Исторические данные говорят о том, что для изготовления первой помады использовали сок деревьев, им красили губы. Позднее сок растений начали добавлять в масло, получались румяна, которые можно было наносить на губы и щеки, их хранили в глиняных банках. А в Китае появилась даже «помадная бумага», соком растения окрашивали промасленную бумагу. Наводя красоту, женщины слегка натирали такой бумагой губы.
Археологи обнаружили, что первая в мире помада была сделана пять тысяч лет назад в шумерском городе Ур. Выходит, что как только появились женщины, появилась и помада. Женщины любят прекрасное, поэтому помада стада незаменимым средством придания красоты. Во времена королевы Виктории считали, что помадой пользуются только проститутки, ее использование было запрещено. Пуритане, первые переселенцы в Америку, не пользовались помадой, но женщины, желая выглядеть привлекательными, тайком натирали шелковым платком губы, чтобы они выглядели более яркими. И так продолжалось до XIX века, когда в моду вошла мертвенная бледность, помада и вся косметика перестали использоваться.
Тем временем родители Пэна были крайне обеспокоены женитьбой его младшего брата Пэн Жэньшаня, которому исполнилось двадцать пять лет. Родители настаивали на соблюдении очередности, пока старший не женится, младшему подыскивать невесту нельзя. Если семья нарушит эту традиционную очередность, то старший подавно не женится. Родители изо всех сил старались подыскать ему ровню. Но Пэн Жэньчу очень раздражал такой подход, ни одна девушка ему не понравилась. Однажды отец с матерью завели с ним серьезный разговор:
– Твоему брату в этом году исполняется двадцать пять, – говорила мать, – если сейчас не решим вопрос твоей женитьбы, то потом подавно не будет о ней речи.
Во время разговора Пэн Жэньчу держал в руках книгу в яркой обложке про духи. Ее он тоже купил в самом большом книжном магазине уездного города и тоже ради того, чтобы привлечь внимание Чэнь Лили. Углубляться в изучение помады дальше было некуда, сведения из книг были исчерпаны. Поэтому он решил обратиться к изучению духов: чтобы понравиться Чэнь Лили, он был готов изучать что угодно.
Когда родители завели разговор о женитьбе, он, склонившись над книгой, и ухом не повел. Родители были не против чтения, для учителя это обязательное занятие. Но им хотелось уважения к себе, поэтому отец повысил голос:
– Ты хотя бы пукнул в ответ! А ну-ка подними голову и скажи «подыщите мне кого-нибудь побыстрей».
Мать тоже рассердилась:
– Мы уже подыскивали не раз, тебе ни одна не понравилась, мыто думали, что у тебя кто-то есть на примете.
Разглядывая большой флакон с духами на картинке, Пэн Жэньчу подумал: «У меня есть кое-кто на уме, но не все от меня одного зависит».
Родители продолжали:
– Скажи, какая девушка тебе может понравиться?
– Она не должна быть слишком уродливой, и тем более инвалидом. – Своим равнодушным видом он показывал, что его требования не завышены.
– Но ведь ты сам инвалид, – ответил отец.
– Я учитель, преподаю в сельской начальной школе.
– Твою школу открыли на свои деньги сами деревенские, зарплата такая, что лучше бы в поле пошел работать.
Резкие слова отца сильно задели Пэна. Он швырнул книгу на стол со словами:
– Меня скоро переведут на работу получше.
На этом разговор закончился. Родители остались недовольны его настроем и вновь принялись хлопотать о невесте. Вскоре нашли девушку почти без недостатков. Но Пэн Жэньчу заявил, что нос у нее слишком плоский и рот великоват. Тем не менее, родителям она очень понравилась – высокая и справная фигура, в деревне таких считают красавицами. И главное, ее семья не брезговала тем, что у их сына увечье.
– Они же не гнушаются тобой, с чего это ты вздумал придираться к ней! – возразил отец.
В этот раз он не стал препираться с родителями, при встрече спросил у девушки:
– Ты не гнушаешься мной? Ведь я инвалид.
– Нет.
– Это потому, что я учитель? Пусть пока работаю в частной школе, как пройду переаттестацию, стану учителем в государственной.
– Ладно.
Вернувшись домой, он рассказал о разговоре родителям:
– Теперь можете начинать хлопотать о младшем брате.
Он продолжал углубленно изучать историю духов. Что касается будущей жены, то все полномочия по этому вопросу передал родителям. Младшему брату тоже быстро нашли невесту. Коли сыновья вот-вот женятся, то встал вопрос о разделе имущества:
– После женитьбы один будет жить наверху, а другой внизу, – заявил отец.
«Наверху» означало – в старом доме, где все жили сейчас, а «внизу» это в пристройке возле хлева, где держали коров и свиней. Возле свинарника пристроили из досок две комнаты, там останавливались приезжие родственники. Братьев отправили туда переночевать: запашок, конечно, не очень, зато круглый год внутри прохладно. Когда отец упомянул о пристройке, Пэн Жэньчу читал о духах и подумал было, что там можно попрыскать духами и вонь от свинарника станет терпимой. Но тут же себя одернул: распрыскивать духи в свинарнике, это уж слишком!
Видя задумчивость сына, отец кашлянул, желая поскорей услышать его ответ. Пэн очнулся и ответил, что готов жить «внизу». Этим решением он удивил родителей и брата, они-то считали, что он старший, к тому же калека, поэтому, само собой, он должен жить в доме наверху. Что же получается: увечный да еще без нормального жилья – сплошные недостатки. Пэн заявил в ответ, что хотя он и инвалид, но работает учителем, а брат хоть и здоровый человек, но всего лишь ковыряет поверхность земного шара. «Я даже живя в свинарнике, найду себе жену, а брат вряд ли сможет».
– Брат, не надо мне уступать, у меня руки и ноги здоровые, я работящий, смогу быстро отремонтировать пристройку, – возражал младший Жэнынань.
– Я не согласен, это всего лишь справедливый дележ, – настаивал старший.
Мать выдавила над бровью прыщик и добавила:
– Жэньчу, не выпендривайся, тебе еще жену надо туда привести.
– Я же сказал, я могу найти себе жену, даже живя внизу, а вот брат едва ли.
– Смотри же, ты сам сделал выбор, потом не пожалей, – предупредил отец.
– Ни за что не пожалею.
– Так и порешили: старший живет внизу, младший – наверху, – лицо у отца было очень недовольным. Пэну показалось, что выражение его такое, будто отец со злости бьет глиняные горшки, и он, Жэньчу, и есть один из этих самых горшоков.
– Пусть на обеих сторонах ладони кожа одинаковая, и все ж младший уродился целехоньким, да еще жить будет в доме, к добру добавляется добро. Одному досталось только хорошее, а другому…, – отец не договорил, но Пэн догадался, что тот имел в виду.
Дела обстояли не так благополучно, как полагал Жэньчу. Прослышав о том, что они должны будут жить в свинарнике, та здоровенная девица, что так понравилась его родителям, вдруг отказала.
– Жить вместе со свиньями, я что корова или лошадь? – заявила она.
Девушка вовсе не шутила, гневно тараща глаза, она удалилась и больше ее не видели.
Родители не на шутку разволновались – придется исправлять ситуацию.
– Пока всего одна девушка убежала, а вы уже переполошились. В этом мире и трехногую кошку сыскать несложно, а уж двуногую девушку и подавно, – отвечал Жэньчу.
Родители подыскали еще одну невесту, но та, узнав что жить предстоит в свинарнике, даже встречаться не стала.
Поиски продолжались, родители решили говорить, что Жэньчу выделили старый дом, но он запретил им обманывать людей:
– Я не поверю, что все смотрят только на свинарник, а не на меня! – говорил он, сидя скрестив ноги. Его взор излучал уверенность в себе, но увечье ног все же бросалось в глаза. Поэтому сваха попросила Жэньчу разговаривать с приглашенными девушками сидя нога за ногу. Это замечание задело Пэна за живое:
– Вот еще, в следующий раз приводи их прямо в свинарник, я буду говорить с ними стоя.
Отец, услышав это, напустился на сына:
– Ты с отцом не шути, тут не только о твоих делах речь!
Мать, поддерживая отца, тоже накинулась на него:
– Мы же для тебя хлопочем, да и для нас это важно, а ты все шутки шутишь. Ты не только о себе, но и о брате подумай.
Эти слова матери ударили по самому больному, таким образом она пыталась повлиять на сына.
Из-за разной длины ног Пэну стоило немалых усилий подняться на холм или спуститься вниз. До поселковой начальной школы он спускался с холма, а обратно поднимался вверх по глиняной дороге, которая не менялась уже лет сто. После дождя дорога становилась скользкой, как спина рыбы вьюн, – тут и здоровые ноги поскользнутся, что уж говорить о двух изувеченных болезнью ногах Пэн Жэньчу. С первого класса вплоть до окончания школы средней ступени, он опирался на руку младшего брата, который тащил его по грязной дороге. Но вот учеба закончилась. Став учителем в частной школе, он больше не ходил по этой дороге, но помощь младшего брата по-прежнему была необходима. Как пройдет дождь, младший Жэнынань первым делом помогает ему спуститься с холма, а потом непременно после окончания уроков встречает у школы и провожает по дороге наверх. Мать правильно говорит: он должен подумать о брате. Если сам не обзаведется женой, то и Жэнынань не сможет жениться. Пора серьезно задуматься о своей личной жизни.
Прослышав, что сваха подыскала ему еще одну невесту, он набросал на бумаге парную надпись и передал ее свахе. Он ничего не сочинял, только красиво переписал готовую фразу: «Небесный скакун в погоне за звездой испугался яркой луны, белый дракон, ныряя, поднял ветер с запада». Ему было все равно, поймут ли смысл этой парной надписи, он хотел показать свое умение писать иероглифы. В деревне очень уважают тех, кто умеет писать, это он знал точно.
Сваха унесла парную надпись и привела с собой девушку. Пэн по-прежнему настаивал на том, чтобы встречаться в свинарнике, все равно после женитьбы придется жить там, скроешь один раз, но во второй все станет известно – так он объяснял свою настойчивость.
Его было не переупрямить, встреча все-таки состоялась в свинарнике. Когда сваха завела девушку внутрь, он притворился, что читает книгу. Пэн сидел в комнате, пристроенной к свинарнику, перед кроватью стоял грубо сколоченный стол, на котором лежали книги, а также блюдечко для туши, кисть и белая бумага. Тушь была только что налита, кисть вымыта, а на бумаге ничего не написано. Весь этот реквизит должен был произвести впечатление на девушку.
Он сидел, скрестив ноги, с книгой на коленях и безмолвно смотрел на нее. Книги девушку не заинтересовали, увидев, что он не поднимается со стула, спросила:
– Парализованный?
– Ну что ты, это же народный учитель из частной школы, – вмешалась сваха.
Эта фраза пришлась Пэну по душе, он, довольный, ухмыльнулся и взглядом дал понять свахе, чтобы та ушла. Сваха тихонько ретировалась и перед уходом заговорщически подмигнула Пэну, словно между ними была какая-то тайна.
– Ты живешь в свинарнике? – спросила девушка, оставшись с ним наедине.
– Свинарник за стенкой, а не тут, – ответил Жэньчу.
Она смотрела по сторонам, а он принялся писать иероглифы, словно он не на свидании, а мается от скуки.
– Ту надпись, что принесла сваха, ты написал?
– А как ты думаешь?
– Думаю, ты, – ответила она, видя, как на листе появляются новые иероглифы, но ее похоже больше беспокоили его ноги:
– Я слыхала, ты немного увечный, неужели действительно парализованный?
Пэн Жэньчу бросил кисть и вскочил со стула:
– Какой я парализованный!
Тут она ему поверила, вот только стоя он никак не выглядел привлекательным из-за неодинаковой длины ног его тело невольно наклонялось вперед.
– У тебя был полиомиелит? – у девушки, похоже, были недюжинные познания в медицине.
– Был, но это нисколько не мешает мне быть учителем.
Она кивнула и посмотрела на стол, где наискосок лежала кисть, а на бумаге виднелись недописанный иероглиф и большая клякса.
– Этот иероглиф я не знаю, – сказала девушка.
– Ты сколько классов окончила?
– Только первый класс, учеба мне не была по сердцу, весь учебный год на парте проспала, – она вдруг рассмеялась, ее некрасивое вогнутое лицо украсила улыбка. Жэньчу тоже улыбнулся:
– Тебе не нравилось учиться?
– Тогда не нравилось, а потом захотелось.
Слушая ее, он опять взялся за кисть:
– Ты так и не вернулась в школу?
Девушка отрицательно помотала головой, но Жэньчу продолжал смотреть на нее, ожидая ответа:
– Нет, – повторила она, при этом ее взгляд остановился на кончике его кисти, словно это действительно ее интересовало.
– А сейчас тебе еще хочется учиться?
Она согласно кивнула:
– А тебе? Сколько тебе лет? – с улыбкой спросила она.
Жэньчу рассмеялся:
– И мне хочется, – он чувствовал себя все более раскованно. Ноги у него очень устали, он хромая сделал два шага. Доски пола скрипнули под ногами, кисть в его руке была словно вспорхнувшая птица.
– Все девушки в нашей деревне одинаковые, максимум доучились до шестого класса. Я, конечно, имею в виду людей нашего возраста. Среди мужчин много окончивших среднюю школу, но только я один умею писать иероглифы кистью. Без меня не могут обойтись под Новый год, на свадьбе и похоронах. – Закончив фразу, он поднял голову и увидел восхищение в ее взгляде. Душа его ликовала, скомкав лист с написанными иероглифами, он бросил его под стол.
– Зачем мять бумагу? – на лице девушки появилась досада, как будто иероглифы были написаны ей. – Я знаю там один иероглиф.
– Какой?
– «Ли», который значит «красивый», мое имя так же звучит.
Жэньчу невольно покраснел: весь лист был исписан иероглифами имени Чэнь Лили, оказывается, он выводил их автоматически.
– Меня зовут Чжан Ли.
Жэньчу улыбнулся ей, черты его лица смягчились.
– Ты бы присел, – заботливо сказала Чжан Ли.
Он сел, ноги очень устали:
– Ты тоже садись, – предложил Пэн.
Девушка присела на край кровати и заметила, что он перестал писать:
– Продолжай писать.
– Не могу, когда с тобой разговариваю, – ответил Пэн с улыбкой.
– Да о чем нам говорить, пиши лучше, у тебя хорошо получается.
– У нас в школе меня всегда зовут для выпуска стенгазеты потому, что я красиво пишу иероглифы кистью.
– Этот стол неудобный, я попрошу отца сделать для тебя хороший письменный стол из ароматного кипариса.
Чжан Ли, похоже, не придала значения его увечью и условиям совместной жизни, вопрос женитьбы таким образом разрешился. Родители вздохнули с облегчением, и он тоже. За долгую ночь много снов приснится. Не желая терять время, мать с отцом тут же принялись хлопотать о подготовке к свадьбе: надо было сделать предложение и поднести подарки семье невесты, зажечь ароматные курения перед табличками предков, пригласить хироманта для выбора благоприятного дня свадьбы.
Пэн Жэньчу не принимал в приготовлениях никакого участия, словно его это не касается. В это время у Чэнь Лили дома начались неприятности, и из-за этого он ходил расстроенный. Казалось бы, каким боком семейная жизнь Чэнь Лили касается Пэна Жэньчу? Как и всем коллегам-мужчинам, ему нравилось отираться вокруг нее, но что общего у них с ее личными делами? Пожалуй, только то, что она вела себя так, словно у каждого из них был шанс. Видя, в какую переделку угодила Чэнь Лили, мужчины лишь вздыхали: «Эх! Зачем так убиваться, он с тобой так обошелся, ну и ты ему ничего не должна, тоже имеешь право на удовольствия». Слова и взгляды становились все откровенней, исключением был только Жэньчу. Он переживал за Лили так, как будто это с ним случилась беда, под глазами даже появились темные круги.
Муж Чэнь Лили был учителем физкультуры в поселковой школе, звали его Чэнь Цзюнь. Он, как и его жена, был выходцем из уездного города с той лишь разницей, что Лили была из простой семьи, а он нет. Пользуясь этим, он вообще не проводил уроки, а зарплату получал за полную ставку, другим бы этого не позволили. После возвращения из армии его распределили в школу, где он провел всего один урок, после этого там его больше не видали. Он и в школу не ходил и дома не бывал, целыми днями резался с мужиками в карты, с этим все понятно, но ходили слухи, что он еще нюхает наркотик. Одно время поговаривали, что он выиграл в карты машину и дом, после чего решил бросить играть. Вернулся в школу и собирался взяться за учительство. Но не успел приступить, как картежные дружки опять вмешались. Приехали за ним в микроавтобусе и увезли, он снова начал играть. Кто бы ему позволил после такого выигрыша завязать с игрой, это не по правилам! Не прошло и дня, как машина и дом отошли кому-то другому. Все это мало волновало Чэнь Лили, еще до замужества она знала, что он картежник, а после свадьбы узнала о пристрастии к наркотикам, все это не мешало ей питать к нему сильное чувство. Лили нравились мужчины привлекательной наружности и красивая богатая жизнь. И то и другое он мог ей обеспечить, и она была полностью довольна. Но вот появилась другая женщина, которая покусилась на все это. Она не только была красивей Чэнь Лили, но изо дня в день вместе с ее мужем играла в карты и нюхала порошок. Они открыто гуляли по улицам держась за руки, муж той женщины уже с ней развелся.
Решилась бы Лили развестись с мужем? Для кого-то это может и легко, но не для Чэнь Лили. Пэн Жэньчу, как и другие, считал, что ей надо развестись. Но в отличие от остальных ему становилось грустно, когда он видел ее горе. Лили ненавидела не мужа, а ту женщину:
– Все потому, что я редко была рядом с ним, вот та и воспользовалась.
Жэньчу был добр к Чэнь Лили, и она доверилась ему:
– Если я оставлю Чэнь Цзюня, то не смогу жить.
Она плакала в его присутствии, слезы текли ручьями из ее прекрасных глаз, капли падали на ее полные губы, которые были очень красивы, но уже не столь эффекты, как прежде. Она красила их помадой с утра, но после обеда забывала подправить.
– Если не хочешь расставаться с Чэнь Цзюнем, то не надо, – Жэньчу не мог выдержать вида ее слез, которые словно лились из его сердца и усиливали чувство невыразимой жалости, так, что его сердце сжималось.
Она никак не хотела разводиться, повторяя, что без мужа не сможет жить, и слезы лились рекой.
– Тогда прогони ту бабу, – предложил Жэньчу.
– Как ее прогнать? Мне каждый день надо ходить на работу, а она прилепилась к нему, – Чэнь Лили подняла к нему полные слез глаза, желая услышать его мнение.
А что он мог предложить? Он всего лишь переживал, как переживает она, ненавидел то, что ненавидела она. Он сам себе напоминал подсолнух, обращенный к солнцу, которым была Чэнь Лили. Как солнце засияет, подсолнух распускается, солнце заволакивает туча – подсолнух никнет. Жэньчу подобно цветку надеялся, что солнце будет сиять вечно.
– Как бы то ни было, тебе не стоит так накручивать себя.
– Скажи, мне тоже начать резаться в карты и нюхать кокаин, тогда я смогу быть с ним каждый день.
– Не будь такой глупой, я бы на твоем месте попросил кого-нибудь отделать ту женщину как следует, чтобы она убралась.
– Бить ее бессмысленно, Чэнь Цзюнь нуждается в заботе, чтобы кто-то делил с ним все тяготы, а я этого не делала.
– По-твоему Чэнь Цзюнь страдает или все-таки наслаждается?
– Какое там наслаждение – ты не знаешь, что такое порошок. Как понюхает, то становится приятно, но если прижмет желание еще понюхать, а зелья нет, то помереть хочется. Чэнь Цзюнь сам все это ненавидит, но уже зависим, ничего не поделать. Я умоляла, чтобы он бросил, но он не может… Я так мало заботилась о нем.
Если бы эта история произошла с кем-то еще, Пэн Жэньчу вряд ли бы смог понять, но когда дело касалось Лили, он не только все понимал, но до глубины души сочувствовал.
Сложности у Чэнь Лили все продолжались, когда он женился на Чжан Ли. Он добавил к ее имени еще один иероглиф «ли» и всегда обращался к ней как Чжан Лили, он никому не объяснял, зачем ему это понадобилось.
– Меня же зовут Чжан Ли, почему ты зовешь меня Чжан Лили? – спрашивала жена.
– Тебе не нравится, когда я тебя так зову?
– Нравится.
Как-то вечером они занимались тем самым делом, Чжан Ли вдруг говорит:
– Дома мой отец зовет меня Лили.
Жэньчу замер.
– Ты почему остановился?
– Нашла время рассказывать про своего отца, как я могу продолжать?
– Ты только что назвал меня «Лили», мой отец действительно так меня звал, да и старики в нашей деревне тоже.
Он сполз с нее:
– Я только что тебя так назвал?
– Да.
Он выдохнул с облегчением и пропыхтел:
– Давай спать.
Чжан Ли быстро заснула, а ему не спалось. Он вспомнил, как коллеги подтрунивали над ним по поводу Чэнь Лили, теперь эта издевка коснулась и его жены Чжан Ли.
Чэнь Лили очень сильно похудела, часто брала отгулы и не приходила в школу. Если и показывалась, то после уроков тут же садилась в автобус и уезжала в город. В школе продолжалась игра со стягиванием штанов, коллеги не собирались отказываться от маленьких шалостей из-за того, что с Чэнь Лили произошли перемены. Лишь изредка за ее спиной шли пересуды:
– Чэнь Лили вроде тоже начала нюхать.
– С чего ты взяла? Из-за того что она похудела или черных кругов вокруг глаз? Это бывает у всех женщин, кто разводится.
– Интуиция подсказывает. Я видела женщин, которые этим балуются, выглядят так же, как она сейчас. Ты неправильно говоришь, она вовсе не разводится, даже не собирается, и Чэнь Цзюнь не говорил о разводе.
– Она что, действительно не разводится?
– Так уже давно бы развелась, если бы хотела.
– Понять не могу. Я на ее месте, имея такого мужика, уже бы давно его выпихнула за тысячу ли.
У всех мнения были разные: что одному мусор, для другого – алмаз.
Жэньчу ни разу не участвовал в подобных пересудах, когда при нем начинались обсуждения, он упорно молчал. В такой ситуации промолчать то же самое, что не поднять руку при голосовании в Совете народных представителей, сплетники тут же начинали цепляться к нему:
– Пэн Жэньчу, ты зря так размечтался, если Чэнь Лили и разведется, тебе она все равно не достанется.
– Ну почему же, только надо сначала выпрямить твои кривые ноги.
– Ровных ног все равно недостаточно – один ее флакон духов стоит пятьдесят юаней. Разве что ты заставишь жену торговать собой, чтобы та заработала денег на духи для Чэнь Лили.
Тут все разразились приступом смеха. Пэн оказался в тяжелом положении, от этих слов лицо его пошло красными и белыми пятнами, будто у него проблемы с пигментацией. Он мог снести любые шутки по поводу Чэнь Лили, но эта последняя фраза вывела его из себя. Не то чтобы он так уж любил жену, просто не мог стерпеть подобного оскорбления. К тому же жена его была вовсе не красавица, а тут кто ни попадя унижает ее достоинство.
Видя его гнев, коллеги тут же притихли. Полагая, что Пэн вот-вот набросится на них, приготовились было обороняться. А он просто развернулся и ушел.
Пэн Жэньчу был тугодумом, каждый раз суть происходящего доходила до него только опосля. Тогда на ум приходило много колких и метких слов, которых бы хватило, чтобы эта шайка обидчиков потеряла дар речи и не смогла ничего вымолвить в ответ. Но ситуация уже была в прошлом, ее нельзя было проиграть по новой как в кино, оставалось только повторять вновь и вновь про себя меткие слова, испытывая все большее удовольствие. Но не удавалось избежать чувства досады на себя: каждый раз, когда стегаешь плетью другого, попадаешь и по себе.
Чжан Ли спала под боком глубоко, почти беззвучно. За стенкой было слышно сонное хрюканье свиньи, казалось, она еще и тяжко вздохнула. Запах навоза то коровьего, то свиного бил ему в нос. Жэньчу нервничал, ему хотелось всех разбудить – Чжан Ли, свиней и корову. Он слез с кровати, которая издала скрип, затем принялись скрипеть половицы.
– Куда ты пошел? – спросила Чжан Ли проснувшись.
– По малой нужде.
Затем за перегородкой начали посапывать свиньи и тяжело вздыхать, но они быстро уснули, лишь доносилось сопение. У человека, который не может уснуть, звук ровного дыхания способен вызвать зависть. Жэньчу за ночь вставал несколько раз справить нужду, половицы стонали под его ногами, скрипела дверь и деревянные ступеньки. Три свиньи, корова в хлеву и даже сидящие по стенам комары были растревожены. Они принялись зудеть, корова с шумом помочилась, заворочалась одна из свиней и потом смачно пукнула. Жэньчу справлял на улице нужду и хлопал комаров. Он уже закончил свое дело и повернул домой, а корова все еще мочилась. В горячем и влажном воздухе стоял сильный запах мочи, это явно была не его заслуга, а коровы. Он еле удержался от того, чтобы не выругаться, зажав себе нос.
По пути в дом он заметил, что больше не нервничает, поэтому быстро погрузился в сон.
Чэнь Лили все же начала нюхать порошок, она сама сказала об этом Жэньчу. Слушая бесконечные пересуды по этому поводу, он как-то преградил ей путь у выхода из школы. Лили сразу после уроков бежала на автобус домой.
– Опять уезжаешь? – спросил ее Жэньчу, на его лице была написана озабоченность за судьбу страны и народа.
– Да, – Чэнь Лили сделала шаг назад, своим видом показывая, что она не против зайти к себе в комнату в общежитии и поговорить.
Жэньчу вошел в комнату и встал посередине, они словно поменялись ролями, он стал выглядеть как суровый хозяин положения, а Лили как подвергающаяся допросу.
– Все только и говорят о том, что ты тоже начала нюхать эту гадость, это правда? – спросил он тихо.
– Да.
– Ты серьезно?
– Да серьезно.
– Зачем?
– Так я избавилась от той женщины.
– Только ради этого?
– Чэнь Цзюнь должен бросить наркотики, я буду его сопровождать.
– Это и называется: делить с мужем все радости и печали?
– Я сама так решила.
С этого дня для Жэньчу словно померк свет. Солнце приходит, луна уходит, и наоборот – сменяется бесконечная череда дней. Одним солнечным днем Чжан Ли в хлеву родила девочку, которая была похожа на Жэньчу: большие глаза, прямой нос, симпатичная. Она стала кровиночкой Пэна. Вернувшись домой, он любил держать ее на руках. Кроме того, его повысили по статусу, и он наконец стал учителем государственной школы. В их ворота сразу постучалось две радости, постепенно тень Чэнь Лили уходила из его жизни. После рождения дочери ему стало казаться, что он все реже вспоминает ее.
Чэнь Лили вместе с мужем поступили на лечение в наркологическую больницу, она упустила возможность пройти переаттестацию и стать государственным учителем. Пэн хотя и сожалел по этому поводу, но больше не испытывал таких страданий, как прежде.
После лечения в центре реабилитации наркоманов Чэнь Лили как новенькая вновь объявилась перед коллегами. В тот день светило солнце, но было нежарко, Лили шла под руку с мужем, пытаясь всем своим видом излучать счастье и уверенность. Всем стало ясно, что она действительно злоупотребляла. Коллеги помалкивали про центр реабилитации и заговорили о другом:
– В этот раз троих из нашей школы повысили, если бы ты участвовала в экзамене, тоже получила бы повышение.
– Это кого троих? – похоже, ей это было безразлично.
– Повысили Чжан Минхуэя, Тянь Цзина, Пэн Жэньчу.
– Ой и Жэньчу повысили? – она высматривала его в толпе, сослуживцы расступились, чтобы она его увидела. Встретив ее взгляд, Жэньчу испытал некоторое стеснение. Он не сразу понял почему, но было ясно, что в присутствии Чэнь Цзюня ему трудно сохранять самообладание.
Чэнь Лили засмеялась ему в лицо со словами:
– Прекрасно! Старина Пэн, считай, твоя мечта сбылась, придешь домой, пусть тебе твоя жена даст кое-что в награду. – Ослепительная улыбка Чэнь Лили подобно солнцу освещала его лицо.
– Для меня в отличие от тебя это повышение действительно важно, – ответил он кашлянув.
– И для меня важно, я в следующий раз обязательно пройду экзамен.
Все засмеялись вслед за Чэнь Лили. Поболтав немного, она собралась проводить мужа до средней школы. После лечения тот вознамерился смыть с себя позор и серьезно отнестись к работе учителя физкультуры. Средняя школа находилась у реки, в двух ли от начальной, здания соединяла узкая мощеная камнем дорога, поэтому они шли прижавшись друг к другу. На такой узкой дороге легко можно поскользнуться и упасть вниз, а там заливное поле. Но двое похоже не боялись этого, шли бок о бок и шутили, в шутках их проступала горечь, но никто бы не стал над этим посмеиваться.
На следующий день Чэнь Лили сама разыскала Пэн Жэньчу чтобы поговорить.
– Я слышала, твоя жена родила тебе дочку.
– Да.
– Замечательно, ты наверно неописуемо счастлив.
Он утвердительно кивнул:
– Чэнь Цзюнь и в правду исправился?
– Конечно, исправился, он вернулся в школу вести уроки, вы все видели.
Он молчал.
– Как-нибудь выбери день и принеси свою дочку в школу показать нам, и свою жену тоже. Мы ее не видели, поглядим разок, от этого она чай не растает.
Жэньчу и впрямь принес свою дочь в школу на смотрины, жену решил не приводить. Это был рыночный день, когда они подошли к воротам школы, он отправил Чжан Ли на рынок и попросил подойти к школе через полчаса за ребенком. В этот время шли уроки, в учительском общежитии было тихо. Он отправился прямо в комнату Чэнь Лили, та, увидев девочку, выказала умиление, выхватила ее из рук и принялась качать.
– Такая красивая, похожа на тебя.
– Если бы походила на тебя, точно была бы красавицей.
Она бросила на него быстрый взгляд и, заметив, что он не шутит, не стала спорить:
– Мне кажется, она красивей меня. Уже дали ей имя?
– Хундоу – Красная Фасолинка.
– Хундоу? – удивилась Чэнь Лили.
Пэн согласно покачал головой.
– Замечательное имя, у тебя неплохая фантазия.
Ребенок радостно засмеялся от укачиваний Чэнь Лили, видя ее улыбающееся симпатичное личико, Лили сказала, что тоже хотела бы поскорей родить такую же милую девочку. Жэньчу вспомнил, что она принимала наркотики, а может ли женщина после этого родить? Родить-то наверно сможет, но будет ли ребенок умным и красивым? Пэн не на шутку за нее обеспокоился. Лили играла с девочкой и, заметив, что Жэньчу задумался, хотела продолжать разговор:
– Скажи, если у меня будет девочка, она будет такой же красивой?
– Наверняка намного красивей.
Чэнь довольно улыбнулась и отдала малышку отцу. Она вынула из комода флакон духов со словами:
– Ты мне посоветовал эти духи, я и купила.
При упоминании духов у Жэньчу желание поговорить усилилось троекратно. Он долго изучал духи, но обилие накопленных знаний еще не успел излить в уши Чэнь Лили. Красотка обильно попрыскала духами одежду малышки Хундоу, аромат смешался с запахом грудного молока и детской мочи.
– Надо бы приглушить эти запахи, – заметила Лили.
От этих слов желание Жэньчу болтать улетучилось, зашевелилось чувство неловкости, но он его быстро подавил.
– У меня сейчас урок, – он поднялся с ребенком на руках, намереваясь уходить. Не прошло и получаса, до начала урока было еще далеко, но Жэньчу вышел из школы и направился к центральной улице поселка встречать Чжан Ли. Жена пришла вовремя, но на лице Жэнь-чу было выписано недовольство ее опозданием. От одежды дочки шел незнакомый сладкий запах, что заставило Чжан Ли насторожиться:
– Что тебе не нравится? Я вернулась точно через полчаса.
– У меня скоро урок, ты не могла сообразить прийти пораньше, – бросил он ей, удаляясь. Вид у него был очень встревоженный, на самом деле он боялся, что кто-то из знакомых увидит его с уродиной женой. Чжан Ли не догадывалась о причинах его недовольства и бежала за ним, спрашивая, почему одежда ребенка так странно пахнет:
– Что ты на нее вылил?
Он с трудом тащил свои ноги разной длины и, не оборачиваясь, отвечал:
– Это не странный запах, это аромат духов.
Прошли годы, Хундоу, которой еще не исполнилось двадцати, вернулась с заработков в Гуандуне повидать родителей. Мать Чжан Ли сразу определила, что аромат духов девушки тот же самый, которыми много лет назад Чэнь Лили попрыскала на ее одежду.
– Этот же запах, я точно помню. В тот день твой отец принес тебя из школы, и я почувствовала какой-то странный запах. Чжан Ли гордилась своей догадливостью и тем, что ее дочь тоже пользуется духами.
– Отец, подойти и понюхай, какая наша доченька ароматная! – Чжан Ли позвала мужа, но Жэньчу не подошел. Хундоу была прелестна как полевой мак, ее было не узнать, настолько она изменилась после того, как уехала из дома, и он немного робел. После окончания средней школы Хундоу и еще несколько девушек уехали на заработки. До уезда она была несколько неуклюжей и нелюдимой, а через два года, кто бы мог подумать, поменялась до неузнаваемости.
– Наша девочка пользуется духами, понюхай-ка, какие приятные! Она не только ароматная, только взгляни на нее – какая выросла… Ай! Прямо-таки цветочек, – без устали нахваливала Чжан Ли, ходя вокруг дочери, ее переполняла любовь. Жэньчу такое было непривычно:
– Ладно тебе, где это видано, чтобы родители сами нахваливали своих детей? Не боишься, что нас засмеют.
– Да пусть смеются, я все равно буду расхваливать. Наша дочь такая красавица, как ни похвалить, – улыбалась жена.
– Какой прок от одной красоты, надо еще чтобы толковая была.
– Разумеется, она толковая, была бы глупой, разве заработала бы столько денег на строительство дома? Вот ты у нас умный, столько лет работаешь в школе, столько раз брался за строительство дома, а мы так из свинарника и не выбрались. Если бы не ее заработок, разве мы смогли бы снести хлев и построить новый дом!
Кровь прихлынула к лицу Жэньчу, но он смолчал.
Хундоу принялась доставать из сумки подарки: первой появилась кожаная куртка для отца. Она хотела, чтобы он примерил. Когда он надевал куртку, то уловил запах духов дочери. Те же духи, что попрыскала Чэнь Лили на одежду маленькой Хундоу. Этот аромат на основе запаха цветов сирени, изящный и еле уловимый, в свое время он посоветовал Чэнь Лили. Как все повернулось в жизни! Чэнь Лили носила этот аромат, пока не покинула бренный мир, а дочь Хундоу, окутанная этим же запахом, вернулась домой.
Чэнь Лили умерла от передозировки наркотиков. Ее муж Чэнь Цзюнь вскоре после лечения опять взялся за старое. Они полностью обобрали его состоятельных родителей, продали под чистую все из своего маленького дома. Чтобы продолжать покупать порошок, надо было выкручиваться как-то еще. «Как-то еще» могло значить воровать, грабить, убивать и поджигать, он предпочел пустить по рукам свою жену. Так однажды вернувшись от клиента, она отдала заработанные собственным телом деньги мужу, и он тут же купил порошок. Чэнь Лили попросила сделать ей дорожку, муж был не против. Более того, после этого он в порыве благодарности предался с ней любви. Эта дорожка кокаина и убила ее.
После ее смерти Жэньчу постепенно забыл запах тех духов, а теперь этот аромат заполнил комнату и стойко держался дней десять, из-за этого он все дни ощущал некое беспокойство. Потом Хундоу уехала и увезла с собой аромат.
Вскоре Пэн вышел на пенсию. Хундоу не приехала домой на Новый год. Жэньчу разыскал людей, которые приехали домой с заработков, чтобы узнать, есть ли на их заводе выходные. Если есть, то почему на заводе Хундоу их нет?
Ему и ответили:
– Кто тебе сказал, что на ее заводе нет выходных?
– Она сказала по телефону.
– Там не завод, а лавка. У них там полная свобода. Вероятно, она сама не захотела приезжать домой, это же помешает хорошему заработку под праздники.
– Она разве не на заводе работает?
– Никогда она там не работала.
– А что за лавка? – вмешалась Чжан Ли.
– Торгует серебром.
У Жэньчу екнуло сердце, а Чжан Ли вскрикнула:
– Ух ты! Наша Хундоу открыла магазин по торговле серебром! А что там продают?
Но собеседник уже был далеко, он бросил издали:
– Чем торгуют в серебряной давке? Конечно, серебром[78].
Чжан Ли как оголтелая побежала в дом родителей рассказать о серебряной лавке Хундоу, Жэньчу ее догнал и яростно отхлестал по щекам на глазах у своей семьи. Это ее сильно оскорбило, муж ее никогда до этого не бил. Эти две пощечины показались особенно болезненными и непереносимыми. Ее некрасивое вогнутое лицо от обиды еще сильной выгнулось. Если бы с Жэньчу не приключилась беда, она бы продолжала дуться невесть сколько времени.
Выйдя на пенсию, Жэньчу полюбил ходить на рынок, там был кабачок, в котором можно было отведать красных бобов с вином, его открыла мать одного из сослуживцев. Теперь он редко ходил в школу, если приятель тоже сидел в кабачке, то они могли посудачить о школьных делах. Если удавалось и винца выпить и его встретить, то он бывал очень доволен.
В тот день он, как обычно, отправился на рынок, накануне прошел дождь, дорога была скользкой. А тут он обидел Чжан Ли. После женитьбы младший брат Жэнынань передал ей обязанность провожать и встречать его в дождливую погоду. Чжан Ли решила показать характер, пусть помается! Он тоже уперся: видел, что состояние дороги ужасное, но все равно пошел. Ему бы умерить свой нрав и попросить Чжан Ли проводить его, но он не сделал этого. Взял только железную палку, которая позже вместе с ним скатилась с холма. Палке ничего не сделалось, а его парализовало.
Врач сказал, что паралич у него странный, нет перелома костей таза и ног, незаметно проблем с нервными окончаниями, но обе ноги отнялись. Жэньчу говорил, что их не чувствует. А когда врач молоточком постукивал по его ногам, то боль ощущалась. Как бы то ни было, он слег.
Чжан Ли хотела позвонить дочери и попросить ее приехать. Услышав об этом, Жэньчу швырнул на пол кружку, из которой пил. Полы в их новом доме были залиты цементом, кружка со звоном разлетелась вдребезги. Чжан Ли поняла, что он сильно рассержен, но не могла понять причину его ярости.
– Что все это значит? Я из лучших побуждений думала позвать нашу девочку приехать повидать тебя, – недовольно бурчала она, подметая с пола осколки. Но звонить не стала.
Жэньчу стал молчуном, казалось, его не только парализовало, он еще и онемел. Видя его мрачное настроение, жена опасалась, как бы он еще чем-нибудь не заболел, и решила купить ему книг. Она в них не разбиралась и считала, что книги в аляповатых обложках самые интересные, хотя каждый раз такие книги Жэньчу выбрасывал в корзину, и они там покрывались плесенью. Вот и в этот раз принесла ему охапку. Когда-то давно Жэньчу обожал читать журналы, в которых речь шла о помаде и духах. Теперь он даже не взглянул в их сторону и швырнул в лицо Чжан Ли. Ей было больно. Обиженная, она пошла жаловаться его родителям. Младший брат Жэнынань начал было ее увещевать:
– Настроение у брата плохое из-за состояния здоровья, он еще больше нуждается в том, чтобы ты была поласковей с ним.
– Я достаточно ласкова.
– Тогда принеси ему вина. Он любит выпить.
Она и впрямь принесла из поселка водки. Но Жэньчу разбил бутылку об пол. В этот раз она не пошла в старый дом плакать. Чжан Ли обладала изрядным упорством – когда случалось что-то серьезное, она сама находила выход из положения. Вот и тут она без лишних разговоров взвалила мужа себе на спину и почти на одном дыхании отнесла его в тот кабачок на центральной улице поселка. На пороге из последних сил выкрикнула:
– Эй хозяйка, принеси нам две порции похлебки с бобами, три ляна водки разлей в два стакана, в один два ляна, в другой – один. Они досыта наелись и как следует выпили.
Она его носила еще пару раз, лицо Жэньчу подобрело, он начал разговаривать с женой: «Сегодняшняя еда очень липкая, ты положила туда клейкий рис?» или: «Еда пересолена, если класть слишком много соли, заработаешь повышенное давление».
Видя, что он оттаял, Чжан Ли решила, что будет носить его в кабачок каждый день, ни дня не пропуская. Так и повелось: в рыночные дни можно было увидеть спускающуюся вниз по глиняной дороге женщину, несущую на спине мужчину. Он все худел и слабел, а она день ото дня становилась все сильней и здоровей. Однажды Жэньчу из-за спины спросил ее:
– Я тяжелый?
– Не пушинка.
Он вдруг рассмеялся:
– А ты теперь за словом в карман не лезешь, моя крепкая старушка.
Перевод Е. Л. Завидовской
Жизнь без прикрас
Жань Чжэнвань
В год своего пятидесятилетия дядя оставался крепким работягой. В какой-то момент у него начала ныть голень. Дядя сказал, что воспринимает это не как болезнь, а скорее как шутку, разыгранную над ним, или даже небольшую награду. Мы же считали, что потерпит он и все пройдет, мелкие болячки ведь дело обычное, верно? Дядя и сам не собирался в больницу. Через полгода боль усилилась и он обратился за помощью к деревенскому знахарю. Рецепты у того были разного происхождения – некоторые получены по наследству, другие достались в благодарность, а какие-то попали по случайному стечению обстоятельств. Если удавалось определить болезнь, то помогало здорово. Знахарь, к которому пришел дядя, умел делать настойку от ревматизма. Выслушав же дядин рассказ, он заявил, что у того мышиная болезнь и с ревматизмом это не связано. Мышиная болезнь, вовсе не означала, что в ногу забралась мышь, под этим подразумевалась сосудистая опухоль, по форме, размеру и цвету напоминающая новорожденного мышонка. А раз болезнь мышиная, то лечить следовало с помощью кошки, ведь на каждый яд имеется свое противоядие. Надлежало мазать опухоль свиным салом и давать лизать кошке.
У дяди была кошка, и с того дня зажила она хорошо. Нализавшись за полгода, кошка разжирела, а вот «мышь» по-прежнему сидела в ноге, она скрывалась за кожей, и кошка ничего не могла с ней поделать. Когда «мышь» заскребла сильнее, дяде стало трудно ходить. Превозмогая боль, он обжег побольше кирпича и на вырученные деньги отправился в Цзуньи на обследование. Врач сказал, что это рак и нужно ампутировать ногу, причем нельзя откладывать: если опухоль перекинется на верх бедра, то отрезать уже не получится. Вот если бы дядя пораньше явился, то можно было бы ограничиться ампутацией голени, а сейчас болезнь распространилась выше колена, поэтому придется отрезать посередине бедра.
Это все дядя рассказал нам, уже вернувшись из Цзуньи. Новость о мышиной болезни и так сделала из дяди знаменитость, а сейчас ему еще должны были отрезать ногу – слава его загремела еще сильнее. Все-таки это нога. Поскольку деньги за кирпич частично остались в деревне, то дядя вернулся за ними, а также чтобы призвать на помощь двух братьев. В тот вечер в доме у дяди было оживленно. Сначала наведались те, кто состоял с ним хоть в каких-то родственных отношениях, затем потянулись соседи. Каждый что-то нес – пачку лапши, десяток-другой яиц, они приходили не утешать дядю, а взглянуть на диковинку. Дядя же вовсе не горевал и терпеливо пересказывал историю своей поездки в больницу – когда сел в автобус, когда сошел, что ел на обед и т. д. Даже черное родимое пятно на лбу у врача он описал бесчисленное количество раз, как будто этот факт и служил подтверждением правдивости его рассказа.
Через двадцать дней дядя вернулся из больницы. Поскольку рана еще не полностью поджила, то он лежал дома. Деревенские вновь пошли его проведывать, правда, людей было намного меньше, чем в первый раз. Теперь народ интересовался, а где же отпиленная нога. Осталась ли она в больнице или он ее привез домой, а если привез, то как ее хранит?
Спустя три с лишним месяца дядя, опираясь на палку, показался на улице и стал всем демонстрировать свою укороченную конечность до тех пор, пока окружающие не утратили к ней всякий интерес.
Я был у дяди последним зрителем. На зимних каникулах я приехал помочь с работой двоюродным братьям и сестрам. Нужно было доставать из печи еще теплый обожженный кирпич, а затем загружать туда сырой. Дядя трудиться больше не мог, поэтому братьям и сестрам приходилось самим зарабатывать себе на учебу. Старший брат через полгода должен был окончить педучилище, больше всего ему нравилось обсуждать со мной, у кого выше заработок – у врача иди учителя. Младший же брат давно бросил школу, как говорил дядя, у того была заклятая вражда с книжками и горячая любовь к мотыге и граблям. Рассказы дяди я помню нечетко, но запомнил, как он с улыбкой говорил: «Племяш, ты даже не представляешь, врач так работал пилой, что вспотел. Это был старый врач, седовласый. Он сначала ручкой обозначил место распила, затем в двух сантиметрах скальпелем разрезал и отогнул кожу. Именно так и надо, ведь как отпилишь лишнее, то чем-то нужно прикрыть. А так кожей и прикроешь рану». Тут он закатал штанину, словно опытный педагог, демонстрирующий учебное пособие. Нога его напомнила мне валик-изголовье, в торце она походила на пампушку с драконовым глазком, складки на ноге были красивые, но жутковатые. Как-то много лет спустя жена купила нам такое изголовье, я сразу вспомнил дядину ногу и весь покрылся гусиной кожей; вскоре я избавился от этой вещицы.
«Загнув же кожу, нужно рассечь мышцы, пила ведь только для костей, а не для мяса. Стали пилить – вжик-вжик, долго пилили. Я сказал врачу, чтобы он плотника позвал, умора». Тогда я еще не занимался литературой, мне был непонятен оптимизм дяди. Прошло двадцать лет, я много чего написал, но по-прежнему не понимаю, чему дядя так радовался.
Тем вечером дядя предложил мне спать вместе с ним на одной кровати. Не то чтобы в его доме не нашлось для меня отдельного места, просто он меня очень любил. Когда я таскал кирпичи, дядя сидел неподалеку и смотрел на меня, то и дело предлагая передохнуть, попить водички, погрызть семечек. Приглашение спать вместе с ним тоже было проявлением этой любви. Внутри меня все воспротивилось, но я все же согласился, так меня с детства воспитывали: что нельзя перечить старшим.
Дядя лег не сразу, довольно долго он искал что-то поверх москитной сетки и вытащил оттуда несколько почерневших плодов хурмы. С непосредственностью первоклассника он предложил их мне:
– Специально для тебя храню, ешь. О спрятанных им наверху гостинцах никому не было известно. Эта хурма имела дымный привкус. Ее срывали еще незрелой и срезали кожицу, а затем оставляли доходить, получалось очень сладко. Раньше мне очень нравилось это лакомство, но, проучившись несколько лет и узнав о гигиене, микробах, я оказался скован своими познаниями. Однако у дяди было для меня и кое-что поважнее. Навострив уши и убедившись, что все спят, а если и не спят, то не услышат его, дядя закатал штанину и снова показал мне свой кирпично-красный обрубок. Он ожидал, что я захочу потрогать, но я не стал, тогда он, прикрыв глаза, потрогал сам.
– Нарастает мясцо, – молвил он, имея в виду, что рана зарастает.
– Если бы не отпилили, то не дожить мне и до пятидесяти пяти, и это не треп.
В ответ я ляпнул:
– Ну да, в мире же еще не нашли лекарства от рака.
– На самом деле у меня был не рак.
– Неужели врачи ошиблись?
– Не ошиблись, но это был не рак.
Дядя рассказал, что болезнь эта у него наследственная. У отца его тоже болела нога, но тогда медицина была не на уровне и тому не отрезали ногу, поэтому он и умер в пятьдесят два года. Его деду на момент смерти было только сорок восемь, и тоже все началось с ноги.
Его прапрапрадед, живший неизвестно сколько поколений назад, в общем, очень давно, держал у себя горное чудище. В древних книгах говорится, что этих чудищ еще называли горбылками. Морда у горбылки напоминала лицо человека, при этом у нее была всего одна нога. Более того, горбылки не только лицом походили на людей, но и умели подражать человеческой речи. Прадед очень любил горбылку, лицо у нее было еще меньше, чем у новорожденного младенца, маленький носик, маленькие глазки, тело тоже маленькое – в общем, вся миниатюрная такая, ладненькая. Морда окаймлена белым пухом, а за ним – черная шерсть. Это походило на симпатичную черно-белую детскую шапочку. Каждый раз, когда прадед возвращался домой, горбылка скакала к нему навстречу. Допрыгав же до него, она как будто испытывала неловкость, и, словно девица, опускала голову и возвращалась назад. Горбылка хоть и была зверем, но отличалась крайней стыдливостью.
Кабы не малый возраст, прадеду никогда бы не поймать ее, ведь чудища по природе своей сторонятся людей и не любят с ними встречаться. Горцы, кроме того что иногда замечают мелькнувшую вдали тень горбылки, еще встречают в пещерах их засохшие следы. Прадед в тот раз отправился в лес за лекарственными кореньями. Он не был лекарем, но знал некоторые местные рецепты и лечил травами мелкие болезни домашних и деревенских. Прадеду нужно было найти так называемый бамбуковый желтяк. Эта штука и не растение и не животное. Она растет на стволах бамбука, которые или вот-вот упадут, или уже упали. Походит желтяк на водяной орех, размером где-то с палец, сначала он мягкий, но постепенно деревенеет. В жареном виде им лечат судороги у детей и головные боли при анемии. Этот рецепт и сейчас в ходу, вот только желтяк найти нелегко. Точнее говоря, когда ты его не ищешь, то он попадется, а вот когда ищешь, наоборот, никогда не найдешь.
В глубине бамбуковой чащи была пещера, у входа в нее прадед и заметил маленькую горбылку, висящую на развилке дерева, шерсть ее была испачкана кровью. Увидев деда, она от стеснения не только торопливо отвернула мордочку, но и испугалась. Хотя незадолго до того она натерпелась еще большего страха. Позже горбылка рассказала, что они с матерью резвились у входа в пещеру и не заметили вовремя орла, бросившегося на них. Спасая детеныша, мать прикрыла собой маленькую горбылку. Орел подхватил мать, и детеныш выскользнул из ее объятий. Острые когти орла вонзились в плоть матери, ее кровь окропила малышку, которая от испуга лишилась чувств, а очнувшись, обнаружила, что застряла на дереве.
Домашним прадеда горбылка не понравилась, они считали ее за нечисть. Держать же дома нечисть – значит накликать беду. Даже если не накличешь, то все равно пойдут пересуды. Ведь добрые и порядочные люди не станут заводить у себя лесную чертовщину. Сильнее других протестовали мать и жена прадеда. Отец его уже умер, и мать вздыхала и охала, мол, нет на сына управы, да и духа у нее на то не хватает. Жена же прадеда грозилась, что прогонит горбылку. Прадед делал вид, что не слышит ни ворчания, ни угроз, и, чтобы зверя не покусала охотничья собака, устроил на столбе гнездо. Стоило псу посмотреть на столб, как дед сразу на него прикрикивал. Когда горбылка подросла, прадед стал пускать ее играть на землю, да еще из домотканой материи сделал ей накидку, отчего зверь стал больше походить на ребенка. Прабабка его высмеяла, мол, совсем с ума сошел. Он же стал учить горбылку: «Скажи: мама, мама». Бабка зарычала: «Кто ей мама! Да ты совсем стыд потерял». Собака же горбылку не пугала и не кусала, видимо воспринимая ее как хозяйского ребенка, а не зверя. Горбылка все же очень боялась собаки и, завидев пса, сразу пряталась в дальний угол. Если дед в такую минуту брал ее на руки и успокаивал, то горбылка прятала лицо у него на груди и всхлипывала.
Шло время, домашние к горбылке привыкли, и хотя по-прежнему считали ее нечистью, но уже не боялись. Когда возвращались домой и не видели зверюшку, то принимались искать, куда та забилась. Называли ее дома «сестричкой». Из-за того что по голосу и внешнему виду горбылка напоминала недоразвитую девочку, то даже в разговоре с посторонними иногда проговаривались, мол, наша «сестричка» то-то и то-то.
Если только не уезжал, то прадед не разлучался с горбылкой. Работал ли в поле или ходил в лес за хворостом, он всегда брал ее с собой и, когда выдавалась свободная минута, разговаривал с ней. Однажды горбылка вдруг заговорила, причем произнесла любимую присказку прадеда: «Дык, такое дело». Кто бы что ни говорил, он всегда реагировал такими словами. Прадед был вне себя от радости и с того момента стал с большей тщательностью учить ее разговаривать. Горбылка выучилась многим выражениям, произносила их четко, и если не видеть ее, то можно было подумать, что говорит человек. Однако она не понимала, что эти слова значат. Кроме людской речи она также выучилась лаять и мяукать, получалось точь-в-точь. Обманувшись ее голосом, собаки и кошки подбегали на зов, но не могли найти, где же их сородичи. Горбылка не понимала смысла человеческой речи, а вот ее хозяин постепенно научился звериному языку. Для людей несведущих ее «речь» была что слова иностранца для жителя горных мест, напоминала она бормотание глухонемого.
Через несколько лет горбылка подросла и, стоя на земле, уже была в половину человеческого роста. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что она уже стала взрослой. И прадед, и другие домашние гордились ею, как будто они вырастили ребенка. Прабабка, говоря о «сестричке», относилась к ней как собственной дочери, ее первоначальная неприязнь исчезла. «Сестричка» выучилась называть ее мамой, и та отзывалась с радостью. Мать же прадеда тоже подобрела, и когда ей дарили что-нибудь вкусненькое, она обязательно отдавала кусочек «сестричке». Домашним нравилось, как горбылка разговаривает. На их слова та часто отвечала невпопад, и именно это их особенно веселило. В безрадостной жизни нищих горных районов нечасто услышишь смех. Любовь к горбылке помогла им перенести смешки и даже оскорбления со стороны деревенских. Те, говоря о нашем семействе, теперь называли его «семейка с чудищем», а не «семья В эй из Шатяньвань», как раньше.
Гнездо на столбе неоднократно переделывали, но в итоге горбылка все равно перестала там помещаться. Прадед тогда сколотил для нее кроватку, постелил туда одеяло и все, что положено. Однако горбылка ни одной ночи на ней не провела, пришлось прадеду подвесить на домовую балку старое гнездо, только там, в пустоте, зверушка чувствовала себя в безопасности.
Она давно уже перестала ходить с прадедом на поле, так как не помещалась в его заплечную корзину, а услышав незнакомые голоса, так стеснялась и пугалась, что была готова зарыться в землю. Для нее, кроме наших домашних, все остальные были чужаками. Но им-то как раз, наоборот, нравилось поглазеть на горбылку и подразнить ее. Она всячески прятала от тех свою мордочку и уж тем более не разговаривала. Не имея возможности разглядеть ее морду, люди начинали фантазировать. Одни говорили, что она похожа на сову, другие – на обезьяну. Обезьян они видали, вид у них человекоподобный, а вот речь – своя, обезьянья. Заметив человека, обезьяны начинают громко кричать. Кто-то стал решительно утверждать, что горбылка точно обезьяна. Обезьяны любят плоды жужуба. Когда заканчивается сезон «выпадения инея»[79], плоды созревают, их сладкий аромат распространяется по округе. Но обезьяны – существа трусливые, поэтому они терпеливо ждут полночи и только тогда лезут за плодами. В начале зимы под деревьями ставят капканы, и каждый год удается поймать несколько особей. Мясо у обезьян нежное, его и в город хорошо продать можно, и гостей отлично угостить.
Горбылке нравилось сопровождать прадеда в лес. Чаща здесь большая и густая, нет ей конца и края. Едва попав в лес, горбылка начинала возбужденно хлопать крыльями. Крылья у горбылок имелись, а вот летать они уже не могли. Из-за стеснительности, приведшей к жизни в глубине пещер, крылья у них атрофировались. Горбылки могли лишь прыгать на единственной ноге да ловко сновать в лесных зарослях. В лесу горбылка уходила от прадеда на все большее и большее время, несколько раз он даже рассердился и стал расспрашивать, зачем та убегает. Спрашивал он, конечно, не на человеческом, а на зверином языке. Та стыдливо склонила голову и после долгого молчания наконец ответила, что просто так.
Но она не могла провести умного прадеда, он понял, что та от него что-то скрывает. В следующий раз он пошел за ней следом, а для маскировки нацепил шляпу из травы и листьев. Он увидел, что за густым частоколом бамбука она развлекалась с еще двумя горбылками. Те, очевидно, были самцы, а у нее как раз шла течка. Увиденные и услышанные прадедом фокусы горбылки разительно отличались от ее обычного поведения. Прадед сильно огорчился. Пришел в ярость. Почувствовал зависть. Ощутил боль. Испытал ревность. Он расслышал, как те договаривались о спаривании. У горбылок всего одна нога, что создает для случки неожиданные сложности. Один из самцов сказал, что нашел подходящее место. Там рядом на одинаковом расстоянии растут три чайных куста, и если они встанут посередине и обопрутся на них, то можно будет с удобством спариваться. Лучше места, чем это, в лесу не найти.
Прадед знал это место. И он срубил чайные кусты, бывшие толщиной в палец, чтобы устыдить горбылку. В назначенное зверями время он принес ее в лес и, притворившись, что ничего не знает, как ни в чем не бывало принялся за свои дела. Горбылка выказывала одновременно и смущение, и возбуждение. Прадед не пошел за ней, но горбылка не вернулась к темноте. Прадед взревновал еще больше, он решил, что та сбежала вместе с самцами, чтобы жить в дикой чаще. На второй день он не выдержал и пошел в лес на поиски. Дойдя до чайного куста, он остолбенел. Горбылка была мертва, ее горло проткнул обрубок ствола, который образовался, когда дед срубил куст, конец у него был очень острый. Видимо, горбылка поняла, чьих это рук дело, и, не в силах снести срам, покончила с собой. Пусть обрубок был острым, но без решимости умереть ничего бы не получилось.
Прадед загоревал, жалел, что не вырвал кусты вместе с корнями. В этот момент появились два самца и в ярости бросились на него, удивительно при этом было то, что они метили в его правую ногу. Прадед едва от них отбился. Вернувшись домой, он не признался, что его покусали горбылки, а сказал, что это укусы собаки.
Раны от этих укусов не заживали, какие бы лекарства он ни использовал. Боль была невыносимая. Только когда прадед попросил отрубить ему ногу, все поняли, что его покусали горбылки.
У него было три сына, и они, когда выросли, тоже неоднократно подвергались нападению горбылок, все симптомы были такими же, как у прадеда. Второй из этих сыновей занимался изготовлением посуды, он искусно делал разнообразные черпаки и блюда из тополя и катальпы. Чтобы защитить следующее поколение от мести горбылок, он переехал из долины, где жило их семейство, за сто ли[80], в ущелье, где работали посудные мастера. Говорят, что у него было восемь сыновей, и все они без исключения в разное время были атакованы горбылками. Переезжать дальше не было смысла, у нас с горбылками возникла кровная вражда.
Рассказав об этом, дядя усмехнулся:
– Когда мой отец не мог терпеть боль, то кричал нам: «Отпилите ее, отпилите ее!» Моя мать, обливаясь слезами, отвечала: «Господин мой, да у кого поднимется рука пилить по живому?!» Перед смертью отец сказал мне, что, обидев горбылок, мы теперь из поколения в поколение умираем из-за болезни ног. Он и подумать не мог, что когда придет мой черед, то я спокойно избавлюсь от ноги. Ха-ха!
– Тебя тоже укусила горбылка?
– Где уж ей, в лесу зверей крупнее зайцев и белок и не осталось уже. Просто предков кусали очень часто, вот и возникло «проклятие рода», теперь даже если не было укуса, то болезнь все равно появлялась.
И тут я понял, почему при первых симптомах дядя стал улыбаться, как будто получил награду. Это должно было произойти, он давно ждал. Зная о наследственном недуге, он внутренне к нему готовился. А когда болезнь наконец пришла, то дядя, наоборот, расслабился и успокоился. Это, конечно, не было наградой, но было своеобразным оправданием ожиданий: сказал – случится, и оно случилось, значит, не лгал. Зная же, что его ждет, дядя не испытывал страха.
Вскоре дядя уснул, и спал он крепким сном. Я же долго не мог успокоиться, стоило его здоровой ноге коснуться меня, как меня одолевали всякие мысли.
Прошло двадцать лет, и дядин оптимизм не иссяк. Как-то старший из двоюродных братьев предложил справить ему протез, но дядя решительно отказался. Тогда как раз проводили какую-то кампанию по внедрению медобслуживания на селе, и изготовить протез было дешевле обычного.
Тот брат уже стал директором средней школы в нашей деревне, а его жена была врачом в местной больнице. Таким образом, вопрос о доходах, который он обсуждал со мной в былые годы, получил идеальное решение. Моя незаслуженная литературная слава долетела до родных мест, и восьмилетний племянник стал моим поклонником. Периодически я покупал книги и отправлял их ему прямо в школу, где тот учился. Так племянник всегда с гордостью трубил об этом и прилежно читал книжки. Но когда похожую книгу ему дарил отец, то она у него часто куда-то пропадала.
Как-то я пришел их навестить, дядя и племянник обступили меня. Дядя велел племяннику налить мне воды. Тот ответил, что ему некогда, так как ему хочется со мной поговорить. Все рассмеялись.
Однажды племяш тайком от дяди повел меня посмотреть на какую-то штуку. Он завел меня на чердак и, показав на нечто, подвешенное на балке, сказал:
– Смотри, вот она.
Штука эта была черная как смоль и напоминала корневище.
– Что это?
Он просиял:
– Это дедушкина нога. Когда он умрет, то ногу снимут и похоронят вместе с ним.
По спине у меня пробежал холодок. Он еще добавил, что когда привезли ногу, то домашние натерли ее солью, затем покрыли слоем глины и повесили здесь коптиться в дыму от очага. Когда глина потрескалась и отвалилась, то почерневшая и усохшая нога стала походить на сосновую корягу. Пол на чердаке застелили не досками, а двумя слоями бамбуковых стволов, чтобы дым при готовке легко уходил через щели, ведь внизу как раз была черная кухня. В других домах давно уже перешли на печи с дымоходом, только здесь сохранился архаичный открытый очаг.
– Тебе не страшно?
– Не страшно.
Когда племянник поднимался на чердак и спускался с него, то прыгал по лестнице на одной ноге, а другую подгибал. Прыжки вниз силы не требовали, но ловкость была необходима. Ведь на деревянных лестницах в деревне ступени очень узкие. Он же быстро прыгал вверх и вниз, мне пришлось ускорить шаги, чтобы поспеть за племянником. Дойдя же до последней ступени, он, подобно птице, взлетающей с электропроводов, улетел больше чем на метр.
Я поинтересовался, почему ему так нравится прыгать. Малец с таинственным (и одновременно довольным) видом засмеялся:
– Горбылки увидят, что я скачу на одной ноге, и не станут меня кусать.
– Так в лесу давно уже нет никаких горбылок.
– В лесу нет, они теперь у нас дома обитают, они прячутся в щелях меж черепицей, скрываются под полом и в куче дров и лишний раз не показываются. Наши мужчины их не видели, увидеть могут только женщины. Причем еще не любая женщина, а только та, что с добрым сердцем.
– Твоя мама их видела?
– Мама не видела, а бабушка да. Однажды вечером она вышла, чтобы напитаться лунным светом. Бабушка сидела в лучах луны и всем телом впитывала лунные лучи, чтобы при следующем перерождении в женщину ее кожа стала такой же белой, как луна. И вот, принимая лунную ванну, бабушка и увидела горбылок, которые резвились у жерновов. Бабушка не стала их спугивать, и нас тоже не позвала посмотреть. Если бы она закричала, то ей никогда не довелось их больше увидеть. Они, конечно, знали, что бабушка сидела там. Окажись там мужчина, они бы непременно спрятались, так как очень чувствительны к мужскому запаху. Один из наших предков, уж не знаю чем, крепко обидел их, и они живут, чтобы мстить его потомкам.
Когда он рассказал такое, у меня сразу зачесалась голень. Я спросил:
– Так что, разве с ними невозможно помириться?
– Есть способ, да только не знаю, можно ли тебе рассказать.
– Я больше никому не скажу.
Малец серьезно посмотрел на меня и продолжил:
– Начиная с детей прадеда, обидевшего горбылок, следовало брать в жены одноногих девушек, и так девять поколений, только тогда горбылки простили бы нас и наши ноги, как и у других, сохранялись бы до старости в паре, их не пришлось бы отпиливать. И сын, и внук прадеда так и поступили. И вот, когда родилось восьмое поколение, один из мужчин не последовал правилу и женился на девушке с двумя ногами. Он сделал это не нарочно, а по ошибке, полагая, что он из десятого поколения, а на самом деле был только восьмым. И вот, начиная с него, несколько поколений не извлекли его урока, и в результате, как приходило время, ноги у всех поражал недуг. Я не буду таким, как они, и когда вырасту, то возьму в жены одноногую. Тогда моим потомкам не о чем будет волноваться.
– Тогда тебе не нужно сейчас прыгать на одной ноге, все равно ведь женишься на такой девушке.
– Так ведь горбылки этого не знают, опять же, узнав, они не обязательно поверят. Они поверят, только когда увидят, что я поступил именно так.
– Ты такой смелый!
Мальчишка засмеялся и, смутившись, несколько раз кивнул головой.
Я тайком спросил двоюродного брата, кто придумал историю о горбылках. Брат хохотнул, приподнял правую ногу, закатал носок, и я увидел пристегнутый ремнями протез.
– О Небо! – невольно вырвалось у меня.
– В прошлом году я уезжал на годичную учебу, тогда и отрезал. Обнаружил рано, поэтому обошлось ампутацией ступни, мне повезло больше, чем отцу.
– Совсем незаметно.
– Чем меньше отрезано, тем меньше и заметно. Правда, нельзя бегать, тогда это сразу проявляется.
– А домашние не знают?
– Кроме твоей невестки, другие не знают. Если бы я с ней не спал на одной кровати, то, может быть, и она не догадалась бы, ха-ха! Я наказал ей, чтобы сыну ничего не говорила, он еще мал.
– Да он, похоже, и не боится.
– Вот и не надо его пугать. Если в нем сейчас поселится страх, то жизни его конец. Ему так нравится читать книги, что ты ему покупаешь. Он хорошо успевает по родной речи, а вот с математикой имеются небольшие проблемы, ты бы ему пару томиков по математике прислал.
– О чем разговор!
Первое, что я сделал, вернувшись в Юньчэн, так это купил и отправил племяннику «Занимательную математику».
Перевод А. А. Родионова
Глаза на дереве
Жань Чжэнвань
У меня по материнской линии есть незаурядный дядя. Когда ко мне в Гуйян изредка приезжают земляки или я сам вдруг встречаю их где-нибудь, то стоит мне упомянуть дядю, как они разражаются хохотом.
Дяде уже стукнуло семьдесят. С того момента, как моя мать вышла замуж за отца, он стал ждать рождения череды племянников, чтобы быть нам дядькой. Другими словами, раньше в нем не было ничего необычного. В 1976 году ему отдавило ноги на строительстве водохранилища, и он превратился в старикашку ростом намного ниже других. Теперь он никуда не ездил, а целыми днями сидел под стрехой и плел корзины, короба и прочую утварь. Он умел плести все, что изготавливалось из бамбука и требовалось в повседневной жизни. Каждый раз в базарный день мой брат Хэ Голян отправлялся продавать в Сянси продукцию дяди.
И хотя плетением дядя занимался уже несколько десятков лет, мастерство его не совершенствовалось и вещи выходили неуклюжими. Однако у неуклюжести этой был и свой плюс – утварь отличалась надежностью и долговечностью. За тридцать с лишним лет эти грубоватые бамбуковые изделия вошли в каждый дом и стали неотъемлемой частью жизни. Думаю, что эстетический уровень земляков от этого не повышался, но дядю трудно в этом винить, ведь он находился под влиянием среды. А землякам-то на изящество и красоту наплевать, для них высшим мерилом была практичность.
До того как имя дяди прогремело на всю округу, деревенские часто имели дело с его изделиями, но редко видели его самого. Это все потому, что потеряв ноги, дядя перемещался лишь метров на пятьдесят. Обычно он сидел под стрехой и лишь в особых обстоятельствах выбирался за пределы двора. Некоторые из тех, кому меньше тридцати, ни разу его и не видали. Если люди по какому делу приходили к нему домой, то разговаривая, из вежливости не задерживали взгляда на том, что осталось от его ног, и не присматривались, чтобы определить рост. Сам же дядя, глядя на тебя, всегда с каким-то вызовом прикидывал твой рост.
Передвигался дядя с помощью двух скамеек. Он опирался на них локтями, наклонял туловище вперед, затем выпрямлялся и двигал скамейки. Затем снова наклонялся. Каждый наклон равнялся шагу. Когда он стоял на обрубках ног, а ты находился рядом, у тебя всегда в тех же местах начинали тревожно ныть ноги.
Все одеяние дяди было особенным, но не вызывало зависти: на ногах, напоминавших короткие столбики, были надеты сандалии, собственноручно сплетенные им из тщательно отобранной рисовой соломы. Сразу после изготовления они напоминали два круглых золотисто-желтых пряника. К локтям его были привязаны замусоленные куски покрышки, подаренные ему родственником-трактористом. Кроме того, физиономия его всегда была сердитой.
Недовольство человека, который никуда не ходит, понять легко. Однако понять до конца все же сложно. Его родным, изо дня в день находившимся поблизости, приходилось несладко. Когда я его навещал, дядя, понятное дело, не сердился, но из-за постоянного гнева его морщины становились все жестче, и даже когда он не сердился, ненароком можно было решить, что он тобою недоволен. Иногда при взгляде на него ты вдруг замечал какое-то странное выражение – как будто ему хотелось хорошенько выматерить кого-то, но из-за внутреннего смятения он, несмотря на взрывной характер, не мог рассказать другим о своих мыслях. Через две-три минуты ему удавалось подавить это смятение, и он, нарезав круг по двору, возвращался в дом, гнев его при этом улетучивался не полностью, что усиливало непонимание и отчужденность.
Живи он в другом месте, можно было бы купить ему коляску. Но для деревни Жаньсинба это не годилось, по крайней мере для дяди не годилось – его дом находился на склоне горы. Двор был маленьким и прилегал к густому бамбуковому лесу, вдоль которого петляла дорожка. По дорожке шли ступеньки из серого камня и канавы, промытые дождевыми потоками. Она пересекала рисовые поля и выходила на проселочную дорогу, которая, петляя, вела в волостной городок, а уже оттуда можно было по асфальтированной дороге добраться до Пекина, Шанхая или еще более далеких мест. Однако дядя был обречен оставаться черной точкой под стрехой своего дома. И когда эта точка поднимала голову, то могла увидеть лишь неровный кусочек неба. Так что, даже будь у него коляска, круг его жизни не расширился бы за пределы двора.
Я специально для него купил бинокль, чтобы дядя периодически выбирался к бамбуковому лесу и оттуда глядел на дорогу, на деревню, отводил душу и прожил бы на несколько лет дольше. Мне казалось, что если он будет видеть дальше, узнавать больше, то и нрав его смягчится, что станет не только благом для его здоровья, но и огромным облегчением для родственников.
В тот день, когда я подарил дяде бинокль, я притащил старика на спине к дорожке у леса. И вот он увидел в бинокль черную собаку, что трусила по дороге и останавливалась по велению своего обоняния. Его лицо расплылось в наивной улыбке, прямо как у идиота. В бинокль можно было четко разглядеть слюну, капавшую из пасти собаки, и шерсть на ее загнутом крючком хвосте. Опустив бинокль, дядя посмотрел вдаль и обнаружил, что это его собственная собака. Словно став жертвой доброго розыгрыша, он возрадовался:
– Собака изо дня в день рядом со мной вертится, а я никогда ее так ясно не рассматривал. Оказывается, у нее на хвосте есть родинка. Надо же, и у собак растут родинки!
На самом деле это была не родинка, а красная шишка, оставшаяся после укуса ядовитого насекомого.
Затем мы увидели Чуньмэй и ее старшую сестру, которые пропалывали грядки. Чуньмэй была молодой толстушкой. Девушки работали и болтали, мы видели, как шевелятся их губы, но не знали, о чем они разговаривают. Однако это было еще забавнее, чем если бы мы услышали их разговор.
Смотреть на прохожих тоже было интересно. Для невооруженного глаза люди на дороге мало чем отличались. А вот с биноклем разница сразу становилась заметной. Кто-то шел подпрыгивая, как будто к ногам его привязали пружины, некоторые не смотрели на дорогу и шли в глубокой задумчивости, ноги сами несли их вперед. Когда такой прохожий наступал на камень или лепешку, то первой реагировала его голова, находившаяся на максимальном удалении от ног, однако тело уже не успевало остановиться. На лице человека в такой момент проявлялась не досада, а какое-то придурковатое непонимание, словно он только что очнулся ото сна. Другие же при ходьбе сначала наступали на пятки, дядя называл таких «конягами». Ступни у них часто были широкими, силы в теле было много, но движения отличались медлительностью, в пути им нравилось смотреть по сторонам. Те же, кто сначала наступал на носки, являлись полной противоположностью, таких дядя называл «ловкачами». Дяде нравились не «коняги», а «ловкачи». Мне же, наоборот, всегда казалось, что чем ловчее человек, тем больше он любит разживаться задарма. Мы не стали устраивать дискуссии, так как скоро наше внимание переместилось на новый объект наблюдений.
В тот вечер улыбка на дядином лице заразила всех домашних. Даже невестка, которой дядя уже давно опротивел до мозга костей, и то не выдержала:
– Я-то думала, что давно уже разучилась смеяться. Если теперь так каждый день пойдет, то у меня и рис будет выходить ароматнее.
Я посоветовал брату, чтобы он подыскал для дяди какое-нибудь место помимо дорожки, нельзя же, чтобы он постоянно смотрел с одной точки. Брат ответил, что без вопросов, если дяде будет по душе, то можно его и на дерево посадить.
Брат про дерево ляпнул для примера, а дядя воспринял серьезно. И вот вскоре после моего отъезда мне позвонила мать и сообщила, что дядька теперь каждый день проводит на дереве.
– Он сам туда взбирается?
– Да нет, твой брат его туда подвешивает.
Дядя специально сплел большую корзину, затем из отборного пальмового волокна изготовил длинную веревку и наконец, разыскал под кроватью шкив, который несколько десятков лет назад принес со строительства водохранилища. На краю бамбукового леса рядом с их домом рос высоченный каштан. Каждый день, отправляясь на поле, брат усаживал дядю в корзину и с помощью веревки и шкива поднимал того до развилки. Возвращаясь же на обед, он спускал дядю с дерева. Мать сказала, что дядя теперь пребывает в отличном настроении. В дождливые дни он не поднимается на дерево, а плетет корзины, и они по сравнению с прежними стали даже красивее.
Я был очень доволен собой, ощутив, что совершил нечто и полезное и элементарное. Ведь доставить радость несчастному человеку, наверное, еще более благое дело, чем построить семиярусную пагоду?
Несколько месяцев спустя меня пригласили вести занятия в один из местных университетов, курс назывался «Литература и средства массовой информации». Это была не одна лекция, а серьезный учебный курс. Я ведь сам не учился в университете, а теперь стал университетским преподавателем, и мне это казалось чрезвычайно важным событием. По всем важным поводам я всегда возвращался в родные края для встречи с родителями, и этот раз не стал исключением.
Еще не доехав до деревни, я уже услышал смешные истории о дяде. Их мне рассказал однокашник, служивший начальником станции в лесном хозяйстве. По его словам, однажды дядя заметил с дерева, как некая парочка тайком предается любовным радостям, и он в мегафон заорал им: «Эй вы, на склоне, те, что в посадках кукурузы, я вас заметил, вы чем там занимаетесь? Смех да и только». Любовники присели на корточки, но кукуруза еще была высотой с палочки для еды и никого скрыть не могла. Дядя продолжал: «На корточках мне тоже видно». Парочка в спешке искала, куда скрыться. Дядя же кричал им вдогонку: «Да не прячьтесь, а отправляйтесь по домам, вы еще ничего не успели натворить, я свидетель».
С каких пор он обзавелся мегафоном? Уже вернувшись домой, я узнал, что его дяде отдал племянник. Племянник тот был в городе старьевщиком. Верхом на трехколесной тачке с педалями и вооружившись рупором, он подъезжал к жилым домам и, невзирая на то, обедали люди или спали, принимался надрывать горло: «Куплю книги, газеты, бутылки!» Недавно он сменил занятие и стал продавать фрукты, а рупор отдал дяде.
Таким образом, как только дядя обзавелся биноклем и мегафоном, у жителей Жаньсинба не стало секретов. Дядя выволок на свет все их тайны.
Однажды жена Лян Шу мимоходом сорвала чужую тыкву, а дядя увидел и закричал: «Эй, у тебя что, в своем огороде нет, зачем крадешь чужую тыкву?» Женщина спрятала тыкву под одежду, на что дядя продолжил: «Такую огромную тыкву разве спрячешь?» Жена Лян Шу выбросила тыкву в кусты и уже не осмеливалась на нее покушаться. Но дядя от нее не отставал: «Позорница и неудачница. Сорвала, да потеряла. Это тебе не камешек речной, а тыква». Женщина, припертая к стене, стала костерить дядю. Но ее слов дядя не слышал: «Ты там что сутры по душу Лян Шу бубнишь? Хочешь бубнить, так отправляйся домой и перед мужем выступай, где ему услышать через гору и реку».
Подобные случаи воровства и приставаний никогда не ускользали от дядиного бинокля и рупора, в нашей деревне он превратился в судью и блюстителя нравственности, все, что ему было не по душе, ему хотелось высказать. И он не боялся этого говорить.
Иногда он оборачивался к дому, чтобы рассмотреть дворовую собаку, поглазеть на кур. Увидев, что собака вертится от радости, он начинал комментировать, мол, чему ты радуешься? Ты же не деревенский староста, чтобы к тебе все подлизывались и подносили подарки, чему же ты радуешься? Увидев, как несушка выходит из курятника и кудахчет, он начинал ругать ее, что несет мелкие яйца, и нечего тут хвастливо кудахтать. Курица замолкала и скрывалась в укромное место ловить насекомых. Тогда он продолжал критику собаки, мол, ты только есть и умеешь, а даже воробьиного яйца снести не можешь.
Когда я пошел в гости к дяде, уже завечерело. По пути расстилалось кукурузное поле, и я услышал, как что-то рубят мотыгой среди кукурузных стеблей. Мне подумалось: деревенские все же сильно отличаются от горожан. В городе даже те, кто живет на минимальную зарплату, и то не будут так поздно работать, а уж заниматься таким тяжелым трудом и подавно. Когда я учился в средней школе, то после уроков сразу принимался помогать родителям – ночами сажал мак, пахал рисовое поле. Свежепосаженные ростки мака из-за оборванных корешков и тепла человеческих рук выглядели вялыми. При высадке днем их легко могло спалить солнце. Ночная же вспашка производилась в борьбе за влагу. Если до конца дождей не вспахать поле, то потом в лесах уже не будет воды и тогда рассаду просто не воткнуть в землю, можно упустить урожай.
Когда здесь живешь, поступаешь как все, это кажется естественным, и потому от этого не устаешь. Иногда немного разозлишься: если всю жизнь заниматься таким трудом, никогда всех дел не переделаешь. Бывало охватывала тоска: неужели мы действительно хозяева этой земли? Почему же нам живется так нелегко? Однако в другие дни к сердцу приливали волны любви к мотыге, любви к своим близким, занимавшимся тяжким трудом, любви к шелесту кукурузы, и казалось, что раз другие так живут, то и ты тоже должен жить так же. И потому камень спадал с сердца. В такие моменты у мотыги казалось, вырастали глаза, и она бодро тюкала среди растений, сорняки покорно падали, а кукуруза, словно беззастенчивая девчонка, принималась дрожать, обещая хорошенько расти.
– Как вы там еще что-то видите? Осторожней, не рубаните по пальцам. – Я специально сказал погромче. Когда возвращаешься в родные места и разговариваешь с земляками по-свойски шутливым тоном, им это нравится, и они признают, что ты не забываешь о корнях.
Мотыга замерла, но никто не ответил.
Я посветил фонариком, и одного мгновенья хватило, чтобы узнать: там была та самая молодуха, которую дядя застукал в кукурузе с любовником. Мое смущение невозможно было описать, оно не исчезло бы, даже обернись я вокруг света. Хотя не знаю, из-за чего я, собственно, смущался.
Я хотел было сказать, мол, извини, не знал, что здесь ты. Но в этом было бы что-то неправильное, ведь я хотел сказать, что не знал, что здесь женщина, а получалось нечто другое. Однако, похоже, стоит открыть рот, и вечно выходит что-то не то.
– Так это ваше поле? Я и не знал, что ваше. – Голос мой дрогнул, и вместо деревенской речи прозвучала казенная фраза. Мало того, что фальшиво, так еще и холодно. Как будто я ее боялся. Я сам себе удивлялся.
– Ой, дядя Тянь. Вы снова к нам, дядя Тянь? – Женщина же не испытывала ни капли смущения.
– Уже так поздно, чего не идешь домой?
– Еще не дополола. Вот дополю и тогда домой, – жизнерадостно ответила она.
Я не находил, что сказать, да и нужно ли говорить? Сделал пару шагов и заколебался, уйти ли сразу, но она уже зашуршала мотыгой, и я с облегчением ускорил шаг.
У дяди уже поужинали. Когда я пришел, невестка вновь пошла варить рис. В Жаньсинба когда принимают дорогих гостей, то варят им рис, и неважно будут те есть или нет.
Дядя и брат смотрели телевизор. Брату было только сорок, но старость уже прорезалась в чертах его лица. Однако когда его глаза следили за телеэкраном, то на лице его проступала дурацкая радость десятилетнего мальчишки, он верил, что в телевизоре все взаправду, и ни в чем не сомневался. Дядя в этом отношении был такой же, но он смотрел телевизор не с той страстью, что сын. Через какое-то время он свешивал голову на грудь, дремал, изредка поглядывал на экран, а окончательно просыпался, только когда телевизор выключали. Когда я к ним вошел, то все поначалу оживились, но вскоре успокоились. Ощущалась какая-то торжественность и даже неловкость. Брат с присущей ему покорностью слушал мою беседу с дядей и периодически поглядывал в сторону кухни, как будто волнуясь, что невестка не справляется, но при этом ни разу не встал, чтобы той помочь.
– Ты когда вернулся? Как это я тебя не заметил? – спросил дядя, как будто я втихую проскользнул мимо его бинокля, а он не увидел, и это его огорчило.
– В три тридцать, меня довез на машине однокашник, – честно ответил я.
– Это какой однокашник? – продолжал допытываться дядя.
И только когда я подробно рассказал дяде, где тот живет, как зовут его отца, где работает его супруга и так далее, он перешел к другим вопросам.
Мне хотелось знать, какие у дяди появились новые мнения и умозаключения, после того как он стал сидеть на дереве. Дядя, правда, не очень понимал, о каких «мнениях» речь, уж не говоря о том, чтобы устраивать дальнейшую жизнь на основе «умозаключений». Я привык к канцелярской жизни, и эти два слова стали для меня привычными, а иногда даже ключевыми. Каждый раз, когда я направлял разговор в это русло, чтобы он выдал мнение или умозаключение, тот отбивался от меня полуфразой или парой слов.
Я спросил, зачем всем сообщать, что кто-то подарил старосте вяленый окорок, это разве не обычное дело? Он отвечал, мол, забавно.
А ничего, что некоторые, будучи под надзором, чувствуют себя как в тюрьме, где за ними всегда следит пара глаз, и от этого им не по себе? Дядя говорил, что его это не волнует.
Я заметил ему, что кроме наблюдения за людьми можно смотреть и на деревья, на птиц, особенно на орлов, которые не только охотятся на кур, но и атакуют в небе других птиц. Дядя отвечал, что ему это не интересно.
Когда невестка накрыла стол, я съел полчашки, а дядя с братом навернули по две, точно в животах их имелась безразмерная пропасть – была бы еда, а место всегда найдется. Ели они с огромной скоростью и при этом смачно чавкали.
Поев, дядя продолжил разговор, но его уже клонило в сон. Он то засыпал, то пробуждался и каждый раз, просыпаясь, продолжал прерванную беседу. Я предложил ему отправиться спать, но он упорствовал, говорил, что не хочется. Я понимал, что он так поступает ради меня, проявляя таким образом должное уважение к родственнику, работающему на чужбине.
Я спросил брата, как у него дела в последнее время, тот вздохнул:
– На поле и дома – круглый год одно и то же, ничего нового. – Затем покосился на похрапывающего отца и, покраснев, продолжил: – Ты же не знаешь… Раньше, когда у них появлялась работенка, то меня звали, а сейчас – кто совсем не зовет, кто меньше зовет.
«Они» – это деревенские.
– Почему же не зовут?
– Так из-за отца, он ведь стольких людей обидел. Лезет и куда надо, и куда не надо.
Брат хотел сказать, что раньше, когда где случалась горячая пора, его приглашали помочь, ведь он не болтал лишнего и отличался добрым нравом. Это нравилось окружающим, но теперь многие были обижены дядей, и брата перестали звать, что того расстраивало.
– А к нему приходили, ругались?
Брат расплылся в улыбке:
– Да кто рискнет с ним связываться! Его норов всем известен. О неприятном только со мной разговаривают, его не трогают. – Он покачал головой: – Знай я раньше, что он начнет во все соваться, не позволил бы ему тогда подниматься на дерево.
– Но дома ему все равно сидеть плохо. Сейчас у него настроение разве не намного лучше прежнего?
– Это-то да, – согласился брат, – вот только бы не лез куда не следует.
– Но откуда же ему разобрать, куда можно лезть, куда нельзя? Поставь себя на его место, боюсь, тоже бы не разобрался.
– Проблема в том, что его несет все дальше и дальше, – кивнул брат.
– Когда из-за дождя ему нельзя на дерево, то ему все не по нраву, как будто это мы вызываем дождь, чтобы не пустить его на дерево. А это ведь в руках Неба, уважаемый. Он же злится! – обратилась ко мне невестка. Видно было, что ее недовольство свекром этим не ограничивалось.
– Старый он уже, – пробормотал брат, – живет, и то хорошо.
– Да ты не волнуйся, он до ста лет доживет. Как поднимется на дерево, так весь аж сияет. Кто знает, может, мы помрем, а он по-прежнему будет на дереве сидеть, – изрекла с мрачноватой ухмылкой невестка.
Брат уныло взглянул на жену, вздохнул и хотел еще что-то сказать, да не стал.
– Раньше он еще корзины плел, проданного хватало на мелкие расходы, а сейчас перестал. В общем, благополучия ни в каком смысле не прибавилось. Дел по дому так много, ноги у него покалечены, но руки-то целы. А он дни напролет со своим мегафоном суется в чужие дела, а оголодав, ест еще больше, чем работник в поле!
Я сделал вид, что ничего не слышал, но моего огорчения уже было не скрыть, похоже, невестка совсем распоясалась.
– Как быть с таким стариком, мы ведь с ним по-хорошему – и кормим и одеваем, никогда ни в чем не обделяли. Вон в Шатяньвани есть семейка, может, слышал, там старушка старая-престарая, но любит покурить табаку и выпить винца. Табак старуха выращивает сама, от старости она, подняв мотыгу, тюкает ею в разные стороны, пока не попадет в нужное место, а та не входит в землю. В общем, копает она мелко, сил принести навоз у нее нет, худая, как смерть. И вот этот-то табак у нее еще и отбирает сын. Этот ублюдок и ленивый и ненасытный. Если где купит вина, так все выпивает, еще не дойдя до дома, ни капли не оставляет матери. Только дочь о той и заботится – раз в полторы-две недели приносит ей пол-литра и наказывает, чтобы мать, отхлебнув, хорошенько прятала бутылку. Прятали под изголовьем, за дверью, в куче золы, но разве упрячешь, ублюдок каждый раз находит.
Тут вдруг очнулся дядя:
– Что прячете, ничего не скроете.
Он нас перепугал.
– Да ничего не прячем, это я брату деревенские басни рассказываю.
Дядя с важным видом неторопливо дал наставление:
– Когда умру, вы меня в земле не хороните, а повесьте на дереве, тогда я смогу увидеть возвращение Чжуэр.
Брат с женой обомлели, а затем глаза их покраснели. Чжуэр – это дочь моего брата, несколько лет назад она сбежала с одним болтуном-фольклористом, собиравшим народные песенки, и с тех пор от нее ни слуху ни духу.
Через день утром я уехал из Жаньсинба. Солнце еще не поднялось, над ручьями в ущельях висел прозрачный туман. Петухи звонким пением как будто провожали старого друга. В их «ку-ка-ре-ку» мне слышался вопрос «Когда ты вернешься домой?»
Я через поля вышел на дорогу, чтобы дождаться там автобуса. Тяжелый дух от молчаливой земли под ногами заставил меня несколько раз чихнуть. Куда бы я ни попал, я всегда помню о родных местах, точно скитаюсь меж тоской и тревогой. И словно какое-то беспокойство мешает мне твердо стоять на ногах. Мне никогда не казалось, что на родине как-то особенно красиво, но все тут любо моему сердцу. Каждый раз возвращаясь, я все здесь нахожу скучным и пресным, но стоит уехать, как начинаю тосковать и днем и ночью.
Однажды, спустя несколько месяцев, когда я вел занятия, в кармане моем настойчиво завибрировал телефон, доводя ногу до онемения. Я без раздумий нажал отбой, но вскоре телефон вновь задрожал, и так пять раз подряд. Пришлось выйти из аудитории и принять звонок. Оказалось, звонил брат. Он, всхлипывая, сообщил, что дядя навлек беду: правительство волостного города собирается подать на него в суд. Если я не помогу, то дядю отправят в тюрьму.
После уроков я сделал несколько звонков на родину, и выяснил, что стряслось.
Все оказалось просто. Местное правительство занималось привлечением инвестиций и заполучило один ресторанно-досуговый проект. Инвестору приглянулось водохранилище Иньюй. Вокруг горы, поросшие лесом, у подножья гор бирюзовая рябь воды, да и дорога близко. Волостной городок Сянси был центром торговли острым перцем. С того дня как здесь появился красный перец, тысячи торговцев стали слетаться сюда, словно пчелы на мед. Сянси давно уже был большим поселением. А два года назад в местечке Чжифан стали добывать золото, и всех жителей горной долины переселили в Сянси, снабдив каждую семью немалым пособием на переезд, которому молодежь охотно находила применение. Поэтому отстроить всего в двух километрах от Сянси в горах комплекс с ресторанами и развлечениями было неплохой идеей.
Работы еще не начались, а у водохранилища уже разместили огромный плакат: на фоне озерной глади и горных пиков были изображены двое красавцев-мужчин. Один в спортивном костюме, с шарфом на на шее, похоже, только что закончил теннисную партию. На столе лежали ракетки. Другой мужчина выглядел постарше, обернувшись банным полотенцем, с нарочитой серьезностью он указывал куда-то за пределы картины. Неподалеку с подносами в руках стояли три улыбающиеся девушки в прозрачных нарядах. На подносах соблазнительно красовались изысканные напитки и лежали сочные фрукты. Просвечивающие сквозь одежду девушек соски напоминали спелые ягоды. Половину фона занимала вода, половину – горы. Вдоль озера у строений, напоминающих виллы, прогуливались нарядные пары. По левому краю поверх облаков парили иероглифы «Развлекательный комплекс “Иньюй”».
Дядя находился далеко от рекламного щита, но с помощью бинокля мог разглядеть даже цветовые точки на плакате, появившиеся из-за низкого разрешения при печати. Дядя решил, что у них будут показывать фильм. Кинобригады уже больше двадцати лет не приезжали в деревню, поэтому он очень воодушевился. В рупор он стал призывать всех пораньше управиться с ужином, а затем со скамейками отправиться к водохранилищу, чтобы занять места перед экраном. Три полуголые девицы резали глаз, но он все мог понять правильно, хотя я и не знаю, что именно он понял.
Брату пришлось несколько раз объяснять, прежде чем дядя поверил, что кино показывать не будут. Через несколько дней у дамбы появились экскаваторы и бульдозеры, чтобы приступить к земляным работам. Говорили, что стоит начать, и тут же появится в десять раз больше техники и машин.
Дяде это не понравилось, и он стал с помощью рупора и бинокля выражать протест. В его словах не было ничего особенного, что-то вроде «Кто осмеливается копать у водохранилища, тот раскапывает могилы предков», «Когда строили водохранилище, кто из вас принес хоть корзину земли или утрамбовывал насыпь? Кто вам дал право строить развлекательный комплекс?», «Я без ног уже несколько десятков лет, давно отжил свое, если хотите кого зарыть у водохранилища, то хороните меня первым, мне, Жань Гуангую не нужна жизнь». Вот такая брань и преувеличенные угрозы. Если бы не рупор, то, матерись он прямо перед бульдозером, никто бы и не обратил внимания, а с мегафоном совсем иное дело – он усиливал его голос в десять раз, и тот разносился по всей округе, отражаясь от горных склонов и прокатываясь в небе над деревней. А если добавить, что свободного времени у него хватало, то стоило кому-нибудь показаться у бульдозера, как дядя принимался того костерить, невзирая на личности, будь то чиновник из города или просто пришедший поглазеть крестьянин.
Жители Жаньсинба вместо слова «говорить» употребляли «травить», которое дядя предпочитал понимать в прямом смысле.
– Другие не травят, а я не могу не травить, – с напором заявлял он.
Ноги дяде отдавило как раз на строительстве водохранилища Иньюй. В тот год секретарь коммуны мобилизовал всех коммунаров на устройство водохранилища у пещеры Иньюй. Секретарь говорил, что если, де, хотим есть белый рис, то нужно постараться. С древних времен в Жаньсинба, кроме нескольких заливных полей в низине, остальные посадки располагались на горных склонах, где выращивали кукурузу. Но деревенские не называли ее кукурузой, это было какое-то заморское слово. Они называли ее майской. Земля ничего, кроме маиски, не рожала, вот и приходилось только ее и есть. Люди, охочие до еды, еще называли ее маисовой жрачкой. Кто кукурузу ест нечасто, тому может даже понравиться. Кладешь сначала на дно горшка замоченный рис, сверху кукурузу, а как все дойдет на пару, так перемешаешь и ешь – и вкусно, и жевать приятно. А вот есть кукурузу круглый год – это совсем иное дело. Риса в каше ни зернышка, подсохшая кукуруза становится жесткой, забивает рот и прилипает к зубам, приходится ее сдирать языком и затем жевать, а жуется она как песок. Пока расправишься, начинает ломить в висках, когда же разжевал и пытаешься проглотить, глаза на лоб лезут и выступают слезы, по глотке словно наждаком прошлись, и вот наконец твердый шмат кукурузного варева падает в живот. Кукурузу редко доводится есть свежей. Принеся с поля, ее вешают над печкой, а затем, высушенную, хранят на чердаке. И какого бы приятного цвета изначально ни была кукуруза, она превращается в закопченую черно-желтую маиску, отдающую неприятным дымным духом.
Секретарем коммуны был низенький толстяк, при ходьбе он словно перекатывался. Преисполненный решимости, он ел и спал на стройплощадке, кроватью ему служила дверь, а одеялом – мешок из-под цемента. У него имелся свисток, и когда секретарю что-то было не по душе, то он засовывал свисток в рот и так противно свистел, что у тебя аж мурашки пробегали по коже. Еще до рассвета он выгонял всех на работу, и люди пахали до тех пор, пока в темноте пальцев нельзя было разлить. Если кто просыпал по дороге землю или не до верху наполнил землей корзину, то он подкрадывался и неожиданно дул в свисток так, что от испуга люди аж подскакивали. Если же кто осмеливался огрызаться, секретарь не снимал висевшей у него на груди печати, чтобы погасить «земляной талон», а без талона бухгалтер производственной бригады трудодней не начислял.
Дядя на это совсем не роптал.
Однажды к ним приехал начальник уезда и, встав на склоне, обратился с речью: «Товарищи бедняки и низшие середняки! Империализм еще не оставил нас в своих помыслах. Наши подлинные братья в Танзании и в Албании. Мы должны соединиться с мировым пролетариатом и вместе бороться за освобождение человечества! Этой зимой и ближайшей весной мы должны работать больше и быстрее, должны вершить революцию и наращивать производство…»
Крестьяне, устроившие перерыв на время выступления начальства, сидели кто на коромыслах, кто на корзинах. Они задумчиво курили листовой табак и лениво трепались о мелочах. И когда им вновь приходилось взваливать груз на плечи, то они никак не могли связать землю в своих заплечных корзинах с освобождением человечества и не понимали, какое это имеет отношение к Танзании или Албании. Ты ешь тут свою кукурузную кашу, и чем ты можешь им помочь? Кто знает, может, ты здесь вкалываешь до седьмого пота, а те по твою душу коварные планы вынашивают?
Однако дядя понимал слова руководителя правильно. Эту работу нужно было выполнить, и даже не ради освобождения человечества. Иначе зачем ты ел так много кукурузной каши? Разве, поев, можно отказываться от работы? Он полагал, что сокровенный смысл жизни заключается именно в употреблении кукурузной и рисовой каши, остальное чепуха.
Дядина работа была тянуть каток. Это был самый тяжкий труд, за него насчитывали много трудовых единиц. Так называемым катком служила огромная круглой формы бетонная глыба, которой выравнивали и утрамбовывали землю. Шестнадцать крепких мужиков тянули каток туда-сюда. Потянув денек лямку и скинув веревки, они чувствовали себя воздушными, словно ласточки, но стоило им сделать шаг, как походка их обнаруживала некую театральную неестественность: ноги были тяжелые, а тела – легкие. Труднее всего было начинать, даже рывка шестнадцати человек было недостаточно, приходилось привлекать добровольных помощников. И только после нескольких поворотов плечам становилось ощутимо легче. Но число новых стартов было слишком велико, помимо того что, разумеется, приходилось разворачиваться, так еще и ноги увязали в мягкой почве. Когда уложенная земля утрамбовывалась, она становилась плотной и блестящей, тянуть каток уже не составляло труда, рабочие могли гонять его туда-сюда играючи. На этом этапе они принимались шутить и смеяться, следом улыбались и те, кто таскал корзины. Но не успевали работяги вдоволь повеселиться, как набрасывали новый слой земли и их вновь одолевал бесконечный тяжкий труд.
Дядя в упряжке занимал место коренного, еще с тремя товарищами они стояли в самом последнем ряду. При начале движения нужно было, упершись одной ногой чуть впереди, другой позади, сделать полшага, при этом следовало согнуться в положение дышла, уткнуться головой в зад впередистоящего, поднатужиться, и тогда каток, как будто нащупав путь, начинал неспешно проворачиваться. Только тут рабочие могли расслабить задницы и, смиренно кивая на каждый шаг, тянуть каток вперед. Каток утрамбовывал рыхлую землю, а также закатывал следы рабочих.
В тот день каток уперся в камень, и даже с восемью дополнительными рабочими его не удавалось провернуть. Бригадир позвал еще восьмерых. Тридцать два человека натянули веревку, крикнули «взяли», каток тотчас покатился, веревка на плечах ослабла, дядя упал, и каток отдавил ему обе ноги. Когда его доставили в больницу, врач их отрезал.
Инвестор, привезенный вице-мэром, услышав дядины вопли, развернулся и уехал. Между тем для вице-мэра успешное воплощение данного проекта означало, что на следующих выборах он имел шансы пройти в мэры. Ярость его можно было себе представить.
С того дня как дядя стал препятствовать стройке, у деревенских начались непримиримые споры. Одна партия говорила, что этот старикашка сумасшедший. Мол, построят комплекс, у деревенских появится работенка, можно будет продавать снедь или пробавляться еще каким-нибудь смежным бизнесом, разве это не доброе дело? Другая партия не соглашалась: не нужно такого добра, за столько лет что в городе, что в деревне, когда это добро сваливалось на твою голову? Только родственникам или приятелям начальства и светит разжиться, так ведь? Вот испортят водохранилище, загрязнят его, откуда будем брать воду для заливных полей? Они напортачат и уйдут, а мы-то местные, еще наши предки здесь жили.
Когда инвестор передумал вкладывать капиталы, то споры деревенских поутихли. Однако взбешенный донельзя вице-мэр заявил, что дядя должен нести ответственность за все последствия. Дядя же с видом победителя сказал вице-мэру:
– Как тебе угодно. Мне и жизнь-то недорога, неужели тюрьмы испугаюсь?
Мне казалось, что на тюремный срок это не тянет, дядино поведение все же недотягивало до преступления, под закон это не попадало. Я успокоил брата, мол, вице-мэр просто пугает, а уж если подаст в суд, то я обязательно приеду. Через однокашников на родине я узнал, что тамошним чиновникам дядя стоит поперек горла. Иск действительно обсуждался на совещании у руководства, но никаких шагов пока не предпринимали, так как никто не знает, как с этим быть.
Брат больше не звонил, это подтвердило мою правоту, и я успокоился.
Следующий раз я оказался дома и навестил дядю уже где-то через полгода. Я специально выбрал для визита послеобеденное время, когда ярко светило солнце, чтобы проверить, заметит ли он меня с дерева.
Однако, уже зайдя во двор, я обнаружил, что дядя не сидел на дереве и не вязал корзины под стрехой. Меня охватило тревожное предчувствие: не заболел ли он?
Мое сердце успокоилось, только когда я вошел в дом. Дядя лущил кукурузу в боковой комнате. Взяв кукурузину, он шоркал ею по деревяшке с набитой поверх резиновой подошвой, и зерна осыпались. В комнате с одной стороны лежали кукурузные зерна, с другой – кочерыжки, между ними не было перегородки, поэтому они смешивались. Когда я вошел, дядя на скамеечках добрался до стула, ловко плюхнулся на скамейку, а затем, опираясь на ручку, взобрался на стул и предложил налить мне воды. Я торопливо сказал, что сам управлюсь.
– А в деревне разве нет молотилки? Чего не пользуетесь?
– Ни к чему.
– Брат, наверное, скаредничает, слышал, что за день пользования молотилкой берут тридцатку.
– Не в деньгах дело, – ответил дядя.
– Так ведь много кукурузы, это когда управишься?
– Да не долго, опять же мне нечем больше заниматься.
– Слышал, что теперь тебя даже вице-мэр боится, не решается заезжать в Жаньсинба, ты суров.
Мне казалось, что эта шутка его порадует, кто бы мог подумать, что он сердито глянет на меня:
– Боится меня? Если бы боялись, то не раскапывали бы повсюду могилы.
Сказав, он в сердцах шваркнул початком, и очистил целую пригоршню зерен.
В это время вернулись брат и невестка, подрабатывавшие на заводе по переработке перца. Это было подразделение пищевой фабрики из Чунцина. Сейчас как раз отстраивали цеха, и многие деревенские были там заняты.
Брат был такой же, как и прежде, медлительный и спокойный. Сестра же не сдерживала воодушевления, так как после завершения стройки она могла устроиться туда на работу и расфасовывать перец по бутылочкам.
От брата я узнал, что дядя больше не поднимается на дерево. Я поинтересовался: это вице-мэр или еще кто-то не пускает его туда, или деревенские возражают, или сами домашние запретили? Брат пояснил, что ни то, ни другое, ни третье, это он сам больше не хочет ни смотреть, ни орать.
– А что случилось? – с некоторой тревогой поинтересовался я у дяди, – Почему ты больше не сидишь на дереве?
– А что там делать? – в свою очередь спросил он меня и продолжил лущить кукурузу. Он, видимо, слышал наш разговор с братом вне комнаты. – Ничего интересного не увидишь, у меня от глядения аж глаза пухнут!
Накапливавшееся в душе огорчение всколыхнуло его, но затем он с какой-то безысходностью пробормотал:
– Смотреть на деревья, так они уже срублены… На горы – они уже не те… На людей – так они уже не те, что раньше… Хорошо, что меня ждет конец… Чжуэр вернется и, боюсь, тоже не найдет дороги. – У него выступили слезы.
Я всячески утешал дядю, мол, нужно смотреть шире, большие изменения за последние годы говорят о том, что общество быстро идет вперед, у деревенских завелись деньжата, качество жизни повысилось, это все благо.
– Я понимаю, что благо, но не могу привыкнуть, странно мне все.
Выйдя от дяди, я заметил, как люди снимали рельеф местности.
Прямо напротив дядиного дома должны были отстроить цементный завод. Раньше он располагался в городе, но, спасаясь от штрафов за загрязнение, хозяева осмотрелись, приглядели Жаньсинба с его богатыми запасами известняка и глины и решили перенести производство сюда. Говорят, сейчас еще идут переговоры о строительстве фармацевтической фабрики.
Перевод А. А. Родионова
Бессточная река
Сяо Цзянхун
1
Река спускалась с западного склона горы, пересекала нагромождение горных пиков, застенчиво оглядывала деревню и утекала вдаль.
Цюнхуа сидела на корточках у ручья, бросая в таз выстиранную одежду, она подняла руку, чтобы вытереть пот, мысли же ее текли вслед за водой. Она часто задавалась вопросом, куда же течет эта река после всех излучин, которые можно охватить взором? Впадает в еще более крупную реку? Или сливается с бескрайним морем? В школе учитель географии рассказывал, что все реки, в конечном счете, погружаются в объятия открытого моря. Точно. Наверное, все именно так.
Звонкие голоса молодых женщин с треском разбивались о поверхность воды. То одна, то другая вставала, чтобы размять затекшие ноги, а затем, держа таз двумя руками и прижимая его к боку, они ушли по дороге, выложенной камнем, громко перекрикиваясь.
Боковым зрением можно было увидеть деревню, располагавшуюся на берегу реки, выстроившиеся в ряд двухэтажные домики обрамлялись белоснежными изразцами, высокие заборы превращали каждый двор в независимое единое целое. Застыв, Цюнхуа смотрела на эту картину, в душе поднялась досада. Все-таки прежние дома с сине-зелеными черепицами были лучше, не было такого ослепляюще белого цвета, не было высоких заборов, слышались смех и разговоры детей, и старики чувствовали себя вольготно и радостно. Впервые попав в эту деревню после знакомства с Чуньшу, Цюнхуа попала под ее обаяние. Когда она шла по центральной дорожке, все лица были обращены к ней и улыбались. Стоило ей укрыться в углу двора, как у ворот скопились интересующиеся, тут были и дедушки с трубками табака во рту, и тетушки с короткими фартуками, а еще волосатые детишки, сверкающие белыми зубами, и все они заливались чистым смехом.
Дома с зелеными черепицами исчезли в мгновение ока. Сначала родители и невестка Дун Шэна с юга деревни со слезами на глазах обдумывали вопрос о том, что если деньги просто лежат, то это в любом случае гибель, уж лучше на них дом построить. С грохотом был разрушен старый дом, и вскоре на этом месте появилось трехэтажное здание. Вот это размах! Раз сносить, то все начали сносить старые дома, и вскоре цвет деревни изменился, спокойный зеленый сменился ослепительно белым. Родители мужа пришли к Цюнхуа обсудить, надо ли и им дом сносить? Цюнхуа не проронила ни слова, она прекрасно знала их характер: обсуждай – не обсуждай, все равно снесут. Она хотела бы оставить те две комнатки, в которых они жили после свадьбы с Чуньшу, но свекор был не согласен:
– Кто же, – говорил он, – бреет голову лишь наполовину – одна сторона старая, другая новая, разве ж не получится инь и ян на голове?
В день переезда в новый дом Цюнхуа прибежала на реку, где просидела полдня, свист и треск хлопушек внес хаос в ее мысли и принес беспокойство.
Ей все казалось, что она виновата перед Чуньшу.
Под журчанье воды Цюнхуа, распахнув клетчатую рубашку цвета ржавчины, тихо водила рукой по воде. Водила-водила и вдруг на поверхности воды появилось лицо. Лицо мужчины, но совершенно не похожее на Чуньшу. Ей стало нечем дышать, и она поспешно перевела взгляд вдаль, солнце по-прежнему было высоко, оно недоброжелательно смотрело в эту сторону, и Цюнхуа уставилась на него. Режущий глаза свет в конечном итоге отогнал это привязавшееся лицо.
Стиснув зубы, Цюнхуа мысленно обругала себя.
Бросив последнюю одежду в таз, Цюнхуа села. Другие женщины ушли, раздавалось лишь журчание воды.
Цюнхуа подняла голову и увидела Чуньшу – в ущелье горного хребта на другой стороне реки. Тридцать восемь мужчин деревни заполняли все ущелье.
2
Когда она вернулась домой, отец сидел у забора, поджав под себя ноги, его окутывал дым из трубки. Цюнхуа открыла дверь, приоткрылись два старых глаза. Через узенькую щелочку они искоса взглянули на Цюнхуа, пересекавшую двор, и медленно закрылись. Цюнхуа позвала отца, а потом начала выкладывать одежду и вешать ее на тонкую веревку, натянутую между двумя коричными деревьями. Вскоре веревка превратилась в ветку японской софоры, увешанной разноцветными бутонами. Цюнхуа вылила оставшуюся воду на землю под забором, развернулась и направилась на кухню.
Вынув трубку изо рта, отец бросил в дым фразу:
– Сверкающая машинка точно заржавеет!
Мать возилась с обедом – ее поварешка так и летала туда-сюда по сковороде. Увидев Цюнхуа, она рассмеялась:
– Все на реку ходишь? Ведь у нас же машинка есть!
– Да не привыкла я к ней! – Цюнхуа подала матери тарелку.
Мать обернулась и посмотрела на нее, затем тихонько постучала ложкой по краю сковородки:
– Твой отец боится, что ты будешь сильно уставать, потому и ездил за горы за стиральной машинкой. Я слышала, что она может испортиться, если ее не использовать!
Цюнхуа тихонько пробормотала:
– Испортится и ладно.
Мать не расслышала, поэтому переспросила, пододвинувшись поближе:
– Что ты говоришь?
Цюнхуа отрицательно покачала головой:
– Ничего я не говорила.
Когда еда была уже на столе, Цюнхуа позвала отца. Отец Чуньшу хорошенько вытряхнул трубку, постучав ею по подошве, кашлянул дважды и медленно подошел.
Цюнхуа разложила еду по тарелкам и наконец села. Только она взяла пиалу и уже собиралась положить в нее еду, как почувствовала, что что-то не так. Отец с почерневшим лицом уставился на мать, а та взволнованно смотрела на Цюнхуа. Цюнхуа замерла, подумала и вспомнила. С возгласом «О, точно!» она поставила чашку и помчалась на кухню, чтобы взять новые приборы. Она набрала полпиалы риса и разнообразные овощи, а потом, низко наклонив голову, поставила еду перед поминальной табличкой в специальной нише, палочки же аккуратно положила на край пиалы. Цюнхуа сделала два шага назад и постояла так молча. Только она собиралась занять свое место, как отец мрачно произнес:
– Поставь вино! Ты что, не знаешь, как он это любит?
Цюнхуа поспешно достала бутылку, налила вино в стакан и поставила рядом с пиалой – раздался легкий звон.
Атмосфера за столом была тяжелая, все занимательные истории были отложены на потом, ведь рядом еще присутствовала душа недавно умершего.
Цюнхуа, вымыв посуду, принесла табурет и начала вместе с матерью перебирать соевые бобы под коричным деревом, что росло во дворе. Они болтали и смеялись, солнце переливалось на горошинах бобов. Цюнхуа быстро работала руками, и вскоре они был полны мелкого песка; мать улыбнулась:
– Вот люди все молятся, говоря, что чем больше денег, тем лучше, чем меньше возраст, тем лучше, а мне время уже состарило глаза, бобы и песок не различаю!
Цюнхуа тоже рассмеялась, но быстро замолчала. Отец уселся под карнизом. Его взгляд обжигал, как солнце.
Дверь во двор отворилась – это была жена Дабао. Ей исполнилось двадцать пять на исходе лета – такой же возраст, как и у побегов коричного дерева. С тех пор, как ее муж лег в землю в ущелье, она отбросила неопытность юной невестки и переняла манеры полноправной хозяйки дома, она практически стояла на равных со свекром и свекровью. Иногда Цюнхуа даже завидовала ей, но понимала, что, в конечном счете, ей не сравниться с женой Дабао. У той был ребенок, да к тому же – мальчик, в глазах родителей мужа – драгоценный кусочек. С такой защитой у нее была полная уверенность в праве командовать.
Голос у нее был все такой же громкий, как вошла, сразу заорала:
– Цюнхуа, завтра пойдешь на рынок? Говорят, в магазинчик на улице Чжэньдун завезли новую одежду.
Цюнхуа не ответила, украдкой взглянула на мать. Казалось, что уши и глаза у матери никуда не годятся, она как будто не слышала шума, производимого женой Дабао. Потом она взглянула на отца, его седая голова прислонилась к забору. Лишь спустя какое-то время мать подала голос, крикнув:
– Пришла жена племянника! – а затем велела Цюнхуа: – Принеси ей табуретку!
Вышло, будто она не заметила, что пришла гостья, и теперь ей якобы неловко.
Цюнхуа уступила свою табуретку, жена Дабао, не смущаясь, расположила на ней свою задницу, подняла голову и сказала Цюнхуа, которая стояла, прислонившись к коричному дереву:
– Пойдем! Говорят, в этой партии новые модели – которые в городе сейчас в моде!
Цюнхуа не ответила ни да, ни нет, казалось, прошла вечность, прежде, чем ее рот приоткрылся.
– Да у нас место размером с ладонь, для кого наряжаться-то? – сказала мать жене Дабао, естественно, все еще улыбаясь. Та улыбнулась в ответ:
– Тетушка, вас послушать, так одинокие люди должны ходить с голой задницей!
Мать по-прежнему улыбалась:
– Смотрите, как она говорит, да ее болтовней можно деньги зарабатывать!
Жена Дабао вновь подняла голову:
– Пойдешь или нет?
Цюнхуа все также безучастно улыбалась. Увидев, что ее вопросы не дают результата, жена Дабао скривила рот и поднялась, упершись руками в колени. Она хлопнула Цюнхуа по плечу:
– Все, договорились, завтра утром в семь я за тобой зайду.
Она протопала к двери, не попрощавшись. Глядя на ее силуэт, мелькнувший за воротами, мать холодно хмыкнула:
– Никакого воспитания, все наряжается, а кости мужа еще не остыли!
3
Дни в марте в деревне Таньчжуан были долгими, еще шести не было, а окна уже наполнял желтый солнечный свет. Цюнхуа успела встать до восхода солнца. Она посидела на кровати, темнота перед глазами постепенно стиралась рассветом. Вокруг была все та же вызывающая сердцебиение мертвая тишина и холод. Однако посреди этого выделялось красное пятно – иероглиф счастье на туалетном шкафчике: он еще не выцвел полностью, нетемный и несветлый, он холодно улыбался.
Цюнхуа открыла дверь, солнце замерло на горной вершине, а его лучи внезапно откинули ее тень назад, вытянувшаяся голова прямо легла на стол для жертвоприношений перед нишей для поминальной таблички.
Набрав в таз воды, Цюнхуа присела рядом с чаном и начала умываться. Мать тоже поднялась и теперь стояла в дверном проеме, потягиваясь, ее рот был раскрыт навстречу солнцу, словно собиралась кричать. Увидев Цюнхуа, мать сказала:
– Не надо все время так рано вставать, сейчас ведь не сезон наблюдения за посевами, поспи подольше, а пейзаж не так важен.
– Я не могу уснуть, уж лучше встать, что-нибудь поделать.
– Да что можно делать в это время-то?
– Бороться с пустыми мыслями! Зашить что-нибудь, постирать, как же нет дел?
Мать открыла рот, но ничего ни сказала. Какими бы ни были мозги никуда не годными, все равно она услышала боль в словах жены сына. Сделав два шага в сторону чана, мать сказала:
– Разве жена Дабао не договорилась с тобой пойти на рынок?
Цюнхуа выплеснула воду из тазика под водосточную трубу на углу дома и ответила:
– Не хочу с ней идти, она же собирается только в магазин одежды, а я хотела бы посмотреть обувь для работы на поле, со шнурками, чтоб плотно завязывались, да еще и износостойкие.
Договорив, она набрала таз воды для матери, а на его край положила полотенце для лица. Мать села на корточки и обеими руками поболтала в прозрачной воде. Она кинула взгляд на Цюнхуа, сидевшую под карнизом и расчесывавшую волосы, вынула руки из таза, вытерла их об подмышки и произнесла:
– Пойду отцу скажу.
Когда Цюнхуа собрала волосы в косу, из комнаты раздались голоса – мрачные и беспорядочные.
– Зачем за обувью скакать так далеко? Надо просто дать тому, кто идет в магазин, мерку и все, разве не так?
– Ну ты упрямый! Ведь живой же человек, а не мешочек для трубки, который ты на пояс привязываешь, – тихим голосом возмущалась мать.
Помолчав, отец ответил:
– Ну, балуй ее и дальше, только в этом мире нет лекарства от раскаяния.
Прилетел воробышек и начал скакать по двору. Цюнхуа сердито покосилась на него, а он делал вид, что не замечает, и по-прежнему весело взлетал и садился. Цюнхуа заскрежетала зубами и швырнула в него расческу – бамц! и испуганный воробей развернулся и улетел.
Обернувшись, Цюнхуа увидела, что к ней идет, посмеиваясь, мать. Она всунула девушке в руку двести юаней:
– Поезжай, спокойно поезжай! – потом подумала и добавила: – Чем раньше поедешь, тем раньше вернешься.
Цюнхуа молчала, а мать похлопала ее по плечу со словами:
– Дорога предстоит дальняя, я тебе лапшицы приготовлю.
Вернувшись в комнату, Цюнхуа сначала постояла в оцепенении, затем села перед туалетным столиком, выдвинула ящик и достала помаду, затем легким движением выкрутила ее – это была блестящая алая помада. Она сомкнула губы и поднесла ее к ним, в душе вдруг зародилась странная идея. Она замерла, постепенно кровь прилила к лицу, оно напоминало белую бумагу, на которую капнули красной краской.
– Цюнхуа! Лапша готова! – донесся крик матери.
Цюнхуа испугалась, чуть не выронила предмет, который держала в руке. Как будто ее застукали, она поспешно закрутила обратно помаду, закрыла ее крышечкой и бросила обратно в ящик, сделала глубокий вдох и легонько похлопала себя по груди.
Когда она подошла к двери, вдруг, непонятно зачем, остановилась, подумала и снова вернулась в комнату, быстро открыла ящик и засунула помаду в карман, а заодно прихватила и маленькое зеркальце, лежавшее в самом дальнем углу.
Лапша была очень вкусная. Сначала мелко порубленный зеленый перец и помидоры бросали в масло на сковороде, потом добавляли немного мясного фарша, а когда все было уже процентов на восемьдесят готово, надо было плеснуть черпак чистой воды, шипел пар, и аромат разносился повсюду. Когда вода закипала, в нее бросали самодельную длинную лапшу. Выловишь – и вот вкуснейшее блюдо готово, вкус получался такой свежий, словно солнечные лучи ранним утром.
В оранжевом одеянии Цюнхуа стояла во дворе и, когда она, прихлебывая, доела лапшу, снаружи раздался крик жены Дабао. Цюнхуа отозвалась, торопливо поставила пиалу со словами:
– Подожди! Я возьму сумку!
Она в радостном возбуждении заскочила в комнату, и лицо ее тут же застыло.
На комоде у окна лежали поминальные деньги и курительные свечи.
Душевный подъем от предстоящей поездки сократился наполовину. Цюнхуа медленно достала из шкафа сумку, затем положила в нее бумажные деньги и курительные свечи. Задыхаясь, она вышла из комнаты и столкнулась с отцом, на пороге разжигавшим трубку. Он пыхнул табаком два раза и сказал:
– Будешь проходить мимо ущелья, сожги на краю бумажные деньги, ведь это место, где погиб Чуньшу.
Цюнхуа не ответила, большими шагами она пересекла двор, когда она закрывала дверь, услышала слова, доносившиеся из облака табачного дыма:
– Никогда не забывай, откуда те деньги, что у тебя в руках!
4
Жена Дабао болтала много, ни на минуту не умолкая даже на горных склонах. Она ползла по горам, обливаясь потом, и при этом не прекращала трещать. Когда она доходила до особенно интересного места, не забывала обернуться и возбужденно жестикулировала, обращаясь к Цюнхуа. Высоко подняв одну руку, она говорила:
– Почему они так на меня смотрят? Да, это их сын, но ведь умерший – еще и мой муж!
Затем она с размаху опустила руки:
– Не надо думать, что я законов не знаю! Я узнавала: по порядку я являюсь первой наследницей! Ты знаешь, что это значит?
Цюнхуа подняла рукав, чтобы вытереть пот. Она отрицательно покачала головой. Судя по всему, жена Дабао нервничала, ее полное тело подскочило, изогнулось в воздухе и приземлилось перед Цюнхуа, словно толстая зеленая гусеница, упавшая с дерева. Цюнхуа от испуга отступила на шаг назад, жена Дабао подвинулась к ней поближе и, как больная, закричала:
– Это значит, что только я имею право решать, как тратить эти деньги!
Цюнхуа ответила:
– Это не мое дело.
Жена Дабао горестно вздохнула и развела руками:
– Тебе приходится выпрашивать деньги на одежду, на твоем месте я бы уже давно взбунтовалась.
Цюнхуа по-прежнему не отвечала, жена Дабао пошла дальше по склону, из-за спины доносились ее вздохи.
Когда женщины подошли к ущелью, обе не произнесли ни слова, лица приобрели некрасивый бурый оттенок. Они обе не осмеливались взглянуть вниз, ведь там покоился кошмар жителей Таньчжуана.
Все произошло однажды под вечер.
Октябрьским вечером деревня Таньчжуан живописно растворялась в сумерках. Это было время ужина, когда все семьи собирались вокруг домашнего очага. Внезапно издалека прибежал мужчина и с окраины начал кричать:
– На угольном заводе произошел несчастный случай!
Ужин был позабыт, все побросали кастрюли-ложки-пиалы-рюмки, и вся деревня, задыхаясь от волнения, помчалась на угольный завод.
Все знали, что если на угольном заводе произошел несчастный случай, то уж точно кто-нибудь погиб или был ранен, в любом случае это было важное событие, но никто и не думал, что будет именно так. Все взрослые мужчины деревни были погребены в шахте. Сначала говорили, что произошел взрыв газа, потом – что протекла вода, не было никаких точных сведений, отчего жители деревни Таньчжуан пришли в еще большее смятение, все горы были наполнены народом, кто-то молчал, кто-то тихонько всхлипывал, а кто-то катался по земле, рыдая во весь голос. Вскоре подъехали машины, подошли еще люди, заполнив собой все ущелье, словно муравьи из развороченного муравейника.
Несколько аппаратов грохотали пять дней, тридцать восемь тел с обоженными до неузнаваемости лицами разложили на земле. Цюнхуа до сих пор помнила тот день, она вместе с толпой пыталась протиснуться на пустое место. Стена, составленная из форменных мундиров, была крепкой, ее попытки не увенчлись успехом, а потом кто-то закричал:
– Никто не выжил, ни один из сильных мужчин Таньчжуана не выжил!
Грудь сжало нестерпимой болью, перед глазами потемнело, она словно с головой погрузилась в кучу угля.
Медленно придя в себя, Цюнхуа лишь через какое-то время осознала, что находится в палате уездной больницы. Там она тупо пролежала три дня, после чего вернулась в Таньчжуан, прилетев, как опавший желтый лист.
Не прошло и нескольких дней, как на столах всех домов в деревне появились толстые пачки денег.
А на другой стороне ущелья появились ровные ряды свежих могил.
Женщины стояли у расселины, ветер трепал их волосы, но было нехолодно. Угольная равнина под ногами хранила молчание. После несчастного случая приехала команда подрывников, прогремело несколько взрывов: так шахта была опечатана. Прошло три года, приковывающая взгляд чернота размылась дождевой водой до неясножелтого.
– Куда идти? – спросила жена Дабао.
Цюнхуа указала на место, где была угольная шахта. Жена Дабао подняла на нее глаза:
– Не можешь идти?
Цюнхуа покачала головой и ответила, вытаскивая из сумки бумажные деньги:
– Отец велел на месте угольной шахты сжечь эти деньги, чтобы почтить память Чуньшу.
Жена Дабао холодно хмыкнула:
– Твой отец надоел уже. Было бы больше денег, он точно хрустальный гроб заказал бы для сына. Он бы тебя заставил целыми днями рыдать над мертвым телом.
Цюнхуа ответила:
– Зачем ты так грубо говоришь? Что плохого в том, что он скучает по сыну?
Скривив губы, жена Дабао ответила:
– Да, я жестокая, и что? В первый год Дабао мне часто снился, на второй год – реже, а в этом году и лицо его уже стало забываться.
Цюнхуа свирепо посмотрела на нее:
– Ешь и спишь хорошо, нет у тебя ни души, ни сердца!
Та растянула губы в улыбке:
– Перед лицом родителей Дабао я все делаю как надо: в первый день Нового года, в пятнадцатый, в праздник поминовения усопших я первая сжигаю жертвенные деньги и возжигаю благовония, я ведь знаю, что им это нравится.
Цюнхуа не отреагировала, продолжая идти по горной тропе. Жена Дабао поспешно прокричала:
– Я ведь тебя учу! А ты нос воротишь!
Раньше лишь одна дорога вела из Таньчжуана в уездный город, вскарабкаешься на вершину ущелья, спустишься по горному склону, пересечешь бывшую угольную шахту и выйдешь на большую дорогу. После того, как шахта погребла людей заживо, жители Таньчжуана проложили новую дорогу вдоль горного хребта, да, это было намного дальше, но они не хотели ходить по кратчайшей дороге, которая могла разбудить воспоминания, все они боялись душевной боли.
Спустившись по склону, Цюнхуа обнаружила, что на дороге появились разные по размеру следы. Кто-то снова начал ходить по короткой дороге, и это снова волей-неволей вызвало горестные раздумья.
Цюнхуа, присев на корточки, сожгла ритуальные бумажные деньги на месте бывшего угольного завода, а потом зажгла курительную палочку у входа в крепко-накрепко запечатанную шахту. Она сделала два шага вперед, сложила руки и закрыла глаза, мысленно она произнесла имя Чуньшу, сердце сжалось. Она отвесила три земных поклона, в душе зародилось чувство стыда. Уже давно не было той колющей боли, которую она испытывала поначалу. Цюнхуа подумала, что это она – бесчувственная, но ничего не могла поделать, боль становилась все слабее, и хотелось бы, чтоб болело больше, да не получалось. А сейчас, каждый раз, когда она произносила имя Чуньшу, нервничала, опасаясь, что и это слабое сердцебиение однажды исчезнет.
Слава Богу, сердце дрогнуло, отчетливо и ясно.
Жена Дабао стояла неподалеку, она нетерпеливо крикнула в сторону Цюнхуа:
– Закончила или нет? Если поздно придем, все новые модели раскупят!
Цюнхуа не произнесла ни слова.
Женщины шли одна за другой, через какое-то время жена Дабао заговорила первая:
– Думаешь о мужчине?
Цюнхуа хлопнула ее по заднице, та рассмеялась и, обернувшись, сказала:
– А я вот думаю, прямо как сглазили! По ночам постоянно снится, как мы с мужиком в постели кувыркаемся.
Увидев, как покраснела Цюнхуа, жена Дабао довольно крикнула:
– Эх, мать, да еще и не с одним и тем же!
Цюнхуа ответила:
– Ну так выйди за кого-нибудь замуж.
Колышащюеся тело жены Дабао остановилось, она строго сказала:
– Не выйду! Посмотри, кто из вдов осмеливается выйти замуж? Ведь тогда ни гроша не получишь, а я не хочу быть первой, – сделав паузу, она снова развеселилась: – Так видела ты во сне мужчину или нет?
Цюнхуа догнала ее и замахнулась, собираясь дать пощечину ветреной невестке, но рука замерла на полпути.
Та захохотала:
– Все-таки думаешь!
Угольная шахта быстро осталась далеко позади, за поворотом они увидели реку, спускавшуюся из деревни Таньчжуан и тихо и осторожно вытекавшую из леса.
– Как ты думаешь, куда она течет? – спросила Цюнхуа.
Жена Дабао не ответила.
– Куда течет эта река? – снова спросила Цюнхуа.
Жена Дабао долго смотрела на нее, а потом сказала:
– Дурью маешься! Как говорится, «кто любит есть пресное, зря заботится о соленой редиске».
5
Вывеска ресторанчика Хуана, специализирующегося на говяжьем мясе, казалось особенно древней: постоянные ветры, дожди и копоть сделали свое дело.
Цюнхуа постоянно мерялась силами с этой вывеской: она пристально смотрела на вывеску, а вывеска смотрела на нее. Ноги пару раз дрогнули, но она не сделала ни шагу. Все из-за Чуньшу, ведь каждый раз, когда они ездили на рынок, первым делом останавливались в ресторанчике Хуана. Через пару раз вкус говядины, которую тут готовили, нашел место у нее в душе, и, не дожидаясь призыва Чуньшу, она уже сама первая заскакивала внутрь. Ей не хотелось экономить эти деньги для Чуньшу! А еще она ощущала комфорт и удовольствие. А сейчас все поменялось, каждый раз, когда она доставала деньги, перед глазами вставало окровавленное лицо Чуньшу.
Через какое-то время Цюнхуа все-таки потерпела поражение в борьбе с вывеской. Так или иначе обед все равно будет и придется где-нибудь тратить деньги. Она спокойно вошла, села и заказала одну пиалу. Хозяин заведения поинтересовался, надо ли добавить мяса. Цюнхуа покачала головой. Тот снова спросил, не надо ли еще положить лапши из крахмала. Цюнхуа опять покачала головой в ответ. Тонкая, белая лапша из крахмала, говядина табачного цвета, прозрачный говяжий бульон – Цюнхуа сначала вдохнула аромат, который любила больше всего, очень сильный, яркий, прямо небо и земля, аромат крайне дикий по сравнению с мягким теплом и светом домашнего стола, не менявшихся испокон веку. А если добавить две ложки пробирающего насквозь жгучего перца, а также душистый перец, вызывающий онемение костей, то кажется, что весь мир сошел с ума.
В один присест Цюнхуа с причмокиванием съела свою порцию, отдохнула немного, дыхание ее было словно готовый вырваться наружу пар, губы незаметно подрагивали.
Жена Дабао, эта глупая женщина, хотела зайти лишь в лапшичную в конце улицы, только они попали в город, как она, суетливо торопясь, помчалась туда, да еще и Цюнхуа за собой тянула, приговаривая, какая там вкусная лапша. Цюнхуа же упорствовала, она вырвала руку со словами:
– Не пойду и все тут!
Они договорились встретиться в магазине одежды после обеда, и жена Дабао тут же унеслась прочь. Цюнхуа не любила такую лапшу, ее хотя было и много, но вся какая-то пресная, никакого желания есть.
Цюнхуа встала, расплатилась и спросила:
– А где у вас туалет?
Толстый повар поднял руку:
– Там.
Осторожно закрыв дверь, Цюнхуа подошла к раковине и, глядя в зеркало, широко открыла рот, проверяя, чистые ли зубы. Наклонившись над раковиной, она глубоко вздохнула, Цюнхуа достала из кармана губную помаду и выкрутила ее, лицо покраснело: оно горело, словно на муку рассыпали красный перец. Внутренне собравшись, она продолжила выкручивать помаду, руки и губы дрожали, только она со всеми предосторожностями накрасила губы, как в дверь с грохотом постучали.
Цюнхуа так испугалась, что чуть помаду не выронила.
– Есть кто-нибудь? – крикнули снаружи.
Цюнхуа кивнула, потом, поняв, что делает что-то не то, ответила, словно мяукнула:
– Есть!
Шаги удалились.
Цюнхуа покрылась холодным потом. Она взглянула в зеркало, выглядело устрашающе – одна губа выделялась крикливо-красным цветом.
Ни о чем не думая, она взяла салфетку и стерла помаду с губы, затем глубоко вздохнула, лишь после этого наскакивавшие друг на друга мысли успокоились.
Сбежав, словно вор, из ресторана, Цюнхуа снова раскаялась. Из дома вышла с неспокойной душой, а теперь какой-то шум заставил ее отступить. Вон, взгляни на улицу, все ярко накрашены. Навстречу шла девушка с толстым слоем пудры на лице, губы напоминали перезревший персик, волосы были устремлены ввысь словно языки пламени. При взгляде на нее раскаяние Цюнхуа стало еще более глубоким. Хотя ей такой внешний вид не нравился, но она завидовала этой смелости, которая отвернулась от нее.
На улицах города было оживленно, шумно и суматошно. Если пройти здесь, то увидишь трепыхающихся в клетке куриц и уток, в людской толпе грохочут мотоциклы, лук и чеснок высохли на солнце, в них совсем не осталось влаги. Если присмотреться, то можно разглядеть, что каждый ищет то, что ему необходимо. Были тут и праздношатающиеся люди, шумевшие дети и юные девушки, для которых рынок был возможностью найти кого-нибудь познакомиться и завести роман.
Цюнхуа пошла прямо к началу улицы, ее шаги были таким же вязкими, как полуденное солнце.
Тот человек был виден издалека. На нем была все та же поблекшая футболка, в центре которой была изображена героиня какого-то мультфильма, которая глупо смеялась, задрав голову к небу. На спине виднелась надпись: «Мелкая торговля». Мужчина был сильный, хорошо сложенный, если смотреть на него сбоку, казалось, что он крепкий, массивный. Он стоял за временно сооруженным прилавком, на котором лежали разноцветные платья. Стоявший рядом мотоцикл был староват, но в хорошем состоянии, вычищен до блеска. Мужчина занимался особым делом, его называли «развозчик», то есть человек, который на своем велосипеде развозит повсюду товары и продает их. «Развозчиков» можно было встретить во всех поселках уезда во время проведения ярмарки. Они находят место, устанавливают простой прилавок, сваливают товар и начинают зазывать покупателей. Обычно «развозчики» появлялись на ярмарках этого уезда, но, полные корыстолюбия, они также посещали и пару соседних уездов. Обычно такие люди были довольно сообразительными, они сравнивали, а потом выбирали одно место, где бизнес шел особенно хорошо, и там оседали.
– Подходите! Не пропустите! Выбирать – выбирай, но смотреть не забывай! Как воробей ни пищит, но на качество вниманье обратит! – мужчина кричал громко, перекрывая голосом и продавца овощей, и торговца рисом, веселый смех и шум перебранки – самые разнообразные звуки били по барабанным перепонкам Цюнхуа. Несколько месяцев назад ее привлек этот голос. Даже говорить странно, в тот день она должна была купить отцу вина и как только оказалась на перекрестке, так сразу услышала его. В тот день Цюнхуа купила себе футболку бежевого цвета с несколько низковатым вырезом. Всего два раза надела, а потом обнаружила, что лицо отца темнее тучи. После ночи внутренней борьбы новенькая одежда перекочевала в ящик. После этого Цюнхуа еще один раз на ярмарке покупала у этого «развозчика» одежду – рубашку в клеточку цвета ржавчины. Одежда потихоньку ветшала, а вот лицо мужчины становилось все отчетливее: в дороге, у плиты, в доме – стоило задуматься, как оно тут же возникало перед глазами; даже в сны Цюнхуа он пролез. Она стыдилась этого, каждый раз, когда она проходила через гостиную, новая поминальная табличка в нише злобно смотрела на нее, как будто видела ее насквозь. Стиснув зубы, Цюнхуа говорила себе, что надо забыть это лицо, которое не имеет к ней никакого отношения, а результат усилий был прямо противоположный, это проклятое лицо продолговатой формы становилось все отчетливее.
На ярмарке становилось все оживленнее, словно на горячую сковороду с разогретым маслом плеснули воды. Цюнхуа с показным равнодушием направилась к прилавку с одеждой, по пути сделав вид, что рассматривает товары на лотке с расческами из рога быка.
Цюнхуа подходила все ближе, идей становилось все больше. План казался безупречным, она взялась за подол одежды и, высоко подняв голову и выпятив грудь, самоуверенно прошла мимо прилавка «развозчика», даже не взглянув на него. Отошла подальше и внезапно остановилась. Ой-ой-ой! Оказывается, тут одежду продают, я вообще-то покупать не собиралась; просто так гуляла, утомилась; так уж и быть посмотрю! На лице застыло пренебрежительное выражение, Цюнхуа изо всех сил изображала стреляного воробья, который круглый год только и делает, что ходит по ярмаркам.
– Взгляните на этот фасон, это сейчас в городе самый писк моды, из чистого хлопка, если не верите – потрогайте! – мужчина понизил голос, словно рассказывал стоявшей перед ним женщине секрет, о котором никто не должен был знать.
Цюнхуа не осмеливалась поднять глаза, ее руки перебирали ворох одежды.
Она извлекла рубашку в клетку, мужчина высунул голову из-за прилавка, смерил ее взглядом, с языка будто сорвалось изумление:
– Как вам идет! Словно на вас и сшито!
– Немного ярковато, – произнесла Цюнхуа.
Мужчина изумился:
– Это – ярковато? Если вы в вашем-то возрасте наденете желтый, зеленый, синий, сиреневый ситец, и то никто не посмеет сказать, что цвет ярковат!
Цюнхуа думала вообще не об этом, поэтому настивала на том, что цвет ярковат. Мужчина долго и безрезультатно уговаривал ее, в итоге достал другую рубашку и протянул ей со словами:
– Как вам эта? Цвет белый, боюсь, что только она придется вам по вкусу.
Цюнхуа взяла рубашку, повертела ее в руках, уголки губ растянулись в улыбке. Глядя на нее, мужчина понял, что сделка состоялась. Он хлопнул себя по груди и сказал:
– Это ваша первая покупка, я дам вам скидку 12 процентов!
В душе Цюнхуа промелькнул гнев, столько уже у него накупила, а он еще говорит, что это первая покупка.
– Я у вас уже несколько раз покупала, – как слабенький комар прожужжала она.
Низко наклонив голову, «развозчик» оглядел Цюнхуа с ног до головы, затем стукнул себя по груди:
– Ну что у меня за дурацкая память, я вспомнил, вспомнил! Я вас несколько раз видел, сестра! Ну раз вы постоянный покупатель, то даю вам 30-процентную скидку, шестьдесят юаней, и рубашка ваша!
В сердце как будто распустился цветок, но внешне Цюнхуа была по-прежнему бесстрастна:
– Что-то дороговато!
Мужчина стиснул зубы:
– В моем бизнесе я опираюсь на постоянных покупателей. Давайте так, я вам дам оптовую цену, пятьдесят пять, и если я хоть копейку заработаю на вас, то я… – Он поспешил найти предмет, на котором можно было бы поклясться. Оглянувшись, он увидел свой мотоцикл и, сияя от радости, воскликнул: – То у моего мотоцикла ось сломается!
Сложив одежду на прилавок, Цюнхуа нахмурила брови:
– Это же всего лишь одна вещь, стоит ли давать такую клятву?
Мужчина несколько сконфузился, он торопливо засовывал одежду обратно в руки Цюнхуа со словами:
– Вот мой дурной язык! Вечно ерунду болтаю! Не обращайте внимания, сестра!
Цюнхуа перекинула одежду через руку, показывая своим видом, что она возьмет ее. Мужчина ждал, когда она достанет деньги, Цюнхуа же не торопилась, перелистывая разноцветные купюры, она терпеливо доставала их, затем убирала, убирала и снова доставала.
Перебрав практически все, Цюнхуа, словно невзначай, спросила:
– Такая торговля довольно утомительна?
Мужчина кивнул головой и вздохнул. В душе Цюнхуа разлилось тепло, лицо мужчины, стоявшего впереди, утратило черты дельца, и его вздох был таким теплым.
– Будьте острожнее, когда ездите по делам на мотоцикле! – сказала Цюнхуа и сразу пожалела, ей показалось, что она слишком опрометчива, эта фраза выходила за рамки простых отношений продавца и покупателя. Мужчина, похоже, не обратил особого внимания, он рассмеялся:
– Да я много раз с него падал, хуже всего было зимой позапрошлого года, я тогда в реку упал.
Он говорил и жестикулировал, показывая, как он дрожал, выбравшись из реки. Цюнхуа не выдержала и рассмеялась, обнажив два ряда белоснежных зубов. Увидев, что мужчина на нее смотрит, она поняла, что это неподобающее поведение, и поспешно прикрыла рот рукой.
Через какое-то время Цюнхуа наконец засунула руку в карман. Она уже давно стояла перед прилавком, за это время подходили четыре или пять групп людей, Цюнхуа мысленно обозвала себя бессовестной. Мужчина дал ей сдачу, снова завернул одежду и протянул ей, она не осмеливалась взглянуть на него, взяла одежду и поспешила прочь. Когда она была уже далеко, мужчина крикнул вслед:
– Сестра, передай от меня привет Лао Лю!
Цюнхуа остолбенела, моментально упав духом, словно во сне разбогатела и уже собиралась считать деньги – и вдруг, раз, и проснулась!
Лао Лю? Никакого Лао Лю она не знает. Торгаш он и есть торгаш, только деньги и видит, разве может признать человека? Цюнхуа мысленно выругалась, возникшая до этого мысль о том, чтоб вернуться и еще раз взглянуть на «развозчика», улетучилась. Прямая как стрела она покинула улицу, укутанная в боль, как в толстый шелковичный кокон.
Тяжело ступая, Цюнхуа добралась до магазина женской одежды на Западной улице, где жена Дабао с воодушевлением примеряла одежду. Увидев Цюнхуа, она подскочила к ней и, крутя толстой задницей, спросила:
– Как тебе эти джинсы?
Цюнхуа кивнула головой, словно завядший росток. Жена Дабао громко крикнула продавцу:
– Те две блузки и эти джинсы – я все беру!
Стоя на улице с двумя огромными пакетами, жена Дабао, горя от нетерпения, спросила:
– Куда теперь пойдем?
– Домой! – холодно ответила Цюнхуа.
6
Наступил день поминовения усопших – праздник Цинмин, мелкий дождик зарядил с утра до вечера. В это время жители деревни Тань-чжуан стирали с лиц улыбки, с печалью покидали свои дома, собирались вместе и шли вдоль реки.
Отец Чуньшу с самого утра начал вырезать бумажные деньги. Мать же говорила, что это слишком хлопотно, в уезде продают уже готовые, можно купить и все. Отец Чуньшу рассердился:
– Те, что в уезде продают, разве можно назвать бумажными деньгами? У тебя что, глаза паутиной затянуло? Чуньшу не так давно умер, а уже такая халатность, и призывание духов выполняешь не так. Мачеха и то более заботлива была бы.
Как только отец Чуньшу открыл рот, мать замолчала и больше ничего не говорила, дав ему возможность с утра до ночи с грохотом стучать, как ему заблагорассудится.
Кроме бумажных денег еще было нужно многое: белые свечи, курительные свечи, мелкие бумажки для развеивания по ветру, жертвенные фрукты, свиная голова – отец, согнув палец, перечислял для Цюнхуа, она кивала головой в знак согласия, а потом ответила:
– Боюсь, свиную голову будет не достать. В это время ее все семьи ждут, а скольких свиней смогут забить в уезде?
Лицо отца мгновенно изменилось, он встал и с силой отбросил стул назад:
– Руки-ноги на месте, иди и карауль! Если в мясных лавках не будет, иди на скотобойню! Я не верю, что это сложнее, чем найти, чем наполнить желудок в голодный год!
Чуть забрезжил рассвет, Цюнхуа вышла из дома, но, прибыв в город, она обнаружила, что было уже поздно. Всю свинину с лотков уже давно смели подчистую, Цюнхуа посетовала на то, кто этот вредитель, который установил, что в жертву можно приносить только свиную голову, ведь любой другой кусок свиного мяса намного вкуснее.
В сумерках отец стоял под карнизом и смотрел, как Цюнхуа с пустыми руками входит во двор, он переменился в лице, долго и с каким-то свистом тяжело дышал, а потом крикнул матери, которая была в тот момент на кухне:
– Завтра сходи к мяснику Вану, пусть забьет скотину из загона.
Мать высунула голову из кухни:
– Что ты говоришь? Ему же всего три месяца, еще поросенок! Никто не режет таких малявок!
– Я сказал зарезать, значит, зарежем! – твердо и бесповоротно ответил отец.
Цюнхуа, стоя во дворе, промямлила:
– Может, вообще не будем использовать мясо?
Отец Чуньшу округлил глаза, свирепо топнул ногой и заревел:
– Старые ведут себя не так, как должны, молодые туда же! Чуньшу умер не так давно, а вы уже и не признаете его? Вы подумайте хорошенько, все, что вы едите, носите, тратите, используете – что из этого вы имеете не благодаря тому, кто в могиле? Сколько в году дней поминовения Цинмин? Если на поминовение вы стремитесь к простоте, то почему же не хотите есть и одеваться по-простому?
Ругаясь на ходу, он повернулся и пошел в комнату, откуда все еще доносились его сердитые слова:
– Ни души, ни сердца! Вот до чего учеба доводит!
Цюнхуа знала, что последняя фраза предназначалась ей.
Вечером за столом были только Цюнхуа и мать. Мать несколько раз кричала в сторону внутренней комнаты, но оттуда не отвечали. Мать покачала головой, Цюнхуа не осмеливалась говорить. Когда она поднесла пиалу с едой, мать сделала жест в сторону ниши с поминальной табличкой, Цюнхуа воскликнула:
– А!
Она поднесла пиалку и вино к нише, мысленно ругая себя тупоголовой свиньей – ведь каждый день говорит себе, что надо помнить, и в ответственный момент каждый раз опять забывает. Хорошо еще, что отца за столом не было, а то точно посуду бы разбил.
На следующее утро отец Чуньшу встал, наспех умылся и ушел с потемневшим лицом, заложив руки за спину.
Вскоре он вернулся, за ним следовал мясник Ван.
Ван посмотрел на веселившегося во дворе поросенка:
– Слишком мал, жалко резать.
Отец махнул рукой:
– Режь!
Мать Чуньшу подняла подол фартука, вытерла руки и произнесла:
– Мясо такого молодого поросенка невкусное.
Мясник Ван отозвался:
– Да, правда невкусное.
Отец Чуньшу гневно посмотрел на жену:
– Мне нужна лишь голова, остальное можете собакам скормить.
В день поминовения дождь прекратился. Когда люди шли через лес, они слышали, как падали капли, это их боль скатывалась с листьев и стучала в сердца.
День обещал быть хорошим, все ущелье было заполнено людьми.
Они жгли бумажные деньги, зажигали курительные свечи, развеивали по ветру бумажки – все происходило в полном молчании, четко и слаженно. Все лица были печальны, словно разбередили старую рану. В глаза бросались вдовы, казалось, что их мужья только что их покинули, скорбные лица напоминали реку, текущую под ногами – такие же чистые и прозрачные, как стекло.
Когда церемония подошла к концу, мать Чуньшу рыдала, поглаживая надгробие сына, отец молча стоял рядом, горе победило гнев. Вытирая старческие слезы, он сказал:
– Цюнхуа, скажи что-нибудь Чуньшу.
Цюнхуа встала на колени перед могилой, слезы полились из глаз. Отец произнес:
– Не надо только плакать, поговори с ним, задолжали ли мы с матерью тебе что-нибудь – еду, одежду, другие расходы?
Мать закатала рукава и перевела взгляд на мужа:
– Ты чего торопишь? Они же супруги, если и есть о чем говорить, так они общаются в душе.
Она потянула старика за одежду, тот кивнул, и они потихоньку ушли.
Цюнхуа взглянула на надгробие, оно было белоснежное. Она всплакнула, а потом мысленно обратилась к мужу:
– Чуньшу, ты – ушедший безвозвратно ублюдок! Чтоб ты в аду на гору мечей попал, чтоб тебя зажарили в масле! Ты умер, а мне столько проблем оставил, их не сдвинешь и не перейдешь. Проклятые деньги, забери их, они мне не нужны. Если можешь, и меня прихвати с собой, а лучше бы мне умереть вместо тебя. Я скажу тебе: я не люблю тебя, не люблю твоих родителей, ненавижу Таньчжуан, это дьявольское место. Я полюбила другого, намного красивее тебя, я люблю его, даже во сне с ним занималась этим… Так и знай! Если не услышал, я тебе еще раз повторю: я с ним во сне занималась этим, много, много раз! Знай же, ублюдок, я давно тебя забыла, ты мучайся на горе мечей и гори в аду…
Цюнхуа обернулась, отец и мать отошли далеко и смешались с толпой стариков и молодежи. Она посмотрела по сторонам, вдовы, словно по линейке выстроившиеся в одну линию, стояли на коленях перед высокими и низкими могилами мужей.
Она встала и посмотрела под ноги, река, извиваясь, медленно текла куда-то, словно зеленый шелковый платок, несомый ветром.
7
Мелькнул и прошел день поминовения Цинмин. Жизнь ровно и упорядоченно текла по-прежнему.
Пришла пора различных земледельческих работ, крепкие ростки стали объектом, которому прислуживали. Их удобряли, выпалывали сорняки, лечили, для всего этого требовалась дождевая вода, и тогда можно было выполнить работу!
Вся семья стремилась успеть выйти из дома до рассвета, на поле они скидывали обувь, закатывали штанины до колен, ступали в мягкую землю и начинали трудиться. К полудню солнце припекало так, что даже самые трудолюбивые крестьяне делали послеобеденный перерыв. Они возвращались домой, наливали полчайника холодного чая, затем накладывали пиалу блестящей гречи и с удовольствием съедали ее подчистую. А потом пододвигали стул и в тени и прохладе, закрыв глаза, позволяли удовольствию обволакивать себя. Когда проходило время обеда, солнце переставало так жечь. Можно было встать, зевнуть и идти на поле босиком, с высохшими испачканными в грязи на поле ногами, продолжая бесконечную работу.
Цюнхуа не отдыхала.
Под палящим солнцем все было безжизненно и апатично – листья, ростки, отец и мать. И только Цюнхуа не испытывала апатии, словно тыква, что катится по склону, она не могла остановиться, кубарем катилась с заливного поля, потом снова возвращалась. Лоб ее был весь в каплях пота, но она его не вытирала, мокрой была и вся спина, несколько волосков прилипло ко лбу. Мать пожалела ее, выпрямилась и позвала:
– Может, отдохнешь?
Цюнхуа свирепо втоптала несколько цветков ряски в грязь, выдернула кустик сорняка, вместе с корнем черная земля полетела на поле, Цюнхуа ответила сквозь зубы:
– Не буду отдыхать.
Отец Чуньшу с трудом выпрямился, он устал до неузнаваемости, но, увидев, как ведет себя Цюнхуа, не осмелился отступить с полдороги, подвернув рукава, он вытер пот и, как деревянный, приступил к новой грядке.
Закончив пропалывать сорняки, отец и мать перевели дух, решив, что теперь можно передохнуть.
Еще с утра мать Чуньшу заметила неладное. Лежа в постели и поглаживая онемевшие ноги, она услышала какой-то стук во дворе. Накинув одежду, женщина вышла во двор, Цюнхуа в легком платье махала цапкой для навоза в сторону загона для свиней.
– Что это ты делаешь? – спросила мать.
– Замачиваю навоз, – ответила Цюнхуа.
– Так еще рано второй раз удобрять побеги!
– Рано или поздно – этим все равно придется заниматься, навоз, замоченный рано, лучше всего.
Мать вернулась в комнату. Отец, у которого ныли все косточки, спросил:
– Что она там делает?
Мать, смеясь, ответила:
– Говорит, что собирается вымачивать навоз.
Отец нахмурился, накинул одежду и встал.
– А ты куда? – спросила жена.
– Приму вызов, – ответил старик, скрипнув зубами.
Он сдался, когда навоз еще не весь был вымочен. На третий день, услышав снаружи звук, издаваемый цапкой, отец со вздохом сел на кровати и, дрожа, сказал жене:
– Как хочешь, но останови ее, если это продолжится, то моя жизнь кончится в куче навоза.
Оказавшаяся в затруднительном положении мать спросила:
– Как остановить? Она же ничего плохого не делает?
Отец отмахнулся:
– Разве сегодня в городе не проходит ярмарка? Пусть идет туда!
Мать вышла и без обиняков сказала:
– Иди, прогуляйся на ярмарку! Если продолжать в том же духе, то, боюсь, отец не выдержит.
Цюнхуа подняла глаза и устало посмотрела на мать, седые волосы которой трепал утренний ветер. У Цюнхуа сжалось сердце, она вспомнила, что в тот день, когда случилось несчастье с Чуныну, мать, стоявшая на горном хребте, выглядела так же, как и сейчас. Она прислонила цапку к стене и вошла в дом. Мать увидев, что девушка не в себе, подумала, что снова что-то случилось, поэтому пробормотала:
– Куда ты?
Цюнхуа вошла в комнату, бросив наружу:
– Переодеться, на ярмарку пойду.
Она одна пересекла ущелье, постояла наверху, глядя вниз: через угольный завод уже проложили новую тропу. В этот раз Цюнхуа не пошла там, а выбрала дальний путь – на полтора-два километра длиннее.
Она снова увидела ту реку, в этом месте река внезапно становилась шире, на поверхности сверкала рябь, словно тонкая черепица. Цюнхуа села на берегу передохнуть, ее взор перенесся в необозримую даль.
За спиной вдруг послышался шум мотора мотоцикла. Обернувшись, Цюнхуа застыла в изумлении: подняв облако пыли, к ней подъехал развозчик. Увидев девушку, он отпустил ногу, и мотоцикл остановился. Цюнхуа рассмеялась, глядя на него. Развозчик громко спросил:
– На ярмарку идете?
Цюнхуа кивнула в ответ. Мужчина махнул рукой:
– Залезайте, я вас подвезу.
Цюнхуа повернулась и взглянула на заднее сиденье мотоцикла:
– Да ладно, везите свой товар!
Развозчик засмеялся:
– Если не стесняетесь, то можно и потесниться.
Немного поколебавшись, Цюнхуа, стиснув зубы, перекинула ногу и забралась на мотоцикл.
Мотоцикл мчался вдоль реки, тростник по обоим берегам также склонялся в сторону низовья реки под порывами ветра. Из его зарослей внезапно вылетели белые журавли, они махали крыльями, улетая ввысь.
Впереди показалась плохая дорога, «развозчик» прокричал:
– Дорога неровная, держитесь крепче.
Цюнхуа инстинктивно ухватилась за его талию, давно забытый запах пота ударил в нос с порывом ветра. Она сильнее сжала руки, медленно прижавшись грудью и прикрыв глаза. Все лучше чувствовалось тепло его тела. Сердце Цюнхуа дрогнуло, в нижней части живота словно набились суетливые муравьи, они скреблись и покусывали ее изнутри; это чувство было похоже на стремнину, огибающую камни, омывая и раскачивая их. Постепенно ей стало тепло, словно пожелтевший початок кукурузы бросили в огонь. Цюнхуа мысленно подбадривала себя придвинуться еще ближе, еще ближе. Потом она уткнулась в спину мужчины: подпрыгивая на неровностях дороги, она вспомнила свою интимную жизнь с Чуньшу.
Тряска усилилась, грудь Цюнхуа ритмично ударялась о скалу, что была впереди, она не видела своего раскрасневшегося лица, а лишь молила о том, чтоб эта дорога была более крутой и длинной! Настолько крутой, что остались бы лишь одни ухабы, и такой длинной, что не было бы ей конца.
– Держитесь крепче! Впереди большая выбоина! – закричал мужчина.
В душе Цюнхуа распустился цветок, как будто было получено одобрение и достаточные причины, она сильно придвинулась вперед, и, подобно опавшему листу, гонимому ветром, крепко-накрепко приклеилась к спине мужчины.
Выбоины кончились, дорога стала ровной.
Цюнхуа отодвинулась назад.
Мужчина словно почувствовал ее нерешительность и, смеясь, сказал:
– Впереди еще много ухабов!
Цюнхуа не поддержала разговор и, помолчав, внезапно спросила:
– Вы знаете, куда течет эта река?
Развозчик не расслышал и переспросил:
– Что вы говорите?
– Я спрашиваю, куда в итоге течет эта река? – крикнула Цюнхуа, напрягая горло.
Мужчина все так же покачал головой и обернулся:
– Что вы говорите?
Цюнхуа высвободила одну руку, похлопала его по спине и тихо промолвила:
– Осторожнее ведите мотоцикл.
Перевод Е. И. Митькиной
Примечания
1
Лу Синь (1881–1936) – основоположник современной китайской литературы.
(обратно)2
Китайское слово цзачжун, кроме значения «ублюдок» означает также «гибрид», «полукровка».
(обратно)3
Приют старого бойца (кит.)
(обратно)4
Имеется в виду ракетный удар по посольству КНР в Белграде в мае 1999 г. в ходе войны НАТО против Сербии.
(обратно)5
Строка стихотворения танского поэта Аю Юйси (772–842), а также название популярного телесериала. Далее героиня стихотворения утверждает, что чувство есть, даже когда кажется, что его нет.
(обратно)6
Слова Мао Цзэдуна из речи на церемонии провозглашения в 1949 г. Китайской Народной Республики.
(обратно)7
Имеются в виду годы реформ в КНР, начиная с 1979 г.
(обратно)8
Традиционное обращение к солдатам – «служивый» звучит так же, как и современное обращение к начальнику – «шеф».
(обратно)9
Линь Бяо (1907–1971) – маршал КНР, политический деятель. До самой смерти считался правой рукой и преемником Мао Цзэдуна.
(обратно)10
Провинция – самая крупная единица территориального деления в КНР.
(обратно)11
Имеются в виду размещение порнографических материалов, запрещенных в Китае.
(обратно)12
Фамилию и имя тайваньца можно прочитать как название одной из великих китайских рек.
(обратно)13
Хэнань – провинция в Центральном Китае.
(обратно)14
Имеется в виду Чан Кайши (Цзян Цзеши, 1887–1975)), первый президент Китайской Республики на Тайване.
(обратно)15
Имеется в виду период с 1916 по 1927 г. в Китае, когда правительственным войскам приходилось противостоять отрядам военных правителей отдельных областей страны.
(обратно)16
Выражение «больше белого, чем черного» означают также «много добра, мало зла». См. с. 84.
(обратно)17
«Аромат на семь ли» (кит.)
(обратно)18
Аян Шаньбо и Чжу Интай – герои старинной легенды, китайские Ромео и Джульетта, соединились после смерти в виде пары бабочек. Этот сюжет стал темой множества театральных спектаклей, музыкальных произведений, кинофильмов и телесериалов.
(обратно)19
Китайское слово юй означает как «рыба», так и «достаток, излишек». Поэтому в новогоднее меню как доброе пожелание, всегда входит блюдо из рыбы. Рыба также обязательный элемент новогодних поздравительных открыток и картинок.
(обратно)20
Сяо – зд. «малышка».
(обратно)21
Цигун — древнекитайское искусство саморегуляции организма на основе жизненной энергии цщ часть практики китайских боевых искусств.
(обратно)22
Цинхай – провинция на северо-западе Китая, главный город – Синин.
(обратно)23
Чэнду – главный город провинции Сычуань.
(обратно)24
Чи – мера длины, ок. 30 см.
(обратно)25
Дунбэй – северо-восточные провинции Китая.
(обратно)26
Дословно «Сад с великолепным видом» – название сада из классического китайского романа «Сон в красном тереме».
(обратно)27
«Двенадцать шпилек из Цзинлина» – еще одно название романа «Сон в красном тереме».
(обратно)28
Игра слов: «ма», созвучное слову, означающему «ведь» и «же», составляет часть слова «онеметь» – «фа ма».
(обратно)29
Игра слов: словосочетания «этот чиновник» и «уездное начальство» звучат одинаково.
(обратно)30
Улун («Черный дракон») – подуферментированный чай, сочетает свойства черного и зеленого чая.
(обратно)31
«Великая Стена» – кредитная карточка Банка Китая.
(обратно)32
«Оборонительной войной» в Китае называют вооруженный пограничный конфликт с Вьетнамом 1979 г.
(обратно)33
Старый Пьяница – прозвище Оуян Сю (1007–1072), знаменитого китайского поэта эпохи Сун. Имеется в виду, что его истинные помыслы обращены не к вину, а к жизни среди гор и потоков.
(обратно)34
Ян Цзыжун – доблестный разведчик, главный герой «образцовой оперы» «Хитростью овладели горой Вэйхушань». Шао Цзяньбо – в той же опере командир отряда, противостоящего бандитам, мудрый и осторожный стратег.
(обратно)35
Цзилинь – город и провинция на северо-востоке Китая.
(обратно)36
Сямэнь «город и порт на юго-восточном побережье Китая.
(обратно)37
Тайбэй – главный город Тайваня, столица Китайской Республики.
(обратно)38
«Много добра и мало зла» – ранее эти же иероглифы обозначали «больше белого, мало черного».
(обратно)39
В 80—90-е годы по Пекину в качестве такси ездили маленькие желтые микроавтобусы, которые за внешний вид прозвали «булочками».
(обратно)40
Императорский дворец в Пекине.
(обратно)41
Тип средневековой китайской городской застройки.
(обратно)42
Американский вокально-инструментальный дуэт, состоявший из сестры Карен и брата Ричарда Карпентеров.
(обратно)43
Популярное китайское блюдо, небольшой пирожок, который готовят на пару.
(обратно)44
Вид крупного насекомого.
(обратно)45
Чи – мера длины, ок. 30 см.
(обратно)46
Ли – мера длины, равная 500 м.
(обратно)47
Птицы отряда воробьиных, популярные в Китае.
(обратно)48
Аэй Фэн (1940–1962) – сержант Народно-освободительной армии Китая, «безымянный герой». Все свободное время он посвящал оказанию любой возможной помощи своим товарищам, местному населению, работе со школьниками, отдавал нуждающимся свои личные накопления, так как искренне считал величайшим счастьем посвятить жизнь служению людям. Посмертно прославлен китайской пропагандой как образец безупречного альтруизма и верности коммунистическим идеалам, пример для воспитания молодежи. В 1963 году в молодежной газете впервые были опубликованы слова Председателя КПК Мао Цзэдуна: «Учитесь у товарища Аэй Фэна». (Здесь и далее прим, переводчика).
(обратно)49
Няньхуа («новогодняя картина») – традиционные китайские народные лубочные картины. Со второй половины XX в. ксилографический способ сменился типографским. Няньхуа широко использовались для выпуска агитационных материалов.
(обратно)50
Леггорн (Leghorn) – высокопродуктивная порода домашних кур средиземноморского происхождения и яичного направления, цвет оперения чаще всего белый, цвет яичной скорлупы также белый.
(обратно)51
Простонародный обычай, характерный для Восточной Азии (Кореи и Северо-Востока Китая в частности). Однако чаще была распространена практика, когда верхний молочный зуб забрасывали куда-то вниз (например, под кровать, в сточный колодец или под порог), а нижний – куда-то наверх (на крышу, за дверную балку), чтобы новые зубы росли ровно вниз и ровно вверх соответственно.
(обратно)52
«Наэлектризованный труп» – весьма распространенное в Китае простонародное суеверие, частично подтвержденное данными современной науки. После смерти (прекращения дыхательной и нервной деятельности) в теле еще на некоторое время сохраняются биоэлектрические импульсы, поэтому некоторые базовые рефлексы могут активизироваться у трупа под воздействием электрического разряда, например, от контакта с каким-либо животным, в длинной шерсти которого накопилось статическое электричество. Это проявляется виде кратковременных мышечных сокращений, изменении положения тела и т. д. По народным представлениям, «наэлектризованные трупы» даже способны ходить.
(обратно)53
Ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea), вьюнок пурпурный, крученый паныч – вьющееся однолетнее растение, лиана высотой до пяти метров, неприхотливое в культуре, цветет с июня по сентябрь только днем, а на ночь цветки закрываются. Цветы пятилепестковые, воронкообразные, б см в диаметре, ярко-голубые или фиолетовые, в центре белые.
(обратно)54
Суеверие, которым часто пугают детей в Китае. Распространено поверье о том, что если пыльца с крыльев бабочки попадет в глаза, то можно ослепнуть, а если попадет в ухо, то можно оглохнуть.
(обратно)55
Распространенное в народе поверье, запрещающее детям смотреть, как кролики и некоторые другие домашние животные появляются на свет, и одновременно популярно объясняющее тот факт, что крольчиха может загрызть своих детенышей.
(обратно)56
Бэйдахуан («Великая северная целина») – граничащая с Россией область на северо-востоке китайской провинции Хэйлунцзян. Во время Культурной революции Бэйдахуаном именовалась уже вся провинция Хэйлунцзян. Из-за тяжелого климата, удаленности от центра, а также скудности пищевых ресурсов и плохой репутации регион являлся местом ссылки заключенных, демобилизованных солдат и правых диссидентов. В 1968 году государство призвало к участию в освоении региона выпускников школ, и к 1972 году в область приехало 500 тысяч человек из Пекина, Тяньцзиня и Шанхая.
(обратно)57
Обычно дети поступают в начальную школу в шесть-семь лет, после шести классов начальной школы они переходят в среднюю школу, которая подразумевает три класса на начальной ступени и три класса на старшей ступени. Оканчивают среднюю школу обычно в 18–19 лет.
(обратно)58
Грузовики «Цзефан» – первая модель китайской автопромышленности, выпускались с 1956 года на Автомобильном заводе № 1 в г. Чанчунь (ныне известный как FAW). Модель производилась по советской технической документации и с использованием производственного оборудования, поступившего из СССР, являлась почти полной копией советского грузовика ЗИС-150 (ЗИА-150). С небольшими изменениями грузовик выпускался до 1986 года, за период с 1956 по 1986 год было произведено более 1.02 млн грузовиков «Цзефан».
(обратно)59
Средняя шкода старшей ступени – последние три класса средней школы (с 10-го по 12-й), возраст окончания старшей ступени – 18–19 лет.
(обратно)60
Совместное хозяйство, производственный корпус – во времена Культурной революции небольшая – 10–20 человек – группа «образованной молодежи», объединенная для совместного обеспечения быта и проживания.
(обратно)61
Первое поколение продукции отечественной часовой промышленности КНР. Будильник получил свое название вследствие сходства по размеру и по форме с копытом лошади – над корпусом с большим круглым циферблатом крепились две чашечки звонка, соединенные между собой высокой дужкой.
(обратно)62
Ли – мера длины, примерно 500 м.
(обратно)63
Названия деревень поселка соответствуют пяти первоэлементам китайской космогонии: цзинь – металл, му – дерево, хо огонь, ту – земля, шуй – вода. Чжуан в названии означает «деревня».
(обратно)64
Чи – мера длины, ок. 30 см.
(обратно)65
Иносказательное обозначение приближающейся удачи, перемен к лучшему.
(обратно)66
Эвфемизм, обозначающий занятия любовью.
(обратно)67
Фраза из цитатника Мао Цзэдуна.
(обратно)68
Ли – мера длины, равная 500 м.
(обратно)69
Цитата из притчи Оуян Сю (1007–1072) – поэта и эссеиста династии Сун.
(обратно)70
Сюцай – низшая ученая степень в старом Китае.
(обратно)71
Чэнжан – доел, вы уступили мне победу.
(обратно)72
Имеется в виду подавление в 1900 г. восстания ихэтуаней войсками альянса восьми держав – Австро-Венгрии, Великобритании, Италии, России, США, Франции и Японии.
(обратно)73
Китайская Республика просуществовала с 1912 г. до провозглашения КНР в 1949 г.
(обратно)74
Даян – серебряный доллар, имевший хождение в Китае того времени.
(обратно)75
Цзинь – мера веса, равная 500 г.
(обратно)76
Так в Китае называли коммунистов из противники.
(обратно)77
Имеется в виду кокарда солдат армии националистов-гоминьдановцев.
(обратно)78
Тут использована игра слов: «серебро» и «разврат» по-китайски звучат одинаково инь.
(обратно)79
«Выпадение инея» – 18-й из 24 сезонов китайского лунного календаря, приходится на конец октября – начало ноября.
(обратно)80
Ли – мера длины, равная 500 м.
(обратно)

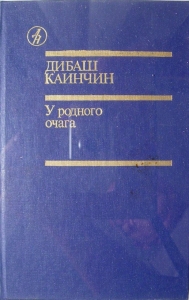
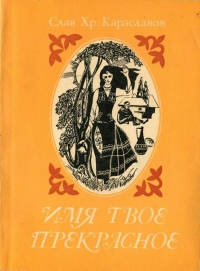



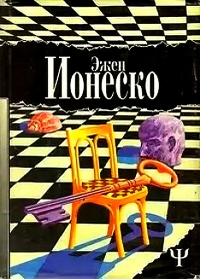
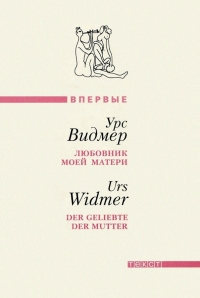


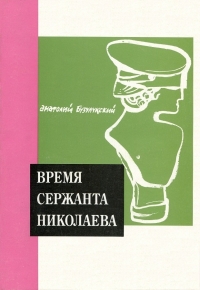

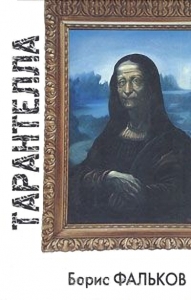
Комментарии к книге «Много добра, мало зла. Китайская проза конца XX – начала XXI века», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев