К. Д. Флореску Якоб решает любить
Лестница Якоба Вступительная статья
Начал предисловие так: «Каталин Флореску — известный швейцарский писатель» — и сразу споткнулся о первую же фразу. Известный — да, но швейцарский? Сами швейцарцы до сих пор не решили, есть ли вообще швейцарская литература и швейцарские писатели. А тут румын, который в пятнадцать лет только немецкий стал учить…
Он родился и вырос в Тимишоаре[1]. Той самой, с которой потом началось восстание против Чаушеску. Мать — скрипачка, отец — инженер. Родители Каталина бежали на Запад в 1982 году. Румынский подросток стал беженцем. В пятнадцать лет впитываешь в себя мир на всю жизнь. Так и впиталось: беженство, поиски родины, дома. Осознанная жизнь началась с осознания себя чужим.
Он пишет по-немецки, но не принадлежит немецкой литературе. Он румын, но на родной язык его книги переводят. И по-швейцарски — на швицертюч, и по-румынски он говорит с акцентом, выдающим в нем чужака. Может быть, в этом его и сила? Писатель должен быть, конечно, свой, но все-таки немного чужой. Быть чужим — значит быть своим где-то еще. Настоящий писатель свой только своим книгам.
Он вырос между языками и культурами — немецкой и румынской. Где же в таком случае его писательские истоки? Автору важно пустить корни, которые будут питать его книги книгами. Но беженская судьба — не пускать корни, а рвать их. Ни румынская литература, ни немецкая не стали его писательской родиной. Когда просят назвать писателей, повлиявших на него, Каталин называет чеха Богумила Грабала, босняка Иво Андрича, русского Михаила Булгакова, израильтянина Меира Шалева. Каталин — представитель того будущего литературы, которое уже наступило. Национальная литература уходит с исчезновением национальных границ. Европа двадцать первого века слишком маленькая, чтобы делить писателей — они теперь общие. Литературные метисы. Писатели-европейцы.
Каталин Флореску — известный — зачеркиваю швейцарский — европейский писатель.
Но на самом деле для настоящего писателя его родословная не имеет никакого значения. Писатель начинается с себя. Поэтому зачеркиваю европейский.
Каталин Флореску — писатель. Вот так и нужно было начать.
Писатель рождается от одиночества и от книг. В пятнадцатилетнем прошлом осталось все: первая любовь, друзья, мир детства. В побег из Румынии он смог взять только одну книгу. Она и сейчас, пожелтевшая, стоит на его полке. Это воспоминания о детстве одного малоизвестного даже в Румынии писателя. Так бывает — текст не оставляет следа в истории литературы, исчезает в мясорубке времени вместе со своим автором, а в чьей-то жизни он становится самым важным. Каталин говорит, что именно эта книга подтолкнула его к писанию.
Начал записывать истории в восемнадцать лет и сразу не на родном, а на немецком. В Румынии правил Чаушеску и казался бессмертным. Немецкий стал средством общения с миром. Все просто: ему нужно было рассказывать, а на румынском у него не было слушателей. Писатель Каталин Флореску — рассказчик историй. И рассказчик от Бога. Тут конкретный язык не столь важен. Таким писателям нужен тот язык, на котором говорили до Вавилонского столпотворения.
В университете Каталин изучал психологию, у него диплом психотерапевта, но в своей прозе он избегает всезнания о человеке. Понимание, как функционирует психика, и умение «поверить алгеброй гармонию» чувств ничего не дают творцу, созидающему свой тварный мир. Для того чтобы вдохнуть жизнь в слова, не поможет никакое приобретенное знание, нужно чудо. В одном интервью писатель сказал: «Чтобы текст задышал глубоко и свободно и поднялся во весь рост перед внутренним зрением читателя, он не должен быть объясним. Его пространство понимания должно иметь лакуны. Эти лакуны — место читателя, ниша для его мыслей и чувств. Эти прорывы в объяснимом необходимы, потому что мы сами все необъяснимы».
Его романы — «европейские», но действие их происходит в Румынии. Вполне можно предположить, что часть его успеха — в экзотике. При том, что Румыния — давно член ЕС, для среднего немецкоязычного читателя эта страна по-прежнему находится где-то за границей Ойкумены и вызывает из культурных ассоциаций, пожалуй, лишь воспоминание о замке Дракулы.
Флореску искусно играет со стереотипными представлениями Запада о том, что дикий Восток начинается сразу за Дунаем. «Несчастье» родиться в Румынии он делает своим капиталом. «Мир пахнет, — говорит он в одном интервью, — да что там пахнет — источает вонь, он ярок, пестр, оглушителен, страстен, подчас невыносим, несправедлив, короче — живой. Слава богу, остаток мира не соответствует представлениям западного человека о том, каким должно быть мироустройство! Каким этот мир был бы обедневшим! И для писателя совершенно непригодным. То, что для западного взгляда кажется гротеском и неприемлемым для жизни, там, снаружи, в живом мире, является горькой трагикомичной ежедневной реальностью. Для моего писания — это чистый кислород. А наши города не пахнут, стерильны до состояния больницы».
Поэтому писатель возвращается на родину за историями. Он рыбак, который забрасывает свои сети в Банате, в Тимишоаре, в воды своего детства, и улов наполняет его романы яркими «нешвейцарскими» персонажами и яростной «неевропейской» жизнью. К примеру, Якоба, героя последнего романа Флореску, окружают и учат жить причудливые, странные люди. Цыганка Рамина прячет золото в куски мыла и рассказывает мальчику каждую неделю новый вариант его появления на свет. Священник тратит свою жизнь на раскапывание человеческих костей, чтобы перехоронить их по христианскому ритуалу. Отец дважды предает Якоба, жертвуя жизнью сына ради сохранения собственного хозяйства. Подобные персонажи в банковской метрополии Цюрихе были бы немыслимы. А в Банате все возможно. Даже рождение на навозной куче. Румынская реальность как синоним магического реализма.
Первая книга Флореску «Время чудес» до краев наполнена юмором и трагизмом. Книга о времени, когда происходят чудеса, — о детстве. О семье. Мама, отец, сын. Но о детстве в идиотизме диктатуры. О детстве в стране лживых слов и брутальной правды. О попытке вырваться за железный занавес и о возвращении в Румынию. Первая книга всегда о себе. Эта история случилась с семьей самого Каталина — неудачная попытка побега. Они добрались до Нью-Йорка, а потом вернулись в страну, строившую светлое будущее а-ля Чаушеску. Его жизнь началась как одиссея, и его первый роман — одиссея.
Бывает, автора хватает только на первую книгу, пусть и гениальную, но одну. Или на две, три. Потом писатель заканчивается. А есть авторы, которым нужен разгон. Чтобы избавиться от собственной биографии, Каталину понадобилось четыре книги.
Каждой жизни хватит на роман. Но чтобы стать писателем, прожитого в жизни не хватит. Нужно научиться творить. Сочинять. Выдумывать. Создавать. По образу и подобию.
Первая книга Флореску в 2001 году получила премию Шамиссо и принесла молодому автору успех. Потом было еще три романа: «Короткая дорога домой», «Слепой массажист», «Заира». Восторженные рецензии, премии, литературные стипендии. Но это был лишь разбег. И только пятый роман, «Якоб решает любить», катапультировал своего автора в первые ряды современной европейской литературы. Книга получила в 2011 году главную швейцарскую литературную премию, стала бестселлером.
В этом романе, казалось бы, уже нет ничего биографического — предки самого Каталина не были переселенцами с берегов Рейна, он сам никогда не жил в швабской деревне Трибсветтер, но во всех своих книгах Каталин всегда пишет о самом главном опыте своей жизни. Герои его романов — кочевники между Востоком и Западом. Они не путешествуют, они кочуют в поисках лучшей жизни, родины, земли, семьи, дома. Одиссею не запихнешь в бунинский рассказ, тут нужны романные просторы.
Каждый писатель — немножко Ной, ему нужно спасти свой мир от небытия. Но никто не скажет, как рубить ковчег из слов: столько локтей туда, столько локтей сюда. И в небольшой лодке можно спастись. Каталин пробовал себя и в короткой прозе, и в лирике, но писателю Каталину Флореску нужны размеры эпоса, чтобы спасти свой рассказ от молчания.
«Якоб решает любить» — семейная сага, которая берет свое начало в Лотарингии в XVIII столетии и заканчивается в послевоенной Румынии при коммунистах.
Императрица Мария-Терезия пригласила со всей Европы колонистов для освоения земель на окраине своих необъятных владений. Ей нужны налоги, а для этого нужны люди. Банат — дикое, пустынное пространство между Дунаем, Тисой и Карпатами. Сюда отправились в поисках лучшей доли десятки тысяч людей со всей Европы. В те времена пытали свое счастье на Востоке, а не на Западе. Банат заселялся переселенцами из Эльзаса, Лотарингии, немцами, итальянцами, австрийцами.
Этот роман — деревенский эпос о непрекращающейся борьбе за выживание, за собственный кусок земли, за дом, за продолжение рода, за сохранение очага. Это проза о деревне, но это не деревенская проза. Это притча о роде человеческом, который выживает злом, но дышать может только добром.
Каталин умеет писать. Его слог жилист, лишен прозаического жирка. Его детали выточены, образы слеплены так, что хоть пробуй на ощупь, драматургия мускулиста, фантазия пронзительна. Эпос, вскормленный поэзией.
Его проза чувственна, но не сентиментальна, а умение писать о жестоких вещах одновременно и серьезно, и с иронией дается только жизненной мудростью. Настоящий рассказчик и о грустном расскажет с юмором. Интонация рассказа о трагичном — показатель человеческой и писательской силы.
Флореску сочиняет свой мир, но читается книга как документальная проза. Этот роман отличает бешенство фабулы. (Я хотел написать буйство фабулы.) И буйство, и бешенство. Разве сама человеческая история не носится веками по городам и деревням, неся всем горе и смерть? От брутальной Тридцатилетней войны до Второй мировой? От убийств и грабежей в XVII столетии до убийств и грабежей коммунистических режимов?
При этом эпическое полотно, написанное Флореску, своей страстной любовью к деталям вызывает ассоциации с Брейгелем.
Как на картине Брейгеля, в его романе есть всё, вся человеческая вселенная, от крестьян до солдат, от жестокой бессмысленной смерти до рождения в хлеву, от снега до человеческого тепла, от ужаса до красоты, от ненависти до любви. Роман дышит любовью творца к своей твари, даже если это просто слово, рождающее маленькую деталь общей трехсотлетней картины. И любовь эта не иссякает, а растет, жизненные подробности вливаются на страницы потоком. Это очень «брейгелевская» проза, в которой через каждую схваченную мелочь проходит ось земли.
Герои трехсотлетней саги постоянно обращаются за помощью к Богу. Бог появляется на первой же странице книги еще до появления героев. Сразу после появления дьявола. В космогонии этого романа из пустоты белого листа бумаги сперва появляется буря, потом дьявол и только потом Бог. Бог героев Флореску — слабак, не дает им, что просят. А если дает, то не может помочь удержать. Зато зло вездесуще и всесильно. И противостоять ему предстоит человеку одному, без надежды на чью-то всевышнюю помощь.
В этой книге очень много зла. Кажется, что это сага о ненависти, предательстве, жестокости, войне, голоде, бедности, засухе, наводнении, болезнях, несправедливости, унижении, изгнании, преследованиях, пытках, зачистках, расстрелах, депортациях, бегстве, злобе, ненависти, страхе, отчаянии.
Буря, с которой начинается роман, — схватка между дьяволом и Богом — идет все время до последней страницы. Только Бог давно сдался, не понимая, как можно перенести все эти ужасы, выпавшие на долю человека.
В оригинале Якоб однозвучен с библейским Иаковом. В переводе эта важная связь звука и смысла распалась.
Роман — это лестница Иакова, но лестница Якоба ведет не на небо, а вниз, в адовы круги человеческой тьмы, по которой он опускается все ниже и ниже. Кругом зло и смерть, и конца этим кругам нет. И еще разница с библейским тезкой в том, что он борется не во сне, а наяву: вся его жизнь — это яростная схватка с судьбой.
Роман пронизан голодом и жаждой. Но это больше, чем голод и жажда, которые можно утолить едой и водой. Это жажда счастья и голод по семье и дому, жажда человеческого тепла и голод по родине.
Герои Флореску одержимо лезут вверх по лестнице, ведущей вниз, но не в поисках небесных ценностей, а самых что ни на есть земных. Их всех влечет одержимость, но чем они одержимы? Не любовью к родине, не славой отечества, не величием империи, отнюдь. За что готовы они преодолевать страдания, терпеть, бороться, жертвовать? Это очень европейская одержимость — землей, семьей, домом. Это не православная радость отречения от всего мирского. Это христианство не Пасхи, но Рождества, здесь взыскуют не небесного града, но дома с аистом на крыше на своей земле. И не важно, в какой стране и с каким государем.
Эта книга — сага о выживании. О победе жизни. Люди основали деревни, трудом и верой в свое будущее освоили заболоченные пустыни. Их ждали войны, голод, мор. Они выживали и плодились — до следующей волны войн, голода и мора. Неостановимый вал жизни. Поколения искали счастья, но попадали под колеса истории. Разве это участь только жителей Баната? Новые поколения продолжат эти поиски.
Это роман об обретении родины. Она может быть хоть на краю света. Родина там, где ты построишь себе дом. Родина человека — в ярости борьбы за жизнь. Родина героев Каталина Флореску — не земля предков, а одержимость жизнью.
Жизнь Якоба — это и апокриф истории Иова. С той разницей, что Иов сначала приобрел все от жизни, а потом потерял. Якоб ничего не получил с самого начала и только терял. И еще Иов возроптал. Якоб не ропщет, а яростно цепляется за жизнь. В конце у Якоба не остается ничего — ни семьи, ни Бога, только жизнь. И его спасает способность прощать. Отец его предал дважды, Якоб ему простил. Жизнь предавала его каждый день. Он смог и ей простить.
Это сага о невозможности уничтожить главную человеческую потребность — потребность в любви. Потребность любить эту жизнь, несмотря ни на что. Якоб решает любить, и Зло ничего не может с ним сделать.
Роман заканчивается депортацией. Измученных людей, которым исковеркали жизнь, у которых отобрали все, что они имели, привозят умирать под открытым небом в пустынных болотах на краю света. Сердобольный охранник говорит: «Если выроете землянки — захлебнетесь в них». У них нет ничего, кроме звезд над головой. Им остается только выкопать себе могилы. Каждая пустыня — кладбище.
У них не осталось ничего, кроме звезд над головой и бытия. Каждая пустыня — библейская.
Выжить можно, только если полюбить жизнь такой, какая она есть.
Их привезли умирать. Якоб решает жить. Его последние и самые главные слова умирающему отцу: «Я построю нам дом на краю света».
Михаил Шишкин
Глава первая
В каждой буре скрывается дьявол. Хоть в скоротечной летней, хоть в такой, что целыми днями тяжко давит на всю округу. Он прячется от Бога. Чем страшнее ему, тем сильнее он кружит в вихре воздух и землю. Но проку ему от того немного. И когда по полям завывает ветер, люди знают — Бог настиг дьявола.
Бывает, черту везет и удается сбежать. Он вырывается из урагана, ветер утихает, и тучи рассеиваются, как будто их никогда и не было. Но успокаиваться еще рано, ведь затравленному дьяволу срочно нужно новое укрытие. Он ищет его в кошачьей шерсти или в густой буковой кроне. Если кто и решается выйти из дому в такую пору, то запахивает одежку поплотнее, чтобы дьявол в нее не пробрался.
В июле 1924 года мой отец появился из такого урагана и никогда не возражал, когда говорили, будто он заключил сделку с дьяволом. Ни после свадьбы с матерью, ни после моего рождения, ни тогда, когда он снова всего лишился.
В тот день зловещий грозовой фронт показался далеко на западе, еще за венгерской границей, и заставил подскочить полевого сторожа. Его разбудил гром. Небо там было словно вымазано дегтем. Мариан торопливо достал рожок, чтобы предупредить село, но после шнапса во рту у него пересохло. Он сделал еще один добрый глоток, и тогда звук рожка разнесся по замершим на солнце безлюдным улочкам.
Между тем по далеким полям уже били молнии, и виднелись широкие полосы дождя. Мариан засунул рожок под мышку, обул деревянные башмаки и побежал к дому коменданта замка. Так его называли, хотя никакого замка в округе не было, но, быть может, крестьяне считали замком все село. Оно стояло на такой открытой местности и было так беззащитно, что подвергалось ударам не только стихии, но и всех, кто проходил мимо — целых армий и разбойничьих шаек, Габсбургов и венгров, сильных мира сего, а иногда и сил мира иного.
Штруберт, комендант замка, уже знал, в чем дело, жена растолкала его, поскольку сморило его то же пристрастие, которым страдал полевой сторож. Жена подтащила его к окну, он выругался и замахнулся на нее за то, что не разбудила раньше. Схватив ключ от колокольни, он выскочил на улицу и крикнул полевому сторожу, с которым чуть не столкнулся: «Бей в набат!» Комендант еще не подозревал, что в этот день ему придется бить в большой тяжелый колокол дважды.
Этот колокол отлили в Темешваре по настоянию Фредерика Обертина еще в 1773 году — через год после того, как село выросло в чистом поле, — и привезли сюда на волах. Потом его с большим трудом подняли на колокольню и подвесили рядом с малым и средним колоколами. Он был самым главным.
Это в него звонили при пожаре или иной опасности. Это его звук разносился по полям днем, возвещая обеденный перерыв, и в сумерках завершал перезвон других колоколов, созывая крестьян с полей домой. Три удара — во имя Отца, Сына и Святого Духа. И он же звонил первым, когда несли на погост покойника.
Первый покойник не заставил себя ждать. Работник Ролан Манёвр должен был отполировать колокол перед освящением, но запутался в веревках и свалился. Он рухнул вниз головой прямо к ногам Фредерика Обертина и его почетных гостей. То ли шнапс был тому виной, то ли нечто иное, необъяснимое. Как бы то ни было, но происшествие это положило начало длинной череде несчастных случаев, убийств и самоубийств, мучивших село. Весь этот край был под Господом Богом, но и с тем, другим, приходилось считаться.
Ко времени, когда комендант замка поплевал на ладони и схватился за веревку колокола, большинство крестьян на полях — некоторые верстах в четырех-пяти от села — уже заметили приближение грозы. Кое-кто осенил себя крестом, увидев, как изменилось освещение. Последний слабый отблеск исчезающего солнца. И первое, еще легкое дуновение ветра, которое ничего хорошего не предвещало. Конец июля — пора жатвы. Повсюду на полях стояла пшеница в снопах, и кое-где еще сушилось сено. Да только что тут поделаешь — оставалось лишь надеяться, что хоть потом еще можно будет что-то спасти. Люди грузили инструменты и провиант на тачки и уходили.
Никто не заметил Якоба, когда он появился на узкой гравийной дороге, что проходила поодаль от села и связывала Темешвар с венгерской границей. День был жаркий, одежда липла к телу, пыль лезла в глаза и нос. Якоб тоже видел, что все вокруг тонет в ярко-желтом свете, который быстро потускнел и стал серым. Он остановился, поднял голову, сдвинул старую засаленную шапку на затылок и взглянул на небо. Он глубоко вдохнул, пахло дождем.
Тучи были уже не дальше чем в одной версте, ветер крепчал и порывисто трепал редкие шелковицы и тополя по краям дороги. Вороны стаями кружили высоко над ним с беспокойным граем, а потом полетели к городу. Они летели к пустующим фабрикам, паркам, дворам и к берегу Бегского канала, чтобы найти там укрытие.
Издали Якоб видел, как последние крестьяне скрылись между домами. Он снял башмаки, связал их шнурками и перекинул через плечо. Нельзя было терять ни минуты, гроза подошла вплотную, горизонт сжался до нескольких сотен метров. Он сошел с дороги и побежал прямиком через поле.
Он знал, в грозу это последнее дело, хоть Бог и отпускает грехи всем, в кого попадает молния. Так, по крайней мере, считали румыны, а он жил среди них достаточно долго, чтобы и самому так думать. Он пробежал уже полпути к ближайшим дворам, когда начался ливень и встречный ветер ударил в грудь, будто хотел остановить. Только не на того напал: Якоб лишь на мгновение замедлил бег.
И все же иногда порывы ветра били ему в лицо столь яростно, что, сделав три-четыре шага вперед, он тут же вынужден был на столько же и отступить. Вот такой он был, этот крупный мужчина с растрепанными волосами, и с ним играла природа или бесы, желавшие поднять его и швырнуть оземь в отместку за то, что Господь гоняет их, а не людей.
Единственное, что ветру удалось отнять у него, это шапку. Она покатилась по полю, взмыла в воздух и повисла на какой-то изгороди. Куртка, в кармане которой лежала газетная заметка, что привела его сюда, раздувалась, как парус, и тоже тянула назад. Но Якоб упорно продвигался вперед, не обращая на это никакого внимания. Когда он был всего в нескольких шагах от хлева, что-то пролетело прямо перед ним — кусок дымовой или водосточной трубы. С трудом он открыл узкую дверцу с задней стороны хлева, протиснулся внутрь и упал на солому.
Скотина отнеслась к этому спокойно. Рядом с теплыми, подрагивающими телами коров и лошадей Якобу было уютно. Запах навоза и сена, грязи и шкур скота всегда его успокаивал. Ему нравилось жить в одном ритме с животными, обтирать их, чистить и укрывать, смазывать им копыта и прижиматься к ним теснее, когда осенью холодало. Якоб осторожно подполз к одной из лежащих коров, погладил ее, чтобы успокоить, ухватился за вымя и стал жадно сосать. Корова не имела ничего против, для нее он был всего лишь необычным теленком.
Якоб улегся, закрыл глаза, но вскоре опять открыл их. Стал лихорадочно искать по карманам золотые часы, а когда наконец нащупал их, довольно улыбнулся. Потом он заснул, окутанный звуками шелестящего дождя, грома и ветра. Тем временем стемнело, вспышки молний освещали сквозь щели в стенах спящего человека и настороженных животных.
Не прошло и четверти часа, как другой человек, с ружьем в руке, распахнул большие ворота хлева и в свете молний попытался разглядеть чужака. Обнаружив его, человек подошел и ткнул прикладом ружья в живот. Якоб вскочил, все его тело было похоже на панцирь.
— Я принял вас за конокрада. Некоторые думают, что в такую непогоду воровать легче. Но чтобы конокрад в хлеву спать завалился — такого отродясь не бывало. Вы шваб или румын? — спросил мужчина.
— Шваб, — ответил Якоб.
Алекс Непер повернулся и пошел обратно в дом. Когда Якоб подумал было, что тот о нем забыл или не захотел связываться, и уже прикидывал, не стоит ли ему рискнуть и остаться — ведь гроза еще не кончилась, — он услышал голос с другого конца двора: «Идите сюда! Есть кукурузная каша». Якоб сквозь дождь побежал к дому большими шагами.
Там они встали друг против друга при тусклом кухонном освещении, Непер протянул ему тарелку кукурузной каши и немного колбасы. Якоб ел стоя, набивая рот кашей. Непер не мешал, но пристально наблюдал за ним. Если бы пришлось драться, у него не было бы против чужака ни единого шанса. Якобу было самое большее лет двадцать шесть или двадцать семь, он был шире в плечах, с крупным носом и крепкой шеей. Пожелай он кого-нибудь пришибить, у него бы это точно получилось. На всякий случай Непер притянул ружье, лежавшее на кухонном столе, поближе к себе.
— Я точно видел, что вы пришли полем, — сказал Непер.
Якоб проглотил остатки, не обратив внимания на стакан, который хозяин подал ему вместе с бутылкой шнапса, приложился к горлышку и выпил почти до дна. Лишь теперь он осмотрелся: дом благополучный, но неухоженный и в беспорядке.
— Где это я?
— У аптекаря.
— Да нет, в каком селе?
Только теперь Непер заметил, какой у чужака голос: низкий, звучный и уверенный.
— В Трибсветтере. Как видите, такая мрачная погода удивительно подходит к названию нашего села[2].
— Трибсветтер? Значит, я пришел, — сказал Якоб и зачерпнул из горшка еще кукурузной каши.
* * *
Ураган бушевал уже много часов. И все никак не унимался — то ли он, то ли духи, в него вселившиеся. Некоторые рассказывали, будто подходили к урагану так близко, что смогли разглядеть бесов, прятавшихся в нем, — уродливых и отвратительных или искушающих, но не менее опасных.
Время от времени кто-нибудь исчезал или не возвращался из поездки, тогда говорили: «Его как ветром сдуло». Иногда пропавший всплывал, распухшим и посиневшим река выносила его на берег. Или, может быть, он просто уходил навсегда. Никто не смел даже подумать, что человек мог просто уйти к новой жене или к новому мужу или вообще предпочел смерть жизни в тесном сельском мирке. Обмана и свободы выбора не существовало, был только Бог, бесы и судьба, с помощью которой они кому-то наносили удар.
Когда ураган поутих, Непер и Якоб решились выйти на улицу. Повсюду валялись перевернутые тачки, поломанные заборы и вырванные с корнем деревья. Сарай, несколько дымовых труб, стена дома из прессованной земли — все это обрушилось. «Если дождь не перестанет, Марош[3] выйдет из берегов и скоро нас затопит», — сказал аптекарь и пошел обратно в дом.
Якоб насквозь промок, вода с его одежды стекала в ручьи, которые бежали по всей улице и по двору Непера, унося с собой землю, гравий, мусор и даже мелкий инвентарь. Он сам стоял в таком ручье, и вода омывала его грязные ступни. Потом, когда никто уже не ожидал, — ведь молнии полыхали все дальше, может быть, даже над Темешваром, — небо озарила вспышка, и на мгновение село осветилось, словно призрак. За молнией последовал ужасный грохот, испугавший всех — и людей, и скотину.
Непер поспешил к окну. Он увидел: чужак стоит у ворот, расставив ноги, словно сросшись с землей, став частью дождя и урагана. Парень был еще молод, хозяин вполне мог представить его своим конюхом. Но оставалось неясным, чего от него ждать. Что нужно чужаку, Непер не знал, однако его появление здесь не предвещало ничего хорошего.
Владелец единственной аптеки на всю округу, Непер был человеком скромным. Его отец, Алекс Непер-старший, открыл лавку в 1880-м, заказав лекарства, склянки и порошки всех цветов радуги из Вены и Будапешта. Он всю жизнь увлекался химией и однажды во время очередного эксперимента взорвался вместе с аптекой. Сын не нашел почти никаких останков отца. Все, что он мог похоронить, легко уместилось в коробку. И все же колокол звонил.
Непер уже кое-что повидал на своем веку: тиф, холеру и оспу, ведь крестьяне часто не видели разницы между аптекарем и доктором. Врача и ветеринара в одном лице прислали в эти края лишь недавно, так что прежде именно Непера вызывали к постели больного. А иногда — так уж получалось — и к смертному одру. И все равно этот пришлый незнакомец, почти вдвое моложе Непера, чем-то его смущал.
Комендант замка и на этот раз не слишком торопился к своему посту. Едва раздался треск молнии, жена уже тормошила спящего:
— Просыпайся! Там пожар, а у тебя мозги в шнапсе плавают!
— Я, может, и люблю выпить, но я еще не глухой, — отозвался он. Натянул какую-то одежду, взял ключ и вышел из дома. Тут ему снова встретился полевой сторож.
— Где пожар? — спросил он.
— У Американки, — ответил Мариан.
— Значит, есть Бог на свете.
Вскоре грянул набат, да так, что не только последних спящих, но и мертвых разбудил бы, напоминая людям об их обязанности. Аптекарь оделся, вытащил несколько ведер из темного чулана, схватил второй плащ и подбежал к Якобу. Он протянул ему плащ: «Молния ударила. Пошли!»
В ту же секунду со стороны Неронова переулка показалась лошадь в ливне искр. Ее хвост и грива горели, от тлеющей шкуры поднимался дым. Дождь, который как раз теперь был так нужен, стал тише. Лошадь галопом проскакала вплотную к ним. Она таранила стены и ограды, врезалась в дерево и рухнула в изнеможении, потом попыталась подняться, но не смогла. Еще раз подняла голову в последней попытке оттолкнуть смерть, и все было кончено.
— Пойдемте! Мы нужны там, — снова потребовал Непер.
— Меня это не касается, — возразил Якоб и только посмотрел вслед убежавшему Неперу.
К рассвету чертово ненастье закончилось. Ураган ушел дальше, добрался до первых вершин Карпат, погрохотал там напоследок, затем ослаб и угомонился. Воцарилась такая тишь, словно мир был сотворен только что.
Непер больше не рассчитывал на Якоба и лишь надеялся, что тот ничего не украдет. Для таких, как он, двор без присмотра был приглашением поживиться. Но скорее всего он исчезнет так же быстро, как появился. А если появится еще раз, то пожалеет — уж Непер об этом позаботится. Здесь еще никто и никогда не отказывал в помощи, никто и никогда не противился тому, что определяло жизнь — обязанности оказать услугу. Каждый был должен остальным. Долг связывал их всех.
Когда кто-то умирал, другие оказывали ему услугу и несли гроб. Когда у кого-то горел дом, остальные тащили ведра с водой. Когда хозяин потом заново отстраивался, ему помогали. Бесчисленное множество услуг, так было с самых первых дней, со дней Фредерика Обертина. Конечно, так же было и в Лотарингии, откуда вели свой род большинство из них. Было чужое зерно, которое надо свезти в амбар, свинья, которую надо заколоть, тачка, которую надо починить. Вместе строили мельницу, церковь, дорогу.
От услуги к услуге зачинали детей, теряли детей, теряли жен, находили новых, молотили зерно, помогали рождаться телятам, клеймили свиней, выдавали замуж дочерей и хотели сыновей — наследников хозяйства, переносили засуху, и голод, и наводнения, когда река гневалась и отравляла все вокруг, неурожаи, нашествия крыс и холеры, старость и болезни, искривление позвоночника и воспаление суставов.
Под конец каждый становился приживалом в собственном доме, у старшего сына или зятя, и день за днем ходил одной и той же дорогой от лежанки до печки погреть старые косточки. И так изо дня в день, сотни раз, а потом опять приходили другие и оказывали последнюю услугу.
Непер был весь черный от копоти, штаны у него порвались, на лице и руках были легкие ожоги, шляпу и плащ он потерял, и еще долго его сотрясал кашель. Слишком мало людей пришли помочь Американке и ее отцу — кроме Непера, человека два-три, да еще несколько их работников. Отец Американки чуть сам не погиб — не хотел оставлять лошадей. Огонь быстро перекинулся на другие постройки, почти все сгорело дотла: загоны, сараи, тачки и часть дома. В целости и сохранности остались только коляска и людская.
Десятки раз Непер забегал в хлев, пытаясь отвязать скотину, выгоняя на улицу свиней и птицу, покуда не прогорели стропила и не рухнула крыша, похоронив под собой оставшуюся живность. Вместе со всеми он ворвался и в дом, и они вынесли все, что можно было унести. Воду таскали из колодца, до Мароша было слишком далеко.
Никлаус и его дочь Эльза снова и снова рисковали жизнью, но потом и им пришлось просто оставить все на волю судьбы. В конце концов они сели под открытым небом у стола из гостиной, на который была свалена посуда, постельное белье, фотоальбомы, одежда, и уронили головы на руки. Вокруг них громоздились мешки с зерном, сундуки, матрацы, комоды, инструменты.
Аптекарь отпер свой дом, с трудом разделся, сел и стал тщательно мыться. Он с силой тер свое уставшее тело — лысину, покрасневшее лицо, руки. Медленными, равномерными движениями он стирал с кожи запах гари.
Якоб распахнул дверь. В одной руке он держал куртку, а расстегнутая рубаха свисала поверх штанов. Он сделал несколько шагов к голому, испуганному Неперу и сказал тоном, не допускавшим возражений:
— Я проголодался. Неплохо бы поесть.
Тут что-то совсем не так, подумал Непер. Человек, которого он еще недавно хотел пристрелить, а потом вполне мог представить своим конюхом, теперь ведет себя как хозяин дома.
— Вы еще здесь? — пробормотал он.
— Я всю ночь охранял твою скотину, братец. Нельзя было ее оставлять без присмотра, могут ведь угнать, — ухмыльнулся Якоб.
Непер растерялся и сильно закашлялся. Хоть люди здесь и обращались друг к другу «брат» и «сестра», молодым полагалось уважать старших. Малейший проступок наказывался штрафом, а за более тяжкий еще не так давно пороли на станке. И через все село проводили с позором.
Стараясь скрыть волнение, он машинально водил мочалкой по телу, но нервы были напряжены. Краем глаза он видел, как этот человек подошел к нему вплотную, едва не коснулся. Теперь никуда не деться — ни в сторону отскочить, ни встать, чтобы защититься. А ружье его с прошлого вечера так на кухне и осталось.
Непер уставился на башмаки Якоба — деревянные подошвы, к которым сапожник прибил поношенную кожу от еще более старой обуви. Потом он медленно поднял голову, посмотрел на разодранную во многих местах штанину. То были штаны на все случаи жизни: для поля и хлева, для отдыха и церкви — если такие вообще ходят в церковь. Запятнанная рубаха, видимо, когда-то была белой, волосатая грудь, подбородок.
За несколько секунд Непер смерил противника взглядом и узнал о его бедности больше, чем хотел. Такие батраки и бродяги опасны, им терять почти нечего, да и этой малостью они всегда готовы рискнуть. Такому и напиваться не обязательно, и повода особого не нужно.
Эти поденщики столько времени проводили со скотиной, так долго их ни во что не ставили (да они, верно, и сами себя невысоко ценили), жили они, так твердо зная, что вся их жизнь — это лишь бесконечная нужда и унижение, ожидание грошового заработка, беспробудное пьянство, карты, блуд и снова ожидание, что всегда рассчитывали на худшее. И потому были непредсказуемы.
Разве не таких же вот двое всего пару лет назад прибили невестку Петера Барту, а потом за ними так долго гонялись, что даже жандармов пришлось вызывать? Разве они потом не прикинулись смирными и не каялись, уверяя, что ничего не помнят и что всему виной пьянка? А еще раньше, одной суровой зимой, разве не конокрад застрелил коменданта замка Йозефа Рено, или Гого Йошку, как его все звали, во время обхода улиц, из его же собственного ружья?
— Позвольте, — сказал Непер и попытался встать. Если и мог он на что-то рассчитывать, то только стоя. Но чужак не отступил, так что аптекарю не оставалось ничего иного, как снова сесть.
— Ничего я не позволю. Я охранял твой двор, ты должен мне еды.
— Я вас об этом не просил. — Аптекарь сам удивился своей смелости. Мощное тело чужака было всего лишь на расстоянии ширины ладони и стояло стеной.
— Просил не просил, а работа сделана, пока ты там пожар у кого-то тушил. Теперь я желаю получить плату.
Непер в последний раз решил проявить смелость:
— Вы мне угрожаете?
Он видел, как руки чужака — они были как раз на уровне его глаз — сжались в кулаки, застыли на мгновение, а вены на предплечьях вздулись. В пространстве, отделявшем его от Якоба, он не мог ни пошевелиться, ни защититься.
Потом произошло такое, чего Непер и не предполагал. Чужак уступил, его руки расслабились, он отошел и повесил куртку на спинку стула.
— Ты же голый, а я так запросто вломился.
Ни в его поведении, ни в голосе больше не было напряжения. Теперь он был похож на соседа, который решил заглянуть ненадолго и вошел без стука.
Аптекарь спешно оделся, чтобы хоть как-то защититься от чужака, теперь тот выглядел растерянным. За краткий миг на его глазах случилось превращение, которое он ничем не мог объяснить. Но, вымывшись и одевшись, а главное, встав, он снова стал хозяином в доме, а другой — просителем.
Якоб пошел на кухню, и Непер с тревогой последовал за ним, ведь там лежало ружье. Он увидел, что Якоб мирно сидит за столом и режет ножом буханку хлеба, прижимая ее к груди. Отломил кусок, макнул его в остатки вчерашней кукурузной каши, и запихал в рот. Затем последовали несколько толстых кусков колбасы.
— Тут же есть все, что нужно. Почему ты сразу не сказал, братец? Давай-ка садись, перекуси тоже. Это я хорошо зашел.
И снова все перевернулось с ног на голову: пришелец приглашал хозяина к его же собственному столу. Не чувствуя опасности и слегка повеселев, Непер сел и принял кусок хлеба, протянутый ему чужаком. Он сильно проголодался, ведь ночная работа стоила многих сил.
— Кое-чему я научился. Нужно всегда есть так, будто это твой последний обед перед казнью, — добавил Якоб. Он аппетитно чавкал, а взглянув на лицо аптекаря, расхохотался. — Да что с тобой? У тебя такой вид, будто перед тобой сам дьявол. Не бойся, ты же у себя дома.
Воцарилось молчание, теперь и Непер чавкал, жадно заглатывал пищу и рыгал.
— Как вас зовут? — спросил Непер некоторое время спустя.
— Якоб.
— Якоб, а дальше?
— Просто Якоб.
— У каждого человека есть фамилия.
— У меня нет. Якоб, и все.
— Но…
Чужак ударил кулаком по столу, положив другую руку рядом ладонью вниз. Его взгляд снова стал пронзительным и холодным.
— Можешь спрашивать сколько угодно. Другого ответа не будет.
И снова произошло превращение, он откинулся назад, стал сытым и довольным, вытерев краешек тарелки хлебным мякишем. Словно вспомнив о чем-то важном, Якоб вскочил, принес свою куртку, отыскал газетную вырезку, развернул ее, положил перед аптекарем и разгладил.
— Ты знаешь эту женщину?
Аптекарь взглянул и рассмеялся.
— Знаешь ее? — настойчиво повторил Якоб.
— Знаю ли я ее? Да это же Эльза Обертин. Ее все знают, отсюда до Темешвара и дальше. Мы зовем ее Американкой. Если б вчера вы пошли со мной, то познакомились бы с нею. Это ее двор сгорел.
Якоб вздрогнул.
— Ее двор? Сгорел? — спросил он.
— Мы пытались спасти все, что можно, но нас было слишком мало. Хотя для нас помощь — дело чести. Только с тех пор, как она вернулась из Америки, люди ее не любят. Про нее всякое болтают. Вы здесь из-за нее?
Якоб ответил не сразу. Казалось, он был занят чем-то другим и долго соображал.
— Так, значит, у нее совсем ничего не осталось? — спросил он наконец.
— Ну, я бы не сказал. Добра у нее еще хватает. Но почему Эльза вас так интересует?
Якоб засунул листок обратно в карман и осмотрелся, будто что-то искал. Когда Непер уже не надеялся услышать ответ, он сказал:
— Потому что я хочу на ней жениться. У тебя не будет для меня чистой одежки и бритвы, братец?
Это был первый парадный выход моего отца. Он спустился с Карпатских гор и шел по крутым дорогам и горным тропкам, вдоль ручьев и рек. Он нанимался на работу к крестьянам и лесничим за кукурузную кашу и картофельный суп, потом шел дальше, его гнал страх опоздать. Он достиг Банатской равнины, и она раскинулась перед ним, выцветшая на солнце, пыльная и пересохшая.
В Темешваре он грузил в маленьком порту мешки с мукой на австрийские корабли и работал подмастерьем у ремесленников на Йозефсплац. Он был ценным работником — сильным, выносливым и смышленым, но не мог подчиняться ни одному хозяину. Одна и та же мысль все время гнала его дальше и привела к тому, что однажды он ушел из города в западном направлении. На пути в Трибсветтер он успел пожить во многих местах, но нигде не задерживался дольше чем на пару недель.
Ему не давала покоя мысль, что у кого-нибудь еще могла возникнуть такая же идея, что тот мог раньше отправиться в путь, двигаться быстрее, опередить его. Пока однажды, во время сильной грозы, он не появился сам, как стихийное бедствие. Но если землетрясения, засухи и наводнения проходили, он — остался. Сначала у Непера, потом у моей матери, а потом и у всех остальных.
* * *
Первый свадебный звон раздался в Трибсветтере после первого погребального, по злосчастному батраку Маневру, 27 апреля 1773 года. В сельской хронике написано, что брак был заключен по причине недозволенного сношения. Не сказать чтобы в этих краях не любили совокупляться. Хмурые мужчины, повинуясь своей похоти, часто и грубо вторгались в тела своих жен.
Это было их единственное право, учитывая, что во всем остальном они никогда полностью себе не принадлежали. Когда через деревню проезжал помещик, барон Альвинци, швабы прижимали к груди фетровые шляпы, а румыны — смушковые шапки и кланялись. Если помещик выходил из кареты, все они подбегали к нему поцеловать ручку. Его руки не хватало на столько губ.
Однако в своих домах все они были господами. Для людей, охваченных возбуждением и желанием, животное спаривание было единственным неприкосновенным личным правом и вознаграждением. Спаривание и шнапс в кабаке. Нередко совокупление происходило перед восходом солнца — не из-за желания скрыться от Бога, а оттого что только в это время они были еще полны сил. В дурмане запаха скотины, испарений из ночного горшка, застоявшегося воздуха, вони изо рта, смрада грязных ног и немытых тел, блошиных и комариных укусов они переваливались под циновкой и быстро находили другое столь же скверно пахнущее тело.
Но была и другая причина, почему трибсветтерцы так прилежно совокуплялись. В деревенских глиняных мазанках боролись за выживание всего две сотни семей. Чтобы сохранить население, чтобы эта безжалостная земля не поглотила их и не стерла со своего лица, они были обречены на размножение. Никто не говорил об этом вслух, ни когда они заселяли свои дома, ни когда случился первый мор от холеры, но все это понимали. В конце концов, такова была их переселенческая судьба, для этого их и послала сюда императрица Австрии. Не для того, чтобы они вымерли, а для того, чтобы они пустили здесь корни.
Так вот, переспали и Людовик Годрон с Анной Одромат, но чересчур поспешно. Им обоим еще не было и шестнадцати, и познакомились они всего лишь за несколько месяцев до этого. Такое соитие произошло не по воле Божьей. Полевой сторож, обнаружив их, затрубил в свой рог, будто возвещая о пожаре, краже или ином несчастье. Через несколько мгновений перепуганную пару окружила толпа, поливавшая их бранью. Еще немного, и их бы линчевали на месте.
Их жизни спас Фредерик Обертин, вставший между ними и толпой и потребовавший созвать суд. Он не был особенно добрым человеком и поступил так не из сочувствия, но потому, что был судьей. И власть его заключалась в вынесении приговора.
Обычно на подготовку судебного заседания требовалось около недели. Весть о скором суде передавалась от дома к дому. Каждый знал свои собственные прегрешения, они были записаны в книге учета наказаний, хранившейся у судьи. Каждый боялся этого дня. Но дело Людовика и Анны было срочным и требовало суровых мер. Анну потащили за волосы через село, Людовика толкали и били по лицу, отовсюду стекались люди, они кричали и глумились, и так до самой Главной улицы. Шум утих лишь на дворе судьи, старики вытолкнули пару вперед, и все скрылись в доме.
Там состоялся суд, и Фредерик приговорил обоих к тридцати ударам плетью, немедленному бракосочетанию, исключению из общины и выселению далеко за пределы деревни. Им разрешалось пересекать сельскую границу лишь один раз в год, чтобы навестить родителей. Затем их высекли и на девушку натянули подвенечное платье поверх кровоточащих ран от плети. Священник зазвонил в колокола — малый, большой, еще один малый и наконец все три одновременно.
Прямо у церкви молодоженов усадили на воловью упряжку с провизией, кое-каким скарбом и привязанной коровой и вывезли за границу деревни. Ребенок, рожденный впоследствии Анной, умер некрещеным на второй день жизни. Его душу забрали демоны, говорили те немногие румыны, что жили в Трибсветтере.
По таким правилам Якоба Бесфамильного и Эльзу Обертин тоже следовало бы высечь, колесовать и стереть все воспоминания о них из памяти односельчан. Ведь они, уже не слишком молодые, но точно так же подчинявшиеся законам Божьим, переспали друг с другом всего лишь через три недели после знакомства. Для Эльзы это соитие было не добровольным, но и не бесполезным. Ей нужно было привязать к себе мужчину, решившегося на такой дальний путь лишь ради нее одной.
Появившись наутро после бури перед остатками хозяйства Эльзы, Якоб в одежде Непера казался слишком быстро вытянувшимся юношей-переростком. Увидев его, Эльза чуть было не рассмеялась, позабыв о положении дома Обертинов — некогда преуспевавшего, затем пришедшего в упадок, а теперь и вовсе уничтоженного, — дома, который она попыталась восстановить на деньги, привезенные из Америки.
Огню удалось разорить дом, но отнюдь не землю, на которой он стоял. К тому же накануне довольно много скотины осталось на выпасе — перед грозой ее не успели загнать на двор. Только лошади Никлауса, отца Эльзы, оказались заперты в стойле. С тех пор как умерла его жена, он хотел, чтобы они всегда были рядом. «Когда я смотрю на лошадей, вижу ее. Она их ведь так любила», — иногда бормотал он. Теперь же все, кроме одной, сгорели или погибли под рухнувшими бревнами.
Однако можно предположить, что вид Эльзы и ее отца показался Якобу не менее странным — они стояли на пепелище с черными от сажи лицами, в ночных рубашках и сапогах. От взгляда Якоба не ускользнуло и то, что прохожие лишь украдкой поглядывали на погорельцев и по большей части отворачивались, хотя чужое горе должно было притягивать их, как по волшебству.
Эльза возилась с остатками уцелевших вещей и собирала инструменты и домашнюю утварь. Работники, нанятые для сбора урожая, ковырялись в горячей золе, отыскивая тлеющие очаги. Найдя такое место, они заливали водой небольшую лунку, и оттуда поднимался пар. Никлаус стоял на коленях рядом с одной из мертвых лошадей и гладил ее, будто живую.
Медленно и осторожно Якоб подошел к ним, ни на секунду не упуская из виду маленькую изящную женщину, которой суждено было стать моей матерью. Когда она заметила его, он уже некоторое время стоял рядом. «Он появился откуда ни возьмись, — рассказывала мать. — Что мне было делать?» Именно так она и подумала.
Словно у нее не оставалось выбора после его появления. Словно ее жизнь разделилась на две части: одна часть без него, другая — с ним. Словно до той минуты все было одним лишь приготовлением, предшествием, не лишенным смысла, ведь она все-таки видела и делала такое, о чем другие только мечтали, а может, даже и не мечтали. Кое о чем из этого она никому не рассказывала до самого конца.
Ей было двадцать семь. В мире, где она жила, женщина в этом возрасте считалась уже старой. Должно быть, и за океаном, нью-йоркскими ночами она часто и с удовольствием мечтала о том, что еще придет что-то большое. Такое, что вознаградит ее за долгое ожидание. «Что-то большое, думала я, но на такое большое не рассчитывала», — рассказывала она потом.
Во всяком случае, она заметила Якоба, когда тот, руки в брюки, обратился к ее отцу: «Братец, одна твоя лошадка лежит мертвая у дома аптекаря». Он сплюнул, потом наступил носком на маленький влажный след в пыли. «Жалость-то какая. Я лошадей люблю, знаешь ли. Такое увидеть — просто сердце кровью обливается». Говоря это, он вошел во двор и сел у массивного стола, который погорельцы вынесли вместе со стулом, кроватью и несколькими коврами. Все это стояло во дворе и служило декорациями для сцены, которую придумал Якоб.
На стол запрыгнул петух, распушил перья и закукарекал, хотя солнце стояло уже высоко. «Петух орет средь бела дня, — сказал Никлаус, мой будущий дед. — Либо с ума сошел, либо над нами посмеяться вздумал». Эльза попросила одного из работников полить ей на ладони, легко наклонилась, умылась и вымыла руки до локтей. Затем она тоже подошла к столу. Никлаус последовал за ней.
С невозмутимым видом она долго и пристально смотрела на Якоба, пока тот не вскочил, будто вдруг вспомнив о чем-то. «Тебе посидеть нужнее, чем мне, сестрица», — сказал он и придвинул ей стул. Теперь Эльза могла рассмотреть его в полный рост, она была ему по грудь. В нем не было ничего такого, что могло бы ей не понравиться. Она удивилась своим мыслям, но вообще-то она была еще молода и не так погружена в себя, как стало потом. Прежде чем Эльза или ее отец успели что-нибудь сказать, Якоб добавил:
— Кошмарная ночь, правда?
— Кто вы такой? — спросила она.
— Якоб.
— И что вам здесь нужно, Якоб?
— Ну, сестрица, я сюда пришел издалека, из Бокшана. Ты, наверное, не слыхала о Бокшане, это в горах. Я оттуда больше двух месяцев шел, чтобы к тебе явиться.
— Если вам нужна работа, то у нас ее хоть отбавляй, сами видите, — перебила его Эльза.
— Я здесь не из-за этого.
— А из-за чего же?
— Так я об этом как раз и хочу рассказать. Отец мой был шваб. Когда я был еще мальцом, мы с ним перебрались в Бокшан[4]. Там у нас дела пошли получше, был даже хлев и кой-какая скотина, но когда отец помер, мне пришлось все продать. Только вот это от него осталось. Как они к нему попали, не знаю. — Он достал из кармана штанов золотые часы. — Потом я перебивался кое-как. Работал то у Экля на водяной мельнице, то на бензоколонке… Да, у нас в Бокшане даже автомобили есть. Правда, дороги все разбитые, сплошная щебенка, и такой автомобиль у нас года за два, за три дух испускает. Я их чинил, а заодно еще и с колонкой управлялся.
Потом работал у Аугенштейна, еврея. Мы продавали ткани, ножницы, в общем, все по портняжному делу. Вроде как подсобником был, для тяжелой работы. Поглядите на мои руки. Я да с иголкой — это было б курам на смех. Разгружал рулоны ткани, разносил заказы, больше по таким делам. Лавка Аугенштейна рядом с синагогой… опять я забыл, что ты Бокшан не знаешь.
Значит, стоит вот синагога, за ней скобяная лавка Лоренца, а потом сразу и наша. Ну, то есть еврея этого. А напротив — наша гостиница. Внушительная очень, во втором этаже такая бальная зала, размером, ну вот как отсюда до вон тех обугленных яблонь. Я тогда, бывало, частенько перед лавкой Аугенштейна встану и смотрю снизу, как у них там все пестрит. Там висят две этих, как их, люстры под потолком, все из хрусталя, само собой. Я помогал выгружать, когда их из Богемии привезли.
Ну да, такие балы, конечно, не про нашего брата, во-первых, тебя туда никто не пустит, а во-вторых, пока танцуешь, дамам-то все ножки отдавишь. Вы же видите, какие у меня ножищи. Проще быка научить польку танцевать, чем меня с такими лапами. Но я ж любопытный, интересно было посмотреть, что там такое внутри происходит.
И вот жду я, значит, как-то, пока материю привезут, Аугенштейн с дочками уже на балу, а машина опаздывает. Это у нас дело обычное, дорога длинная и непредсказуемая. Бывали случаи, что машины и в пропасть падали, когда осыпь или яму объехать пытались. И все это время слышу я музыку из гостиницы и как люди смеются, и все время полька, потом чардаш[5], потом опять полька.
Решил я выйти на улицу, а когда вышел, подумал, если уж я на улице, то почему бы мне и не перейти на другую сторону? А когда оказался перед самой гостиницей, то почему бы и не зайти внутрь? У дверей никого, хотя обычно всегда стоит кто-нибудь, чтобы отгонять мальчишек и цыган.
Я снимаю шапку, покашливаю, но никто не выходит. А со второго этажа музыка, и она меня тянет, прямо волшебство какое, ну я и думаю: «Иди дальше, парень, теперь уж все равно, где тебя поймают. Ты же не воровать пришел, это они разберутся, коли до того дойдет. Аугенштейн за тебя точно словечко замолвит».
Поднялся я по лестнице, очень осторожно, на втором этаже отодвинул толстую занавеску и напугался. Передо мной стоит швейцар, но, вместо того чтобы меня прочь погнать, прижимает палец к губам и кивает мне, смотри, мол, через стекло. Там же такие раздвижные двери стеклянные, а на стеклах название гостиницы написано.
Что я там увидал, просто как во сне было, так что и просыпаться совсем не хотелось. Красивые, богатые люди, мужчины во фраках и женщины с голыми плечами, со шлейфами и блестками, ты в этом побольше моего понимаешь, сестрица. Полным-полно девушек, которых я и прежде видел, да все такие расфуфыренные.
И пялюсь я, значит, через стекло, дивлюсь еще и на убранство, ведь кое-какие ткани там из нашей лавки были. Стою как завороженный, как деревенщина, а я-то, конечно, деревенщина и есть, сестрица. И вдруг швейцар этот толкает меня локтем под ребро и сует газету. «У них классу нету, — бормочет, — вот у кого класс есть». Я и понятия не имел, про какой такой класс он говорит. Класс-то, я знаю, только в поездах бывает: первый класс, второй, я вот третьим езжу — на подножке вагона, чтоб быстрее соскочить, если кондуктор придет.
Тут Якоб подмигнул Эльзе.
— Я-то хотел на фотографию поближе поглядеть, да тут как раз на улице грузовик загудел. «Можешь взять газету, — швейцар этот мне говорит, — за меня она все равно не выйдет». Ну я газету под мышку и бежать. Только вечером, дома, когда на полку свою завалился, раскрыл ее. Охота же знать, что в мире творится, когда в такой дыре, как Бокшан, живешь. Я газету пролистал и наткнулся на фотографию, которую давеча видел. Вот она, видите?
Якоб вытащил газетный лист, развернул его и разложил на столе. Провел по нему ладонью, чтобы разгладить.
— Это же ты, сестрица, когда приехала в Темешвар, на вокзале. Тут написано: «Возвращение американки. На темешварском вокзале ее встречает толпа любопытствующих». Потом журналист объясняет, что ты долго ехала, от Нью-Йорка до Темешвара, несколько недель на корабле да на поезде. А сзади видно твою поклажу, целая гора. Фотография сделана два года назад, когда ты только приехала, но статья-то совсем новая, еще и четырех месяцев не прошло. Журналист тебя спрашивает, что после возвращения было труднее всего. Помнишь еще, что ответила? Да где же опять это место?..
Якоб торопливо провел пальцем по строчкам.
— А, вот. Ты говоришь: «Труднее всего найти мужа. В моем возрасте в Америке ты еще совсем молодая, но здесь — уже в годах». И еще ты говоришь, что женихи, наверное, потому тебя сторонятся, что ты теперь богаче многих из них. Дальше читаю: «Я тоже хочу себе мужа, как и любая другая женщина. Такого, чтобы перенял отцовское хозяйство и чтобы мы с ним жили в моем новом городском доме. И чтобы дети были, почему бы и нет? Я хочу всего, что делает женщину счастливой». Вот, — Якоб сделал паузу, чтобы придать весу своим словам, — поэтому я здесь. Я хотел бы на тебе жениться, вести хозяйство и делать детей. Одного хватило бы, мальчика, чтобы потом хозяйство унаследовал.
Последнюю фразу он произнес медленно, подчеркивая каждое слово, будто пробовал их на язык, казалось, фраза пришлась ему по вкусу, как изысканное блюдо. Эльза схватилась за спинку стула и села. Ее отец вытаращил глаза, притянул к себе газету и тихо перечитал те же места вслух.
— Не держи меня за сумасшедшего, сестрица. Я об этом долго думал, днем и ночью. Все это у меня вообще из головы не выходило. Тебе нужен муж для счастья, а мне нужно хозяйство. Одно к одному. И не обязательно отвечать сразу, я пока подожду у аптекаря. Мы с ним хорошо поладили, только он чуток пугливый. Он точно обрадуется, если я несколько дней послежу за его скотиной.
Сначала совершенно ничего не происходило, все трое казались заколдованными, как будто слова Якоба были заклинанием. Поденщики и петух глазели на них в некотором отдалении. Если бы петух не прокукарекал, эти трое, возможно, еще долго не решились бы шевельнуться.
Эльза — чтобы не пришлось убеждаться, что все это происходит на самом деле. Никлаус — потому что вдруг исполнилось его заветное желание: перед ним наяву стоял крепкий, здоровый мужчина, готовый взять на себя хозяйство. Земля, пашня, к которой он был привязан, может быть, даже больше, чем к дочери, все это теперь не зарастет бурьяном. И что было бы еще хуже — все это не перейдет в чужие руки.
— Он над нами посмеяться удумал, — растерянно пробормотал отец.
Эльза все еще не шевелилась, когда Якоб уже приготовился к отступлению.
— Ну, теперь я лучше пойду, а вы хорошенько все обдумайте. Вы знаете, где меня найти. И еще, братец, — обратился он к ее отцу, — похоже, тебе тут очень пригодилась бы пара крепких рук. У вас и на поле наверняка много хлеба на колосе, сюда-то вы еще мало свезли. Но вдвоем вы с этим вряд ли управитесь, а от этих работничков, я погляжу, проку немного будет. Люди вам помогать не торопятся, я слыхал. Но это ничего, они злые и завидуют, так уж повелось.
Выходя со двора, он погладил единственную уцелевшую лошадь, что мирно щипала траву, и крикнул: «Отличная скотинка! Какая лошадка, любо-дорого посмотреть!»
Это была самая длинная речь из тех, что ему приходилось произносить до сих пор. Много говорить никогда и не требовалось, утверждал он потом. С его отцом разговоры за столом всегда были очень скупыми, самое большее: «Подвинь-ка хлеб сюда», или: «Отрежь-ка мне сала». Но с таким арсеналом женщину завоевать трудно, и уж точно не завоюешь такую, что побывала в Америке. Он всю жизнь восхищался людьми, у которых язык хорошо подвешен. Восхищался, но и презирал. Слишком много они говорили, чтобы высказать те несколько стоящих мыслей, что могут прийти в голову за всю короткую жизнь.
Якоб рассчитывал подождать неделю, пока не получит ответа или не добьется его сам. Но она пришла на следующий день.
* * *
Эльза надеялась, что такой час настанет, хотя и не на развалинах ее дома. Что появится симпатичный мужчина из Трибсветтера или, быть может, из Темешвара. Однако никто не появился, за два долгих года никого. Но чтобы батрак? Ее семейство знавало лучшие времена, фамилия Обертин имела вес, ее уважали и боялись, пока после десятилетий упадка не остались лишь Эльза, ее отец и бедность.
Им приходилось голодать, как и многим другим, но в этих краях голод был делом обычным. Можно сказать, голод вместе с ними бежал из Лотарингии, убив там почти всех, раздув животы детей и иссушив тела родителей, и свил себе гнездо здесь, в Банате. Голод свирепствовал в стране их предков, в стране Фредерика Обертина, так долго и так жестоко, опустошая целые области, что разжирел лишь он сам.
Но когда первые колонисты, приглашенные императрицей, собрались в дорогу, когда голод испугался, что останется один в покинутых деревнях и ему будет больше некого мучить, он вскочил на одну из телег и добрался на ней до Ульма. До первого перевалочного пункта на пути в Банат.
Однако голод перестал быть самой большой опасностью. Постепенно земля подчинилась человеку, Марош обвели дамбами, поэтому засух и наводнений не случалось уже много лет. Наконец-то, после холеры 1873 года, мороза следующей зимы, уничтожившего весь виноград — гордость Трибсветтера, — после двух землетрясений 1879-го и трех наводнений на Мароше в 1880–1882-м, стало спокойнее. Человек перевел дух, теперь, без постоянного урчания в животе, он мог легче переносить бедность.
Никлаус еще помнил то всесильное чувство голода, доводившее его почти до обморока. Эльзе тоже довелось испытать его в первые годы жизни. В день один ломоть хлеба, тонко намазанный топленым салом, да суп из капусты или кукурузная каша. Отец рассказывал ей, как Марош трижды выходил из берегов, когда он был еще совсем молод. Трижды люди засевали поля, зерно созревало в золотых колосьях, целое море пшеницы, и, когда она переливалась на ветру, от одного взгляда начинала кружиться голова.
Река была как злое, коварное существо, которое точно знает, когда нанесет человеку самый большой урон, — разлив каждый раз приходил ночью и продолжался по нескольку недель. Злодейство, начатое водой, доводили до конца крысы. Если бы не истощение от голода, мать Эльзы, конечно, не умерла бы, рожая ее.
Это трехкратное опустошение, заставившее людей самих вращать мельничные жернова, потому что лошади совсем обессилели, и Обертинам нанесло такой удар, что они не смогли от него оправиться. Но когда Эльза в семнадцать лет отправилась в Америку, причиной тому был уже не столько голод, сколько отсутствие надежды выбраться из нищеты.
Когда она вернулась, уже и о нищете речи не шло — добра у нее было хоть отбавляй. Может, это и сделало ее одинокой, ведь крестьянину позволялось быть зажиточным, но не богатым до неприличия.
Она больше не нуждалась в муже, который спас бы ее от голода или бедности. Дело было в чем-то другом, в том чувстве, которое потом часто заставляло ее говорить: «В доме должен быть мужчина». Это звучало столь же непоколебимо, как и другие ее фразы, как высеченный в камне закон, который не оставляет иного выбора, кроме как взять себе этого самого мужчину и терпеть его. Возможно, именно это чувство и погнало Эльзу в руки чужака, который, помимо статной фигуры, мужской силы и молодецкой удали, едва ли мог ей что-нибудь предложить.
Никлаус поначалу обрадовался этой затее, но потом отверг ее — слишком велика была разница в положении между одной из Обертинов и каким-то бесфамильным чужаком. Чем дольше он убеждал в этом дочь, тем меньше она его слушала.
— Я не хочу остаться одна в этом огромном хозяйстве, когда ты умрешь. Или в нашем доме в Темешваре. Хочу, чтобы у меня был муж и сын, который продолжит наш род. Ради этого я пойду на все, — заявила она.
Отец долго смотрел на нее.
— Ты привезла из Америки много денег, но ты больше не такая, как прежде, — наконец промолвил он.
— Не тебе рассказывать мне об Америке, ты там не был.
— Но ведь не за такого же идти, мы даже не знаем, правду ли он тут рассказывал, — ответил отец и сел.
Эльза погладила его по голове и прошептала:
— Если я в скором времени не рожу ребенка, то мы останемся без наследников и Обертины вымрут. Ты этого хочешь? Я — нет. Я сделаю все, чтобы до этого не дошло. Даже пойду за этого Якоба. Мать умерла, чтобы я появилась на свет. Теперь моя очередь действовать.
— Но ведь ты уже и так в Америку… — попробовал возразить Никлаус.
— Это совершенно ничего не значит по сравнению с тем, что сделала мать. — Она глубоко вздохнула и добавила сдавленным голосом: — Я позабочусь, чтобы это не было напрасно. К тому же, может быть, если я выйду замуж, наконец утихнет вся эта злоба в деревне.
Эльза похлопала отца по плечу и пошла в дом, молиться. С тех пор как вернулась, она делала это все чаще — вместе с деньгами она привезла из Америки и привычку молиться, будто хотела что-то искупить. Что-то, о чем можно лишь прошептать перед распятием. На следующий день в людской, где они теперь жили, она надела самое красивое платье из тех, что у нее остались, села в единственную уцелевшую коляску и поехала к дому Непера.
Конечно же, Непер был не слишком рад присутствию Якоба, но тому снова удалось вразумить его лестью и угрозами. Ко всему прочему аптекарь, как и любой другой человек, был любопытен и надеялся как следует развлечься, наблюдая за всей этой историей.
Он позволил Якобу спать в хлеву, сидеть и есть за его столом. Теперь Якоб уже не спрашивал у Непера разрешения, а просто заходил прямиком в кладовку. Доставал колбасу, сыр, хлеб, маринованные фрукты и огурцы и набивал брюхо всем подряд, словно голод, живший в нем, невозможно было утолить. Когда Эльза остановила коляску перед домом, он вытер рот, надел свою засаленную рубаху и вышел на улицу.
— Садитесь, пожалуйста. Я хотела бы вам кое-что показать, — потребовала Эльза.
Они удалились от деревни на несколько верст и оказались в поле, где высокая кукуруза стояла сплошной неподвижной стеной. Само собой, когда они выехали на Главную улицу, миновали деревню и покатили дальше по полевой дороге, сельчане смотрели им вслед из огородов и дворов, из-за плетней и занавесок. Эльза остановила лошадь и отложила вожжи. Пока они ехали, она не сказала ни слова и ни разу на него не взглянула. Лишь руки на коленях теперь выдавали ее волнение.
— Вы сделали мне предложение всерьез?
— Иначе был бы я еще здесь?
Она широко повела рукой:
— Все это принадлежит нам. Я купила это, когда вернулась.
— Можешь себе позволить, сестрица.
— Да, я могу себе это позволить. И откуда мне знать, что вы не на это позарились?
— Ясное дело, на это нацелился и позарился. Я же говорил, мне нужно хозяйство. Такому бедняку, как я, маленько достатка не повредит. Это богатые могут позволить себе угрызения совести, а вот нашему брату приходится как-то пробиваться.
Такая откровенность ее обезоружила, она не знала, по душе ей это или, наоборот, неприятно. Но, несомненно, этот человек был не такой, как все, на сотни миль далек от американских мужчин — и остроумных, и тупых, и попросту скучных. С ним она всегда будет знать, чего ожидать. По крайней мере, так она думала тогда.
— Вы всегда так откровенны? — спросила она.
— Почему бы и нет, если это мне на пользу?
— Но вы мне все так сразу выложили, а ведь могло бы статься, что мне это не понравилось бы.
— Могло бы. Но я люблю говорить коротко и ясно, чтобы все было понятно. Я такой, какой есть. И потом: где ты видела такого крестьянина, чтоб ему перед свадьбой не было дела до приданого?
Она отвела взгляд и откашлялась.
— Отец говорит, нельзя мне соглашаться. Мы как-никак Обертины, а вы — никто.
— Может, оно и так, но что тебе проку от фамилии Обертин, если ты не родишь наследников?
Он слез с коляски и прошел немного вперед. Над полем долго кружил сарыч[6], вдруг он с огромной высоты ринулся вниз, замер и взмыл вновь.
— С отцом понятно, а сама-то ты что об этом думаешь? — спросил Якоб.
— Я смотрю на это иначе. Для меня это не так важно. Но я вас не знаю.
— Это можно быстро исправить.
— Если хотите, чтобы я вышла за вас замуж, вам придется набраться терпения. И получить профессию. Если вы не обучитесь какому-нибудь приличному ремеслу, ничего не выйдет.
— В школу меня отправляешь, сестричка? Так у меня денег нету.
— У меня есть. Читать-то вы все-таки умеете.
— Читать и писать. Ходил в приходскую школу. Отец так хотел.
В тот первый день, когда она привезла его обратно, он вышел и уже собрался удалиться, как вдруг она сказала: «И еще, Якоб Бесфамильный, мы будем с вами на „вы“. Мы всегда будем на „вы“». Это правило мать соблюдала всю жизнь. Как будто ей нужна была безопасная дистанция, словно чтобы показать, что она не совсем покорилась.
Каждый день в одно и то же время коляска останавливалась перед домом Непера, и в деревне стали поговаривать, что у Американки появился ухажер. Одного с ней поля ягода — авантюрист и бесстыдник. Непер с упоением рассказывал всем подряд, как Якоб у него очутился и как, вероятно, собирался украсть его лошадей, если бы он вовремя его не застукал. Вместо того чтобы пристрелить бродягу, он его накормил, ведь Якоб угрожал ему. Потому что Непер был голый и беззащитный. А о жизни Эльзы в Америке чего только не болтали. Они, мол, два сапога пара, она и этот босяк.
Пожалуй, они и правда были хорошей парой, ведь оба они не сдались. Не смирились со своей судьбой. Оба пустились в дорогу, проделали каждый свой путь — один короче, другая длиннее, — чтобы изменить свою жизнь к лучшему. То, что смущало других, а именно — слишком явные намерения Якоба, — для Эльзы не имело значения.
Она знала, сколько смекалки, сколько решимости нужно, чтобы использовать свой шанс выбраться из нищеты. Она и сама в Америке поступала так же. В глубине души ее даже восхищали напор Якоба и уверенность в успехе, его натура, не допускавшая мысли о поражении. Она и сама хотела быть такой. О том, что мой отец был хитрее, что он только на первых порах терпел зависимость от нее, словно замирая, чтобы потом посильнее ударить, — об этом она не догадывалась. И уж тем более она не могла знать, что отныне ее жизнью будет управлять мужчина настолько упрямый, настолько необузданный, что соперничать с ним ей окажется не под силу.
Три недели кряду они ездили на одно и то же место, Якоб все больше терялся, оттого что ему просто нечего было больше рассказывать. И становился все нетерпеливее. Терпение никогда не было его коньком. Она брала с собой фотографии из Нью-Йорка и показывала ему. Он, не видавший толком даже Темешвара, поражался суетному мегаполису.
Эльза прекрасно выглядит — так ей сказал на Пятой авеню некий мистер Маккейн, фотограф, и пообещал «звездные снимки». Он сопровождал ее повсюду и сдержал слово. Эльза за стеклом кафе на Бродвее, Эльза на берегу Гудзона, Эльза выходит из «форда», безупречный макияж, на ногах тончайшие чулки в сеточку, а на плечи накинуто дорогое манто. Ей вообще нравилось на Бродвее, рассказывала Эльза. Немецкая семья, у которой она работала, несколько раз брала ее в театр. Сначала она просто стеснялась отказаться, но потом проводила там каждый свободный вечер.
На фотографиях Якоб обратил внимание на маленький носик Эльзы, пухлые губы, накрашенные глаза. Она была похожа на девушку, избалованную жизнью, а не на такую, что живет в подвале и радуется каждому куску черствого хлеба или сморщенной картошке.
— Чем ты занималась в Америке на самом деле? — спросил он.
— Мы остаемся на «вы», Якоб, не забывайте об этом. Я была гувернанткой и горничной.
— По вам тут не скажешь. Выглядите так, будто это у вас была горничная.
Мы так никогда и не узнали, чем мать занималась в Америке на самом деле и кто такой был этот мистер Маккейн. Об этом она хранила молчание. Здесь она так и не сдалась, даже тогда, когда уже отступила перед отцом по всему фронту.
К концу третьей недели Якоб не выдержал и набросился на нее. Он достаточно ждал, никогда прежде ему не приходилось сдерживаться с женщиной так долго. Три недели подряд, день за днем, одна и та же дорога, ее запах, манящие черные локоны и очертания бедер под юбкой, всегда рядом, достаточно протянуть руку. Для такого, как он, это было уже чересчур. Можно сказать, тогда он впервые вступил в права владения, хотя по закону надо было еще долго ждать. Ей не мешало бы спросить, а он ответил бы, что терпение — не его конек. И тогда она знала бы, что нужно поостеречься.
К его удивлению, Эльза с первого же раза подчинилась его воле. Она была неплохо с этим знакома — с мужским вожделением, с неутоленной жаждой, которая способна вырваться с бешеной силой. Должно быть, набралась опыта в Америке, тут и гадать нечего, думал Якоб.
Она лежала спокойно, потом встала и первым делом причесалась. С невозмутимостью женщины, привычной к таким вещам. Наверное, для отца это навсегда стало доказательством того, что в Америке жизнь матери приняла скверный оборот. Высадив его у дома Непера, она уехала отнюдь не заплаканной и напуганной. Напротив, она сияла, будто одержала победу. На следующий день коляска приехала снова.
Однако произошло нечто странное. За все это время Якоб ни разу не спросил, как продвигается восстановление хозяйства и что с урожаем в поле, который нужно было срочно убрать. Но вступление в права на Эльзу пробудило в нем жажду деятельности и необычайный интерес. Он получил женщину, которую хотел. Благодаря своему семени он установил с ней связь, для него более крепкую, чем вся эта болтовня. Так он скрепил их союз.
Якоб отослал Эльзу обратно домой, а сам отправился пешком в цыганский табор. Цыгане жили за пределами Трибсветтера, на высушенном тернистом холме, который деревенские жители обходили стороной, — одни обитали там с давних пор, другие приходили и уходили, как только их охватывала жажда странствий.
На холме стояло несколько фургонов, самый роскошный — перед самым большим домом. Якоб знал, что такие цыганские фургоны делали только в Англии и только под заказ, а следовательно, дом этот принадлежал бульбаше, главе табора. Стояли там также и шатры, и множество дощатых бараков, кривых и дырявых, как зубы во рту у старика. После недавнего урагана их наверняка пришлось сколачивать заново.
Цыгане были в основном лудильщиками, но могли вдруг стать и ловкими корзинщиками, метельщиками, стекольщиками, кузнецами и столярами, если того требовали обстоятельства. Как-то раз один цыган, такой же разнорабочий, сказал Якобу: «Швабы всегда хотят только одного — иметь как можно больше земли. А нам земля не нужна, и потому мы никудышные земледельцы, но зато мы знаем тысячи других ремесел. Поэтому в первый день недели мы можем делать гребни и щетки, во второй — чинить зонты и вешалки, в третий — лудить котелки, в четвертый — воровать и попрошайничать, в пятый — водить медведя-плясуна, в шестой — торговать на рынке, танцевать и играть, и только в седьмой день мы должны делать то же, что и все остальные, — молиться».
Им запрещалось пересекать границу деревни, если только они не пасли скот и не предлагали свои услуги на Главной улице или на ярмарке. Каждое утро в пять часов в Трибсветтере раздавался звук рожка цыгана-свинопаса.
Якоб твердым шагом поднялся на вершину холма. От костров, на которых женщины готовили обед, поднимался дым. По дороге Якоб увидел юношу, которого узнал, поскольку тот каждую неделю приходил в деревню и собирал прохудившиеся ведра, котелки и горшки. Он и его жена — обоим лет по шестнадцать — сидели на земле, расставив ноги, юноша надраивал песком днище котла, затем стал выправлять железо молотком. В котелке над очагом блестел серебристый расплавленный цинк. Жена держала у груди ребенка, а ногой раздувала мех. С каждым движением огонь разгорался сильнее.
Один из мальчишек, игравших неподалеку, подошел ближе и стал клянчить: «Подайте хоть корочку хлеба, я умираю с голода». При этом казалось, он скорее репетирует, чем просит всерьез. Якоб отодвинул мальчика в сторону, но сбежались другие дети и стали канючить одно и то же. На них были просторные хлопковые рубашки, все в пятнах, а волосы — сильно растрепанные.
— У тебя блохи? — спросил Якоб одного.
— Нет, у меня вши. Блохи у меня зимой. — Кожа была вся в маленьких кровавых расчесах.
Якоб уже пожалел, что пришел к цыганам, вряд ли здесь найдется работник, согласный заняться чем-то, кроме попрошайничества и латания жестянок. Тут из дома вышел бородатый мужчина в черных штанах, заправленных в черные же сапоги, и в одном жилете на волосатом туловище. Клочки потных волос маленькими островками прилипли к его коже, целый архипелаг.
Он хлопнул в ладоши, и дети отступили. Оценивающе оглядел пришельца, словно скотину на рынке — или женщину, которой хотел обладать. Якоб понимал, что от этой оценки зависит, будут ли с ним вообще разговаривать или не слишком вежливо отправят восвояси.
Это был человек совсем иного сорта, нежели аптекарь. «Не желаете заработать немного денег?» — крикнул Якоб цыгану. Тот развернулся и пошел обратно в дом, но дверь оставил открытой. «Ну, что ж», — пробормотал Якоб, сплюнул под ноги и последовал за хозяином в дом. Остановившись на пороге, он засомневался, стоит ли входить, темнота внутри была не полной, свет падал только через узенькое окошко, кроме того, освещено было и небольшое пространство перед дверью, где в медленном танце кружились пыль и голубоватые клубы дыма.
Якоб усомнился, а есть ли вообще кто-нибудь внутри, все это куда больше походило на западню. Слышался какой-то звук, словно кто-то шлепал по воде пучками конопляных листьев, промывая их. Вдруг раздался голос: «Заходите. Мы вам ничего плохого не сделаем. Садитесь на пол, у нас так принято». Глаза Якоба постепенно привыкали к темноте, и теперь он видел не одну, а две фигуры. Бульбаша сидел на стуле, уже без жилета. Руки он держал раскинутыми в стороны, словно Иисус в ожидании подходящего креста.
Вторая фигура оказалась маленькой женщиной, которая охаживала веником из крапивы спину и руки мужчины. Время от времени она окунала веник в ведро с водой и продолжала шлепать. Закончив с задней частью, она обошла цыгана, расставила ноги пошире и приступила к передней — груди и животу. Она била его так сильно, будто хотела за что-то наказать. Из другого ведра поднимался пар. Женщина была полная, Якоб уже мог рассмотреть ее получше: косынка повязана на шее, а рукава блузки засучены. Он представил себе, как же теперь выглядит тело бульбаши, наверное, все красное и в волдырях.
Вдруг женщина отложила крапиву, достала из ведра губку, шлепнула ею по спине цыгана и обмыла его тело медленными, равномерными движениями. Но на этом она не закончила. Затем она взяла щетку и стала надраивать массивную мокрую спину мужа. И делала это с таким рвением, будто хотела показать силу своей любви к нему. Закончив, она прошла мимо Якоба, глядя на него с любопытством. Он успел заметить ее белые зубы, и ему показалось, будто женщина улыбнулась.
Цыган шикнул сквозь зубы — Якоб едва услышал, — для нее это был знак удалиться. Этого ему вполне хватало, чтобы управлять женой. Эта женщина, которую мой отец тогда видел в полумраке, была Рамина, Крапивница Рамина, как он называл ее с тех пор. Это она потом вытащила меня из широко отверстого лона моей матери. Это она запеленала меня, как куклу, нет, как мумию, будто я, еще толком не ожив, уже должен был притвориться мертвым. И это Рамина окуривала меня снадобьями и травками, когда я в пять лет заболел дифтерией и лежал скорее мертв, чем жив, а священник уже опустил руки, — и я выздоровел.
— Это разгоняет соки, как надо. Если не следить за соками, то они застаиваются и отравляют человека. А теперь расскажите-ка, с чем пожаловали, — сказал бульбаша.
Весь разговор занял не более десяти минут, Якобу было обещано, что на следующий день шесть человек будут во дворе Обертинов и еще пятнадцать — в поле.
— Не желаете скрепить договор письменно? — спросил он бульбашу, но тот лишь рассмеялся.
Бульбаша достал табакерку, бумагу и скрутил папиросу. И только потом ответил:
— Зачем ты меня обижаешь? Тебе что, недостаточно моего слова? К тому же я все равно читать не умею, но о том не тужу. Неумение читать и писать тренирует память лучше, чем грамотность. А память у Гиги отменная. Завтра в пять люди будут у тебя. Ударим по рукам, этого хватит.
Гиги проводил Якоба до того места, где трудилась молодая пара. У девушки еще у самой было детское лицо, но она уже заботилась о ребенке так же, как и любая другая мать.
Через несколько недель весь двор был отстроен заново, а урожай собран. Эльза заплатила сумму, о которой договорился Якоб. Она с отцом переселилась обратно в господский дом, а Якоб получил комнату в людской. Теперь он был лишь в одном шаге от цели, но между ними еще стоял отец Эльзы.
Никлаус смотрел на Якоба с недоверием, хотя тот уже выполнил его самое заветное желание. Он как следует вел хозяйство, чистил стойло и грузил навоз на телегу. Лошадям, которых донимали слепни и мухи, повязывал тряпки на глаза и ноздри. Отвозил навоз на осеннее поле и разбрасывал его вместе с поденщиками. Спустя неделю землю в последний раз перепахали и посеяли озимую пшеницу. Придраться было не к чему, Якоб все делал правильно, но Никлаусу он все еще не внушал доверия.
Никлаус женился тоже не по любви, но выбор родителей оказался верным. Однако то, что газетная заметка могла свести его дочь с каким-то чужаком, о котором они не знали ровным счетом ничего, — это не укладывалось у него в голове.
Однажды Эльза и Якоб уехали из дома ранним утром и, прибыв в город, направились сначала в шляпную, а потом в обувную лавку. Наконец, со множеством коробок в руках, они зашли и в ателье мадам Либман. Эльзе было трудно угодить, снова и снова служащим приходилось показывать ей новые ткани и костюмы, снова и снова отцу приходилось раздеваться и одеваться. Наверное, это был единственный день в жизни отца, когда он полностью доверился матери.
Она одергивала пиджаки и рукава рубашек и почти нежно проводила ладонью по плечам Якоба. Оставалась последняя проверка — искушенные взгляды других женщин. Этому она научилась в Америке, сказала она и потащила Якоба на улицу. Они прохаживались туда-сюда, до перекрестка и обратно. Иногда Эльза брала его под руку, потом отпускала идти одного, а сама внимательно наблюдала. Костюм вроде бы понравился, поэтому она заказала еще несколько вещей, и наконец они с Якобом отправились к главной цели их поездки в город.
Она сказала консьержу, что ей необходимо поговорить с директором высшей школы электротехники, и тот, услышав ее имя, лично вышел их встретить. Директор поклонился и поцеловал Эльзе ручку, а затем повел их длинными коридорами в свой кабинет. Разумеется, он знал Эльзу Обертин. «Как же можно вас не знать, сударыня? Ведь все газеты сообщали о вашем возвращении», — сказал он и велел подать кофе и печенье.
Эльза изложила свою просьбу. Директор должен был принять Якоба в школу без аттестата, которого у него все равно не было, и без вступительных экзаменов, которые он никогда бы не сдал. Чем дольше она говорила, тем беспокойнее вел себя этот элегантный господин. Он покачивал носком ботинка и нервно теребил кончик пышных усов. Директор не торопился с ответом, возможно просто набивая себе цену.
Потом он начал объяснять, что связан законами и правилами, хотя и очень хотел бы помочь госпоже Обертин. Он нервно схватился за трость и стал расхаживать по кабинету, находя все новые препятствия исполнению ее просьбы. Якоб перебил его:
— Господин директор, я в таких вещах не разбираюсь, но мы вам хорошо заплатим. К вам в карман попадут немалые деньги.
Директор хотел было что-то сказать, но осекся. Якоб поднял ставку:
— Деньги и свинья, господин директор.
Директор мгновение колебался, но в конце концов жадность взяла верх.
* * *
По ночам Якоб выходил из людской, через заднюю дверь прокрадывался к Эльзе и овладевал ее телом. Ее отец знал об этом, он слышал, как Якоб тихонько проходил по комнате и забирался к ней под одеяло. Сдавленные стоны и вздохи он слышал тоже. Утром Якоб так же крадучись выходил из дома. Так продолжалось до тех пор, пока за несколько месяцев до окончания учебы он не вошел в дом через парадные двери и больше оттуда не уходил.
Якобу ни к чему была сельская свадьба, с шумихой и гостями, которые известно что думают. Но брак как таковой для него был важен, чтобы окончательно и официально, черным по белому, стать хозяином владений Обертинов — полей, фруктового сада и виноградника, скотины, подворья и городского дома. Поэтому он решил пропустить мимо ушей пожелание Эльзы, которая говорила: «Если уж играть свадьбу, то здесь, в деревне, у всех на глазах. И с таким размахом и затратами, чтобы все увидели: Обертины вернулись».
В один прекрасный день в апреле 1926 года Якоб надел свой лучший костюм и отослал цыган и поденщиков работать в поле без него. Запряг в коляску двух лошадей, открыл ворота и выехал на улицу. Удаляясь через село, Якоб и коляска становились все меньше, так что вскоре уместились между большим и указательным пальцами Никлауса, подбежавшего к воротам. Он с силой сжал пальцы, будто желая раздавить фигурку Якоба. Сплюнул под ноги, как иногда делал Якоб, сказал: «Ну что ж!» — и закрыл ворота.
Хотя прошло уже полтора года, он так и не узнал о Якобе больше, чем в день знакомства. Ни тогда, когда они плечом к плечу работали в поле, ни когда вместе наливали вино в бочки, а потом из бочек по бутылкам, и, уж конечно, не тогда, когда вечером Якоб жадно ел на кухне, точно так же, как у Непера. Солнце уже зашло, и Никлаус решил, что Якоб исчез навсегда. Утрату коляски и двух лошадей, не самых лучших, он бы пережил. Он надеялся, что больше не увидит Якоба, однако же беспокоился о его возвращении так же, как и дочь.
Никлаус не знал, как будет лучше: с Якобом или без него. Но они оба знали, что двор возродился из пепла только благодаря ему. Первым делом он нанял цыган, спас урожай и отстроил дом. Вторым — купил новый инструмент. А третьим — объявился однажды с десятком лошадей, которых достали «его цыгане», как он их называл. Никлаус не стал спрашивать откуда, дочь все оплатила. Кони были сильные, здоровые, их шкуры блестели.
— Ну вот, тесть, теперь ты снова при лошадках. Скоро у меня будет хозяйство, а у тебя — лошадки. Эта сделка нам обоим на пользу. — И Якоб поспешил в дом, принес бутылку шнапса и три стакана, Эльзе тоже пришлось выпить, тут он не терпел возражений.
Что касается Эльзы, то она привыкла к этому мужчине, к его ночным визитам, к тяжелому телу, которое оставалось лежать на ней после того, как он кончал — с толчками, пыхтя, крепко сжимая ее груди, с вытаращенными глазами, а она не открывала глаз с самого начала.
Якоб обильно извергал семя, в этом тоже проявлялась присущая ему неуемность. Пальцы на ногах растопыривались, мускулы напрягались и дрожали, из его нутра поднимался сначала едва слышный, а потом все более громкий рык, вены на шее набухали. Он выгибался так, что казалось, его позвоночник вот-вот сломается. Он опирался на руки, иногда его пот капал ей на лицо и на живот и смешивался там с его семенем. Кровать скрипела и билась спинкой об стену. Эльза знала, что отец все слышит, она стыдилась и в то же время нет, ведь Якоб был ей уже почти мужем.
И все-таки Якоб вернулся, довольно насвистывая себе под нос песенку, которую услышал в городе. Один из модных шлягеров того времени:
Ах, нынешние люди Все нервные пошли. Внезапно без прелюдий Срываются с цепи. И если кто бранится, То ты ему пропой Веселенькую песенку, Чтоб он обрел покой.Он продолжал насвистывать, когда провел лошадей в стойло мимо застывшего Никлауса, когда положил маленький сверток в газетной бумаге на свою кровать и даже когда пошел к господскому дому.
— Завтра принарядитесь, Эльза. Мы едем в город. И возьмите с собой побольше деньжат.
Эльза сразу все поняла. Теперь настал ее черед выполнить условие договора. Она должна выйти замуж за мужчину, который за полтора года стал ей уже не совсем чужим. Но в то же время она и обрадовалась тому, что наконец-то одно ожидание закончилось и теперь могло начаться другое ожидание: моего появления. Но говорила она всегда только одно: «Он мне понравился, большой и сильный, настоящий мужчина. У меня от него дыхание перехватывало». Лучшего ответа она так и не придумала.
На следующий день — в погожую весеннюю субботу 1926 года, — когда пора уже было подумать о выгоне скота на пастбища и о первой пахоте, Якоб стоял у открытого окна с полотенцем на плече и водил бритвой по влажным щекам. Он опять насвистывал ту же песенку. Этому свисту — иногда почти мычанию, а иногда нервному, отрывистому, низкому гудению — суждено было стать главной мелодией моего детства. Он был доволен собой, ведь, в общем и целом, все шло по его плану.
Якоб в своем лучшем костюме сидел в коляске и нетерпеливо постукивал кнутовищем по начищенным до блеска сапогам. Эльза надела ожерелье из золотых талеров Франца-Иосифа, какие носили по праздникам многие банатские румынки. Якоб окликнул ее и потребовал поторопиться. Он пристегнул и положил в карман золотые часы на цепочке, а на коленях держал сверток в газетной бумаге. Появившаяся на пороге Эльза сияла.
Ее отец расхаживал по своей комнате. Он понимал, что, когда они вернутся, он станет гостем в собственном доме. Для Обертинов начнется новая эпоха.
Когда грохот коляски стих вдалеке, Никлаус скрылся в конюшне со своими лошадками и задал им свежую порцию сена. Потом втянул ноздрями запах животных, ненадолго задержал дыхание и выдохнул. С помощью одного работника он погрузил плуг на телегу, запряг лошадь и поехал в поле, чтобы впервые в этом году вскрыть землю. С собой он взял бутылку шнапса. Приехав, он сначала хорошенько отпил сам, затем окропил шнапсом землю.
У дверей церкви Миллениум[7] в Фабричном районе Темешвара их с нетерпением ждал священник. Якоб спрыгнул с коляски и подал руку Эльзе, но та ее не приняла.
— Вы себе это как-то по-другому представляли? — спросил он.
— Отец должен был поехать с нами. Он всегда был со мной.
— В Америке его с вами не было, и ничего.
— Вообще-то вы пока не окончили училище, — снова возразила она.
— Через два месяца закончу. Но это мне решать, когда жениться. Сейчас или никогда.
— К тому же вся деревня должна это видеть.
— Меня деревня не интересует. Пойдемте! — потребовал он.
Священник приветствовал их, махнув рукой, за его спиной появились двое мужчин, которым Якоб заплатил, чтобы они были свидетелями. Якоб взял Эльзу выше локтя и заставил сойти с коляски.
— Кольца у вас с собой? — спросил священник.
— Да, и свидетели тоже имеются, — ответил Якоб.
— Почему вы хотите пожениться так срочно?
— Господин священник, у нас романтическая история, хоть мы не так уж и молоды. Откладывать никак нельзя. — Якоб схватил Эльзу за плечи и притянул к себе.
— Уж не беременны ли вы? — Священник пристально поглядел на живот Эльзы.
Якоб шагнул к нему, наклонился и прошептал на ухо:
— Господин священник, я вам не за вопросы плачу. Если вы передумали, то так и скажите. А насчет денег, которые вы вздумали прикарманить… Где-нибудь наверняка есть ваш начальник, которого это очень заинтересует.
Они прошествовали по главному проходу церкви. Сквозь высокие узкие готические окна проникало лишь немного света. Перед алтарем священник как будто опять засомневался, решив если не препятствовать, то хотя бы отсрочить венчание, и снова обратился к ним:
— Не желаете ли вы сначала исповедаться? Нет ли чего-то, что могло бы встать между вами и Господом?
Эльза кивнула, они присели рядом на дальнем конце скамьи и наклонили друг к другу головы, как заговорщики.
Какое-то время Якоб слышал только шепот Эльзы, потом она всхлипнула, будто плакала. Между тем он развернул сверток и вынул обручальные кольца, то, что побольше, он попробовал надеть на средний палец.
— А вы? — спросил священник, когда Эльза закончила.
— Я? — удивился Якоб.
— Да, может быть, и на вас есть какой-то грех и вы хотели бы исповедаться?
— Господин священник, что вы такое говорите? — возмутился Якоб. — До сих пор моим единственным грехом была бедность.
В пыльном помещении хранились иконы и статуи Девы Марии, кресты с Иисусами и без, в котелке чернели закопченные огарки. Все это уже отслужило Господу и теперь было списано. Там и состоялась краткая церемония, бумаги были заполнены и скреплены подписями.
— Под какой фамилией вас зарегистрировать? — спросил священник.
— Обертин, — сказал Якоб.
— Нельзя, это фамилия невесты.
— А теперь и фамилия жениха.
— Так нельзя.
— Так можно, поверьте мне.
Оказалось, можно.
По окончании процедуры Якоб вручил всем трем участникам по пачке денег, которые достал из сумочки Эльзы. Перед величественным зданием церкви Миллениум в уютном Фабричном районе среди дубов и кленов священник спросил Якоба, уже сидевшего в коляске рядом с Эльзой:
— Так когда же состоится гражданское бракосочетание? Оно ведь будет, правда? Иначе я попаду в чертовский переплет.
— Каждому приходится рано или поздно иметь дело с чертом, тут уж ничего не попишешь, — ответил Якоб. — От этого никто не застрахован, даже святой отец. Но если вас это успокоит — для начала нас ждет земля, а она долго ждать не будет. У нас дел невпроворот: вспахать, посадить картошку и свеклу, посеять рапс и кукурузу. А вот после Пасхи, когда ягненочка зарежем, постучимся и к государству. Будьте здоровы, господин священник!
По дороге обратно в деревню Якоб вдруг схватился за карман, вытащил золотые часы и покачал ими на цепочке, словно хотел загипнотизировать Эльзу. «К сожалению, у меня нет ничего, что я мог бы вам подарить, кроме этих часов». Она растерянно уронила часы на колени и продолжила играть с кольцом, снимая и вновь надевая его. Потом оно застряло на распухшем пальце. Даже собственные пальцы оказались против нее.
Дома Якоб сел, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и снял галстук. Он все время посматривал на часы, словно у него была назначена встреча, мычал свою песенку и отстукивал ритм указательным пальцем по столу.
— Вы не переодеваетесь? — спросила Эльза.
— Еще нет, вам тоже пока не стоит.
— Мы еще куда-то поедем?
— Да. И вам это даже понравится.
Он смачно плюнул себе на сапоги и стал натирать кожу рукавом пиджака.
— Куда же? — недоумевала Эльза.
— Бить в набат.
Когда время пришло, он сказал:
— Поехали, теперь пора. Они наверняка все как раз ужинают.
На пути к церкви он остановился у дома коменданта замка. Не слезая с козел, он крикнул: «Штруберт, выходи!» Ему пришлось крикнуть несколько раз, чтобы добиться результата. Наконец Штруберт распахнул дверь и выбежал из дома с растрепанными волосами, пытаясь просунуть руку в рукав рубашки.
— Да где пожар?
— Пожара нет, Штруберт, но грянет буря. — Якоб спрыгнул с коляски и подошел к коменданту замка. Эльза была в таком же смятении, как и Штруберт.
— Буря? — переспросил он и посмотрел на небо, пытаясь разглядеть признаки ненастья.
— Точно. И мне надо, чтобы ты ударил в большой колокол.
— Но ведь для этого нет никакой причины.
— Есть, Штруберт, еще как есть. Но ты узнаешь причину после того, как сделаешь то, о чем я прошу.
— Колокол зазвонит только завтра утром, к церковной службе.
Якоб сделал еще шаг к коменданту, и тому пришлось отступить. Наступив на бутылку из-под вина, он поскользнулся и упал. Якоб встал над ним.
— Штруберт, да от тебя сивухой разит. Сколько тебе платит община? Может, скоро выяснится, что это чересчур много для того, кто не сообщает вовремя об ураганах и пожарах. Очень может быть, что его даже освободят от обязанностей. Твоя захудалая скотина и клочок земли тогда смогут тебя прокормить? Тебе тогда, наверное, придется как следует вкалывать. Так вот, я тебя еще раз спрашиваю, — Якоб подал Штруберту руку и помог подняться, — теперь ты видишь, что вон оттуда, с запада, надвигается буря? Черные тучи собираются? Приглядись-ка получше.
Комендант замка неуверенно ответил:
— Да, кажется, вижу. Там, похоже, и правда что-то хмурится.
— Ну вот, как же у тебя тогда язык повернулся сказать, что ничего не видишь? Будешь звонить в колокол, пока вся деревня не соберется. Я тебе махну, когда остановиться.
Он отряхнул Штруберта от пыли и по-дружески приобнял одной рукой за плечи. Когда комендант сел в коляску и поздоровался с Эльзой, Якоб добавил:
— Звонить будешь так, будто Судный день настал.
— Откуда ж мне знать, как звонят в Судный день?
— Я на тебя рассчитываю.
В тишине уютного и мирного субботнего вечера грянул набат. Люди выбегали на улицу и оглядывали небо и землю, ища, откуда ждать новой беды. Они не могли ничего разглядеть, но колокол звонил все быстрее и настойчивее, тогда селяне по одному и группками потянулись к церкви. Там их поджидал Якоб, стоя в коляске, широко расставив ноги.
В одной руке он держал вожжи, а другую упер в бок. Когда все собрались и обступили коляску, Якоб дал Штруберту знак прекратить звон. Понадобилось некоторое время, пока взволнованные люди притихли и Якоб смог говорить так, чтобы его слышали.
— Братья и сестры! Я обращаюсь к вам так, хотя не испытываю к вам особых братских чувств, так же, как и вы не испытываете их ко мне. Все вы знаете, кто я такой. Слишком уж часто вы отворачивались, видя меня. Я тот, кто пришел сюда полтора года назад в сильнейшую бурю, какой еще никогда не бывало, и сначала нашел приют у Непера. И еще я тот, кто уже почти два года работает у Обертинов, и это вы тоже, конечно, знаете. Слишком уж часто вы плевались, видя нас вместе. Но я не обидчивый. Я только удивлялся, что вы за люди такие, что дали сгореть дотла дому бедной женщины и ее отца…
— Бедной? Она не бедная, — перебил его кто-то из толпы.
— Что дали сгореть дотла дому бедной женщины и ее отца, — повторил Якоб, подчеркивая каждое слово, — и не помогли им, как обязывает нас долг со времен наших предков, которые когда-то поселились здесь. Только Непер и еще несколько человек пришли на помощь. А все почему? Потому что одна из вас отважилась высунуть голову из грязи. Из той грязи, в которой все вы с удовольствием барахтаетесь.
Мать поднимала голову все выше, пока ее удивленный и восхищенный взгляд не остановился на лице моего отца.
— Она не смирилась с такой жизнью и, так же как и я, покинула дом, чтобы найти что-то получше. Вы презираете ее лишь потому, что у нее оказалось больше мужества, чем у вас, мужиков, всех, вместе взятых. Но теперь этому конец, потому что я пришел сказать вам, что с сегодняшнего дня я — новый Обертин. Обертины вернулись, и вам придется с нами считаться. Я прекрасно смогу прожить и без вас, хотя с вами было бы лучше. И я никому не позволю совать мне палки в колеса, на этот счет пусть никто не обольщается.
— А ты вообще кто такой? Мы о тебе ничего не знаем. Откуда ты взялся? — спросил кто-то.
— Это не важно. Важно, что я есть.
Довольный отец уселся рядом с матерью. Толпа молча расступилась, образовав коридор, по которому проехала коляска.
— Это было великолепно! — прошептала мать отцу и взяла его за руку.
— Я знаю, — ответил он.
В тот вечер, скорее всего, и был зачат я. Через семь месяцев я появился на свет. Я, Якоб, но Jacob через «с», а не через «k».
Глава вторая
Он провалился в сон, как другие проваливались в смерть. Нередко он сам отправлял людей на тот свет, причем без лишних раздумий и сожалений. Ведь это было частью искусства войны, а он владел им в совершенстве. В 1635 году, через семнадцать лет после начала Великой войны[8], ему не было равных в шведской армии.
Когда имперские драгуны и пехота с громким криком бросались на них в атаку и новички, некоторые еще почти дети, содрогались от ужаса, он спокойно втыкал в землю сошку, засыпал в ствол мушкета черный порох, заряжал свинцовую пулю и ждал. На противоположном холме поднимался дым, через мгновение раздавался гром орудий, и со знакомым холодным шипением начинали падать пушечные ядра, не долетая или перелетая их. Однако некоторые попадали и в самую гущу, пробивая бреши в рядах солдат. Он все еще ждал, разве что руки его становились влажнее, а во рту пересыхало.
Только тогда открывали ответный огонь свои канониры, а по флангам навстречу противнику пускалась кавалерия. Пикинёры выставляли пики, чтобы защитить мушкетеров, и наступало то краткое мгновение тишины, когда все они, вынужденные жить и умирать в одиночку, дышали как единое тело. Тело из оборванных, ожесточенных, обезображенных мужчин, готовое уничтожать или быть уничтоженным. И Каспар, первый Обертин, такой же оборванный, обезображенный и ожесточенный, был одним из них.
Имперцы приближались. Там, где их не удавалось сдержать ни ядрам, ни кавалерии, они стремительно продвигались к Каспару с товарищами — если кучку наемного сброда вообще можно назвать товарищами. Среди них было много убийц, разбойников с большой дороги, мародеров. Когда можно было не опасаться врагов, они опасались друг друга.
Всадники обнажали шпаги и потрясали ими над головой, а потом пригибались и пускали коней в галоп. Каспар клал ствол мушкета на сошку и присматривал себе первую жертву, тщательно выбирая цель в сплошной окутанной пороховым дымом стене из людей и лошадей. «Ближе. Еще ближе», — шептал он, прицеливаясь. Когда Каспар переметнулся от имперцев на сторону шведов, потому что те больше платили, он настоял на том, что сохранит свой старый мушкет, менее удобный и требующий сошки, и сумел быстро убедить командира в преимуществах своего оружия.
Выстрелить с четырехсот с лишним футов и попасть в цель, затем снять с берендейки порцию пороха, достать пулю, зарядить, снова выстрелить и попасть. Вот в чем заключалось искусство Каспара — на таком расстоянии убить дважды. После этого он хватал, что попадало под руку: пику, кинжал, шпагу, — и продолжал свое дело. Он пронзал человеческие тела, как теплые калачи. Он вспарывал животы, словно взрезал хорошую ветчину, что отнимал у крестьян во время грабежей.
Ведь он всегда был голоден, даже когда сражался. Он много пил, чтобы заглушить похмелье и унять дрожь в руках, но вот наесться досыта ему едва ли когда случалось. Провиант подвозили редко, приходилось добывать самому. Поэтому он был рад каждому бою, голодное брюхо вызывало жажду отнимать чужие жизни. В такие минуты голова у него кружилась только от убийства. «Они и так были почитай что дохлые, — говорил он. — Я им только маленько помог».
Я не уверен, что Каспар когда-нибудь существовал на самом деле, слишком уж много времени прошло с тех пор. Но уверен, что легенда эта добралась до Баната вместе с лотарингцами, основавшими Трибсветтер. Дед рассказывал ее так же часто, как в свое время Фредерик Обертин, — так все уверяли. Она стала настолько неотъемлемой частью нашей памяти, что ее уже невозможно было вычеркнуть. Для рода Обертинов она была чем-то вроде краеугольного камня, установленного на трупе той эпохи, когда людей косили чума, голод и Великая война.
Каспар покинул свой отряд и уже несколько дней продирался через густой еловый лес в Вогезских горах. Этой безлунной ночью он опустился на землю под каким-то деревом, споткнувшись о его мощные корни. Ощупав ствол, он решил, что это дуб. Дальше на севере, под Агно, встречались такие деревья, обхватить которые могли только несколько человек.
Вообще-то на севере ему жилось хорошо, сначала они со шведами взяли город, потом пришлось отступать. Они вырезали врагов, потом вырезали их самих. Всего лишь переменчивая военная удача. Так продолжалось годами, только каким-то чудом он до сих пор оставался в живых.
Возле дерева как-то странно пахло. Каспар узнал бы этот запах, если бы не валился с ног от усталости. Ведь поля сражений были знакомы ему куда лучше, чем родной дом в Дьёзе. В двенадцать лет его отняли у родителей мародерствующие наемники.
В его памяти остались только отдельные картины. Мать лежала на соломенной кровати с раздвинутыми ногами, вся в крови, живая или мертвая, непонятно. Отец, словно переломленный пополам, висел, перегнувшись через край колодца, потом мужчины сбросили его вниз. Он помнил лошадей, груженных добром его семьи. Но сколько раз с тех пор он сам тоже мародерствовал, грабил и насильничал, никому не давая пощады?
Ему были непривычны звуки ночного леса. Большую часть жизни он прожил в крепостях и полевых лагерях, да еще среди прелестниц и игроков, следовавших за армией нескончаемым обозом. Тысячи их были — тех, кого кормила война.
Тишина дикой природы оказалась совсем не тишиной: едва слышные внезапные шорохи и крики животных приводили его в большее смятение, чем отряд вооруженных до зубов ландскнехтов. Он не привык быть один. Когда он сражался, другие сражались так близко, что их кровь смешивалась. Когда он спал, другие спали, тесно прижавшись к нему, чтобы спастись от холода. Когда они насиловали, то и это делали вместе.
Солнце недавно зашло, и по лесу разлилась сырая прохлада. Дрожа от холода, Каспар укутался рваной грязной накидкой, потом споткнулся, упал и покатился вниз по колючему склону. Поднявшись, он заметил, что миновал последнюю полосу деревьев, и теперь они возвышались у него за спиной зловещей тенью.
Каспар очутился на поляне, где росла трава по колено, а земля была мягкая и покрытая мхом. Он надеялся, что его не занесло на торфяное болото, какие частенько встречались в этих краях. Тогда ему не удастся ни просушить одежду, ни просохнуть самому. Ему довелось повидать достаточно примеров того, что бывает, если вовремя не просушиться. Лихорадка, озноб, полное истощение. Самый дурацкий способ отправиться на тот свет, хотя дурацких способов хватает.
Некоторое время Каспар осторожно пробирался по траве, и вдруг она закончилась так же внезапно, как до этого кончился лес. Либо там вообще ничего не росло, либо трава была примята. Он нагнулся, и его рука скользнула по сломанным стеблям, затем пальцы нащупали углубление в почве, которое могло быть следом конского копыта.
Здесь побывал отряд всадников, может быть, они провели здесь ночь, а может, просто сделали короткий привал. А что, если это засада и его поджидают? Каспар выхватил кинжал и пригнул голову. Не важно, имперцы или шведы, разгневанные крестьяне или ландскнехты в поисках наживы — все они убьют его. Он и сам поступил бы так же. Поскольку он тайком ушел из своего отряда, помощи ждать ему было неоткуда. Он сам подверг себя опасности, в одиночку отправившись в Лотарингию, чтобы разведать, что осталось от родного дома.
Каспар прислушивался, пока не окоченел от холода и чуть не свалился. Все это время он мурлыкал себе под нос песню шведов, которую они продолжали распевать даже после смерти короля Густава[9]:
Пьем за Густава-короля, Скоро папистов дождется петля. Швед прогонит с позором Всю папистскую свору.Потом Каспар тронулся дальше, но снова споткнулся и испугался. Сообразив, что это не враг, а всего лишь корень дерева, усмехнулся про себя. Привалившись к дереву, он уснул. Проснулся лишь однажды и то ненадолго, когда свалился набок и ударился головой о землю.
Разбудил его тот самый запах. Это было первое, что он почувствовал, еще не открыв глаза. Подумал, что, наверное, где-то поблизости лежит туша крупного животного, ставшего добычей волков или всадников. Но смердело так, будто подохло с десяток зверей. Каспар решил осмотреться и найти труп, может, там кое-что осталось и ему, пусть даже потроха. Он повернулся на спину, сладко потянулся и медленно открыл глаза.
Прямо над ним болтались ноги повешенных. Подошвы, покрытые коркой грязи, икры, набухшие от застывшей крови. На некоторых ногах еще оставались дырявые чулки, большинство же повешенных были в одних рубахах. Утренний ветерок слегка покачивал тела из стороны в сторону. Головы мертвецов были опущены, будто они хотели посмотреть на него, как святые в церкви. У них больше не было глаз, хищные птицы потрудились на славу.
Каспар вскочил, но вовсе не оттого, что испугался увиденного. Смерть была ему верным другом, самым верным из всех. Куда более преданным, чем товарищи по оружию, которые улепетывали при поражении, и женщины, которые с радостью отдавались тому, кто награбил больше.
Он опасался хищных зверей и одичавших собак, которых всегда привлекали вот такие деревья-виселицы. Они тоже наживались на войне. От Агно до самого Феррета[10] на юге повсюду лежали трупы людей и домашних животных — во взломанных домах, на дорогах и деревенских улицах. Каспар прекрасно понимал, что встреча с голодными волками ему совсем не нужна. А с голодными людьми и подавно.
Ветер крепчал, туман рассеялся, и местность открылась взгляду до самой долины Рейна. На одном из утесов стояла крепость, словно слившаяся со скалой, но разглядеть, есть ли там люди, было невозможно. Каспар находился на плоскогорье, куда крестьяне до войны наверняка пригоняли скотину на лето.
С одной стороны луг плавно поднимался до голой округлой вершины, а на другом краю был крутой обрыв. Каспар слышал приглушенное журчание речки в ущелье, может быть, даже водопада, но это не сильно его радовало. Пить он, конечно, хотел, но куда сильнее ему хотелось есть. Мысль о том, чтобы утолить голод мясом повешенных, Каспар быстро выбросил из головы.
Однажды ему самому пришлось несколько дней охранять трупы крестьян от оголодавших мужчин и женщин. В Данмари, превращенном в крепость, шведы собрали на кладбище и перебили тысячу шестьсот крестьян, сам Каспар прирезал с два десятка. Потом они согнали остальных крестьян, несвязанных, прямо как были, в Блоцхайм и подожгли деревню с четырех концов.
Зрелище было великолепное: со всех сторон огни устремились друг к другу и встретились в центре деревни. Выживших они заставили бросать жребий, чтобы определить, кто умрет раньше, а кто позже. И хотя вся разница составляла лишь несколько минут, всего несколько вздохов, обреченные страстно желали этой отсрочки. И даже дрались за нее. Тогда Каспар впервые подумал, что с него хватит и пора бы вернуться домой.
Он собирался подняться по пологим холмам, углубиться в горы и отыскать русло Мозеля, который вывел бы его к Эпиналю и Тулю. Оттуда рукой подать до Нанси и Марсаля, а дойдя до Марсаля, он оказался бы почти что дома. Но время для этого пришло лишь осенью 1635-го, когда шведы потерпели поражение от имперцев и отступали из Эльзаса и когда Каспару уже нечем было поживиться. В предрассветных сумерках он ушел из палаточного лагеря.
Мозель он так и не нашел и, вместо того чтобы поскорее выбраться из Вогезских гор, уходил все дальше вглубь. Он то шел по узкой извилистой долине, то оказывался на уступе скалы перед пропастью с отвесными гранитными стенами. Питался он древесной корой, черникой и травами. Однажды на брошенном подворье он нашел в хлеву мертвую овцу, в другой раз посчастливилось набрести на одичалый виноградник.
К дубу была приставлена лестница, которую, видимо, использовал священник, чтобы отпустить грехи умирающим. Но тогда, значит, это была официальная казнь. Почему для нее выбрали такое уединенное место, он не понимал. И по виду мертвых нельзя было с уверенностью сказать, кем они были при жизни — крестьянами, мародерами или солдатами. Каспар склонялся к первому. Поковырявшись в золе костра в поисках объедков, в последний раз огляделся, не найдется ли чего-то полезного, и тронулся в путь. Он пересек луг и скрылся в чаще леса. Мертвецы остались предоставлены сами себе.
* * *
Теперь Каспар спускался с горы по редколесью, где земля поросла мхом и папоротником. Тонкие, почти до самых макушек голые стволы сосен отливали рыжиной, а в зарослях рос мирт, листву которого Каспар запихивал в рот целыми пригоршнями. Шум водопада приблизился, склон стал круче, и путнику, чтобы не сорваться, приходилось спускаться зигзагами.
Горная река разлилась, очевидно, в ее верховьях прошел сильный дождь. Вода ниспадала в несколько каменных бассейнов, расположенных на разной высоте, и текла дальше по ущелью, образуя небольшие озерца. Каспар ускорил шаг, возможность утолить жажду заставила его забыть об осторожности. Едва он остановился у одного из бассейнов, как земля под ногами просела, руки попытались ухватиться за воздух, и он свалился в воду. Течение оказалось настолько сильным, что утащило его на глубину, а затем перенесло через край бассейна в русло еще ниже.
Хотя Каспар сразу же выбрался из воды, он промок до нитки. Он судорожно стал искать сухое место и нашел на берегу узкую полоску, поросшую травой, но по краю ее был намыт песок. Быстро размотал тряпки, которыми была перевязана его рваная обувь, и снял башмаки — те, что когда-то стянул с убитого имперского солдата. Затем настал черед дырявых чулок и штанов, накидки, жилета и засаленной рубахи. Кинжал и шпагу он осторожно положил рядом.
Каспар разложил одежду на земле, однако надеяться, что она высохнет, особенно не приходилось. Потом растер свое тело песком, но и тот был сырой, как и все в этом ущелье, куда сквозь густо переплетенные кроны деревьев не проникало ни лучика солнца. Попробовал разжечь огонь, но у него ничего не получилось.
Он долго сидел, съежившись и обхватив руками колени, и раздумывал, как ему выбраться из этого неприятного положения. Лицо его было обезображено оспой, и несколько длинных шрамов свидетельствовали о серьезных ранениях. Если он не ошибался, крепость, которую он видел издали, теперь находилась прямо над ним. Он заметил тропинку, по которой раньше наверняка спускались женщины, чтобы стирать в речке белье. Теперь она почти вся заросла.
Каспар оделся и начал подъем. С обороняемой стороны крепость была защищена рвом, на дне которого скопилась зловонная жижа. Он шел вдоль рва в поисках ворот, готовый в любую секунду скрыться в лесу, если его заметят. Однако ни на крепостной стене, ни у амбразур никто не показывался, а подъемный мост был почти полностью опущен. Стояла такая тишина, что Каспар вздрагивал даже от одиноких криков сокола в небе.
Он забрался на мост и подошел к воротам. Прямо перед ним лежал толстый слой застывшей смолы, которую защитники замка лили на головы атакующих в отчаянной попытке остановить их. Трупы в крепостном рве свидетельствовали о том, что оборонявшиеся хоть в чем-то преуспели. Каспар толкнул ворота, и, к его удивлению, они легко поддались, он вытащил кинжал и вступил во двор.
Стойла, кузницы и амбары нижнего замка пустовали, оттуда все забрали — лошадей, скотину, инструменты, — осталась только бочка с дождевой водой, но жажду Каспар уже успел утолить. Повсюду валялись инструменты и материалы, которые нельзя было унести с собой. В одном защищенном от ветра углу были сложены несколько дюжин сожженных трупов. Каспар насторожился — это могли сделать только уцелевшие обитатели замка. Мародеры таким не занимались, они оставляли смерть за спиной, им ни к чему было жить среди мертвецов. Он подошел ко вторым воротам, которые вели в верхний замок.
Такое увидеть он не ожидал: молодой изможденной голодом женщине было самое большее лет двадцать, но казалось, что она преждевременно состарилась. Лицо у нее было красное, словно полыхавшее огнем, на руках и ногах — растрескавшиеся гнойные раны. Каспар отшатнулся и прикрыл нос ладонью, ведь прежде ему уже приходилось видеть людей, страдавших бубонной чумой. Женщина закричала и побежала в главную башню, что возвышалась на другом конце квадратного двора.
Она прихрамывала, у нее не хватало сил, и он мог бы без труда догнать ее, но решил остаться на месте. Он понял, что она кричала не просто так, а звала мужчину, который вскоре появился у входной дверцы башни в двадцати футах над землей. Старый лысый человек направил мушкет на Каспара. Женщина — наверно, его дочь — добежала до лестницы и стала с трудом подниматься. Каспар сразу понял, что стрелок совсем неопытный, однако на всякий случай отошел в укрытие. Пуля ударилась далеко от него, подняв облачко пыли. Он выглянул из-за угла и увидел, что женщина добралась до двери и втянула лестницу наверх. Старик перезаряжал мушкет.
— Я вам ничего не сделаю! — крикнул Каспар, надеясь, что они его поймут. — Мне нужно только обсохнуть и поесть.
— Ты швед? — крикнул старик.
— Лотарингец, иду домой.
— За кого воюешь?
— Теперь только за себя.
— Мы католики. Шведы напали на нас месяц назад.
— И поэтому все эти трупы?
— Нет, это от чумы.
— Здесь есть какая-нибудь еда?
— Они все забрали. Сорок лошадей, тридцать коров, овцы, куры, десять заумов вина[11].
Каспар вышел из укрытия, он видел, что старик слишком неопытный стрелок, чтобы попасть в него. Уж слишком тот возился с мушкетом. Но и сам он никак не смог бы пойти на штурм или проломить башню. Против толстых стен его оружие не годилось.
— Ты здесь разбойничать собрался?
— У меня только шпага и кинжал. Что я могу сделать? Мне нужны сухие дрова, чтобы разжечь огонь. Ну и чем-нибудь подкрепиться не помешало бы. Мне все равно, что ты католик и считаешь Лютера чертом. Мы все когда-нибудь помрем. А по нынешним временам это случится скоро. Я тебе вот что предлагаю: ты мне дашь переночевать сегодня, а завтра меня здесь уже не будет.
Старик отложил мушкет и на минуту отвернулся, чтобы посоветоваться с женщиной.
— Дрова ты найдешь у камина в большом зале на верхнем этаже. Туда можно попасть по наружной лестнице у тебя за спиной. Еды я тебе дать не могу, нам самим нужно. Мы собрали здесь то немногое, что осталось. И не пытайся к нам забраться. Пристрелю.
Каспар долго бродил по замку, проверил подвал и господскую кухню. Нашел только окаменевший хлеб да гнилое мясо — он жадно набил им рот, но сразу выплюнул. Когда в камине запылал огонь, Каспар разделся и развесил одежду на стульях. Потом долго ворошил угли шпагой.
Тьма накрыла крепость и погребла под собой живых и мертвых, затем лес и горы, всю это выжженную, заброшенную землю. В полевых лагерях обеих армий готовились к ночлегу солдаты, что были когда-то батраками и холопами, сапожниками, подмастерьями портных и учениками пекарей. Жалованье, наверное, еще не выплатили, поэтому некоторые из них разбежались мародерствовать. Каспара охватила такая тоска, какой он еще никогда не испытывал, даже думая о родительском доме.
Единственное, что он как следует знал, так это военно-полевую жизнь. Запах коней и людей, их необработанных зловонных ран, гнилых зубов и грязных, окровавленных камзолов. А еще пламя огромных костров, на которых они, когда везло, жарили целые туши овец и телят. Ну а когда не везло, то крыс, кошек и собак. Каспар вспоминал сутолоку тел, повозок и палаток. Вспоминал, как орали раненые, которым фельдшеры связывали руки за спиной, чтобы отрезать ногу.
Хотя напиваться было запрещено, они напивались. Хотя запрещалось браниться и драться, это были их любимейшие занятия. Хотя нельзя было поминать в спорах их родные края, в такие минуты они снова вспоминали, что они шведы и финны, латыши и саксонцы, уроженцы Лотарингии и Пфальца. Люди со всех четырех сторон Европы, которых удерживала вместе жажда богатой добычи. Не важно, что они вели войну, о причинах которой едва ли помнили. Война кормила их, а они кормили ее. Этого вполне хватало.
Когда Каспар получал жалованье, в распорядке появлялось кое-что новое. Нечто такое, что привносило развлечение в беспросветную жизнь наемника, подчинявшуюся ритму маршей. В такие дни он больше всего любил проводить время среди многотысячной толпы спутников войска, которые останавливались неподалеку от лагеря солдат.
Они обустраивались среди лошадиных упряжек и телег, груженных боеприпасами и провизией, палатками и фонарями. Кузнецы, каретники, плотники, землекопы, погонщики скота, солдатские жены — все они месяцами следовали за армией, стараясь не отставать. Они дрались за лучшие места, чтобы предложить свой товар. Или самих себя.
Каспар бродил по рядам прилавков, пытаясь сбыть свои трофеи, проигрывался в пух и прах, проклинал и обманывал, попадался на обман, дрался и в конце концов оказывался в объятиях одной из тех женщин, что привлекали к себе внимание чуть ли не барабанным боем. Общество это можно было бы назвать скверным и грешным, но для Каспара оно было единственным, и потому он любил его. Вот почему здесь, в замке, перед камином, он раскаивался в своем дезертирстве и чувствовал себя погано.
К тому времени, когда в камине оставалась тлеть лишь горячая зола, Каспар давно оделся и улегся спать спиной к источнику тепла. Но он никак не мог успокоиться и от голода все ворочался с боку на бок, а потом это чувство так его извело, что он встал, схватил кинжал, шпагу и вышел во двор. Поднял камень и швырнул им в маленькую дверцу башни. «Я голоден! Дайте что-нибудь поесть!» — крикнул он. Он прислушался, но в башне все было тихо. «Сволочи папистские! Человека подыхать оставляете! Но сначала я из вас дух выпущу!»
Каспар лихорадочно соображал, как добраться до узкой дверцы. Его отчаянный рев перелетел через крепостные стены и разнесся по горам. Он кидал в башню все, что попадалось под руку, даже колол ее шпагой. Лишь когда он уже совсем охрип и собирался отступить, сверху послышался скрип дверцы. Что-то шлепнулось на землю, и старик тихо сказал: «Вот, возьми и перестань шуметь. Тебя слышно в соседней долине. Если сюда придет еще кто-нибудь вроде тебя, нам не выжить».
Это был шматок непонятно какого мяса — не то куриного, не то крысиного, какая уж тут разница. Что и говорить — Каспар проглотил его без остатка, так же, как ломтик хлеба и початок кукурузы. Он уснул с довольной, сытой улыбкой. Проснулся он с первыми лучами солнца, собрался быстро, прошел по откидному мосту и скрылся в лесу.
На своем пути Каспар по нескольку дней не встречал ни людей, ни их следов, а когда это случалось, то снова углублялся в лес. Если какая-то деревня казалась ему брошенной, он часами наблюдал за ней, прежде чем решался войти и пошарить по домам. Однажды он видел издалека, как кавалеристы выволокли из дома какого-то тщедушного крестьянишку и уложили его на спину. Каспар хорошо знал этот шведский водопой. В рот жертве лили помои, пока они не начинали выливаться обратно через нос и уши. При этом кто-нибудь усаживался всем телом на живот несчастного. Каспар и сам частенько добивался сведений от крестьян таким способом.
Прежде чем перед Каспаром открылся просторный вид на запад, ему пришлось прошагать последний отрезок пути по самым необычным краям из тех, что ему доводилось видеть. В изрезанных долинах возвышались скалы причудливой формы, похожие на башни, исполинские грибы и даже на замки. Война не избавила его от суеверий, и потому он пугался этих зловещих фигур. Но потом перед ним появилось плато, пологий склон, который, как он надеялся, был уже в Лотарингии.
Мучимый лихорадкой, он провел несколько дождливых дней на подгнившем сене в каком-то сарае. До Марсаля он добрался глубокой ночью. Все это время ему никто не встречался, словно вся эта земля была заброшена. Земля, некогда процветавшая, когда по Мозелю и по торговым дорогам отсюда везли пиво, вино и соль, шерсть и ткани в Мец, Трир, Кёльн и Майнц. Благодаря соли он и понял, что наконец добрался до места.
Наступив на ил, Каспар наклонился, окунул в него пальцы и облизнул их. Он стоял на краю одной из множества больших луж, что каждый год образовывались вдоль русла речки Сей и служили источником дохода для его отца. Крупицы соли на языке хватило, чтобы пробудить в нем новые воспоминания.
Из такого же ила его отец добывал соль, а когда летом эти лужи высыхали, он занимался тем же самым в Муайянвике, где ценный продукт доставали из глубокого колодца. Три тощие, старые лошадки ходили по кругу, вращая механизм, и поднимали ведра с водой на поверхность. Когда колодец надо было обновить, отец спускался туда, на пятьдесят футов в глубину. То, что он мог однажды утонуть в колодце с соленой водой, никогда не приходило ему в голову.
Каспар жевал мясистый стебель солероса, он был соленый и сильно отдавал рыбой, но все-таки годился в пишу. В темноте он узнал это растение на ощупь, положившись на свои пальцы. Если бы они ошиблись, то Каспар мог бы отравиться какой-нибудь ядовитой травой, а их там хватало. Он все думал, как бы проникнуть в Марсаль незамеченным, чтобы найти сухое местечко для ночевки, но вдруг услышал поблизости два голоса.
Двое лотарингских солдат звали третьего, отставшего. Лотарингцы были союзниками имперцев, они бы повесили Каспара, если б узнали, что он воевал на стороне шведов. Каспар же снимал одежду и с мертвых лотарингцев — слишком велика была нужда, чтобы разбираться, кто земляк, а кто чужестранец. По-видимому, Марсаль хорошо охранялся, к тому же город был обнесен стеной, а перед главными воротами стояли часовые — горящие факелы были видны издали. Те двое пошли дальше, а Каспар, напоследок еще раз поглядев на недоступный ночлег, решил продолжить свой марш на Дьёз.
Он пошел по той же дороге, по которой пришли солдаты, но едва тронувшись в противоположном направлении, он наткнулся на их товарища — тот сидел на корточках и справлял большую нужду. Солдат чертыхнулся, запутался в штанах и повалился на бок. В панике он начал кричать и шарить рукой по земле, нащупывая шпагу, но Каспар отшвырнул ее ногой далеко в сторону.
Очевидно, люди у ворот обратили на них внимание, там началось какое-то оживление. Каспар понимал, что времени у него немного, скоро этого солдата хватятся. А тот уже вытащил кинжал и вслепую наносил удары в темноту, туда, где должен был быть враг.
Каспар же отвесил ему пинка ниже пояса, и тот заорал от боли еще громче. Теперь перед городской стеной пришли в движение несколько факелов. Он уже хотел дать деру, но лотарингец схватил его за ногу, пытаясь повалить на землю. Тогда Каспар другой ногой несколько раз ударил солдата по голове, и тот отпустил его.
Пока солдат стонал и приходил в себя, Каспар сел на него и снял кожаную перевязь с несколькими мешочками, в которых могла быть ценная добыча. Он забрал себе и мушкет, на который случайно наступил, и в самый последний миг успел отскочить в кусты. Стражники уже подошли так близко, что чуть не задели его. Под покровом темноты и высокой травы Каспар начал последний марш-бросок — вверх по реке, домой.
* * *
Какой же дом он ожидал увидеть? Ведь ощущение чего-то своего, более-менее постоянного, ему доводилось испытать в лучшем случае в амбаре крестьянина, где он как-то был расквартирован на зиму. Он знал, что это должен быть двор с колодцем, хорошо заметный с берега речки, примерно в четверти мили от деревни. А за домом должно быть возвышение, что-то вроде кочки на ровной линии горизонта.
Но сумеет ли он отыскать это место и стоит ли там до сих пор родительский дом или уже остались только заросшие кустами развалины? Поняв всю безнадежность своего замысла, он снова пожалел, что дезертировал. Еще немного, и он развернулся бы, едва не достигнув цели, и где-нибудь дал бы завербовать себя на какую-нибудь войну. В Меце или Нанси наверняка по достоинству оценят опытного бойца.
Наступило холодное утро, напомнившее о приближении суровой зимы, и вместе с ним над землей разлился густой туман — казалось, он состоит из какого-то особого вещества, которое можно схватить рукой. Каспар всю ночь шел вдоль берега Сейя, по речке было удобно ориентироваться.
На рассвете он остановился у какого-то мостика, чтобы разглядеть свои трофеи. Мушкет был меньше и удобнее его старого. Он наверняка найдет на него покупателя. Но в мешочках не оказалось ничего интересного, даже табака, только порох и несколько пуль. Каспар улегся под мостом и скоро уснул.
Он совсем не ожидал, что все случится так быстро. Едва проснувшись, отряхнув одежду и подняв взгляд, он увидел двор прямо у холма, единственного на всю округу. Все в точности, как он помнил. Дыма видно не было, и возле дома никто не показывался, но Каспар оставался настороже, ведь двор выглядел вполне обжитым. На веревке ветер полоскал кое-какое белье, а из хлева он отчетливо слышал мычание коровы.
Он поискал, где бы ему спрятаться, но кроме пары кустов, рощицы на вершине холма и амбара чуть поодаль от дома, никаких укрытий не было. Туман постепенно рассеивался, а Каспар стоял на открытом месте. Он пригнулся и побежал к вершине холма, огибая двор по широкой дуге и не спуская глаз с дома.
Оказавшись наверху, он сел на поваленное дерево и стал выжидать. Уж что-что, а это он умел. Кинжалом он обстругивал ветку, все время одно и то же движение. Через некоторое время из дома вышла девушка лет шестнадцати, не больше, и, как полагается крестьянке, в белом чепце и переднике. Она бросила короткий взгляд в его сторону, потом взяла подойник и зашла в хлев.
Тут он понял, что замечен и что за ним уже наблюдают. Но ему годами приходилось довольствоваться только сношениями за деньги с уродливыми, потасканными женщинами, поэтому он был так увлечен созерцанием девушки, что чуть не проглядел, как крепкий мужчина вылез из окна, перемахнул через забор и, прячась за редкими кустами, стал подниматься к нему с ножом в руке.
Каспар встал, поставил мушкет дулом вверх, засыпал в ствол порох, вставил пулю, потом утрамбовал все это обструганной веткой. «Ближе, — прошептал он и насыпал пороху еще и на полку замка. — Еще ближе». Прицелился, спокойно выстрелил. Мужчина вдруг остановился, как будто передумал подниматься, потом ноги его подкосились, он осел и рухнул лицом вниз.
Девушка с криком кинулась к дому, бросив подойник, и молоко полилось на землю, точно так же, как кровь убитого. В тот же миг на улицу выскочил старик, схватил, что попалось под руку, — косу — и побежал к Каспару. Он с трудом карабкался по склону, несколько раз съезжал вниз и начинал сначала. Тем временем Каспар перезарядил оружие и сделал второй выстрел.
Потом Каспар направился к своей первой жертве. Всадил мушкет ему в ребра, чтобы удостовериться, что парень больше не жилец. Он сел, натянул на ноги сапоги мертвеца и подошел ко второму трупу. Сбросил свою накидку и надел плащ старика.
Он осторожно приблизился к дому, откуда слышались стоны женщины. Толкнул дверь и вошел. Несколько мгновений глаза его привыкали к темноте, потом он разглядел девушку, сидящую на корточках в углу, и жалкое зрелище на кровати. Тело женщины было покрыто опухолями — на ногах, на шее и под мышками. Некоторые, узловатые и темно-красные, были размером с ладонь. Кое-где на коже зияли свищи, откуда сочилась сукровица.
Каспар не знал, в сознании женщина или нет, но сразу понял, чем она больна. Все-таки он спросил об этом девушку — на лотарингском немецком, на диалекте, который помнил с детства. Он хотел потянуть время, чтобы сообразить, что ему делать. Ответа не последовало, тогда он спросил еще раз, громко и прямо.
— Да, чума, — ответила девушка.
— Ты тоже больна?
— Кажется, нет.
— Иди сюда!
Эту фразу тоже пришлось повторить, чтобы девушка сдвинулась с места. Когда она, измученная годами недоедания, подошла к нему, он схватил ее за локоть и потащил во двор.
— Приведи корову! — приказал он.
Он подтолкнул ее к хлеву. Но девушка и не думала повиноваться. Она зашла в хлев, выбежала через прореху с другой стороны и побежала к деревне, но у моста Каспар ее догнал. Девчонка храбрилась, отбивалась и несколько раз вырывалась из его рук. Она оказалась такой легкой, что Каспар без труда поднял ее и отнес обратно на двор.
Там он принялся искать веревку. Найдя ее, сделал петлю и хотел накинуть ее девке на шею. Она сопротивлялась, пока он не прижал ее к себе, схватив одной рукой тонкие запястья. Но она опять смогла вырваться, тогда он швырнул ее на землю, придавил руки коленями и довел дело до конца.
На веревке он затащил ее в амбар поодаль и там привязал к балке, потом вывел корову и взял подойник. Подоил корову, жадно напился молока из подойника и придвинул его к девушке, но та его опрокинула.
— Да ты сыта, как я посмотрю. А есть-то больше и нечего, — сказал он. — Как тебя звать?
Она поджала колени и обхватила их руками. Ее икры и бедра обнажились, она заметила его ухмылку и попыталась прикрыться юбкой.
— Я тебе ничего не сделаю, — успокоил он. — По крайней мере, пока не буду уверен, что ты здорова. А пока посидишь тут на привязи. Я так понимаю, эти двое были твой отец и брат и теперь ты не прочь меня прикончить, но это пройдет. Что мне оставалось делать, они же сами на меня набросились. А надо было просто спросить, и я бы ответил. Просто времена теперь такие, паршивые. Пойду-ка я лучше схожу в деревню, поищу чего-нибудь пожрать. Но сперва придется связать тебе руки.
Вернувшись, Каспар увидел, что девушка хрипит от напряжения, изо всех сил пытаясь освободиться. Он отложил мешок и развел костер.
— Деревня разорена. Там почти никого не осталось. Я видел только двух баб и одного калеку, — сказал он и высыпал содержимое из мешка. — Несколько картошек да кукурузин — все, что нашлось. Если и дальше так пойдет, придется сожрать тебя. — Он посмотрел на ее испуганное лицо и расхохотался: — Живая ты мне нужнее, чем мертвая. Кто бы мог подумать, что приду я домой, а тут меня уже и баба поджидает.
Он положил картофелины и початки в костер, уселся перед ним и потер руки. Он ел полусырую еду, а девушка поглядывала на него голодными глазами. Ее взгляд переходил от сапог брата ко рту Каспара и обратно. Потом оба долго смотрели на огонь, и на них навалилась усталость. Уже засыпая, он услышал ее тихий голос: «Маме тоже надо дать что-нибудь поесть и поменять повязки».
Когда она проснулась, ворота амбара были широко распахнуты, в них безжалостно дул ветер. Она была одна, от Каспара ни следа, и она надеялась, что он, непонятно почему, пошел дальше. А еще она прекрасно понимала, что без него она не сможет освободиться от веревки и умрет с голоду. Со двора послышалось чье-то бодрое пение:
Пьем за Густава-короля, Скоро папистов дождется петля. Швед прогонит с позором Всю папистскую свору.Она вытянулась, насколько могла, чтобы что-нибудь разглядеть, и увиденное заставило ее снова закричать.
Каспар перенес ее брата и отца в дом и собирался зажечь факел, пропитанный винным спиртом. Он опять зашел в дом и вернулся, кашляя, черный от сажи, когда соломенная крыша уже пылала. Теперь он поднес огонь к тюкам сена, которыми обложил весь дом снаружи. Он слышал крик девушки, но не обращал на нее ни малейшего внимания. Ветер, поначалу мешавший поджогу, теперь раздувал пожар все сильнее, и дым повалил густыми клубами из двери и окон.
Каспар был доволен своей работой, пламя пылало равномерно со всех сторон. Прислонившись к забору, он удивлялся своему умению, ведь искусству поджигать надо было научиться. Сколько крестьянских домов обратили в пепел его руки, не счесть. Хороший огонь прожирал себе дорогу сквозь все, что только попадалось на его пути: сквозь гнилое дерево, сквозь полотно и глину, сквозь солому кроватей и постельное белье, сквозь кожу двух мертвых мужчин. Мать, не приходя в сознание, задохнулась, прежде чем огонь проглотил ее. Он заставил рухнуть стены и бревна и расчистил место, на котором Каспар собрался построить новый дом.
Он вернулся в амбар, где лежала девушка, обессилевшая от попыток освободиться.
— Теперь ей больше ничего не надо, — пробурчал Каспар.
Прошло несколько дней, прежде чем девушка решилась спасти свою жизнь. Ей надо было выжить, чтобы когда-нибудь отомстить. Однажды вечером она выпила целый ковш молока, который Каспар ставил перед ней каждый день, вытерла рот тыльной стороной ладони и потребовала еды. Он поделился с ней кашей, которую сварил себе.
Она поела молча и потом долго сидела тихо, так что Каспар разочарованно отвернулся от нее. Все эти дни он внимательно следил, не появятся ли у девчонки первые признаки чумы, и был готов сжечь и амбар вместе с ней, если понадобится. Однако, если не считать худобы, девчонка выглядела здоровой. Со временем она могла стать такой женщиной, какую он давно хотел себе в жены. Выносливости ей не занимать. А когда немного наберет вес, точно сможет вырастить с десяток ребятишек и управляться по хозяйству. Подумав об этом, Каспар замечтался о будущем.
— Мари, — услышал он вдруг. — Меня зовут Мари.
— А я уж думал, что ты разучилась говорить. Я родом из Дьёза, представь себе. Войны я себе не искал, она меня сама отыскала. Война не учит хорошим манерам, зато учит выживать. Со мной ты не пропадешь, девчушка. К слову, меня Каспаром звать. Фамилию свою я не помню. А ты свою?
— Оберти́н.
— Звучит ладно. Даже на мой слух звучит ладно. Француженка? — спросил он.
— Да.
— А почему тогда говоришь на лотарингском немецком?
— До войны здесь почти все были немцы.
— Чем вы на хлеб зарабатывали?
— Солью. Но с тех пор как добыча соли из-за войны прекратилась, ничем не зарабатывали.
— Мы тоже раньше солью промышляли. Отец работал в Муайянвике, — сказал Каспар.
— И мой тоже.
— Вот оно как! И давно вы тут поселились, в моем доме?
— В твоем доме? — удивилась девушка.
— То-то и оно. Это был дом моих родителей, а теперь, значит, мой. Их мародеры убили. Отца в колодец сбросили.
Мари ошеломленно вытаращила глаза. Взяв себя в руки, она сказала:
— Здесь жили несколько поколений моих предков. Я здесь родилась, и мой отец тоже. К тому же у нас вообще нету колодца. Тут на всю округу всего два. Один в деревне, я оттуда всегда воду носила, а другой, с соленой водой, — далеко на отшибе, на брошенном хуторе.
Полил сильный дождь с тяжелыми как свинец каплями, как будто небо решило отомстить земле. Каспар рыскал по земле, которую считал своей и за которую убил. Он искал колодец и никак не мог остановиться. Ведь все совпадало: расположение двора, пригорок, вот только про колодец он забыл.
Быть может, отец Мари когда-то работал плечом к плечу с его отцом. А теперь он всех убил, без всякого смысла. Да, и такие мысли одолевали Каспара, но назвать это чувством вины было бы слишком. К тому же они так и так скоро все перемерли бы от чумы, если б не появился он, так думал Каспар. Промокший до нитки, он вернулся в амбар, разжег костер, разделся — на этот раз девушка погладывала на него с любопытством — и попробовал согреться.
— Ты лютеранка или католичка? — спросил он немного погодя.
— Католичка, — ответила она. — А теперь отвяжи меня, я больше никуда не убегу.
Наконец-то хорошая новость, впервые за долгое время. Он самодовольно улыбнулся, посчитав, что добился своего. И в последующие двадцать лет у него не было причин в этом сомневаться.
Глава третья
Покойники, как всегда, вели себя хорошо и гостеприимно. Я провел в их обществе уже час. Они не в первый раз брали меня под свою защиту. Каждый раз, когда ярость отца выходила из берегов, они радушно принимали меня. Но еще никогда я не нуждался в их защите так, как тогда, 14 января 1945-го.
Они всегда старались не напугать меня, ведь я был их самым верным посетителем. Вернее старых женщин с лицами, изборожденными сотнями морщин, как скомканные обертки от конфет. Вернее молодых женщин, которые в последний год все чаще появлялись на кладбище, оплакивая своих недавно усопших.
Их мужей привозили с той войны, которую мы еще недавно считали победоносной. Еще недавно их, одетых в накрахмаленную по этому случаю немецкую форму, провожали до границы деревни. Там их обнимали, целовали, гладили и выпускали в свет ради нашего дела. Никто их не вынуждал, в этом не было нужды.
Мужчины отправлялись на войну по собственной воле. Они жаждали выступить против России, самое позднее с лета 1943-го, когда правительство Румынии признало, что наше дело теперь немецкое, а не румынское. Они тут же сбросили с себя мешковатую форму слабой румынской армии, у которой не хватало средств даже на то, чтобы обуть своих солдат. А потом надели новенькие, шикарные немецкие мундиры, которые сидели на них как влитые. В них она шикарно смотрелась — молодежь Трибсветтера — немного чопорно, но шикарно. Форма прекрасно сочеталась с их рвением.
О том, что наше дело немецкое, мы узнали от самого Велповра, величайшего полководца всех времен, как его называли взрослые. Этого человека я ни разу не видел — пока в нашем селе не появились его фотографии, — так что он мог бы оказаться и выдумкой. Очередной сказкой Рамины о привидениях, из тех, что она столько лет рассказывала мне в заброшенном доме на цыганском холме.
Именно благодаря ей я с удовольствием прятался среди покойников не только от отца, но и от русских. Я привык подолгу сидеть там. Русские посинели бы от холода, прежде чем нашли бы меня. Я не значился в их меню на пути к Берлину. Уж в этом я был уверен.
Велповр оказался опаснее всех существ из сказок Рамины. У него был такой голос, что, начиная грохотать, он пронизывал нас подобно признанию в любви или внезапному приступу лихорадки. Каждое воскресенье после церковной службы священник выставлял радиоприемник на стул перед своим домом на Лотарингской улице. Ведь на первом месте был Бог, но сразу за ним — величайший полководец всех времен[12]. Кто-нибудь из собравшихся залезал на дерево и укреплял там громкоговоритель. Так прокладывали путь для голоса, что был оружием, пожалуй, помощнее любого «мессера» или «юнкерса». Этот голос властно и неудержимо катился по дворам Лотарингской и Главной улиц, заворачивал на Неронову и, наконец, проникал в самые дальние домишки у выезда из села.
Святой отец Шульц включал радио на полную громкость, как во время трансляции футбольного матча. Фюрер и футбол — вот два самых громких воспоминания моего детства. По сравнению с ними большой колокол нашей церкви был монументом деликатности. Велповру удалось добиться такой популярности, что его фотографии висели на стенах самых дальних комнат и стояли в рамочках на комодах. Рядом с дедушками и бабушками, свадьбами и крестинами в таких же рамочках. Он тоже стал членом каждой семьи, вырезанный из журнала «Сигнал» или газеты «Поллерпайч»[13]. Эти издания покупали у Фонда зимней помощи, чтобы внести свой вклад в войну, которую вели от нашего имени.
— Да что нам проку от этой войны? — возмущался отец. — На кой ляд нам русская земля, когда своей хоть отбавляй? И ведь она уже наша.
Но и он все-таки повесил фюрера, правда, в дешевой рамке и без особого рвения.
— На всякий случай, — сказал он. — Поди знай, кто в дом зайдет.
Но я думаю, он просто терпеть не мог других вождей рядом с собой.
Когда с шелковицы, словно падая с неба, раздавались военные сводки из Белграда или Берлина и в заключение играл марш «Знамена ввысь»[14], парни собирались вокруг этого дерева и пели хором. Одни еще носили короткие штаны, другие — уже новую форму. Ни одна юбка в нашей деревне не манила их сильнее, чем приемник «Блаупункт» во дворе священника.
Но с каждым разом ряды добровольцев редели, первым до границы деревни проводили Зеппля, сына трактирщика, вторым — Йоханнеса, сына мельника, третьим — Непера.
— Ты старый человек. Тебе ни к чему идти, — отговаривал его мой отец.
— Для нашего дела никто не стар, — нашелся Непер и взял винтовку на плечо. Его проводили до железнодорожной станции в чистом поле.
Непер стал и одним из первых, кто вернулся домой вперед ногами, по нему едва успели соскучиться. Для него звонил только один большой колокол. Так было всегда, когда на поезде или грузовике привозили домой мертвых. Их выгружали перед въездом и вносили в деревню на руках, в сопровождении медленных, монотонных ударов колокола. Люди, несшие гроб, шагали в такт его звону. Колокол служил метрономом нашей скорби.
Покойного приносили домой, гроб ставили во дворе на два стула. Если он был румыном — а у нас жили и несколько румынских семей, — то нужно было следить за тем, чтобы под гробом не пробежала кошка, иначе душа умершего не обретет покой и будет преследовать живых. Наших покойников относили в поля, чтобы они могли в последний раз попрощаться со своей землей. Похоронная процессия блуждала по полю во главе со священником, страдая от жары или от пронизывающего банатского ветра. Летом, когда высоко колосились хлеба, гроб иногда напоминал корабль, плывущий по ниве.
Так вот, в январе 1945-го я сидел на кладбище, съежившись и поджав ноги, и ждал, пока эта внезапно разразившаяся над нами буря уляжется и русские уйдут. Земля глубоко промерзла, не то что ранней осенью, когда могильщики без труда вырыли могилу, чтобы опустить в нее тело сербки Катицы. На тот момент она была последней на нашем кладбище. Пуля в висок почти в упор, крови пролилось совсем немного.
Она лежала недалеко от склепа семьи Дамас, где скрывался я, у самой ограды кладбища, теперь едва заметной под свежими сугробами. Ее вместе с родителями сперва похоронили здесь и только потом вспомнили, что сербам здесь лежать не полагается, они же православные. Это признали коллективным промахом и списали на военную суматоху.
— Ни один христианин не будет вскрывать свежую могилу! — запричитал могильщик.
— Тебе и не придется. Мы ее убили, значит, на нашем кладбище ей и покоиться, — объяснил священник Шульц.
Ведь застрелили ее отнюдь не русские, а последний немецкий офицер, перед тем как отступить вместе со своими солдатами. Если к восемнадцати годам я и испытывал что-то похожее на любовь, то лишь к Катице-сербке. Эта девушка была очень тощей, трудно поверить, что человек может быть настолько тощим. Ну, может, кроме меня.
Я трясся всем телом, рубашка и куртка не спасали от холода. Это место я нашел много лет назад. Верхнюю плиту склепа оказалось под силу отодвинуть даже мне, а спустившись по нескольким ступеням, я обнаружил рядом с тремя гробами достаточно места, чтобы сидеть на корточках. Могила была рассчитана на четверых, но одно место пустовало, словно последний покойник после смерти на чужбине не нашел дорогу домой. Тут я и зажег свою свечу, дававшую лишь толику света и тепла, и ждал, когда русские уйдут, а меня заберут обратно в дом.
* * *
В сентябре мы вернулись в Трибсветтер, поскольку в Темешваре начались бои. Хотя летом авиация союзников разбомбила вокзал, город оставался важным транспортным узлом, и потому немцы хотели его отвоевать.
Нас с дедом отец уже давно сослал в Темешвар, а сам приезжал сюда с матерью раз в год — на пару недель в августе, после сбора урожая. Сарело, сын Рамины, все это время каждую неделю привозил продукты с нашего подворья, на городском рынке их давно уже было не достать. На телеге дорога занимала у него полдня. Отец опасался мародеров и армии, которой теперь приходилось кормить множество голодных, но вооруженных глоток, и приказал Сарело въезжать в город только с наступлением темноты.
Наш дом стоял на отшибе, так что Сарело ехал сначала вдоль трамвайной линии, потом сворачивал на короткую, плохо освещенную улицу и с нее выезжал в чистое поле. Оттуда ему оставалось еще несколько сотен метров до нас, мимо глухих задних стен домов. Дома повернулись к полю спиной, они были последним бастионом города, защищавшим от необжитых окрестностей, поросших кустарником. Темешвар, как и Трибсветтер, был беззащитен перед всеми, кто хотел его завоевать, — турками, Габсбургами, а теперь и русскими.
Сарело въезжал в Йозефштадт и останавливался перед нашими воротами, а мы спешили ему навстречу, чтобы закатить телегу во двор. Зависть соседей нам была обеспечена. Обертинов здесь знали с давних пор, а отца считали неприятным человеком, но успешным дельцом. В повозке, под брезентом и покрывалами, лежали полные мешки муки и картошки, а еще свиные или телячьи туши. Разгружая повозку, мы всегда перемазывались кровью.
Но чем старше и прожорливее становилась война, тем меньше доставалось нам. Тем меньше груза было в телеге. Улицы кишели солдатами — одни отступали строем, другие бесцельно шатались — и все они чувствовали тот самый давний голод. Едва ли они пропустили бы повозку с такими лакомствами.
Посему в последнее время Сарело хоть и продолжал навещать нас, получая от отца указания для управляющего Неа Григоре, но привезти он мог лишь несколько яиц, двух-трех кур да немного сала. Тем сильнее мы обрадовались, когда однажды, накануне наступления немцев, он появился вдруг со свиной тушей. «Это Неа Григоре вам прислал. Вторую, что осталась, он взял себе, в уплату. Остальных на днях конфисковали военные». Мы отнесли свинью в подвал, чтобы разделать на следующий день. Из запасов у нас оставалось разве что варенье, соленые огурцы и несколько бутылок шнапса из отборной сливы прошлого урожая.
На следующее утро мы впервые увидели русских, они уже успели занять город. Невдалеке, у акациевой рощи, светловолосые люди возились с машиной, на которой был установлен целый ряд полозьев со снарядами. В холодных лучах слабого солнца металл поблескивал так, будто в поле вырастало какое-то невиданное доселе растение. Оно тянулось к солнцу и поднималось все выше и выше, по мере того как сильные мужские руки вращали рукоятки управления.
Ветер доносил до нас отрывистые приказы офицера. Ко множеству языков, что перемешались в этих краях или не перемешались, но все же как-то уживались, теперь добавился и русский. Русская речь человека, взявшего город на прицел. Для нашего еще непривыкшего слуха она звучала собачьим лаем. Грохотом врывающегося времени.
Отец с дедом стояли уже в одних трусах и сапогах. Повязали мясницкие фартуки, в руках ножи, и собирались потрошить свинью. Сарело как раз тоже раздевался. Увидев через занавески диковинное оружие, дед уронил нож.
— Сталинский орган, — прошептал он.
— Немцы хотят отбить город. Им это ой как нужно. Говорят, они стянули к Темешвару танки и пушки. Теперь уж точно недолго ждать, скоро начнется, — сказал отец.
— Я вчера ехал по городу и встретил одного знакомого. Он говорит, многие уезжают отсюда. И везде румынские и русские солдаты, — добавил Сарело.
— Война? У нас? — не могла поверить мать.
Вплоть до этого лета мы жили так, будто война идет не у нас, а только в киножурналах, радиосводках и газетах. Даже когда у нас забрали последнюю скотину и половину дедовых лошадей. Война лишь задевала нас краем, словно отголосками бури, бушующей где-то далеко. А тут вдруг она накрыла нас, да еще с какой силой.
Уже 16 июня союзники начали сбрасывать на нас зажигательные бомбы, самолеты целыми стаями опорожняли свои утробы над городом. Сирены взвыли и не утихали до августа. Мы с дедом прошли через это, а вот для родителей настоящая война началась, только когда они увидели русских из окошка. Между тем Красная армия была уже в городе, а немцы — на подступах.
Мы с Сарело рванулись к окну, чтобы посмотреть на орудие, о котором знали только понаслышке. Поддавшись какому-то странному очарованию и потеряв дар речи, мы не сводили глаз с чуда техники, которое тем временем прикрыли зелено-коричневой сеткой. Внезапно мать обернулась и воскликнула, прижав руку ко рту:
— Иисус-Мария-Иосиф! Оглянитесь вокруг, это ж не дом, а сплошной донос на нас. На стене Гитлер, везде журналы «Сигнал» и немецкие книжки.
Мы и в самом деле не удосужились очистить дом от следов нашего дела. Следовало вытравить его, если уж не из памяти, то хотя бы отовсюду, где оно могло нас выдать.
Отец и дед, конечно, едва ли разделяли образ мыслей других немцев, но тем больше их вина. Они давно это поняли. Ведь они были крестьянами, и такие понятия, не имевшие отношения к их земле, как, например, национал-социализм, были для них чем-то абстрактным, вроде утверждений, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца. Но кто в это поверит, когда у нас в доме величайший полководец всех времен?
К той же запоздалой мысли, очевидно, пришел и Пауль, соседский сын. Из другого окна мы видели, как он осторожно вышел из дома и закопал в огороде ящик. Ясно было, что в ящике знамя со свастикой, которое он берег на день полной победы, и форма СС, которую, по его словам, он зашвырнул на чердак, как только вернулся домой. А теперь и чердак, оказывается, стал недостаточно надежным.
Другие соседи все сделали заранее. Еще в августе, когда румыны объявили нам об отмене братства по оружию, горожане почему-то затопили камины и стали жечь костры во дворах. Огню предавали памятные фотопортреты сыновей, приезжавших на побывку с фронта; фотографии празднеств в народных немецких костюмах; газеты и книги, пластинки, вымпелы Фонда зимней помощи, школьные тетради и, конечно, Гитлера, сотни Гитлеров. То, что не получалось сжечь, уносили подальше или закапывали. Достаточно глубоко, а то вдруг своя же собака раскопает прошлое и принесет его в дом в самый неподходящий момент. Детские игрушечные армии, юношеские значки и стариковские пивные кружки с гравировкой.
Мать останавливалась у каждого предмета, показывала его и спрашивала: «Это не слишком немецкое?» Каждый высказывал свое мнение, в итоге отец решал, оставить или убрать. Все вещи мы бросали на простыню, расстеленную посреди комнаты. Я пожертвовал всеми своими сокровищами: моделями «мессершмиттов» и бляхой от Паулева ремня, на которой красовалась надпись «Моя честь — верность»[15].
Распятие на стене наконец было избавлено от компании Гитлера. Прежде чем вместе с Сарело связать четыре угла простыни, отец откуда-то достал портрет Сталина и вставил в рамку вместо Гитлера. Поставил его на полочку и прислонил к стене. Предусмотрительно — как раз на то место, где раньше стоял самодельный приемник, пока нам, как и всем немцам, не пришлось его сдать.
Но отцу и этого было мало. Он собрал все часы, какие только нашлись в доме, и поставил на стол.
— Говорят, русские любят часы. Вот придут, и не надо будет даже искать. — Он посмотрел на нас: — С этой минуты мы — румыны. Понятно?
Мы кивнули. Это было самое первое и самое быстрое превращение из множества тех, что случились в моей жизни.
Потом отец и Сарело снесли все это добро вниз, чтобы потом как-нибудь избавиться от него. Дед снова принес ножи и тоже спустился в подвал. Мать положила руку мне на плечо и сказала, глядя на Сталина: «Раз он у нас в доме, ничего плохого с нами не случится».
Едва прошло какое-то время и мы немного успокоились, как открылась калитка и к дому подошли трое русских, один — с винтовкой наперевес. Мать открыла дверь и встретила их возгласом «tovarăşi!», означающим и по-русски, и по-румынски одно и то же: «Товарищи». Они остановились в замешательстве, переглянулись, потом оттеснили мать в сторону и вошли в дом. Тяжелые сапоги застучали по дощатому полу. Я знал, что внизу, затаив дыхание, сидят двое мужчин и юноша, в трусах и фартуках. Что перед ними лежит выпотрошенная свиная туша. И Гитлер, завернутый в простыню.
Русские принялись что-то искать, мы не сразу поняли что. На часы они даже не глянули. Но мы услышали слово, которое они громко повторяли, глядя на наши озадаченные лица: ţuica — по-румынски «шнапс». Я подумал, что в России алкоголь, видимо, хранят в спальне, потому что там они искали тщательнее всего. Мать беспомощно пожимала плечами, а я-то знал, что она отдала бы им весь шнапс до последней бутылки, если бы только он был не в подвале.
Солдаты начали злиться, кажется, они выругались на своем языке и наконец обратили внимание на коллекцию часов. Однако остались недовольны ею, ведь они ничего не могли взять с собой — лишь будильники да настенные часы. Один солдат добрался до мужской одежды и как раз вытаскивал ее, когда мы услышали: кто-то поднимается по лестнице из подвала. Вошел отец с двумя бутылками в руках. Он поставил их рядом с часами, но солдаты не тронулись с места. Тогда он пригласил их: «Tovarăşi, ţuica».
Мы ожидали, что земля под нами вот-вот разверзнется и мы провалимся в пропасть. Что она поглотит нас, как могила. Но вместо того чтобы задавать вопросы, русские так расхохотались, будто решили, пользуясь случаем, посмеяться вдоволь, ведь на долгом пути к Берлину до сих пор у них вряд ли был повод для веселья. Один из них показал на стол, затем на отца. «Ceas», — сказал он, и мы сразу его поняли, потому что на румынском это значит «часы». Они явно приняли отца за часовщика. Часовщик в подштанниках и с двумя бутылками шнапса появился перед ними из ниоткуда.
В некотором смысле они даже были правы, ведь отец увлеченно ремонтировал все, что попадалось ему в руки: часы, фотоаппараты, радиоприемники. Он часто разбирал и собирал мамины золотые часы и бывал на редкость спокоен и доволен, когда починял что-то вместе с Сарело, сидя в нашей гостиной в Трибсветтере.
Русский задрал рукав шинели: на руке красовались трое часов, которые он забрал у кого-то во время воровского вояжа по Европе. Одни часы он снял, поднес к уху, потряс и протянул отцу. С нашим шнапсом в карманах они покинули дом так же быстро, как появились, и радостно зашагали через поле к акациевой роще.
Когда свинья была разделана, отец уселся за стол и до вечера провозился с часами русского, но тот их так и не забрал. Потому что вскоре диковинное растение начало метать свои семена в небо, дождь из «катюш» пролился над районом Шагер. «Катюши» издавали ни с чем не сравнимый звук, который пробирал меня так, как потом это удавалось лишь холоду. И голоду.
Немцы ответили, их снаряды пролетали над нашими крышами и падали в поле, а иногда и в огородах. Взрывы гремели все чаще, наш дом сотрясался, и оконные стекла разлетались вдребезги. Потом всего в паре кварталов от нас под огонь попало множество домов, там взметнулось ввысь пламя. Стоял такой грохот, что мы не слышали собственного голоса. Пришло время бежать в бомбоубежище.
Дед построил его за последние полтора года, когда мы с ним жили практически одни. Похватав самое необходимое — воду, свечи, одеяла и распятие, — мы побежали, пригнувшись, через огород, забрались в темную нору и закрыли крышку. Мать зажгла свечу, каждый взрыв заставлял пламя подрагивать. Это было временной могилой, но мы понимали, что в любую секунду снаряд может упасть прямо на нас.
Мать тихонько молилась, ее бормотание было фоном для грохота наверху, или наоборот: грохот словно обрамлял ее слова к Господу. Здесь не хватало места, чтобы простереться перед распятием, как она часто делала дома.
Отец и дед говорили о том, когда же поражение Германии стало неизбежным — еще в Сталинграде или позже. Был ли Велповр и впрямь величайшим полководцем всех времен? «Величайший полководец, мать его!» — выругался отец, а снаружи всё разбивались окна и слышалось холодное шипение очередного снаряда. Прошло немало времени, прежде чем воцарилась не менее беспокойная тишина.
— Завтра едем домой, а то нас прикончат не одни, так другие, — сказал отец.
Домом для отца всегда был только Трибсветтер, где он всем заправлял и приумножал наши владения, как Иисус рыб и хлебы. В городе он чувствовал себя бесполезным и беспомощным, за исключением тех случаев, когда заключал сделки в порту или в кабаках у Йозефсплац.
Но в двух метрах под землей, в величайшем смятении моей короткой жизни, меня не так уж заботили Велповр и «катюши». Перспектива возвращения в Трибсветтер меня более чем обрадовала. Шепотом я спросил Сарело по-румынски: «Как дела у Катицы?», но он отвернулся, а когда я схватил его за рукав, рассердился и оттолкнул меня. «Откуда мне знать, как у нее дела? — проворчал он. — Мне до твоих зазноб дела нету».
Ночью, пока орудия молчали, отец и Сарело выбрались наружу и закопали в огороде всю нашу немецкую жизнь. Подойдет ли нам другая, мы не знали. Они подали нам знак, мы вернулись в дом и стали собираться в дорогу. На рассвете мы уже стояли в гостиной и напоследок проверяли результаты нашей зачистки.
— На нас же нет вины, — пробормотала мать.
— Да вина в воздухе витает. Боюсь, ни румынские, ни русские коммунисты нас не пощадят, — ответил ей дед.
Мы уселись на краю телеги рядом с тщательно упакованными в газетную бумагу кусками свинины, почками, легкими, сердцем, салом и завернулись в одеяла. Времени у нас было мало, выезд из города открыли лишь на несколько часов. Мать положила распятие на колени. Я болтал ногами, а в руках держал свиную голову, когда мы выехали со двора.
До последнего я глазел на этот дом, служивший мне убежищем несколько лет. В нем я вместе с дедом провел лучшие месяцы своей жизни. Сюда я больше так и не вернулся. Но с каждым километром, что проходила наша кляча, я приближался к девушке, к которой испытывал такую любовь, что не знал, куда себя девать.
* * *
Когда мы ехали по деревне, с нами все здоровались, ведь отца хоть и не любили, но боялись и восхищались его кипучей энергией, благодаря которой наши владения увеличились вдвое всего за несколько лет. Хитрость и настойчивость сделали его одним из самых влиятельных и богатых людей в наших краях. Фамилия Обертин, конечно, утратила блеск эпохи основания Трибсветтера, но ее снова зауважали.
У церкви, на перекрестке Лотарингской и Немецкой улиц, навстречу нам вышел священник Шульц с горестным выражением лица. Раньше я не встречал человека, который состарился бы так быстро. Всего несколько месяцев назад, летом, когда я приезжал в деревню, он был моложав, и щеки его розовели не от шнапса, а от прекрасного здоровья. Теперь же его трудно было узнать, он стал тенью самого себя.
Из трактира Зеппля нетвердой походкой вышли пьянчуги, протянули к отцу шапки и стали клянчить несколько монет на свое жидкое пристрастие. Отец достал из кармана пальто немного мелочи и бросил ее на землю, даже не удостоив попрошаек взглядом. Они бросились в пыль и стали драться за каждую монетку, пока Нелу, сын Неа Григоре, самый сильный из них, не вырвал себе большую часть богатства. «Я угощу!» — крикнул он, и довольные собутыльники потянулись обратно в темный трактир, где над стойкой было начертано красной краской: «Кредит скончался». Отец крикнул вслед Нелу: «Пока не напился, скажи Неа Григоре, что я хочу видеть его через два часа!»
— Что привело вас обратно так скоро? — поинтересовался священник Шульц.
— Артобстрел, господин священник. В Темешваре такой тарарам, что у меня в ушах до сих пор шум стоит. Я подумал, что здесь нам Бога лучше слыхать будет, — ответил отец.
— Этот шум у вас не сегодня появился, любезный господин Обертин.
Словно чтобы задобрить священника, мать спрыгнула с повозки и припала к его руке губами.
— Это ни к чему! — прикрикнул отец. — Церковь от нас и так довольно получает.
Священник погладил мать по волосам, собранным в тугой узел на затылке.
— В вас говорит гордыня, господин Обертин. Вам бы следовало брать пример с супруги.
Отец рассмеялся.
— Господин священник, да что с вами такое? На вас прямо лица нет. Кто вам так насолил? Неужто русские? Надо было вам от приемничка «Блаупункт» заранее избавиться, чтобы коммунисты не нашли.
Лицо священника омрачилось, многочисленные морщины стали глубже. Уголки губ слегка подрагивали, будто ему приходилось преодолевать себя.
— Нет, не русские, а последняя немецкая рота, что квартировала здесь. Откуда мне было знать, чего хотел полковник? Скажите, откуда? — Он замолчал и посмотрел в сторону. — К тому же сербы принадлежали к нашей общине, как и все остальные.
— Вы говорите загадками, господин священник, — ответил отец.
Рота получила приказ отступать, запинаясь рассказывал священник. Солдаты разместились по машинам, и он решил принести им поесть. Все они были несчастные, исхудалые мальчишки. Нервы у полковника расшатались, это все видели. Бои с партизанами Тито по ту сторону сербской границы и угроза угодить тому в лапы вымотали его. Но чтобы немецкий офицер оказался способен на такой поступок, этого священнослужитель и представить себе не мог. Тут священник посмотрел вверх, и вид его стал еще горестней. Меня он больше не интересовал, мы с Сарело толкались в повозке.
Офицер разыскал священника и приказал доложить, есть ли в деревне ненемцы и где они живут. Разумеется, тот с готовностью все рассказал, ведь он не мог предвидеть такого ужаса. Услышав, что здесь живет и сербская семья, полковник спросил, как к ним проехать, вскочил на мотоцикл и умчался.
О том, что случилось потом, священник знал лишь по слухам. Очевидно, полковник ворвался в дом Павличей с пистолетом наготове и расстрелял сначала отца, потом мать и наконец Катицу. А ведь Мирко был порядочным человеком, не католиком, но порядочным, сказал священник, чья вера в цивилизованную войну была подорвана.
Ее похоронили не на том кладбище, на католическом. «Ошибка вышла», — пробормотал священник Шульц. С тех пор его мучает совесть, надо было просто промолчать, закончил он. Ни он, ни мы не знали, что это еще не конец, а только начало. Что и на него, и на нас через несколько месяцев обрушится еще больше вины и горя и мир Трибсветтера изменится навсегда.
Во время их разговора я беззаботно дурачился с Сарело, но, услышав имя Катицы, я замер, потом задрожал. Сарело схватил меня за рукав и прошептал:
— Не делай глупостей, иначе отец тебя побьет. Не дергайся, все равно уже ничего не изменишь.
Я оттолкнул его и ударил.
— Ты знал все это время, грязный цыган! Ты все знал и ничего не сказал!
Я спрыгнул на дорогу и услышал приказ отца: «Немедленно прекрати!»
Но мне было все равно, что он сделает со мной. Мысль, что Катица мертва и это навсегда, приводила меня в отчаяние. Все остальное меня не интересовало. Я лупил Сарело, пока тот не сопротивлялся, ведь он был сильнее и ловчее меня. Наконец он схватил меня в охапку и держал, пока отец слезал с козел и шел к нам с кнутом в руке. «Этого не может быть!» — кричал я снова и снова, безуспешно пытаясь вырваться.
Когда отец был уже в двух шагах от нас, Сарело ухмыльнулся и отпустил меня. Я упал на землю и тут же вскочил, не желая, чтобы отец или кто-либо трогал меня. Ему оставалось лишь протянуть ко мне руку, когда я пустился бежать. Мне грозила крепкая трепка, но я должен был убедиться, что все это правда, а не просто выдумка какого-то обезумевшего священника.
Я успел пробежать несколько метров, когда меня нагнал голос отца. Не возбужденный и даже не громкий, но не терпящий никаких возражений. Каждое слово отчетливо и весомо. Голос, которому могли бы позавидовать и Бог, и дьявол. «Немедленно остановись или пожалеешь!» Я повиновался скорее по привычке, чем из страха перед болью, которую он мог причинить мне.
Я услышал, что он приближается, и повернулся. И тут же получил первую оплеуху. «Ты что, хочешь опозорить нас перед господином священником из-за какой-то сербской шлюхи? Залезай в повозку». Мать, стоя за его спиной, не поднимала глаз, потом подтолкнула деда, как всегда, когда хотела, чтобы он вмешался вместо нее.
Дед неуверенно вступился за меня:
— Оставь мальчонку в покое!
— Он мой сын. По крайней мере, на бумаге. Поэтому я буду делать с ним все, что хочу.
— Ты не сможешь меня остановить, — сказал я.
Он стиснул зубы, как будто хотел разжевать меня.
— Что ты сказал? — Отец схватил меня за подбородок и запрокинул мою голову. Я начал что есть силы молотить руками перед собой и сумел освободиться от его хватки. Он удивленно убрал руку, поскольку не ожидал сопротивления. Рукояткой кнута он ударил меня по лицу, а потом продолжил рукой.
— Ты — бестолочь, я это понял сразу, как ты родился. Ты не в меня, у нас с тобой ничего общего. Сколько я ни смотрю на тебя, не вижу в тебе ничего моего. Ты вообще-то мой сын? Полезай, дома поговорим.
Он схватил меня за локоть и заговорил тише. Со стороны это, наверное, выглядело так, будто мы просто спокойно беседуем.
— И не подумаю. Лучше бы ты умер, а не она.
Он отпустил меня, чтобы ударить, но я использовал это мгновение и убежал.
В доме Павличей все осталось нетронутым, никто не решался что-нибудь взять оттуда, и, поскольку у них не было близких родственников, так он мог простоять еще долго. Казалось, хозяева лишь ненадолго вышли на рынок или к заказчику, чтобы снять мерку для нового костюма. Как будто Катица скоро войдет в ворота и поздоровается со мной. Только собака, о которой никто не вспомнил, сдохла на цепи от голода или жажды, да в огороде виднелось высохшее кровавое пятно.
Я вошел осторожно, словно боясь кому-то помешать или кого-то напугать. В чуланчике рядом с кухней свисали с потолка колбасы и косы чеснока, окаменевший хлеб завернут в тряпку. В единственной комнате рядом с кроватями стоял и портняжный манекен, на котором висело что-то вроде платья, приколотое булавками. Рядом еще одно темное пятно.
Дощатые полы впитали кровь. Здесь работала Катица или ее мать, и полковник застал их врасплох. Я отчетливо представлял себе, где лежало тело, пока соседи не отважились заглянуть в дом. Возможно, это было тело Катицы.
Я долго не мог сообразить, что делать дальше. Бесцельно бродил по дому, по двору, трогал предметы и одежду, которые могли принадлежать Катице. Я представлял, что она пользовалась ими перед смертью и что они были ей дороги.
Прежде я никогда не бывал у нее дома и не знал, где она спала, на каком стуле сидела за обеденным столом. Где было ее любимое место и в каком углу она проводила вечера. Но я все впитывал в себя, в первый и последний раз, влюбленный и оцепеневший. Это оцепенение еще долго не покидало меня.
Я сидел, дрожа, на крыльце дома, когда пришел дед и накинул мне на плечи свое пальто.
— Если будешь так сидеть, то скоро помрешь. Ты же знаешь, как легко тебе заболеть.
— Я привык.
— Пойдем домой, он сейчас ездит по делам с управляющим. Мать напекла яблок. Увидишь, он успокоится, когда вернется.
— Никогда.
— Знаю.
Он принес немного сыра и хлеба в платке. Поскольку я не стал есть, он сделал это за меня, потом вытер губы платком и спрятал его в карман. Дед осмотрел сначала огород, затем дом, наконец позвал меня внутрь. Он разжег огонь в камине и налил себе стакан вина из бутылки, что нашел в буфете.
— Можно немного погреться. За это они там наверху на нас точно не обидятся. — Он усмехнулся. — Она тебе и вправду нравилась?
— Да.
— Как мне мои лошадки?
— Да. Как они там? — спросил я.
— Осталось всего пять. Исхудали чуток, но это ничего. — Он налил вина и мне, мы сели на стулья перед камином. — У тебя с ней что-нибудь было?
— О чем это ты?
— Ну, тебе все-таки восемнадцать.
Некоторое время мы не шевелились, и темнота постепенно овладевала пространством.
Дед взял меня за руку:
— Ты думаешь, что теперь все кончено, да? Я тоже так думал, когда твоя бабушка умерла родами Эльзы. Увидишь, появится другая девушка. Всегда кто-то появляется, это лишь вопрос времени.
— У тебя-то никто не появился, — ответил я.
— Я — другое дело, у меня уже был ребенок.
Мы помолчали.
— Рассказать тебе что-нибудь? — спросил он. — Можно и так время провести.
Дедовские рассказы были такой же частью моего детства, как и Раминины. Он знал, что я не буду возражать, даже если история будет старая, и поэтому, не дожидаясь ответа, начал говорить.
— Сколько живет наш род Обертинов, нас вечно преследуют катастрофы, — сказал дед. — Иногда мне кажется, будто война со времен Каспара никогда не прекращалась. Она продолжается бесконечно.
Он опять поведал мне о лотарингце на службе у шведов, решившем однажды отправиться домой, в Дьёз, о том, как он перебрался через Вогезы и, дойдя до земли, которую считал своей, убил почти всю семью и на том же месте создал собственную.
Я вполуха слушал деда, оглядывался вокруг и в каждом углу видел Катицу, вино разливалось по моим венам, а над деревней разливалась ночь, и во мне появилась уверенность, что я больше никогда не смогу полюбить.
Это было за четыре месяца до того, как я оказался в склепе. А чуть больше часа назад целая колонна грузовиков свернула с шоссе на проселочную дорогу к нашей деревне. Хотя уже наступил вечер и сгущались сумерки, полевой сторож прекрасно видел колонну, но у него не оставалось времени, чтобы ударить в набат. Русские оказались быстрее любой бури.
На этот раз с нескольких машин, остановившихся у церкви, спрыгнули низкорослые, коренастые солдаты с монгольскими лицами, остальные фургоны были пусты, если не считать шоферов в кабинах. Офицер в сопровождении румынского переводчика направился прямиком к дому священника рядом с церковью. Они застали его за ужином.
— Прикажите бить в набат! — скомандовал офицер.
— С какой это стати? Ведь нет ни бури, ни пожара.
— С такой, что иначе я вас расстреляю.
Тут как раз подоспел комендант замка, и отец Шульц послал его на колокольню. Офицер вытащил из планшета списки и сунул их под нос священнику.
— Мы разыскиваем всех немцев в возрасте от восемнадцати до сорока пяти лет, они подлежат депортации в Сибирь. Сейчас вы пойдете с нами и покажете, где они живут.
Отец Шульц пошатнулся и оперся на край стола.
— Почему именно я?
— Потому что вы здесь всех знаете. Скажете им, что разрешается взять ровно столько вещей, сколько они смогут нести. Пойманных на улице будем расстреливать. Вас они послушают.
Священник, наверное, думал, что предательство сербской семьи и так уже затянуло его в болото вины с головой, но теперь понял, что ошибался. Всегда можно погрузиться еще глубже.
— Я не могу этого сделать.
Офицер вынул из кобуры пистолет и приставил к животу священника. Того кинуло в пот.
— У вас нет выбора.
Сначала отец Шульц склонялся к тому, чтобы не повиноваться и принять смерть как Божью кару за пособничество в убийстве сербов. Но священник не был героем.
— Скажите, я тоже в списке? — тихо спросил он.
Прошло несколько секунд, пока ему перевели ответ офицера. Они тянулись бесконечно долго.
— Вы слишком стары для того, что ожидает остальных. А теперь пойдемте, нас ждет работа.
Выйдя на улицу, трое мужчин увидели, что перед церковью начали собираться люди, кутаясь в пальто и поглубже натягивая шапки. Продрогшие солдаты бросали окурки и втаптывали их в снег.
Офицер подтолкнул священника вперед, переводчик что-то прошептал ему на ухо, потом священнику помогли подняться на грузовик.
— Люди, расходитесь по домам и ждите нас. С этой минуты никому не выходить из дому. Кого застанут на улице — расстреляют. Молитесь и положитесь на волю Господа. Он все уладит! — крикнул Шульц толпе.
К тому времени, когда русские добрались до нашей улицы и начали распахивать ворота и двери ногами и прикладами винтовок, в стойло, где мы с дедом кормили лошадей, зашел Сарело. Он принес узелок.
— Тебе нужно сейчас же уходить. Тебя ищут русские. Мать говорит, чтобы ты спрятался там, где обычно. Здесь немного хлеба и сыра.
Дед снял шапку и надел ее мне на голову.
— Беги туда, где всегда прячешься, — сказал он.
— Потом мы заберем тебя, когда все успокоится. Где тебя найти? — спросил Сарело.
— На кладбище. В склепе Дамасов, — ответил я.
Он погасил керосиновую лампу и открыл маленькую дверцу в задней стене стойла. Из соседнего двора доносились голоса, русские все время покрикивали «Dawai! Dawai!», а немецкие — умоляли и кричали, но все было тщетно. Так звучал хор отчаяния. Лишь деревенские собаки заливались лаем, только они оказывали яростное, но бесполезное сопротивление. Потом я услышал, как мать зовет деда, и ругательства отца.
Я сунул узелок под мышку, поднял воротник куртки и в последний раз взглянул на деда. Он кивнул мне — на прощание или показывая, что мне и правда пора уходить. Через узкий проем я протиснулся на волю, не зная еще, что в это мгновение я навсегда распрощался с детством и привычным мне миром.
Пригнувшись и прислушиваясь каждые несколько шагов, я пробирался задами под покровом темноты и видел, как соседей и моих друзей загоняют в фургоны. Некоторые, хоть и не малолетки, цеплялись за своих матерей, и солдатам приходилось их оттаскивать. Другие шли молча, понимая, что уже ничего не сделаешь. Там же стоял и наш священник, беспомощный и растерянный, наверное, он пытался призвать на помощь Того, кто уже слишком долго не появлялся. Наконец я добрался до мертвых.
Стараясь отвлечься от неприятностей, которые обрушивались на меня регулярно, как по часам, — от отцовского гнева, способного вспыхнуть из-за любой мелочи, — я привык в своем убежище предаваться фантазиям. Так же я поступил и в тот день, когда меня искали русские. Я зажег одну из свечей, что припас в склепе вместе с коробком спичек, но сквозняк задул ее. После нескольких попыток огонек разгорелся, я прислонился к стенке и стал слушать свист ветра, который несся над землей и хлестал людей без разбору.
* * *
Каждый раз, когда меня спрашивали о моем рождении, я просил уточнить, о каком именно. Ведь я родился дважды. Первое рождение было подкреплено властью, которую имел надо мной мой дед. Властью, которую ему никогда не приходилось доказывать, но она всегда действовала, хотя дед уже давно капитулировал перед отцом.
В тот день осенью 1926-го он проснулся очень рано. Выгнал коров, свиней и лошадей на поле позади двора и завез в стойло телегу. Как и накануне, он погрузил на нее весь навоз, потом впряг двух лошадей и обмотал им глаза и ноздри тряпками от мух и слепней.
Насекомые донимали и деда, время от времени он бросал лопату и пытался отогнать их от лица и одежды. К запаху навоза и к труду он привык с детства, в его жизни уже не оставалось такого дела, какое он не делал бы прежде сотни раз.
Деду пришлось работать одному, потому что отец уехал в город и ждал там опаздывающее судно из Вены, груженное сельскохозяйственными машинами, которые он заказал полгода назад. В тот год венгерские батраки не явились, а румынских уже отпустили, поскольку основная работа в поле была закончена. Оставалось только унавозить землю под озимую пшеницу, а потом уж мог и снег выпасть, может, даже в ноябре.
Дед вернулся в дом и разбудил дочь. Пока она готовила завтрак, он принес воды из колодца и помылся на кухне рядом с плитой. Потом вымылась и Эльза, медленно водя губкой по круглому животу. До родов оставалось еще два месяца. На горизонте занималось утро, сначала показался лишь слабый отблеск света, узкая полоска, но с каждой минутой она становилась все шире.
— Ты уверена, что хочешь пойти со мной? — спросил дед. — Тебе не тяжеловато будет?
— Тебе же нужен кто-то, чтобы присмотреть за лошадьми. И потом, что мне тут делать одной?
Они быстро пошли рядом с телегой, дед крепко держал под уздцы лошадей с завязанными глазами. Иногда он шептал им команды, будто разговаривая сам с собой. Кони привыкли ходить вслепую и обычно верили хозяину на слово. Это были умные, терпеливые животные, но в то утро их мучили назойливые мухи, потому они нервничали, и деду даже приходилось браться за плеть.
Мать часто останавливалась, запыхавшись, и дед ждал ее. Она упирала руки в поясницу и выпрямлялась, потом нежно гладила живот.
— Не надо было тебя с собой брать. Так я ничего не успею.
— Успокойся, отец. Ты же видишь, какие они беспокойные сегодня. Кто-то должен остаться с ними, пока ты будешь раскидывать навоз.
Когда они пришли на поле, начал накрапывать дождик, легкая морось все усиливалась. Дед опустил руку в землю так деликатно, будто это живое существо и он боится навредить ему или причинить боль. Он взял комок земли и растер его о щеку. Для полной уверенности сделал это еще раз. Он действовал так сосредоточенно, словно от этого зависело все его счастье. Дочь осмелилась заговорить с ним, лишь когда он вернулся к телеге и подогнал ее задом к краю пашни.
— Могу поспорить, маму ты не так нежно трогал, — сказала она с улыбкой.
— Она к такому и непривычная была. Вы, бабы, — народ, конечно, особый, но земля еще особеннее.
— Это как же?
— Женщина ребенка вскармливает, а земля — всех нас. Если мне что и нравится в твоем муже — а такого немного, — так это то, что он уважает землю так же, как я.
— И что тебе говорит земля? Она готова?
— Да, температура подходящая. Скоро сготовится. Еще разок унавозить, и на следующей неделе можно сеять озимую.
Он сказал «скоро сготовится», как будто речь шла о кукурузной каше или о сочном куске жареной свинины. В сознании деда все, что составляло смысл его жизни, сплавлялось в одно неразделимое целое: его жена, стряпня дочери, земля и лошади. Они были для него всего лишь разными проявлениями одного и того же, из одной субстанции и на равных правах.
В общем-то, я уверен, что даже Бог был для него чем-то вроде остывшей кукурузной каши, которую он съедал под сенью шелковицы, отдыхая от трудов на краю поля, пока лошади мирно щипали траву. Только по воскресеньям он вспоминал о другом Боге, чтобы не сердить священника Шульца.
Мать с самого детства ходила с дедом в поле. Ей нравилось быть рядом с ним, молча идти быстрым шагом, иногда по нескольку километров. Частенько они выходили со двора еще глубокой ночью. Иногда над деревней стоял густой туман, из которого временами появлялись соседи, здоровались с ними и снова исчезали. Но случалось и так, что небо над ними было столь бесконечно большим и ясным, что походило на подушку, утыканную тысячами булавок с мерцающими головками звезд.
В полдень они усаживались под ореховым деревом, и отец нарезал хлеб и колбасу. Его пальцы лоснились от жира, и он всякий раз с удовольствием облизывал их, а она охотно делала так же. Он был ей и отцом, и матерью. Бывало, что им не встречалась ни одна живая душа до самого возвращения в деревню.
Даже накануне отъезда Эльзы в Будапешт, где ей предстояло пересесть на поезд до немецкого побережья, а затем на пароход до Нью-Йорка, она пошла с ним.
— Ты бросаешь меня, — тихо сказал он во время отдыха под деревом.
— Если я не поеду, то мы так и останемся бедняками, — ответила она.
— Значит, останемся бедняками. У нас всегда будет что поесть, — возразил дед.
— Мне этого мало. Я хочу большое хозяйство. Ты когда-то тоже продал всех лошадей, чтобы спасти дом. Нам больше нечего продать, поэтому я еду в Америку.
— Я помню тот день, как будто это случилось сегодня, — сказал дед. — Когда торговец забрал коней, мать провожала их до края деревни. Потом долго смотрела им вслед. Она никогда ничего не говорила, но я уверен, что так и не простила мне этого.
Дед встал и снова принялся за работу. Тяжело дыша, он спросил:
— Тебе же всего семнадцать. Что ты будешь там делать?
— То, что должна. Я в долгу перед матерью.
Дед зачерпнул лопату навоза и понес на поле, где аккуратно рассыпал его. Под дождем почва стала липкой и вязкой, дед этим был доволен — вода пропитывала навоз и смешивала его с землей. Последний дождь, потом первые заморозки и толстый снежный покров, под которым зерна в земле наберутся сил для последующего упорного прорастания вверх.
Раз за разом дед втыкал лопату в размокшую коричневую массу на телеге и разбрасывал ее по пашне. Эта тяжелая работа могла растянуться на несколько дней, если зять скоро не вернется и не поможет ему.
Вдруг прогремел гром. Кто знает, от него ли, от насекомых или от света, но одна из лошадей, самая смирная, испугалась. Дед услышал крик дочери, бросил лопату и помчался к ней по пашне. Мать успела распрячь обеих лошадей и одну уже привязала к дереву. Она подошла ко второй лошади и сняла у нее с глаз повязку. Животное, ослепленное дневным светом, встревоженное докучливым слепнем или грозными раскатами грома, встало на дыбы и так сильно рвануло удила, что мать потеряла равновесие. Поворачиваясь, лошадь толкнула ее боком, и она упала.
Когда подоспел дед, Эльза корчилась от боли, а под юбкой у нее растекалась лужа. Дед успокоил коня, потом наклонился над дочерью.
— Я рожаю, — задыхаясь, выдавила она.
— Что мне делать? Непера привезти? — спросил дед.
— Он ничего не умеет. Привези Рамину. Говорят, она разбирается.
— Цыганку? — удивился дед.
— Просто привези ее!
Дед кинулся запрягать лошадей, но когда он уже влез на козлы, Эльза передумала:
— Папа, я так долго не выдержу. Положи меня на телегу.
— В ней же навоз. Что, если ребенок прямо там родится?
— Делай, что я говорю!
Дед опять нагнулся, мать обхватила его за шею, он поднял ее и отнес к телеге. Положил ее на еще теплое, вонючее, кишащее мухами коровье дерьмо. Ее затошнило и вырвало прямо на одежду, но это было неважно. Главное было благополучно родить ребенка, использовать эту долгожданную возможность, чтобы доказать, что она плодовитая, нормальная женщина.
Дед хлестал лошадей, как никогда в жизни. В мыслях он проклинал себя за то, что согласился взять дочь в поле. Если теперь что-то случится, если она потеряет ребенка, то ему придется отвечать перед зятем. А если умрет она, то не знать ему больше покоя в этой жизни.
До цыганского холма они ехали по узкой дороге, телегу трясло на камнях, ухабах и рытвинах, полных воды и грязи. Когда колеса застревали в колее, дед спрыгивал и выталкивал телегу. Он был мокрый от дождя и от пота, как и его дочь. Волосы и одежда липли к телу. Эльза лежала посреди кузова с раздвинутыми ногами, упираясь пятками в навоз. Она то и дело поднималась на локтях, но, обессилев, снова падала.
Дед вытер мокрое лицо рукавом и снова принялся хлестать лошадей. Но когда дочь попросила ехать осторожнее, он придержал их, пока она не закричала: «Быстрее!» Когда они уже подъезжали к цыганскому холму, дождь стал тише и вскоре перестал. Мухи и слепни только этого и ждали, они снова взлетели и зажужжали вокруг матери.
Дед схватил за ворот первого встречного цыгана.
— Приведи к нам жену бульбаши!
— Бульбаша пропал несколько недель назад.
— Да мне плевать. Приведи Рамину!
Тут мать издала такой ужасный вопль, что мужчины вздрогнули. Потом наступила тишина, и дед подумал, что случилось самое страшное, но вскоре крик повторился. Мужчины бросились к повозке, цыган перекрестился и побежал к вершине холма.
Вскоре из глубины жалких лачуг появилась Рамина, рядом с ней тот же цыган тащил ведро воды. Под мышкой у нее было несколько полотенец. Следом за ними показалась толпа любопытных, желающих посмотреть, как на куче навоза рождается новая жизнь. Бородатые мужчины в черном, с дешевыми папиросами во рту, женщины в цветастых юбках, за которые держались дети. Вокруг телеги уже собралось несколько припозднившихся крестьян и возвращавшихся ночных охотников.
Толпу, возбужденную хоть каким-то интересным событием в однообразной жизни, было не удержать, и зеваки с гвалтом обогнали Рамину. Лишь когда она приблизилась к повозке, люди постепенно притихли, некоторые женщины взяли детей на руки, чтобы им было лучше видно мою мать. Зеваки окружили телегу со всех сторон, и Рамине пришлось пустить в ход весь свой авторитет, чтобы пробиться к матери. «Дорогу!» — кричала она, расталкивая людей.
Заглянув в кузов, даже она не смогла удержаться от восклицания:
— Пресвятая Богородица! Ребенок уже выходит.
Она забралась на повозку. Через десять минут я появился на свет под внимательными, изумленными взглядами галдящей толпы. Рамина потребовала у одного из цыган нож, вымыла его в ведре и перерезала пуповину. Хозяин ножа пожелал забрать пуповину, чтобы скормить своему псу.
Словно почувствовав, что с этой секунды я всегда буду одинок и беззащитен, я громко заплакал. Рамина взяла меня на руки и показала людям.
— Это мальчик! — крикнула она.
— Чтобы все услышали, — сказал один охотник и пальнул из ружья в воздух.
Я был сморщенным безобразным комком, с криком и визгом сносившим первое страдание в своей жизни. Я страдал от мух, они назойливо и упрямо приставали ко мне, как потом приставали только болезни и смерть. Насекомые лезли мне в глаза и в рот и не отставали, даже когда Рамина пыталась их отогнать. Они садились и на белые бедра матери, в то время как ее руки все еще цеплялись за борта кузова, хотя все уже давно было позади. Обессиленная, с красным лицом, она глядела на толпу, а толпа глядела на нее. Любопытство возобладало над отвращением, и кольцо людей вокруг матери стянулось теснее.
Дед бросил поводья и обошел телегу. Снял шляпу и прижал ее к груди, будто собирался говорить со священником в церкви.
— Он здоров? — спросил он Рамину.
— Выглядит здоровым, но пока рано говорить. А вот что я точно могу сказать, так это что он сильно воняет.
Она несколько раз окунула меня в ведро с водой и завернула в принесенные полотенца.
Двое мужчин помогли матери слезть с навозной телеги и забраться на чистую повозку одного из крестьян. Рамина со мной на руках уселась рядом, и мы поехали обратно в деревню, дед ехал следом, не отставая. Колокол не звонил. Он предназначался только для мертвых, как утешение и последняя победа над живыми.
— Хотите его подержать? — спросила Рамина.
— Какой позор, — пробормотала мать.
Весть о моем рождении разнеслась быстрее ветра, и со всех сторон на дорогу выходили люди, чтобы поглядеть на меня и мою мать. Она смотрела перед собой и только сжимала зубы, пока не оказалась дома. «Цыганка. И я на этой телеге. И все видели», — шептала она.
Добравшись до дома, дед и крестьянин перенесли мать в спальню и положили на кровать. Крестьянин принес свежей ключевой воды, затем Рамина отослала их с дедом прочь, а меня положила на подушку рядом с матерью. Она сняла с матери платье и хорошенько вымыла ее.
Рамина терла тело роженицы, ее ноги, бедра, живот, грудь, причем так, будто это было тело бульбаши. Она казалась очень сердитой и нажимала на мочалку так сильно, что мать вскрикивала. Закончив мытье, Рамина укрыла ее и положила меня ей на грудь. Мать осторожно взяла меня на руки.
— А с тобой-то что, Рамина? — спросила мать.
— Ничего такого, сударыня.
— Я вижу, ты тоже беременна.
— Так и есть.
— Бульбаша, наверное, гордится.
— Он сбежал месяц назад, да так быстро, что я его не нашла. Ну ничего, мои проклятья найдут. А вам теперь надо заботиться о малыше.
Она открыла дверь и впустила мужчин.
— Надеюсь, жизнь у него будет не такая вонючая, как рождение, — пошутил крестьянин.
— Молчи, олух! — одернул его дед. — Говорят же румыны: «Кто дерьмо жрет, тому счастливым быть». Мой внук будет счастливым человеком. Вот, возьми-ка деньги и поезжай в город. Разыщи в порту моего зятя и скажи ему, чтобы возвращался.
Сунув в руку крестьянину несколько бумажек, дед проводил его. А вернувшись, спросил Рамину:
— Сколько ты хочешь за то, что помогла нам?
Рамина не стала торопиться с ответом.
— Денег ваших мне не надо, — ответила она наконец.
— А что тогда?
— Три бочонка жира от скота, что вы будете резать. Два раза в год.
— Это еще зачем?
— Я осталась одна, мне надо кормиться самой и кормить ребенка. Попрошайничать я не хочу, латать кастрюли — не умею. А вот мыло варить у меня получается.
Ожидая, что скажет дед, Рамина наблюдала за ним внимательными хитрыми глазами. Увидев, что он готов согласиться, она откашлялась и повысила ставку:
— И четыре курицы в месяц, до совершеннолетия мальчика.
— А не жирновато ли будет? — попробовал поторговаться дед.
— Вам что, за ребенка жалко четырех кур и немного жира?
— Но почему именно четыре?
— Если я в воскресенье сварю кастрюлю куриного супа, то мне его хватит почти на неделю. Четыре курицы, четыре недели — все просто.
Дед беспомощно взглянул на свою дочь, но та кивнула. Так была заключена сделка, которая гарантировала Рамине хотя бы наполовину полный желудок, а мне, начиная с семи или восьми лет, еженедельные визиты к ней.
По рассказам, врач, которого отец сразу же привез из Темешвара, тщательно обследовал меня и сказал: «Это будет чудо, если мальчик выживет. Он анемичен, у него слабая конституция». Потом настал черед отца, которому крестьянин по дороге успел доложить о том, как я родился. Он нагнулся ко мне, не прикасаясь. «Слабак. Совсем не похож на меня. Его отцом мог бы быть кто угодно. С кем вы блудили на этот раз?» — спросил он мою мать. Потом обнюхал меня. «Ребенок и впрямь пахнет своим рождением». Этот крестьянин, конечно, подложил мне свинью, ведь всю жизнь отец говорил мне: «Ты пахнешь своим рождением», когда хотел дать понять, что он думает обо мне и моей жизни.
Той же ночью мать появилась на пороге дедовой комнаты, со мной на руках. Дед зажег лампу и испугался, потому что мать была как неживая. Словно последние остатки той жизненной силы, с которой она уезжала и вернулась из Америки, которую тратила на восстановление хозяйства в последние несколько лет, покинули ее за несколько минут. Ее голос звучал слабо и невыразительно, как будто она безгранично устала.
— Он даже ни разу не взял его на руки. Он не хочет его, — прошептала она.
— Все изменится, когда он станет сильным и здоровым.
— Он не хочет, чтобы ребенок находился в комнате. — Мать положила меня на кровать деду. — Отец, возьми его к себе. Я буду его кормить, но заботиться о нем придется тебе.
— Мне? — опешил дед.
— Я не смогу.
— Ведь ты же его мать.
— Но он — мой муж.
Она закрыла за собой дверь. Я захныкал. Дед долго смотрел на меня, потом принес сахару. Лег в постель, накрыл нас обоих одеялом и облизнул свой мизинец. Затем макнул палец в сахар и осторожно поднес к моим губам.
Отец так и не простил матери, что она буквально изваляла в дерьме фамилию Обертин. Что она оголилась и родила на глазах у всего света, как дешевая потаскуха. Такой позор запятнал нашу семью хуже некуда, хуже, чем подозрение, что в Америке мать торговала телом. Из-за этого позора отец больше никогда не прикасался к матери. Но мне повезло, ведь я выжил.
* * *
Вторая версия моего появления на свет — версия Рамины. Бульбаша бросил ее на Цыганском холме, хотя она больше десяти лет лечила его болезни, разгоняла ему соки и поила отварами трав, о волшебной силе которых ведала только она одна.
— Если бы я знала, что он любится с другой, то отравила бы его, — часто говорила Рамина. Она заботилась обо всем, но только не об утолении его страсти к молоденьким девушкам. Вот с такой-то он однажды утром и укатил в сторону Темешвара на своем фургоне.
Рамина даже пустилась за ними в погоню. С собой у нее был платок, измазанный менструальной кровью другой цыганки, ведь сама она была беременна. Этим платком она хотела дотронуться до бульбаши — величайший позор для цыгана, — но так и не нашла его. Она вернулась назад, родила Сарело и стала набивать себе брюхо всем, что ей давали.
Без бульбаши цыганский табор начал постепенно разбредаться, в конце концов последний лудильщик и метельщик погрузил свои пожитки на телегу, запряг в нее тощую клячу и тронулся по направлению к городу. На холме осталась только Рамина, ее одинокий дом теперь был виден со всех сторон. И хотя все ее знания, заклинания и волшебные травы не помогли ей привязать к себе бульбашу, для меня она была самой могущественной на свете.
Она пользовалась таким авторитетом, который не нуждался ни в оправданиях, ни в доказательствах. Поэтому мое второе рождение, рассказанное Раминой, было для меня не менее достоверным, чем первое. И то, что отец в нем не играл особой роли, мне приходилось по душе.
— Ты родился не на навозной куче. Твое появление на свет было куда удивительнее, чем ты думаешь, Якоб, — говорила она каждую неделю, когда я приносил ей курицу, а в придачу мать передавала еще и хлеб, муку, картошку, репу, помидоры, капусту и яйца.
Первые годы жизни я занимался только тем, что выкарабкивался из почти непрерывных болезней. Каждый раз мать приводила к моей постели Рамину, на которую теперь уповала, как на Господа Бога. Для Рамины я стал средством существования, поскольку количество продуктов, причитавшихся ей вплоть до моего совершеннолетия, возрастало пропорционально ее успехам по исцелению. За излечение воспаления легких мать обещала ей десяток яиц, а за избавление от хронического поноса — бутылку шнапса, и все это каждый месяц до моего совершеннолетия.
— Я их всех вылечила. — Рамина любила похвастаться своим искусством. — Только с молодым Георгом ничего не смогла поделать, когда он отстрелил себе оба глаза. Даже делала ему примочки с соком растения, которое зовется «трава жизни». Обычно оно хоть мертвого на ноги поставит, а вот ему не помогло. Но слепым он мне казался счастливее, чем прежде. Вообще, наша деревня, похоже, подходящее место для самоубийц и неудачников.
В тот день, когда у нас с опозданием началась война, я в который раз набил полный мешок для Рамины и отправился на Цыганский холм. Благодаря тому что приемник священника был сломан, у нас мир продолжался на полдня дольше. Полдня, когда никто не погибал и в Европе царил покой. Засушливое лето подходило к концу, полевой сторож готовился к сезону бурь, а Непер смешивал свои порошочки в дальней комнате. Трактирщик Зеппль указывал клиентам на другую табличку, висевшую в трактире: «Жри от пуза, пей в три горла, о политике — ни слова».
Полдня мы не слышали голос Велповра. Отец вместе с управляющим поехал на мельницу, которую решил построить, чтобы больше ни от кого не зависеть. На полях деревенские парни в форме готовились к войне за наше дело. К войне, которая казалась нам бесконечно далекой в тот день, когда на самом деле началась.
Предводитель вояк, учитель Кирш, муштровал их с помощью того же свистка, которым терзал нас на уроках физкультуры. Они припадали к земле, высоко подпрыгивали и все равно казались лишь маленькими черточками на бесконечном просторе природы, терпевшей человека с тех пор, как он тут появился. Но и убивавшей довольно часто. Над самыми ретивыми из нас можно было бы посмеяться, но винтовки парней стояли в полной боевой готовности, прислоненные к старому пересохшему колодцу.
Я выходил со двора с мешком на плечах, однако, едва скрывшись с глаз домашних, мне приходилось ставить его на землю. На самом деле я врал, говоря родителям, что набрал полный мешок, ведь даже в свои тринадцать лет я не смог бы сдвинуть его с места.
Да и Рамина никогда не жаловалась, что я приносил в лучшем случае половину того, на что она теперь имела исконное право. Просто она прекрасно знала мою одышку и слабые мускулы. Отец часто говорил, что мое тело больше подошло бы старику, чем подростку. Вся семья думала, что я не доживу до старости.
Болеть можно по-разному: тихо и молча, словно стараясь скрыть ото всех свою болезнь, как неискупимую вину. Или же с хрипом и кашлем выставлять напоказ наполненные мокротами, отечные бронхи, пылающее жаром, воспаленное тело, как бесконечный ритуал угрозы жизни. Я был из тех, кто страдает тихо, только для того, чтобы в другой раз заставить всех волноваться посильнее. И все-таки я не был несчастным.
Я собирался не нести мешок на плече, а волочить его за собой всю дорогу до Цыганского холма. В пыли всегда оставался широкий, четкий след от угла нашего двора, где я сбрасывал мешок, до узкой тропинки, ведущей вверх по склону к дому Рамины. Каждую пятницу после обеда этот след тянулся через деревню, будто оставленный гигантской улиткой.
След вел мимо церкви и трактира, мимо коровников и амбаров, уже принадлежавших нам, мимо поворота на мельницу и мимо школы. Потом этот след выходил из деревни, пересекая границу — ту воображаемую линию, которую никто не видел, но каждый знал о ней.
Через несколько сотен метров след вдруг прерывался, как будто улитка растворилась в воздухе. В этом месте надо было перепрыгнуть через яму, заросшую бурьяном и полевыми цветами, и на другой стороне найти едва заметную тропку. Я швырял мешок вперед, причем чаще всего он падал в яму, и с разбегу прыгал сам, но и я улетал не дальше своей ноши. Поэтому мне часто приходилось выталкивать мешок из ямы и потом выбираться самому.
Обычно мое маленькое путешествие проходило без приключений, я приближался к дому Рамины постепенно, с передышками под деревом, на нагретом солнцем камне или в высокой траве некошеного луга. Но в этот день случилось иначе.
Я остановился передохнуть за одним из сараев и пытался поймать вырвавшуюся из мешка курицу, которая использовала любую возможность избежать своей судьбы. Она прожила бы еще два дня, а потом насытила бы желудки Рамины и Сарело. Если, конечно, Сарело не прикончил бы ее раньше, проверяя остроту своих ножей. Ведь на курах он любил тренироваться больше всего.
Юные бойцы и учитель Кирш подкрались ко мне, как к врагу, которого надо застать врасплох. Они часто упражнялись в этом, и все же через несколько лет почти всех их внесли в деревню вперед ногами.
— Ты — позор нашей деревни. Таскаешь кур цыганке и ходишь босой, как ее сынок, — начал задираться один из них.
— Мы должны ей это, — возразил я.
— Шваб ничего не должен какой-то цыганке.
Учитель держался поодаль, наблюдая за своими учениками — так хозяева неугомонных щенят отпускают поводок подлиннее, чтобы дать им порезвиться. Он прислонился к углу сарая, скрестив руки и надвинув фуражку на лицо.
Парень, заговоривший со мной, почти незнакомый, поднял меня, как будто я вообще ничего не весил. И перебросил другому, а тот — третьему. «Смотри, цыпленочек летит, да это же наш Якоб!» — весело крикнул один. «Скоро оперится», — вторили ему. Так они бросали меня друг другу, пока по сигналу учителя не уронили на землю.
Я встал и хотел убежать, но учитель позвал меня по имени. Он подошел, присел на корточки и отряхнул меня от пыли.
— Якоб, вместо того чтобы носить винтовку, ты носишь кур. Разве такое подобает немецкому мальчику? — Я молчал, и он повторил вопрос громче: — Подобает?
— Нет, господин учитель.
— Так почему же ты это делаешь?
— Я еще маленький для винтовки. Мне всего тринадцать.
— Скоро начнется война. Может быть, даже завтра. И тогда понадобится, чтобы каждый немецкий мальчик умел управляться с оружием и был физически крепок.
— Отец говорит… — начал я.
— Нам плевать, что говорит твой отец. Они с твоим дедом больше думают о себе, чем о народе. Добром это не кончится. А что думаешь ты?
— Я не знаю, господин учитель.
Он повернул меня, заправил мне рубашку в штаны и отряхнул спину.
— Мы ведь не хотим, чтобы твой отец что-нибудь заметил, да?
— Так точно, господин учитель.
— Как подобает прощаться немецкому мальчику?
— Хайль Гитлер, господин учитель!
— Молодец. Увидимся завтра в школе. Не забудь сделать домашнее задание. И обуй хотя бы приличные башмаки, если уж не сапоги.
За весь разговор учитель ни разу не запнулся, у него ни разу не перехватило горло, как обычно бывало на уроках из-за его астмы.
Один из его подопечных — наверное, из другой деревни, потому что я его никогда раньше не видел, — поймал курицу, мирно клевавшую что-то на поле, и принес обратно. Он показал ее приятелям, словно военный трофей, но я знал, что он задумал. «К забою курицы — товсь!» — крикнул он. Это была любимая забава деревенских мальчишек. Остаток жизни пернатой внезапно сократился с двух дней до получаса. Но ей повезло.
Парнишка выпустил птицу из рук, увидев кое-что поинтереснее для забавы, чем перепуганная тощая курица. Через поле в нашу сторону шла сербская девочка с коробкой в руках. Я немного знал ее, потому что мы с ней ходили в одну школу, но она посещала уроки на румынском, которые шли в том же помещении за занавеской. Еще я знал, что она живет на окраине села и помогает матери-портнихе. Часто она шагала через деревню с платьями и костюмами, которые для кого-то сшила ее мать. Мой дед тоже носил штаны и жилет ее работы.
Парень в несколько прыжков оказался рядом с ней, схватил за руку и притащил к нам. Потом вернулся и подобрал коробку, которую девочка уронила от испуга.
Девчушка замерла, лишь в глазах ее читался невыразимый страх и слегка подрагивал подбородок. Я едва мог поверить, что на свете может быть кто-то еще меньше и слабее меня, но она была именно такой. Лицо у нее было широкое, глаза — словно очерчены углем, а брови — густые, почти сросшиеся.
— Можешь ударить ее до крови, Якоб? Это всего лишь сербская девчонка, отец тебя ругать не будет, — сказал третий мальчишка.
Пацан, подобравший коробку, открыл ее, вытащил шикарный новый костюм и изрезал его перочинным ножиком. Учитель молчал. Когда я обернулся к нему в надежде, что он хоть как-то поможет, он посмотрел на меня совершенно невозмутимо.
И тут случилось непоправимое. Теплая струя, которую я долго еле сдерживал, намочила штаны, потекла по ногам и образовала подо мной лужицу. Земля, иссушенная, как всегда в это время года, жадно впитывала жидкость. «Якоб полил землю, — закричали они, смеясь. — Кто знает, какие странные цветочки теперь тут вырастут».
Словно добившись своего, юные бойцы потеряли к нам интерес и оставили в покое. Они решили прервать учения, пойти в трактир и опрокинуть по стопке шнапса за здоровье фюрера.
Знамена ввысь! В шеренгах, плотно слитых, СА идут, спокойны и тверды. Глядят на свастику с надеждой миллионы, День тьму прорвет, даст хлеб и волю он[16].Они распевали эту песню, пока не скрылись из виду.
Теперь остались только мы, мы вдвоем. Я долго гонялся за курицей, наконец поймал ее и засунул в мешок. Девочка не сходила с места, она рыдала, сжав маленькие кулачки.
— Можешь пошевелиться, — сказал я по-румынски. — Они ушли. Когда Рамина узнает, она их проклянет. Она сильнее Велповра, представляешь?
Девочка посмотрела на меня печальными глазами.
— Кто такой Велповр?
— Голос из радио.
Она сложила остатки костюма в коробку, я поднял мешок, и мы пошли, каждый в свою сторону.
— Я никому ничего не скажу! — крикнула она.
— Я тоже, — отозвался я.
Подойдя к подножию холма, я бросил мешок, отдышался, сложил ладони рупором и позвал Сарело. Если, на мое счастье, он был дома, то сразу сбегал вниз широкими, уверенными шагами и брал мою ношу.
Холм все еще называли Цыганским, словно в память о былых временах, когда на холме кипела жизнь, огонь в печах горел до глубокой ночи и стук молотков лудильщиков был слышен издалека. Так мне рассказывал дед. Теперь же здесь оставался только один дом, если его можно было так назвать.
Наверху появился Сарело, подставляя нож лучам солнца и проверяя свою работу. Лезвие поблескивало. Я прекрасно знал, что он теперь сделает, я видел это десятки раз. Он поднял второй нож, зажмурил один глаз, а другим осмотрел тонкие, острые клинки, затем стал медленно-медленно скользить одним лезвием по другому у самого уха, будто это были музыкальные инструменты, звучание которых говорило об их качестве.
Мы с Сарело были одногодками, но он выглядел старше, ему можно было дать лет четырнадцать или пятнадцать, тело у него было жилистое, а над верхней губой уже росли жиденькие усики. Говорили, что он с норовом, так же, как и его мать. Очевидно, Сарело остался доволен плодами своего труда, он отложил ножи в сторону и поднес руки ко рту, как я.
— Чего тебе? — крикнул он.
— Спускайся и помоги мне!
— Курицу принес?
— Да.
Он поспешил вниз, перемахнул через яму, открыл мешок и заглянул внутрь. «Вместе с этой — двенадцать». У Сарело были не по годам большие ладони и такие же ступни, в нем вообще кое-что поражало. Светлая кожа и гладкие волосы делали его непохожим на других, вечно голодных цыганят, иногда забредавших в деревню и предлагавших товары от дома к дому.
Если бы деревенские не видели, как у Рамины вскоре после бегства бульбаши вырос живот, и если бы Непер не рассказывал, как он прибежал на крик и застал ее роды, то Сарело наверняка считали бы найденышем или приемышем. Одним из тех детей, которых цыгане якобы где-то крадут.
— Ты что, слабак, не можешь сам мешок донести? — спросил он.
— Не называй меня так, а то буду звать тебя цыганом.
Он пожал плечами и, не обращая на меня внимания, с легкостью перепрыгнул яму обратно. Я следовал за ним, слегка отстав.
— Твоя мать дома? — спросил я.
— Она всегда дома, ты же знаешь. Если она когда-нибудь окажется не дома, то весь мир рухнет.
Перед домом он вытащил курицу и посадил ее в клетку к одиннадцати остальным. В последние месяцы он явно не отдавал кур матери, а собирал их, чтобы устроить решающую проверку своим ножам. Я привычно нырнул в сумрак одной из двух комнат дома. В углу было устроено нечто вроде кухни, закуток с печкой, множеством кастрюль, мисок и тарелок.
Печку часто использовали и для отопления, а поскольку ни вентиляции, ни печной трубы не было, весь дым оставался в комнате и смешивался с чадом от Рамининой стряпни. К этому чаду добавлялся запах мыла, которое она варила явно в соседней комнате, и получался очень пикантный букет из ароматов лука, дерева, пота и жира. Я не чувствовал в этой смеси ничего неприятного и предпочитал его запаху нашего дома.
Моим глазам потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к темноте и мгле. Я ожидал увидеть Рамину на диване возле окна — она всегда встречала меня, сидя на нем, как будто не вставала с места всю неделю между моими посещениями. Однако же от визита к визиту она так заметно толстела, что теперь ее бесформенное, расплывшееся тело занимало почти всю ширину дивана, и я едва мог умоститься рядом с ней в уголке.
Однако Рамина оказалась не на диване, а рядом с ним — оттуда доносились странные звуки, как будто она что-то складывала стопкой и передвигала с места на место. Сарело поставил мешок у печи и вышел на улицу. Снаружи слышалось равномерное, упорное ширканье железа. Я знал, что Сарело сел на корточки, прислонившись к стене дома, и точит ножи, новые или те, что собрал у клиентов. Время от времени он останавливался и проводил по лезвию большим пальцем. Он был таким умельцем, что работы всегда хватало.
Дверь во вторую комнату, которую Рамина всегда держала на замке, на этот раз была широко распахнута. Поддавшись любопытству, я подошел ближе и хотел ступить на порог, чтобы хоть одним глазком заглянуть внутрь, но грузное тело цыганки преградило мне путь. То самое тело, которое часто казалось мне мягкой подушкой, к которому я мог прижаться и затеряться в его многочисленных складках, теперь довольно грубо заставило меня отступить.
Прижавшись к жировым складкам Рамины, я дышал с ней в одном ритме, ее теплый живот поднимался и опускался, а вместе с ним и моя голова. При этом меня нередко охватывали бесконечная нежность и покой, и я засыпал. Мать рассказывала, что, родив Сарело, Рамина начала пухнуть, как на дрожжах. После того как тело ее опорожнилось, она стала заполнять его едой в огромных количествах.
Она набивала себе живот столь неуемно, что через несколько лет уже едва могла протиснуться в дверь. Тогда она решила вообще больше не выходить из дома, кроме тех случаев, когда нужно было выхаживать меня. В деревне же ее с тех пор никто не видел. Мать даже предполагала, что Рамина съедала тот жир, что получала от нас, ведь никто никогда не видел, чтобы она продавала мыло.
Рамина заперла дверь и положила ключ в карман.
— Ты сегодня поздно, Якоб, я уже думала, что ты вообще не придешь.
— Что ты там прячешь за дверью? — спросил я.
И сразу получил оплеуху. Я лишь успел увидеть, как колыхнулась мясистая рука и тут же опустилась, а щека у меня запылала. Я понял, что задал единственный вопрос, который мне нельзя было задавать. На который я не имел права.
Я был готов получить еще, но она молча отошла к печи, ткнула носком мешок, словно желая убедиться, что тот не пустой, и направилась к дивану, на который опустилась с таким кряхтеньем и стоном, будто это стоило ей каких-то нечеловеческих усилий. Растянутые старые чулки топорщились на толстых икрах, похожих на свиные окорока, что висели у нас в коптильне.
Казалось, Рамина забыла обо мне, и я уже собирался уйти, но она протянула руку, попросила открыть окно и сесть рядышком.
Все было как всегда. Мы сидели, сильно откинувшись назад, словно так можно было увидеть нечто большее, чем просто кусочек неба. Рамина так глубоко утопала в диване, с годами продавившемся под ее тяжестью, что напоминала мне корабль, севший на мель. Дышала она шумно, будто воздух, проникавший в нее, лишь с большим трудом пробивал себе дорогу в ее легкие.
Рамина ухватила меня за запястье, подтянула поближе к себе и положила руку мне на плечи, словно зажав в клещи. Я представил, что мне придется все теснее прижиматься к ней, пока ее обширное тело не обернет меня со всех сторон. Оно поглотит меня целиком, и след мой затеряется навеки. Но в тот раз до такого не дошло.
— Что это ты больше ничего не спрашиваешь? — поинтересовалась Рамина.
— Ты не можешь проклясть учителя и трех его мальчишек? Они хотели, чтобы я ударил сербскую девочку. — Она промолчала. — И чтобы я тебе больше ничего не носил.
Рамина внимательно посмотрела на меня и ответила:
— Это скверно, Якоб. Очень скверно. Я надеюсь, ты их не послушаешь? — Она ненадолго задумалась. — Посмотрим, что можно сделать. — Убрав прядь волос у меня со лба, Рамина потребовала: — А ну-ка, теперь задай интеллигентный вопрос.
Неграмотная Рамина давным-давно услыхала где-то слово «интеллигентный» и с тех пор употребляла его как вступительное слово для наших посиделок. Я знал, чего она ждет от меня и что есть только один способ освободиться от ее хватки.
— А как я родился на самом деле?
И довольная Рамина отпустила меня с громким «Ах».
— Отчего же ты сразу не спросил об этом, мой мальчик? Подойди к окну и скажи мне, что ты видишь?
Я исполнил ее желание.
— Совсем ничего не вижу.
— Люди всегда что-нибудь видят, — возразила она.
— Поле, много ворон, больше ничего. — Я прикидывался дурачком, потому что она любила такую игру.
— Может, там чего-то не хватает? — намекнула цыганка.
Я подождал, пока она повторит вопрос.
— Может, человека не хватает? — предположил я.
— Кое-чего важнее человека, душа моя.
— Важнее человека? Может, дождя?
— Почти такого же важного, как дождь.
— Что бы это могло быть? — спросил я, будто не зная ответа.
— Не хватает ветра. Ни ветерка, уже несколько дней. Ветер набирается сил, готовится к осенним бурям. Тогда он опустошит все, чего коснется.
— В таком ветре тоже прячется дьявол? — спросил я, хотя давно знал ответ.
— В любом ветре может скрываться дьявол, не только в осенней буре. Дьяволов надо опасаться в любое время года. Но ветры приносят и пользу. Без них души умерших вообще не могли бы подняться в небо. Когда Бог решил посеять людей по всей земле, ему помогал ветер, иначе люди росли бы только тут, у нас.
— А ветер уже был до Бога?
— До Бога ничего не было, душа моя. Но каждый раз, сотворив что-то новое, тебя, меня, цыган, швабов…
— И бульбашу? — перебил я.
— И его, грешника. Так вот, с каждым разом Бог немножечко уставал, и сил у него убавлялось. Только этим я могу объяснить, что в наше время он стал таким слабым.
— И как ветер связан с моим рождением?
— Имей терпение, Якоб. Нельзя забегать вперед рассказа, ему нужно время. Конечно, ветер связан с твоим рождением, ведь есть не только старые осенние ветры, но и молодые ветры весны. Говорят, иногда они капризны и необузданны, порою даже жестоки. Беременные женщины боятся их, ибо молодые ветры могут выкрасть плод из их чрева. И тогда они остаются с пустыми животами, словно ребенка там и не бывало. Но иногда — надо сказать, очень редко — женщина может и забеременеть от ветра. Мужские семена витают вокруг, голые и слепые, пока ветер не направит их куда следует.
— Ты о семени моего отца?
— Да при чем тут твой отец? Такой злой человек не может быть твоим отцом, Якоб. У тебя с ним ничего общего. Уж в этом ты мне поверь. Это было семя другого мужчины, гораздо лучше твоего отца. Ветер принес его семя к твоей спящей матери. Оно могло прилететь хоть из Китая.
— Но я же совсем не похож на китайца.
Рамина пожала плечами, как будто я задал отнюдь не интеллигентный вопрос.
— Откуда ты все это знаешь? — опять спросил я.
— Мы, цыгане, знаем такие вещи, что сокрыты от остальных. И мы никогда не записываем наши истории, чтобы крепче держать их в памяти. — На этом месте Рамина всегда замолкала, закрывала глаза и вздыхала так громко, точно это был последний вздох. Я смотрел на ее распухшие ступни, по которым ползали мошки. Мухи садились на ее спокойное лицо, бегали по губам и щекам, но она их не отгоняла. Она сидела, словно уставший от напряжения великан.
Но каждый раз, когда я думал, что она уснула, и уже предвкушал свой уход, даже вставал с дивана, раздавались ее слова: «Ты так и не задал второй вопрос».
Я снова плюхался на диван.
— Но даже если все так и есть, как это меняет то, что я родился на навозной куче?
Тогда она выпрямлялась и смотрела на меня с негодованием.
— Якоб, никогда не смей сомневаться в том, как ты появился на свет. Я с радостью расскажу тебе эту историю, если через неделю ты вовремя принесешь мне продукты.
Эта уловка должна была ободрить меня и заставить прийти снова. Ведь в этом хлипком домишке, где тишину нарушали только молоток и точило ее сына, течение времени можно было отмерять лишь моими посещениями.
Рамина украшала свои рассказы — а для меня они были не просто рассказами, а чистой правдой — каждый раз на новый лад. Она понимала, чем обязана мне, своему единственному слушателю. А слушал я с готовностью и удовольствием, да и кто бы не поверил ей охотнее, чем другой, вонючей байке? И по сей день, проверяя, не пахну ли я своим рождением, я шепчу себе: «Все же Рамина была права».
И тогда я вижу, как мы сидим рядком на продавленном диване. Ее плоть простирается во все стороны, по ней ползают мухи, поддавшиеся магическому притяжению эдакого колосса. Вокруг полно мошек. В такие мгновения я ничего не могу с собой поделать и чувствую, что она мне роднее отца и матери. На мгновение вымышленная версия затмевает первую, более вероятную.
Однако первую версию можно было считать столь же невероятной, как и версию Рамины. Это ощущение лишь усиливалось, поскольку мать упорно отказывалась подтвердить что-нибудь одно и опровергнуть другое. Столкнувшись с двумя одинаково невероятными версиями рождения, я решил считать настоящей ту, что слышал из уст Рамины.
* * *
Второе мое рождение — за которое ручалась Рамина — произошло в нашем темешварском доме. Мать удалилась туда, чтобы в последние месяцы беременности пожить с удобствами и укрыться от вспыльчивого характера отца. В другой вариации, напротив, она хотела быть поближе к нему, пока он следил в порту Темешвара за отправкой нашей скотины и зерна в Австрию.
Из рассказов Рамины оставалось неясно, отчего у матери случились преждевременные роды, хотя в том, что я недоносок, не сомневалась даже рассказчица. То мать упала с лестницы, спускаясь в подвал за салом. То у нее вдруг начались схватки на улице, когда она искала отца, — говорили, что он стал ходить налево. А Темешвар был полон соблазнов для такого мужчины, это она хорошо понимала.
Там были директорские жены, которые после обеда откушивали кофий в кафе «Вена» и маялись от скуки остаток дня. Приятно пахнущие артистки, только что вернувшиеся из Парижа и возбужденно расписывающие прелести большого города и недостатки провинции. Да еще пруд пруди всяких гувернанток и простых нянек — чаще всего это были сильные, пышущие здоровьем крестьянские дочки, что работали в состоятельных семьях за небольшое жалованье и ночлег на кухне. Как раз в таких отец и знал толк, говорили злые языки.
Как бы то ни было, мать принесли домой и уложили на кровать, а когда уже хотели послать за доктором, она потребовала привести Рамину. Осталось неясным почему, ведь городские врачи вряд ли были такие же неумехи, как Непер. К приходу Рамины в гостиной уже собрались несколько гостей: соседи и деловые партнеры человека, выдававшего себя за моего отца и желавшего выпить с ними за рождение сына. Ведь он был уверен, что родится мальчик. Он острил: «Мальчишка торопится перенять мои дела». Или: «Такими темпами он станет богаче меня». Но я совсем не торопился, даже наоборот — откровенно медлил.
То и дело отец подходил к двери, за которой находились мать и Рамина, и прислушивался, но долго, а по нему — так слишком долго, — за дверью было тихо. Последний трамвай уже давно ушел, и некоторые гости несколько разочарованно засобирались идти домой пешком. Они надели пальто и шляпы, но отец заставил их раздеться и затолкал обратно в гостиную.
Его недовольство и мрачность усиливались, он беспокойно расхаживал по комнате, пока одни гости переминались с ноги на ногу, а другие решили сесть. В это время я унижал его тем, что не подстраивался под него. Он постоянно подливал гостям шнапсу, и вскоре все заметно повеселели. Мужчины ослабили галстуки, а женщины расстегнули верхние пуговицы блузок.
— Это может занять еще много часов, — заметил начальник порта, округлый и постоянно потеющий человек.
— Мальчик скоро появится, на Обертина можно положиться, — возразил отец. Он снова подошел к двери и открыл ее. — Ну что, долго еще? — спросил он.
— Вы узнаете первым. А теперь вон! — прикрикнула Рамина.
Глубоко за полночь, когда некоторые гости уже спали, уронив головы на стол, отцу пришлось уступить и отпустить всех восвояси.
Я не появился на свет ни в тот день, ни на следующий. Иногда Рамина говорила, что мне понадобилось несколько недель, но даже я верил не всему. На второй день гостей собралось тоже немало, и все они хорошенько угостились, но потом число их постепенно сократилось. Только священник из церкви Миллениум заглядывал по нескольку раз в день. Отец велел известить его, чтобы тот успел окрестить меня, если я не проживу и нескольких часов.
Отец стал мрачнее тучи, метался по дому с красным лицом, дед даже рассказывал, будто слышал его слова: «Этот мальчишка из меня дурака делает!» Наконец после множества ложных тревог Рамина вдруг распахнула дверь гостиной, где отец, дед, священник и пара-тройка гостей резались в карты, и крикнула:
— Готово!
— Меня на мякине не проведешь, — проворчал отец и не тронулся с места.
Но дед все-таки рискнул заглянуть в спальню.
— Мальчик родился! — воскликнул и он.
— Отчего же тогда не слышно его крика? Ведь новорожденные кричат, не так ли? — спросил священник.
— Надеюсь, он не мертвый, — сказал отец, отложил карты и неторопливо поднялся. — Ну что ж, давайте посмотрим на это диво.
Отец с дедом вошли в спальню, а остальные столпились у порога. Один из гостей встал на цыпочки, другой заглядывал через плечо впереди стоящего. Предположение, что я, возможно, мертв и они могут стать свидетелями драмы, разожгло их любопытство. Но я одурачил всех. И не только тем, что оказался жив и выжил потом — вскоре я огорошил их так, что они запомнили это на годы. Отец остановился за спиной Рамины, та стояла, склонясь над матерью, и держала меня на руках так, что ему было меня не видно.
— Пуповина ему горло перетянула, — сказала Рамина.
— Он мертв? — спросил отец.
— Нет, с ним все в порядке. Две ручки, две ножки, и между ними тоже все, что надо. Только силенок ему нужно набраться.
— А рот у него есть? — спросил отец.
— Есть, конечно, — подала голос мать.
— Тогда я хочу, наконец, услышать, на что этот рот способен. Рамина, ну-ка шлепни его!
— Да шлепала уже, сударь мой, только не хочет он плакать.
— Что ж он тогда делает? Да повернись ты наконец.
Рамина повиновалась и подняла меня так, чтобы всем было видно.
— Он улыбается, сударь. Он все время улыбается мне.
Я огляделся и впервые увидел человека, который не был моим отцом, потом деда и всех остальных, с любопытством обступивших меня. Сзади раздался голос матери, лежавшей на подушках и одеялах, она просила, чтобы ей дали сына. То, что случилось дальше, по словам Рамины, повергло людей в такое волнение, что об этом пошла молва, писали темешварские газеты, а врачи перепечатывали в медицинских журналах.
Я засмеялся, да так громко, что все отпрянули на несколько шагов. У женщин заколыхались юбки, в гостиной полопались стаканы, по всему кварталу останавливались пешеходы, а все собаки вдруг разом залаяли, будто почуяв беду. Я смеялся над своей жизнью, как потом объяснила мне Рамина. Священник побледнел, словно увидел черта, перекрестился и поспешил откланяться.
Для дальнейших событий у Рамины имелось сразу несколько вариантов. Чаще всего она рассказывала тот, в котором отец схватил меня и стал трясти, но я не унимался. «Ты не смеешь издеваться надо мной, слышишь?! Никто не смеет издеваться надо мной!» — якобы орал он. Потом он будто бы схватил пальто, сел в машину и поехал в сторону Трибсветтера. «Ты был сильнее его, Якоб. Помни об этом», — каждый раз повторяла Рамина.
Лишь с большим трудом Рамине и деду удалось удержать мать, которая хотела сесть в коляску и поехать за отцом, чтобы умилостивить его. Именно этим она и занималась все последующие годы. Она делала это так же истово, как и молилась. Ведь, как известно, первое, что она сделала, приехав в Трибсветтер через несколько дней, — это распростерлась перед распятием, висевшим в спальне испокон веку. Перед тем самым, которое она взяла в бомбоубежище во время боев за город, ибо, когда мать отправлялась в путь, распятие всегда ехало с ней.
Она лежала, распластавшись на полу и прижимаясь ухом к доскам, словно ответ, которого она ждала, должен был последовать из недр земли, а не свыше. Иногда она шептала: «Отец Небесный, сделай так, чтобы мой муж полюбил меня и принял своего сына». После молитвы она брала распятие в руки и целовала его.
Рамина положила меня в колыбель, сработанную отцом Катицы, плотником, и подвешенную к потолку посреди комнаты. Она запеленала меня с головы до ног (в скором времени ей предстояло сделать это и со своим собственным сыном). Поверх пеленок она обвязала меня бечевкой, так что я не мог пошевелиться. Я стал похож на новорожденную мумию и большую часть времени был занят тем, что рассматривал потолок и прислушивался к тихому всхлипыванью матери.
В тот день, когда с запозданием началась война, и перед тем как я покинул жилище Рамины, она несколько раз так сильно прижала меня к своей колыхающейся груди, что я едва не задохнулся. «Я жду тебя на следующей неделе, Якоб!» — крикнула она мне вслед.
Перед домом скакала почти дюжина обезглавленных кур. Их головы лежали кучкой у босых ног Сарело, кровь впитывалась в землю, прямо как моя моча. Сарело высоко поднял последнюю курицу, крепко держа ее за голову. Птица беспомощно болталась, и ее тонкое тело маятником отмеряло последние мгновения жизни. Молниеносным, отработанным ударом Сарело обезглавил ее. Нож оставил на курином горле ровный срез, и тело ее упало на землю, заметавшись в посмертных судорогах. Двенадцать белых безголовых птиц бегали по двору Рамины, словно пытаясь в последний раз воспротивиться смерти. Затем все они попадали одна за другой.
— Мои ножи так хороши, что разрежут даже ветер, — тихо сказал Сарело.
Когда я пошел прочь, он, все еще занимаясь ножами, крикнул мне вслед:
— Не верь ни единому слову моей матери! Ты родился всего лишь на навозной куче!
Когда я добрался до границы деревни, уже наступил вечер и звонили колокола. Война началась и для нас.
* * *
Своим именем я обязан дедушке. Он всегда утверждал, что это была ошибка француза Туттенуйя — сельского писаря, записавшего мое имя с буквой «с», а не «k». Но рассказывали и другую историю.
Якобы вскоре после моего рождения в деревню приехал в коляске какой-то человек и остановился прямо у нашего двора. Он громко постучал в ворота, и дед открыл ему. Отец уехал с новым управляющим-румыном, хотел осмотреть земельный участок, на котором собирался построить мельницу. Он тогда уже успел скупить у крестьян из соседних сел — поскольку трибсветтерцы ему ничего не продавали — столько земли, как будто боялся, что она скоро кончится и ему не хватит.
Дед выслушал приезжего, и то, что он услышал, так взволновало его, что он пригласил гостя в дом и позвал мать. Они налили незнакомцу стакан вина, и тот начал рассказывать.
В газете он прочитал о том, что Американка наконец нашла себе жениха, вышла замуж и родила ребенка. Крупный заголовок гласил: «Нарру end»[17]. В статье упоминалось имя и происхождение моего отца, да так подробно, что этот человек тут же решил ехать к нам.
Незнакомец утверждал, что на самом деле это он — настоящий Якоб, а мой отец украл у него имя и еще кое-что. У него работал конюхом некий Франц. С самого начала с ним приходилось нелегко: Франц не терпел замечаний, даже угрожал хозяину, а если не угрожал, то умел так себя поставить, что его боялись. Он был очень способным и иногда даже приятным человеком, но в любую секунду мог перемениться.
Однажды они разругались в пух и прах из-за того, что Францу казалось, будто ему мало платят. Но дела хозяина приносили так мало дохода, что он едва ли мог платить больше. Проснувшись на следующее утро, он увидел, что конюх стоит у его кровати и злобно смотрит на него. Он так испугался, что немедленно уволил парня.
Поначалу казалось, будто Францу это было все равно. Тот даже сказал, что это его вполне устраивает, потому что скоро он женится на богатой невесте. Насколько знал гость, Франц устроился на работу в лавке тканей у одного еврея. Но потом, примерно через месяц, хозяин проснулся ночью и увидел, что его хлев горит. Почти ничего не удалось спасти. Франца с тех пор и след простыл, и вот, несколько дней назад, он прочел о нем в газете.
— Но так может любой заявиться, — не поверила мать. — Откуда нам знать, что вы не мошенник? Может быть, вы просто хотите денег?
— Вот именно. Якоб прочитал газету и решил жениться. А вы прочитали газету и решили разжиться деньгами, — поддержал дед. Он уже встал и собрался вывести настоящего или ложного Якоба, но тот возразил:
— Но, господа! Что вы такое говорите? Я оказался пострадавшим. Он спалил мою скотину и украл отцовские золотые часы.
Мать пробормотала:
— Золотые часы?
— Да-да. Наследство.
Мать пошла в спальню и принесла часы, которые муж подарил ей в день свадьбы.
— Это они?
Незнакомец кивнул.
И тут в прихожую зашел отец, он снял сапоги и крикнул:
— Роскошная будет мельница, все по последнему слову техники. Теперь у нас будет монополия на всю округу. А чья это коляска на улице?
Он вошел в комнату и застыл в дверях. Мать, до этого смотревшая на свои руки, поглядела на него.
— У нас гость. Он утверждает, что его зовут Якоб и что вы — совсем не вы.
Только теперь мужчина встал и повернулся, так что отец увидел его лицо. Руки отца сжались в кулаки и снова расслабились. Он глядел то на чужака, то на часы, лежавшие на столе.
— Значит, ты меня нашел. Чего ты хочешь? Денег?
— Я хочу лишь предостеречь этих людей от тебя.
Отец шагнул вперед, но остановился. Его сильные руки вцепились в спинку стула, словно желая раздавить дерево.
— Что он вам рассказал?
— Что тебя зовут не Якоб, а Франц и что ты поджег его хлев. Что ты не обнищавший крестьянский сын, а конюх. И еще ты украл у него часы, — заявил дед.
— А он рассказал, что месяцами не платил мне и что даже в морозы мне приходилось спать в хлеву?
Отец держался все уверенней и наконец так разошелся, что взял часы и поднес их к лицу незнакомца.
— Ты их хочешь? Так вот — ты их не получишь. Я взял их в счет жалованья. К тому же они теперь принадлежат моей жене, это свадебный подарок.
Он схватил приезжего за руку и притянул к себе.
— Послушай-ка меня. Все, что ты видишь здесь, — мое. Только что я подписал договор о покупке участка земли вдвое больше того, чем владеешь ты. Теперь у меня есть все, что мне нужно: скотина, поля и крепкое хозяйство. И если ты думаешь, что можешь вот так просто заявиться и встать между мной и моей собственностью, то ты сильно ошибаешься. Если ты посмеешь еще кому-нибудь болтать это вранье, я вернусь в Бокшан и найду тебя. А теперь — пшел вон! Это мой дом и моя семья. А у тебя нет ни того, ни другого. Братишка.
Но мужчина не уходил, переминаясь с ноги на ногу, тогда отец схватил его за воротник.
— Хлев, — тихо сказал незнакомец.
— Значит, ты хочешь денег. Ладно, будут тебе деньги. — Он повернулся к матери. — Принесите денег из шкатулки. Не жалейте! — приказал он.
Мать попыталась что-то возразить, но отец поставил ее на место:
— Вы не слышали, что я сказал? — Он говорил негромко, деду даже приходилось напрягать слух, чтобы расслышать его. Но слова отца звучали так, что никто не осмелился ему перечить.
Он взял пачку банкнот из рук матери и сунул ее чужаку в карман пальто.
— Это более чем царская награда за твой жалкий хлев и пару тощих животин.
Отец схватил незваного гостя за локоть и потащил за собой до самой улицы, затолкал его в коляску, хлестнул лошадей плетью и, лишь когда коляска свернула на Главную улицу, вернулся в дом.
— Ну вот, с этим разобрались, — сказал он, снова в хорошем настроении. — Что у нас на обед? — И довольно потер руки.
— Кто вы на самом деле? — спросила его мать.
Он опять нахмурился.
— Разве я вас спрашивал, кто вы? Как вы разбогатели в Америке? Все вокруг говорят, что вы эти деньги зарабатывали, лежа на спине.
— Однако вы не брезгуете моими деньгами. Раздаете их направо и налево.
— Не ради себя, а ради Обертинов. Всем известно, что я женился на шлюхе. Разве я вам что-нибудь говорю из-за этого? Я не задаю вопросов, потому что я знал, на что иду. Вы тоже знали. Если вы берете мужика с улицы, пускаете его в свою постель и выходите за него замуж, то все знаете. Ну конечно, вам же было куда приятнее, что я хоть и босяк, но сын бедного крестьянина, а не конюх без роду и племени. Ваше желание завести семью и наследников оказалось сильнее рассудка. Вот и прекрасно, для меня. Я просто хочу жить хорошо. И сделаю для этого все. Можете не сомневаться.
— Я хочу, чтобы ты покинул мой дом. Бери, что хочешь, и уходи, — сказал дед.
— Твой дом, дедуля? Он уже давно принадлежит мне. Знаешь, что скажут люди, если я уйду? Что твоя дочь не смогла удержать мужика. Баба с дитем и без мужа. Такое бывает только со шлюхами. Да с вами здороваться перестанут. А что будет с хозяйством? Через несколько лет ты помрешь, и все развалится. Я знаю, ты меня с самого начала невзлюбил, хоть я и старался. Я достал тебе новых лошадей и отстроил двор после пожара. Но я был не ровня Обертинам. Я не основал деревню и не был судьей, как ваш Фредерик. Не повезло тебе, старик, но с этим придется смириться.
Дед выбежал из комнаты и вернулся с короткой плеткой. Он замахнулся, но отец схватил его за запястье и опустил руку.
— Теперь и я считаю, что мы больше не сможем жить под одной крышей. Только не я уйду, а ты. С сегодняшнего дня будешь спать в людской, дедуля. Но есть можешь здесь, с нами, как раньше.
Дед растерянно посмотрел на дочь. Отец тоже обернулся к ней, не отпуская руку деда.
— Вы согласны с этим, Эльза? Если нет, то я уйду, а вы можете оставаться со своим ублюдком. Вас поднимут на смех. Скажут, что я сбежал, потому что вы блудили. Вы не посмеете даже пройти через село. Все будут шарахаться от вас пуще прежнего. Вы этого хотите? — настойчиво спросил отец.
Мать опустила глаза.
— Хотите вы этого? — прикрикнул он.
Она вздрогнула.
— Нет, — тихо ответила мать.
— Громче, чтобы дед тоже услышал.
На этот раз она посмотрела деду прямо в глаза и, повторяя ответ громко и четко, пожала плечами, подняв брови, шагнула к нему и развела руки, словно хотела обнять деда или опереться на него.
— Значит, с этим разобрались, — удовлетворенно сказал отец. — Давайте есть.
Но дед отомстил отцу единственным способом, который у него оставался. Мать решила, что меня, по традиции, тоже нужно назвать Якобом. Она настояла на этом, так как старшего сына всегда называли именем отца. Довод о том, что отец этого совсем не хочет, на нее не действовал. В ней полыхнула прежняя сила — у Обертинов должно быть так же, как у всех остальных. Первенец наследовал имя и землю.
Когда дед пришел для регистрации к французу Туттенуйю, тот записал имя в формуляр на французский манер — через букву «с». Заметив свою ошибку, он спросил деда, надо ли исправить «с» на «k». Дед немного подумал и сказал: «Конечно, нет. Пусть нашего мальчика зовут Якоб, но пишут с буквой „с“». Писарь положил формуляр в конверт, запечатал и вскоре передал почтальону, который отвез его в администрацию Темешвара. Дед, улыбаясь, вернулся домой, а точнее — к тому, что осталось от дома. Это была его сладкая, бессильная месть отцу.
* * *
Вот уже больше часа я сидел в своем надежном укрытии под мраморной плитой склепа Дамасов. Каждый раз, когда я чуть сдвигал плиту и прислушивался, надеясь, что опасность миновала, что-нибудь развеивало мою надежду. Я слышал выстрелы, рев моторов, крики людей и возгласы на русском. И ожидание начиналось с начала.
Я поплотнее запахнул куртку, а дедову шапку натянул поглубже. Окоченевшими пальцами я зажег последнюю свечку, тепла от нее почти не было. Все, что мне передала мать, я уже съел.
Вокруг меня лежали мертвецы. Чтобы отвлечься, я старался думать об их судьбах. Здесь были старые покойники, умершие еще во времена Фредерика Обертина — от холеры, голода и наводнений. Немцы и французы из Лотарингии, эльзасцы, люксембуржцы, переселенцы из Пфальца и Бадена, потом появились румыны и венгры. Не в силах справиться со своенравной природой и лишенные всякой поддержки темешварских властей, они погибали дюжинами.
Были покойники и среднего возраста, которым просто не повезло. Например, жена Штоффля угодила под колеса телеги в 1890 году. Надо же было так умудриться в те времена, когда по Главной улице проезжало всего несколько повозок в час. Были и проезжие люди, которые умерли здесь.
Когда-то границу деревни пересек силач Фишер, рассказывал дед. Весь его багаж состоял из нескольких железных цепей в кулак толщиной, он вез их за собой в маленькой тележке. Пока Фишер шел через село, на улицу выбегали крестьяне поглазеть на него, ведь он был голый. Некоторые говорили, что на нем вообще не было одежды, но скорее всего он разделся только по пояс. Что было лучшей рекламой для его представления.
Перед трактиром Зеппля — они всегда носили фамилию Зеппль, наши трактирщики, все они были первенцами — Фишер остановился. Он вынул из карманов горсть монет и швырнул их внутрь. Сначала все было тихо, потом он услышал, как пьянчуги спорят из-за денег. Один за другим они вышли на улицу, чтобы поглядеть на источник своего счастья. Фишер пообещал дать им еще, если они пройдут по домам и объявят, что он, силач Фишер, завтра покажет всей деревне, на что способен человек. И чтобы крестьяне прихватили с собой по нескольку монет, он демонстрирует свое искусство не задаром.
Затем он стал искать кого-нибудь, кто одолжит ему шесть лошадей, и наткнулся на деда, которому тогда было всего двадцать лет. На следующий день, когда силач встретился с дедом, собралось уже много народу. Были и люди из соседних сел — весть о том, что в Трибсветтере будет на что посмотреть, быстро облетела всю округу.
Зрители пришли пешком, приехали на телегах и верхами и встали широким кругом на окраине деревни. Когда Фишер и дед появились и начали прикреплять цепи к лошадям — по одной к каждой, — люди вытянули шеи, стараясь ничего не упустить. Когда Фишер заговорил, все затихли.
«Я — силач Фишер. Раньше я работал в цирке, а теперь выступаю сам по себе. Я обладаю сверхчеловеческой силой, которой меня одарил Господь. Я могу тянуть паровозы и поднимать телеги с десятью жерновами. Сегодня я удержу этих лошадей только силой своих мускулов. Но и силачам нужно чем-то питаться. Поэтому, если вы будете так добры и бросите несколько монет в этот горшок, я буду вам чрезвычайно благодарен».
Он поставил горшок в траву, и зрители стали подходить и бросать туда монеты. Самую длинную цепь Фишер обмотал вокруг шеи, а на руки намотал по три коротких. «Если моей силы не хватит, то они сломают мне шею», — объявил он. Именно это лошади и сделали.
По нему тоже звонил большой колокол. Во время похорон предшественник священника Шульца так сильно дергал колокольную веревку, что его поднимало в воздух. Раздавался красивый, чистый звук: в бронзовом литье не было ни трещинки, ни щербинки. Тому священнику нравилось парить на волнах звона, заполнявшего пространство. Еще много лет он пугал людей, звоня в колокол, просто чтобы послушать его.
С привычной сноровкой я мысленно пробегал по списку наших покойников, как лучший их знаток. Каждый раз, когда дома отец хватался за ремень, они терпеливо принимали меня. Теперь им пришлось проявить все свое терпение, ведь русские нарушили покой не только живых, но и мертвых.
Я думал и о новых покойниках, о тех, кто умер уже после моего рождения. Как, например, Эрнст Ренар, первый отцовский управляющий: он заболел бешенством и долго мучился, лекарства Непера ему никак не помогли. Или директор паровой мельницы Людвиг: отец отстранил его от дел, и тот застрелился 1 февраля 1934-го.
Но дольше всего я задержался на одном имени — Катица. Последняя, самая свежая покойница на нашем кладбище. Когда же я снова увидел ее после той постыдной, первой встречи в поле?
Вскоре после начала войны всех мужчин созвали на собрание. Барабанщик медленно шагал по деревне, останавливался через каждые сто метров и вещал: «Слушайте, слушайте, крестьяне! Началась война. У нас пока мало что происходит, но все может быстро измениться. Бургомистр назначил на завтра, после полевых работ, общее собрание мужчин-швабов. Явка обязательна. Освобождаются только больные и те, у кого должна родить скотина».
На следующий день отец и дед нарядились в праздничную одежду, поскольку и подумать нельзя было явиться в будничном. Мать начистила им сапоги, постирала и накрахмалила рубашки. Она обобрала катышки с их сюртуков и запрягла в коляску лучшего коня. Когда они уехали, она провела рукой по моим волосам и сказала:
— Ты подумал о Рамине? Скорей собирайся к ней, она наверняка уже ждет тебя. И не забудь курицу.
— Мам, а почему мы вообще кормим Рамину?
— А ты не хочешь, чтобы кормили? — ответила она вопросом.
— Наоборот! Пусть так и будет всегда. Я хочу каждую пятницу относить Рамине курицу, пока не состарюсь.
Мать пошла на кухню собирать мешок, и я последовал за ней.
— Чего тебе еще?
— Как я родился на самом деле?
Она не ответила, поставила мешок у двери и стала жарить овощи. На некоторое время она вроде забыла обо мне, а потом подняла голову и спросила:
— Да что с тобой сегодня? — И снова занялась овощами.
— А отец и правда мой отец?
Она не подняла глаза, не перестала готовить, а лишь стала делать это еще усерднее. Больше она ничем не показала, что я застал ее врасплох своим вопросом. Тем же голосом, — быть может, чуточку сдавленным, — она ответила:
— Он твой отец так же точно, как то, что он мой муж.
— Это можно как-то изменить?
Ответом мне было молчание.
Возле общинного дома улица была забита колясками, телегами и лошадьми, я сбросил ношу и сел передохнуть под окном. Курица пыталась вырваться, как и все ее предшественницы, но я положил ногу на мешок, и он шевелился, будто в нем бесился злой дух. Мне хорошо был слышен гомон внутри общинного дома, и я даже узнавал отдельные голоса. Голос Матерни, торговца лошадьми, бородатого хитрого дядьки, после нас он был самым богатым в деревне. Голос Зеппля, трактирщика в седьмом поколении, и звали его так же, как шестерых до него. Голос француза Диманша, нашего бургомистра, его предки приехали из Меца. Само собой, голоса отца и деда.
Бургомистру пришлось несколько раз призвать всех к порядку, прежде чем гул стих, скрипнули по полу последние стулья и воцарилась напряженная тишина. Затем он откашлялся и начал свою речь:
— Братья, как вам известно, разразилась война. Польша так долго провоцировала Германию, что ей не оставалось ничего иного, кроме как защищаться. Что это означает для нас, я пока не знаю. Мы живем здесь уже сто семьдесят лет, без нас эта земля не стала бы такой, какая она теперь. Здесь были топи и болота, когда наши предки пришли сюда, дикий, безлюдный край. Кучка румын, живших тут до нас, никогда не смогла бы сделать того, что сдюжили мы. За короткое время мы стали одной из богатейших провинций монархии. Этого добились не румыны и не венгры, а швабы. Если бы тут заправляли они, то здесь до сих пор паслись бы лишь несколько овец и росли бы одни колючки. В такой важный час мы все должны сплотиться и держаться нашей родины, наших корней. Я предлагаю основать Немецкий народный союз Трибсветтера, Женский союз, Союз немецких девушек и Союз молодежи. Союзу молодежи под руководством господина Кирша следует продолжить и ускорить военную подготовку молодых людей. Дабы они смогли как можно скорее вступить в войну за наше дело.
По залу пронесся гул одобрения, потом я услышал, как кто-то отодвинул стул и взял слово:
— С позволения сказать, а кто здесь вообще швабы? Самая малость. Мои предки, как и предки многих из вас, пришли из Лотарингии, некоторые из Эльзаса, из Люксембурга, из Баварии. Ведь нас прозвали швабами просто потому, что Фредерик Обертин и другие погрузились на плоты в Ульме и приплыли сюда. Мой отец всю жизнь говорил, что наш дом построен из бревен от одного из тех плотов. Но разве только из-за этого мы можем называться швабами? Я не знаю, за сто семьдесят лет наша кровь так перемешалась, что уже не разберешь, кто немец, а кто нет.
Снова послышался гул, на этот раз тревожный.
— Это неправда! — крикнул кто-то. — Мои первые предки были французами, но все остальные — немцы. Не важно, швабы они или нет, главное — немцы. Мне этого довольно.
Некоторые в зале поддержали его.
— А разве сам Фредерик Обертин был немец? — спросил другой голос.
— Конечно! — услышал я ответ деда. — Кем же ему еще быть?
— А как писали его имя? — поинтересовался кто-то.
— Звучит как Оберти́н с «Au» в начале и ударением на конце, а это по-французски. А Фредерик? С «k» на конце или только «с»?
Потом я услышал, как кто-то встал, прошел через зал, открыл шкаф, что-то вытащил и с глухим стуком положил на стол.
— Вот хроника нашего села, — послышался голос француза Диманша, затем зашелестела бумага. — Она начинается с мая тысяча семьсот семьдесят второго года. Имя Фредерика должно быть в самом начале. Вот оно, прямо на первой странице: «Прошел месяц с тех пор, как наш первый судья Фредерик Обертин, который привел нас в Банат, во время сильного дождя перед собравшимися почтенными персонами и инженерами из Темешвара и в присутствии Его Сиятельного Превосходительства Барона обратился ко всем нам, ожидающим на границе села, чтобы вступить во владение своими домами: „Добро пожаловать в Трибсветтер! Трудитесь усердно и размножайтесь, тогда у нас будет здесь будущее!“»
— Не обязательно читать нам всю книгу. Как написана его фамилия? — спросил дед.
— Обертин, на «О».
— Ну вот, — воодушевился дед. — А имя?
— Последняя буква «k», а не «с».
Бургомистр застучал кулаком по столу. Ему пришлось стучать изо всех сил, чтобы люди умолкли и послушали его.
— Братья, мы ведем дела с венграми, болгарами и румынами. Даже с евреями. До недавних пор цыгане латали нам кастрюли, и сейчас мы отдаем точить ножи этому цыганенку, Сарело. Здесь живет даже один серб, и некоторые из вас носят костюмы, сшитые его женой. Но все это никак не меняет того, что мы, хоть и были лотарингцами, эльзасцами, французами и немцами, все-таки стали швабами. Прошу проголосовать по поводу моих предложений. И чтобы в мае устроить праздник освящения знамен.
Тут вступил отец Шульц:
— Я всех вас знаю. Многих из вас я крестил, конфирмовал и венчал. Как и многих ваших детей, которым, возможно, вскоре предстоит отправиться на войну за наше дело. Поэтому мне сейчас нелегко сказать, что я как служитель Господа считаю эту войну необходимой. Нас возглавляет лучший полководец всех времен, поэтому и с Божьей помощью она скоро завершится нашей победой. Хайль Гитлер!
Задвигались стулья, и Гитлера стали восхвалять сначала отдельные голоса, а потом целый мужской хор.
Сквозь этот гвалт я отчетливо услышал голос отца:
— А вы хорошо подумали, что будет, если война придет к нам? Легко хотеть войны, когда она в Польше. Но кто будет заботиться о земле, если все наши сыновья уйдут? Я вас не понимаю, может, потому, что никогда не был одним из вас. Но я знаю, что для меня моя земля важнее вашей войны. Я крестьянин, а не солдат, так что мне на вашего лучшего полководца…
Дальше я не прислушивался, потому что на улице показалась Катица, босая, как и я, волосы заплетены в косички. Она поймала курицу, успевшую выскочить из мешка, и принесла ее мне. Не говоря ни слова, вытащила из сумки толстую нитку и привязала один конец к шее курицы, а другой — к моей ноге.
— Вот так, теперь курица никуда от тебя не денется, — сказала она по-румынски.
Я прижал указательный палец к губам, чтобы она замолчала, и пригнулся пониже.
— Мужчины говорят о войне, — прошептал я.
— Мой папа тоже все время говорит о ней. Говорит, что для сербов это плохо кончится, — ответила она.
— Ты Катица-сербка? — спросил я, будто и так не знал.
— Я относила платье заказчице домой. А ты Якоб? — спросила она.
— Якоб Обертин.
Курица мирно копошилась на другом конце нитки, я медленно согнул ногу и притянул птицу к себе. Отвязал нитку, взял курицу под мышку и выпрямился.
— Куда ты носишь этих кур?
— Рамине. Это ей за мои рождения.
Катица засмеялась:
— Сколько же их было у тебя?
— Два. Хочешь, пойдем со мной?
Сунув курицу в мешок, я закинул его на плечо, и мы вместе пошли к Цыганскому холму. На этот раз у меня получалось почти все: я сумел перепрыгнуть через яму и сам донес мешок до вершины холма. Правда, весь взмок и никак не мог отдышаться.
— Что с тобой? — спросила Катица.
— У меня слабая конституция.
— Что такое «конституция»?
— Так говорят темешварские врачи и Непер. Это значит, что ты болеешь больше, чем не болеешь.
Она пожала плечами, и мы вступили в темное, дымное царство Рамины.
* * *
Руки у господина Кирша были огромные, как медвежьи лапы. Рассказывали, что раньше он был боксером, причем очень неплохим, но астма перечеркнула его планы. При разговоре он начинал задыхаться через каждые несколько фраз и хватал ртом воздух. Казалось, будто слова застревают у него во рту, а потом вырываются через узкий проход по одному. Поэтому каждый его монолог о нашем превосходстве и превосходстве немецкой армии превращался в забег с препятствиями.
Конституция учителя Кирша всегда напоминала мне мою собственную. Мне едва исполнилось пять лет, когда мать обнаружила меня в постели задыхающимся. Отец привел Непера, но тот быстро признал свое поражение.
— Если мы не привезем врача из Темешвара, он умрет, — сказал дед.
— Пока врач приедет, он уже умрет, — заметил Непер.
Я полыхал, как в огне, жар все усиливался, они обложили мое хилое тельце холодными компрессами и смочили потрескавшиеся губы. Я кашлял, кричал от боли и дышал с большим трудом.
— Сходить за священником? — спросил дед.
— За Раминой и священником, — ответила мать.
Первым пришел священник Шульц. Он сел на край моей постели, взял в руки мою потную ладошку и стал молиться. Затем он приготовил все для соборования. Помазал елеем мои глаза, уши и нос, мой лоб и руки. «Через это святое помазание по благостному милосердию Своему да поможет тебе Господь благодатью Святого Духа и да спасет тебя и милостиво облегчит твои страдания».
— А исповедь? — спросила мать.
— Когда же этот мальчик мог успеть согрешить? — удивился священник.
— Если Бог призывает его к себе, то знает зачем, — сказал дед.
Но у Бога были на меня другие планы.
Рамина сумела протиснуться через дверь своего дома и спустилась с холма. Она опиралась на Сарело, который заранее перекрыл яму двумя досками. Под весом Рамины доски угрожающе прогнулись. Пока она шла через село, на нее глазели со всех сторон, ведь кое-кто думал, что она уже померла. Наконец, вспотев и пыхтя, словно бык, она остановилась перед нашей дверью. С помощью сына она даже смогла переступить порог.
— Господин священник, прежде чем Бог возьмется за дело, дайте-ка взглянуть Рамине, — сказала она по-румынски.
— Зачем вы привели цыганку? Порядочные христиане не имеют дела с суевериями, — упрекнул мать священник.
— Даже если мальчик выживет, он так и останется слабаком, — сказал отец.
— Он все-таки и ваш сын, — напомнила мать.
— Я в этом не так уж уверен, при вашем-то прежнем образе жизни. Такой хиляк не мог родиться от меня.
Рамина положила на стол три маленьких узелка. В первом был чеснок. Она разрезала зубчик пополам и положила одну половинку мне в рот, а другой натерла мое туловище, предварительно раздев меня. Во втором узелке были сушеные листья и корни растения, о чудесных свойствах которого я узнал гораздо позже. Она насыпала щепотку на тарелку, поставила ее мне на грудь и подожгла травку. Через минуту я был окутан зловонным дымом, он проникал мне в нос, рот и в глаза, и я начал сильно кашлять.
— Она же уморит его, — прошептал Непер.
— Если в мальчика вселился злой дух, то теперь он его оставит, — сказала Рамина.
Но на этом она не успокоилась. Из третьего узелка она достала еще каких-то трав, разложила их посреди комнаты и тоже подожгла. Попросив у матери веник, Рамина подмела всю комнату до последнего уголка, пока все кашляли и терли глаза. «Выметаю из этого дома злобу. Выметаю прочь зависть и жадность. Выметаю духа, что мучает Якоба». Затем она смела весь сор на газету и сожгла его во дворе. Пожалуй, излишне говорить, что я выздоровел. Но это было давным-давно.
Однажды учитель Кирш принес в класс Гитлера в рамке, вбил в стену гвоздь и повесил его. Он погладил портрет так нежно — трудно было поверить, что его огромные ладони на такое способны. «Вот, это Гитлер», — сказал он, придирчиво разглядывая свою работу, что-то ему не понравилось, и он несколько раз поправил рамку, пока та наконец не выровнялась.
— Кто тронет, будет иметь дело со мной. Понятно?
— Так точно, господин учитель, — ответили мы.
— Вы пока еще юнгфольк, «юное племя», но самое лучшее у вас впереди.
Он замолчал, и, поскольку мы знали, что теперь надо спросить, кто-то задал этот неизменный вопрос:
— Господин учитель, а когда вы в первый раз увидели немецких солдат?
— Это было в тридцать пятом, я боксировал в Берлине. Несколько эсэсовцев сидели в первом ряду. Знаете, что написано на бляхах ремней СС?
Хоть мы уже и знали, все равно ответили «нет».
— «Моя честь — верность», — написано на них. Запомните. А на бляхах вермахта: «С нами Бог». — Кирш закашлялся, широко распахнул окно и вдохнул глубоко и шумно. — Если бы не астма, я наверняка уже был бы в Польше. Или стал бы известным боксером. У меня для этого были все задатки. Я шел к чемпионству в своей весовой категории. А вместо этого оказался здесь и должен учить грамоте кучку деревенских болванов.
Учитель снова стал задыхаться и поспешил к окну. Он провел по носу пальцем, словно чтобы убедиться, что орган, так мучающий его и препятствующий его счастью, все еще на месте.
— А что лучшее у нас впереди, господин учитель? — спросил другой мальчик.
Кирш не торопился с ответом. Закрыл окно, подошел к занавеске, разделявшей класс, и отодвинул ее. Преподавательница, учившая Катицу и еще нескольких детей на румынском, замолкла. У них на стене вместо фюрера висел король Румынии.
— Когда все станет немецким, вот такого больше не будет. Хочешь знать, что лучшее? Что через несколько лет вы тоже наденете форму и пойдете воевать за наше дело. Может быть, уже не на этой войне, а на другой. Какая-нибудь война всегда найдется, в них недостатка не бывает.
Вечером отец возился в гостиной над приемником марки «самоделкин». Припаивая провода, он напевал себе под нос:
Дамы любят тебя, бель ами! Очень любят тебя, бель ами! Приятен, хоть не Аполлон, Галантен, хоть и не умен, Ты, конечно, не герой, Просто нравишься любой. И в объятиях твоих Она пьянеет от любви…— Должны же на что-то сгодиться два года в электротехническом училище, — говорил он, когда мать жаловалась, что опять к нему целых пять часов не подойдешь.
Он подозвал меня к себе, закурил самокрутку, откинулся на спинку стула и приобнял меня.
— Когда у нас наконец появится собственный приемник, нам больше не придется слушать у попа военные передачи из Белграда. Наше радио будет получше его «Блаупункта». Как думаешь, что мы тогда будем слушать? — спросил он.
— Не знаю. Может, Америку?
Он рассмеялся и подмигнул мне.
— Ну конечно, Америку. Но только в хорошую погоду. А теперь поставь-ка одну из маминых пластинок, и послушаем американскую музыку прямо сейчас.
Граммофон стоял в углу на столике, а пластинки мать хранила в шкафу. Каждый раз, вынимая и ставя пластинку, она задумчиво смотрела на те дорожки, что оставались скрытыми от нас.
Мать отперла шкаф и разрешила мне выбрать пластинку. Отец подошел к ней сзади и схватил за бедра. Он крайне редко делал что-то подобное, и мы с матерью испугались. В конце концов он облапил ее, а она без особой надежды пыталась освободиться. Ей не оставалось ничего иного, кроме как подчиниться ему, и некоторое время они кружили по комнате, пластинку все время заедало, и мне приходилось поправлять иголку.
Отец хохотал, на нем были только штаны и сапоги, он немного оброс жирком, но все еще оставался видным мужчиной. Когда он кружил мать, подол ее юбки вихрем вздымался вверх.
— В Америке вы тоже так танцевали? — спросил отец. — Расскажите же нам, наконец, чем вы там занимались. С этим мистером Маккейном.
— Только если вы расскажете нам, кто вы такой на самом деле, — парировала мать.
Она попыталась вырваться, упершись в него руками, но его хватка стала лишь крепче. Вдруг он отпустил ее, так что она чуть не потеряла равновесие.
— Мистеру Маккейну тоже приходилось вам выкать?
Она протянула руки ко мне, приглашая на танец, но вскоре отец снова схватил ее. Их танец превратился в молчаливую борьбу. Песню давно заедало на одном месте, а я не знал, что же делать.
Я видел, как мать, тяжело дыша, пытается вырваться, а его руки держат ее, словно клещи. Несколько раз я хотел убежать, но все-таки, желая помочь матери, приблизился к ним на несколько шагов и крикнул: «Я хочу спросить!»
Прошло какое-то время, прежде чем отец услышал меня, отпустил мать и повернулся ко мне: «Я слушаю». Я не успел придумать вопрос, поэтому стоял, переминаясь с ноги на ногу, и размышлял, как лучше поступить — сразу пуститься наутек или признаться, что я потревожил его без причины. И вдруг мне в голову пришла спасительная мысль.
— Я хотел спросить, что значит «наше дело»? О нем учитель все время говорит.
Отец подтянул штаны, взгляд его потемнел.
— А что еще он говорит? — спросил он, подходя ближе.
— Что скоро все станет немецким, а мы все наденем одинаковую форму. И тогда мы все пойдем на войну.
Он был уже на расстоянии вытянутой руки, и мне становилось все тревожнее.
— А ты хочешь стать солдатом?
— Не только я, в моем классе все хотят.
Удар застал меня врасплох, я упал на пол. Он снял один сапог и сунул его мне в лицо.
— Солдатские сапоги натянуть захотел? Тогда вот, отведай, каково это, лежать под таким сапогом. Вот так с тобой будет, ты ведь и дня не проживешь на войне.
Мать скрылась в спальне и распласталась перед распятием.
— Мама! — крикнул я.
— Можешь звать, сколько влезет. Она тебе не поможет.
— Мне больно!
— Вот и хорошо. Ты что, думал, сможешь стать солдатом, если совсем не умеешь терпеть боль?
— Ты мне не отец! Ты никто! — крикнул я.
Я тут же попытался заползти под стол, где было бы удобнее уворачиваться от ударов. А оттуда осталась бы всего пара шагов до двери, и если бы я был достаточно быстр, то успел бы даже захватить свои башмаки, чтобы надеть их на улице и рвануть на кладбище.
Однако отец бросил сапог, успел схватить меня и стал колотить голой рукой. Я пытался прикрыть голову, но он все время находил незащищенное место. Потом заставил меня встать и снял ремень. Удары следовали с равными интервалами, как будто их ритм задавал какой-то механизм. Звук был такой же, как когда румынки на реке шлепают мокрым бельем по камням.
Я уже давно перестал защищаться. Руки мои висели как плети, я смотрел сквозь отца, что еще больше его подзадоривало. В углу между комодом и столом, который служил отцу верстаком, я увидел крошечного ребенка, прямо новорожденного, он парил в воздухе, словно его держали невидимые руки, и беззвучно смеялся. «Давай, лупи, меня все равно здесь нет, — подумал я. — Наверное, это кто-то другой, кто по случайности носит мое имя».
Я слышал его слова, что он не для того меня кормит, чтобы я подох на фронте, а для того, чтобы я, может, когда-нибудь унаследовал его землю. Устав от порки, он бросил ремень и сел.
— Ты все еще хочешь быть солдатом? — спросил он.
— Нет, — без колебаний ответил я.
— А кем же тогда?
— Хочу быть, как ты.
— Вот так-то лучше, хотя не думаю, что у тебя получится. Ты слишком сильно пахнешь своим рождением. Можешь идти.
Получив разрешение, я повернулся и хотел поскорее убраться. Но когда я уже подошел к двери, он снова подозвал меня.
— Ты кое-что забыл, — произнес он так спокойно, как будто вообще ничего не произошло.
— Спокойной ночи, папа.
— Спокойной ночи.
На следующий день, когда учитель Кирш собирался выступить с очередной речью, я увидел в окно отца. Он рывком открыл калитку и твердым шагом прошел через палисадник к школьному крыльцу. Входные двери отворились, но не закрылись, его шаги прогремели по коридору и на секунду замерли перед входом в класс, затем дверь распахнулась, и он зашел. Даже не взглянув на меня — а я решил, что отец явился по мою душу, — он направился прямиком к учителю, тот отшатнулся. Из-за занавески показались любопытные лица румынских школьников — в том числе Катицы — и их учительницы.
— Господин учитель, у вас ведь нет детей, так?
Тот сделал широкий жест рукой и торжественно произнес:
— Вот мои дети.
— Неверно, господин учитель. Это дети крестьян, порядочных людей. И большинству из них и в голову не пришло бы напялить на сыновей военную форму.
— Это мы еще посмотрим.
Отец сделал шаг вперед.
— Кажется, вы меня не понимаете, господин учитель. Видите вон того оболтуса? — Он указал на меня. — Он принадлежит мне. Может, крестьянина из него и не выйдет, хлипковат он для этого. Вообще-то он, пожалуй, для всего хлипковат. А в солдатах так и вовсе сразу переломится. Но он у меня единственный, пока никого лучше нету. И если вы посмеете встать между ним и мной, то я устрою так, что и вторая ваша карьера скоро кончится. Начальнику школьного ведомства в Темешваре я дважды в год отправляю свинью.
Учитель залепетал:
— Но господин Обертин!..
Казалось, отец уже потерял к нему всякий интерес и собрался уйти, как вдруг остановился на пороге и повернулся к нам.
— Я навел справки, господин учитель. Говорят, вы бросили бокс за один день. Отчего ж так вдруг?
— Из-за астмы.
— Это как-то связано с плохим дыханием, да? Но я слыхал другое. Говорят, вы в штаны наделали. Просто вдруг испугались выходить на ринг. Тц-тц, пора вывести вас на чистую воду. Значит, вы тут расхваливаете детишкам солдатскую жизнь, а сами боитесь получить пару тумаков. Как вы думаете, дети? Правильно это, что трус хочет сделать из вас солдат?
Мы боялись даже вздохнуть. Лишь когда он повторил вопрос, хором ответили: «Нет!», а сами не спускали глаз с учителя, тот держался за край стола, и подбородок его дрожал.
— А тебе, — отец вперил взгляд в меня, — я сломаю обе руки, если еще раз заикнешься об этом.
Поскольку учителю явно было уже не до нас, мы, дети, потихоньку затянули песенку, которую всегда пели в конце занятий:
Закончились уроки, пора идти домой. Мама нас обнимет и угостит едой. О, как радуются дети, когда идут домой.Потом мы стали ждать от учителя какого-нибудь знака, но, поскольку он не смотрел на нас, все выскользнули из класса.
Боясь отца и одновременно восхищаясь тем, что он несколькими словами вывел из равновесия самого сильного из знакомых мне людей, я остался на месте. Часть моей души стремилась к нему, и поныне, через столько лет, я все еще ничего не могу поделать с этим чувством.
Мне казалось, что отцу удается почти все на свете, и я даже верил, что он сможет удержать войну подальше от нашего маленького, уединенного мирка. И в то же время я иногда ночевал на кладбище, прячась от него, и проверял, не пахну ли я все-таки своим рождением.
Я заметил, что в классе остались только учитель и Катица. Господин Кирш смотрел в окно, он весь как будто постарел и съежился. Девочка держалась поодаль, казалось, хотела со мной поговорить, но не решалась. Она не поняла ни единого слова из только что сказанного и все-таки как-то по-своему почувствовала. Во мне разрасталось желание кого-нибудь убить, но не хватало последней капли, толчка, чтобы сделать это.
Учитель дышал глубоко, при каждом вдохе его грудь становилась шире, и рубашка на ней так натягивалась, что едва не отрывались пуговицы. Он повернул голову и растерянно огляделся, но когда заметил меня, лицо его исказила гримаса ненависти.
— Проваливай, чертово отродье!
Тогда я наконец убежал, а следом за мной Катица, и я никак не мог от нее отделаться, даже угрозами. Когда я оборачивался и бросал в нее камешек, она просто останавливалась. Как только я продолжал путь, она шла в нескольких шагах от меня. Катица остановилась у наших ворот, а я пошел прямиком в дом, взял длинную бечевку и дедов носовой платок, потом нашел в сарае две тонкие штакетины. Сунув все это под мышку, я схватил нашего старого, гордого петуха и через узкую дверцу в задней стене хлева вышел в поле.
Словно догадавшись, что я задумал, Катица уже ждала меня там.
— Не надо этого делать. Он старый. И так скоро помрет, — сказала она.
— Вот поэтому можно прикончить его и сейчас.
Я решительно побежал по полю, не обращая внимания на ее нытье, — она ободрала босые ноги о жесткие комья пашни. Подыскав подходящее место, я воткнул одну из штакетин в землю и привязал к ней петуха. Платком я завязал себе глаза, занес другую штакетину над головой и стал ждать. Будь петух похитрей, он сумел бы пару раз увернуться.
Сначала я по нему не попал, потом — тоже промахнулся. Сорвав с глаз платок, я намотал бечевку на штакетину так, что петуху осталось для маневра не больше полуметра. Снова надел повязку, замахнулся и ударил. Петух упал оглушенный. Сняв повязку, я колотил птицу до тех пор, пока она не превратилась в кровавое месиво. Потом Катица подняла останки и сказала: «Из этого мама сможет сварить суп. Я отнесу домой, ладно?»
Моя мать сидела на крыльце. Задрав юбку, она держала между ног гуся и заталкивала ему в клюв зерно. Гусь не сопротивлялся, он разучился кормиться самостоятельно и каждый день ждал свою порцию из рук матери. Как только она выходила во двор, этот гусь следовал за нею по пятам.
— Наш петух пропал, — сказала она равнодушно.
Я сел рядом с ней и почувствовал, как напряжение отступило.
Отец все больше терял надежду вырастить из меня наследника. Первую проверку я не прошел уже в четыре года. Он посадил меня на одну из самых дохлых лошадей в нашем хозяйстве, она всю жизнь ходила по кругу, вращая жернова старой сельской мельницы. Эта кляча знала только мир, ограниченный тем кругом, по которому она ходила, пока от нее не остались кожа да кости. Если ее не понукали, она просто останавливалась на месте, как старый человек, забывший, что же он собирался сделать.
От равномерного покачивания я уснул прямо на спине лошади, словно на корабле в открытом море. Кляча остановилась и мирно жевала зерно из торбы. Так нас и застал отец. Тогда он впервые поднял на меня руку — ударил по голове.
Потом, в девять лет, он взял меня на полевые работы. Хотя отец с дедом уже могли бы и не заниматься физическим трудом, они старались сами заботиться о своей земле. Как и батраки, они вставали в пять утра и шли на поле, где иногда оставались до самого вечера. В обед мать всем приносила еду.
Была пора заготовки сена, мужчинам в меру сил помогали женщины и дети, и в деревне от рассвета до заката почти никого не было. Однажды утром, несмотря на протесты матери и деда, считавших, что я еще слишком мал, отец разбудил меня спозаранок и заставил присоединиться к работникам, отправлявшимся на поле. Там он поставил меня на телегу, сунул в руки вилы, размером чуть больше меня, и велел разбрасывать сено по кузову, как и все остальные. Очень скоро он увидел, что эта задача мне не по силам. Под смех окружающих отец отправил меня домой.
Позже, когда мне исполнилось одиннадцать, он вздумал накачать мне мускулы и стал гонять меня по двору с тяжелым грузом, пока у меня не подкашивались колени и я не падал под тяжестью маленького, но полного до краев бочонка или только что заколотой свиньи. Стоя у окна, он подгонял меня: «Ты можешь лучше. Вставай!»
Дед, сидевший в углу двора, упрекал отца:
— Да оставь ты его в покое. Мальчонка не для того создан.
— Если б я знал, для чего он создан, — ворчал отец. — Так он и до совершеннолетия не доживет.
— До сих пор ведь не помер. Вот же он, жив еще, и так просто ничего с ним не случится. Ты доконаешь его такими тренировками.
Отцу пришлось в очередной раз убедиться, что усилия его бесполезны и опасны для моей жизни, тогда он изменил стратегию.
— Может, ты и не годишься для тяжелой работы, что ж, ее могут делать за тебя другие. Главное, чтобы ты разбирался в делах.
Отец стал брать меня с собой в Темешвар, в порт и на встречи с партнерами в кабаках на Йозефсплац. Он считал, что никогда не рано начинать учиться хитрости и деловой хватке. Я сидел рядом с ним перед стаканом лимонада в темных, прокуренных залах, пока он вел долгие переговоры. Сначала надо было расхвалить свой товар, потом — пожаловаться на высокие цены, и все начиналось сначала. В конце концов сделка заключалась рукопожатием. Выходя из кабака, отец шептал мне: «Мы его только что выпотрошили» или: «Обвел нас вокруг пальца, чертяка».
Часто мы бывали и в порту, где он брал меня на борт австрийских кораблей, пока его люди загружали нашу скотину, зерно и овощи, которыми потом набивали себе животы венские горожане.
— Если б не мы, венцы голодали бы и не могли бы воевать, — говорил отец.
Из-за войны все стало сложнее и ненадежнее, но отец предлагал товар, который на войне нужнее и дороже, чем в мирное время, — продовольствие. Вскоре отец понял, что коммерсант из меня тоже никакой.
— Если б я только знал, что с тобой делать, — все время повторял он.
Он опять стал оставлять меня дома, а сам пропадал по нескольку дней или недель. Поговаривали, что в городе у него дела иного рода — с красивыми женскими именами.
По субботам я ходил вместе с дедом на ярмарку, где он продавал птицу, поросят, телят, а иногда — хоть и неохотно — даже жеребят. Он не любил расставаться со своими лошадьми и требовал, чтобы покупатель давал ему тщательно осмотреть двор, на котором будет жить его жеребенок. Если ему не нравилось лицо покупателя или тот неправильно или грубо обращался с лошадью, сделка срывалась. С тех пор как дед стал спать в людской, рядом с конюшней, он проводил с лошадьми еще больше времени. Однажды я спросил деда, почему он так привязан именно к лошадям, и он ответил: «Она любила лошадей. Глядя на них, я вижу ее». Что речь идет о бабушке, я давно знал.
Так вышло, что в тот день, когда Рамина получила уведомление о депортации на Буг, я крутился на рынке.
Мамаши парней, желавших жениться, присматривали им невест. Найдя подходящую девушку, которая была не прочь пойти под венец, они приглашали ее вместе с родителями в гости. Жены зажиточных румынских крестьян щеголяли в ожерельях из золотых талеров Франца-Иосифа. Те, что желали показать себя во всей красе, поигрывали золотой монетой на длинном шнурке и то и дело перебрасывали ее через плечо, словно подмигивая назад. Мужчины оборачивались и смотрели на их бедра, потом на золото, и от всего этого у них кружилась голова.
По рынку ходили торговцы всякой всячиной, сапожники и шляпники, столяры и кузовщики, фокусники и огнеглотатели, бродяги и зеваки. Одна женщина продавала пряники и печенья, заворачивая их в газетную бумагу. Ее муж шел перед повозкой и бил в барабан. Ткач предлагал сукна и свитера, кожевник — кожу для подметок. Иногда попадались обрученные пары, искавшие под присмотром родителей туфли для невесты. Фифа, сельский кузнец, продавал «клецкодавы» — складные ножи с деревянной рукояткой, они пользовались большим спросом у молодых мужчин.
Иногда, когда людской поток редел, мне удавалось увидеть Катицу. Она держала костюмы и платья, пока ее мать расхваливала товар покупателям. Сарело тоже был там и размахивал своими ножами. Как всегда, он говорил, что, если надо, его ножи разрежут даже ветер. Люди смеялись, и таким образом он завоевывал их расположение. Если кто-нибудь отказывался покупать, начав торговаться, Сарело проклинал его. А цыганских проклятий боялись.
Но в тот день что-то пошло не так, Сарело был рассеян и упустил много покупателей. Он сидел, расставив ноги, и с отсутствующим взглядом ковырял ножом землю. Я остановился перед ним, на его подошвах запеклась толстая корка грязи, а светлые волосы спутались и растрепались.
— Твоя мать наверняка была бы недовольна, что ты так мучаешь землю, — сказал я.
— Заткнись, у меня другие заботы.
— Это какие же?
— Сегодня утром нам пришло письмо, но мы не можем его прочитать. Мы ведь никогда не получали почту. Смогли разобрать только одно слово, которое часто видели в городе: «жандармерия». А это не к добру.
— Так я могу прочитать.
— По-румынски я читаю лучше тебя, — влезла Катица, незаметно подошедшая к нам.
Мы покинули шумную ярмарку и втроем отправились к Рамине. Сарело шел в нескольких шагах впереди и все ножи, кроме одного, нес в кожаном мешочке на поясе. Один нож ему был нужен для боя с тенью, с неведомым противником, которого видел только он. Снова и снова он наносил удары перед собой, точно воздух был плотным веществом.
— Ты поосторожнее с ножом, — сказал я.
— Осторожным нужно быть, только когда ветер поднимается, — ответил он. — Мать говорит, раньше он был совсем диким и уничтожал все, что создавал человек. Потом Бог загнал его в пещеру, а перед входом поставил старую слепую женщину, которая все время вяжет, чтобы скоротать время. Она затыкает вход в пещеру клубком шерстяных ниток, но, когда он укатывается и ей приходится его искать, ветер может сбежать. Вот тогда надо быть осторожным, чтобы не разозлить ветер, иначе он опять все разрушит.
— И ты веришь в то, что говорит твоя мать? — спросила Катица.
— Я думаю, она сумасшедшая, но все-таки кое во что верю. Например, она говорит, что у меня вообще нет отца, а забеременела она от ветра, — ответил Сарело.
— Она и про меня так говорит. Ты никогда не хотел узнать, кто твой отец? — спросил я.
— Зачем это? У меня здесь есть все, что нужно. Вы нам даете еду, а ножами я зарабатываю на остальное. Мне не хватает только одного — немного земли, где я мог бы быть хозяином. Тогда нам не пришлось бы сидеть на этом дурацком холме.
— А я хочу стать портнихой, как мама, и для этого пойти учиться к мадам Либман в Темешваре. Она шьет для богатых господ, — доложила Катица.
— Скоро она перестанет шить, так мой отец говорит. Она еврейка, а еврейские магазины теперь закрывают. Они пишут на дверях «С. N. R.»[18], — сказал я.
— Кто, немцы?
— Нет, румыны.
Рамина все еще держала письмо в руке, будто не отпускала его с той минуты, как получила. Оно было измято: сперва она его скомкала, но потом расправила, поскольку тоже почуяла недоброе.
— Сегодня же не твой день, Якоб. Что тебе здесь надо? — спросила она, увидев меня.
— Катица может прочесть тебе письмо.
— Это письмо? — удивленно спросила она, словно забыв, что у нее в руке. — Ну, давай-ка, почитай.
«Генеральный инспекторат жандармерии Темешвара.
Гиги Пескару, бульбаше цыганского табора у села Трибсветтер.
По причине долговременной угрозы румынской расе со стороны цыганского элемента, в целях сохранения чистоты крови и устранения инородных тунеядцев, Королевским декретом и распоряжениями Министерства внутренних дел и Совета Министров постановлено следующее:
Все цыгане, имеющие судимость, занимающиеся воровством и мошенничеством на вокзалах и рынках, а также не имеющие постоянного места работы и, следовательно, занимающиеся воровством и попрошайничеством, подлежат немедленной ссылке на Буг.
Отныне им запрещается покидать место жительства и надлежит подготовиться к эвакуации, которая состоится 12 сентября 1942 г. Все бульбаши обязаны обеспечить спокойное и быстрое осуществление депортации подчиненных им цыган.
Полковник Н. Диаконеску, начальник жандармерии».
Рамина встала, вытерла руки о засаленную юбку и, стараясь скрыть волнение, приказала Сарело разжечь огонь. Она поставила на очаг воду для супа. Несколько минут она стояла к нам спиной и вроде как была занята делами, но, когда наконец повернулась к нам, глаза ее были полны отчаяния. Такого взгляда я прежде не видел ни у нее, ни у кого-либо еще.
Я считал ее непобедимой, немного похожей на отца. И был уверен, что, если другие средства не помогут, она воспользуется своим колдовством. Но я ошибался. Словно прочитав мои мысли, она тихо произнесла: «Боюсь, от этой напасти еще не выросла травка. Оставьте меня одну, дети. Мне надо подумать».
* * *
Домой я пришел в растерянности, оттого что, видимо, больше не смогу таскать мешки Рамине и получать в награду очередную версию моего рождения. Оттого что придется расстаться с неповторимым запахом ее присутствия в моей жизни, с этой смесью пота, затхлого воздуха и аромата ее стряпни. Вместе с покойниками и дедом она была надежным убежищем в моем детстве, и ни самая сильная буря, ни тысяча чертей не помешали бы мне навещать ее каждую неделю.
— Они высылают Рамину! Через несколько дней приедут жандармы и увезут ее! — закричал я матери, которая вязала в гостиной.
— Знаю, говорят, цыган депортируют на Буг. В городе это уже началось, — ответила она.
— А что такое Буг?
— Это река в Транснистрии. А Транснистрия — это полоска земли на Украине.
— А почему они это делают?
— Потому что румыны считают цыган лентяями и ворами.
— Разве они такие? — спросил я.
— Конечно, такие.
— Но ведь Рамина не такая. Она помогла мне родиться и лечила меня, чтобы я не умер.
— За это мы кормим ее уже шестнадцать лет. К тому же она попросту рассказывает тебе сказки. Говорят, цыганам достанутся дома евреев, которых выгнали оттуда. Им там будет не так уж плохо. Отец все равно собирался положить конец всем этим подаркам.
— И ты бы допустила это?
— Твой отец прав. Всему приходит конец, Якоб.
— Я не согласен! Ты никогда для меня ничего не делала! А вот Рамина делала! — крикнул я и выбежал во двор.
Я взял в сарае пустой мешок и набил его всем, что только нашел в кладовке, да еще засунул двух кур. Поднять мешок мне было не под силу, поэтому я поволок его по улице, и так всю дорогу до Рамины. Я не сдался даже тогда, когда стал задыхаться, будто вся тяжесть неба легла на мои плечи. Из последних сил я перетащил груз через порог дома и повалился на диван.
— Я принес тебе поесть, Рамина. Куры, картошка, лук, репа. У тебя всегда должно быть вдоволь еды.
Рамина вышла из соседней комнаты, разговаривая сама с собой. Увидев меня, она не рассердилась, а села рядом и прижала меня к себе. Через окно падал слабеющий вечерний свет.
— Все, что ты рассказываешь, просто сказки, правда, Рамина? — спросил я, положив голову ей на живот.
— Кто это сказал?
— Мама, — ответил я.
— Да пусть себе говорит что хочет.
Из ее живота доносились звуки, словно с какого-то подземного, известного только мне континента. Я приподнял голову и снова опустил, как обычно делал ночью, когда мое сердцебиение было единственным звуком в схлопнувшемся мире.
— Как ты меня вылечила? — спросил я через некоторое время.
Рамина рассмеялась:
— Ты думаешь, это тоже выдумка?
Она отодвинула мою голову и уперлась руками в диван, но ей пришлось сделать несколько попыток, чтобы наконец твердо встать на свои толстые, расплывшиеся ноги. Покачиваясь, она подошла к сундуку, что был единственной мебелью в комнате, кроме дивана. Она махнула мне, чтобы я подошел и открыл сундук. В нем лежало множество завязанных мешочков. Рамина велела взять два из них, мы вернулись на диван, где она развязала их и осторожно высыпала между нами. В одном мешочке были целые стебли, корни и листья ее целебных трав, а в другом — порубленные и измельченные.
— Повезло тебе, что я их показываю, обычно я к ним никого не подпускаю.
— Как и к тем вещам, что ты прячешь в соседней комнате?
— Не задавай глупых вопросов. Здесь все, что мне тогда понадобилось. И еще свежий чеснок, конечно. Вот это растение называется «Божья плоть». Кто сорвет его без должного уважения, умрет или сойдет с ума. Эта травка пригодилась, чтобы успокоить твои соки. Ее не так-то просто найти, она прячется от людей. А другая зовется «перо летуна». Она растет на сухих каменистых местах, цветы ее пахнут медом. Говорят, что у этого растения есть голова, как у человека, и оно бегает, без корней, зато с двумя крылышками и хвостиком. Надо его попросить и пообещать, что не используешь его в дурных целях, иначе оно ничего не сделает. Но тот, у кого оно есть, притягивает деньги, находит клады и понимает язык животных. Оно помогло твоей печени и легким.
Вскоре Рамине надоело объяснять мне, она ссыпала все обратно в мешочки и велела положить их на место. Прежде чем закрыть сундук, я вынул из другого мешочка что-то вроде древесной коры.
— А это для чего? — спросил я.
— Может, ты и немец, Якоб, но для меня ты всего лишь гаджо — нецыган, а значит, нечистый. Каждый раз, когда ты уходишь, я жгу немного вот этого, чтобы очистить жилище после тебя. А теперь бегом домой и скажи отцу, что завтра я приду к вам. Рамина еще не сказала последнего слова.
Домой я шел в темноте, под проливным дождем. Я еще никогда не ходил так поздно. Насквозь мокрый и готовый в любую секунду броситься наутек, я спешил к деревне, но та, вместо того чтобы приближаться, с каждым шагом казалась мне все дальше. Дождь шумел злобно и громко, сплошная завеса воды, способной смыть все, вплоть до грехов. Поэтому я не услышал шума автомобиля и лишь в последний момент отскочил в сторону. Это отец возвращался из города, он остановился, открыл дверцу, и я сел в машину.
— Что ты тут делаешь так поздно? — спросил он.
— Я был у Рамины, их с Сарело высылают на Буг.
— Так тому и быть. Значит, проблема решится сама собой, иначе мне пришлось бы запретить тебе общаться с ними. Это нас позорит.
— Ты не можешь им помочь? У тебя же столько знакомых.
— Для цыганки я и пальцем не пошевелю, можешь умолять сколько угодно.
— Я буду делать все, что скажешь. Даже стану коммерсантом, если захочешь! — закричал я.
Отец резко затормозил и повернулся ко мне.
— Слушай внимательно, мой мальчик. Слишком поздно ты спохватился. Ты не годишься для дел. Я решил отправить тебя в Темешвар, в немецкую школу. Для этого я и ездил сегодня в город. Я невысокого мнения о болтовне интеллигентов, но, может, хоть на это ты сгодишься.
Мать с озабоченным видом ходила по крыльцу из стороны в сторону. Увидев меня, она хлопнула в ладоши и воскликнула: «Иисус-Мария-Иосиф!» Так она всегда говорила, когда боялась или возмущалась, это было ее восклицание на все случаи жизни. Она завела меня в дом, раздела и обтерла полотенцем. Потом сунула под одеяло два нагретых кирпича и принесла мне поесть.
— В такую погоду тебе нельзя выходить из дому, иначе смерть себе нагуляешь. Теперь повторяй за мной молитву, — сказала мать, но я отмахнулся. Она схватила меня за руки и соединила ладони.
— Я мал, душа моя чиста, — начала она.
— Но я уже не мал, — упрямился я.
— Перед Господом мы все малы. А теперь вместе: Я мал, душа моя чиста. Никому в ней нет места, кроме Господа Бога. Да пребудет, Отче, над моей постелью око Твое.
Я повторил за ней, и она, довольная, накрыла меня одеялом до самого подбородка, поцеловала в лоб и прошептала:
— Если поднимется температура, пошлем за Непером. С этим он справится. Спокойной ночи, Якоб.
* * *
На следующий день Рамина спустилась со своего холма, переполошив всю деревню, где ее не видали уже много лет. С тех пор, как она меня вылечила. Как и тогда, Сарело поддерживал ее, как мог. Вдобавок в руке у нее был посох, вырезанный сыном, и с каждым шагом она тяжело упиралась им в землю.
Люди сбегались со всех сторон поглазеть на нее, как когда-то на силача Фишера. Насколько я помню, даже земля дрожала, когда Рамина подходила к нашему дому, и стакан, в который мать насыпала лекарство Непера, двигался по столу. Когда она остановилась у ворот передохнуть, стакан оказался в сантиметре от края. А когда она вошла во двор, стакан все-таки упал.
Я лежал в постели с температурой и через приоткрытую дверь мог только прислушиваться к тому, что происходило в гостиной, где гостью встретили отец, мать и дед. Сарело остался у двери. Я представил, как Рамина села на самый крепкий стул и развязала косынку на голове, прежде чем справиться обо мне.
— Якоб заболел? Он вчера ушел от меня в сильный дождь. Я нужна ему?
— Непер обо всем позаботился. Зачем ты пришла, Рамина? Что за важное дело заставило тебя покинуть холм? — спросил дед.
— Покинуть мне его так и так придется, дедушка. Вы правы, дело важное. Но сперва налейте-ка Рамине шнапсу. На улице зябко.
Она осушила рюмку одним глотком, как я представил, и вытерла губы рукавом.
— Послезавтра меня заберут и повезут в Транснистрию. Оттуда я живой не вернусь. — Ее голос стал грубым, как наждачка.
— Тебе там дадут такой дом, Рамина, какого у тебя никогда не было. У евреев хорошие, крепкие дома. Говорят, они достанутся вам, — попытался утешить ее дед.
— Я слыхала кое-что другое, дедушка. Недавно ко мне заходил человек, сбежавший оттуда. Он сказал, что раньше не знал, где находится ад, а теперь точно знает. Рассказывал, что их завезли на их же фургонах в какие-то безлюдные места и приказали рыть землянки, если хотят пережить зиму. Их бульбаша запротестовал и потребовал, чтобы им отдали обещанные дома евреев, но солдаты только посмеялись над ним. Потом они ушли, и люди остались сами по себе. Среди них были женщины с малыми детишками, беременные и старики, и многие померли в первые же недели. Когда у них кончилась еда, они стали есть коней. А для цыган это очень плохо — убивать своих коней. Когда кончились дрова, стали жечь повозки. Тогда несколько молодых мужчин отправились в ближайший город, но и там было не лучше. Тысячи людей заполонили площади и дома, жгли все, что найдут. Двери, столы, деревья. Там никто не знает, куда девать всех этих цыган, ведь у местных украинцев добра тоже немного. Трупы лежат прямо на улице, и никому до них дела нет. Что же это за мир, где мертвых не хоронят?
Мать шумно вздохнула:
— Это все россказни, Рамина, такие же, как и твои. Тот человек просто хотел напугать тебя, только и всего.
— Может, вы правы, а может, и нет. Но я думаю, для меня это все плохо кончится. Откуда я там возьму столько еды, сколько мне нужно, если даже тощему, жалкому цыганенку не хватает?
Она издала горестный стон.
— У тебя вон какие запасы, больше, чем у других, и ты похудеешь, — вставил дед.
— Так чего тебе нужно? — резко спросил отец. — К сожалению, я ничем не могу тебе помочь. Да, я знаком с начальником жандармерии Темешвара, но такие распоряжения поступают с самого верха.
— Не бойтесь, милостивый государь, для меня ничего делать не надо. А вот я для вас сделаю.
Я представил себе все удивление отца в это мгновение.
Рамина продолжила:
— У меня есть сын. Вы все его знаете. Он не самый сообразительный парень, но руки у него растут откуда надо, и упрямый он. Если чего захотел, добьется. Он продает почти все ножи, что делает. Даже у вас, дедушка, не получается продать всю скотину на рынке. Мальчик кое-что умеет и сумеет еще больше, если его научить. Я не хочу, чтобы он умер таким молодым…
— Ближе к делу, Рамина. Я не могу весь день тебя слушать, — поторопил ее отец.
— Так я уже об деле. Якоб у вас хиленький и не сможет вести хозяйство. Да и делец из него тот еще, я его знаю. Короче говоря, я предлагаю вам своего сына. Незачем ему помирать на Буге вместе с матерью. Вы бы, милостивая государыня, тоже не хотели бы, чтобы Якоб помер, только потому что кто-то там решил, будто он должен помереть. — Голос Рамины стал умоляющим.
Наверное, по столу ударил отец. Он был вне себя от ярости:
— Так вот что ты мне предложить хочешь, бессовестная! Сыночка своего? Чтоб теперь я еще и его кормил, как до сих пор тебя?
Я представил себе Рамину, спокойно сидящую на месте и наблюдающую всю сцену хитро поблескивающими глазами. Она ждала, пока пройдет первая волна гнева.
— Мой сын будет вам хорошим помощником, лучше Якоба. Он даже мог бы стать вашей правой рукой. Когда-нибудь вам здесь понадобится преемник.
Я представлял, как Рамина наслаждалась впечатлением, которое произвели ее слова. И конечно же, она знала, кто слышал все это в соседней комнате и не верил своим ушам, не мог поверить в такое предательство. Но я понимаю, она не могла иначе, ей пришлось пойти ва-банк, чтобы спасти жизнь сыну. Кто посмеет ее упрекнуть?
Грохнулся стул, и отец в тяжелых сапогах стал расхаживать по комнате. Его голос то приближался, то удалялся.
— Мой преемник? Цыганенок? Будет вести немецкое хозяйство? Убирайся с глаз моих! Вон! — орал он.
— Да успокойтесь же. Вот увидите, вы внакладе не останетесь, — ответила Рамина, не двигаясь с места. — Я ожидала, что вы так мне ответите, хотя измените свое мнение, когда узнаете его получше. Сарело много не надо, он может спать хоть в хлеву. Но я знаю две причины, почему этого будет недостаточно, — продолжала она.
— Вон! — повторил отец и распахнул дверь.
— Милостивый государь, закройте, пожалуйста, дверь, а то сквозит. Я уже сказала, вы не останетесь внакладе.
— Не понимаю, о чем ты!
Рамина выдержала паузу, и я опять представил, как она наслаждалась этими секундами. Наконец она сказала:
— Я отдам вам не только моего сына, я отдам вам все мое золото.
Дверь тихо закрылась, отец медленно вернулся к столу.
— Золото? Много лет ты живешь за счет наших харчей, Рамина. Все золото, что у тебя есть, — это твои зубы, — ответила мать. Но она ошибалась.
Рамина рассказала, что ее муж, бульбаша, все свои доходы вкладывал в золото. Тысячи талеров Франца-Иосифа он прятал в колесах и кузове своего фургона. Он ездил, работал и спал на своем богатстве и заходил в дом только поесть или чтобы Рамина разогнала его соки.
Когда муж собрался уйти от жены и молодая любовница уже ждала его в фургоне, Рамина пригрозила ему оружием пострашнее платка с менструальной кровью — созывом криса, всеобщего собрания цыган, дабы они не только изгнали бульбашу из табора, но и навсегда стерли бы его имя из их общей памяти. Такое наказание было страшнее смерти, и муж откупился от Рамины, отдав ей все свое золото.
Когда бульбаша смылся, ярость все-таки одолела Рамину, и она решила испытать на нем если уж не сильнейшее оружие, то второе по силе. У одной из цыганок она взяла пропитанный менструальной кровью платок и погналась за беглецами, но те как сквозь землю провалились.
Шестнадцать лет золото хранилось в доме Рамины, в той самой комнате, куда мне запрещалось входить, спрятанное в кусках мыла, которое она делала из нашего жира. В каждом куске мыла скрывалось по два-три талера. Рамина решила, что это надежный тайник, ведь любой грабитель принял бы ее просто за торговку мылом.
Ее речь явно возымела действие, и я постарался представить себе обескураженные лица родителей и деда. Долгое время все молчали, а когда кто-то собирался что-то сказать, тут же осекался. Маятник часов продолжал тикать, издавая тихий, почти незаметный звук, словно желая проявить деликатность и не мешать людям, насколько это возможно.
Лишь после долгой паузы отец снова заговорил, уже гораздо мягче, почти бархатным голосом:
— Мы могли бы сегодня же ночью все перевезти и закопать в хлеву.
— Пока я еще живу в этом доме, никто туда не зайдет. Вы все нечистые, вам нельзя. А вот потом можете делать что хотите. Солдатам не будет дела до кучи мыла. К тому же откуда мне знать, что вы сдержите слово? Мы заключаем сделку, милостивый государь?
Отец не ответил, наверное, он ей просто кивнул, потом налил еще шнапсу.
— Теперь скажи нам и вторую причину, Рамина. Просто так, любопытно, — попросил дед.
— Лучше вам этого не слышать. Ведь мы и так поладили.
— Нет-нет, давай, говори, — подбодрила ее мать.
— Ну ладно. Если я не скажу сейчас, то другой возможности уже не будет. Но сперва закройте дверь в комнату Якоба. Ему это знать ни к чему.
Невидимая рука повернула ручку двери. Как я ни напрягал слух, из дальнейшего разговора я слышал только шепот, прерываемый стонами матери. Второй довод в пользу Сарело я узнал лишь много лет спустя.
В тот день, когда Рамина навсегда исчезла из моей жизни, меня с ней не было. Меня оставили дома, потому что я все еще болел. Мать вернулась первой, села на край кровати и пощупала мне лоб, проверяя температуру.
— Где остальные? — спросил я.
— Грузят все на нашу телегу. Ночью привезут сюда.
Мать рассказала, что ранним утром на нескольких грузовиках приехало полроты солдат под командой капитана. Никто не сказал им, что с холма ушли все цыгане, кроме Рамины. Сарело уже сидел на повозке между отцом и дедом, как будто там всегда было его место.
Капитан растерянно осмотрелся, потом спросил отца, куда же делись цыгане, которых он должен вывезти. Отец объяснил ему, что, кроме Рамины, никого не осталось, а ее бесполезно пытаться выгнать из дома. Ее и десять лошадей не вытащат, коли она не захочет. «Десять лошадей, может, и не вытащат, а вот румынская армия…» — ответил капитан.
Он отправился на вершину холма, а его солдаты остались топтаться на месте. Дед угощал их сигаретами, и они жадно курили. Через какое-то время капитан вышел из Рамининой развалюхи в еще большей растерянности. Это было заметно издалека, сказала мать. Он спустился с холма и подозвал четверых солдат.
Тем временем распространился слух, что Рамину собираются вывезти, из деревни собралось много крестьян и детей, желавших посмотреть на это событие. Однако они держались поодаль, опасаясь людей в форме. Солдаты отложили винтовки, побежали вверх по склону и скрылись в доме.
Некоторое время ничего не происходило, потом один солдат вышел, выглядел он тоже растерянно и жестом что-то показал капитану. Тот выругался — раскатисто и сочно, по-румынски, — и ткнул пальцем в сторону одного крестьянина.
— Эй, ты! Ступай домой и принеси инструменты, нам надо проломить стену. — Крестьянин не тронулся с места. — Ну, что стоишь? Мне что, целый день тебя ждать?! — И офицер снова выругался.
Когда крестьянин вернулся, солдаты взяли у него инструмент и принялись за работу. Довольно скоро они пробили в утлой стене дыру, через которую можно было вынести не то что Рамину, а целую лошадь. Последовали дальнейшие приказы капитана, часть солдат выстроилась цепью снаружи, и из дома до улицы донеслась команда: «На счет „три“ — поднимай!»
Сначала показался край дивана, потом трое-четверо крепких солдат, потом Рамина, восседающая, как на троне. Ее так бережно пронесли через пролом в стене, будто не желали причинить никакого вреда, а только служили ей. Преданно и терпеливо диван выдерживал ее вес. Когда вся Рамина вместе с диваном оказалась снаружи, ношу приняли плечи других солдат. На пути вниз по склону их сменила третья группа. Рамина парила по воздуху на руках и плечах множества людей, и на секунду показалось, что она легкая, как перышко. «Она была как королева», — сказала мать.
Солдаты с трудом перенесли Рамину через канаву, затем погрузили на грузовик. «Пусть они там в городе разбираются, что с ней делать», — проворчал капитан. Прямо и неподвижно сидела она в кузове и смотрела на людей сверху вниз. Потом случилось нечто удивительное. Кто-то из ребятишек крикнул: «До свидания, Рамина!» Некоторые крестьяне тоже попрощались с ней, в том числе мать и дед. «До свидания, люди, — ответила она. — Увидимся на небесах. Не знаю, как насчет вас, но я точно туда попаду».
Колонна грузовиков тронулась, Рамина до последнего смотрела назад и видела, как холм, деревня, вся ее жизнь необратимо удаляются от нее. Деду пришлось держать Сарело, чтобы он не побежал следом и не выдал себя. В руках деда он стал сначала твердым, как камень, а потом размяк, словно тесто.
Ночью я проснулся, услышав странные звуки из хлева. Силуэт повозки, в которой сокровище Рамины дожидалось нового тайника, был отчетливо виден у нас во дворе. При слабом свете фонаря отец и Сарело копали яму, насколько мне удалось разглядеть через приоткрытые ворота хлева, в том месте, где обычно стояли дедовы лошади.
Через несколько дней после эвакуации Рамины я, укутанный с ног до головы, выехал с дедом из деревни, чтобы посмотреть на опустевший холм. Дед, редко стегавший лошадей и обычно понукавший их только тихим голосом, был мрачен. Нам стало известно, что отец собирается вскоре сослать нас в Темешвар, меня — учиться в немецкой школе, а деда — в качестве моего опекуна. Планировалось, что мы будем жить в городском доме и регулярно получать из деревни все, что нужно для жизни.
— Так твой муж убивает двух зайцев одним выстрелом, — сказал дед матери. Она пожала плечами, как всегда отгородившись молчанием. — Скажи же хоть что-нибудь! — потребовал дед. — Ты никогда ничего не говоришь.
— А что я могу сказать? Он ведь никого не слушает. К тому же мальчику действительно нужно учиться, и кто-то должен за ним присматривать. Хорошо, что ты будешь с ним, папа. Тебе там будет удобнее, чем в людской. Поверь, так будет лучше для всех.
Дед покачал головой:
— Я больше не узнаю свою дочь.
Вдалеке на пашне теперь упражнялось еще больше парней. Подчиняясь отрывистым командам учителя Кирша, они привязали к кольям несколько пугал и палили по ним с небольшого расстояния. Я не возьмусь утверждать, что мне, с моими ногами-зубочистками, торчащими из коротких штанов, никогда не хотелось быть таким, как они, крепким немецким юношей, ловким и способным на все.
Дед свернул папиросу и указал на них.
— Я рад, что ты никогда не станешь солдатом, Якоб.
— Война дойдет до нас? — спросил я.
— Это только сама война знает. Но если и дойдет, то уж точно не так скоро, как хочется некоторым из нас.
Он помолчал.
— Видишь вон там своего учителя, Кирша? — спросил он через минуту. — Я хорошо знал его отца. Он был замкнутым человеком и мечтал только об одном — летать. Ради этой мечты он забросил все: хозяйство, обязанности в общине и жену, в конце концов она ушла от него. Каждую свободную минуту он проводил в сарае, мастерил там летательный аппарат. Однажды в воскресенье, сразу после церкви, он вывез его на улицу на двух лошадях и повез на холм, который тогда был безымянный, ни одного цыгана там еще не было. С того места, где сейчас стоит лачуга Рамины, он разбежался и в самом деле взлетел — на несколько футов вверх, и это задолго до того, другого, Отто Лилиенталя. При посадке он сломал себе шею, так же, как силач Фишер. А теперь скажи мне, что глупее — пасть на войне или упасть с неба?
— Смерть есть смерть, дедуля. Как ты думаешь, Рамина тоже умрет?
— Вполне возможно. Нынешние времена для таких, как она, особенно скверны. Пойдем, я хочу показать тебе кое-что еще.
Он свернул с дороги и поехал по комковатой черной земле, на которой недавно сожгли кукурузную ботву. Осенью мы, дети, всегда говорили, что земля мужского рода, как в румынском языке, потому что из нее растет щетина.
Мы остановились перед огромной впадиной, почти целиком заросшей кустарником и похожей на старый, плохо затянувшийся шрам. Как будто там кто-то поковырялся во внутренностях земли. Такие углубления есть по всем четырем углам деревни, сказал дед. Они остались с тех пор, как здесь, в спешке и только из-за нужды, под непрекращающимся дождем, весной 1772 года выросли две сотни домов.
Новоприбывшие переселенцы из Лотарингии нашли временное пристанище в Мерсидорфе — одном из нескольких уже построенных сел. Долгое время они ютились в тесноте, надеясь на помощь из Темешвара, многие, так и не дождавшись ее, поехали дальше. За морозной зимой пришла слякотная, дождливая весна, нужно было действовать быстро, иначе колонисты не успели бы ничего посеять и им снова пришлось бы голодать. Тогда Фредерик Обертин сказал: «Мы построим деревню сами, если надо, то голыми руками», — и поскакал в Темешвар разговаривать с администрацией.
— А он действительно был? — спросил я.
Дед сердито посмотрел на меня:
— Как ты можешь сомневаться в этом? Это тебе не сказки Рамины. Это записано в сельской хронике. И если хочешь, я как-нибудь расскажу тебе поподробнее.
Потом мы вернулись в деревню.
Отец решил сразу же снести дом Рамины, словно желая замести последние следы сомнительной сделки, на которую согласился. Но Сарело возразил ему, единственный раз в жизни. Он умолял отца ничего не трогать, надеясь, что Рамина, возможно, все-таки вернется.
В первые же недели Сарело отрезал головы всем нашим курам. Мы находили их по утрам во дворе, в луже крови, а палача уже не было. Он бегал с другими мальчишками или ошивался на рынке. Мать ставила миску с остатками еды рядом с его спальным местом, и потом она всегда оказывалась пуста. Сарело разговаривал еще меньше прежнего, а когда отец давал ему какое-нибудь задание, лишь кивал, глядя себе под ноги. Иногда проскальзывал рядом, как тень, иногда появлялся откуда ни возьмись, так, что его пугались.
Никто никогда не знал, о чем он думает, что замышляет, но его надежность и усердие были отцу по душе. Сарело каждое утро в пять часов выгонял свиней и коров, чистил хлев, подметал двор. Он быстро научился обращаться с трактором и молотилками и вообще всегда был тут как тут, если нужно.
Вскоре отец даже стал брать его с собой в город и, вернувшись, говорил: «Ему бы еще немного оттаять, и тогда из него может получиться даже управляющий. Нынешнего все равно скоро надо менять. А пока пусть учится всему, что надо».
Отца как подменили, в доме воцарился покой, какого мы прежде не ведали. Вечерами он сидел с Сарело за столом в гостиной и учил того считать и писать, насколько это нужно крестьянину.
Теперь мы каждый день были свидетелями того, чего раньше не видели, — отцовского терпения. Он насвистывал под нос песенки Цары Леандер и Лале Андерсен, которые мы слышали по военному радио. Когда отец и Сарело отрывались от учебников и тетрадей, они ковырялись с часами, приемниками и мебелью, что приносили на починку соседи.
Они разбирали все, что попадалось в руки, и собирали обратно. До глубокой ночи слышно было, как они стучали молотками, пилили, паяли и чертыхались, когда что-то не получалось. Румынские ругательства Сарело нравились отцу. Из будильника они сделали автоспуск для купленного в городе фотоаппарата. Мы все встали перед объективом, празднично одетые и причесанные, нажали на кнопку, и раздался щелчок.
Сарело нравился отцу, а светлая кожа и волосы, отличавшие мальчика от остальных цыган, делали его в глазах отца еще симпатичнее. Я уже не помню, ревновал ли я или мне это даже нравилось. Просто я больше не был на линии огня. Мне этого хватало.
В январе 1943-го мы с дедом переехали в город. Отец позаботился о том, чтобы там я продолжил учебу. «Эта школа куда лучше, престижнее, — сказал он. — Как ни крути, пора уже кому-то из Обертинов всерьез заняться чем-то умственным. Не повредит». Хотя стояли холода, дед провел последнюю ночь со своими лошадками, а Сарело уже давно обустроился в людской. Ему пришлось пообещать деду, что он будет ухаживать за лошадьми, как за своими собственными. Уезжая, дед прошептал: «Без меня они умрут».
Сарело ждал нас у телеги, полной продуктов. Мы поплотнее закутались в пальто, шапки и шарфы, оставив незакрытыми только глаза. Прежде чем открыть ворота, я еще раз оглянулся и увидел, что мать стоит на веранде, протянув ко мне руки. Она слегка развела их в стороны и подозвала меня к себе. Шагая к ней, я смотрел на нее и гадал, раскроет ли она объятия совсем. Но когда я подошел, она спрятала руки в карманы.
— Ты точно ничего не забыл? Все взял, что понадобится в городе?
— Конечно, мама.
— Вот увидишь, скоро ты там заведешь новых друзей и вообще не захочешь возвращаться. Узнаешь столько всего нового. Станешь образованным молодым человеком.
— Но мне больше хочется остаться здесь.
— Совсем юной девушкой, Якоб, я поехала в Америку, чтобы помочь семье. Теперь пора тебе подумать, чем можешь помочь ты. Отец готов обеспечить тебе образование. Ты мог бы быть хоть немного благодарен ему.
— Благодарен? — не понял я.
— Он тяжелый человек, но где мы были бы, если б не он? Без него тебя вообще не было бы. Присматривай за дедушкой, он уже немолод. Вы должны заботиться друг о друге, слышишь? Сарело будет регулярно привозить вам еду, а я каждый раз буду передавать что-нибудь вкусненькое. Увидимся летом, Якоб. А теперь иди, они тебя ждут.
Мать погладила меня по плечу, словно стряхивая нитку. Не успел я дойти до телеги, как она опять окликнула меня. Сделав несколько шагов навстречу, она провела пальцами по моим волосам.
— Ты оброс. Я сказала деду, чтобы он постриг тебя покороче. Несколько недель назад я кое-что заказала для тебя сербской портнихе. Вчера я видела Катину, она пообещала, что будет ждать вас сегодня на выезде из деревни и отдаст подарок. Надеюсь, тебе подойдет. — Ее подбородок едва заметно дрожал. — Не скажешь своей маме «до свидания»?
— До свидания, мама!
На границе деревни к нам подошла Катица.
— Еще немного, и я бы не дождалась, — сказала она. — Не знаю, впору ли они тебе, но ты можешь носить их в школу.
Я спрыгнул с повозки и взял у нее подарок, завернутый в газету. Я вырос, хотя остался тощим и нескладным, а она стала более женственной, но тогда я на это не обратил внимания.
— Твоя мама заказала нам брюки и рубашку, чтобы ты носил в городе. Это вроде как сюрприз.
Я поблагодарил ее и смущенно опустил глаза.
— Ну что ж, — сказал я.
— Ну что ж, — повторила она.
Я залез на телегу, мы тронулись, а дед прошептал мне:
— Якоб, ты же шваб. Я ничего не имею против этой сербской девочки, но не забывай об этом.
Я обернулся и увидел, что Катица бежит за нами. Сарело опять остановил лошадей.
— С весны я буду работать в ателье мадам Либман. Сначала бесплатно, она только так согласилась. Может, тогда мы увидимся.
Наши взгляды встретились, а дед нетерпеливо замахал руками.
В третий раз Сарело пришлось остановиться, когда мы проезжали мимо пустующего холма Рамины. Он хотел пустить лошадей вскачь, но я выхватил у него вожжи и натянул их. Сарело не желал уступать, однако дед мягко положил ему руку на плечо и кивнул мне.
— Иди, — шепнул он.
Дом Рамины засыпало снегом через армейский пролом в стене. Все, кроме дивана и мыла, осталось на своих местах: сундук с целебными травами, горшки и одежда. Я не мог разобраться в своих чувствах, ведь она предала меня. Побродив по дому, я остановился у окна, из которого раз в неделю смотрел на небо много лет подряд.
— До свидания, Рамина! — крикнул я в холодную пустоту, закрыл за собой дверь и вернулся на дорогу.
* * *
Вдали от отца я расцвел, а вот дед старел у меня на глазах. Без любимой земли и лошадок, без сотен привычных дел, определявших его жизнь в деревне, он скукожился, молча сидел за столом и так же молча ложился спать. В зимние и весенние месяцы время тянулось медленно, словно дряхлая старуха, что из последних сил переходит дорогу. Иногда на несколько часов отключали свет, и, поскольку дров у нас тоже было мало, в доме царила холодная, неприятная темнота.
Обычно мы сидели вечером в гостиной и слушали военные сводки по солдатскому радио. Казалось, военная фортуна изменила нам, потому что теперь наступали русские. Каждый раз, когда немцы отступали, это называлось «выравнивание фронта». Как будто война — это буханка хлеба, от которой при каждом поражении отламывают по большому куску, и, чтобы скрыть это, кто-то ровно обрезает края. Когда буханка закончится, война будет проиграна, но зато никто ничего не заметит.
Мы продолжали слушать радио, даже лежа в постели.
— Война проиграна, это я тебе говорю, Якоб. Тут я согласен с твоим отцом. Нам придется дорого заплатить, хоть мы и ни при чем! — кричал дед из своей комнаты.
Мы лежали в темноте, разделенные стенкой, и музыка из приемника звучала в тишине дома. Все эти песни мы знали наизусть, но прошло то время, когда мы с удовольствием подпевали.
Однажды я спросил деда, что же это за «наше дело». За стенкой зашуршало одеяло, скрипнули половицы, и дед оказался в ночной рубахе у моей кровати.
— Мы ушли из Лотарингии, потому что там были война и чума. Мы не искали новой войны, мы хотели мира и кусок земли. Мне кажется, голод и война опять догнали нас. Но теперь не осталось места, куда мы могли бы убежать от них.
Дед оказался прав, потому что наша война на самом деле началась только после войны. Оставалось еще два года до того, как нашей привычной жизни настал конец. Такие вечера всегда заканчивались рассказами деда о деревне или длинной историей о первых переселенцах, с которых все началось. Потом дед выключал радио и умолкал. По его ровному дыханию я догадывался, что он уснул.
Я до сих пор не знаю, импровизировал ли он в своих рассказах, как Рамина, но мне это было и не важно. Целые поколения Обертинов, то богатые, то бедные, вплетались в эти древние, могучие истории, и всякий раз появлялось что-то новое. Каждую ночь мы с дедом погружались в сон прямиком из Лотарингии.
Дед настаивал на том, чтобы каждый день сопровождать меня по дороге в школу и обратно, не столько ради заботы обо мне, сколько для того, чтобы хоть чем-то наполнить свой день. В своей крестьянской одежде он выделялся в трамвае среди городской публики — служащих, офицеров и коммивояжеров. Иногда встречались и бедно одетые девушки, ни за что на свете не желавшие сесть на свободное место. Сколько бы покупок они ни везли, их положение представлялось им столь естественным, что они предпочитали стоять, чем сделать что-то, на их взгляд, неподобающее. Они дорожили честью сословия, каким бы низким оно ни было.
То были деревенские девушки на службе у состоятельных семей. Они привыкли ходить в поле за несколько километров, чтобы отвоевать у земли последние остатки пищи. А когда и этих остатков перестало хватать, они решили зарабатывать пропитание в городе. Они всегда держали глаза долу, будто считали временное равенство между ними и другими пассажирами нежелательным и незаслуженным. Ведь трамвай вез всех одинаково, равнодушно и безразлично.
Наверное, так же мать выглядела в Америке, по крайней мере, сначала. Когда дед улыбался, глядя на деревенских девушек, я не знал, думает ли он о том же, что и я. Может быть, он, так разбогатевший, улыбался просто потому, что узнавал в них собственные корни.
Директор школы Штурц приветствовал меня, как положено, «хайль Гитлер!». Но когда я ответил тихим «целую ручку», он посмотрел на меня сверху вниз сочувственно и строго. «Немецкий юноша никому не целует рук, — сказал он. — Он целует разве что отца и мать. Разве что ручку прекрасной дамы может поцеловать немецкий мужчина». Он посасывал сигару и казался очень довольным этой первой педагогической мерой. Мне не оставалось ничего иного, как крикнуть то, что он хотел услышать. От этого он подобрел, ну и от свиньи, конечно, которую отправил ему отец.
В то тяжелое время, когда до нас добралась война и поезда еще были полны солдат и оружия, когда в лавках и на рынках было шаром покати, свинья надолго обеспечивала сытую жизнь. Тушу доставил в центр Темешвара один из отцовских батраков, и от телеги до самой квартиры директора тянулся кровавый след, отчего госпожа директорша впала в истерику. Она боялась взломщиков, воров и зависти соседей. Встав на колени, она собственноручно вымыла каждую ступеньку лестницы.
Затем директор Штурц положил ладонь мне на затылок и отвел в класс, где раздались очередные «хайль Гитлер!» из уст учителя и учеников хором. Директор произнес краткую речь, в которой объявил Гитлера Велповром, а войну — выигранной, хотя в настоящее время и происходит вынужденное выравнивание фронта. Он был совершенно уверен, что скоро русские выдохнутся.
Нескольким ученикам он порекомендовал напомнить родителям о необходимости сдавать пожертвования в Фонд зимней помощи[19] немецкого народа. Дрожащим голосом директор сообщил, что отец одного мальчика пал на фронте. К сожалению, он сражался не в той армии. Румынские части плохо вооружены и трусливы, хотя и бьются плечом к плечу с вермахтом. Но когда румынские немцы наконец наденут настоящие мундиры и станут сражаться за наше дело, все изменится. Тогда уж не литься немецким слезам так часто.
Потом он вспомнил об истинной цели своего визита, подозвал меня и положил руку мне на плечо.
— Это Якоб Обертин. Он болезненный юноша, приехал из деревни. Но если кто посмеет его дразнить или высмеивать, будет иметь дело со мной. Хайль Гитлер!
Школьники много занимались физкультурой, но меня освободили, и я предавался своему любимому занятию — читать, забравшись в какой-нибудь уединенный, заброшенный угол обширного школьного двора. На библиотеку я наткнулся скорее случайно, пока бродил по длинным школьным коридорам. Хотя многие книги были изъяты как не немецкие, все же их осталось достаточно, чтобы удовлетворить мое любопытство.
Не желая давать мне поблажки, классный наставник написал целый список книг, которые я должен был читать во время уроков физкультуры. Прочитав книгу, я отвечал на вопросы учителя. Это был невысокий мужчина с желтоватой кожей. Рвения у него было вдвое меньше, чем у директора, он знал, что болен, и предчувствовал скорую смерть. «Печень, мой мальчик, — сказал дед, услышав о нем. — Долго ему не прожить». Он действительно умер еще до конца войны.
Я был почти уверен, что, пока я сидел перед ним и пересказывал содержание какой-нибудь трудной книги, он совсем не слушал. Учитель смотрел сквозь меня, будто я живу в мире, к которому он уже не принадлежит. Однако этот сознательный, строгий человек следил за тем, чтобы я читал.
После уроков мы с дедом бесцельно бродили по городу, словно желая отсрочить тот миг, когда придется вернуться в наше пустое жилище. Дед нес мой портфель и постоянно отставал от меня, чтобы поглядеть на товары какой-нибудь лавки. Ходил он медленно, словно ему больше некуда было торопиться, ведь теперь земля не ждала его. Не ждали ни скотина, ни покупатели на рынке. В городе его шаги замедлились в такт тоске по родной деревне.
После обеда он стоял перед школой и ждал, подобно деревьям на бульваре. Подобно одной из его лошадок, что годами ждала его на краю поля. Почти всегда с собой у него был кулек бозамбо — печений в форме ракушек, с какао внутри и шоколадной глазурью снаружи, — такие продавались только в кондитерской «Остеррайхер». Встречая меня после уроков, он всегда угощал меня одной бозамбиной. И дальше давал по одной на каждой остановке нашего запутанного маршрута по лабиринту городских улиц, последнюю сладость я обычно съедал уже перед домом.
Во время прогулки мы оставляли за собой шлейф сладкого запаха. Маршрут наш никогда не повторялся, а менялся в зависимости от того, где проводилась какая-нибудь ярмарка, открывался новый магазин или продавалась новая книга. В этом дед видел свою истинную задачу, которую сознавал и без наказов отца и матери. «Тебе надо много читать, Якоб, ведь ты беззащитен. Любой может сделать с тобой что заблагорассудится, но если ты много знаешь, то ты вооружен. — Он поднимал палец. — Тот, кто много знает, может оторваться от своей земли, а кто не знает — тому нужен клочок земли для пропитания». Довольный своей краткой речью, он засовывал в рот бозамбину. В отличие от классного наставника, его не интересовали названия моих книг. Одних обложек хватало, чтобы вселить в деда уверенность в моем будущем.
Но потом дед стал все чаще опаздывать, а то и вовсе не приходил встречать меня. Однажды, прождав довольно долго, я отправился домой один. Перед витриной кондитерской «Остеррайхер» я остановился, чтобы полюбоваться тортами и пирогами, громоздившимися за стеклом так, словно хотели достать до самого Бога. За стеной из сахара, сливок и шоколада я увидел деда, сидящего в лучшем костюме за единственным столиком.
Лавка скоро закрывалась, и никаких других посетителей там уже не было. Рядом с дедом сидела госпожа Остеррайхер — округлая и приветливая дама. Думая, что ее никто не видит, она любила смотреться в зеркало и поправлять прическу, которая окружала ее голову, словно облако непонятного цвета. Как и все дамы района, она стриглась в салоне «Метцель». Над дверями магазинов и заведений квартала висели похожие яркие вывески. Все они были изготовлены в мастерской «Бергер», что находилась за углом.
Дед вел себя непринужденно, я видел, как он смеется. Казалось, предмет разговора сильно веселил собеседников. Госпожа Остеррайхер, все еще в фартуке, слегка поправила прическу и положила руку на стол. Дед наклонился вперед и накрыл ее руку своей ладонью, а дама, очевидно, была не против. Она не отдернула руки, и так они продолжали беседу.
Я удивленно отпрянул от витрины. Дед, наверное, хотел сохранить этот секрет при себе. Вернувшись вечером, он откашлялся, и его смущение бросалось в глаза.
— Я совсем забыл, который час, — сказал он.
— Да тебе совсем ни к чему встречать меня из школы, дедуль. Мне уже семнадцать. Делай что хочешь, — ответил я, не отрываясь от книги.
За ужином я заметил, что дед почистил ногти.
Ни с того ни с сего он спросил:
— Как тебе госпожа Остеррайхер? — И, не дожидаясь ответа, заметил: — Веселая она вдовушка.
Знакомство деда с кондитершей имело приятные последствия. Как-то я проходил мимо лавки госпожи Остеррайхер, а она вышла и окликнула меня: «Ты же внук господина Обертина, да?» Она вернулась за прилавок, положила на салфетку несколько бозамбин и поднесла их мне. «Открой-ка ротик!» — велела она и, как только я это сделал, засунула одну сладость мне в рот. Я полез в карман за деньгами, но она остановила меня: «Это бесплатно, мой милый. С деньгами или без, все равно все это скоро пойдет псу под хвост». Я не понял, что она имела в виду.
Однажды, приняв очередной подарок от кондитерши и запихивая кулек бозамбо в карман, я увидел перед собой Катицу. В руках у нее было несколько рулонов ткани. За те несколько месяцев, что прошли с нашей последней встречи, она изменилась. Или я. Или что-то еще. Ее живые глаза пристально смотрели на меня.
— Сколько ты уже в городе? — спросил я.
— Несколько недель.
— У мадам Либман?
Она кивнула.
— Говорят, скоро еврейские магазины закроют, — продолжил я.
— У мадам слишком много важных клиентов, — ответила она.
Не зная, что еще сказать, я смущенно переминался с ноги на ногу, пока не вспомнил о бозамбо. Я достал кулек и хотел отдать ей, но руки у нее были заняты рулонами.
— Давай это мне, — сказал я и взял ее ношу, а сладости сменили владельца.
Я проводил ее до вывески ателье мадам Либман, и она забрала рулоны обратно.
— В этом платье ты похожа на городскую девушку, — сказал я.
— Когда идешь к клиенту на дом, приходится надевать такое.
Я думал, что бы еще сказать, и тут вспомнил о вещах, что она передала мне, когда мы с дедом уезжали из деревни.
— Брюки сидят как влитые.
— Не жмут?
— Нет. Совсем нет! Тогда до завтра?
Она ответила, будто я задал самый обычный вопрос:
— Если пройдешь по улице пару раз туда-сюда, то я увижу тебя в окно.
Она исчезла во дворе, где находилось ателье мадам Либман. Так началось мое время с Катицей.
Мы встречались у входа во двор ателье и гуляли вдоль Бегского канала. Атмосфера в городе царила скорее мирная, чем военная. В открытых кафе было полно народу, пили вино из Баковы[20] и пиво с пивзавода на окраине города.
В дождливые дни мы заходили в кинотеатр «Мози», где тогда показывали уже не американские, а немецкие фильмы. Мози был единственным в городе обладателем «роллс-ройса». Он знал продолжительность картин и подъезжал на своем авто как раз в перерыве, когда мы все стояли на улице. Издалека, еще не выехав из-за угла, он гудел в клаксон и пугал немногих лошадей, везших телеги. Подъезжая к собравшейся толпе, он газовал, чтобы эффектно затормозить прямо перед нами. Машина сверкала, как золото во рту у цыгана.
Выходя из автомобиля в безупречном белом костюме, Мози был настоящей звездой. Некоторые пропускали вторую часть фильма, только чтобы поглазеть на это чудо техники. Однажды кто-то поинтересовался, почему он купил именно «роллс-ройс», а не немецкую машину. Ведь фильмы Мози явно предпочитал немецкие, а вот машины — английские. «Кино — это для души, а автомобиль — для глаз», — отвечал пижон. Мы так и не поняли, почему душа у него немецкая, а глаза английские.
Мози боялся испачкаться и поэтому запрещал его трогать. Как-то раз он расстелил на асфальте платок, встал на колено и вдохнул выхлоп своей машины. Откашлявшись и отряхнув костюм, он сказал с драматической интонацией: «Так пахнет будущее, дорогие мои».
Мы с Катицей никогда не касались друг друга, ни в кино, как все парочки, ни во время прогулок по паркам на берегу канала, где все готовили почву для дальнейших прикосновений. Нам это было ни к чему, ведь все, что происходило с нами, казалось спокойным течением, что плавно увлекало нас и через несколько часов снова приносило к берегу.
В конце вечера я провожал Катицу до ее маленькой сырой комнатушки над ателье, которую ей выделила мадам. Но дни, когда мы могли гулять по улицам, парку, набережной, были сочтены. Первые осенние ураганы уже бушевали над окрестностями и наносили серьезный ущерб в Трибсветтере, как нам еженедельно сообщал Сарело. Порою дождь и ветер по нескольку дней властвовали в городе, и увязшие в грязи машины приходилось вытаскивать лошадьми.
Дед меня не притеснял, но наблюдал за моей небывалой веселостью с подозрением.
— Она хотя бы швабка? — спросил он однажды. — От меня-то можешь не скрывать.
— Она сербка, дедуля. Наша Катица.
Он долго отмалчивался по этому поводу, но как-то подозвал меня:
— Приводи ее в дом. Не та погода, чтоб по улицам шляться. Можете и здесь… — он задумался, — читать, или что там еще. А то заболеешь чего доброго.
Но я понимал, что это не единственная причина, по которой он хотел, чтобы мы были при нем. Одним ухом он слушал дурные вести из России, а другим прислушивался к нам с Катицей. Мог внезапно войти в мою комнату, притворяясь, будто что-то ищет. А что именно, быстро забывал. Катица обычно шила, сидя на кровати, подогнув одну ногу и свесив другую. Ее икры и щиколотки постоянно отвлекали меня от чтения.
Читая, я иногда чувствовал на себе ее взгляд, но на что именно любят смотреть девушки, я не знал. Так, между внезапными появлениями деда, шитьем и чтением, взглядами в лицо и почти столь же выразительными взглядами в сторону, проходило время.
Ближе к вечеру дед всегда начинал нервничать. Он ходил, словно в клетке, не имея ключа. Этого времени он ждал больше всего, ведь он всегда проводил его со вдовой Остеррайхер. Всего несколько минут, но их хватало, чтобы накрыть ее ладонь своей. Он подходил к двери, выходил на крыльцо и возвращался, но однажды, в дождливый день, я сказал ему:
— Можешь идти, дедуль. Не беспокойся.
Он не спросил, откуда я знаю, что он хочет уйти, а только прошептал:
— Ты же не сделаешь ей живот, правда? — Он кивнул головой в сторону моей комнаты.
— Не сделаю, дед. Иди уже.
Он натянул сапоги и плащ, нахлобучил шляпу и ушел. Я долго ждал, прежде чем вернуться к Катице. Когда я наконец вошел в комнату, она лежала на матрасе, опираясь на локти. Теперь с кровати свисали обе ноги. Тощая, незаметная Катица вдруг превратилась в создание, завладевшее моей комнатой, моей кроватью и моими мыслями, и бежать было некуда.
Увидев, что я снова взялся за книгу, она выпрямилась и спросила:
— Что ты там читаешь?
— Одну историю, дело происходит в Америке, на Миссисипи.
Она растопырила пальцы ног, и опять мне не давали покоя ее икры.
— Что это?
— Река. Она длиннее и шире нашего Дуная.
Ее живот, который мне нельзя было делать, поднимался и опускался, а вместе с ним и все, что выше. От этого мягкого покачивания меня трясло сильнее, чем от землетрясения.
Я покинул свой пост, чтобы включить свет, когда входная дверь распахнулась и послышалась дедова ругань — румынские проклятия, каких он еще никогда не произносил. Я испугался, что это как-то связано с животом Катицы, и приготовился к обороне, но я ошибся.
— Черт подери, кондитерская закрыта! Я не был там столько дней, а теперь она закрыта. Пусто и заперто. — Он бросил сапоги и плащ в угол. — Витрины все заколочены досками, и никто не знает, где она.
— Она была еврейка? — спросила Катица.
— Конечно, еврейка, — ответил дед.
— С такой австрийской фамилией? — вмешался я.
— Мальчик мой, евреем можно быть с любой фамилией. — Он покачал головой. — Там остался только один торт, засохший.
Он ругался, пока не выдохся, потом молчал целыми днями и отказывался выходить из дому. Так продолжалось несколько недель, но потом эта история стала если не забываться, то по крайней мере отошла на второй план. Дед никогда больше не говорил о ней, и, сколько он ни пытался отыскать госпожу Остеррайхер, узнать что-нибудь о ее судьбе, все было напрасно. Постепенно он сдался.
В начале 1944 года канал замерз, за несколькими днями снегопада последовали долгие недели морозов. В некоторых местах лед был настолько толстым, что по нему можно было переехать канал на повозке, другие же оказались коварными и стали ловушкой для неосмотрительных смельчаков. Катица продолжала приходить к нам, и дед снова старался не оставлять нас одних.
Насколько я желал этого, настолько же был благодарен деду. Ведь без него мне не давали бы покоя пальцы ног Катицы, ее икры и живот. Она нередко ела с нами, и потом дед заворачивал ей остатки и еще немного в придачу.
— И все-таки, Якоб, — бормотал он, когда я возвращался, проводив Катицу до дома, — она сербка, а ты шваб. Помни об этом.
Никто из нас не заметил приезда отца в тот солнечно-синий февральский день. Он приехал на автомобиле, уместив в него все, что обычно привозил Сарело. Теперь продуктов было немного, потому что война, тоже голодная, опустошила амбары и стойла в Трибсветтере. Румынские солдаты забирали у крестьян все, что те не успели спрятать.
Отец обстучал снег с сапог у порога и вошел. Мы с Катицей сидели у меня в комнате.
— Что говорят по радио, дед? — раздался в гостиной его голос. — Проигрываем мы войну? Дома я слушаю только пластинки твоей дочери, все остальное уже не могу слышать. Шнапсу у тебя в доме не осталось? Надо согреть косточки.
Мы услышали, как дед встал и пошел в подвал, затем вернулся и молча налил отцу рюмку.
— Как дела в Трибсветтере? — спросил дед.
— Плохо. Мальчишки напялили немецкие мундиры и уехали на фронт. Теперь старики все глаза выплакали. На прошлом собрании я им сказал: «Если б вы раньше были умнее, теперь не пришлось бы плакать». И Непер с ними пошел, но уже вернулся мертвым. Я ему много раз говорил, что он слишком старый, но он всегда отвечал только, что для нашего дела никто не стар. Закинул винтовку за плечо и полез в вагон. Его сразу же в Сербии бомбой в клочки разорвало. Мы принесли его в деревню под колокольный звон, как положено. Но давай поговорим о том, зачем я приехал. Как у пацана дела в школе?
— Он хорошо учится. Учеба дается ему легко.
— Тем лучше. Где он? У меня новость для вас обоих.
Я достал из ящика школьную ведомость и пошел в гостиную, Катица последовала за мной. Отец не обратил на нее никакого внимания и протянул ко мне руку. Я дал ему ведомость, но он отложил ее в сторону. Катица осталась стоять у двери.
— Сядь, мой мальчик! — велел он. — Мне нужно сказать тебе что-то важное. Говорить буду напрямик, мне скоро ехать. Сарело живет с нами полтора года и уже разбирается во всем, что нужно знать крестьянину. В отличие от тебя, он очень способный, и я решил сделать его наследником. Тебя земля все равно не интересует, ты больше годишься для учебы и книжек.
Он взял со стола одну из книг, полистал ее и положил обратно.
— Когда ему исполнится двадцать, я назначу его управляющим. Он уже сейчас так хорошо справляется со своей работой, что его уважают и хозяева, и батраки. Я хотел тебе сказать об этом заранее, чтобы ты не надеялся зря и занимался только учебой.
Он сел, положил ногу на ногу, плюнул на свой сапог и стал начищать его рукавом пальто.
— Но ведь он просто грязный цыганенок! — вырвалось у меня.
— Нет, это не так, — твердо заявил отец.
Я посмотрел на деда, ведь если кто-то и мог за меня вступиться, то только он.
— Ты не можешь еще и вот так поступить с мальчиком. — Его упрек остался неуслышанным.
Я заплакал. Я обещал отцу, что всему научусь, что буду заботиться о нашей земле даже лучше, чем Сарело. Я умолял его, а он продолжал начищать сапоги. Наконец пробурчал: «Прямо как новые». Он встал, здоровенный мужчина, в котором больше ничто — ни сапоги, ни шапка, ни пальто — не напоминало того оборванца, что когда-то пробрался в деревню, как вор.
— Я твой сын, а не он! — закричал я. — Он просто цыган, ему место на Буге. Я донесу жандармам, кто он такой на самом деле, вот тогда посмотрим…
Не дав мне закончить фразу, его рука опустилась на меня с такой силой, что я еле удержался на ногах. Он шагнул ко мне, но от второго удара я успел увернуться.
— Рамина была права, ты мне вообще не отец!
Я проскользнул мимо него, обулся в прихожей и выбежал из дома. Куда — я не знал, но мои ноги знали. Они понесли меня через весь Йозефштадт, мимо людей и магазинов, которых я не замечал, прямо к каналу.
Когда Катица прибежала за мной, я был уже посреди канала и скакал по льду, желая, чтобы он наконец проломился. Чтобы он вскрылся и дал мне провалиться в воду, которая ждет внизу. Я прыгал на самых тонких местах, но лед не поддавался. У него были на меня другие планы, как раньше у Бога.
Устав и замерзнув, я присел на корточки, а на берегу и на мосту неподалеку уже собрались люди, они кричали мне, призывая не дурить и не навлекать на себя беду. Появился даже полицейский, который попробовал осторожно приблизиться ко мне, но каждые несколько метров нога его проваливалась под лед. На широком, раскрасневшемся лице Катицы был написан весь ужас, который она испытывала вместо меня.
Вспоминая о ней сегодня, я вижу ее на берегу канала с распахнутыми глазами и маленькими ручками, сжатыми в кулаки, прямо как в американском кино. Поскольку ничего не помогало и река не желала принимать меня, я сидел на корточках, пока не затрясся от холода. Зеваки были разочарованы, ведь ничего не случилось, и разошлись. Жандарм тоже исчез, когда я вернулся на берег. Катица хотела меня обнять, но я отпрянул.
— Не надо, я плохо пахну, — пробормотал я.
Она засмеялась каким-то особенным смехом, и тогда я смог поднять голову и посмотреть ей в глаза.
— Якоб, ты слишком много общаешься с Мози. Он тоже не дает себя трогать, но потому что очень чистый.
— Ты ведь никому не расскажешь, правда?
— В прошлый раз я смогла удержаться.
Следующие месяцы мы с Катицей не разлучались. Когда она была свободна от работы в ателье, а я — от занятий в школе, и если дед не просил, чтобы мы остались с ним, мы гуляли по городу, как раньше я гулял с дедом. Бывало, мы по нескольку часов почти ничего не говорили. Я пересказал ей все истории Рамины и деда. Но они ее не особенно интересовали. Она считала, что такие люди, как Каспар и Фредерик, вообще не заслуживают, чтобы о них рассказывали. В конце концов они оказались просто убийцами. И она понимала — в этом я уверен, — что этими рассказами я хотел лишь отвлечь ее от того, что имело отношение только к нам двоим.
Иногда в каком-нибудь районе, где нас никто не знал, на безлюдной улочке, отгороженной стеной, я брал ее за руку. Только за руку. И лишь под конец, незадолго до ее отъезда из Темешвара, при последней нашей встрече, я ее поцеловал. Но мне куда приятнее вспоминать, как мы держались за руки.
Катица почти никогда не упоминала ни о моем отце, ни о том, что видела и слышала у нас дома. Не из деликатности, а просто потому, что в ее мире это не имело никакого значения. Ее родители были так бедны, что Катице ничего не досталось бы в наследство, кроме манекена и старых модных журналов матери. У них никогда не было ни хозяйства, ни великого прошлого, только жалкий маленький домик. Для нее имело смысл только настоящее, я еще никогда не встречал человека, для кого бы прошлое и будущее так мало значили. Важно было то, что можно потрогать руками, например, я.
Тем временем городом завладела одна-единственная, неотступная мысль — найти пропитание, причем до того, как его найдет кто-то другой. Люди неутомимо рыскали в поисках испорченного мяса или подгнивших овощей. Они с недовольством стояли в очередях, ведь единственное, что у них осталось от прежней жизни, — это уверенность, будто им причитается больше, чем остальным. Когда товар подходил к концу или вовсе заканчивался, разгорались ссоры. Нередко я видел, как элегантные господа дрались из-за пары костей. Война пока еще обходила нас, но ее дыхание с каждым днем становилось все ощутимее.
Нам с дедом приходилось легче, потому что Сарело приезжал каждую неделю. Кое-что доставалось даже Катице, я регулярно относил ей свертки с колбасой и сыром. Но город кишел ворами и попрошайками. Они стояли возле церквей — там их было больше всего, — перед кафе и магазинами, где бывали те, кто еще мог себе позволить что-то подать. Они стояли перед театром и на каждом оживленном перекрестке, в парках и на набережных канала. Их жалостливые голоса, их искореженные лица преследовали меня даже во сне. Они стали оккупантами, истинными хозяевами города. Избегать их означало перестать выходить из дома.
Один из попрошаек был безногим, его повсюду носил на спине жилистый молчаливый мужчина. В отличие от его собратьев, живущих на улице и за счет улицы, безногий был всегда свежевыбрит и чисто одет. Как будто ухоженное попрошайничество достойнее, чем в лохмотьях.
Мы с Катицей часто наблюдали эту пару, она всегда действовала по плану. Сначала они разведывали местность и коротко совещались, но последнее слово всегда оставалось за калекой. Если место казалось многообещающим, носильщик ссаживал безногого, и тот подбирался к жертве сам, волоча туловище по земле. То ли из-за внешнего вида, то ли благодаря своему таланту денег он всегда собирал больше всех других. Однажды мы даже видели этих двоих в довольно дорогом кафе, в их тарелках были изысканные кушанья.
В середине июня — золотого, жаркого месяца — мы с Катицей сидели на набережной канала, где отдыхало много людей. Мне казалось, она чем-то озабочена, но не может подыскать нужных слов, чтобы рассказать об этом. И вдруг мы услышали рядом с нами голос:
— Если ты ее сейчас же не поцелуешь, она убежит от тебя, с таким-то лицом. — Калека подобрался к нам вплотную и добавил: — Или ты дашь мне пару монет. Это подействует так же, как поцелуй.
— С чего бы это? — спросил я, но полез в карман за мелочью.
— Очень просто, тогда я кое-чего не сделаю.
— Чего же?
— Не прокляну вас.
Получив монеты, он тут же забыл о нас и направился к другой парочке, а его напарник остался неподалеку.
— Что случилось? — спросил я Катицу.
— Мадам отсылает меня обратно в деревню. Ей придется закрыть лавку, и не из-за того, что она еврейка, просто клиентов не осталось. Люди теперь тратят деньги на еду, а не на новую одежду.
Провожая Катицу домой, я поцеловал ее в подъезде дома рядом с кондитерской «Остеррайхер». На досках, которыми заколотили витрины, было написано белой краской «С. N. R.», а торт, оставленный на прилавке, давно превратился в маленькую серую кучку. С совершенно новым ощущением в животе я вернулся домой.
Той ночью нас с дедом разбудили разрывы бомб в районе Северного вокзала. Вместе с соседями мы вышли на улицу и увидели пылающее небо над крышами домов. Оно возвестило о пришествии войны. Сирены взвыли слишком поздно, словно за них отвечал наш пьяный Штруберт. Я побежал обратно в дом и оделся, а когда вышел и хотел прошмыгнуть мимо деда, он спросил: «Ты куда собрался? Слишком опасно!» Мой ответ утонул в грохоте новых взрывов. Бомбардировщики зашли на второй круг, и на воздух взлетели склады боеприпасов, нефтехранилища и заводы.
Катицу я нашел съежившейся в углу ее комнаты и привел к нам. С первыми лучами солнца небо оказалось таким голубым, будто издевалось над нами. Завернувшись в одеяла, мы с Катицей сидели на веранде и держались за руки, не сомневаясь, что скоро погибнем. Потом мы услышали первые вести о сгоревших, задохнувшихся, контуженых людях. Так продолжалось несколько недель, в бомбоубежище мы проводили гораздо больше времени, чем дома. Днем я все еще чувствовал, как пальцы Катицы сжимали мою руку ночью.
Когда я в последний раз видел Катицу, она сидела в нашей телеге, а Сарело хлестал лошадей, чтобы успеть вернуться в деревню до темноты. «Без хлыста! Только вожжами!» — кричал дед ему вслед, но Сарело не обращал на него внимания. Катица подняла руку, прощаясь, и на этот раз вслед за телегой побежал я.
* * *
Если русские не собирались уходить, я рисковал замерзнуть до смерти. Тогда лед канала не поддался, потому что хотел сохранить мне жизнь для другой смерти, которую кто-то — может быть, Бог — придумал для меня. Жаль, что Рамина все время рассказывала о двух моих рождениях, но никогда не говорила о моей смерти. Жаль, что у меня теперь не было нескольких вариантов, чтобы выбрать себе подходящую смерть. Умру ли я в Сибири или прямо здесь и сейчас, на нашем кладбище, я не мог предугадать без подсказки Рамины.
Собрав в кулак всю свою смелость, я отодвинул могильную плиту и высунул голову. Снег перестал идти, ветер тоже успокоился. Могилы и памятники были укрыты толстым белым покрывалом. Даже ограда, отделявшая кладбище от поля, стала едва различимой. Я вылез, потянулся, похлопал по рукам и ногам и почувствовал, как закоченевшие конечности возвращаются к жизни. По еле заметным тропинкам я прокрался к воротам кладбища.
В деревне, быть может, даже на нашем дворе, мелькали огни, до моего слуха вновь донеслись крики русских, видимо, требовавших поторопиться, потом раздался выстрел и женский вопль. Ночь была нетемной, а снег делал ее еще светлее, поэтому я не мог укрыться во мраке.
Вдруг наступила тишина, словно все село уснуло и все оказалось только страшным сном. Лишь возле сельской площади светило несколько фар. Затем заурчали моторы, и вскоре несколько грузовиков тронулось к выезду из деревни.
В это мгновение облачный покров прорвался, и луна залила все тусклым светом. Я вернулся в свое укрытие, уверенный, что скоро последние русские уедут и за мной придут домашние. Сквозь дремоту я вдруг услышал голоса, приближавшиеся к кладбищу, но не мог разобрать, на каком языке говорят. Через щель я увидел свет нескольких керосиновых ламп, казалось, люди что-то обсуждают. Потом они направились к склепу Дамасов. Теперь я отчетливо слышал речь, известную мне по Темешвару, с того дня, когда русские пришли искать шнапс у нас в доме.
Судьба говорила по-русски, но когда она остановилась у склепа, я услышал хорошо знакомый голос. «Вылезай, парень. Все в порядке», — сказал отец. Я отодвинул плиту, и в лицо мне ударил такой яркий свет фонаря, что пришлось прикрыть глаза ладонью. Я почувствовал, что сильные руки тащат меня вверх, и не мог сопротивляться.
Сначала я разглядел Сарело, затем — отца. Он сказал: «Извини, парень. Они приняли за тебя Сарело, хотели забрать его у меня. Даже священник не смог их переубедить. У меня не осталось другого выхода. От тебя я могу отказаться, а от него — нет».
Двое русских солдат подхватили меня под руки и потащили. Следом на некотором расстоянии шли отец и Сарело. Меня гнали к свету фар, но я не упирался, в отличие от Рамины, которой помогал собственный вес. Я не парил над головами солдат, а втянул голову в плечи. И не суждено мне было сидеть в кузове грузовика, как на троне. Не было этого маленького триумфа в минуту величайшего поражения.
В оцепенении, — которое овладело мной, когда я узнал о смерти Катицы, — я приближался к тому месту, где провел половину детства. Где мой дед продавал скотину, Сарело — ножи, а Катица — юбки и костюмы, сшитые ее матерью. Где мамаши присматривали будущих невесток. Где теперь два грузовика ждали последних пойманных пленников.
По переулкам гнали, как и меня, мужчин и женщин. Их хватали в огородах и сараях, в подвалах и на чердаках. Они безуспешно пытались защититься от холода шарфами, меховыми шапками и поднятыми воротниками. Когда все мы оказались в кузове одной из машин, я огляделся. Здесь был учитель Кирш, молчаливый и злой, и несколько его учеников, самых прилежных в военной подготовке.
Двое мужчин рассказали, что прятались на мельнице, одну женщину нашли в бочке с навозной жижей. Ее запах не покидал нас до самого города. Другая женщина была тяжело ранена — солдат ткнул штыком в стог сена. Ее, полумертвую, все равно положили в кузов рядом с нами. Посреди всех них стоял я, Якоб — Якоб через «с».
Постепенно вся деревня собралась вокруг грузовиков. Люди стояли молча. Они принесли с собой то, что хотели передать своим детям, братьям и сестрам: одежду, еду, фото на память. Но румын-переводчик велел им не приближаться, и солдаты оттеснили толпу.
Я высматривал отца и Сарело, шедших позади меня, но они исчезли. Искал глазами деда, но его тоже не было. Однако на неосвещенном месте я заметил фигуру, показавшуюся мне знакомой. Она сделала шаг вперед, потом еще один, и вдруг я узнал мать. Я ничего не крикнул ей, а просто смотрел на нее не отрываясь, настолько я был поражен тем, что она пришла. Та, что не заступилась за меня.
В руках у нее был сверток, она не давала солдатам оттолкнуть ее, изо всех сил защищая то, что прижимала к груди. Улучив момент, она побежала к нашему грузовику, но тут один из русских схватил ее за руку и рванул так, что она упала на землю. И все же она не сдалась. Солдата подозвал командир, и тот отошел, а она воспользовалась минуткой и наконец передала мне сверток.
— Господь с тобой, Якоб, — сказала мать, и тут ее оттащили от грузовика.
Когда русские погрузились во вторую машину и только четверо из них остались при нас, остальные провожающие тоже смогли отдать свои передачки. Наконец грузовики тронулись. Водитель дал газу, и ветер безжалостно задул в лицо.
В узелок мать положила свитер, хлеб, сыр и сало. Натянув свитер, я смотрел, как удаляются огни Трибсветтера. Потом я сел на корточки рядом с остальными, и, пытаясь согреться, мы, как щенята, прижались друг к другу.
Глава четвертая
Животные грели его так же, как грели младенца Иисуса. Когда начинал дуть ледяной октябрьский ветер и наступали первые ночные заморозки, Фредерик всегда брал в дом овец и свинью. Преданно и смирно стояли они вокруг его соломенного ложа, окоченевшее тело Фредерика согревалось, и он наконец засыпал.
В то утро 1769 года, когда он впервые услышал о Банате, его разбудил резкий стук в дверь. Словно утопающий, которому удалось спастись в последнюю минуту, он вернулся к жизни. Он судорожно вдыхал воздух и, поскольку слышал стук еще во сне, не мог понять, не приснилось ли ему это. Лежал и прислушивался, нащупывая под подушкой нож.
Хотя Великая война закончилась больше ста лет назад, в окрестностях Дьёза, да и во всей Лотарингии так и не наступил настоящий мир. Еще когда Фредерик был мальчишкой, король Франции вел новые войны[21], и родителям приходилось прятать сына от мобилизационных отрядов. Как только на дороге из Марсаля показывались всадники, он бежал прятаться в ближайшую рощу. Теперь этого можно было не опасаться. Когда крестьянин выходил в поле, он мог быть уверен, что вечером вернется домой. Здесь стало спокойнее по сравнению с теми временами, когда тут объявился Каспар, который, по рассказам отца Фредерика, подумал, что пришел домой, и прикончил всю жившую здесь семью, кроме девушки.
Каспар сжег старый дом дотла из-за поселившейся там чумы. И построил новый — тот, в котором теперь жил Фредерик. Каспар с девушкой поселились в этом доме, обзавелись кое-какой скотиной и семенами и стали мирно жить на своей земле. В окрестности постепенно возвращалась жизнь, некоторые крестьяне селились в брошенных домах. Дошло даже до того, что Каспару с девушкой почти не приходилось голодать.
Они почти никогда не появлялись в деревне, им хватало друг друга. Останки всей семьи поместились в маленькой могилке, что Каспар вырыл неподалеку от двора. Фредерик хорошо знал это место, хотя креста уже не осталось. Напоминание о том, что совершил Каспар, всегда было у него перед глазами. Отец пересказывал ему, что девушка была даже преданной и работящей, а значит, довольной. Она родила Каспару семерых детей, несколько из них вскоре умерли. И все же через двадцать лет, вынашивая восьмого ребенка — ставшего прадедом Фредерика, — она ни с того ни с сего убила своего мужа, и ее первенец закопал труп в роще. После этого она продолжала вести хозяйство с помощью сына, как будто ничего не произошло.
Фредерик часто искал в зарослях какие-нибудь следы, которые помогли бы ему пролить свет на эту легенду. Однажды он окончательно решил, что это правда, и бросил думать об этом, потому что ему хватало иных забот. Земля плодоносила плохо, неурожаи случались все чаще, налоги были высоки, и потому бедность превратила многих крестьян в бродяг, готовых убить за кусок хлеба. Тем, что его миновала эта доля, он был обязан сносному ремеслу — охоте на цыган.
Когда стук раздался в третий раз, он крикнул:
— Кто там?
— Спрашивает еще! Да я это. Поднимайся, а то мы сегодня вообще ничего не заработаем.
Услышав голос своего друга, Фредерик убрал нож, растолкал животных и открыл дверь.
— Одевайся. В окрестностях Марсаля видели цыган! — сказал Жюль.
Фредерик был мал ростом, но достаточно крепок и в харчевне мог уложить на лопатки любого, кто осмеливался оскорбить его — мол, он в свои тридцать лет все еще живет один, вдали от деревни, бирюк бирюком, и ни до кого ему дела нет. Единственным, с кем он общался и, так сказать, вел дела, был Жюль — настоящий великан. За каждого пойманного цыгана после вычета платы за лошадей они получали достаточно, чтобы свести концы с концами до следующей охоты. На этот раз табор опять бродил где-то между Муайянвиком и Марсалем.
Они понимали друг друга с полуслова, поскольку вместе выросли, и когда Фредерик унаследовал хозяйство, Жюль иногда приходил к нему из деревни, чтобы помочь. Жены себе Фредерик так и не подыскал, ни одна девушка не смогла смириться с его уродством. У него было изуродованное лицо, будто изъеденное какой-то болезнью, и толстые губы. Во всяком случае, Фредерик уже не сомневался, что навсегда останется холостым.
Жюль привел лошадей, и как только Фредерик собрался, они молча пустились в путь. Какое-то время они скакали в сторону Марсаля, обогнули город и вскоре достигли густого леса, где издавна прятались цыгане. Заметив легкий дымок над верхушками деревьев, они спешились, привязали лошадей, чтобы те не выдали их своим ржанием, и стали осторожно красться вперед. Они знали, что любая хрустнувшая ветка может лишить их добычи.
Если среди цыган было несколько сильных мужчин, то охотники вполне могли сами стать дичью. Цыгане были стреляные воробьи и умели обращаться не только с лошадьми, но и с оружием. Однако если там только женщины и старики, то Фредерик с Жюлем вполне могли рассчитывать на успех.
Конечно, прошло время великих странствий, когда цыгане сотнями появлялись у городских ворот и их почтительно принимали и одаривали. Теперь они передвигались маленькими группами, чтобы не привлекать внимания. Цыгане стали пугливыми и предпочитали держаться подальше от поселений. Лагеря разбивали только в чаще леса. Несмотря на это, их преследовали и на перекрестках дорог прибивали таблички с изображением того, что ждет каждого пойманного цыгана, а именно — виселицы.
На этот раз удача улыбнулась Фредерику и Жюлю — в лесу скрывались лишь несколько оборванных женщин с маленькими детьми, дряхлый старик и подросток. Из деревьев, листвы и шкур животных они соорудили что-то вроде шалаша, открытого с одной стороны, и сидели у костерка, на котором жарился заяц. Охотники разделились. Жюль, пригнувшись, обошел лагерь, прячась в зарослях, и занял позицию на противоположной стороне.
Фредерик приготовил кинжал, вытащил пистолет и зарядил его. Он знал, что Жюль делает то же самое. Однако первый, решающий выстрел всегда делал Фредерик, поскольку был метким стрелком. Это наследственное, говорил отец, ведь дезертир Каспар тоже мог зарядить, выстрелить и попасть дважды на четырехстах футах.
Приготовившись, он прицелился в мальчишку и коротко свистнул. Ответный свист Жюля прозвучал как эхо, и Фредерик выстрелил. Парень упал. Жюль выстрелил следом, но пуля лишь задела старика. Поднялся крик, женщины похватали детей и бросились врассыпную. Старик был слишком слаб и осел, сделав лишь несколько шагов. Одна из женщин в панике побежала прямо на Фредерика, он преградил ей путь и держал, пока Жюль не подоспел и не связал ей руки. Цыганка отчаянно сопротивлялась, вцепилась зубами в руку Фредерика, и ему пришлось несколько раз ударить ее, чтобы та наконец успокоилась. Остальные цыганки отбежали подальше и смотрели на них из-за деревьев.
Фредерик остался со своей пленницей, а Жюль подошел к бездыханному телу мальчишки и отрезал уши — этого удовольствия он себя никогда не лишал. Потом обернулся к старику, который на коленях молил о пощаде, и заколол его. Дед еще хрипел, когда охотник отрезал и его уши. Вытерев кровь с лезвия ножа пучком травы, Жюль завернул уши в тряпку и вернулся к Фредерику.
На прощанье он крикнул в сторону чащи: «В следующий раз мы вас тоже заберем!» — и они повели добычу к лошадям. Из второй веревки они сделали петлю, накинули цыганке на шею и повели ее за собой в Марсаль. Поначалу она упиралась, так что чуть не задушила себя, но вскоре сдалась и с потухшим взглядом плелась за всадниками.
Не было еще и полудня, а они уже почти со всем управились. Фредерик закрыл глаза и вдохнул холодный, влажный воздух. В Марсале они направились к дому судьи, но продвигались медленно, так как приходилось следить, чтобы люди не забили цыганку до смерти. За мертвую им дали бы гораздо меньше, поэтому Фредерик пропустил друга вперед, а сам прикрывал пленницу сзади.
Судья рассчитался с ними. Когда Фредерик наконец привел женщину к башне, где ей предстояло дожидаться казни, и передал страже, цыганка повернулась к нему. Ее взгляд пылал лютой ненавистью. Она плюнула ему под ноги.
— Ты будешь голодать столько же; сколько голодала я, — сказала она.
Фредерик громко рассмеялся:
— Это уже и так сбылось. Тут твое проклятье ни к чему.
— И все твои потомки тоже будут голодать.
Ворота за нею закрылись, и Фредерик услышал лишь тихие, медленно удаляющиеся шаги.
Они с Жюлем пошли в кабак, где их всегда радушно встречали, ведь львиную долю своей награды они каждый раз тратили на самую дешевую сивуху. Потом, подогретые и веселые, они отправились домой, и опять же им повезло, потому что лошади знали дорогу не хуже наездников, которым оставалось лишь удержаться в седле. Не доезжая до Дьёза, у тропинки к своему дому Фредерик слез с лошади, отдал поводья Жюлю и дальше пошел пешком.
Пройдя по мостику через Сей, он вдруг заметил, что из трубы над крышей его дома поднимается дым. Он обернулся, чтобы позвать Жюля, но того давно и след простыл. Что ж, придется справляться с незваным гостем в одиночку. Фредерик вытащил кинжал, зарядил пистолет и подкрался к дому.
Однако, не успев распахнуть чуть приоткрытую дверь, он услышал, как внутри кто-то сокрушается: «Господи, Господи, где же мне взять новые башмаки в этой глуши?» Фредерик выждал мгновение, чтобы убедиться, что в доме только один человек. Переступив через порог с обнаженным кинжалом, он увидел перепуганного толстого мужчину, сидящего на краю кровати и разминающего босые ступни. По сравнению с коротенькими кривыми ножками живот его казался просто огромным. Рядом на полу лежал барабан.
— Не стреляйте! Ради Бога, не стреляйте! — в ужасе закричал он.
— Что вам нужно в моем доме? — спросил Фредерик.
— Я просто хотел согреться и поесть. Я готов заплатить, у меня есть деньги.
— Откуда мне знать, что вы не вор?
— Вы когда-нибудь видели такого упитанного вора? Я бы застрял в двери. К тому же вы когда-нибудь встречали вора с барабаном? Для чего бы он ему? Возвещать барабанным боем о своем появлении в деревне, чтоб ему открывали двери и окна? Не валяйте дурака. Я всего лишь посланник ее величества Марии Терезии, императрицы Австрии, и должен сообщить людям радостную весть.
— Такой важный посланник и путешествует пешком?
— Я иду пешком лишь потому, что несколько дней назад какие-то цыгане украли моего коня. Надеялся в деревне купить другого.
— Тогда расскажите-ка, что у вас за весть.
Фредерик отложил оружие и сел к столу, не спуская глаз со странного гостя. Тот поднял один башмак и просунул несколько пальцев через дыру в подошве. Собравшись с духом, он выпрямился, надел такие же дырявые чулки и начал рассказывать.
Вот уже много лет люди под покровительством императрицы и Венской придворной палаты отправляются на восток империи. Они едут в края, о которых Фредерик никогда прежде не слышал, где в распоряжении короны очень много земли, но не хватает людей. На три года переселенцы освобождаются от уплаты налогов, получают землю и двор в аренду, а также определенную сумму на покупку скота и инструментов — так сказать, авансом, чтобы продержаться первое время. Посланник сделал паузу и посмотрел на Фредерика.
Нужно быть глупцом или полным неумехой, чтобы уже в скором времени не разбогатеть там. Или, по крайней мере, не иметь гораздо больше, чем здесь, в таком Богом забытом месте, как село Фредерика, названия которого посланник даже не знал. Там всем рады: ремесленникам, бывшим солдатам, крестьянам, главное — быть католиком.
Фредерик впервые услышал и о реке Дунай, ведь жалкий Сей был вообще единственной речкой, которую он видел в своей жизни.
— Дунай, — рассказывал толстяк, допивая прокисшее молоко и доедая последнюю черствую краюху хлеба, — это великая река, в некоторых местах шириной как от этого дома до дороги, а в других — узкая, но быстрая и опасная.
По этой реке люди и отправляются от города Ульма в ту многообещающую область империи под названием Банат. Если повезет, то путь по реке на плотах занимает две недели, самое большее — четыре. Такая дальняя дорога, конечно, не лишена риска, но игра стоит свеч, учитывая, что ждет по прибытии. Тем более в Лотарингии все равно уже давно нельзя жить нормально. Поэтому и посланнику приходится быть осторожным, появляясь в деревнях, ведь желающих переселиться много, а французские чиновники уж точно недовольны таким кровопусканием.
— Как часто король в последнее время повышает налоги? — спросил посланник, подняв палец, что придало ему еще большую театральность.
— Часто, — задумчиво ответил Фредерик.
— А как часто случаются неурожаи?
— Еще чаще.
— Ну вот, уже две причины попытать счастья в других краях, — закончил свою речь агитатор и растянулся на постели Фредерика, но вскоре перевернул свое расплывшееся тело на бок.
— Вы, надеюсь, не против, что я сегодня посплю на вашей кровати. У меня ужасно болят кости.
Наверное, Фредерик возразил бы наглецу и выгнал бы его, если б не был так впечатлен его рассказом. У него закружилась голова от множества мыслей, которые занимали его всю ночь. Он лег на пол и пролежал так до рассвета. Прежде чем гость с трудом натянул его старые башмаки и скрылся по направлению к Дьёзу, Фредерик принял решение.
* * *
Как Фредерик добрался до Ульма, мне неизвестно, дед не уделял внимания сему обстоятельству и перескакивал эту часть рассказа. Может быть, Фредерик продал своих овец, свинью и даже дом, прежде чем двинулся в сторону Сарребурга, чтобы потом пересечь Вогезские горы.
Однако куда вероятнее, что он просто исчез под покровом ночи, чтобы избежать давления со стороны французских властей. Он присоединился к людям, идущим в том же направлении из Меца, Нанси и деревень, о которых он никогда не слыхал. Фредерик переправился через Рейн, вскоре поток переселенцев увеличился, в него влились трирцы, баденцы и люди из Пфальца, все они тоже направлялись на восток.
Многие путники шли босиком или в худых башмаках, шагали рядом с телегами, на которых изредка находилось место беременным женщинам, старикам и малым детям. Но даже если перед отправлением обувь была как следует залатана, к концу пути от нее все равно мало что оставалось. Тогда по дорогам шагало множество ног. Множество исхудавших тел.
Как бы то ни было, по словам деда, примерно через полгода Фредерик оказался в Ульме, неподалеку от крепостной стены, там, где река Блау впадает в Дунай. Перочинным ножиком он ковырял какую-то деревяшку и растерянно глазел на воду.
По прибытии в Ульм он первым делом разыскал корабельщиков, которые каждый вечер собирались в рыбацком квартале, и справился, как продолжить путь по Дунаю. Один из них только что вернулся из Вены, где продал свое судно, так как не мог плыть на нем обратно, против течения. Корабельщики ждали новых пассажиров, желающих отправиться в Банат. Таких хватало с избытком, ведь каждый день в Ульм прибывало по сорок-пятьдесят переселенцев — гораздо больше, чем могли уплыть. Но поскольку в реке уже поднялась вода, да еще плоты не поспевали строить, а многие из построенных разбивались о скалы или тонули в стремнинах, корабельщики тоже осторожничали. В таких условиях отплытия приходилось ждать неделями.
Лишь немногие переселенцы могли позволить себе платить за постой, поэтому улицы города были забиты спящими или дремлющими людьми, они сидели рядом со своими припасами и пожитками, которые подчас умещались в одном узелке.
У Фредерика были и другие заботы, ведь посланник не сообщил ему, что переселенец должен быть женат. Начиная с Регенсбурга, самое позднее — с Энгельхартсцеля[22], в Австрийскую монархию пропускали только женатых людей. Но где за столь короткий срок найти женщину, готовую выйти за него замуж, если уж за столько лет ни одна не пошла? Да к тому же не любую незамужнюю, а такую, чтоб согласилась ради их счастья на востоке закрыть не один, а оба глаза. Фредерик боялся, что его путешествие закончится, так и не успев как следует начаться.
В первые дни в Ульме он видел, как на одном непросмоленном, наскоро сколоченном плоту помещалось порой до восьмидесяти человек. В середину сгружали косы, пилы, топоры, котлы, матрасы и прочий скарб, на борт брали и клетки с курами, и овец, и свиней — животных, конечно, привязывали, но их едва ли удавалось успокоить. В последнюю очередь складывали провизию, какую могли себе позволить пассажиры, — в основном лишь немного сухарей.
Некоторые плоты доплывали до цели, другие, по слухам, тонули. И все-таки как же Фредерик хотел уплыть с ними, ведь перспектива вернуться назад и опять гоняться за жалким цыганьем была не очень-то радужной по сравнению с обещанным счастьем. Иногда, борясь с голодом, он вспоминал о проклятии той цыганки, но лишь мельком, как о пустячном случае.
Теперь он сидел на берегу реки и совершенно не знал, что делать. Во дворе красильной лавки человек окунал полотна в чан с красной краской. Под чаном пылал торфяной костер. Фредерик подошел к нему и пригляделся.
— Братец, не знаешь ли ты какую-нибудь женщину, которая собирается на восток и ищет себе мужа? — спросил Фредерик. Ему пришлось повторить вопрос несколько раз, прежде чем красильщик понял его.
— Женщину не знаю, зато знаю, у кого может найтись работенка для тебя, — ответил тот, нахохотавшись вдоволь.
Несколько месяцев Фредерик добывал торф в окрестностях Ульма. Хозяин ему не платил, но кормил и предоставлял крышу над головой. Фредерик стоял в яме под палящим солнцем, вырезал торфяные кирпичи из глинистой стены и передавал их напарнику, грузившему торф на тачку. Потом они вывозили эти кирпичи на луг и раскладывали сушиться, через какое-то время переворачивали. Затем все начиналось сначала. Работа была такая монотонная и разговаривали они так мало, что Фредерику вполне хватало времени поразмыслить о своем будущем.
Лето подходило к концу, приближалась пора дождей и туманов, зимой Дунай кое-где замерзал, и навигация прекращалась. На постоянную работу Фредерик мог рассчитывать только до начала осеннего ненастья и слякоти, надо было думать, как потом прокормить свой урчащий живот. Банат, собственный дом и земля, жизнь богатого земледельца отодвинулись в почти недостижимую даль. Часто он всю ночь лежал на соломенном ложе, не смыкая глаз, и раскаивался в своем решении. Даже его несчастный домишко и охота на цыган казались ему лучше голодной жизни здесь, среди людей, язык которых он с трудом понимал.
Два раза в неделю торф надо было отвозить в город и продавать задешево пекарям и кирпичникам. Обычно эту трудную работу они делали вдвоем, но в день, когда Фредерику суждено было встретиться с будущей женой, его напарник валялся на своем лежаке в стельку пьяный. Обертина послали в город одного.
Путь лежал мимо собора с недостроенными башнями. Фредерик нередко заходил туда помолиться перед великолепным хором с искусно вырезанными из дуба фигурами пророков, волхвов и святых. Молился, чтобы ему встретилась наконец-то подходящая женщина. Как раз в эту минуту из собора вышла пожилая чета с дочерью, и не то после молитв они были погружены в себя, не то растерялись от громкой и пестрой городской суеты, в общем, они чуть не угодили под телегу Фредерика.
Он резко натянул вожжи и едва успел остановить лошадь. Старик выругался на родном диалекте Фредерика. Он уже собирался тронуться дальше, ведь в Ульме задерживалось множество народу из Лотарингии, но тут заметил девушку. То, что не могло понравиться никому другому, привлекло его чрезвычайно — она была так же уродлива, как и он сам.
Фредерик слез с телеги и успокоил старика. Они долго говорили о старой родине и о том, что надеются найти на родине новой. Потом стали прикидывать, как бы заполучить место на каком-нибудь судне, и Фредерик признался, что без жены ему далеко не уехать. При этом он все время поглядывал на их дочку. Тут он вспомнил, зачем приехал в город, но попрощался, только когда старики пообещали ждать его на следующий день на том же месте. Их не пришлось долго уговаривать, очевидно, они думали о том же.
Доподлинно неизвестно, когда именно Ева, которой было не больше двадцати лет от роду, но вполне хватало рассудка, решила принять предложение Фредерика. Может быть, на улице при первой же встрече, когда заметила его взгляд, а может, только на следующий день в кабаке, куда Фредерик привел всю семью. Так или иначе, она прекрасно понимала, что в ее положении нужно принимать то, что предлагает жизнь. Уродливый мужчина в начале такого трудного путешествия и суровой переселенческой жизни был даром Божьим. И в самом деле, вскоре она опять пришла в Ульмский собор, чтобы помолиться об исполнении ее желания. Через несколько дней они нашли священника, и тот обвенчал их.
Теперь фортуна была полностью на стороне Фредерика: на деньги стариков они быстро купили места на одном из готовящихся к отплытию плотов. Вместе с шестьюдесятью остальными пассажирами — в основном тоже из Лотарингии — они ступили на борт. Две беременные женщины и целый выводок детишек, таких же тощих, как и взрослые, разместились в дощатом подобии каюты шесть футов высотой, которая была сооружена посреди плота. Корабельщик, здоровенный детина, с помощью других мужчин оттолкнул посудину от берега и медленно вывел ее на середину реки. Все дружно перекрестились, что потом приходилось делать еще не раз.
* * *
Корабельщик производил впечатление мастера своего дела, он ловко вел плот мимо песчаных отмелей и камней, которые часто появлялись внезапно и были едва заметны под водой. Миновав Ингольштадт, они поплыли сквозь высокие и густые пойменные леса, где прибрежный камыш казался сплошной блестящей поверхностью.
Аисты и утки бороздили протоки, охотясь на рыб и насекомых, а из камышей и высокой травы выплывали лебеди и лысухи. Потом русло реки сузилось, и от Вельтенбурга берега стали высокими, крутыми и лесистыми. Течение усилилось, но это было только на руку, и люди подумали, что, вполне возможно, они доберутся до цели без особых затруднений. Что все эти страшилки, которых они наслушались, выдумали корабельщики — упрямые, брюзгливые жадины, — только чтобы набить себе цену.
Некоторые даже наловили щук и карпов, но, поскольку на плоту нельзя было разжигать огонь, рыбу пришлось выбросить обратно в воду. Оставалось перебиваться пряниками, сыром и яблоками. В Регенсбурге они пришвартовались за Каменным мостом, по которому, наверное, ступал еще сам император Барбаросса, отправляясь в Иерусалим[23]. Там стояло борт о борт множество судов, и на разных языках кричали, ругались, торговались и угрожали. Шла бойкая торговля всем, что только можно погрузить на корабли: салом, вином, быками, медью и многим другим. Весь город походил на гигантский муравейник. Здесь тоже собралось много разного люда: из Гессена, Франконии, Вестфалии, и все они хотели попасть на восток, так же как лотарингцы с эльзасцами.
Два дня они прождали комиссаров, которые вручили им паспорта колонистов, разрешающие въезд в Австрийскую монархию. Фредерик выходил купить плесневелого сыра и черствого хлеба, корабельщик направлялся прямиком в трактир, а все остальные не покидали плота. Слишком велик был риск, вернувшись, обнаружить свое место занятым.
В Пассау они тоже задержались на день, пока им не выдали денег на дорогу до Вены. Три гульдена — деньги небольшие, особенно учитывая, что каждый, кто не греб, должен был заплатить корабельщику четыре. Но поскольку Фредерик проявил себя усердным и ловким гребцом, его освободили от уплаты.
Его жена не могла нарадоваться открывавшимся ей качествам мужа. Он оказался хватким человеком, и с ним ее жизнь могла быть если уж не легкой, то хотя бы сносной. И наверняка в нем достаточно мужской силы, чтобы зачать с ней нескольких детишек. Ее родители тоже присматривались к новоиспеченному зятю и одобряли выбор дочери. Должно быть, он станет крепким, а то и вовсе зажиточным крестьянином.
В Энгельхартсцеле всех заставили сойти на берег, и чиновник австрийской таможни обыскал их, раздев чуть ли не догола. Больных, увечных и неженатых тут же отправили назад, забрав к тому же почти все деньги в качестве комиссии. Так был потрачен еще один день, но ни это, ни придирки чиновников не огорчали переселенцев, поскольку они укладывались в график путешествия и до сих пор не подвергались серьезной опасности. Они уже начинали надеяться, что все пройдет гладко, хотя заранее смирились с неизбежными тяготами путешествия, обещавшего им все, чего они прежде не имели. Спокойную жизнь, процветающее хозяйство и ночи без мук голода в постели. Только лицо корабельщика стало серьезнее, а взгляд помрачнел.
Плот миновал отрезок, где река вилась между крутыми склонами, но течение было спокойным, затем, по мере приближения к Линцу, берега разгладились, так что люди могли вечером сойти на сушу, пожарить рыбу и поспать, вытянувшись во весь рост. И тогда все решили, что корабельщик просто угрюмый сыч. Если бы все так и шло, то до Вены им оставалось три дня пути. Но случилось иначе.
На ночь они высадились на песчаной отмели в протоке, набрали хворосту в лесу и разожгли костер, на котором женщины приготовили ужин. Костер горел долго, согревая путешественников. Утром стоял густой туман, и корабельщика это не радовало. Пассажиры взошли на борт, Фредерик и другие крепкие мужчины оттолкнули плот от берега и сели на весла.
Прежде чем отдать команду, корабельщик повернулся к людям, широко расставив ноги, и сказал: «Самое трудное испытание еще впереди. Скоро мы поплывем через теснину с отвесными берегами. Течение будет сильное, нас порядком потрясет. Но меня беспокоит не это. Посреди реки торчит скала, из-за которой получается водоворот. К тому же с обрывистых берегов в воду уже давно падают деревья и перекрывают фарватер. Если напоремся на такое дерево, посудина может не выдержать и о плавании придется забыть. А теперь слушайте внимательно, мужики! По моему сигналу убираете весла, а то поломаются. Нас все равно будет нести течением. Если хотите, можете молиться, но будет так громко, что Господь нас не услышит. — Корабельщик посмеялся над своей шуткой. — Но если прорвемся, то пристанем в городке Мария-Таферль у Паломнической церкви. Там и отблагодарите Господа». Он сел на корме у руля и скомандовал: «Весла в воду!»
Местами туман редел, и виднелись мирные, холмистые берега с фруктовыми садами. Ничто не предвещало опасности, к которой они приближались. Испугаться довелось только однажды, когда на мелководье сели на банку и всем пришлось спускаться в воду и толкать судно. Фредерик подгонял остальных и сам толкал изо всех сил. Когда посудина была снова на плаву, он перенес жену обратно на борт и еще много раз ходил по колено в воде, помогая старикам и детям.
Первые пороги они преодолели без особых усилий, однако река стала бурной. Течение то прижимало их к берегу, то выносило на середину потока, туда, где их подстерегали бурлящие водовороты, жаждущие затянуть судно в пучину. В тумане они то и дело переставали ориентироваться, пока внезапно не натыкались снова на берег и на множество затонувших деревьев. Все, кроме гребцов, держались за все, что можно: дети за матерей, женщины — за мужей. Когда плот опасно накренился, за борт повалились животные, тюки и один мальчик. Все они исчезли под волнами. Остальные успели удержаться в последнюю секунду.
Казалось, река пробудилась и захотела стряхнуть с себя людей, будто они ей слишком досаждали и тяготили ее. Если б Рамина жила уже в те времена, то люди знали бы, что нельзя безнаказанно тревожить реку веслами, так же как нельзя колоть ветер ножом.
Следующей свалилась за борт и скрылась в пучине старая крестьянка из окрестностей Страсбурга. Ее муж попытался ухватить ее, но не успел. Ему не хватило совсем чуть-чуть, чтобы вырвать у реки ее жертву. Но река оказалась проворнее. Третьим стал тихий мальчонка, все время державшийся за материнскую юбку. После этого — всего на несколько мгновений — показалось, что Дунай насытился, но он лишь затаился, расслабил мускулы, чтобы ударить снова. Течение успокоилось, вода, только что бурлившая, снова стала такой ровной и прозрачной, что можно было разглядеть каменистое дно. Все вздохнули с облегчением.
Корабельщик, сидевший все это время у руля, встал. Он вытер лицо и стал всматриваться вперед, туда, где полоса тумана скрывала следующее препятствие. Он стоял, будто он и плот — единое целое и никакая стихия не сможет одолеть его. Словно лишь он один в силах противостоять реке и даже укротить ее. Все смотрели на него, ожидая какого-нибудь знака.
Вдруг он выругался, и все вздрогнули. Одни перекрестились, другие истово зашептали молитвы. «Убрать весла!» — заорал корабельщик, и поток снова взял их в оборот. Перед ними появилась та самая зловещая скала. В тумане виднелась только ее часть — серая, испещренная стена, — и непонятно было, какой она высоты и, главное, какой ширины. Плот несло прямо на скалу, и с этим ничего нельзя было поделать.
Многие пассажиры встали на колени и начали молиться — со стороны могло показаться, что они молятся про себя, хотя кричали во все горло. Но рокот заглушал их голоса. Со всего размаху плот врезался в скалу, опять накренился, и корабельщик запаниковал. Он стал отчаянно махать руками и бросать в воду все подряд. «Мы тонем!» — кричал он, и на этот раз его голос оказался сильнее грохота реки, ибо все услышали его.
Все с ужасом наблюдали за человеком, который еще недавно как будто знал, как обходиться с рекой, чтобы уцелеть, а теперь потерял голову от страха. Его безумное поведение угрожало жизни пассажиров. Половина их провизии, скотины и инструментов уже оказалась в воде. Река несколько успокоилась, посудина проскрежетала по нескольким большим бревнам, и тут тесть Фредерика встал на пути у корабельщика. Старик схватил паникера за плечо и попытался успокоить, но тот так резко оттолкнул его, что старик поскользнулся и потерял равновесие. Фредерик не успел подхватить тестя, тот упал за борт и скрылся под водой.
Когда плот наконец миновал опасный отрезок и можно было встать, Фредерик дал волю своему гневу. Он оторвался от плачущей жены и бросился на корабельщика. Тот даже не пытался защищаться, и Фредерик бил его, пока несколько сильных рук не оттащили его. «Этим старика уже не вернешь», — успокаивали его. Он вернулся к своим, обе женщины в отчаянии смотрели на него снизу вверх, доверяя ему свои жизни. И Фредерик понял, что ему предстоит заботиться о них одному. Он воспринял это отнюдь не как обузу, наоборот — наконец-то он стал кому-то нужен.
Корабельщик сидел на корточках, обхватив голову руками, жалея себя, и не мог решить, что теперь делать. Тогда Фредерик опять встал, отодвинул корабельщика в сторону и скомандовал гребцам: «Весла в воду!» Через полдня они причалили у Мария-Таферль, и путники, донельзя уставшие, сошли на берег.
Они упали на траву и лежали неподвижно, пока силы не вернулись к ним. Только после этого они направились к церкви на холме. С собой они несли небольшие дары: четки, медальоны и монеты, которые хотели преподнести Милостивой и Чудотворной Деве Марии, той, что некогда вернула к жизни старый больной дуб на этом месте. Той, к которой прилетали целые сонмы ангелов, — так говорили местные, когда видели в лесу странные огни. Только Фредерик и еще один мужчина остались у плота, чтобы корабельщик не вздумал сбежать. Тот рвал на себе волосы и бормотал: «Я же столько раз проходил там, и никогда со мной такого не было».
Два дня спустя они под водительством Фредерика вошли в Дунайский канал, и лоцман провел их в речной порт Вены. Корабельщик, уже взяв себя в руки, потребовал, чтобы все покинули судно. В это время на причале появился человек, поприветствовавший корабельщика с нарочитым дружелюбием.
— Я думал, ты в этом году уже не появишься! — крикнул с берега элегантно одетый мужчина.
— И все-таки я здесь, — сказал корабельщик и спрыгнул на сушу.
— Твои пассажиры, кажется, порядком устали. Что-нибудь приключилось? — спросил незнакомец.
— Ничего особенного.
— Сколько ты хочешь на этот раз за свой плот?
— Как в прошлый раз, меня вполне устроит, — ответил корабельщик и звонко хлопнул по ладони, протянутой собеседником.
Фредерик, чем-то занятый поблизости, вмешался в разговор:
— Что это значит? Я думал, ты довезешь нас до места назначения.
— Мое место назначения здесь. Я только что продал свой корабль и возвращаюсь домой пешком. Весной приплыву опять.
Фредерик сделал шаг к нему, но тот не отступил.
— Ты не можешь так поступить! Посмотри на людей, они же совершенно выбились из сил. Это все из-за тебя!
— Послушай меня! — прикрикнул на него корабельщик. — Это был несчастный случай. Чего понадобилось старику? Зачем он встал? Разве я разрешал вам вставать? Нет, не разрешал. А теперь уйди с дороги.
Фредерик подошел еще на шаг ближе. В прошлый раз он сбил корабельщика с ног и сейчас хотел сделать то же самое, но на этот раз противник, казалось, решил не отступать. Между ними встал покупатель.
— Я не желаю знать, что все это значит, это меня не касается. Ты продаешь мне судно или нет?
— Деньги у тебя с собой? — спросил корабельщик.
— Конечно.
— Значит, плот твой.
— Хорошо, тогда пойдем в кабак и оформим сделку.
— А мы? С нами что будет? — спросил Фредерик.
— Вы пока располагайтесь здесь, на улице, и надейтесь, что будет дуть только холодный бриз и не пойдет дождь, — посоветовал покупатель. — Думаю, ни у кого из вас не хватит денег на гостиницу. Может, через пару дней кто-нибудь повезет вас дальше, иначе придется ждать до весны.
— До весны? И что же нам делать до тех пор? — оторопело спросил Фредерик.
— Откуда мне знать. Молиться, наверное.
Партнеры рассмеялись и уже собрались удалиться, но тут покупатель остановился и еще раз обернулся к Фредерику:
— Кстати, вам еще нужно оформить бумаги, а получить их не так-то просто. Запишитесь в Придворной палате, так надежнее всего.
— А где эта Придворная палата? — спросил Фредерик, но коммерсант только пожал плечами, и они с корабельщиком ушли.
Фредерик вернулся к своим товарищам, растерянно стоявшим среди пожитков, и объявил, что пойдет искать Придворную палату. Он посадил жену и тещу у невысокой каменной ограды, защищавшей от ветра, сложил вокруг них то немногое, что осталось от их имущества, и собрался уйти, но Ева схватила его за руку.
— Откуда мне знать, что ты вернешься? — спросила она.
— Я вернусь. — Он сказал это так твердо, что у нее не осталось никаких сомнений.
Я так и не узнал, как Фредерик нашел Придворную палату, не знал этого и мой дед. Точно известно — насколько может быть точно известно то, что пересказывали и приукрашивали сотни раз, — что в венской суете он каким-то образом отыскал Придворную палату и что там ему пообещали на следующий день прислать в порт несколько чиновников, которые уладят все формальности. Теперь оставалось только найти новое судно.
О дальнейших событиях рассказала Ева Обертин после смерти мужа, на собственном смертном одре и после многократных увещеваний священника облегчить душу в присутствии ее детей.
На обратном пути из города в порт Фредерик проходил мимо кабака, где увидел корабельщика и покупателя, уже хорошенько обмывших сделку, что было заметно по множеству пустых рюмок на столе. Фредерик ломал голову, где же ему разместить на ночлег жену и тещу. Он, конечно, надеялся, что в складчину с остальными путешественниками у них наберется достаточно денег, чтобы нанять новый плот, но вообще-то понимал, что надежда ничтожна. Наверняка ни у кого из пассажиров не было нужной суммы. К тому же где взять подходящего корабельщика? Время неумолимо шло вперед, уже темнело.
Он остановился у окна кабака и стал наблюдать за выпивающими дельцами. Покупатель все время подливал корабельщику, по-видимому, надеясь напоить его и сбить цену. Но и тот был не промах, тоже потчевал собутыльника шнапсом и явно преследовал прямо противоположную цель. Наконец Фредерик увидел, как кошелек с монетами перешел из рук в руки, партнеры допили последние рюмки и встали.
Фредерик спрятался за углом и оттуда следил за двумя мужчинами, которые вышли, еле держась на ногах и невнятно бормоча, обнялись, как закадычные друзья, и распрощались до следующего года. Потом они разошлись в разные стороны: торговец пошел в город, а корабельщик взял курс на уже опустевшие окраины, чтобы через луга и перелески добраться до дороги, которая приведет его домой.
Торговец вскоре зашагал прямо и уверенно, а вот корабельщик, похоже, и впрямь был в стельку пьян. Он хватался за стены и заборы, казалось, вот-вот упадет и не встанет. Если бы Фредерик не знал, что корабельщик напился в кабаке, он мог бы подумать, что это путь по суше заплел тому ноги. Мысль ограбить его пришла в голову Фредерику позже, когда уже перестали ездить повозки и, кроме ветра, отдаленного лая и мелодии, что насвистывал хмельной ульмец, ничто не нарушало тишину.
Сначала он пошел за ним, чтобы избить, — так он потом отвечал на упорные расспросы жены, — чего не мог сделать при возможных свидетелях. Или просто потому, что еще в Лотарингии привык беззвучно подкрадываться, вот и здесь не смог удержаться.
Местность была безлюдная, улица превратилась в узкую ухабистую тропинку, терявшуюся в лесу. Если еще недавно Фредерик горел желанием начать новую жизнь с чистой совестью, то теперь все изменилось, он снова стал охотником, каким был на родине. Корабельщик сделался для него очередным цыганом, который то и дело блевал и облегчался, не замечая тени, следовавшей за ним на расстоянии.
Еще раз убедившись, что их никто не видит, Фредерик подобрал камень с острыми краями и ускорил шаг. Камень удобно лежал в руке, он перевернул его несколько раз, нащупывая самую острую грань. Корабельщик услышал шаги, насторожился и обернулся, но в этот миг Фредерик ударил его. Он забыл о всякой осторожности, последовал второй удар по затылку и третий — в висок. Корабельщик пошатнулся, но не упал, а только закрыл голову руками и громко закричал. Фредерик нанес четвертый удар и увидел, что проломил жертве череп. Только теперь раненый согнулся, повалился на землю и стал монотонно стонать.
Фредерик осмотрелся вокруг, но все было спокойно, слышалась только музыка дешевого кабацкого оркестра да скрипела вывеска на заброшенном доме. Если бы кто-то увидел Фредерика в эту секунду, то заметил бы лихорадочный взгляд, с каким он всегда охотился на цыган.
Фредерик склонился над жертвой и без труда забрал деньги. Он был почти уверен, что корабельщик его не узнал. Даже если бы тот выжил и позвал жандармов, все выглядело бы как обычный грабеж, что в Вене наверняка не редкость. «Сам виноват. Иметь при себе столько денег и разгуливать в одиночку — это добром не кончается», — сказали бы все. К тому же у Фредерика было прекрасное алиби: он весь день провел в Придворной палате.
На обратном пути музыка становилась все громче, Фредерик вернулся к тому же кабаку и увидел через окно, что торговец теперь выпивает с молодым человеком, остальная же публика сменилась. С середины зала убрали столы и лавки, и теперь там вовсю плясали. Кавалеры крепко сжимали девиц легкого поведения, и все изрядно выпивали.
В кабаке оставалось лишь несколько купцов и корабельщиков, зато прибавилось всякого сброда, ремесленников и подмастерьев, служанок, бродяг и портовых рабочих. Казалось, здесь собрался весь полусвет Вены. В придачу тут же сидели многие товарищи Фредерика, молчаливые и замкнутые, словно парализованные страхом застрять в Вене. Фредерик заплатил хозяину за комнату с печкой и побежал на пристань за женой и тещей.
— Я знала, что ты нас не бросишь, — сказала ему жена и радостно обняла.
— Хватайте вещи, я снял нам комнату в гостинице.
— Комнату? У нас же нет денег на нее, — недоверчиво сказала теща.
— Теперь кое-что есть.
Он избегал смотреть жене в глаза, даже когда та начала расспрашивать его, откуда взялись деньги. Потом в слабо освещенной комнате он положил кошелек на стол, женщины посмотрели на него вопросительно и испуганно. Но они тоже понимали, насколько важны для них эти деньги. Другим лотарингцам пришлось ночевать на улице под суровым венским небом, а им хозяин даже принес кое-какой еды и вина.
Когда старуха уснула и захрапела, Фредерик с Евой выскользнули из комнаты. Они первый раз танцевали вместе и целовались в одном из темных углов, где, судя по стонам и крикам, уединились и другие парочки. Утомившись от вина и танцев, они подсели к молодому парню, который до этого выпивал с купцом. К концу разговора тот разозлился и встал. «Тогда продавай свою посудину как хочешь, упрямый осел!» — крикнул он и скрылся в ночи.
Фредерик чокнулся с парнем и спросил:
— Что, слишком мало предложил?
— Да. Отец мне прямо наказал, сколько брать, а сколько не брать. Теперь вот сижу тут ни с чем.
— А ты не согласился бы отвезти нас в Банат? Я бы тебе хорошо заплатил, — предложил Фредерик.
— Нет уж, дудки. Тогда мне там зимовать придется.
Тут Фредерику на ум пришла новая мысль. Разве не он командовал людьми на последнем отрезке пути до Вены? Разве не под его началом они сумели зайти в канал и провести судно в порт? Разве впереди может быть что-то хуже того, что они перенесли? Он отослал жену наверх и положил корабельщику руку на плечо.
— Мне кажется, мы с тобой сможем договориться, — прошептал он парню на ухо.
Фредерик вернулся в комнату глубоко за полночь и посмотрел на спящих женщин, которые полностью зависели от него. В это мгновение в нем впервые в жизни проснулась нежность. Он позаботится, чтобы они ни в чем не нуждались. У них с Евой будет ребенок, лучше — сын, чтобы потом передать ему хозяйство. Он сделает все, чтобы их путешествие не оказалось напрасным. Ведь теперь у него наконец-то есть семья.
Наутро он приказал своим людям (он уже считал их своими) быть наготове. Как только чиновники все оформят, они продолжат путешествие на новом корабле. Вскоре на пристани появились четверо мужчин в форме. Они несли стул, стол, кофр, папку и чернильницу. Один из них явно был чином выше других. Он сел на стул, положил на стол шляпу с плюмажем, чернильницу и папку, из которой достал бумагу и перо. Затем он небрежно смахнул с лица прядь волос и лишь после этого обвел взглядом людей.
— Кто у вас главный? — спросил он.
— Я, — без колебаний ответил Фредерик, никто не возражал. Он сделал шаг вперед.
— Вы говорите по-немецки?
— Да. В наших краях все говорят на лотарингском немецком.
— Да плевать я хотел, как у вас там говорят. Мне главное — поскорее уйти отсюда. Я простужусь на этаком ветру, — сказал чиновник. — Тогда с вас и начнем. Фамилия, происхождение, занятие, вероисповедание. Где ваши вещи?
Фредерик указал на свой узелок, и двое служащих стали изучать его содержимое.
— Моя фамилия Обертин, — ответил он.
— Звучит на французский манер. В начале «Аи» или «О»?
— А какая разница? — спросил Фредерик. Он не умел писать и никогда прежде не задумывался о таких тонкостях.
— С «О» звучит более по-немецки. Так у вас будет меньше трудностей.
— Значит, с «О».
— Имя?
— Фредерик.
— Господи, опять! — воскликнул чиновник. — Снова нечто двусмысленное. Не могли вас назвать просто Фрицем или Хансом? Если тут у всех такие же сложные имена, как у вас, то мы до завтра не закончим. На конце что: «с» или «ck»?
— Как звучит с одним «с»?
— По-французски.
— Тогда «ck».
— Отныне ваше имя Фредерик с «ck», а фамилия — Обертин с «О». Вы женаты?
— Женат, — ответил он и посмотрел на сияющую жену.
— Откуда родом?
— Из Лотарингии.
— Занятие?
— Крестьянин.
— Считаете ли вы Лютера великим человеком?
— Я считаю Лютера дьяволом.
— Господа? — обратился чиновник к своим помощникам, перерывшим узелок Фредерика.
— Все чисто. Ничего не нашли, — ответили те.
Начальник до конца заполнил формуляр, скрепил его печатью и вручил Фредерику.
— Тогда желаю вам счастливой жизни в Банате, и будьте верным подданным ее величества.
Но не для всех эта процедура прошла столь гладко. Казалось, чиновники точно знали, что именно искать. Обнаружив в вещах супружеской пары из Агно Библию Лютера, один из них поднял ее вверх и крикнул: «Лютеровы гаденыши хотели нас надуть!» Наказание последовало немедля.
Двое в форме схватили протестанта, а третий обнажил его зад и заставил лечь на стол. Затем их главный вздохнул, давая понять, что вообще-то такие обязанности ниже его достоинства, достал из кофра палку, занял позицию позади своей жертвы и ударил. Двадцать ударов были нанесены умело и элегантно. Протестанта бросили в полубессознательном состоянии, и настал черед его жены. В конце концов обоих прогнали прочь, обзывая и издеваясь.
Другой чете тоже не поздоровилось. У них была довольно дорогая одежда и ухоженные руки. Когда они запутались в собственных ответах относительно рода занятий и старший чиновник решил, что они никак не могут быть крестьянами, их наказали таким же образом. Всем же остальным выдали по три гульдена, и еще до полудня они отчалили. Фредерик сел на место корабельщика, у руля, и скомандовал: «Весла в воду!»
За четыре недели они доплыли до Баната. В Тителе на Тисе их встретили другие чиновники, снова обыскали и допросили, затем они прошли через шлюзы в Бегский канал, и каторжники-бурлаки отбуксировали их к Темешвару. Когда надо было общаться с властями, всегда посылали Фредерика, он уже привык к этому и считал само собой разумеющимся.
Наконец они прибыли. Но куда? Обещанная им земля оказалась огромной болотистой равниной, поросшей бурьяном и колючим кустарником, где дули холодные ветры и бесконечно лил дождь. Дороги, какие имелись, развезло, и воловьи упряжки, на которых переселенцев повезли в несколько уже отстроенных деревень, надолго застревали в грязи.
Большинство из них перезимовали в Мерсидорфе, там их встретили враждебно настроенные крестьяне и другие колонисты, которые месяцами и годами ютились в переполненных домах и надеялись на строительство новых сел. Темешварские власти никуда не торопились, в этих краях еще не видали ни одного чиновника или топографа. Лотарингцы много раз писали в город, но письма оставались без ответа. А если какой ответ и приходил, то лишь с обещаниями и увещеваниями. Поэтому некоторые семьи отправились дальше.
Единственным утешением было то, что там они встретили множество других лотарингцев. Даже нужда была такой же, как дома. Фредерик, Ева, ее мать и еще несколько человек поселились в хлеву крестьянской супружеской пары родом из Марсаля. Они надеялись, что не позднее весны, когда почва оттает, у них будет свой участок земли, на котором они смогут построить дом. Пусть небольшой, хотя бы пару йохов[24], для начала.
Летом 1771 года водоемы и болота этих мест начали гнить, распространяя отвратительный смрад. По вечерам на людей набрасывались полчища комаров, и первый случай болотной лихорадки не заставил себя ждать, затем заболели десятки. Послали в Темешвар за докторами, но никто не приехал. В общем, они были предоставлены сами себе и природе, которая могла уничтожать их, когда захочет. В это время умерла и теща Фредерика. Сначала она несколько дней страдала от болей, поноса и жгучей жажды, потом впала в апатию и, наконец, потеряла сознание на руках у дочери.
Следующей весной Фредерик решил сам поехать в Темешвар, нанял лошадь, надел свою лучшую одежду и умчался галопом. Он понимал: если в ближайшее время положение не изменится, то им и в этом году не собрать урожай, придется опять просить подаяния. О том, как Фредерик добился разговора с темешварскими властями, известно столь же мало, как и о том, как он попал в венскую Придворную палату. Однако два дня спустя он появился на горизонте, следом за ним ехали несколько всадников и карета. Ева выбежала ему навстречу, но вместо того чтобы обнять молодую жену и отдохнуть, он вместе со всей кавалькадой проскакал мимо Мерсидорфа.
Они спешились лишь возле холма, который много позже был назван Цыганским. Обозрев ландшафт, сделали первые прикидки, и вскоре топографы и инженеры взялись за дело. Однажды утром Фредерик собрал лотарингцев и сказал: «Как вам известно, я ездил в Темешвар. Я пригрозил им, что мы сами возьмем себе землю, если они не приедут и не разметят ее в ближайшее время. Что мы построим себе дома там, где посчитаем нужным, и никогда не будем платить налогов. Это сработало. Теперь участки размечены, завтра начинаем строиться. Мужики, нам предстоит много работы, так что ложитесь спать пораньше и не напивайтесь».
Еще до восхода солнца жены разбудили мужей, те позавтракали, чем Бог послал, и выпили шнапсу, чтобы согреться. Жены проводили их до границы села и смотрели им вслед, пока они не скрылись за горизонтом. Колонна из тачек, лошадей и людей остановилась только там, где впоследствии появился Трибсветтер. Мужчины начали рыть первую из четырех ям, откуда таскали землю для строительства домов. Кабак построили прежде церкви.
Одним хмурым, дождливым утром 1772 года они в последний раз собрались на центральной площади Мерсидорфа. С собой у них были все пожитки и то, что местные уступили им за небольшие деньги: стулья, столы, шкафы, кровати. Все, что им могло пригодиться для скромного обустройства мазанок, ожидающих их за горизонтом. Им оставалось лишь получить гарантийные грамоты. Каждой семье полагалось целое владение: тридцать четыре йоха земли под пашню, луга, пастбища, дом и сад. Бездетные пары получали вдвое меньше. Тем, кто умер за время строительства, не досталось ничего.
Перед въездом в деревню был установлен помост, где на стульях сидели темешварские чиновники и барон Альвинци, помещик Трибсветтера. Дорогу и обочины заполонили кареты, телеги и лошади, мужчины, женщины и дети со всем скарбом. Дождь лил безжалостно и беспрестанно на всех — и на людей, и на животных. Он пробирался под одежду и в обувь, попадал в рот и в глаза. Грязь была такая густая, что передвигаться удавалось с большим трудом. Только лошади спокойно стояли на месте и терпели небо, как всю жизнь терпели человека.
Барон встал и начал свою речь:
— Люди, вы свершили великое дело, для себя, своих семей и для монархии. За краткий срок вы построили здесь село, которое сегодня станет вашей новой родиной. Если вы будете хорошо и много трудиться, это принесет вам некоторый достаток, по крайней мере, насколько подобает крестьянам. — Он кашлянул. — В этом я буду вам справедливым и благожелательным господином. Я всегда готов внимать вашим обращениям, но пользуйтесь этим правом только в самом крайнем случае. Первой инстанцией для вас будет судья. Кто у вас судья?
Поднялся гомон, ведь никто не задумывался ни о чем таком. Барон нетерпеливо прошептал сидящим у него за спиной: «Они умеют вкалывать как скоты, но не думать». Он вздохнул и повторил вопрос. Люди растерянно переглядывались. Вдруг раздался голос:
— Брат Фредерик. Он должен быть судьей!
Другой подхватил:
— Фредерик Обертин!
— Где этот Фредерик Обертин? Пусть покажется! — потребовал барон.
Фредерик снял шляпу и робко вышел вперед. Барон снова обернулся к свите: «Парень на дурака не похож, не будем же терять время зря. В такую погоду меня особенно донимает подагра». Он махнул Фредерику, приглашая на помост.
— Вы умеете писать и читать? — спросил его барон.
Фредерик сказал, что нет. Барон повернулся к людям.
— Тогда у нас затруднение, раз Фредерик Обертин не умеет ни читать, ни писать, а это необходимо для исполнения обязанностей судьи. Боюсь, вам придется выбрать другого судью.
В толпе кое-кто засвистел, неслыханное дело по тем временам. Барон растерянно посмотрел на собравшихся.
— Никто из нас не умеет ни читать, ни писать! — крикнули ему.
Тогда голос подала Ева, протиснувшись к помосту:
— Я его жена. Я научу его писать и читать.
Барон обернулся к чиновникам, и те закивали.
— Да будет так, если вы хотите. Фредерик Обертин, подойди ближе.
Откуда-то появился посеребренный жезл, его передали по цепочке, и наконец он оказался у барона. Тот протянул жезл Фредерику. Дождь ненадолго перестал, словно чтобы все расслышали слова сеньора. Фредерик в жалкой одежке чувствовал себя не в своей тарелке рядом с господами, которых до помоста несли на руках, чтобы они не запачкали сапог.
— Фредерик Обертин, я назначаю вас судьей села… — Барон запнулся, беспомощно оглянулся и тихо спросил: — Мы уже придумали название? — Чиновники только пожали плечами, об этом тоже до сих пор никто не подумал.
— В такую хмурую погоду, ваша светлость, только Трюбсветтером и назвать, — прошептал Фредерик.
— Плохо звучит, — отозвался барон и задумался. Вдруг его лицо просияло. — Фредерик Обертин, назначаю вас судьей села Трибсветтер. Вам надлежит быть для подданных ее величества, Благородной императрицы Австрии и Венгрии, справедливым и строгим судьей и судить их по всей совести и мудрости. Ваше слово будет решающим во всех делах села, и вы должны привести его к процветанию. Дабы сбылись надежды, что питают колонисты, и село вскоре оказалось в числе лучших налогоплательщиков Баната. Вы обязуетесь следить за тем, чтобы здесь, согласно нашим священным христианским законам, царили благопристойность и порядок. Если кто-нибудь совершит проступок средней тяжести, вы можете с позором провести его в колодках через село, и чтобы он на каждой улице выкрикивал, что сделал и как наказан. Также вы уполномочены наказывать бастонадой[25] на штрафной скамье. В случае же тяжкого преступления вы обязаны обратиться ко мне и администрации. Также вы объявляете день суда, дабы люди могли искупить мелкие нарушения. Кроме того, вы отвечаете за день примирения, дабы две стороны, полные зависти и злобы, могли бы договориться и не представляли более угрозы для общественного порядка. Отныне ваш дом будем домом судьи и официальным представительством администрации. Вы можете также обязывать людей к выполнению необходимых общественных работ. Вы же освобождаетесь от таких работ и от обязанности предоставлять свой дом армии в качестве зимней квартиры. За исполнение судейских обязанностей вы будете получать вознаграждение в двадцать четыре гульдена в год. Разумеется, вам следует вести и собственное хозяйство. Первое задание вам предстоит исполнить уже через несколько дней, когда привезут скотину, семена и инструмент, которые администрация предоставляет селу сроком на три года. По истечении этого срока за все это нужно будет заплатить. Для начала вашей жене придется помочь вам составить ведомости и распределить все в соответствии с ними.
Фредерик низко поклонился, и барон вручил ему судейский жезл.
— Есть ли какое-то дело, за которое вы возьметесь в первую очередь, судья Обертин?
Фредерик думал недолго.
— Мне хочется, чтобы наша церковь обрела голос. Посему я хотел бы заказать большой колокол и надеюсь, что администрация одолжит нам денег на это. Этот колокол будет возвещать о рождении наших детей и провожать наших мертвых на кладбище. Он будет созывать нас домой с полей и напоминать обо всех лотарингцах, которым не суждено было добраться сюда. — Затем он обратился ко всем остальным: — Добро пожаловать в Трибсветтер! Трудитесь усердно и размножайтесь, тогда у нас будет здесь будущее!
Фредерик сошел с помоста, важных господ отнесли, как мешки с мукой, обратно к каретам, и люди вошли в свои новые, наспех построенные дома. В переполненном Мерсидорфе нечего было и думать о большем, чем торопливое сношение украдкой за каким-нибудь сараем или в чистом поле, теперь же мужчины полноправно овладели своими женами, по которым так изголодались.
Глава пятая
Вагон для скота окутал меня, как когда-то окутывало тело Рамины. На короткое время он взял меня под защиту и подарил покой. До этого нас гнали через вокзал, наскоро восстановленный после бомбежки, мимо безразличных и удивленных пассажиров, боявшихся за себя. Мы закидывали свои узелки в темные пасти, разверзавшиеся перед нами на одном из последних путей, а потом забирались туда сами.
Нас, последних, встречали без радости. Те, кто уже сидел в вагоне, ворчали или, в лучшем случае, не обращали на нас внимания. Я погрузился в массу человеческих тел, теперь все мы были одинаковыми, различались только места, что нам удалось занять. Кто-то сидел у двери или рядом с щелью в стенке, чтобы легче дышать и смотреть наружу. Кто-то предпочел забиться в угол, где было теплее и не дуло.
Когда нас распределили по вагонам, поначалу поднялись шум и неразбериха. Большинство моих односельчан увели вперед, а меня погнали к одному из последних вагонов. Теперь все разговаривали только шепотом, да и то редко, как будто мы уже сами решили исчезнуть. Я присел на корточки у смотровой щели рядом с парнишкой, дрожащим как осиновый лист.
— Ты замерз? — спросил я.
Он покачал головой и сказал:
— Что они с нами сделают?
Я пожал плечами.
— В Сибирь нас отвезут. Они всех туда везут, — прошептал кто-то.
В вагоне зашушукались.
— Сибирь? А где это? — спросил парнишка.
— Это на краю света. Если мы вообще доживем, пока доедем. А если и доживем, то пожалеем, что не померли, — ответил тот же голос.
Люди зашептались громче, беспокойство в вагоне усилилось.
— И что они там с нами сделают? — полюбопытствовал я.
— Не задавай глупых вопросов. То же, что мы собирались сделать с ними, — сказала какая-то женщина и плотнее запахнула пальто.
Все притихли, потому что каждый задумался о своей собственной Сибири.
Вдруг кто-то крикнул: «Они пришли!» И не зная, о ком речь, однако надеясь, что это означает что-то хорошее, все бросились к двери, щелям и дыркам в гнилых дощатых стенках вагона.
Мы посмотрели наружу и увидели перед зданием вокзала группки людей, пытавшихся подойти к нам. Они приехали в Темешвар из сел, куда заявились русские, и хотели еще кое-что передать в дорогу сыновьям и дочерям, мужьям и женам, отцам и матерям. Кому нечего было принести к поезду, просто стояли. Остальные пытались подкупить русских наручными часами и сигаретами.
Иногда какой-нибудь солдат пропускал несколько человек, а сам рассматривал свою добычу.
Люди бежали вдоль состава, выкрикивая какие-то имена, нередко из вагонов отзывались. Они обменивались последними фразами, последними краткими прикосновениями, потом пленник возвращался на свое место со свертком или узелком.
Прошло еще несколько часов, прежде чем поезд наконец отправился. Грузовики подъезжали все реже. Я грыз хлебную корку, а остальные не могли насмотреться на своих близких и толпились у дверей. Они не сводили глаз с фигур, терпеливо стоящих у вокзала, а те смотрели на них. Всем им хотелось, чтобы это прощание длилось бесконечно.
Слышались только приказы русских. Иногда кто-нибудь из нас звал кого-то на улице, и порой ему отвечали. Люди так прислушивались, словно от этого зависела их жизнь. Я никого не звал, потому что не было никого, кто мог бы меня услышать. Только поглаживал свитер, погрузившись в свои мысли.
К тому же я впервые в жизни думал о своем будущем, которое представлялось мне отнюдь не светлым. Ведь только благодаря событиям, что катапультировали меня из детства в нечто иное, еще неизвестное мне, у меня наконец-то появилось конкретное будущее. Пусть весьма неопределенное, но оно полностью захватило меня и унесло, как река уносит песок из подмытого берега.
К тому времени, когда поезд рывком тронулся с места, двери вагонов уже давно были заперты. Снова послышались гомон и крики. Мы уже так привыкли к ожиданию и теплу сбившихся в кучу тел, что погрузились в дремоту. Мне стало почти так же уютно, как тогда, когда я, окутанный телом Рамины, смотрел на узкое небо за ее окном. Тогда я закрывал глаза и слушал биение ее или только моего сердца, мы с ней дышали в унисон, и я уже не знал, где кончаюсь я и начинается она.
Однако внезапное движение напомнило нам, что теперь начинается нечто такое, что от нас не зависит. Поезд медленно набирал ход. Когда мы уже проехали последние вокзальные постройки, я заметил в конце платформы две фигуры в слабом свете фонаря. Одна из них сделала несколько шагов вперед и встала, словно кукла, которую оставили там неизвестно почему. Возможно, многие вместе со мной смотрели на нее через щель и надеялись на то же, что и я. Но мне было уже все равно, я знал, что никто не может стоять там столь убедительно-безжизненно, кроме моей матери.
Мы поехали через пустынный, зимний пейзаж, заснеженные крыши крестьянских домов походили на шляпы. Я снова присел рядом с худеньким светловолосым парнишкой. Его звали Петру Гростат[26], но он не знал ни слова по-немецки. Из людей, что ехали в моем вагоне, я никого прежде не видел: мужчины, только что вернувшиеся с войны и тут же спалившие немецкую форму; другие еще недавно сидели на школьной скамье или пахали землю.
Прежде чем запереть двери, к нам в вагон запихали еще одного мужчину с дочками. У него была прострелена щека, ухо и волосы с той же стороны — обожжены. Дочери прижимали к ране отца платки, смоченные шнапсом. Его боль стала нашей спутницей на всю дорогу. Все мы уставились на его разорванную кожу, которая цвела черным цветком. Мы видели в ней угрозу, предвестие тех бед, к которым неотвратимо приближались.
Петру переполнял страх. Из его скупых ответов следовало, что он даже не знал, что он немец. Его отец женился на румынке, немецкая у него была только фамилия. Потом отец умер, но мать решила оставить его фамилию. Петру не знал ни где находится Германия, ни того, что эта самая Германия, к которой он вдруг оказался причастен, натворила за последние годы. Он не мог поверить, что всего лишь из-за фамилии ему уготована такая судьба.
Я протянул ему по куску хлеба и сыра, он пожевал немного, а остальное завернул в платок, на потом. У него с собой ничего не было, даже маленького узелка. Его нашли в пересохшем колодце на заднем дворе, и мать к нему даже не подпустили. До этого ему повезло: у него одна нога была короче другой, и его не забрали на войну. «В рубашке родился», — сказала ему мать. Она предсказывала ему удачу в жизни. Однако с русскими удача подвела его.
Люди в вагоне разбились на кучки и то шепотом, то вслух обсуждали наше положение. Почти у всех получалось, что выхода нет. Из вагонов для скота нас выпустят либо только в Сибири, либо уже на Украине. «Разница невелика, — сказал солдат, только что вернувшийся с фронта. — Не важно, где мы умрем, похоронить нас смогут только весной. Земля слишком твердая». Он начал рассказывать о своем походе в Россию, но вскоре его попросили замолчать. Никого больше не интересовала его война. Эти воспоминания больше никто не хотел слушать.
Петру уснул, положив голову мне на плечо. Меня тоже одолевала усталость, и, видя перед глазами две фигуры под фонарем, я уснул под шепот, стоны обожженного мужчины и механический ритмичный грохот.
Проснулся я оттого, что болело все тело. Я лежал головой на спине какого-то мужчины, а недавний солдат использовал вместо подушки мои ступни. Медленно вытащив ноги из-под его головы, я встал. Свободного места больше не осталось совсем, женщины и мужчины лежали вперемежку. Раздавался храп, воздух был какой-то пресный и спертый. Я посмотрел в щель, но не увидел ничего, кроме белой равнины и темного неба.
Понять, который час, я тоже не мог, русские отобрали у нас часы еще в грузовике. Однако на горизонте уже виднелась узкая щель, через которую день мог проскользнуть в ночь и растворить ее. Когда я проснулся опять, было уже светло. Некоторые женщины пытались умыться водой из бутылки, но их остановили: надо было сберечь воду для питья. Люди предпочитали вонять, чем умирать от жажды. При этом снаружи лежало столько снега, что нескольких минут хватило бы, если б только русские открыли двери во время остановки.
Никто не мог сказать, как долго стоит поезд, равно как и где мы находимся. Некоторые перекусывали скудным пайком, другие, у которых ничего не было, только жадно смотрели. Петру потянулся и вытащил из кармана платок с остатками еды. Две сестры пытались унять боль отца. Они тоже с тоской смотрели на снег, но не оттого, что хотели пить — его можно было бы приложить к ране.
Поезд простоял весь день. Но когда я проснулся на вторую ночь, мы ехали полным ходом, хотя и недолго. У какого-то полустанка посреди поля мы опять простояли много часов, и нам не оставалось ничего иного, кроме как глазеть на пустынную, вымершую землю.
Чтобы как-то ободрить Петру, я рассказал ему одну из легенд Рамины. Про Бога, чертей и все остальное. Когда-то Бог отодвинул небо — где тогда жили и черти — от земли, ибо не мог больше слышать причитания людей. Так появился vâzduh — пространство между небом и землей, населенное множеством добрых и злых существ. Однажды Бог вступил в жестокую битву с чертями, иногда казалось, будто они вот-вот одолеют его. Но Бог победил и сбросил чертей с неба. Они падали через vâzduh, и двенадцать пар из них повисли в разных местах.
— Как это у них получилось? — спросил Петру.
— Я не знаю, про это Рамина никогда не рассказывала. Но как-то они сумели, черти все-таки, — ответил я.
Поскольку чертям надо было как-то выживать, они сделали там, где повисли, двенадцать таможенных постов. Тот, кто хотел попасть к Богу, должен был сначала пройти через эти посты и подкупить чертей. Двенадцать раз душа мертвого должна предстать перед чертями и как-то уговорить, обольстить их. Двенадцать раз душе надо постараться, чтобы черти не забрали ее. Так они отомстили Богу.
— Почему ты все время говоришь о многих чертях? Наш священник всегда говорил, что дьявол только один, — заметил Петру.
— Рамина рассказывала, что их ровно двадцать четыре. Один ни за что не управился бы со всей работой.
Я беспрестанно болтал, от этого я охрип, но и успокоился. Так мне казалось, будто Рамина со мной, в вагоне. Но не всем нравились мои байки, слишком уж наше будущее походило на содержание этих сказок. Петру рад был бы пересесть подальше от меня, если бы только было свободное место.
Мы ехали уже несколько дней, в моем сознании время и пространство постепенно размывались. Хоть я и понимал, что мы проехали еще не так много, чтобы оказаться уже в России, иногда у меня было ощущение, будто мы вот-вот будем там. Порой же мне казалось, что Румыния простирается бесконечно далеко, защищая нас от того, что ждет за ее границами.
Двери вагонов иногда открывали, чтобы мы справили нужду, но слишком редко. Складным ножиком Петру мы расковыряли щель в полу и сделали очко. Когда приспичивало женщине, то другие женщины вставали вокруг нее и пели песни, всем известные по военному радио. Хоть для чего-то эти песни еще годились. Когда наступал черед мужчины, то другие мужчины делали то же. Мы перепели весь наш репертуар, и мне казалось, как будто я опять слушаю радио с дедом. Однако большинство соседей еще не могли преодолеть стыд и предпочитали терпеть боль, чем облегчиться перед таким количеством глаз и ушей. Но некоторые освоились быстро.
Однажды ночью я нырнул через это очко с грязными, скользкими краями обратно на свободу. Я давно заметил, что на остановках состав плохо охраняется, а наш вагон обычно стоит далеко от здания станции, в чистом поле. Русские, как правило, даже не выходили из натопленных вагонов, они явно были уверены, что мы никуда не денемся.
Поскольку мне было не обойтись без ножа Петру, я посвятил его в свой план. Я предложил расширить дыру в полу и, как только поезд остановится, выбраться через нее, залечь между рельсами и дождаться отправления состава. Мы по очереди ковыряли очко карманным ножиком, пока оно не стало достаточно широким, чтобы туда могли пролезть голова и туловище. А потом стали ждать удобного случая. Не знаю, сколько из наших спутников наблюдали за нами в темноте и прикидывали собственные шансы смыться тем же путем. Тем более не знаю, многие ли решились на это после меня и Петру.
Рельсы скользили под нами двумя темными линиями, выдаваясь над тускло сияющим снегом. Они тянулись в прошлое, которое осталось не так уж далеко позади, но казалось, что с тех пор прошло очень много времени. Руки у меня окоченели от холода, я их едва чувствовал. Они были все в ссадинах и порезах.
— Как только он затормозит, сразу падай на спину, ногами к хвосту. Тогда мы окажемся далеко от станции. Смотри не угоди под колеса, — сказал я Петру.
Силы меня почти оставили. Наконец поезд затормозил, раздался свисток паровоза, и мы решили, что сейчас будет станция, я просунул ноги в дыру, упершись руками в пол. Я не думал о том, смогу ли вообще удержаться на руках, хотя раньше не мог даже дотащить мешок с едой Рамине.
— Ты сразу бросишь мне мешок, а потом вылезешь сам, так ведь? — спросил я Петру.
Он колебался, мгновение боролся с самим собой, потом, наконец, принял решение.
— Я брошу тебе мешок, но сам не полезу. По мне это слишком опасно, — прошептал он.
Сперва у меня ничего не получалось, и я уже думал отказаться от этой затеи. Я приготовился попробовать в последний раз, понимая, что, если не потороплюсь, скоро момент будет упущен. Я жестко приземлился на край шпалы, и меня пронзила боль. Сначала я лежал, прижав руки к телу. Было невыносимо больно, но все-таки я смог встать и доковылять до темного предмета, лежащего между рельсов.
Наклонившись поднять узелок, я услышал впереди вопль, совершенно нечеловеческий, но это точно кричал человек. Я вздрогнул, решив, что меня заметили. Против вооруженных солдат у меня не было никаких шансов уцелеть. Тут поезд снова поехал быстрее. Паровоз свистнул, будто салютуя мне, а мои люди в вагонах — теперь все они стали моими, — парализованные страхом и холодом, удалялись от меня. Вокруг, сколько хватало глаз, не было ни одного селения, ни единого домишки. Я стоял один посреди бескрайней снежной пустыни.
В наступившей тишине я услышал голос Петру. Он лежал на рельсе в странной, вывернутой позе. Туловище по одну сторону, а ноги — по другую. Он вскинул руки, затем опустил, и, словно этот жест отнял у него последние силы, голова его безжизненно свалилась набок. Я опустился на колени, подсунул руки ему под спину и попытался приподнять его, но живот упал вниз, прямо как кусок мяса, который городской мясник шваркал на стол, прежде чем отделить филейные части от костей. Внутренности Петру вывалились мне на руки, я уронил его и потерял сознание.
* * *
Еще ни разу я не был по-настоящему один. Даже когда я прятался на кладбище, со мной были мертвые. Когда я ранним утром возвращался в дом, в надежде, что отцовская ярость утихла, меня ждали под одеялом два чуть теплых кирпича. А иногда и холодные остатки еды на столе. В Темешваре со мной постоянно были дед и Катица.
Там, у железной дороги, едва придя в себя, я начал понемногу осознавать, что теперь остался совершенно один. Мне неоткуда было ждать помощи, которую могли оказать люди, оставшиеся в вагонах: поделиться коркой хлеба, согреть друг друга своим теплом во сне, загородить или отвернуться, пока кто-то справляет нужду.
Кровь Петру давно пропитала снег, я закрыл ему глаза, как делал наш священник, и отволок его тело с рельсов под откос. Это было единственное, что я мог сделать для него. Я решил пойти в том направлении, где на горизонте в лунном свете виднелось что-то вроде вершины холма.
Я уже не припомню, как долго шел. Сначала я пересек голое поле, затем оказался в березовой роще, где то и дело спотыкался и падал, поэтому одежда у меня сначала промокла, а потом заледенела. Спина все еще болела, но из-за переохлаждения я скоро перестал чувствовать боль.
Я дошел до какой-то речки, кое-где замерзшей, но лед не держал, это было хорошо видно в лунном свете. От противоположного берега было рукой подать до холма, посреди склона я заметил какую-то каменную конструкцию — башню с маленькой пристройкой и остатками стены. Дрожа всем телом, я ходил по берегу туда-сюда, но так и не нашел ни моста, ни такого места, где можно было перебраться по льду. Когда я уже почти смирился с тем, что придется выбрать направление и двигаться вдоль реки, на глаза мне попалась лодка, едва заметная под снегом.
Я спустился к лодке и начал откапывать ее, но радость моя скоро рассеялась. Похоже было, что лодка получила пробоину, и поэтому ее бросили. Я сел на корточки и горько заплакал, зная, что моих рыданий никто не услышит. Однако холод заставил меня действовать. С огромным трудом я откопал лодку и, осмотрев дырку в борту, понадеялся, что если мне хоть немного повезет, то удастся переплыть на тот берег. Я снял куртку, заткнул ею пробоину, залез в лодку, оттолкнулся и выплыл мимо льдин на середину реки.
Лодка стала наполняться ледяной водой и, как я ни боролся с этим, тонула все быстрее. В последнюю секунду я выбрался из нее и распластался на льду, который тут же начал трескаться. Как странно: он не желал поддаваться, когда я хотел умереть, а теперь, когда я отчаянно пытался выжить, не выдерживал моего веса. Я пополз вперед по-пластунски, так быстро и осторожно, как только мог. Трещины разбегались во все стороны, образуя разветвления, ледяной вьюнок рос все быстрее, и лед подо мной откалывался.
Все-таки я добрался до другого берега, но какой ценой! Куртка утонула вместе с лодкой, а свитер и вся остальная одежда промокли до нитки. К тому же холод и усталость одолевали меня, да еще и боль снова напомнила о себе. Я уже не сомневался, что не переживу эту ночь.
Холм возвышался передо мной неприступной крепостью. Стоило мне сделать несколько шагов, как я соскальзывал вниз, и приходилось все начинать сначала. Словно издеваясь надо мной, луна освещала мои бесполезные потуги холодным, равнодушным светом. Казалось, все люди вымерли, все живое исчезло с лица земли, ибо, когда я оглядывался на равнину, которую только что пересек, совершенно ничего не видел. Ни единого домика, где кто-нибудь мог дышать, спать или греться у очага в этот ранний час.
Зато небо было на редкость прекрасным, в других обстоятельствах я чувствовал бы себя под его защитой. Я, потерявший все, что могло меня защитить: Рамину, Катицу, деда и склеп, — прислушивался к собственному дыханию, холодный воздух наполнял легкие, и они чуть ли не лопались. Наконец я обнаружил лестницу, что вела вниз, в естественную впадину, уходящую в глубь холма. Тонкие стволы молодых лиственниц и березок образовали туннель, который усиливал ощущение глубины.
Я пошел вниз, как ни странно, не испытывая страха, будто он остался дома вместо меня. Спустившись по лестнице, я оказался перед развалинами церкви, бог знает кем построенной в таком уединенном месте. Это ее я видел с берега, так как впадина с другой стороны была открыта и переходила в крутой обрыв. Окон и дверей давно не осталось, вместо них в массивных стенах зияли дыры.
Купола колокольни и церкви обрушились, остался лишь каркас. Мимо опорных балок падал снег, так что и внутри нельзя было укрыться. Вокруг валялось много дров, вероятно, остатки скамей и алтаря, но дерево промокло, и без спичек бессмысленно было пытаться разжечь огонь. Я лихорадочно искал сухое место, где можно было бы полежать несколько часов, а лучше — поспать. Наконец нашел узкую лестницу в крипту. Там царила кромешная тьма, и мне пришлось продвигаться вдоль стен на ощупь. В стенах я нащупал углубления, около дюжины глубоких ниш, но они были пусты.
Я выгреб осыпь из одного закутка, доел последний черствый кусок хлеба, сало, сыр и уснул. Проснулся я от голода или от озноба. И то и другое терзало меня с такой силой, что я уже стал прощаться с жизнью. Через щель наверху в крипту проникал слабый солнечный свет, осветивший ниши. Они были вырублены в скале для гробов с покойниками из рода Байчи. Здесь были похоронены барон Байчи и девять его сородичей. Их имена были высечены на каменной плите, но от гробов не осталось и следа, стена с пустыми отверстиями напоминала беззубый рот.
Я весь пылал и не мог унять дрожь, стук моих зубов отдавался эхом в узком помещении. Сон мой был беспокойным, прерывался ознобом и вздрагиваниями. Просыпаясь, я хотел снова уснуть, чтобы не чувствовать голода. А засыпая, раскрывал глаза, потому что боялся больше не проснуться. Стало светлее, значит, наступил полдень, потом свет снова померк. Я уже старался примириться с мыслью о следующей ночи в этом негостеприимном месте, как вдруг услышал наверху шаги и мужские голоса.
Первым в крипту спустился православный священник. Таких худощавых и долговязых людей я еще не встречал. Его редкая мягкая борода походила на приклеенную вату. Он склонился надо мной, а другой мужчина — смуглый, почти совсем лысый — стоял позади.
— Живой еще, слава богу, — сказал поп по-румынски. — Ты понимаешь меня, юноша?
Я кивнул.
— Я увидел твои следы на снегу. Похоже, ты проделал длинный путь. Когда я нашел тебя, ты был без сознания. Один я тебя не донесу, привел подмогу. Идти можешь?
Я покачал головой.
— Тогда попробуем вдвоем. Гиги! — крикнул он второму. — Бери его за ноги, я возьму за плечи.
Они вынесли меня из церкви и подняли вверх по туннелю из деревьев. Из остального пути в памяти у меня остались только мягкое скольжение и покачивание, хруст снега под сапогами и пар изо рта священника на моем лице.
В доме батюшки пахло тленом, будто внутренности постройки разлагались подобно человеческому телу. Спасители положили меня в какой-то маленькой комнатке, накрыли несколькими одеялами, и поп принес мне водянистую похлебку, она хоть и была безвкусной, но немного согрела меня. Я оттаивал, как шматки сала, которые мы доставали из кладовой и сначала развешивали над печкой.
И все-таки лучше мне не стало, меня снова била лихорадка, и при каждом вздохе боль пронзала легкие, будто ножами. Каждый раз, когда меня проведывал батюшка, скрипели прогнившие, изъеденные червем половицы. Этот скрип стал первым знакомым звуком в моей новой жизни, и я слышу его как сейчас. Даже с закрытыми глазами я знал, что он пришел и позаботится обо мне.
На следующий день батюшка сел на край кровати и сменил уксусный компресс у меня на груди. На этот раз он был встревожен.
— Я поеду в город и привезу врача, — сказал он.
Я схватил его за руку, попытался встать, но снова упал на подушку.
— Пожалуйста, не надо врача, — произнес я по-румынски.
— Но он тебе нужен.
— Не надо врача! — почти крикнул я.
Он долго смотрел на меня, размышляя.
— Я не знаю, что ты сделал, отрок, и чего боишься, но в моем доме и в доме Господа нашего любому найдется место. — Он помолчал. — Ты румын? — Я кивнул. — Но ты разговариваешь по-румынски, как шваб. Как тебя зовут?
— Якоб, но пишется через «с».
Священник рассмеялся, взял меня за руку, подержал немного и сказал:
— Ну, ладно, Якоб через «с». Тогда я приведу нашу baba, у нее есть средства от всего. От воспаления легких тоже что-нибудь придумает.
Неизвестно, то ли помогли бабкины мази, которыми она растирала меня по нескольку раз в неделю, то ли ее зловонная похлебка, которую поп заставлял меня съедать до последней капли. Бабка то была довольна результатом, то теряла надежду и сокрушалась, что у меня слишком слабое тело и даже ее проверенные, безотказные рецепты не могут помочь, если у больного природная предрасположенность к болезни. Она говорила, что от меня остались только кожа да кости, всего лишь тень человека, и что меня надо сначала откормить, как гуся, прежде чем какое-нибудь лекарство сможет подействовать.
Каждый день ко мне на кровать садился батюшка с миской густого, кислого супа, он помогал мне сесть, подкладывал подушку под спину и так старательно кормил меня, словно я — его сын. Но я быстро уставал от еды и снова погружался в сон. Бабка говорила: «Если он дотянет до марта, то поправится».
Бо́льшую часть времени я проводил в своей комнатке среди множества образов святых. У нас дома тоже имелось несколько, но здесь был целый иконостас, словно батюшка боялся прогневить кого-нибудь из святых, архангелов и апостолов и потому всех их держал у себя в доме. Позади дома возвышался холм. На пути выздоровления со мной был только кусочек сада, отражавшийся в открытом окне. Какой-то лоскут застрял между штакетинами забора и то висел неподвижно, то едва покачивался на ветру.
Однажды священник появился у моей кровати с тяжелым томом в руках, между страницами которого попадались раздавленные мухи. Это была книга о его вере, он хотел, чтобы я почитал ее, но, увидев, что книга несколько дней подряд пролежала рядом с кроватью нераскрытой, унес ее. Потом он принес другую, в которой, по его словам, очень точно описывалась жизнь в одном румынском селе. Он стер с нее пыль ладонью и вручил мне.
Я видел эту книгу и в Трибсветтере, среди тех, что стояли в румынской половине класса, но никто из нас никогда к ним не прикасался. Ведь мы не могли их прочитать, наша Румыния всегда была немецкой. Наш язык, наши газеты, наши книги. Заметив, что я и в этот раз не читаю, батюшка спросил:
— Ты не умеешь или не хочешь?
— Не умею.
Он сел рядом, раскрыл книгу так, чтобы было видно нам обоим, и начал читать вслух, громко и медленно. Если мне было что-то непонятно, он объяснял. Когда сгустились сумерки, он принес стул и поставил на него керосиновую лампу. Так продолжалось и в марте, когда он стал по утрам уходить из дома с пустым мешком под мышкой и возвращался после обеда, неся полный мешок на плече. С мешком он спускался в подвал и пропадал там по нескольку часов. Но он не пропускал ни одного вечера, чтобы почитать мне.
Правда, постепенно батюшка стал читать все больше не для меня, а для себя. Это доставляло ему удовольствие, он хихикал и даже смеялся, потом опять становился серьезным и задумчивым. Так, пока я выздоравливал, мы стерли пыль с нескольких его книг. Уходя спать, он разрешал мне читать дальше, что получалось у меня все лучше. Когда в лампе заканчивался керосин, на следующий день он заправлял ее.
В марте я пошел на поправку. Наконец-то я начал есть твердую пищу и, как следует укутавшись, выходил во двор. Батюшка поддерживал меня под руку и усаживал на скамейку. Оттуда мне было хорошо видно дорогу, что вела к деревне. Деревня была разделена речкой, через которую я перебрался, рассказал мне священник, отец Памфилий. Если бы я тогда пошел вниз по течению реки, то обогнул бы гору — они называли этот холм горой, поскольку это была самая большая возвышенность на всю округу, — и скоро дошел бы до деревни. Оказалось, что от этой деревни не больше восьмидесяти километров до Темешвара. Это потрясло меня больше всего, ведь это означало, что за четыре дня пути поезд даже не выехал из Баната.
Началось половодье, и разбухшая река разделила деревню на две почти равные части. При низкой воде или летом, когда река едва не пересыхала, на другую сторону можно было перейти вброд, но сейчас берега соединял только узкий мостик из ствола дерева, который могло в любую секунду унести течением. Поэтому крестьяне предпочитали подождать, пока река утихомирится. Когда надо было пообщаться с кем-то на том берегу, они просто перекрикивались. Из-за сильного течения плавать на лодке тоже никто не рисковал.
Так что большую часть времени я занимался тем, что глядел на воду и слушал людей, переговаривающихся через реку, ветер доносил их голоса до меня. Проглатывал ли поток, искрящийся в мягком молочном свете, их слова на пути к другому берегу, так же, как некогда Дунай глотал молитвы товарищей Фредерика, я не знаю.
Каждый день отец Памфилий поднимался по едва заметной тропинке, начинавшейся прямо за домом, и исчезал в зарослях. Обычно я засыпал, сидя на скамейке, предавался сну, будто в нем было мое спасение. После обеда батюшка возвращался, он просто выныривал из-за деревьев и шагал с тяжелым грузом мимо моего наблюдательного пункта. Клал мешок на землю, здоровался, вытирал пот со лба и приносил из дома бутылку цуйки с двумя стаканами. «Это цуйка из сливы, выросшей на этом холме. На особой земле, так сказать. Выпей, и оживешь как следует».
Потом он плевал на ладони, взваливал мешок на плечо и нес его в подвал. Каждый день туда попадал очередной мешок. Поскольку он никогда не выносил мешки обратно, там их должно было набраться уже полным-полно. Их загадочное содержимое все больше распаляло мое любопытство. В них была точно не картошка, потому что однажды, когда мы столкнулись, я увидел, что из мешка торчит что-то грязно-белое. Заметив мой взгляд, батюшка поправил мешок и завязал его покрепче.
До вечера он оставался в подвале и выходил только пару раз за свежей водой из колодца. При этом на меня не обращал внимания. Догадаться, что внизу он занимается какой-то кропотливой работой, можно было только по негромкому металлическому дребезгу — будто он бросал в ведро что-то твердое.
На закате он выходил из подвала, чистил одежду от пыли и грязи и шел к реке. На другом берегу его обычно ждал Гиги. Они напоминали хорошо сыгранную команду или, скорее, даже заговорщиков. Я понимал не все, что батюшка кричал Гиги, но когда понимал, то это были числа: ноль, один, два, редко три. Этот ритуал занимал всего несколько секунд, Гиги кивал, и священник, явно довольный, возвращался домой.
Как-то в середине апреля отец Памфилий подсел ко мне и поставил между нами бутылку цуйки. От него резко пахло, потому что он куда охотнее и усерднее намывал свои тайные сокровища, чем мылся сам. Но я уже привык к этому запаху — так пахла одежда, что он одолжил мне, — и к его храпу, который оглашал дом по ночам и успокаивал меня, так же, как тиканье настенных часов или шум реки.
Он откашлялся и долго собирался что-то сказать.
— Якоб, не надо ли сообщить кому-нибудь о тебе? Может быть, тебя кто-нибудь ждет?
— Меня никто не ждет.
— Не хочешь немного рассказать о себе, откуда ты?
— Поверьте, отец Памфилий, вы не захотите этого знать.
— Я уже знаю, что ты шваб и что зимой здесь проезжали поезда в Россию. Это имеет к тебе какое-то отношение?
— Мое имя Якоб, пишется через «с». Я не шваб и никогда им не был. Я просто жил среди них.
— Про тебя спрашивал наш жандарм. Времена изменились, скоро здесь будут заправлять коммунисты. Он это знает и перейдет на их сторону. Теперь он разнюхивает тут, чтобы угодить красным.
Представив, что снова окажусь в вагоне для скота, я вскочил, пошел в дом и стал лихорадочно собирать свои немногие пожитки. Не слушая доводы священника, пытавшегося меня успокоить, я протиснулся мимо него, натянул свитер и направился к реке. Я побежал к ней, словно был единственным, кому под силу ее укротить. Зимой я уже бросал ей вызов и смог выцарапать свою жизнь. Но теперь река стала сильнее.
Вода поднялась до самой высокой точки, и ее шум разносился по всей деревне. Ствол дерева, служивший мостом, захлестывали волны. Несмотря на это, я сделал по нему несколько шагов, все время поскальзываясь, так что чуть не свалился в воду. Батюшка, прибежавший следом, умолял меня одуматься и не рисковать недавно спасенной жизнью. А на другом берегу уже собралась кучка людей, с интересом наблюдавших за мной.
Похоже, к тому времени я уже осознал некоторую ценность жизни и, увидев, что мостик совсем ненадежный, вернулся на берег. Отец Памфилий был в ярости и встретил меня с кулаками. Он схватил меня за рукав и сильно встряхнул.
— Я не для того тебя спасал, чтобы ты теперь убился! — крикнул он. — У меня на тебя еще кой-какие планы есть.
Поп повернулся к нашим зрителям, улыбнулся им и помахал рукой, потом добавил:
— Пойдем в дом, здесь на нас все смотрят. Есть одно предложение.
Батюшка накрыл стол для ужина, на плите закипал суп из ягненка, полученного в уплату за крещение ребенка. Он благословил пищу, налил нам по тарелке и сел. К шуму реки, сокрытой тьмой, прибавились звуки, издаваемые отцом Памфилием за столом, — он громко прихлебывал суп тонкими губами, едва заметными из-за усов и бороды.
То и дело он отщипывал немного хлеба от свежей краюхи, которую, как обычно, принесла к реке одна из самых набожных его прихожанок. Каждый день она укладывала хлеб вместе с остальными заказами батюшки на маленький плотик, и тянуть его через реку за веревку теперь было моей работой. «На моей должности не разбогатеешь, но сыт будешь всегда», — частенько говаривал батюшка. На столе между нами лежали чистые, тугие зубчики чеснока, которым пропахли мои пальцы и рот. Мы хрумкали чеснок, как другие щелкают семечки. Пощипывание на языке, которое проходило только к ночи, стало для меня неотъемлемым признаком той поры, как и много еще запахов и звуков.
Собрав остатки супа с тарелки последним кусочком хлеба, поковыряв в зубах длинным черным ногтем и проверив кончиком языка, что там ничего больше не застряло, он налил нам цуйки и заговорил:
— Я скажу жандарму, что ты мой племянник, что тебя отправили ко мне, ибо ты хочешь стать священником и нужно испытать твою веру. Скажу, что ты усердно учишься и стремишься пойти по моим стопам, но веру твою следует укрепить. Знаю, это лукавство, но с коммунистами лукавить можно. Господь простит меня.
Он встал, закурил сигарету и снял свою черную рясу. Потом сунул руку в карман штанов, достал какой-то ключ и положил его на стол.
— Ешь как следует. Скоро это может тебе пригодиться, — тихо сказал священник и осмотрел меня так, словно оценивал лошадь на рынке. Разве что зубы не попросил показать.
— Силушки в тебе вроде прибавилось, так ведь? — спросил он.
— Конечно, посильнее стал.
— Это потому, что тебя тут хорошо кормят. Но если сидеть на месте, только растолстеешь. Хочешь стать толстым и ленивым?
— Нет, не хочу.
— Будешь целыми днями сидеть без дела, так и случится. У тебя такой живот отрастет, что ты конец свой видеть перестанешь.
В глазах попа сверкнула хитринка. Я смущенно уставился на него.
— К тому же Господь не любит лентяев. Лень — это грех. Ты согласен, Якоб?
Я кивнул.
— Тогда скажи-ка, что ж ты ничего не делаешь-то? Ты выздоровел. Но здоровье нам Бог одалживает, милый мой. Кому оно больше не нужно, у тех Господь его забирает.
— Скажите, что мне делать, и я все сделаю, — ответил я.
— Что ж, Якоб через «с», ты католик. Так я предполагаю. — Я промолчал и опустил глаза. — Значит, в церковной службе ты мне помогать не можешь.
— Я буду делать все, что пожелаете, только не выгоняйте меня.
Батюшка о чем-то размышлял, некоторое время расхаживая по комнате. Наконец решившись, он схватил ключ и сунул его мне под нос:
— Я знаю, чем ты можешь заняться. Иди за мной.
Он взял керосиновую лампу, и мы спустились в подвал.
Чем глубже мы спускались, тем сильнее пахло гнилью, так что дышать стало почти невозможно. Отец Памфилий отпер замок и толкнул тяжелую дверь — она открылась с таким трудом, будто за ней хранилось золото, а не какая-то ерунда, которую поп собирал в лесу. На миг я и вправду поверил, что увижу золото. Я только в сказках читал, как выглядят такие места, где лежат кучи золота до потолка вперемешку с рубинами, изумрудами, сапфирами. Как они сияют и сводят с ума людей, увидевших это. Я надеялся увидеть сокровище, но не такое.
Когда отец Памфилий подвесил лампу под потолок и разрешил мне зайти, я в ужасе отшатнулся. Весь подвал был забит человеческими останками. Вот что таскал сюда священник. Некоторые мешки были пусты и ждали нового груза, другие — упали, и из них высыпались кости разной величины и формы. Батюшка явно не справлялся со всей работой.
Несколько костей были отмыты и поблескивали желтовато-белым на столе в середине подвала. Кости лежали и в ведрах. Другие, все в земле и грязи, были сложены кучами на полу, многие были сломаны или раздроблены, словно над мертвыми учинили большее насилие, чем над живыми. Среди костей попадались и черепа, проломленные, расколотые, но были и совсем неповрежденные, будто покойник только недавно улегся в землю.
На другом столе, который я заметил не сразу, отец Памфилий собрал из найденных фрагментов почти целый скелет, не хватало только одной руки и ступней. Тем временем я уже освоился и разгуливал по этой своеобразной ремонтной мастерской, прямо как по нашему кладбищу. В таких местах, в окружении множества покойников, я чувствовал себя в своей стихии. Батюшка за все это время не произнес ни слова, он стоял, прислонившись к стене и поглаживая бороду. Он наблюдал за мной, пока я поднимал один из черепов и крутил в руках или вынимал из мешка кость и тоже внимательно рассматривал ее.
— Ты не боишься смерти? — спросил батюшка.
— Смерти боюсь, а мертвых — нет.
— Это очень хорошо, потому что страх может только помешать.
Я понял, что прошел какую-то проверку или испытание, однако не знал, для чего. Что делал отец Памфилий со всеми этими костями и почему все время выкрикивал через реку числа, как будто речь шла о яблоках, купленных на рынке? Но особенно меня мучил вопрос, откуда все это взялось. Это не могли быть останки местных жителей, ведь при такой смертности деревня давно опустела бы. Батюшка каждый день таскал кости, словно воду из какого-то тайного, бездонного колодца.
Когда мы поднялись из подвала, он снова налил нам цуйки. Еще одно воспоминание той поры — мы постоянно были под мухой. Все время находился повод опрокинуть рюмку цуйки или стакан вина: дождь или окончание дождя, канун очередного церковного праздника или сам праздничный день; благодарность Господу за обилие, что Он даровал нам, или необходимость довольствоваться малым.
Вино мы пили после каждого крещения или венчания, а цуйку — после каждого покойника, по которому батюшка служил панихиду. Ибо, по его словам, цуйка хранит нас от смерти, а вино — помогает жить. Так что я никогда не бывал абсолютно трезв и, возможно, только поэтому счел предложение отца Памфилия разумным и логичным.
— Уже сорок лет я раскапываю здесь кости, и конца этому не видно, — сказал он. — Гора ими битком набита. Крестьяне суеверны и потому не ходят туда. Доходят, в лучшем случае, до моего дома, но дальше не решаются. Каждый день появляются новые кости, иногда в том же месте, где я копал накануне. Бывает, они торчат прямо из земли, нужно только вытащить. Как будто гора порождает эти кости. Ну, ты сам увидишь.
— Я? — удивился я.
— Мне нужен помощник вроде тебя. Ты пока еще не так силен, я знаю, но и я был такой же, когда меня совсем молодым послали служить сюда. Работы было немного. Что тогда, что сейчас. Кто-то умирает, кто-то женится, а между всем этим остается уйма времени, чтобы сойти с ума от скуки. Поэтому я стал гулять по окрестностям, пока однажды после грозы не споткнулся о бедренную кость. Вот тогда я и начал копать и до сих пор не прекращаю.
— Что вы делаете с этими костями? — спросил я.
— То, что велит мне долг. Мою их, собираю в скелеты и хороню по нашему христианскому обычаю.
— Почему же тогда они копятся у вас в подвале?
— Иначе никак, пока река не позволит перевезти их на другую сторону, там у нас церковь и кладбище. Гиги делает для каждого отдельный гроб, так положено. Работы хватает, тут ему грех жаловаться. Он не поспевает за тем, как я копаю. Когда появится возможность все перевезти, подвал опять освободится.
— Так вот что вы кричите через реку? Сколько гробов ему делать?
— Да, так и есть. Смотря сколько скелетов я успел собрать за день.
Отец Памфилий разулся, снял штаны и рубашку, повесил их на спинку стула и встал перед иконой. Он поклонился и несколько раз привычно перекрестился, как и положено человеку, который всю жизнь только и делал, что заново хоронил мертвых, пил цуйку да осенял себя крестным знамением перед Святой Богородицей, Господом Богом и перед каждым святым в отдельности.
Я удалился в свою комнату, тоже разделся и лег в кровать. Батюшка погасил лампу.
— А почему Гиги этим занимается? — спросил я в темноте.
— Гиги? Он цыган, из окрестностей Трибсветтера. Раньше он был важным бульбашой, но жена его обесчестила. Больше он никогда ничего не рассказывал. Если попытаешься выспросить, рискуешь расстаться с жизнью. Он говорит, что помогает мне, чтобы искупить грех. Но что за грех, этого даже я не знаю.
Я был так ошеломлен тем, что нашел мужа Рамины, чей призрак сопровождал меня все детство в ее рассказах и которого она проклинала при каждом упоминании, что даже прослушал следующий вопрос батюшки. Я пришел в себя, когда он уже стоял босиком в дверном проеме.
— Да что с тобой? Тебе плохо? — спросил он.
— Нет.
— Так что ты скажешь?
— О чем?
— Хочешь ли ты стать моим помощником? Когда я принес тебя в дом, ни живого ни мертвого, я знал, что Господь послал тебя мне в помощь. Думаю, поэтому он и не дал тебе умереть.
— А если я скажу «нет»?
Казалось, он смутился, словно не предполагал, что я могу отказаться. Он долго размышлял, прежде чем ответил:
— Тогда тебе придется уйти. Мне здесь тунеядцы не нужны. А другой работы у меня для тебя нет.
Так я на несколько лет стал носильщиком костей, помощником отца Памфилия в искусстве отнимать у земли человеческие останки, пролежавшие там, может, сотню, а может, и тысячу лет. Мыть их и готовить к переправе через реку. Да еще каким усердным помощником.
* * *
До самого июня река оставалась непреодолимой преградой. Когда на том берегу кто-нибудь умирал, его укладывали в гроб и отправляли в дорогу к нам. Мы перетягивали гроб на веревках — нелегкая работа, когда против тебя неукротимая сила потока. Иногда покойник тянул нас вниз по течению, мы спотыкались о камни, лезли через кусты, и лишь с большим трудом удавалось вытащить гроб на берег.
Отец Памфилий совершал панихиду прямо у реки, клал в гроб образок Святой Богородицы, а на лоб покойнику — бумажную ленту с надписью «Святый Боже, помилуй». Он накрывал покойника покровом, читал псалмы и помахивал кадилом с ладаном со всех четырех сторон гроба, потом мы переправляли его обратно к родственникам, и они несли его на кладбище.
Старых и больных людей, чувствовавших, что жизнь постепенно покидает их, тоже переправляли к нам, на плоту. На нем укрепляли стул, к которому привязывали стариков. Больных же укладывали на носилках. Однажды мокрая веревка выскользнула у меня из рук, и мы упустили старика на плоту. Мы бросились за ним вдогонку по обеим сторонам реки, еще чуть-чуть — и на берег пришлось бы вытаскивать мертвеца.
Как-то раз через реку отважилась перебраться и молодая пара, потому что жених предпочел рискнуть жизнью, чем дожидаться брачной ночи до лета. С молодоженами обнялись и распрощались, словно они собирались в дальний путь, затем они разулись, перекрестились и взошли на плот. Невеста стояла прямо, как ни пытался поток вывести ее из равновесия, — эта картина и сегодня проносится у меня перед глазами. Упрямая и готовая на все, она никому не позволила остановить ее в самый прекрасный день жизни, даже природной стихии.
В другой раз мать перевезла через реку младенца, она боялась, что он умрет некрещеным и тогда бесы заберут его душу. Но если не считать таких экстренных случаев, основным нашим занятием оставались кости. Они действительно были повсюду. Стоило отойти от тропинки на несколько шагов, заглянуть под кусты или камни, как мы натыкались на них. От случайного поиска батюшка отказался много лет назад. Он действовал очень осторожно: намечал квадратный участок, тщательно обследовал его, а затем переходил к следующему.
Так и я научился работать медленно и планомерно, ведь обычно кости одного человека лежали на одном участке земли. Важнейшим правилом было хоронить целые или почти целые скелеты, а не разрозненные части. После дождя нам особенно везло, поскольку дождем со склона всегда смывало слой земли. Я стал таким же ревностным копателем, как священник, и каждое утро не мог дождаться, когда же мы возьмемся за дело. Во мне тоже появилась какая-то нежность к жалким человеческим останкам, что я таскал на спине. Я внимательно рассматривал их и прикасался осторожно, словно не желая дать им повода для обиды.
Поначалу моих сил не хватало, чтобы нести вниз по крутому склону полный мешок и тем более чтобы весь день согнувшись ковыряться в земле. Тогда батюшка отсылал меня домой мыть кости. В этом деле я быстро наловчился и каждый день умудрялся очистить при помощи щетки, мыла и воды так много косточек, что вечером Гиги воздевал руки, услышав, сколько нужно гробов. А гробы громоздились у него, как у нас скелеты, но мы рассчитывали, что вскоре сможем соединить одних с другими. Появились первые признаки успокоения реки.
Со временем я стал сильнее и выносливее и таскал мешки домой без передышки, хотя потом оставался совершенно без сил. Обычно я засыпал еще до ужина, но отец Памфилий будил меня, поскольку взял за правило кормить меня до отвала, как мать кормила своих гусей. На его харчах я сильно прибавил в весе, стал крепче и толще.
Наконец, однажды ранним утром Гиги постучался в нашу дверь.
— Батюшка, вода в реке спала. Теперь можно хоронить покойников! — крикнул он.
Я открыл дверь и уставился на Гиги, ведь я впервые увидел его вблизи. Если когда-то он и был внушительным и грозным бульбашой, то теперь от него мало что осталось. Морщинистый, тощий мужичонка, беззубый рот. Я даже засомневался, что передо мной стоит тот самый человек, которого разыскал отец, появившись в Трибсветтере.
Мы втроем приступили к переноске останков, это продолжалось несколько недель. За одну ходку мы могли перенести только один-два ящика костей, потому что одной рукой приходилось держаться за веревку, служившую нам перилами. В каждом ящике лежал целый или почти целый скелет. В июле русло реки пересохло, и носить мертвых стало гораздо проще. Постепенно наш подвал опустел. Свежевыкопанные кости оставались там лишь по нескольку дней, пока мы готовили их к погребению.
Будучи католиком, за похоронами я мог наблюдать только издали. Так сказать, безбилетным зрителем. Лишь могильщик да несколько старушек с иконами и зажженными свечами стояли вокруг батюшки, пока тот открывал ящики, укладывал останки в гробы, и потом Гиги приколачивал крышки.
Старого кладбища явно не хватало, и отец Памфилий давно добился, чтобы по соседству отвели новый большой участок земли. Для неизвестных с нашей горы. Старушки распределили между собой и эти могилки. Приходя навестить своих родных покойников, они заглядывали и к этим, приемным. Причем это новое кладбище отнюдь не выглядело заброшенным, как если бы его тут просто терпели или проявляли вынужденное гостеприимство. Нет, во многих отношениях это кладбище даже процветало, было ухоженнее и чище, чем старое.
Однажды я прогуливался по деревне, ожидая, пока отец Памфилий позовет меня и мы вернемся к нашему привычному делу. Как вдруг у меня на пути встал жандарм. Потный человек с самодовольной улыбкой, однако не дурак. Он понимал, что не фигура, а форма — тщательно вычищенная и застегнутая на все пуговицы даже в самую сильную жару — дает ему такую власть над людьми, что не надо и пальцем шевелить. И в самом деле, едва заметив жандарма, каждый задумывался, не нарушил ли чего. Не совершил ли какого хоть пустякового проступка, который может потянуть его вниз, словно гиря, прикованная к ноге. Это мне рассказал батюшка.
— Я слышал, ты хочешь стать попом, — сказал он. — Но ведь теперь это никак не годится для коммунистического будущего нашей страны.
— Но вера моя очень крепка, — ответил я.
— Кем работают твои родители?
— Отца больше нет. Он скрывался, чтобы немцы его на фронт не забрали. Но его нашли и расстреляли. Мать работала… портнихой… — сказал я, слегка запнувшись. — Еле-еле концы с концами сводили. Поэтому она меня сюда и отправила.
— Вот как. Таких, как ты, парень, в коммунисты берут, а не в попы, — заметил он весело, но все-таки недоверчиво.
Я пожал плечами, будто не совсем понял его.
Я солгал ему, последовав примеру отца Памфилия, но вместе с тем почувствовал благодарность деду и Рамине за то, что они научили меня рассказывать невероятные истории не моргнув глазом. Жандарм бросил окурок на дорогу и раздавил ногой.
— Откуда у тебя этот акцент?
— Мы были единственной румынской семьей в немецкой деревне. Приходилось говорить по-немецки, чтобы учиться в школе. Хотя немцев я ненавижу, они сволочи, отца моего убили.
Жандарм закурил еще одну сигарету и, ничего не сказав, выразительно взглянув на меня, поднес два пальца к фуражке и пошел своей дорогой. Я вытер взмокшие ладони о штаны и пошел в другую сторону, стараясь не показывать волнения.
Только теперь я заметил девушек, которые стояли, прислонившись к забору, и с любопытством глазели на меня. Девчонки щелкали семечки и сплевывали лузгу. Когда я приблизился к ним, они о чем-то зашушукались, но одна вдруг обернулась и посмотрела мне прямо в глаза. Лет ей было не больше шестнадцати, черные как смоль волосы, заплетенные в косы, ниспадали ей на грудь. Она не опустила глаз даже тогда, когда я чуть не коснулся ее, пропуская телегу.
Я помнил ее. Она часто сопровождала на кладбище одну из старушек, но всегда оставалась у ограды, как и я. У нее были красивые, мягкие черты лица — никогда бы не подумал, что такая вообще посмотрит на меня. Я чувствовал на спине ее взгляд, пока не дошел до реки. Прежде чем ступить на мостик, я оглянулся, но ее уже не было.
Все последующие годы я прожил в этой деревне в постоянном страхе, что жандарм однажды объявится на пороге нашего дома с пистолетом в руке. Я не знал, поверил он мне или просто посчитал меня слишком мелкой рыбешкой для своей будущей карьеры. Я перестал ходить в деревню без крайней необходимости и нередко отказывался днем носить ящики с костями по деревенской улице. Поэтому часть наших вылазок мы перенесли на вечер. Но, по большому счету, я стал сноровистым, хоть и несколько молчаливым, подмастерьем своего хозяина и был всем доволен.
Воспоминания о Трибсветтере, о прежней жизни постепенно померкли в хлопотливых и однообразных буднях моих христианских трудов. Прошлое отодвинулось так далеко, словно я не пережил его в действительности, а оно лишь пригрезилось мне. Однажды я даже совершил многочасовой поход к тому месту, где оставил труп Петру, но не нашел там никаких его следов. Ни единой косточки, которую мог бы похоронить на нашем кладбище. Ничего, кроме неприветливой равнины, на которой расплывались в горячем воздухе редкие деревья и очертания холма на горизонте.
Постепенно, шаг за шагом, во время мытья костей или за ужином, отец Памфилий рассказывал мне историю горы, насколько она была ему известна. В нем я обрел не только наставника, но и талантливого рассказчика. Уже третьего за мою столь короткую жизнь. Правду ли он рассказывал или вымысел, ему — да, в конце концов, и мне — было все равно. В нашем доме, который стоял на костях и пропах смертью, я кое-что узнал о замке, который Буребиста, царь Дакии, приказал построить на плоской вершине этого холма. Там все еще можно было найти следы той эпохи: остатки фундамента дворца и конюшен, простых домов за пределами оборонительных стен и множество глиняных черепков.
Даки хоронили своих мертвых рядом с домом, чтобы всегда иметь возможность разговаривать с ними. Вполне вероятно, это их кости были древнейшими из тех, что мы откапывали. Потом, много позже, здесь побывали легионы императора Траяна, напавшие на даков с юга, с берегов Дуная. Наверняка среди них были наемники-христиане, которые совершали богослужения и хоронили умерших в какой-нибудь пещере в глубине горы. Но сколько отец Памфилий ни искал это место, так ничего и не нашел.
Наконец, опять же много веков спустя, на горизонте появились турки, которые вторглись в Банат. Целое море пеших янычар с копьями и пиками, тяжелой кавалерии сипахов и полков капикулы, легкой конницы акынджи, разведчиков и бродяг, которые в бою первыми бросались врассыпную. Их было так много, что земля задрожала и стук тысяч копыт послышался за несколько часов до появления войска.
Сначала вдали показалось облако пыли, которое все приближалось, потом на солнце засверкали отблески наконечников копий, щитов и прочих доспехов. Достигнув этой горы, армия разделилась — как поток, который не под силу удержать никому и ничему, — и обогнула ее с двух сторон, чтобы затем снова слиться воедино. Турецкие полчища двигались на север до Темешвара, потом развернулись на запад и разорили земли Австрийской монархии до самых окрестностей Вены. В наших краях, наверное, тоже случилось немало сражений, и таким образом турецкие кости перемешались здесь со всеми остальными.
— Поэтому, Якоб, я понятия не имею, кого я тут на самом деле хороню, — завершил свой рассказ батюшка. — Каждый заново собранный скелет может оказаться на четверть турецким, на четверть римским, а на две четверти дакским или каким-нибудь еще. Если я погребал по христианскому обряду и язычников, то да простит меня Господь Всемогущий, ведь не умею я различать кости по народности и вере. — Тут отец Памфилий наклонился ко мне и добавил шепотом, прикрыв рот ладонью: — Вот что я Ему скажу, коли Он меня о том спросит.
В дни отдыха, когда шли непрерывные дожди, вода текла мимо дома ручьями, пополняя реку, а нам приходилось ждать сложа руки, пока хляби небесные замкнутся и гора обнажит свои богатства с еще большей щедростью, я продолжал читать книги из маленькой библиотеки отца Памфилия. После сладостных, праздных часов чтения в Темешваре, в немецкой школе и рядом с Катицей, я заново открывал для себя литературу.
У батюшки хранились в основном книги румынских писателей и нескольких русских, я понимал не всё, да и не всё мне было в равной мере интересно, но я не бросал чтения. Когда наступала ночь и по дому раздавался храп священника, а в комнате все еще сильно пахло нашим ужином, я открывал книгу при слабом свете лампы и закрывал ее лишь глубоко за полночь.
Иногда отец Памфилий ворчал на меня утром за то, что я опять сжег весь керосин. Но он не мешал мне. Однажды ночью он так тихо подкрался к моей кровати, что я испугался, подняв голову и увидев его.
— И что ты только в них находишь? — спросил он.
— Но вы же сами мне их давали, — ответил я.
— Когда ты болел. Но что ты находишь в них теперь?
Он замялся, потом поднял руку, и я увидел, что в ней связка свечей.
— Не нравится мне все это, хоть я сам тебя и надоумил. Если так дальше пойдет, ты скоро начнешь мудрствовать мне тут, а потом, еще чего доброго, и уйти захочешь.
Он покачал головой и собрался удалиться, но вернулся и положил свечи на кровать.
— Жги уж лучше свечи, чем керосин. Они дешевле.
Порой бывали минуты, когда я хотел, чтобы все так и оставалось как можно дольше. Когда мне представлялось, что здесь я на своем месте. Может, это место и не самое лучшее, но для меня самое подходящее. Я мог бы остаться подручным отца Памфилия, пока он не умрет, а потом и дальше заниматься костями в одиночку. Гора казалась неисчерпаемой. Я нашел бы другого священника, который совершал бы обряд погребения. А я бы выкапывал кости, мыл их и собирал скелеты. Река отрезала бы меня от мира год за годом, и я хранил бы кости до лета. Я даже думал, что тяга к трибсветтерским склепам, принимавшим и защищавшим меня, была первым, ранним знаком моего будущего призвания.
Но все-таки меня охватила сначала смутная, а потом жгучая тоска по Трибсветтеру, хоть я и понимал, что там ничто не могло остаться прежним. Быть может, там все еще устраивали еженедельные ярмарки, скотину выгоняли на луга в пять утра, и, может, дед все так же проводил конец дня со своими лошадками, но, должно быть, теперь люди постоянно слышали рокот тех моторов и те непонятные, угрожающие голоса. И все находились в ожидании — ужасно долгом ожидании письма, какой-нибудь весточки от живых, возвращения пленников.
Я скучал по Цыганскому холму, по знакомым улочкам и садам, по динамику на дереве, вещавшему голосом Велповра, и по колокольному звону. Для меня в этом не было противоречия: этот голос и звон колокола были для меня неделимым целым — мелодией моего детства.
Вместе с тоской пришла и ненависть к тому, кто довел меня до всего этого. К тому, кто сделал меня, родного сына, беглецом и разлучил с моей землей. Только теперь, на таком расстоянии, эта земля стала моей. Но я не мог удержаться, чтобы не тосковать и по нему.
Мне не хватало отца как некой неотъемлемой части жизни, которую невозможно просто взять и удалить. Я скучал не по его непредсказуемому характеру, которого боялся больше, чем тумаков. Нет, мне не хватало его силы, той эгоцентричной самоуверенности, какой хотел бы обладать я сам. Ведь она помогала ему найти выход даже из безвыходного положения. Например, выдать меня.
В то же время во мне пробуждалось и другое чувство, поначалу незаметное и проявлявшееся только в телесных изменениях. Мне уже исполнилось двадцать три, и от того слабого, болезненного существа, которое отец отвергал и считал ни на что не годным, во мне не осталось и следа. Мои мышцы и вены рельефно проступали под кожей, и не было такого груза, который я не смог бы перенести.
Грудь стала шире, подбородок выступил вперед, а ладони, исцарапанные и мозолистые, стали широкие, как лопаты. И хотя теперь у меня были все основания считать себя грязным и плохо пахнущим, слова, с которыми я когда-то не дал Катице обнять меня, больше никогда не пришли бы мне в голову.
Я редко появлялся в деревне, еще реже — в кабаке и на рынке, хотя жандарм, который теперь назывался милиционером, явно поверил нам или решил оставить меня в покое по другим причинам. Однако я не упустил из виду, что в деревне есть хорошенькие девушки. Почти такие же хорошенькие, как Катица.
Они смущали меня, когда в воскресенье возвращались из церкви и вызывающе поглядывали на меня, прежде чем опустить глаза. Так я понял, что стал привлекательным молодым мужчиной. Они смущали меня, когда задирали юбки, переходя вброд речку, и их икры, а иногда и бедра, сверкали белизной. Прямо как кости в мешке.
Я видел их, когда они приходили из-за реки, чтобы обвенчаться, или гордо, с налитыми грудями приносили отцу Памфилию младенцев для крещения. Сидя вечером на веранде, я смотрел, как они возвращались с полей и подходили к колодцу умыться. Иногда они напоминали мне Катицу, что было тяжело. Ветер доносил до меня их смех и голоса, пробуждавшие во мне такое же любопытство, как то, что я испытывал к ней.
Особенно мне запомнилось лицо той девушки, что не опустила глаза. Иногда она даже смотрела через реку, будто стараясь найти меня. Наши пути пересекались на свадьбах и похоронах, куда я приходил с батюшкой. Я видел ее и во время редких визитов в деревню, а иногда внизу, у реки, где она каждую неделю стирала белье.
Лет через пять после моего появления на костяной горе эта девушка впервые поднялась к нам. Она хотела пройти мимо меня и постучать в дверь, но я преградил ей путь:
— Почему ты меня не замечаешь? Меня что, нет?
Вновь пристально посмотрев мне в глаза, она ответила:
— Ты же ни с кем не разговариваешь.
— С тобой я бы с удовольствием поговорил.
Казалось, она смутилась, но быстро нашлась:
— Мать говорит, ты странный. Ты молодой и симпатичный, любая девка с тобой пошла бы. Но ты собираешься стать священником и носить кости.
— Может, и нет. Ты бы стала со мной разговаривать, если бы это было не так?
Она помолчала, будто не зная, что ответить, потом сказала:
— Нет. Все равно нет. У тебя нет своего дома, своего двора. Если у тебя ни кола ни двора, ни одна с тобой не заговорит.
Она повернулась и хотела уйти, но вспомнила, зачем пришла.
— Мать просит отца Памфилия зайти. Бабушка умирает, — добавила она и убежала.
Со своей горы я видел ее каждую неделю с корзиной белья в руках. Иногда я подкрадывался поближе к реке, чтобы разглядеть ее голые коленки, бедра, ступни. Вроде бы она не обращала на меня никакого внимания, но иногда мне казалось, что она поглядывает на гору. Катицу я, конечно, по-своему любил, но теперь я чувствовал нечто новое. Желание томило меня всю неделю, и я лихорадочно ждал дня, когда смогу увидеть ее снова.
Я стал работать небрежно и рассеянно, выполнял свои обязанности без былого усердия. Носил домой лишь наполовину наполненные мешки и проводил меньше времени в подвале. Отец Памфилий заметил это и все понял.
— Я ошибался, — сказал он однажды. — Самая большая угроза — не книги, а женщины.
Когда я стал сам не свой, он не выдержал.
— Ты больше ни на что не годишься, юноша, — пробормотал он за ужином, глядя, как я рассеянно ковыряюсь в тарелке.
Он надел рясу и вышел из дома, не сказав больше ни слова. Всего через час он вернулся слегка подвыпивший. Я поддерживал его, пока он не уселся на кровать.
— Они мне все время наливают. Венчаю я их или родственников хороню. Все время надо пить. Так вот, мальчик мой, я считаю, тебе придется выкинуть из головы эту девицу. Ты ей нравишься, это и дураку ясно. Но она помолвлена с другим, у него хороший дом и немного земли имеется. Между нами говоря, — он подмигнул мне, — домик-то ему еще, может, и оставят, а вот землицу коммунисты точно скоро заберут. Но это девице все равно. Ты для нее — никто, а с никем она разговаривать не будет. А теперь принеси-ка мне нашей цуйки. Надо закончить то, что у них начал.
Я изменился. Вновь появилось что-то, что тянуло меня обратно в мир, к моему родному месту. Ведь носильщик костей ни одной женщине не нужен. А вот за уважаемого человека они драться будут. За потомка того самого Обертина, который провел своих людей по коварному Дунаю и обеспечил им новую жизнь.
Так что обратно в Трибсветтер меня тянула не жажда мести, а желание взять свое — то, что должно принадлежать мне по праву. Я надеялся убедить отца в своих новых способностях, а если придется, то и силой заставить признать их.
Однажды отец Памфилий взвалил на спину полный мешок, сделал несколько шагов и осел. Потом упал ничком, лицом в землю, которую так долго копал. Я на руках отнес его домой, позвал бабку и Гиги. Бабка обмыла его: морщинистое лицо, дряблую, высохшую кожу, ноги с желтоватыми ногтями; затем она зажгла свечи по четырем углам кровати, а рядом поставила стакан воды, чтобы душа могла попить. Я горько плакал.
Гиги поспешил домой делать гроб, самого лучшего качества — сказал он. Три дня мы дежурили рядом с телом, сменяя друг друга каждые два часа, или вместе молча сидели, глядя на ботинки батюшки — их сперва начистили, а потом надели на него. В полумраке комнаты все казалось нереальным, как сцена из какого-нибудь романа с полки. Только когда стало почти совсем темно, мы зажгли лампу.
Во время бдения Гиги шепотом спросил меня:
— Теперь ты продолжишь его дело?
— Не знаю. Меня тянет домой.
— А где твой дом?
— В Трибсветтере, где жил и ты.
Он удивленно посмотрел на меня:
— Трибсветтер? Почему ты мне раньше не сказал?
— Меня это не касается.
— Что?
— То, что произошло между тобой и Раминой.
Тут он вскочил со стула, опрокинув его.
— Ты знаешь Рамину?
— Каждую неделю я относил ей мешок. И каждую неделю она рассказывала мне, что у меня было два рождения и что я могу выбрать, какое мне больше нравится. Я всегда выбирал то, где отец не был моим отцом.
— Что ты несешь?
— Он выдал меня русским.
— Русским? Я не понимаю.
— Это не важно.
С тех пор я часто спрашивал себя, почему я рассказал правду именно тогда и именно Гиги, ведь отец Памфилий был мне куда ближе. У меня нет никакого объяснения. Может быть, я хотел вызвать какую-то реакцию, сделать что-нибудь такое, что заставило бы меня действовать. А может, потому, что Гиги напомнил мне о детстве и Рамине.
Он достал из шкафа бутылку цуйки, глотнул прямо из горла и стал беспокойно ходить по комнате. Не зная, что делать, он даже подбежал к двери, открыл ее и хотел уйти, но передумал. Лишь еще раз приложившись к бутылке, он смог продолжить разговор.
— Как у нее дела? — спросил он.
— Ее депортировали на Буг, когда мне было шестнадцать.
— А что с ребенком? У нее ведь был ребенок, да?
— Да, Сарело. Он живет в нашем доме. Если все пойдет так, как хочет отец, он унаследует двор и все остальное.
— Как зовут твоего отца?
— Обертин. Якоб Обертин.
Гиги как с цепи сорвался: он бросился на меня, повалил на стол и хотел ударить, но не успел — я крепко схватил его за запястья и прижал к стене. Он все время повторял, как безумный: «Ты здесь, чтобы поиздеваться надо мной? Для этого ты здесь?» Теперь уже я ничего не мог понять. Но хотя Гиги кипел ненавистью и плевался в меня, я не стал его бить. Словно ослепленный яростью зверь, он пытался вырваться из моих рук.
— Что это значит? — несколько раз крикнул я.
— Ты же гаденыш Обертина, который обесчестил меня! Который сначала использовал моих людей, а потом обрюхатил мою жену. Она клялась, что он ее изнасиловал, но на это мне наплевать. Не притворяйся, будто не знал, что он твой сводный брат! — прорычал он.
Я отшатнулся от него и оперся на край стола. Две свечи погасли, поэтому в комнате стало темно и как будто холодно. Кто-то должен был сделать так, чтобы они снова загорелись. Но все это меня уже не касалось, потому что прежняя жизнь, которая иногда казалась мне сном или выдумкой, вновь настигла меня. Она врезалась в меня с такой силой, что у меня перехватило дыхание. Никогда прежде и никогда впредь отец не был мне настолько родным, как в тот миг, когда я узнал, что делю его с кем-то другим.
— Это неправда! Ты всего лишь грязный цыган! Ты врешь! — крикнул я.
Гиги потер запястья, выругался и поправил рубаху. Он в третий раз приложился к спиртному, слизнул последние капли с усов и швырнул бутылку в стену.
— По цыганскому закону мне следовало убить его, не важно, изнасилование это было или нет. Только из-за вашей фамилии я этого не сделал, — сказал он уже спокойнее.
— Рамина всегда рассказывала, что ты изменил ей с молоденькой.
— Рассказывать она всегда была мастерица.
Он опять направился к двери, но остановился на пороге и обернулся:
— Чтобы завтра тебя здесь не было. Я не хочу, чтобы ты торчал у меня под боком и напоминал обо всем этом. Если завтра вечером ты еще будешь тут, милиционер узнает о твоем приключении с русскими. Вот он обрадуется, он и так тебе не доверяет. Или я просто убью тебя. Гроб для тебя точно найдется. И никто по тебе плакать не будет.
Вот так получилось, что наутро, еще на рассвете, я снова оказался на равнине, где когда-то чуть не погиб, чуть ли не на том же самом месте, где грохнулся на шпалу. Там, где я сбежал от неопределенного будущего в не более определенное настоящее. Перед уходом я всю ночь смотрел на пепельно-серое лицо отца Памфилия. Я наполнил стакан у него в изголовье свежей водой и подержал его за руку.
Товарный состав в сторону Темешвара замедлил ход перед крутым поворотом так же, как тогда затормозил депортационный поезд. Я побежал рядом с товарняком, нашел вагон с приоткрытой дверью и забрался в него. Это было летом 1950 года.
Глава шестая
Я боялся возвращения домой, как боишься женщину, желанную и все же пугающую. Хотя я прожил эти несколько лет всего лишь в восьмидесяти километрах от дома, я чувствовал себя так, словно распахивал двери в новый и все-таки знакомый мир. Я оставил позади гору с ее тайнами, мертвого священника, которому теперь наверняка пришлось объяснять Господу, почему он смешивал верующих и неверующих, и мужа Рамины, оказавшегося более успешным гробовщиком, чем бульбашой.
Воспоминания об этом всего за несколько часов остались так далеко, что при въезде в Темешвар представлялись мне лишь каким-то неясным сном, точно так же, как до этого — жизнь в Трибсветтере. Чтобы избежать контроля на вокзале, я выпрыгнул из вагона еще до того, как состав остановился. Я перебежал через пути, едва успев проскочить перед отправляющимся поездом, прошмыгнул через дыру в заборе и скатился по насыпи. Так я снова оказался в городе.
И тут же чуть не угодил прямо в руки милицейского патруля. Я встал, отряхнул свою убогую одежонку и закрыл глаза, потому что от голода закружилась голова. Открыв глаза, я увидел всего в нескольких метрах милиционера и двух солдат, но они были так увлечены разговором, что не заметили меня.
Я юркнул за штабель бревен, сложенных там, видимо, для постройки путей, и сел, прижав колени к животу, но голод не отступал. Не знаю, был ли это тот же лотарингский голод, что терзал Каспара и Фредерика, или тот, который потом косил первых переселенцев. А может, голод деда и бабки или какой-то новый, который преследовал только меня.
Перед уходом из дома батюшки я съел лишь пару картошек, больше ничего не оставалось. С тех пор прошло вообще-то не так уж много времени, и все же мне казалось, будто этот лотарингский, швабский, румынский голод хочет сожрать меня изнутри. Словно пока я буду худеть, он будет набирать вес, станет толстым и ленивым, подобно священникам, которых кормит вера.
Когда шаги и голоса стихли, я высунул голову и огляделся, ища возможности хоть немного утолить голод. Утолить, укротить голод — эта мысль придавала мне мужества. Но в поле зрения ничего подходящего не было — ни продуктового ларька, ни какой-нибудь задрипанной забегаловки, каких с избытком хватало в окрестностях Йозефсплац.
Решившись покинуть свое укрытие, я пошел налево, где, как мне казалось, был центр города. Я пытался придать себе безразличный и усталый вид — якобы я рабочий после смены или просто ночь не спал, — придумывал, что ответить, если меня остановят, и вздрагивал каждый раз, когда на меня кто-то смотрел.
Вообще-то я был беглым заключенным и уж точно не имел права свободно разгуливать по улицам города. Города, который принял меня в детстве и был добр ко мне, в котором река отказалась поглотить меня; теперь этот город стал мрачным и угрожающим, словно хотел напасть на меня, как бандит в темном переулке, и вырвать сердце. Я уже начал жалеть, что вернулся в Темешвар. Я снова чувствовал себя беззащитным, беспомощным, но теперь уже не из-за невыносимо пустынного простора, а из-за столь же невыносимой тесноты, из-за множества тел, что вставали у меня на пути со злобой и ехидством.
В каждом встречном я видел доносчика, хотя прохожие, наверное, боялись не меньше моего. Здесь каждый подозревал в доносительстве любого. Когда я не чувствовал на себе чужих взглядов, то сам присматривался к другим и был уверен, что едва ли хоть кто-то из них заслуживает доверия. Я понял, что люди в душе полностью переменились — на этот раз их охватил голод приспособленчества.
Наткнувшись на вывеску, указывающую на кабак во дворе, я вздохнул с облегчением. Кроме темной фигуры в углу зала и хозяина, там никого не было. Хозяин мыл посуду и, увидев меня, прищурился.
— Мы еще не скоро открываемся, — проворчал он.
— Мне очень нужно поесть.
— Судя по твоему виду, ты больше хочешь выпить.
Он вытер руки и вышел из-за стойки.
— Не похоже, чтобы у тебя были деньги на еду.
— У меня вообще нет денег.
В тот же миг его рука рванулась ко мне и попыталась взять за шкирку. Я увернулся и поймал его запястье.
— Я прошу только кусок хлеба — и сразу уйду.
Тогда кабатчик попробовал прихватить меня другой рукой, но тут в зале раздался тихий свист. Звук был едва слышный, но высокий и ясный. И рука обидчика замерла в воздухе. Хозяин растерянно взглянул на тень в углу, и, обернувшись вслед за ним, я разглядел мужчину лет тридцати — он чуть подвинулся к свету, чтобы его было видно. Его руки спокойно лежали на столе, стоявшем вплотную к скамье.
— Виорель, человек голоден. Почему ты хочешь вышвырнуть его? Тебе что, никогда не приходилось голодать? — спросил гость. — Мне-то приходилось, и это, скажу тебе, не самое приятное ощущение. Поэтому, Виорель, если мне кто-то говорит, что голоден, я даю ему поесть. Советую и тебе поступать так же, особенно когда я плачу. Принеси ему и того пойла, что ты называешь кофе. Давай садись рядом со мной, — пригласил он меня.
Кабатчик принялся за работу. Я подавил в себе первое желание унести ноги. Второе было сильнее — поесть, чтобы перестала кружиться голова. Я сел за стол рядом с благодетелем, и ему пришлось подвинуться. На секунду мне показалось, что с его телом что-то не так. Он чуть не упал, но все-таки удержался, упершись руками в лавку. Я вцепился в край стола, пытаясь унять дрожь в руках.
— Можешь не трястись. Теперь Виорель тебе ничего не сделает, — сказал он.
— Это от голода, — ответил я.
— Раньше, когда я хотел есть, то руки у меня совершенно успокаивались. Но я использовал их для дела, понимаешь ли. — Он подмигнул и засмеялся. — Ты не поверишь, сколько кошельков я вытащил вот этими руками.
Поднял руки к глазам и довольно поглядел на них. Он опять чуть не опрокинулся, но вовремя удержался. Мне стало легче, когда я узнал, что он преступник, вор, а если среди воров и были стукачи, то этому, похоже, хотелось только похвастаться и заплатить за это слушателю. Как потом оказалось, я ошибался.
Он снова заговорил серьезно:
— Что это ты так рано на ногах?
Я колебался, обдумывая ответ, потом откашлялся.
— Я рабочий. С ночной смены.
Я с жадностью набросился на еду, которую подал хозяин, запивая ее отвратительным пойлом.
— А я подумал, что у тебя бессонница. Значит, ты работаешь на машиностроительном. Только там ввели ночные смены.
— Ага, там и работаю.
Скудная пища лишь слегка притупила мой голод. Утерев рот рукавом, я собрался встать и проскользнуть между столиками, но собеседник схватил меня за руку. Хватка у него была профессиональная и крепкая, не то что у кабатчика. Он заставил меня снова сесть.
— Пожрал за мой счет и собрался так просто смыться? Что у тебя за срочные дела такие?
— Нужно посмотреть кое-что на окраине.
— На окраине? Посмотреть? Я думал, ты спать хочешь, после смены-то.
Я подошел к стойке и спросил хозяина, нет ли у него какой-нибудь бритвы.
— Тебе здесь что, галантерейный магазин? — спросил он.
Повернувшись ко мне спиной, он стал вытирать посуду засаленной дырявой тряпкой.
— Виорель, конечно, у тебя тут не галантерея, хотя на ней ты наверняка заработал бы больше, чем на этой забегаловке. Но почему ты не скажешь гостю, что живешь рядом и с удовольствием принесешь то, что ему нужно? — опять вмешался незнакомец.
Кабатчик вытер руки, достал связку ключей и спросил:
— Ты платишь?
— Разве я еще не заплатил? — последовал ответ из угла.
Мы остались одни, незнакомец опять отодвинулся в тень и исчез из виду. Тусклый свет со внутреннего двора освещал пивную во всем ее убожестве. Я очутился в месте, которое, похоже, обходили стороной не только сменные рабочие и страдающие бессонницей, но, может, даже и пропойцы.
— Как называется это место? — спросил я.
— Очень просто: пивная. У нее нет названия, — ответил незнакомец.
— Похоже, она не очень-то популярна.
— Мне уже кажется, что я тут единственный клиент. С неделю назад меня принес сюда Тику, теперь придется платить, чтобы меня носили.
— Не понял, как это?
— Иди сюда, сейчас покажу.
Когда я подошел, он резко отодвинул стол, так что его стакан упал на пол и разбился. И тут я увидел, что у него нет ног. Он засучил одну штанину и почесал рубец. Только теперь я узнал в нем того самого попрошайку, который когда-то угрожал нам с Катицей проклятием. Раньше он столовался в самых дорогих ресторанах города, а теперь оказался в этой дыре.
— Меня зовут Мушка, потому что я почти ничего не вешу. Прямо как муха. Тот, кто носит меня, совсем не чувствует тяжести. А тебя как звать?
Я опять замялся.
— Раду.
— Странное имя для того, кто говорит с таким сильным швабским акцентом.
Он прекрасно видел, как я занервничал, но ему это вроде бы нисколько не мешало.
— Послушай-ка, Раду-шваб! Когда хозяин вернется, я отошлю его опять. Пусть принесет тебе еще и чистую рубашку. Тогда ты приведешь себя в порядок, и мы вместе отправимся на окраину города. Я просто хочу, чтобы ты меня немного подвез, а то я отсюда никогда не выберусь. Увидишь, я совсем легкий. Согласись, это не такая уж большая услуга за то, что я плачу за тебя.
В тесной подсобке я помылся холодной водой из шланга и побрился. Увидев свое отражение в треснувшем зеркале, я не узнал себя. Прежние мягкие и гладкие черты лица исчезли, взгляд стал решительным, даже надменным. Я надел свежую рубашку и вернулся к безногому.
— Я отнесу тебя, но только один раз.
Калека молча придвинулся поближе и ловко забрался мне на спину. Я сложил руки у него под задом, а Мушка обхватил меня за шею, и я встал. Он действительно почти ничего не весил. Я отправился в сторону Йозефштадта, пересек рынок, где продавались подгнившие или засохшие овощи и фрукты. Лавка вдовы Остеррайхер, возле которой я когда-то встретил Катицу, была все еще заколочена, а над витриной красовалась надпись: «Чертовски хорошая кондитерская».
В бывшей парикмахерской на углу теперь торговал старьевщик, а на месте ателье мадам Либман я увидел старого сутулого столяра. Кинотеатр Мози был закрыт, но на стене еще оставались обрывки афиш последнего сеанса — весна 1949-го. Мастерская «Бергер», где раньше делали красивейшие вывески, была на месте, но стала кооперативной.
— Я хорошо помню кино Мози, — прошептал мне в ухо Мушка, до этого молчавший, пока я бродил по Йозефштадту.
То и дело я останавливался, чтобы усадить его поудобнее.
— Раньше Тику носил меня сюда, когда в городе было негусто. Мы просиживали тут до вечера, пока не собирался народ в открытых кафе.
— А куда же делся Тику? — спросил я.
Он плюнул на мостовую в миллиметре от моего уха.
— Смылся неделю назад со всем, что я нажил попрошайничеством. Поверь, это было немало. Десять лет он меня носил, а потом одна бабенка вскружила ему башку — и поминай как звали.
И он погрузился в молчание.
Немецкая школа превратилась в свалку всякой всячины, и в нее можно было свободно зайти. Воронки от тех самых бомб, что загнали нас сначала в бункер, а потом и в Трибсветтер, были все еще хорошо заметны. Их засыпали остатками разрушенных зданий. Там, где когда-то находился кабинет директора, взявшего меня под свою опеку благодаря отцовским подаркам — в год по свинье, — теперь зияла дыра в крыше. В классах еще стояли скамьи и парты, словно дожидаясь нового поколения. На одной из досок красовалось поздравление с Рождеством 1945 года.
Добравшись до нашего дома, я сперва ссадил Мушку. Я толком не знал, зачем пришел сюда, но это место притягивало меня, как магнитом. Я понятия не имел, принадлежит ли дом еще нам, может быть, отец с матерью все еще живут здесь, и отец, чего доброго, выйдет и опять сдаст меня коммунистам. А мать будет молча стоять в стороне. И дед тоже будет молча стоять в стороне. Или, может быть, — и на это я надеялся — они попросят у меня прощения.
Теряясь в подобных мыслях и чувствах, я перешел улицу, толкнул калитку и зашел в палисадник. В последний раз я обернулся к Мушке, словно этот чужак мог помочь мне. Он с любопытством наблюдал за мной и кивнул: мол, давай, иди.
Поначалу все было тихо. Я растерялся и снова пожалел о своем решении вернуться в город и отыскать этот дом. Не лучше ли было убраться отсюда и вскочить на первый же поезд? Но тут появилась большая лохматая собака, а следом за ней — мужик, в одних трусах и носках. Живот его перекатывался через резинку трусов, точно волна прибоя, надвигающаяся на берег. Он стал орать на меня и ругаться так, как умеют только румыны.
— Ты что, хотел забраться в дом? — спросил он.
— Я просто хотел поглядеть.
— Попрошайничать будешь?
— Моя фамилия Обертин. Я здесь жил когда-то.
Он схватился за лоб, убежал в дом и вернулся с ружьем наперевес.
— Ах ты, сволочь! И теперь ты еще поселиться тут собрался? Ни шагу дальше, а то пристрелю.
Мужик целился в меня, его собака лаяла, а Мушка, на которого я беспомощно оглядывался, как будто он мог чем-то помочь, ехидно улыбался.
— Ты из этих фашистов, которые зарыли у меня в огороде все это гитлеровское барахло! — орал румын. — Другие находят клады золота, а у меня одни портреты Гитлера. Собака их раскопала. Я знаю, кто вы такие и откуда родом. Вы из Трибсветтера. Когда-то вы славились на всю округу, но теперь вы просто мухи на конском дерьме. Если ты сейчас же не исчезнешь, то Обертины в тюрьме пропишутся. С таким-то багажом, что я откопал…
Я никак не мог сообразить, действительно ли моя жизнь оказалась под угрозой или все это просто спектакль, в который я должен поверить. Но этот человек держал нас в кулаке и никому не собирался отдавать свое обретенное счастье — дом, который моя мать купила на деньги, заработанные в Америке.
— И не вздумай возвращаться! — добавил он.
Раздался настойчивый свист Мушки, означавший, что мне пора вернуться к нему.
Я опустился на землю рядом с ним и почувствовал усталость. Мужик еще некоторое время стоял на веранде, опершись на ружье и не спуская с нас глаз. Собака лаяла уже лениво и монотонно — свое дело она сделала. Хозяин ткнул ее прикладом в бок, выругался напоследок и зашел в дом.
У меня отобрали последнее место в городе, что-то значившее для меня. Но вместо того чтобы негодовать или ругаться, я ощущал возрастающую тяжесть, усталость и растянулся на земле рядом с безногим. Единственное, что до сих пор поддерживало во мне надежду и не выходило у меня из головы, так это двор в Трибсветтере и вот этот дом.
Иногда по вечерам и по ночам на костяной горе я представлял себе, как вернусь домой. Воображал, как мать и дед будут недоверчиво трогать меня, чтобы убедиться, что это действительно я. Потом мать накрыла бы на стол и стала бы тревожиться о моем здоровье, как происходило всегда. Может быть, отец поставил бы какую-нибудь американскую пластинку и подозвал бы меня к себе: «Поди-ка сюда, Якоб! Давай-ка поглядим, отчего у нас вот эти часы встали». Несколько часов мы провели бы за работой — ремонтируя часы, разбирая фотоаппарат или мастеря радиоприемник.
Но теперь мне стало ясно — благодаря вооруженному жирному румыну, назвавшему меня сволочью, — что, вполне возможно, такая же радость ждет меня и в Трибсветтере. Отец мог прогнать меня во второй раз, без какой-либо причины, просто потому, что однажды он так уже сделал. Потому что он может узаконить и оправдать тот первый раз вторым. Потому что, прими он меня обратно, это означало бы признание совершённой несправедливости.
Мне больше не хотелось думать об этом, хотелось только лежать неподвижно как можно дольше. Если бы поблизости нашлась могила, я бы забрался в нее. Словно издалека, я услышал голос Мушки:
— Спать ты можешь и у меня дома. Если мы тут задержимся, он приведет милицию. Дай-ка я залезу.
Без всяких возражений я поднялся, взвалил его на плечи, и мы отправились к трамвайной остановке.
* * *
Я стал носильщиком Мушки. Иногда он словно срастался с моей спиной, так что я переставал его чувствовать и вспоминал о нем, только когда он меня щипал. Это был наш условный сигнал, означавший, что он собирается спуститься и просить милостыню, поскольку условия для этого кажутся ему благоприятными. Лучше всего дело шло по выходным, когда кофейни и пивные в центре города были полны гостей. «Нам нужно успеть выжать последние капли христианства из человеческих душ, пока их не забрали себе коммунисты», — говорил Мушка.
В первую ночь у него я проснулся и забыл, где нахожусь. Я звал батюшку, как тогда, когда лежал у него в комнатке, терзаемый лихорадкой и мокрый от пота. Мушка курил в уголке.
— Ты у Мушки, парниша, а не у батюшки какого-то. Мушка накормил тебя, Мушка приодел тебя, и Мушка дал тебе переночевать. Теперь пора бы и тебе что-нибудь сделать для Мушки. Но сначала умойся, проснись как следует, тогда и договоримся.
Я умылся и опрокинул рюмку цуйки, что протянул мне калека. Он выбросил окурок на улицу. Жил он в темной сырой комнате в том же доме, где и безымянный кабак.
— О чем договоримся? — не понял я.
— Кто этот батюшка, которого ты звал?
— Один поп, который помог мне.
— Значит, нас уже двое. Ты везунчик, Раду Обертин, или как ты там себя называешь.
Он выпил рюмку и вытер губы рукавом рубашки.
— С тех пор как от меня сбежал Тику, дела идут скверно. Уже целую неделю я только и думаю, кем бы его заменить, и тут мне попадаешься ты. Я, как только тебя увидел, сразу понял, что есть Бог на свете, раз он тебя мне послал.
— Батюшка тоже так говорил, — заметил я.
— У меня вот какое предложение: я тебя кормлю вдоволь и предоставляю койку на ночь, а ты предоставляешь мне свою спину. Силенок у тебя хватает, это я уже заметил.
Я стал торопливо одеваться.
— Куда засобирался-то? Ты же видел, тебя никто не ждет.
— Это неправда.
— Может, правда, а может, и нет. Но тебя точно никто не дождется, если я настучу в милицию. А теперь сядь и подумай о своих. Я не собираюсь держать тебя в услужении всю жизнь. Ты мне нужен, только пока я не найду замену Тику. На пару недель всего, в городе голодных парней хоть отбавляй.
Вместо того чтобы избить его, наорать и проклясть, вместо того чтобы сделать ноги, я подумал о своих и остался.
Мы стали хорошей связкой. Сперва я ссаживал его где-нибудь в переулке и шел на разведку — проверить, много ли народу в том или ином месте, том или ином кафе и прежде всего есть ли там старики и парочки. Эти были лучшими клиентами Мушки. Первые — потому что он напоминал им о Боге, вторые — потому что хотели поскорее от него избавиться и вернуться в свой уютный мирок.
Я проскальзывал в оперу или в драмтеатр и выведывал у гардеробщиц, когда закончится представление. Официанты рассказывали мне, не намечается ли богатая свадьба. У церквей мы теперь почти не задерживались, они осиротели, лишь священники иногда совали Мушке несколько монеток. И мы вычеркнули церкви из нашего списка.
Потом я подносил Мушку поближе к нашей цели, последнюю сотню метров он преодолевал самостоятельно — ползком, волоча туловище по земле или опираясь на руки, раскачивая корпус, словно маятник, и продвигаясь по нескольку сантиметров. Причем делал он это специально таким образом, чтобы все обратили на него внимание. Он оставлял в пыли еле заметный след, как тот мешок, что я регулярно отволакивал Рамине в детстве. Мушка был человек-улитка, которому на несколько метров требовалось много терпения и сил.
Он был мастером по части добывания денег тем или иным способом. Молить и вызывать сочувствие у него получалось так же хорошо, как грубить и брюзжать, если ему ничего не давали. Люди боялись его, потому что он мог проклясть их, пожелать молодым женщинам бесплодия, а старикам — одинокой смерти. Он всегда безошибочно выбирал такое место, чтобы прохожие на него обязательно посмотрели.
— Господь увидит, если ты подашь, и увидит, если не подашь, — объявлял он торжественным тоном. — Тебе решать, что Он увидит.
И тогда Господь видел, как множество рук лезут за своими кошельками. Если кто-то бросал деньги в пыль, Мушка не двигался с места. Он был князем, снизошедшим до своих подданных. Вдали от чужих глаз он снова забирался мне на спину, и мы исчезали, прежде чем появлялся патруль.
Коротая вечера в нашей тесной каморке, мы ели жидкий картофельный суп, что приносил кабатчик. Стирали и штопали одежду. «Я прошу милостыню, но это еще совсем не значит, что я должен выглядеть как последний бродяга», — говорил Мушка. В его представлении, тот, кто может себе позволить снимать комнату, каждую неделю мыться и менять белье, — еще не опустился на самое дно. Были и другие, павшие еще ниже, и на них он смотрел свысока, как приличный человек. Иерархия нищеты.
— Где ты потерял свои ноги? — спросил я однажды.
Он погладил культяпки.
— Когда-то я был таким же искусным вором, как теперь — искусный попрошайка. В жизни можно многим заниматься, главное — делать это хорошо. Всего раз в жизни я поступил неосмотрительно, и пришлось улепетывать от жандармов. Вот и попал под машину. Но успешно переучился, как видишь. — Он рассмеялся.
Я как раз стирал свитер, который передала мне мать и о котором я очень заботился все эти годы. Этот свитер, да еще старые штаны и такие же старые ботинки, дедова шапка, рубашка кабатчика и пальто, подаренное батюшкой, — вот и все мое имущество.
— У тебя когда-нибудь была девушка? У меня — нет, — услышал я.
— Была.
— И что с ней стало?
— Она мертва.
— Есть еще много других, — утешил он.
Той ночью Катица не выходила у меня из головы.
В другой раз Мушке захотелось, чтобы я порассказал ему каких-нибудь историй.
— Каких-нибудь я не знаю, знаю только семейные.
Пока я рассказывал ему о судьбах Каспара и Фредерика, Мушка чинил мне ботинки или рубашку. В отличие от обитателей Трибсветтера, почитавших Фредерика спустя много лет после его смерти, Мушку поразил в первую очередь Каспар.
— Такие люди берут силой, что им нужно. Я бы тоже так сделал, — пробормотал он.
— Но он убил невинных людей. Он же ошибся домом, — возразил я.
— Почти как ты в первый день, только вот ружье оказалось у того толстяка, а не у тебя. — Мушка наклонился вперед и произнес, подчеркивая каждое слово: — Не важно, твое это или нет. Если тебе что-то нужно, позаботься, чтобы ружье было у тебя.
— Но что ему это дало? Через двадцать лет его убили.
Мушка вздохнул:
— Ты и правда ничего не понимаешь. Важно быть хозяином самому себе, а не то, сколько ты проживешь. Только тогда ты что-то собой представляешь. Я еще поползаю, покуда можно, а потом уйду. В тюрьму я не собираюсь.
Он все время заставлял меня описывать ему Каспара, но поскольку я понятия не имел, как тот выглядел, то выдумал жилистого человека среднего роста, чем-то похожего на Мушку.
— Ага, значит, я немного на него смахиваю?
Возможное сходство с Каспаром его чрезвычайно радовало.
Осенью и прежде всего зимой, когда стояла такая погода, что никто лишний раз не выходил на улицу, мы переключились на другой способ заработка. Выбирали многоквартирный дом и планомерно обрабатывали его с последнего этажа до первого. Я опускал Мушку перед дверью квартиры и прятался. Некоторые пугались, увидев его, и сразу захлопывали дверь, но мы ждали, и нередко люди потом все-таки просовывали пару монет через щель.
Другие, в основном старики, приглашали нас зайти и давали что-нибудь поесть и попить. Но они всегда хотели одного — рассказать нам о своей жизни. Когда мне это надоедало, я хватал Мушку за руку. «Мы должны им этим отплатить», — шептал он. Глазами он постоянно шарил по комнате в поисках возможной добычи. Он не утратил воровской инстинкт вместе с ногами. Когда старики вставали, чтобы достать денег, Мушка брался за дело. Он всегда находил что-нибудь ценное и при этом достаточно мелкое, что поместилось бы в его кармане. Из помощника попрошайки я превратился в подельника вора.
Тоска по Трибсветтеру, притупленная и погрузившаяся на дно моего сердца, снова пробудилась месяцев через девять. Однажды священник Шульц прошел мимо нас так близко, что я испугался, как бы он меня не узнал. Но наверное, он не смог бы узнать меня, даже если бы я взял и представился ему. Я следовал за ним по пятам, пока он не зашел в какой-то подъезд.
Мне казалось, будто из-за священника я увидел все, что когда-то было моим миром: родителей, деда, двор, Рамину. Из-за человека, на чьей совести была смерть Катицы и который помог русским, чтобы спастись от расстрела. С того дня я стал все чаще ходить к дороге, ведущей к Трибсветтеру, и смотреть вслед машинам и повозкам. Достаточно было поднять руку, но я этого не делал.
К тому времени я уже смекнул, что с Мушкой могу оказаться за решеткой гораздо раньше, чем без него. Но я еще никогда не оказывался так близко к аресту, как в тот день, когда очередной старикан выставил нас за дверь и вызвал милицию. За нами погнался патруль. Бойцы были молодые, откормленные, и оторваться от них оказалось нелегко. Только благодаря знанию всех закоулков города я смог в последний момент улизнуть от них.
Это произошло в один из первых теплых деньков весны 1951 года, я вышел на берег Бегского канала и в изнеможении упал в траву. Мушка откатился в сторону.
— Ну, мы ему покажем! — воскликнул он.
— Не собираюсь я никому ничего показывать. Я не такой, как ты, — ответил я, не глядя на него. — Я выхожу из игры.
Он взял в зубы травинку и лег на спину.
— Вот так, значит. Похоже, ты меня невнимательно слушал. Я знаю, кто ты и кто твои родственники.
Я схватил его за шиворот:
— Получается, это никогда не кончится, да? Сначала ты говорил о паре недель, а я таскаю тебя уже девять месяцев! Думаешь напугать меня тем, что ты знаешь. Но я просто встану и уйду, и ты ничего с этим не сделаешь.
— А если милиция о тебе прознает? — ухмыльнулся он.
— Не прознает. Тебя заметут, как только ты к ним заявишься. И там, куда тебя упекут, не бывать тебе хозяином самому себе.
— Это за меня могут сделать и другие. Или письмо.
Я опять схватил его и дернул к себе.
— То, что я знаю о тебе, потянет на несколько лет, — прошептал я.
Я встал и заправил рубашку поглубже в брюки. Мушка так отчаянно вцепился мне в ногу, что протащился за мной несколько метров, пока я не вырвался из его рук. Дрожащим голосом он крикнул мне вслед:
— А со мной-то что будет?
— Подождешь следующего в кабаке! А я теперь сам себе хозяин. Ты сам говорил! — ответил я, вышел на тротуар и, не оглядываясь, зашагал к выезду на Трибсветтер, где сразу же поймал попутный грузовик.
Последний отрезок пути я прошел пешком; миновал Цыганский холм, на котором ничто больше не напоминало о Раминином доме, не осталось даже развалин; перешел через границу деревни. Если я и ожидал, что мое возвращение в деревню будет триумфальным, что люди выбегут из домов, станут обнимать и приветствовать меня, ошеломленно и благоговейно глазеть на вернувшегося из Сибири, то быстро разочаровался.
Редкие встречные на улице не оборачивались, они не узнавали меня, а я — их. Это были румынские переселенцы, которые теперь жили в домах депортированных швабов. Об этом говорили их лица и одежда. Ни один немец не стал бы лузгать семечки, спокойно, почти безучастно глядя на корову, привязанную к забору и щиплющую травку. На скамейке сидел старик в овчинном тулупе, накинутом на плечи, с тростью на коленях. Я подошел к нему и спросил:
— Папаша, а немцы здесь больше не живут?
— Само собой, живут, а то как же. Молодежь-то ихнюю русские увезли, а остальные здесь.
— А где ж они? Что-то не вижу ни одного.
— Почем я знаю? На этой-то стороне села теперь одни румыны живут. А швабы по ту сторону Лотарингской улицы. Наверное, в кооперативе сейчас. Они, по большей части, там работают.
— Как это?
— Что значит «как это», сынок? Мы все в кооперативе. Земля теперь общая, все принадлежит государству. Швабы долго упирались, но потом и до них дошло, что они теперь тут не хозяева.
— А Обертоны? Остались еще? — спросил я.
— И Обертоны есть. Правда, теперь в доме цыганенок со своей женой живет, а они — в людской. Только старик Обертон год назад покинул нас. Хороший он был человек, не то что его зять. Мы, румыны, молились за упокой его души, хоть он и католик был.
Весть о смерти деда поразила меня как удар молнии. Я покачнулся и схватился за забор. Это потрясение можно сравнить только с тем, что я испытал, узнав от священника Шульца о расстреле Катицы. И, как и тогда, я побежал — к дому, который уже не принадлежал родителям, а значит, и мне.
Если вообще стоило верить старому хрычу, может, из-за старости и цуйки он все перепутал. Может, он говорил о других людях, и на самом деле все не так. Дед обнял бы меня, и мать тоже, одного разочка хватило бы. Потом я вернул бы ей свитер. Нет, румынам нельзя верить. Они слишком крепко дружат с бутылкой, чтобы все правильно помнить.
И пока я бежал, задыхаясь, эти несколько сотен метров, мой дед еще жил. Я забыл о страхе, что отец может меня выгнать. Что он может встретить меня у ворот с ружьем в руках. Я набросился на ворота, как на самого ненавистного врага, барабанил по ним кулаками и заглядывал в щели между досками, пытаясь кого-нибудь разглядеть.
Я звал их, но во дворе царила тишина, словно буря или дьявол смели все живое. Такая тишина, которую я раньше любил во время теплых, ленивых часов после обеда. Ее нарушали только шуршание листвы каштана и лай соседских собак. Но они лаяли вяло, лениво, словно знали, что работы у них больше не будет. Что им больше нечего защищать, ведь землей, которая раньше принадлежала в первую очередь самой себе и только потом людям, теперь владело государство. Однажды дед сказал: «Если земля не хочет, то и нам нечего от нее хотеть».
Я сел под каштаном и стал ждать возвращения своих. Тем временем меня осенила другая мысль. Что мне было делать, если причина, по которой я вернулся домой, — забрать свою землю и поставить на место отца — утратила смысл?
Наконец ворота отворились, как будто Сарело все это время стоял за ними. Вероятно, он прокрался вдоль забора и уже довольно долго наблюдал за мной. Он вышел на улицу с топором, держа его угрожающе крепко. Я не сомневался, что он способен пустить его в ход. Сарело тоже изменился, стал кряжистым мужиком с недоверчивыми глазами.
— Что тебе здесь надо?
— Я Якоб. Я вернулся.
— Это я вижу, хоть ты и сильно изменился. Но что тебе здесь нужно?
— Я просто пришел.
— Хочешь отомстить? Не советую пытаться.
— Я хочу вернуть свою землю.
Тут произошло нечто неожиданное, чего я совершенно не предполагал. Он не замахнулся на меня топором вне себя от ярости и не захлопнул ворота у меня перед носом. Обошлось даже без потока отборной румынской брани, которой Сарело владел, как никто другой. Вместо этого он громко расхохотался — отчаянным, горьким смехом, трясясь всем телом, так что выронил топор. Он хохотал до слез и продолжал смеяться, когда они уже высохли.
— Тогда у меня для тебя плохая новость, — сказал он, успокоившись. — Земля не достанется ни тебе, ни мне. Теперь она даже Богу не принадлежит.
Потом он открыл ворота и жестом пригласил меня зайти.
— Жена, принеси вина и два стакана! — крикнул он в дом.
На крыльце появилась пухленькая невысокая цыганка, в животе у нее зрел плод Сарело. Она с трудом спустилась по ступенькам, молча и не глядя на меня, дала мне стакан и налила вина. Потом налила Сарело, поставила бутылку на нижнюю ступеньку и снова скрылась в доме.
— Ты взял себе цыганку? — спросил я.
— Ну, я тоже цыган.
— Только наполовину, насколько я знаю.
Он пристально посмотрел на меня и выпил.
— Значит, ты все знаешь. Тем лучше. Тогда ты понимаешь, что земля могла бы принадлежать мне на тех же правах, что и тебе.
— Вообще-то нет. Ведь на самом деле она принадлежала моей матери и деду.
Сарело шагнул ко мне, сжав кулаки, вена у него на шее взбухла, и я порадовался, что теперь у него нет топора. Но так же внезапно он успокоился и налил себе еще вина.
— Я для этого лучше годился. Я был крепче.
— Теперь я тоже такой.
Лицо его вновь помрачнело, и он напрягся всем телом. Но потом усмехнулся и подлил мне.
— Ну ладно. Не стоит нам спорить из-за того, чего больше нет. Ты в Сибири такой крепкий стал? Как там было?
— Холодно.
— Слушай, другого выхода не было. Либо ты, либо я. Русские зашли в дом и уже схватили меня. Отец сделал выбор, меня он не спрашивал.
— И в благодарность ты теперь разрешаешь им с матерью спать в людской?
— Так государство решило. У швабов и всех остальных богачей забрали дома. В них поселился простой народ.
— Ты? Простой народ? Он же твой отец!
— Кто это говорит? Доказательства есть? Здесь я для всех просто цыганенок, который выполнял самую грязную работу и спал в хлеву. Для коммунистов я лучший владелец этого дома.
— Но ты же сам сказал.
— Если б мне это было нужно, он был бы моим отцом, но теперь мне это ни к чему.
Я огляделся.
— Где они сейчас?
— Я думаю, чистят коровники в кооперативе. Они единственные швабы, кто не ходит на их собрания. А остальные встречаются все чаще, у них там за главных торговец лошадьми и кабатчик.
— С чего это?
— Хотят обратно в Лотарингию.
— В Лотарингию? Мы же там теперь никого не знаем.
— Черт их разберет. Они давно друг другу эти сказки про Фредерика Обертина рассказывают, твой дед тоже их знал. Хотят переехать на золото твоего отца. Или лучше сказать — моей матери?
— А дед правда умер?
— Правда. Так же, как и моя мать. С Буга она не вернулась.
— Как он умер?
— Я знаю только, как он начал умирать.
Сарело отставил стакан, запер ворота и рассказал то, что знал.
Вскоре после ухода русских в Трибсветтере появились румынские коммунисты. Они обустроились, назначили нового бургомистра, партийного секретаря и участкового милиционера. Каждый день в деревню стали приходить красные газеты из Темешвара, а вместе с ними и сообщения об арестах и экспроприации врагов народа. К последним явно причисляли и швабов. Всем было ясно, что скоро на Трибсветтер обрушится новая буря.
На первом собрании все швабы растерянно молчали, так дед рассказал Сарело. Никому не приходило в голову, как же лучше уберечься от этой грозы, если ее нельзя предотвратить. При такой грозе никакой колокол не помог бы.
На втором сходе дед сразу встал. Он долго думал над своим планом и множество раз отвергал его. Дед откашливался, пока в зале не воцарилась полная тишина. Когда стало тихо и все до одного устремили на него глаза, полные ожидания, он заявил: «Пока русские или румыны не депортировали нас бог знает куда, давайте мы сами депортируемся обратно в Лотарингию». Он понимал, насколько безумно это предложение, и если бы не сам его выдвинул, то, услышав, хохотал бы вместе со всеми остальными. Его попросили повторить, что он предлагает, подумав, что ослышались, и он повторил.
Потом над дедом смеялись еще несколько недель, ведь, при всем уважении к нему, никто не мог относиться к его замыслу иначе, чем как к бредовой идее тронувшегося умом старика. Видя его на улице, люди едва сдерживали смех, но вскоре улыбки сменились скорбными минами, поскольку времена становились все тяжелее: прошли первые экспроприации, коммунисты наложили на швабов непомерные налоги и штрафы.
На третьем собрании предложение деда уже встретило некоторую поддержку. Его попросили изложить план подробнее, и первые единомышленники задумались над реализацией этого дерзкого замысла. Но затем последовали новые сомнения: возможно ли собрать достаточно средств, чтобы нанять транспорт для четырех сотен семей со всем скарбом и для церкви. То, что церковь нужно забрать с собой, сомнений ни у кого не вызывало. Ее пришлось бы разобрать, потом всё, включая большой колокол — его в первую очередь, — аккуратно упаковать и потом собрать снова где-то в окрестностях Дьёза. Некоторые уже представляли себе, как прекрасно будет звучать колокол над Лотарингским плато. Как его звон разнесется до самого Марсаля.
А еще надо было купить землю, первым делом. Однако хоть никто и не предполагал, что после войны цены на землю во Франции будут особенно высоки, все-таки большинству казалось немыслимым собрать такую сумму. Ведь к тому же пришлось бы давать взятки: бургомистру, партийному секретарю, темешварской администрации, а может, и подкупать более высокие инстанции. Чтобы они разрешили одному из них поехать в Лотарингию, разузнать там, что к чему, и купить необходимое количество земли.
Найти такие деньжищи торговцу лошадьми, кабатчику и горстке других зажиточных крестьян было не под силу. Они опять опустили руки и хотели уже отказаться от всех этих планов, но тут дед встал и объявил, что знает, где взять деньги, к тому же практически за углом. Все посмотрели на него недоверчиво, ведь они знали бы, если б кто-то был так богат.
— Так скажи нам где, Никлаус, — подбодрил его торговец.
— У нас в хлеву.
Они решились на это не сразу, поскольку все еще боялись отца. Он всегда держался особняком и не ходил на эти собрания, так как считал их всего лишь уловкой, чтобы навязать ему чужие интересы. Прожект, о котором постоянно говорил дед, нравился ему не больше, чем лозунги коммунистов. В конце концов торговец лошадьми с дедом возглавили толпу, и все отправились к нашему двору. По словам Сарело, дед явно наслаждался своей местью, но продолжалось это недолго.
Сарело взял стаканы вместе с бутылкой и унес их в дом. Некоторое время он не появлялся, но я слышал нервный шепот его жены. Потом он все же вернулся и продолжил рассказ.
Когда люди подошли к нашему двору и позвали отца, тот взял ружье и вышел на улицу вместе с Сарело.
— Что у вас стряслось, мужики?
— Ты тут золото спрятал, — сказал конноторговец.
— Оно нужно общине, — добавил кабатчик, и все двинулись к воротам.
— Стойте, где стоите, а то перестреляю всех к чертям! — рявкнул отец. — Я вас никогда не боялся и теперь не испугаюсь. Вы-то все трусло! Собрались полсотни рыл, потому что поодиночке ссыте.
— Ты отдашь нам золото сам? — спросил конноторговец.
— Только через мой труп! — ответил отец и взвел курок.
— Ну тогда вперед! — крикнул торговец лошадьми.
Выстрелом в воздух отец заставил толпу замереть, но ненадолго.
На него навалились двое крепких мужчин, двое других — на Сарело, а остальные зашли во двор, и дед указал им точное место. Затем они принялись за работу, принесли из сарая кирки, лопаты и стали откапывать Раминино мыло. Прошло несколько часов, пока они всё откопали, погрузили на телегу и увезли. Все это время приходилось держать отца, проклинавшего их и норовившего броситься на деда. Он орал: «Ты еще горько пожалеешь об этом!»
— А где была мать? Она что делала? — спросил я.
— То же, что и всегда. Молилась в доме, — ответил Сарело.
Мать вышла из дома, только когда все ушли. А ее муж, вместо того чтобы накинуться на деда, схватил ружье и скрылся в хлеву, где теперь зияла глубокая, осиротевшая яма. Он вывел одну из лошадей на середину двора, на самое видное место. Прежде чем дед или мать успели что-нибудь сделать, он приставил ствол к виску животного и крикнул: «Ты лишил меня золота, а я лишу тебя лошадок!»
Мать пыталась его утихомирить, хватала за руки, обнимала, но он отталкивал ее. Она говорила, что лошади еще пригодятся для работы в поле, что они дорого стоят, но отец спустил курок. Потом вывел следующую лошадь. Он выстрелил пять раз, пока двор не превратился в одну большую лужу крови. На неостывшие тела любимых дедом животных слетелись сотни мух. В тот день дед и начал умирать.
* * *
Всего за каких-то пять лет отец съежился, как высохший фрукт. Шикарный костюм, который он теперь, очевидно, носил на работу, стал плохо сидеть. Его исхудавшие руки и ноги в этом костюме казались конечностями деревянной марионетки, одетой в широкие одежды ради развлечения публики.
От некогда импозантной внешности отца остались только широкие ладони, которые он, увидев и узнав меня, неуверенно спрятал в карманы брюк, не в силах унять волнения. Его примечательный нос теперь выглядел как безобразная рана. Волосы на голове, прежде густые и сильные, стали жиденькими и липли к коже.
Мне потребовалось несколько минут, чтобы узнать в этом человечке того мужчину, которого я в детстве так боялся и которым восхищался. Время не пожалело и мать, оно легло на нее столь тяжким грузом, что она сильно ссутулилась. Стала женщиной со скорбным лицом и потухшими глазами, в черном платке на голове. Насколько я вырос и укрепил свое анемичное тело, свою конституцию, настолько же они оба сели, словно вещи, постиранные в слишком горячей воде.
Отец остался на месте, мать шагнула вперед, словно захотев одним прыжком оказаться рядом со мной, но отец шепнул: «Эльза, держите себя в руках». Она вновь оробела и опустила голову. Мы смотрели друг на друга с безопасного расстояния. Глаза ее подернулись белесой поволокой. Я снял свитер и протянул ей.
— Он тебе пригодился? — спросила она, взяв его.
— Еще как.
— Ты выжил, — тихо повторяла она.
У меня не было повода рассказывать ей что-то еще, кроме того, что я выжил.
Каково бы им было услышать, что все эти годы я, как крот, рылся в земле в поисках костей всего в восьмидесяти километрах отсюда, пока они думали, что я вместе с остальными, голодный и изможденный, рискую умереть от болезней или от холода? Вся их скорбь, вся вина, если они и чувствовали ее, все это показалось бы им смехотворным, все их страдания — бессмысленными, это означало бы, что я ничего этого не заслужил.
Нет, если я хотел иметь право на возвращение, на внимание, которого наконец-то удостоился, я должен был для них быть выжившим в Сибири. Тем, кто повидал ад и вернулся оттуда. Если бы я разрушил этот образ, их гнев снова уничтожил бы меня. Я быстро принял решение и ответил:
— Да, я выжил.
— Но ты совсем не похудел. Некоторые в деревне получали письма от своих, и те писали, что вы были всегда голодные.
— Меня кормили лучше, чем остальных, чтобы я работал.
— Что тебе приходилось делать?
— Хоронить мертвых.
Мать отшатнулась от меня и перекрестилась.
— Так, значит, ты должен был хоронить умерших товарищей?
— Вроде того.
— Могильщик, — произнес отец.
— Лучше копать могилы для других, чем самому лечь в могилу, — возразила мать. — С тобой вернулся кто-нибудь еще?
— Нет, только я. Я вскоре расстался с ними, меня отправили в другой лагерь.
— Тебя все будут расспрашивать, задавать много вопросов, — сказала мать. Прижав свитер к себе, она погладила его. — Даже ни одной дырочки нет. Пойду в дом, постираю его, и потом опять наденешь. По утрам все еще холодно.
И она ушла в людскую.
Я остался во дворе вдвоем с отцом, но спиной я чувствовал взгляды Сарело и его жены из окна.
— Они давно наблюдают за нами. Никак не могут поверить своему счастью, хоть коммунисты и защищают их, — проворчал отец. — Так теперь у многих швабов. Они живут в людских, а бывшие батраки — в их домах. Когда нужны дрова, приходится клянчить у него.
Кивком головы он указал на окно, за которым виднелся слабый свет керосиновой лампы.
— Вообще-то нам теперь тоже провели электричество, но ему нечем платить. Цыгану. Вот такая благодарность за то, что я взял его к себе.
Сгущались сумерки.
— Ты взял его, потому что он твой сын и мог тебе пригодиться. Лучше, чем я.
— Значит, ты знаешь. Тем лучше, ведь теперь это не важно. Я уже не так уверен, что он мой сын. Цыганка столько всего понарассказывала, что уже сама не знала, где правда, а где выдумка. К тому же любая мать пойдет на все, чтобы спасти сына.
— То, за что она тебя озолотила, было правдой. Он похож на тебя лицом, и повадки те же.
Отец пожал плечами и пошел, не глядя на меня, но остановился и сказал:
— Пойдем в дом, мать, наверное, уже на стол накрыла.
Я был в смятении, не мог разобраться в своих чувствах. Едва вернувшись домой, я уже успел привнести в мир новую ложь и встретил отца, который так изменился, что его едва ли можно было ненавидеть или проклинать. Раньше я собирался сделать что-то в этом роде, но теперь это потеряло смысл. Я собирался сказать ему в лицо: «Я твой сын, а не он, ты, сволочь!» — но теперь я был на это не способен.
Он не выгнал меня, не угрожал, даже пригласил к ужину. Человек, которого настигло изгнание, так давно знакомое мне.
— Это правда, что дед умер? — спросил я отца, когда он проходил мимо. Вопрос остался без ответа.
Людской называлась низенькая квадратная постройка, где раньше жили венгерские и румынские сезонные работники, которых мы нанимали для сбора урожая. Потом их место занял дед. Через окно я видел, как мать склонилась над кастрюлей, в которой булькал какой-то суп. Пока отец у порога снимал сапоги, она нарезала хлеб, сало и накрыла обеденный стол — круглый тяжелый дубовый стол, прежде стоявший в гостиной.
Она смахнула с лица прядь волос и вытерла руки об фартук, прежде чем снять кастрюлю с огня. Окна запотели от пара, и я с трудом видел мать и отца, вошедшего в домик. Они явно о чем-то разговаривали. Их рты беззвучно открывались, будто они в аквариуме, но могут дышать без жабр.
Отец приоткрыл дверь и высунул голову.
— Может, принесешь дровишек немного. Все в порядке, Сарело утром разрешил.
В сарае было темно, но руки на ощупь нашли то, что искали, им не нужно было привыкать, они все помнили. В хлеву не хватало запаха лошадей, того присутствия животных, которое раньше чувствовалось там, даже если лечь в темноте и закрыть глаза. Не хватало и золота, которое отец посеял там, но так ничего и не пожал. Я чуть не свалился в яму, ее все еще не засыпали.
Родители сидели за столом на единственных двух стульях, которые отдал им Сарело, я сел на перевернутый ящик. Я снова спросил про деда.
— Папа умер два года назад, — прошептала мать и перекрестилась.
Кое-как сделанная печка закоптила стены, когда-то оштукатуренные белым, а ветер нес дым обратно в дом. Мы постоянно кашляли, но долго не говорили ни слова, все жевали, каждый был погружен в свои мысли. Мать то и дело вставала, подходила с тарелками к плите и накладывала нам добавки. Мы ели из богемского фарфора, от сервиза на двадцать персон осталось всего три оббитые тарелки.
— Я с удовольствием приготовила бы что-нибудь еще, чтобы отметить этот день, но больше ничего нет, — извинилась мать.
Потом опять наступила тишина, которая царила почти весь вечер, пока керосин в лампе почти не закончился и тени в комнате не стали длиннее. Лишь тогда отец заговорил:
— Ты пришел отомстить?
— Сегодня мне уже задавали этот вопрос.
— Ты ведешь себя не так, как можно было бы ожидать. Я бы, наверное, убил за такое. Но ты не бьешь меня, не злишься, даже не выругался ни разу.
— Вот и радуйся.
— Ты ненавидишь меня?
— Хотел бы я сам знать.
Его плечи опали, словно чужие.
— Я могу лишь сказать, что уже несколько лет жалею, что не принял тогда другое решение.
Мы легли спать, я — на полу, а они — на старом диване, окутанные запахом еды и вонью наших немытых тел. Прежде чем уснуть, я подумал, что, наверное, Фредерик Обертин и первые колонисты тоже спали вот так. Так же, как и мы, они терпели спертый воздух, холод, усиливающийся с каждой минутой, и ночь, накрывшую нас всех.
Словно во сне, я услышал голос отца:
— Скоро тебе придется решить, поедешь ты в Лотарингию или нет. Вчера вернулся сын торговца лошадьми, он купил землю. На всех, даже больше чем достаточно. Он рассказал, что там рады принять новых поселенцев, потому что во время войны погибло много народу. Ему продали землю так дешево, что на оставшиеся деньги он смог купить еще целое стадо коров и овец.
— А вы? — спросил я.
— Мы с матерью останемся здесь. У меня есть план получше, чем жить среди чужих людей. Я подал заявление на вступление в партию. Когда я стану коммунистом, мы вернем дом себе. Тогда посмотрим, что будет с цыганом.
— Это мой дом. Завтра я вышвырну его оттуда, — тихо сказал я.
— Не вышвырнешь, иначе тебя арестуют.
— Есть еще хоть какая-то надежда вернуть хозяйство?
* * *
Первые несколько недель я как сыр в масле катался благодаря своим сибирским россказням. В перерывах между кладбищем, где я навещал деда и Катицу, и кооперативным коровником, куда я тоже пошел работать, меня приглашали в гости семьи, надеявшиеся на возвращение своих родных. Каждый раз они плакали, трогали меня, смотрели с изумлением, как будто стали свидетелями чуда, исполнения давних молитв.
Нередко их умоляющие взгляды, их надрывно дрожащие голоса доводили меня до того, что я уже готов был сознаться во лжи. Один или два раза я даже собирался сказать правду, но своими непрестанными вопросами они гнали мой рассказ дальше, не желая, чтобы я останавливался. Они обманывались так же охотно, как я обманывал.
Я оброс жирком, они кормили меня до отвала вместо собственных сыновей и дочек, будто теперь мне полагалось съесть все, что они берегли до их возвращения. Если я приходил утром, они пекли свежий хлеб, нарезали колбасу и сыр, открывали банки с домашним вареньем. Но уж если я объявлялся вечером, то на столе дымилось жаркое из баранины с квашеной капустой, а из печи доставали тугие клецки в чудесной золотистой подливе. Потом открывали непочатую бутылку шнапса. Возвращался я с подарками, нетвердым шагом и осоловевший от обильного угощения. Иногда гостеприимцы догоняли меня, забыв подарить что-нибудь приносящее удачу или оберегающее — образок святого или крестик, все это я отдавал матери. Во рту я ощущал вкус моей вины.
Но со временем их интерес все-таки угас, приглашения стали поступать реже, а потом и вовсе прекратились. Люди заметили, что истории мои оставались расплывчатыми, что я не мог рассказать ничего конкретного, хоть и старался расписать все тяготы депортации как можно правдоподобнее. Я отнюдь не жалел об этом, так как уже опасался, что меня разоблачат. Случись так, мне пришлось бы дорого заплатить за надругательство над их надеждой. Однажды я уже остался совсем один, но тогда возвращению препятствовал только мой страх перед отцом и повторной депортацией. На этот раз все было бы иначе. Меня бы окончательно изгнали из общины, в этом я не сомневался.
Часто я работал плечом к плечу с отцом, а мать распределили на мельницу. Эта работа заставила ее еще сильнее ссутулиться, а лицо сделала еще более скорбным. Вечером она возвращалась, мучаясь от боли, поэтому могла пройти всего несколько шагов, а потом садилась на одну из скамеек, что стояли перед каждым двором. Она делала вид, будто хочет перекинуться парой слов со знакомыми об урожае, ущербе от недавней бури, отёле коровы или о том, как идут дела в мире. Поговорив, она вставала и шла, держась прямо, пока люди могли ее видеть. Лишь закрыв за собой наши ворота, она снова становилась слабой, словно последние силы покидали ее.
Дома она забывала об осанке, забывала саму себя и роняла голову на руки. Никогда в жизни она не показала бы свою слабость на людях, в этом она до конца оставалась Обертин. Напрасно отец требовал от нового бургомистра, чтобы ее назначили на работу полегче. Поизмываться над настоящей Обертин, а не примазавшимся, как ее муж, было куда приятнее, хотя последний заслуживал этого куда больше.
Отец не просто стал тщедушным — худым человечком с длинными конечностями, — он утратил инстинкт, который раньше никогда не изменял ему. Инстинкт, благодаря которому он подчинял себе людей. Отец считал бургомистра другом просто потому, что каждую неделю проводил с ним несколько часов в его кабинете. Едва он приходил, на столе появлялся шнапс. Бутылку не закупоривали, пока не допивали.
После третьего стакана бургомистр довольно причмокивал, смотрел на отца и говорил: «Ну что, Якоб, как там мои швабы? Лучше бы им уехать, пока в лагеря не отправили. Так будет и им, и партии хорошо, а то еще тратиться на них». При этом тон его становился доверительным, рассказывал дома отец, он каждый раз слегка наклонялся вперед, будто они обсуждают какую-то тайну, известную только им двоим. Как будто они закадычные друзья, позволившие себе пропустить по стаканчику. А его пальцы-сосиски в это время отбивали по столу ритм, понятный только ему самому.
Каждый раз отец приходил домой пьяный и довольный, мать раздевала его, я мыл ему ноги, и вместе мы укладывали его в постель. Заплетающимся языком он объяснял нам, что близок тот миг, когда он станет коммунистом и все наши проблемы решатся. С каждым стаканом этот миг все приближался. Через отцовскую глотку к нам текло светлое будущее. Бургомистр обеспечит ему партбилет, через неделю, через месяц, максимум через год. На нашем примере все увидят, что швабы тоже всего лишь люди.
Каждую свою речь, обращенную к отцу, бургомистр завершал словами: «Якоб, ты далеко пойдешь, когда вступишь в партию, у тебя хорошие задатки». Он подмигивал отцу, наливал еще, подносил его руку со стаканом ко рту и отпускал, только когда отец выпивал до дна. Из отцовских рассказов я понял, что этот тип больше всего хотел разузнать, нет ли еще у кого-то из швабов золота, закопанного где-нибудь на поле или во дворе. На бургомистре отец впервые в жизни обломал зубы. Все-таки нашелся орешек покрепче его самого.
Глядя на него, на то, как крепко он спит, на его кожу, покрывшуюся пятнами, я больше не видел человека, который когда-то властвовал надо мной. Но и теперь, потеряв почти все, за чем он пришел сюда издалека, он все же искал выход из плачевного состояния, но терял его из виду за стаканами шнапса и словами бургомистра. Он все еще верил, что может сам построить свое будущее. В нем все еще были остатки той силы, что восхищала меня раньше. Но человека, которому я на протяжении всего детства хотел доказать, что не пахну своим рождением, больше не существовало. А этого, нового, я мог чуть ли не пожалеть.
Так как мы с отцом часто работали вместе, мы оба оборачивались, услышав наше имя. Я добился от бригадира, чтобы нас распределяли в одну бригаду, так я мог выполнять часть отцовской работы. Мы ремонтировали здания, рыли ямы, грузили брусчатку для новой улицы.
Я спрашивал его: «Пить хочешь?» — и давал попить. Спрашивал: «Ты устал?» — и отправлял в тенек отдохнуть. Мариан, бывший полевой сторож, смотрел на это сквозь пальцы, ведь когда-то он получил от отца участок земли. Встречая нас по утрам, он продолжал кланяться. Его тело помнило лучше, чем разум.
Мы с отцом никогда особенно много не разговаривали, не осталось ничего такого, о чем уже давно не было сказано или решено молчать. Каждый день в пять часов утра мы выгоняли кооперативных коров, свиней и лошадей на поле и молча чистили стойла. В семь грузили тяжеленные мешки и инструменты на прицеп трактора и до прихода тракториста все так же не произносили ни слова. Лишь подъехав к нашему двору — мы все еще называли его нашим, — когда к нам присоединялась мать, мы заговаривали и приветствовали ее.
Она передавала нам еду на обед и вскоре вылезала из трактора, остаток пути до мельницы она шла пешком. Ноги ее распухли и стали похожи на колоды, им приходилось нести не только вес тела, но и всю тяжесть ее жизни. Отец смотрел ей вслед, и я нередко спрашивал себя, о чем он думал при этом. Думал ли он хоть иногда о начале их жизни или уже только о конце.
На краю деревни в прицеп забирались другие усталые работники, и мы ехали на одно из кооперативных полей, где нам раздавали наряды на день. Руки у меня теперь были мозолистые, от меня, как и от отца, давно пахло скотиной и навозом. В обед мы садились вдвоем под деревом и разворачивали еду. Отец стучал вареными яйцами по колену, я резал хлеб. «Раньше все это было мое», — однажды произнес он.
После обеда мы работали весь день согнувшись, нас подгонял бригадир, который больше всего заботился о своем авторитете и выполнении нормы. Мариан, раньше спавший на этих полях и зачастую пропускавший приближение бури, теперь нашел свое истинное призвание. Когда мы с трудом разгибали спины, уставшие от однообразных движений, солнце было уже совсем низко над горизонтом. До нас доносился звон большого колокола, но теперь он никого не звал домой, а лишь сухо и точно отмерял время.
Вечером мы отвозили инструменты обратно, забирали зерно с элеватора и везли его на мельницу. Мать до краев наполняла мукой широко раскрытые мешки, похожие на растопыренные клювы голодных птенцов. Она всегда носила длинную юбку, а не рабочие штаны, этот демонстративный отказ был ее последней линией обороны перед окончательным крахом. Ночью, в постели, отец шептал: «Скоро я вступлю в партию, тогда все наладится». Но меня заботило уже кое-что другое.
На первых собраниях швабов, которые я посещал, меня встречали благосклонно. «Обертин есть Обертин, пусть даже эта фамилия изрядно утратила прежний блеск», — сказал торговец лошадьми. Он приобнял меня за плечи и подвел к остальным. Его сын Эрик стал геологом, учился в Париже и вернулся только после войны, поэтому русские его и не застали. Поскольку он говорил по-французски, покупку земли в Лотарингии поручили именно ему. На собрании оказалось гораздо больше молодых людей, чем я ожидал увидеть. Некоторые долго возвращались с фронта, другие успешно отсиделись в укрытии.
— Никак не могу поверить, что французы встретили тебя с распростертыми объятиями, — прошептал я Эрику.
— Как бы не так, — ответил он и отвел меня в угол, где мы могли спокойно поговорить.
На полу общинного зала он развернул карту Лотарингского плато, на которой были обозначены Дьёз, Муайянвик и Марсаль.
— Когда я наконец добился встречи с префектом этого округа, он чуть было не бросил меня за решетку. Он долго кричал, что я сошел с ума, что его народ воевал за то, чтобы на левом берегу Рейна больше не осталось ни одного немца. Он повторял: «Вы что, опять вздумали нас оккупировать?» Мне потребовалось все мое красноречие, чтобы убедить его выслушать меня и втолковать, что мы сами подвергаемся гонениям и всего лишь хотим вернуться на родину наших предков. Что мы, мол, их двоюродные братья, хоть теперь в наших венах и течет гораздо больше немецкой крови. Но последнего я ему, конечно, говорить не стал.
— И это убедило его?
— Это и чемодан золота, который был у меня с собой. Второй чемодан я обещал отдать ему, когда мы переселимся. Сначала он думал, что эти талеры Франца-Иосифа украдены, но и в этом я его разубедил. Он успокоился, когда я растолковал ему, что если золото переплавить, то определить его происхождение будет невозможно. Они там живут бедно, а война их совсем разорила. Но есть одна загвоздка.
— Какая же? — спросил я.
— Он уверен, что местные вздернут его, если он отдаст нам лучшие, плодородные земли. Я-то присмотрел необжитую землю недалеко от Марсаля, защищенную от ветра, частью в низинке, небольшой лесок и речка посередине. — Он показал место на карте. — Вот где это было бы.
— И что ты получил вместо этого?
Его палец описал длинную дугу к югу и остановился на точке, поблизости от которой на карте не было ни города, ни деревеньки.
— Но тут же ничего не отмечено, — заметил я разочарованно.
— А там ничего и нет, мы в полной изоляции. Земля плохая, продувается всеми ветрами. Есть только развалины нескольких домов — когда-то там была деревня, потом ее забросили.
— Но ведь наши должны знать об этом! — воскликнул я, но Эрик одернул меня, чтобы я не шумел.
— Допустим, узнают, и что? Что это изменит? Здесь нам все равно не рады, — возразил он.
— Может быть, самое страшное уже позади.
— Ты что, газет не читаешь? Не слушаешь радио? Мы — враги народа. Они нас посадят, это только вопрос времени. Нет, мне здесь делать больше нечего, и тебе тоже. Здесь тебя ждет несколько лет за решеткой, и это если повезет. А там у тебя все-таки будет свой дом и земля. Земля плохая, но работать мы всегда умели. Ведь когда мы сюда пришли, здесь тоже ничего не было. К этому нам не привыкать.
Я встал и стал беспокойно ходить взад-вперед.
— Сядь! — потребовал Эрик. — А то люди догадаются, что что-то не так.
— Почему ты рассказываешь это именно мне?
Он схватил меня за рукав, и мне пришлось опять присесть рядом с ним.
— Ты же Обертин. Все больше народу отказывается. Но если ты поедешь, все изменится.
— Кто еще знает об этом?
— Только ты. Даже мой отец не знает.
— Но почему?
— Старик слишком много пьет. Он все растрепал бы. Но я больше не могу держать это в себе. Хотел, чтобы еще кто-нибудь знал.
— А ты не боишься, что меня это испугает?
— Тебя? Нет. Ведь ты в Сибири выжил.
Тут кто-то кашлянул у нас за спиной. Это был Зеппль, кабатчик. Его красное лицо говорило о том, что много лет он целыми днями ничего не делал, но зато по вечерам допивал остатки из стаканов клиентов. Глаза его горели, когда он развлекал публику анекдотами.
Рядом с ним стояла стройная светловолосая девушка, я уже не раз замечал, что она украдкой поглядывает на меня на улице.
— Моя дочь, — представил ее Зеппль и подтолкнул вперед. — Я велел ей прийти, чтобы ты посмотрел на нее. Она у меня красивая, хозяйственная и жениха присматривает. Так ведь?
Он положил ей руку на плечи, и она кивнула, опустив глаза.
— Тебе тоже в самый раз жениться. Дальше тянуть нельзя, — продолжил Зеппль. — Как жалко, что Сарело себе ваш дом захапал. Его ты уже не вернешь. Я не мог понять, что твой папаша нашел в этом цыганенке, пока не узнал про золото. — Он провел носком ботинка по карте. — Ну что, Якоб, ты с нами? Что решил твой отец, мы знаем, но меня это нисколько не огорчило. Он никогда не был по-настоящему одним из нас. Просто объявился здесь как-то, словно из ниоткуда. Но вот ты нам нужен. Обертин должен быть с нами. Там у тебя будет вдоволь земли, да и жена найдется. — Он подмигнул мне и шепнул на ухо: — Если уже не нашлась. — Потом он повернулся к дочке и подбодрил: — Ну, скажи-ка Якобу, как тебя звать-то.
— Йоханна, — произнесла она и посмотрела на меня.
— Йоханной зовут, и все остальное тоже в порядке, — добавил кабатчик.
Он отослал ее домой, панибратски положил мне руку на плечи, как будто мы уже были связаны каким-то обещанием, и подвел к остальным.
— Теперь надо решить, как быть с церковью, — сказал торговец лошадьми.
Долгое время все носились с мыслью разобрать церковь и увезти с собой вместе с алтарем, дарохранительницей и колоколами. Но эта задача казалась нам слишком сложной, и на ее выполнение требовалось слишком много времени. К тому же чиновники не желали давать разрешение на выезд поезда с целой церковью. И тут торговцу, который регулярно ездил в Темешвар по этому поводу, не хватило бы на взятки никаких денег. Как будто коммунисты сами не были заинтересованы в том, чтобы все церкви исчезли. Никто не хотел рисковать головой из-за какой-то церкви, хотя из-за целой деревни уже почти готовы были рискнуть.
В итоге решили оставить церковь, а также малый и средний колокола. Но большой колокол надо было забрать во что бы то ни стало. Он звонил, когда умер Фредерик, и потом — по многим другим. И он должен звонить тем, кто умрет в будущем. Предложение взять с собой кладбище — положить всех покойников в новые гробы и отвезти в Лотарингию — было отвергнуто. Больше всех этому обрадовался священник Шульц.
Однако поскольку многие запротестовали — те, кто не хотел расставаться со своими предками, — собрание решило не принимать решения. Желающие могли вскрыть могилы и забрать то, за что были в ответе веками или всего несколько месяцев. Но предоставлять им лишнее место в вагоне никто не собирался. Пассажиры с мертвецами должны были ехать тем же классом, что и пассажиры без мертвецов, никаких поблажек.
Затем конноторговец сообщил, что поедет в Темешвар. Надо было выяснить, получим ли мы обещанные поезда, и если да, то сколько.
На улице кабатчик Зеппль протянул мне руку:
— Договорились?
Я неуверенно пожал его руку, но ничего не ответил.
Всю следующую неделю люди ждали возвращения торговца лошадьми. Ждали во время работы и ложась вечером в постель. Подолгу смотрели на дорогу из Темешвара и, когда колокол умолкал, отмерив час, ждали, когда он ударит снова. Одна и та же мысль поселилась в их головах. Опасение остаться дома навеки чужим сменилось новым страхом: на новом месте, о котором ничего не известно, даже как произносится его название, опять же оказаться всего лишь чужаком.
Чтобы подготовиться к переезду, некоторые стали забирать своих мертвецов с кладбища и переносить их домой. Однажды я встретит на улице Йоханну, и она как раз несла такую коробочку.
— Кто у тебя там? — спросил я.
— Бабушка.
Йоханна была фигуристой и крепкой для своих лет, а губы ее — упругими и сладкими — в этом я не сомневался, — как персики в нашем саду. Она шла уверенной походкой, и от движения ее бедер могла закружиться голова.
— Твой отец на кладбище? — опять спросил я.
— Да, все там: мать, отец, дедушка.
Когда она направилась дальше, я остановил ее.
— Ты тоже хочешь, чтобы я поехал?
Словно отвечая на мой вопрос, Йоханна подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза. От ее девичьей робости не осталось и следа. Глаза ее просияли, а на щеках вдруг появились ямочки. Наконец она выпалила:
— Конечно, я этого хочу, Якоб Обертин.
Тем же вечером главный колокол с большим трудом спустили с колокольни и подготовили к перевозке. Вскоре два оставшихся колокола зазвонили, возвещая наступление ночи, но их звук оказался слабым и фальшивым. Как померкшая слава, какой никто не пожелал бы. Как бой только одной литавры. Как унылое предчувствие полного краха. Наша церковь лишилась голоса.
На следующее утро торговец наконец-то вернулся. Мы собрались вокруг него перед церковью, там же, где когда-то стояли русские грузовики, где священник Шульц заставлял деревья говорить голосом Велповра и где отец произнес свою речь.
Торговец объявил:
— Долгое время мы сомневались, что нам позволят уехать. Я даже боялся, что меня арестуют. Но нам повезло — в конце концов они приняли мое предложение. Нам дадут три поезда. В день отъезда офицер привезет нам паспорта. Для этого нашему бургомистру еще следует послать им список всех имен. И заявление. Все должно выглядеть так, будто это бургомистр желает нашего выселения, чтобы наше место заняли румыны. То есть нам придется его еще немного подмазать, но с этим мы тоже справимся.
— И когда же мы отправляемся? — спросили из толпы.
— В середине мая. Через две недели, стало быть. Вам хватит времени, чтобы попрощаться.
Кто ожидал ликования, тот был разочарован. Люди молча разошлись по домам.
* * *
В наших с отцом отношениях царил покой, причиной которого было нечто большее, чем просто выдержка или ожидание. Работали мы сосредоточенно, один знал каждое движение другого. Когда почва оттаяла, начались весенние полевые работы: мы посеяли кукурузу и первый раз удобрили пар под озимую пшеницу. Отцу нравились моя сила и ловкость. Иногда я чувствовал на себе его довольный взгляд.
Когда какой-нибудь груз был ему не под силу, я нес за него. Когда телега увязала в грязи, я выталкивал ее. Отец же, в свою очередь, пока мать готовила или прибиралась в жилище, показывал, как разбирать и собирать часы и фотоаппараты. Когда работа заканчивалась, он посылал меня к соседям за добавкой. Все соседи уже когда-нибудь приносили нам тот или иной прибор на починку. Я возвращался с кучей вещей, отец ликовал и сразу принимался за работу, приговаривая: «Может, когда-нибудь мы сможем этим зарабатывать. Не вечно же нам в коровьем дерьме ковыряться».
Казалось, его нисколько не заботит, что скоро половина деревни переедет, он строил новые планы. Он уже видел себя коммунистом, часовщиком в Темешваре, поскольку даже он понимал необходимость переезда из опустевшего села. Не успела еще закончиться эта жизнь, а он уже грезил о новой.
Мы часами просиживали, склонившись над столом, пока работали закоченевшие от холода пальцы и горел керосин в лампе. Отец говорил мне, что делать, но моим большим рукам было не так легко справиться со всеми этими шестеренками и пружинками в корпусе часов, поэтому часто приходилось начинать сначала. Он брал мои пальцы в свои и направлял их. Зато когда я что-нибудь делал правильно и все получалось, он хватал меня за плечо и сжимал так крепко, что я чуть не вскрикивал от боли. Эта боль в правом плече, не от наказания, а как знак его одобрения, была моей спутницей в те месяцы. Я и сейчас иногда машинально ощупываю это место.
За эти недели молчания и труда отец стал мне ближе, чем когда-либо. Его резкий запах, его плохие зубы, его поредевшие волосы. Как-то раз, пока мать еще не вернулась с мельницы, он развернул пожелтевший газетный лист и положил его на кровать.
— Что это? — спросил я.
— Тут кое-что написано про твою мать. Из-за этого я пришел в Трибсветтер. Она сразу мне понравилась.
— Двор тебе тоже понравился.
— Почему бы и нет? Тебе-то он тоже нравится, ты ведь так хочешь вернуть его.
— У меня будет свой двор, и никто мне не помешает в этом. Если не здесь, то в Лотарингии, — запальчиво ответил я.
Он посмотрел на меня испытующе:
— Теперь ты говоришь, как я в свое время. Ты не похож на меня внешне, но ты такой же, как я.
— Я не такой, как ты, хоть и хочу того же.
— Посмотрим. Но лучше будет, если ты останешься здесь, с нами. Ты же только что вернулся из Сибири, не хватит с тебя скитаний?
Мы уселись за верстак и начали разбирать старый приемник, который нам недавно принесли отремонтировать.
Несмотря ни на что, какая-то могучая сила влекла меня в Лотарингию. Та же сила, что заставила спуститься с костяной горы на равнину и вернуться в Трибсветтер. Желание иметь свою собственную землю, собственный дом — желание, которое для таких, как я, стало неисполнимым в Банате и вообще в Румынии. Здесь я был обречен прожить свою жизнь всего лишь вонючим свинопасом и жениться на такой же вонючей свинарке. В отцовские планы по спасению шкуры в новые времена я ни капли не верил, бургомистру тоже не доверял. С него станется загнать нас в вагон для скота.
Но я бы никогда не признался, что думал и о другой причине, не менее соблазнительной.
Зеппль заронил в меня зерно этого желания, и оно попало в благодатную почву.
Однажды вечером мы сидели за столом на своих собственных местах. В воздухе витал сладковатый запах жареного лука. Мать растирала себе ноги, отец брился перед маленьким треснувшим зеркальцем.
— Я принял решение: поеду вместе со всеми, — сказал я.
Мать лишь на секунду прервала равномерные движения. Отец спокойно продолжал водить лезвием по щеке. Потом произнес тихо, без всякой злости:
— Сейчас, когда ты наконец стал моим сыном?
— Раньше тебе на это было наплевать.
— Если б я мог, я бы это исправил, — сказал он со вздохом, какого я от него еще не слышал.
Я не знал, что и думать, такого смирения я не ожидал.
— Мама, да скажи же что-нибудь и ты! Ты никогда ничего не говоришь, — потребовал я.
— Твой отец прав. Останься с нами, Якоб. Не может быть, чтобы ничего не изменилось. Рано или поздно коммунисты поймут, что мы не враги.
— Ничего они не поймут. Они скорее убьют нас, чем поймут это! — крикнул я и стукнул кулаком по столу.
Следующим вечером, едва мы с отцом вернулись с работы, раздался такой громкий стук в ворота, что мы все выбежали во двор. Сарело открыл, но человек оттолкнул его и поспешил к отцу.
— Несчастье случилось, товарищ Обертин, пойдемте скорее!
Отец все бросил и побежал вслед за гонцом. Я пошел за ними, держась позади.
Когда я подошел к мельнице, там уже собралась толпа, и мне пришлось расталкивать ее, прокладывая себе дорогу. Некоторые смотрели в середину, тут же отворачивались и крестились. Люди, работавшие на мельнице, были с головы до ног покрыты тонким белым слоем мучной пыли. Их жизнь была такой же белой, как и смерть матери. На ее лице, припудренном мукой, застыл отпечаток невыносимой боли. Гребенчатое колесо затянуло подол юбки и перемололо нижнюю часть тела. Люди попытались обрезать юбку и спасти мать, но смерть оказалась проворнее.
Стоя на коленях, отец намочил платок и вытирал лицо матери. Он посмотрел на меня, словно требуя что-нибудь предпринять, и в его взгляде было нечто такое, чего я никогда не видел. Эта растерянность осталась с ним навсегда. Я тоже опустился на колени, но не плакал, все свои слезы я истратил на Катицу и деда.
Мы подняли мать и понесли домой через всю деревню. Со всех сторон смотрели нам вслед, из-за заборов и из окон. Сарело открыл ворота, мы положили мать на кровать, потом пришел священник Шульц. Через несколько дней, когда мы понесли ее на кладбище, звонили только малый и средний колокола. Похоронная процессия прошла мимо церкви, и все подняли глаза, словно слышали звон большого колокола. Вернувшись домой, отец снял обувь, поставил ее у порога, ослабил узел галстука, сел за стол и уставился на свои руки. О чем-то размышляя, он теребил обручальное кольцо на пальце.
— Теперь ты не должен уезжать. Остались только мы с тобой, — сказал он.
— Я уеду, — ответил я.
— Тогда хоть приготовь нам поесть.
— Я не умею готовить.
— Я тоже.
Той ночью я перебрался со спального места на полу и занял место на кровати рядом с отцом. Я лежал рядом с его спящим телом и прислушивался к размеренному дыханию.
Каждый день мы ходили на могилу матери и деда. Однажды, незадолго до назначенной даты отъезда, отец тихо сказал:
— Сделаю здесь скамейку и посажу дерево, чтобы был тенек. Хорошо будет, все лопнут от зависти.
Неподалеку кто-то выкапывал своих покойников, одна женщина тщательно убиралась в семейном склепе. Она понимала: нужно навести такой порядок, чтобы хватило очень надолго. Я отыскал могилку Катицы и так задумался о ней, что не услышал, как подошел отец. Внезапно за спиной раздался его голос:
— Сербская девочка тебе сильно нравилась, да? Если хочешь, я поставлю скамейку и здесь, будешь сидеть здесь, сколько пожелаешь.
По вечерам я разогревал еду, которую днем готовила нам соседка. Я долго смотрел на отца, и у меня появилось какое-то новое чувство. Теперь, накануне отъезда, я понял, что мог бы заботиться об этом человеке, получужом и полуродном мне. Даже любить его. Это было бы не труднее, чем все, что я и так уже делал.
Когда мы уже довольно долго лежали в темной холодной ночи и отец какое-то время не шевелился, я тихо произнес: «Я вообще не был в Сибири. Я вовремя сумел спрыгнуть с поезда». Его дыхание на секунду замерло, но больше не было никаких признаков, что он меня услышал. Утром я сварил кофе, поставил чашку рядом с кроватью и, поскольку отец не просыпался, ушел на работу один.
* * *
Когда пошел слух, что в Лотарингии нас ждет жизнь вряд ли лучше здешней, чуть ли не половина семей, собиравшихся уехать, передумала. Тем более многие вновь стали надеяться на возвращение родных из Сибири — поговаривали, что в соседние деревни вернулось несколько мужчин и женщин. На отъезд же были настроены в основном те, кто считал, что им будет там легче, потому что их фамилии похожи на французские или они немного говорят по-французски.
Утром 13 мая 1951 года на маленький полустанок в чистом поле, откуда обычно отправлялись в Темешвар, прибыли три состава. Один пассажирский и два товарных. Весь день до глубокой ночи люди свозили туда на лошадях и волах все, что не хотели оставлять в Трибсветтере: массивную, добротную мебель (швабы предпочитали такую) — буфеты, шкафы, кровати, столы; одежду, посуду, постельное белье и матрасы; плуги, мешки, под завязку набитые зерном, мукой и картошкой. Постепенно дворы отъезжающих — в каком-то смысле они все еще принадлежали им — пустели, а товарные вагоны наполнялись.
Священник Шульц упаковал дарохранительницу, дароносицу и церковные книги, затем несколько мужчин погрузили все это и алтарь на телеги. Когда повозки медленно тронулись, священник последовал за ними пешком.
Я тоже не остался в стороне и помогал, чем мог. Мой багаж — один чемоданчик — стоял наготове уже несколько дней. А вот отец держался от сборов подальше, метался, как тигр в клетке, и, казалось, боролся сам с собой. Потом он куда-то пропал и появился только после полуночи. Вагоны были уже заперты, и несколько мужчин остались ночевать у поездов, а остальные в последний раз легли спать в своих домах.
Мы лежали бок о бок и не спали — я и отец.
— Что ты теперь будешь делать? — спросил я.
— Как-нибудь проживу, за меня не волнуйся, — ответил отец.
На других дворах — я был уверен — швабы тоже не спали, а лежали и смотрели в темноту, как и мы. Теперь они жили в людских, в хлевах или ютились в одной из комнат дома, раньше принадлежавшего им целиком, а в остальных комнатах уже поселились румыны. Перед нашим новым переселением время повернуло вспять и воротилось к тем первым месяцам и годам, когда люди жили на болоте, в тесноте, мучились от тифа и любой болезни ничего не стоило выбрать себе новую жертву.
Я не сомкнул глаз, как Фредерик в ту ночь, когда принял решение бежать из Лотарингии. Чем глубже я погружался в раздумья, тем больше сомневался. Мне было двадцать пять лет, пускай в Трибсветтере я не мог стать хозяином земли, но жену нашел бы и здесь. Наверное, можно было бы прожить и среди свиней, оборванцем.
Я бы женился, отец жил бы со мной, и я терпел бы его, возможно, даже немножко любил бы. Может, я поступил бы в институт, как когда-то пророчил отец, ведь книги, что я успел прочитать, пробудили во мне тягу к знаниям. Не обязательно моя жизнь закончилась бы в Трибсветтере, но и на каком-то Богом забытом месте в окружении враждебно настроенных французов свет клином не сошелся.
И все же, когда забрезжил рассвет, я перелез через отца и собрался в путь. В ожидании условленного сигнала я сел на стул рядом с чемоданом, положил кепку на колени и уставился на отца. Его рука лежала поверх одеяла, на пальце был хорошо заметен след от обручального кольца, которое он носил больше двадцати лет. Я уже хотел было его разбудить, как вдруг он открыл глаза и посмотрел на меня. В ту же секунду на улице властно и пронзительно просвистел свисток священника.
Духовой оркестр, заказанный бургомистром, играл траурный марш, потому что в репертуаре румынских музыкантов были только траурные марши и свадебные песни. «Это ведь чем-то похоже на смерть» — так бургомистр объяснил свой выбор. Перед этим невыспавшиеся музыканты торопливо натянули форму, как будто наш отъезд был для них сюрпризом. В шапках, сдвинутых на затылки, и кое-как заправленных в брюки рубашках, они дудели для нас что было мочи, так они еще не играли ни на одних похоронах.
Перед каждым домом люди ждали своей очереди, чтобы присоединиться к колонне. Одни собирались идти пешком, другие запрягли телеги. Отличить уезжающих от провожающих было легко: первые держали в руках чемоданы или сидели на телегах. В семьях, где уезжали не все, братья и сестры, родители и дети подходили и наклонялись друг к другу, чтобы поговорить напоследок.
Матери держали за руки детей, которые потом едва ли вспомнят прежнюю жизнь, они будут искать ее в рассказах стариков, а может, и вовсе не будут. Уезжающие покидали опустевшие дворы, кое-где стояла брошенная скотина, за которой должны были ухаживать те, кто оставался. Некоторые просили соседей еще раз подтвердить, что те возьмут на себя заботу об их мертвых.
Отец шел рядом со мной, ни разу не взглянув на меня. Мы уже прошли мимо немой церкви, и поток людей пополнялся с каждой минутой. К уезжающим и тем, кто хотел с ними попрощаться, присоединились зеваки. Мы пересекли границу деревни — воображаемую, но для каждого ясную черту, отделявшую нас от остального мира, — и миновали Цыганский холм, на который посмотрел только я.
Бургомистр, шагавший рядом со священником сразу за оркестром во главе шествия, крикнул нам ускорить шаг. Но от этого мы пошли медленнее, словно нас держала тяжелая невидимая рука. Далеко впереди громко скрипнули шины, и на дорогу к Трибсветтеру свернула машина. Она ехала нам навстречу с большой скоростью и затормозила, не доезжая до нас.
Молодой офицер, лейтенант госбезопасности в сверкающих сапогах и ладно сидящей форме, вышел из автомобиля и, переговорив вполголоса с бургомистром, встал перед колонной. Водитель безучастно прислонился к машине и закурил сигарету, потом сплюнул на землю. А мы уставились на туго набитый кожаный планшет лейтенанта, предполагая, что там лежат наши паспорта. Над нами раскинулось сине-стальное небо, обещавшее славный денек.
Как только вся поклажа — тяжелые сундуки, сумки с провизией — была сложена на землю, мы обступили лейтенанта. Только отец остался в сторонке. Я посмотрел на него и заметил, какое у него мрачное, озабоченное лицо.
Бургомистр зачитал речь по бумажке: он пожелал нам блестящего будущего на новой старой родине и пообещал лично следить за тем, чтобы память о нас не оскверняли. Затем он передал слово лейтенанту. Тот, не теряя времени, вынул из планшета список и начал называть фамилии. Я надеялся, что окажусь в числе первых, что меня внесли в список под буквой «А» — Aubertin, но, не услышав своей фамилии в начале, не расстроился — значит, назовут ближе к концу, на букву «О». Тот, чью фамилию офицер называл, подходил к нему, жал руку и получал свой паспорт.
Очередь моей буквы быстро приближалась, к лейтенанту подходили люди с фамилиями на «М», потом на «N», и я уже приготовился выйти вперед и, как все, с достоинством произнести низким голосом: «Благодарю вас, товарищ лейтенант!» Но офицер перескочил букву «О», и по толпе пронесся гомон.
— В чем дело? — неуверенно спросил лейтенант. — Я кого-то пропустил?
— Меня! — крикнул я, подняв руку.
— Как фамилия?
— Обертин, товарищ лейтенант. Иногда пишут через «Au», но обычно через «О».
— Обертин, — пробормотал он, нахмурил брови и провел пальцем по списку.
Вдруг его лицо просияло.
— А, так это вы Обертин-младший. Вы никуда не едете. Вчера ваш отец разговаривал с бургомистром. Обстоятельства вашего возвращения из Советского Союза не выяснены. Вас вычеркнули из списка.
Лейтенант, явно довольный тем, что выполнил свой долг, раздал пропуска на «S», «Т» и «W», потом защелкнул планшет и дал команду грузиться в вагоны. Но никто не тронулся с места.
Я обернулся и посмотрел на отца. Он беспомощно пожал плечами, а на лице у него мелькнуло подобие смущенной улыбки. Схватив деревянный шест, на котором несли чемоданы, я рванулся к нему и бросил в лицо: «Ах ты мразь!» Первый удар пришелся ему в живот, второй — по плечу. Когда я замахнулся в третий раз, он закрыл руками голову, но я ударил в грудь.
Он повалился на землю и зарыдал, но я продолжал бить его, пока палка не переломилась. Тогда я стал пинать его ногами. Тем временем люди загородили меня от офицера плотной живой стеной. В полной тишине раздавались крики отца, молившего о пощаде. Лейтенант хотел было вмешаться, но бургомистр удержал его.
Наконец отец перестал шевелиться. Тихий скулеж был единственным признаком, что он еще жив. Я развернулся и решительно зашагал обратно к селу. Когда я зашел к нам во двор, Сарело вышел из дому и спустился с крыльца.
— Ты что-нибудь забыл?
Выдернув из полена топор, я направился к цыгану. Он испугался и так резко подался назад, что оступился и упал.
Я выбросил топор, вбежал в людскую, достал початую бутылку шнапса и осушил ее залпом. Ярость моя все росла и стала такой огромной, что, казалось, вот-вот разорвет меня изнутри. К вечеру она ослабла, как солнечный свет, тогда я вернулся к железной дороге. Поезда и все люди, кроме отца, исчезли, как будто их никогда и не было. Осталась только природа, равнодушная к человеку.
Отец все еще сидел на поле, не в силах идти. Завидев меня издалека, он попытался уползти, но и на это его сил не хватило. Когда я подошел, он взмолился: «Не убивай меня!» — и поднял руки, защищая голову. «Заткнись!» — приказал я, поднял его и понес домой.
* * *
Следующий месяц мы жили так же, как и раньше. Село обезлюдело, половина домов пустовала, лишь в нескольких уже поселились румыны. Глубокая, всепоглощающая тишина накрыла деревню и изнуряла нас, подобно летнему зною или суровой зиме. Хуже некуда, думали мы. Но хуже стало.
В стеклянной витрине у входа в общинный дом ежедневно вывешивали свежий номер «Банатского бойца». Каждая страница, каждая строчка говорили о том, что над нами вновь сгущаются грозовые тучи. Каждый день в газете славили товарища Сталина и подвиги Советского Союза, а еще объявляли народными героями рабочих и крестьян, перевыполнявших нормы.
Все больше места занимали постановления партии и обвинения, направленные против всех, кто якобы саботирует строительство коммунизма. Если в этом и можно было найти что-то утешительное, так это то, что несправедливость распределялась на всех равномерно. Она могла коснуться кого угодно: немцев, венгров, румын, сербов, болгар или заслуженных политиков и военных, простых людей и интеллигенции.
Настал золотой век стукачей. Они сводили счеты с теми, кто когда-то, по их мнению, плохо с ними обошелся или мог бы плохо обойтись. Мстили соседям за то, что у тех был дом побольше и стукач хотел сам жить в нем; бывшим нанимателям — просто потому, что приходилось на них работать. На сослуживцев стучали, чтобы занять их место.
Если раньше ты давал работу батракам, теперь одного этого было достаточно, чтобы на тебя донесли. Достаточно было быть крестьянином, чтобы тебя заподозрили в намеренном невыполнении норм, в том, что ты зажимаешь себе часть урожая. Хватало одного взгляда, одного слова, а иногда и этого не требовалось. Стукач стучал, потому что стал стукачом.
Но больше всего опасений вызывало то, что Центральный комитет партии готовился принять новые меры. Мы считали все это пустой болтовней, лозунгами, которые никогда не будут претворены в жизнь. Мол, хоть им не нужно наше мнение и наши голоса, но им все равно нужны наши рабочие руки.
Мы с отцом жили, как и прежде, вместе, сказать друг другу нам было нечего. Вечера обычно проходили в полном молчании, а днем, на работе, я следил за тем, чтобы нас распределяли в разные бригады. В нашем холостяцком жилище все стало грязнее, кругом царили беспорядок и запустение, как в доме отца Памфилия. Нас это не беспокоило.
Постепенно я начал привыкать к мысли, что останусь в трибсветтерском болоте и что мне уготована доля свинопаса. В принципе, я и так несколько лет месил грязь в поисках никому не нужных костей, а теперь я официально месил дерьмо кооперативной скотины.
Семнадцатого июня, в воскресный полдень, нас напугал резкий стук в ворота. Сарело открыл, его оттолкнул в сторону пьяный бургомистр.
— Обертин! — крикнул он отцу. — Я должен тебе кое-что сказать.
Бургомистр еле стоял на ногах и держался за забор, чтобы не упасть. Он собирался нам что-то поведать, но передумал. Носовым платком он вытер лоб, потом шею. Как он ни напрягался, слова не хотели выходить из его уст.
— Так что же? — спросил отец.
Бургомистр колебался.
— Нет, ничего. Забудь. — Он развернулся и, уходя, бросил через плечо: — Сегодня ночью ты станешь коммунистом, Якоб! Еще каким коммунистом! Всем ночам ночь. Будь готов!
Бургомистр расхохотался и не мог успокоиться, даже выйдя на улицу. Он исчез так же неожиданно, как появился. Нам осталось только думать, что пьяный может оказаться лучшим пророком, чем трезвый.
Уже не первый день в деревне поговаривали, что в окрестностях идут большие военные учения. Кто-то ездил в Темешвар и видел нескончаемые колонны грузовиков с пехотой, они как будто ждали приказа к наступлению. Под касками были видны молодые, наивные лица солдат. Рядовые маялись от скуки и ковырялись ложками в своих котелках, но оружие было в боевой готовности, а офицеры — собранны и нетерпеливы.
Один крестьянин наткнулся на военных в лесочке неподалеку от Трибсветтера. Они задержали его, когда он пошел туда искать своих свиней, но отпустили, взяв слово, что он никому не расскажет о присутствии войск. Свиней пехотинцы оставили себе, издалека крестьянин увидел дым над кронами деревьев и понял, что теперь в его кладовке будет пусто, в отличие от солдатских желудков. Он отправился прямиком в кабак, и скоро о военных знала вся деревня.
Вскоре после этого один солдат появился в сельской лавке и купил сигарет, причем в огромном количестве. Мы прикинули, и вышло, что где-то поблизости засели в укрытии не меньше двух рот. Новый кабатчик-румын выяснил, что так не только у нас, но и по всему Банату. Солдаты расположились в лесах и полях. К чему они готовились, знали только офицеры. Начала операции ждали со дня на день.
После ухода бургомистра мы провели день как обычно, в уже привычном молчании, занимаясь повседневными делами, каких требовало любое хозяйство вроде нашего — или Сарело. Отец даже принялся красить забор зеленой краской. Он часто отходил на несколько шагов и оценивал свою работу. Но на самом деле ни он, ни я не могли скрыть тревоги.
Вечером мы доели остатки кукурузной каши и уже собирались лечь спать, как вдруг на улице поднялся ужасный шум. Кто-то громко отдавал команды и ломился в ворота. Собаки залаяли все разом, словно торопясь возвестить катастрофу, о которой они не предупредили. Послышались первые вопли, одни — далеко, где-то на окраине деревни, другие — на соседних улицах. Очень скоро мы услышали тяжелые шаги и громкие голоса совсем близко.
— Это опять русские? — спросил я.
— Я думаю, на этот раз — румыны, — ответил отец.
Раздался стук в наши ворота. В доме свет не включали, Сарело с женой притворились мертвыми, как и мы. Наконец ворота взломали, и послышался глухой топот солдатских сапог. Прежде чем зажечь лампу, отец прошептал:
— Прячься.
— И не подумаю. Хватит с меня.
Шаги приближались, пересекая двор, долго искать солдатам не пришлось, они научились находить сразу. В дверь уже не стучали, двое солдат просто выбили ее, как и ворота. Они отступили, и в людскую вошел офицер — не кто иной, как лейтенант, вручавший пропуска. Еще один загородил выход. В прошлый раз он сидел за рулем, но теперь у него на плече был автомат. Одной рукой военный придерживал ствол, а другой — спокойно поднес к губам сигарету, как будто пришел на праздник и присматривает себе женскую компанию.
— Это вы, — сказал отец.
— Не понимаю, о чем вы, — сказал лейтенант.
Он сел, вынул из кобуры пистолет и положил его на стол. Затем расстегнул китель и вытащил из внутреннего кармана два листка.
— Моя фамилия Бадер, лейтенант службы госбезопасности. А это — майор Унгуряну…
— Значит, вы один из нас. Немец, — перебил его отец.
— Не перебивай меня, старик! — огрызнулся лейтенант. — Я не немец, я коммунист. Кто из вас Якоб Обертин?
— Через «с» или через «k»? — уточнил я.
— Через «с».
— Я.
Лейтенант встал, одернул китель и прочитал первый листок:
— «Во исполнение постановления Центрального комитета Румынской рабочей партии депортации подлежат все лица, представляющие угрозу национальной безопасности и являющиеся врагами народа, согласно определению социалистического учения. В том числе бывшие чиновники и офицеры прежнего режима, граждане иностранных государств и сербы, склонные к поддержке режима Тито в Югославии, бывшие солдаты и офицеры СС, представители немецкого нацменьшинства (так называемые швабы), сотрудничавшие с нацистской Германией, бывшие промышленники, крупные землевладельцы, кулаки и иные лица, подрывающие нормы социалистической морали в нашем государстве». Якоб Обертин, вам надлежит подготовиться к депортации.
— Это из-за Сибири? — спросил я.
— Вы сами все слышали. Ваша Сибирь тут ни при чем. Вас депортируют, товарищ, как и многих других врагов народа.
Снова вмешался отец:
— Товарищ лейтенант, мое имя тоже Якоб, только через «k». Можно меня депортировать вместе с сыном? Одному мне здесь делать нечего. Странно, что в вашем списке нет меня, ведь я куда больше враг народа, чем мой сын.
Офицер внимательно просмотрел список имен на другом листке.
— Якоба через «k» бургомистр вычеркнул в последний момент.
Отец схватил его за рукав:
— Пожалуйста, господин лейтенант. Вы же можете вписать его обратно. Вы можете сказать, что вы не знали точно, кого из нас забирать, и взяли обоих, чтобы уж наверняка. Вы ведь можете так сказать, правда?
Офицер посмотрел на отцовскую руку и сказал тоном, не терпящим возражений:
— Если вы сейчас же не уберете руку, я вас расстреляю!
На мгновение отец снова стал прежним — человеком, который даже в таком положении хотел добиться того, что считал правильным. Но все же он повиновался.
— И не смейте указывать мне, что я могу и чего не могу! — добавил офицер и провел большим пальцем по ухоженным светлым усам.
— Да пускай вместе подыхают, товарищ лейтенант, — предложил майор.
Лейтенант нервно расхаживал по комнате, раздумывая, как поступить, и вдруг остановился:
— Черт вас разберет, Обертины. Ладно, если так уж хотите.
Он положил листок на стол, достал карандаш, вписал имя отца рядом с зачеркнутым и, перед тем как выйти, сказал:
— У вас два часа времени, чтобы собрать все, что сможете сами нести к поездам или везти на телеге. Составы ждут на станции, как и в прошлый раз. Только теперь у вас билеты на восток.
Лейтенант самодовольно подмигнул нам и отдал солдатам приказ стрелять на поражение, если мы вздумаем убежать. Вместе с майором они растворились в ночи, чтобы продолжить выполнение задачи в другом доме так же четко, как у нас. Мы запрягли в телегу двух наших последних коров и погрузили два шкафа, стол, стулья и кровать. Потом запихали в шкафы ботинки, сапоги, одежду, посуду и инструменты. Появился Сарело. С трудом сдерживая волнение, — еще бы, ведь он избавлялся от нас без особых хлопот, — он принес нам ковер и матрас. От него же мы получили лопату и несколько мешков семян.
То и дело гремели выстрелы. Село было окружено плотным оцеплением, как сказал солдат, присоединившийся к нашим охранникам. Многие пытались убежать по полю, но их поймали, других находили в стогах сена и кукурузных кучах.
Одна женщина спряталась с дочерью в чулане, их обнаружили сидящими на мешках с зерном, утаенным от народа. Какая-то сумасшедшая старуха — так назвал ее солдат — сиганула в бочку с дождевой водой и чуть не захлебнулась, ее вытащили и избили до полусмерти. Служивый рассказывал обо всем этом так увлеченно, словно делился какими-то новостями и тем самым вносил некоторое разнообразие в монотонные казарменные будни. Точно так же он мог бы рассказывать о мимолетном романе с девушкой во время увольнения.
Мы выкатили телегу на улицу, где уже стояло много людей, готовых к отъезду. Кто-то плакал и причитал, кто-то робко просил о чем-то или пытался в последнем порыве гордости вытребовать себе побольше. Никто не протестовал против несправедливой депортации, возмущались только тому, что им не хватило места или времени.
Некоторые взяли с собой даже плуги, коров и лошадей. Мы оказались в одном вагоне для скота вместе с семьей коренных румын. Отчаявшийся отец семейства не был ни политически активным, ни богатым и, по его заверению, всегда исправно выполнял нормы. Он не понимал, как он здесь оказался. Ему было ясно, почему это коснулось нас — немцев, но при чем тут он и его семья? Он сокрушался, сидя рядом с молчаливой женой и мальчуганом, который с испуганным лицом жался к матери. Румын хотел взять с собой свою тощую лошаденку, но та выпала из вагона и так покалечилась, что майор пристрелил ее на месте.
В вагон залезла молодая венгерская пара, которую я никогда раньше не видел, потому что они жили на отшибе. С собой они взяли двух коров и мебель, которую купили совсем недавно на деньги, подаренные к свадьбе. Молодожены так мечтательно смотрели друг другу в глаза, словно отправлялись в свадебное путешествие. Мужичонку в лохмотьях, приехавшего к поезду на сломанной телеге со скудными пожитками, лейтенант отослал домой. «Если этот — враг народа, я сожру свою фуражку!» — крикнул он майору. Молодой офицер явно упивался своей властью.
Атмосфера была жуткая: в полосе света фар время от времени появлялись фигуры, а потом опять исчезали в темноте. Разглядеть, что там происходит, было невозможно, но это повторялось снова и снова. На полустанок продолжали прибывать покорившиеся судьбе люди, их отводили к вагонам, где еще оставалось свободное место.
Какое-то время я думал о побеге. Представлял, как вернусь на костяную гору и продолжу свою работу. Я искал трещину или дырку в полу вагона, высовывался в дверь, проверяя, есть ли возможность незаметно спрыгнуть. Но теперь вагоны были новые, а по обеим сторонам состава стояли солдаты. Наконец я уселся рядом с отцом, который наблюдал за мной все это время и как будто радовался, что на этот раз сбежать мне не удастся. Но как-то устало.
Постепенно, очень медленно, все затихло, и в деревне, и в поездах, только мычали коровы, иногда ржала какая-нибудь лошадь. Позабытый петух лениво прокукарекал, чтобы напомнить о себе или возвестить новый день, в наступление которого только он и верил. Один солдат просунул нам сигареты, другой — бутылку воды. Когда забрезжил рассвет, двери вагонов закрыли и заперли.
— Неужели это никогда не кончится? — спросил я отца.
— Боюсь, что нет.
* * *
Когда я вспоминаю этот поезд, то первым делом в памяти всплывают запахи. Запах горячего дегтя, исходивший от шпал под палящим солнцем. Запах грязи и пота, коровьего дерьма, что шлепалось нам под ноги. Запах мочи из старого ведра — поезд останавливался редко и только для того, чтобы скотина не околела от жажды, тогда мы выводили животных на водопой к какой-нибудь почти пересохшей речушке.
Для этого мы разобрали один из шкафов молодоженов и смастерили мостки, чтобы коровы могли выйти из вагона. Единственным нашим удовольствием было парное молоко, которым буренки терпеливо и покорно одаривали нас каждое утро перед рассветом. Кувшин молча передавали по кругу.
Пока поезд ехал через Банат, мы часто видели людей, остановившихся в чистом поле: маленькие группки пытались спрятаться от солнца в тени повозок, большие толпы походили на народные гуляния или ярмарки. Однако неподалеку от них стояли солдаты охранения, тоже изнывающие от жары. Это была единственная справедливость из всего, что с нами происходило. Все, кто стоял в поле, — и охраняемые, и охранники, — ждали спасения от мук — поезда, который увезет их.
На вспаханных полях, на склонах холмов, в высокой траве стояли люди со шкафами, буфетами и сундуками, набитыми нижним бельем, заштопанными штанами и потертыми свитерами. Одна женщина положила своего младенца в открытый ящик и развесила на ветвях деревьев мокрые пеленки и белье. Потому что даже там, под открытым небом, она хотела остаться порядочной домохозяйкой. Весь склон был увешан бельем, казалось, будто на холме вырос парус. Какой-то мужчина сидел в кресле посреди речки и остужал ноги в воде. На коленях у него лежала шляпа, дамская, — быть может, последняя память о жене.
Мы смотрели на них через маленькие оконца и удивлялись. Между тем в вагоне появилось много новых пассажиров, а на станциях, где мы останавливались, было настоящее столпотворение людей и животных. Если Вавилонская башня когда-то и существовала на самом деле, то она была здесь — на каком-нибудь захолустном полустанке, куда сгоняли, как скотину, румын венгерского, сербского, болгарского и немецкого происхождения.
К нам присоединился одноглазый румын с женой, глаз он потерял на войне. Ветеран войны и орденоносец, он думал, что ему ничто не грозит, однако журналистское прошлое настигло его. Был в вагоне и еще один румын — армейский офицер и идейный член партии, он как раз навещал свою невесту, богатую швабку, когда к ним постучались.
Румын из Бессарабии, с заметным акцентом, оплакивал свою семью, которую не видел с 1940 года, когда их разлучила война. Он был хорошим ремесленником, жил тихо и теперь никак не мог поверить, что беда случилась с ним только из-за его происхождения. Все они пытались как-то объяснить себе, почему оказались здесь, только я давно перестал об этом думать.
Мы ехали уже неделю, возможность выйти из вагона и справить нужду выпадала редко. Обычно выручало ведро, но, поскольку дверь вагона не открывалась с прошедшего дня, оно стояло полное и ужасно воняло. Отца мучили спазмы, лицо налилось кровью, он терпел из последних сил. Он отполз в угол и, когда я отыскал его взглядом, корчился, лежа на полу.
Я достал нож и стал лихорадочно осматривать дощатый пол вагона в поисках щели, нашел и принялся за работу. Через четверть часа я достаточно расширил щель, чтобы использовать ее по назначению. Затем помог отцу подняться и поддерживал его. Когда он собрался спустить штаны, я заметил любопытные и брезгливые взгляды соседей и шепнул ему: «Погоди еще секунду». Я достал одеяло, развернул его и загородил отца. «Теперь можно. Никто тебя не видит». И он присел.
Иногда, когда наш состав останавливался на станции, пассажиры других поездов и люди на перроне крестились, увидев, что за товар везут в этом товарняке. Они сразу снимали шапки, но крестом осеняли себя, только убедившись, что поблизости нет никого, кто может и их засунуть в такой же вагон. Те, кто посмелее, бежали домой и приносили нам черный хлеб, повидло или воду. Солдаты легко поддавались на уговоры и ненадолго отворачивались, ровно на столько времени, сколько было нужно, чтобы передать сверток.
Однажды поезд остановился так внезапно и резко, что мы повалились друг на друга, а из одного шкафа вывалилась и побилась посуда. «Разве это не к счастью?» — сказал кто-то, но никто не обратил внимания на эти слова. Мы поспешили к окошкам, однако не увидели ничего, кроме поля подсолнечника и красного дивана, на котором сидели мужчина в темных очках и женщина с вывернутыми ступнями.
— К нам они не идут, — заметил кто-то.
— Но, может, мы к ним пойдем, — ответил я, увидев, что к нашему вагону приближаются солдаты.
Дверь со скрипом отодвинулась, и мы прикрыли глаза руками, ослепленные ярким светом.
— Приехали, всем выйти! — приказал голос снаружи.
— Мы уже в Сибири? — спросил кто-то.
— Если б ты был в Сибири, понимал бы ты, что я говорю? Идиот! — прозвучало в ответ. — У вас пятнадцать минут, чтобы все вытащить и погрузить на подводы, которые ждут вас. Всё, что через четверть часа не будет снаружи, останется внутри. Нам еще десять километров пешком идти, а я хочу вернуться до темноты, так что поторапливайтесь.
Мы успели за десять минут. С разгрузкой нам помогли местные крестьяне, поджидавшие нас. Земля была сухая и твердая, дождей она не видела уже давно, и на небе — ни облачка, которое сулило бы прохладу. Вокруг нас вились мириады мошек, залетая в глаза и носы людям и животным.
— Когда стемнеет, будет еще хуже! — крикнул сержант. — Вы не в Сибири. Вы все еще в Румынии, но в таком гиблом месте, что скоро пожалеете, что узнали о его существовании.
В сопровождении десятка солдат он шагал сквозь наши ряды, как на параде. Десяти солдат хватило на несколько сотен человек, как одного пастуха хватает, чтобы гнать стадо коров. Конвоиры были готовы вести стадо на скотобойню и вообще, куда бы сержант ни приказал. Наконец он сел на коня и дал команду выдвигаться. Колонной по двое мы потянулись мимо слепого мужчины и хромой женщины на красном диване, которые совершенно никак не реагировали на нас. Возможно, они уже смирились со смертью.
— Никто не хотел брать их с собой, — шепнул нам один солдат. — Их высадили здесь и забыли.
Лишь через несколько часов мы добрались до места назначения — уже убранного пшеничного поля. Над нами непрестанно каркало воронье, и впервые в жизни моя жажда превзошла мой голод.
— Стой! — скомандовал сержант и спешился, а мы устало повалились на землю. — Вот здесь ваша деревня!
— Где «здесь»? — спросил я.
— Парень, ты что, не видишь эти роскошные дома, цветущие фруктовые сады, тучные огороды? Я вижу.
Эту фразу он произнес так складно, будто бы отрепетировал ее на других переселенцах. Положив руку мне на плечо, он подвел меня ближе к полю. Только тогда я увидел, что оно все расчерчено белой краской. Целое поле в клетку. Размеченных прямоугольных участков было под сотню, и все пронумерованы. На углу каждого прямоугольника из земли торчал колышек, к которому был прикреплен листок с номером. Внутри каждой клетки лежало по стеклу и деревянной панели.
— Партия выделила каждой семье земельный участок, в придачу одно стекло для окна и одну панель для двери, — объявил сержант. — Я советую вам поскорее начать строить дома. Ради вашего же блага. Осенью здесь часто бывают бури и без конца льет дождь. Если вы не построите дома, а выроете землянки, то просто захлебнетесь в них. Но это еще не самое страшное. Зимой будет еще хуже. Из Сибири сюда только дуют ветры. Навалит столько снега, что вы не сможете выйти из дому. Так, теперь я буду называть фамилии по списку, а глава семьи пусть выходит вперед и получает номер отведенного ему участка.
Через какое-то время сержант дошел до буквы «О», тогда я вышел вперед, и он сказал мне номер.
— Где-нибудь поблизости есть питьевая вода? — спросил я.
— Двадцать метров в глубину или вон в тех бочках. Мы вчера их сюда привезли для вас. Но лично я оттуда не пил бы, в воде полно червей. А то через пару недель все помрете тут от тифа.
Когда сержант и солдаты ушли, мы разошлись по всему полю, каждый к своему прямоугольнику. Я поставил наши два шкафа параллельно один перед другим и расстелил поверх них ковер вместо крыши. Перевернул стол так, что теперь мы были защищены с трех сторон и от ветра, и от посторонних взглядов. В образовавшемся маленьком ограниченном пространстве я поставил оба стула и предложил отцу сесть, потом сел и сам. Мы открыли по одной дверце каждого шкафа, и получился крошечный, но отгороженный от внешнего мира клочок земли, принадлежавший только нам одним, если нам еще хоть что-то могло принадлежать.
— На ночь будем класть матрас на землю, а днем хватит и стульев, — объяснил я отцу.
— Что нам тут делать? Это же край света, — сказал он.
Я рассмеялся так, как еще никогда в жизни не смеялся, разве что при втором рождении, когда Рамина показала меня отцу. Я продолжал смеяться, когда опустилась ночь и соседи стали готовиться ко сну. Мы расстелили матрас, разделись, а я все еще смеялся. Остановился я, только когда мы улеглись рядом в нашем — да, хоть это было ясно: в нашем — прямоугольнике.
— Я построю нам дом на краю света.
Благодарности
Автор благодарит за поддержку федеральную землю Шлезвиг-Гольштейн, города Эрфурт и Баден-Баден, а также Берлинский литературный коллоквиум и Фонд им. Роберта Боша.
Переводчик благодарит за финансовую поддержку Швейцарский совет по культуре «Про Гельвеция»; за полезную критику перевода и бесценный опыт — Ирину Сергеевну Алексееву, Татьяну Александровну Баскакову, Марию Владимировну Зоркую, Михаила Львовича Рудницкого, Роземари Титце, а также всех участников и организаторов переводческих семинаров при Гёте-Институте в Москве в 2012–2013 гг.
Примечания
1
Темешвар (Тимишоара) — крупный город на западе Румынии, исторический центр области Банат. В Средние века принадлежал Венгрии, в 1552–1716 гг. — Османской империи, до 1918 г. — Австро-Венгрии. С 1919 г. — в составе Румынии. — Здесь и далее примеч. перев.
(обратно)2
Трибсветтер (Triebswetter) — от нем. trübes Wetter — «пасмурная погода». Немецкое название деревни Томнатич в 50 км к северо-западу от Темешвара. В четвертой главе рассказывается история названия.
(обратно)3
Марош (Муреш) — река в Румынии и Венгрии, левый приток Тисы.
(обратно)4
Бокшан (Бокша) — небольшой румынский город в предгорье карпатского массива Пояна-Рускэ, в 60 км к юго-востоку от Тимишоары. Якоб прошел пешком больше 110 км.
(обратно)5
Чардаш — венгерский народный танец, популярный в Австро-Венгрии.
(обратно)6
Сарыч (канюк обыкновенный) — хищная птица из семейства ястребиных.
(обратно)7
Церковь Миллениум — самая большая римско-католическая церковь в Тимишоаре, построена в 1896–1901 гг., названа в честь тысячелетия Венгерского королевства.
(обратно)8
Речь идет о Тридцатилетней войне (1618–1648).
(обратно)9
Густав II Адольф (1594–1632) — король Швеции с 1611 г., выдающийся полководец и реформатор армии, один из самых образованных монархов своего времени, был прозван Снежный король и Лев Севера. Погиб в битве при Лютцене.
(обратно)10
Феррет — французская деревня и замок на юге области Эльзас, у швейцарской границы. Путь в 150 км от Агно до Феррета проходит вдоль Рейна через весь Эльзас.
(обратно)11
Заум (ом, аам, зом) — старинная единица измерения объема жидкостей, применявшаяся в Центральной и Северной Европе и в Прибалтике. 1 заум равен 134–175 л.
(обратно)12
Так назвал Гитлера после успешной Французской кампании начальник штаба Верховного главнокомандования вермахта Вильгельм Кейтель (впоследствии подписавший акт о капитуляции Германии). Сокращение Велповр (нем. GröFaZ от Größter Feldherr aller Zeiten) стало ироничным прозвищем Гитлера после Сталинградской битвы. В нем также обыгрывается склонность национал-социалистов к сокращениям.
(обратно)13
«Сигнал» — цветной глянцевый журнал, подведомственный вермахту, средство нацистской пропаганды на оккупированных, союзных и вражеских территориях (но не в самой Германии), издавался в 1940–1945 гг. на 15 языках, в том числе на русском и английском; «Поллерпайч» — еженедельная газета дунайских швабов на банатском диалекте немецкого языка, издавалась в 1928–1929 гг. и 1935–1945 гг. тиражом до 10 тысяч экземпляров. Название означает хлыст, которым щелкали пастухи, подавая крестьянам сигнал выгонять скотину утром и загонять вечером.
(обратно)14
«Знамена ввысь» — «Песня Хорста Весселя», марш СА, в 1930–1945 гг. гимн НСДАП, с 1940 г. обязательно исполнялся сразу после национального гимна Германии.
(обратно)15
«Моя честь — верность» — девиз СС. Эсэсовцы клялись в верности лично Адольфу Гитлеру.
(обратно)16
Перевод Ю. Л. Нестеренко.
(обратно)17
«Счастливый конец» (англ.).
(обратно)18
С. N. R. (Centrul national de rominizare) — Национальный центр румынизации (рум.).
(обратно)19
Фонд зимней помощи (немецкого народа) — общественный фонд в нацистской Германии, призванный содействовать государству в оказании помощи безработным и бедноте.
(обратно)20
Бакова — село в 30 км к юго-востоку от Темешвара, где с XIX в. до 1945 г. производилось несколько сортов вин. Население Баковы было преимущественно немецким.
(обратно)21
Франция участвовала в Семилетней войне (1756–1763), военные действия велись как в Европе, так и в Северной Америке.
(обратно)22
Регенсбург в 170 км от Ульма, ниже по течению Дуная, был местом заседания рейхстага Священной Римской империи германской нации и последним крупным городом Баварии на этой реке до границы Австрийской монархии. Энгельхартсцель — приграничная австрийская деревня на Дунае, после которой река расходится с границей и течет в глубь страны.
(обратно)23
В мае 1189 г. император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса действительно перешел через Дунай по Каменному мосту Регенсбурга, выступая в Третий Крестовый поход, в котором он и погиб.
(обратно)24
Йох (югер) — старинная единица площади, равная 25–58 ар; применялась в Европе со времен Древнего Рима. Один австрийский йох равен 57,55 ара.
(обратно)25
Удары палкой по пяткам, подошвам, ногам и спине. Это наказание широко применялось в Средневековье в странах Востока.
(обратно)26
Подвиг (нем.).
(обратно)

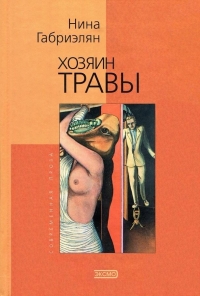








Комментарии к книге «Якоб решает любить », Каталин Дориан Флореску
Всего 0 комментариев