Даниэль Кельман
Даниэль Кельман — австрийский писатель, один из самых известных немецкоязычных авторов «новой волны».
Призрачная, дразнящая воображение загадка.
FocusНастоящее интеллектуальное развлечение…
Frankfurter Neue PresseПоследний предел
А он уже не дышал, он ушел, — в какие сны — неизвестно.
Владимир Набоков. Катастрофа Daniel Kehlmann. DER FERNSTE ORT Copyright © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 2001 Перевод А. КацурыI
— Будьте осторожны. — Портье с любопытством посмотрел на Юлиана. — Один вот утонул в прошлом году. Просто не вернулся в отель. Не сразу заметно, но, знаете ли, течения…
— Да-да, не беспокойтесь, — ответил Юлиан.
— Так и не нашли.
Юлиан рассеянно кивнул и перекинул полотенце через руку. Дверь с шумом завертелась, выпустив его на свободу. Солнце клонилось к закату. Мимо прошмыгнул скрюченный человек в соломенной шляпе; откормленный мальчуган, прицелившись, запустил обеими руками мяч в пальму, но промахнулся и теперь беспомощно глядел, как тот катился вниз по склону. Юлиан, крепко сжимая полотенце, направился по тропинке, завивавшейся широким серпантином. При мысли о том, что в середине октября где-то еще стояла такая теплынь, становилось не по себе.
До призрачных холмов на горизонте тянулось светлое и спокойное озеро, над водой вяло парила одинокая чайка. Некоторое время Юлиан как зачарованный смотрел вниз и не шевелился. Конференции страховых агентов нечасто случаются в таких краях. Как правило, для них выбирают провинциальные городишки или размытые дождями деревни; ничего хорошего от этих поездок ждать не следует.
Но главное — он до сих пор не имел ни малейшего понятия, о чем будет говорить через два часа, когда дойдет очередь до его доклада «Использование техники при расчетах с повышенным фактором риска». Эти самые расчеты он представлял себе весьма приблизительно, в электронных средствах информации вообще ничего не смыслил и был совершенно не подготовлен.
Выкроить время до отъезда, разумеется, не удалось — имелись дела поважнее: непросмотренные бланки, зависавший компьютер, переговоры с кредитным отделом банка. Да тут еще переменчивое настроение Вельнера, его начальника, с которым волей-неволей приходилось считаться. Юлиан решил заняться докладом в самолете. Но весь полет просидел в мечтах, то и дело прикладываясь к красному и пытаясь разглядеть через плечо соседа вершины гор и плывущие по земле тени облаков. От алкоголя его с непривычки разморило, и он отложил работу на вечер, сразу же после ужина. Однако ужин затянулся, битых два с половиной часа вокруг Юлиана мелькали бледные лица коллег, очки, волосы, посыпанные перхотью, и донельзя пестрые галстуки. Сидевшая рядом женщина без умолку болтала о правилах игры в гольф, о свободном ударе от третьей лунки, о гандикапе и о том, как однажды ей посчастливилось одним ударом загнать мяч в цель. И каждая его попытка сменить тему заканчивалась ничем. После ужина Юлиан с трудом добрался до кровати у себя в номере, глаза впервые за долгое время слипались против воли, и через несколько секунд он уже спал глубоким непробудным сном. Утром их приветствовал устроитель конференции, речь которого постоянно прерывалась из-за приступов сухого кашля, потом настало время обеда, и вот сейчас он вообще-то мог бы… Сейчас! Юлиан еще крепче вцепился в полотенце и замотал головой. Вельнер взял его с собой, что было знаком особого расположения. Если они опозорятся, ему этого никогда не простят.
Юлиан в нерешительности повернулся к отелю с его портьерами, балконами и старомодными навесами. Потом покосился на озеро. Завтра, в воскресенье, обещали дождь, а послезавтра уже уезжать. Это последний шанс.
Толстопуз, тяжело шлепая ногами, перебежал дорогу и наклонился за сдувшимся мячом. Повсюду валялись окурки, из-под земли черными венами выступали корни платана, в траве мелькнула ящерица. Юлиан вдохнул запах водорослей. И вспомнил об Италии. Вдохнул еще раз: Италия. Поправил очки и стал ждать. Новых ощущений.
Но для начала постарался забыть о человеке из кредитного отдела и о своих долгах в банке, о Вельнере, о нелюбимой работе и о словах Андреа, попросившей больше ей не звонить. Он вытер пот с лица. В эту минуту раздался приглушенный звук и к его ногам подкатился пятнистый и плохо надутый мяч. Юлиан посмотрел на мальчика — тот, понуро опустив плечи, стоял чуть ниже на склоне. Потом на мяч. И двинулся дальше.
Гравий скрипел под ботинками. Доклад. Все уставятся на него, Юлиана, а он краем глаза будет поглядывать на лысину Вельнера, на его нахмуренный от нетерпения лоб, потом наберет воздуха и замрет в ожидании чуда, но чуда не произойдет, молчание затянется, и он, почти поверив, что все уже позади, вдруг осознает жестокую реальность, которая пока еще не стала воспоминанием и по-прежнему длилась, сосредоточившись в одном мгновении… Юлиан замер на месте. Дорога заканчивалась глинистой площадкой возле берега.
Кругом ни одной живой души. На земле валялись грязное полотенце, расплющенная банка и недокуренные сигареты. На воде, примерно в двадцати метрах, поднимался и опускался буек. Волны лениво приближались к берегу, откатывались назад, возвращались и снова откатывались. Юлиан задумался. Потом начал раздеваться.
Подул ветер, и холодок коснулся его спины; Юлиан инстинктивно съежился. Увидел свое бледное тело и застеснялся, но, вспомнив, что рядом никого нет, с облегчением вздохнул. Сердце бешено колотилось; несколько секунд он стоял совсем голый, в полной уверенности, что кто-то обязательно сейчас явится и вылупится на него, потом мигом натянул плавки. Страхи были напрасны, никто, разумеется, не появился. Юлиан тщательно сложил одежду и снял очки.
Всегда, когда он вдруг оказывался без очков, легкая дрожь пробегала по миру, свойственная ему четкость пропадала в тумане красок и смазанных движений. А может, лучше вернуться? Еще оставалось немного времени, чтобы накропать пару тезисов — новейшие СМИ, неоценимое значение, в ногу со временем, различные способы калькуляции, возрастающая роль виртуальной реальности, возникновение качественно новых отраслей экономики, ну и дальше в подобном духе. Наверняка не избежать заиканий, наверняка придется несколько раз начинать с начала; Вельнер, ясное дело, обидится, но это же лучше, чем ничего! Юлиан положил очки на рубашку и, помучившись с невидимыми шнурками, снял ботинки. Потом спрятал ключ от номера глубоко в правый башмак.
Идти босиком по вязкому песку было трудно. Он почувствовал укол в пятку, взмахнул руками, стараясь удержать равновесие. Подумал, как же он, наверное, смешон. Тощий и бледный, смущенный собственной наготой и к тому же слепой как курица. Снова вспомнился Вельнер, вспомнился служащий из банка и хриплый голос Андреа по телефону. Юлиан решительно шагнул вперед, холодная вода добралась до щиколоток, потом коснулась икр, колен и — Юлиан задержал дыхание — всего тела. Он опустился на колени, вытянул руки, оттолкнулся.
И его понесло вперед. Важно не намочить волосы, подумалось ему ни с того ни с сего. Он плыл спокойно и уверенно, стараясь держать голову прямо; вскоре холодная вода сделалась терпимой. И вдруг он чуть не расхохотался, охваченный беспричинным весельем, бессмысленным и таким безудержным, что справиться с ним казалось совершенно невозможно. Вода вокруг становилась темнее и холоднее. Но это уже не имело значения: Юлиан привык. Берег был теперь совсем далеко. Хотя надеяться на зрение не приходилось — глаза могли подвести. А там, разве там не буек покачивался?
Юлиан перевернулся на спину.
Тенью пролетела птица, медленно взмахивая крыльями. Солнце ярко светило; Юлиан закрыл глаза. Послезавтра они возвращаются домой, где вовсю заправляла дождливая осень; на следующей неделе обещали даже первый снег, в это верилось с трудом. Он пошевелил ногами, почувствовал, как лежат на воде руки, как мягкая сила, поддерживавшая его…
О, Господи!.. Юлиан протер глаза и огляделся по сторонам. Что его так напугало? Берег, нигде не видно берега, наверное, он незаметно заплыл на самую середину озера; как же его угораздило?.. Сколько прошло времени? Юлиан хотел посмотреть на часы, но вспомнил, что те остались в гостинице. Поразмыслив несколько секунд, он прищурился и поплыл вперед. Теперь солнце скатилось еще ниже и сверкало еще ярче; он не мог сообразить, как долго находился в воде.
Берег не приближался. Плечи и руки болели, дыхание сопровождалось свистом. За холмами торчала острая вершина горы, которую он только сейчас впервые заметил; Юлиан зажмурился, и гора исчезла. Боль в руках постепенно усиливалась. Главное — плыть медленно, иначе начнутся судороги и все плохо кончится, так написано в книжках. Юлиан убрал волосы с лица. Прислушался к тяжелому дыханию. Вдруг кто-то погладил его по ноге.
Холодное течение. Юлиан сбился с темпа, и вода накрыла его с головой, дыхание участилось. Он греб изо всех сил, но что-то крепко его держало. Берег не приближался. Он отчаянно работал руками, хотел набрать воздуха, но захлебнулся, откашлялся, сплюнул. Снова почувствовал на ногах цепкую хватку, вскинул руки — и тут все стихло, потом шумы вернулись, и снова настала тишина. Юлиан понял, что идет ко дну.
Лучи света копьями вонзались в глубину. Зеленоватый блеск тонул во мраке. Мимо проплыла рыба. Потом дерево, еще с ветвями, но уже наполовину сгнившее и обтянутое тонкими волокнами.
Рывок — и Юлиан снова оказался на поверхности. Жадно глотнул воздуха, откашлялся, фыркнул и вдруг ясно осознал: сейчас, в эти секунды, все решается. И наконец ощутил приближение берега. Он пока справлялся с дыханием.
Мимо вихрем пронесся клубок непонятных пятен, может рыб или листьев, прямые лучи света, железный ящик, холодильник с открытой дверцей, изъеденной ржавчиной. Борьба продолжалась. Юлиан бешено заработал ногами, словно отбивался от более сильного противника; где-то высоко блестела поверхность озера. Юлиан барахтался, уже не зная, опускается он или поднимается, глотал воду, сердце так и норовило выскочить из груди. И наконец он вынырнул, расправил над водой руки — и вдруг опомнился: он заплыл на другую сторону. Почувствовал нежное и приятное прикосновение — речные водоросли обвили его шею, он хотел стряхнуть их, разорвать, хотел закричать, но не мог, и тут все разом обрушилось с ног на голову: вывернутые и отраженные в воде очертания гор нависли над небом, и Юлиан стал подниматься — навстречу траве и гниющему дереву, длинным вьющимся стеблям и холодильнику; стая рыб резко вильнула и поменяла направление. Тело онемело…
Но потом все прошло.
Его что-то спрашивали, он отвечал. Он пробирался по сложному лабиринту зеркал, и в каждом отражалось его лицо. Вокруг колыхались сочные и бурно разросшиеся растения, раньше никогда не виданные. Язык, на котором задавались вопросы, казался ему знакомым, но непереводимым, как музыка или чистая, без всяких примесей мысль. Юлиан хотел ответить, но не понял своих слов и начал сначала. И вдруг его осенила догадка.
Он открыл глаза. Муравей поглядывал на травинку, на кончике которой блестела капля воды. Потом вскарабкался наверх, под его тяжестью стебелек наклонился — порыв ветра — и качнулся обратно. В капле, если присмотреться, отражалось круглое солнце. Пчела взлетела с цветка; между травинками виднелось синее небо. Послышалось жужжание, неестественно громкое: пчела прошмыгнула рядом с ухом, потом приземлилась, поблекла и растворилась в воздухе. Вдруг Юлиана затошнило.
Спазмы подкрадывались волнами, всякий раз заставляя его содрогаться. Он решил встать, но голова сильно кружилась, и он снова повалился на землю. Ватные колени подкашивались, и прошло немало времени, прежде чем ему удалось подняться на ноги. Там, на другой стороне — без очков разве увидишь, — находилась гостиница, чуть правее… — место, где он вошел в воду. Он помнил, как течение понесло его вниз, как боролся, а потом перестал и как неожиданно выплыли картинки, сохранившиеся в памяти фрагменты, но фрагменты чего — не мог сообразить. Полупустое кафе, потом зала, набитая танцующими людьми, вагон ночного поезда, метель и полоска моря на горизонте. Но как он выбрался на берег?
Голова раскалывалась. Дыхание было прерывистым, грудь сдавлена. Травинки пригибались к земле, в воздухе плясали комары — все как во сне. Руки и колени дрожали, камни врезались в ступни. Зато одежда по-прежнему лежала там, где он предполагал. Юлиан наклонился, опять почувствовал головокружение. Подождал, пока все пройдет. Нащупал очки и надел.
Первым, что попалось ему на глаза, оказались окурки, жестяная банка и два полотенца: его и чужое, пропитанные глинистой влагой. Холмы на противоположном берегу выступали теперь яснее, хотя и отодвинулись вдаль — похоже, озеро стало шире. Рука потянулась за рубашкой, и в эту самую секунду его словно громом поразило. Доклад, он пропустил свой доклад. Ему не простят, да и кто поверит, что он чуть было не утонул, ведь нет ни одного свидетеля; их убедит только смерть. Скрыться и никогда не возвращаться, как тот человек в прошлом году. Не первый же случай…
Юлиан застыл на месте.
Озноб пробирал его до костей. Он не шевелился и ясно ощущал, как уходит время, видел, как плывут по небу облака, как меняется цвет озера и садится солнце. Он задержал дыхание. Медленно отвел руку от рубашки.
Он выпрямился, скрестив на груди руки и стуча зубами от холода. По-прежнему никто не появлялся; следовало поторопиться — если решаться, то сейчас. Сейчас или никогда. Сейчас!
Но он продолжал стоять. Нет, это невозможно! Об этом только мечтают, дни напролет и бессонными ночами, но сделать на самом деле?! Он снял очки и положил обратно на рубашку. Взял ботинок и вытащил ключ от номера. Потом кинулся вверх по тропинке.
Он бежал к отелю, босиком, слегка пошатываясь. Левая ступня зудела, наверное напоролась на осколок стекла. Юлиан остановился и ощупал ногу, но крови не было. Он пустился дальше. От бега тело его постепенно согревалось. Юлиан прищурился и, стараясь не заплутать, изо всех сил всматривался в дорогу. Туман застлал мир — такое случалось только при высокой температуре, да еще однажды в школе, когда кто-то (так и не выяснилось кто) спрятал его очки; вдруг руки машинально вытянулись вперед, но он не упал, что-то вывело его обратно на тропинку. Он чуть не закричал от боли, наткнувшись на футбольный мяч, который покатился вниз по склону, показался раз, другой, в последний раз, потом раздался всплеск, и все стихло. Внутренний голос по-прежнему уговаривал его остановиться: еще не поздно, еще не поздно, остановись, все равно ничего не получится!
Вот и отель. Он на ощупь продвигался вдоль наклонной стены, приближаясь к черному ходу. Вряд ли кто-то попадется навстречу, вероятность очень мала: сезон уже закончился, отдыхающих и след простыл, здесь жили только участники конгресса, которые все сейчас находились в большом зале, рисовали человечков, спали с открытыми глазами, поправляли очки и думали о своем, а может, вообще ни о чем не думали. Служащие отеля готовили ужин. Юлиан отыскал дверь. Рванул ее и очутился в узком коридоре, где пахло аммиаком и канализацией.
Теперь все зависело от того, удастся ли незамеченным проникнуть в номер. Сердце сильно колотилось; он еще не обсох. И теперь ступал босиком по полу, холодному и грязному, стояла невыносимая вонь. Наконец показался вход на лестницу. Юлиан зашарил в поисках выключателя, но, не найдя, решил подниматься в темноте. Со второго этажа доносились голоса, звуки приближающихся и удаляющихся шагов. Он заспешил дальше.
Третий. Проход, двери слева и справа; о, как приятно идти по ковру. Юлиан крепко закрыл глаза, потом открыл, на секунду лампы приняли свои обычные формы, но вскоре снова расплылись светлыми пятнами. Номера: вон там три, ноль… Ну конечно же, все на этом этаже начиналось с тройки. Четыре, пять, семь, где же девять? Он нашел замочную скважину, чиркнул по медной обивке, раз и еще раз, в конце коридора распахнулась дверь. Он закрыл глаза, нащупал бородку ключа, — только спокойно, подумал он, главное, спокойно, — справился с замком, шатаясь, прошел внутрь и закрыл за собой дверь.
Опустился на кровать и обхватил голову руками. Встал, сел. Снова поднялся. На столе лежали бумажник, пустой блокнот с ненаписанным докладом, две авторучки, часы. Он заглянул в бумажник. Денег хватит за глаза: отправляясь в путешествие, он всегда менял слишком много, на всякий пожарный, хотя и очень смутно его себе представлял, но именно сейчас это оказалось весьма кстати. В другом отделении все еще торчала их фотография: его и Андреа. Сделанная несколько месяцев назад в загородном пансионе, где они провели дождливые выходные: дни, тягучие как резина, дальние прогулки, бесконечные вечера перед телевизором, а ночью, если вообще удавалось на пару часов задремать, одни и те же сны о пустынях и барханах под многими солнцами, об изменчивом море.
Юлиан побрел в ванную и вытерся насухо. Сейчас не время простужаться! Он не то чтобы решился, он, скорее, поверил, не то чтобы поверил, а, скорее, ясно представил, что пойдет на это.
Юлиан оделся. Брюки, рубашка и свитер, пиджак остался в шкафу, его отсутствие могло вызвать подозрения. К счастью, с собой была вторая пара обуви. Он вытащил из бумажника две купюры — на поезд должно хватить, а как подступиться к остальным сбережениям, придумает потом. Взял ключ от квартиры, положил паспорт рядом с бумажником, часами и фотографией.
Выглянул в окно. Уже смеркалось, холмы тенями укладывались под небом, в воде таяли последние отблески вечерней зари. И медленно плыли лодки, на одинаковом друг от друга расстоянии, словно что-то искали. Но не его — пока не его. Под окном мужчина опустился перед машиной на колени. Юлиан обернулся. В зеркале на стене увидел кровать, стол, открытую дверь в ванную. Зазвонил телефон.
Рука потянулась к аппарату, но Юлиан успел отдернуть ее назад; раздался новый звонок. Он посмотрел на телефон, потом в окно, на потолок; телефон опять зазвонил. Юлиан схватил плавки, распахнул дверь, вышел, вынул ключ, добрался до лестницы и стал спускаться. Заслышав голоса, остановился, но они удалялись; он бегом спустился на первый этаж. Потом прямо по коридору — налево! Толкнул дверь и оказался на воле.
Теплый и сухой воздух погладил его по лицу; вскоре совсем стемнеет. Юлиан зажал плавки под мышкой. Со стороны выглядело, наверное, очень смешно, но человек возле машины не обращал на него никакого внимания. Юлиан медленно повернулся, определил направление и побежал, рассчитывая через двадцать минут попасть на вокзал.
Внизу мелькали ботинки, под ногами ощущалась твердая земля. Совсем рядом проплывали пинии, похожие на темные колонны; его обогнал автомобиль: две задние фары съеживались, еще видны — и вот уже нет. Тело казалось невесомым, дыхание равномерным, вот так бы и бежать всегда. Не важно куда. Главное, дальше и дальше.
II
первые он убежал из дому еще одиннадцатилетним мальчиком. Утро тогда выдалось обыкновенное. Его разбудил будильник, зазвеневший словно во сне, но уже через секунду ставший реальностью. А потом и сон ускользнул из памяти, и все пути назад оказались отрезаны.
Остались только горький привкус во рту да болезненная сухость в горле. Полоски света на жалюзи, на шкафу пластмассовый космический корабль с наведенными пушками, над ним — рисунок звездных войн, прикрепленный кнопками пару месяцев назад. Потом рутинный поход в ванную: ковер, мягкий под босыми ногами, отцовская электробритва, мамины флакончики с духами, лопнувший кафель и трещина, которую он всякий раз, чистя зубы, тупо разглядывал.
Мать, как всегда, спала долго, брат уже ушел в школу, отец трудился в конторе. А пес сдох полгода назад: еще не верилось, что его больше нет, ни здесь, ни где-нибудь еще, что его место вообще не в здешнем мире. Он — и так изо дня в день — залил хлопья молоком, прислушиваясь к хрусту, с которым те превращались в кашу. Съел несколько ложек, потом поднялся, собрал сумку, стараясь не забыть чего-нибудь важного, правда до сих пор это удавалось лишь изредка. Сумка получилась тяжеленная, и перекинуть ее через плечо оказалось мучительной пыткой. Дверь захлопнулась за ним на замок.
Еще не рассвело, солнце ожидалось только через полчаса. Впереди лежала куча сухих листьев; Юлиан рассек ее в самой середине, ему нравилось, как разлеталась во все стороны листва. Чтобы успеть на трамвай, пришлось пробежаться; откашливаясь, он забрался в вагон, стараясь не смотреть на Петера Больберга с круглым родимым пятном на лбу, который сидел в последнем ряду и ухмылялся. По дороге Юлиан чуть не заснул: за окном колыхались стены домов, плакаты, фонари, какие-то неправдоподобные в холодном утреннем свете.
Он сошел на остановке и окинул взглядом фасад школы. Черная от дождя каменная ограда, с трудом поддающаяся входная дверь, линолеум, запах пропотевших свитеров и моющих средств. Первый урок, математика. Доктор Мёльбранд, усатый и шепелявый, да еще с трясущимися на фоне доски руками: а там цифры, с привкусом старого сухаря, если их вполголоса повторять. А потом буквы, уж очень прямые, уж очень аккуратные, не похожие на настоящие. Из губки бежала темная водичка, медленно заливая маленькую металлическую полочку; за окном качалась листва, под партой нащупывались приклеенные и с годами окаменевшие жвачки, стрелки настенных часов бесконечно медленно тащились по кругу. Еще восемь лет сюда ходить, да это же целая жизнь, хоть он, как ему казалось, и жил всегда. «Туле, — объясняла учительница немецкого, — раньше так называли самую отдаленную часть земли. Ultima Thule, последний предел. В наше время Туле отождествляют с Норвегией, вы знаете, где находится Норвегия? На географических картах неизведанные земли помечали надписью „Hie sunt dragones“, что значит „Здесь живут драконы“, но сегодня в это уже никто не верит, драконов не существует, и все земли исследованы. На послезавтра выучить стихотворение „Король жил в Фуле дальной“[1], а потом вы мне объясните…» Ее перебил звонок, и хотя Юлиан продолжал сидеть, подавшись вперед и весь внимание, учительница молчала.
Зарядил дождь. Трамвай опаздывал, потом-таки пришел, и, только вагон тронулся, Петер Больберг вырвал у него сумку. Юлиан хотел ее отнять, но почувствовал на своей шее железную хватку врага; и упал, впечатавшись ладонями в рифленый и грязный пол. Какая-то дама в возмущении взвизгнула, бородатый мужчина закричал «но-но!», а он лежал головой на полу, прислушиваясь к глухому стуку колес, к многотонному скрежету металла, и надкушенное яблоко очень медленно катилось мимо. Он двинул Петера в живот, еще раз и еще, да с такой силой, что сам испугался; хватка вокруг шеи ослабла; трамвай остановился. Юлиан вырвался, схватил сумку, увидел, как Петер отшатнулся, и только секунду спустя сообразил, что сам его и толкнул. Он спрыгнул, бородач еще что-то прокричал, но двери закрылись, проглотив его слова; трамвай отъехал. Лил дождь; Юлиан укрылся под козырьком из молочного стекла и стал ждать. Он знал: самое страшное еще впереди.
Обед. Мать сидела напротив и рассеянно смотрела в его сторону. На ее лице растянулась улыбка, он вымученно улыбнулся в ответ, догадываясь, что в эту минуту она спрашивала себя, почему он не такой, как его брат. Трамвайное яблоко, непонятно почему, крепко засело в его голове. Мать поднялась и стала расхаживать туда-сюда, было слышно, как она брала какие-то вещи и клала назад, что-то упало; потом она позвонила, очень коротко, голос сдавленный и тихий, и слов не разобрать, даже приложив ухо к двери и затаив дыхание. На тарелке лежали котлета, горох и кучка картофельного пюре. Если буравить его ложкой, оно принимало всегда причудливые формы. Горошина выпрыгнула, перекатилась через край стола; он глазами следил за ней, потерял и снова нашел, уже в углу. Даже годы спустя все представлялось ему как наяву: вот он сидел там и глядел на дверь, в тарелку, в окно, снова в тарелку, на горох.
А потом встал и пошел, словно это было вчера.
Захватил куртку, висевшую на крючке в коридоре; он всю жизнь мечтал иметь фирменную, как у других школьников, но разве ей объяснить. Мать что-то крикнула, он не ответил и вдруг увидел в зеркале на шкафу бледное, не слишком-то на него похожее лицо. Он опять услышал ее голос, и дверь захлопнулась.
С плаката глядел человек в военной форме и с пистолетом в руке, внизу надпись — «Часть вторая», первую он не смотрел и даже не знал, о каком фильме речь, но когда желание сходить в кино нестерпимо, такие мелочи не берутся в расчет. По-прежнему, но уже несильно, накрапывал дождь, щекоча лицо и создавая ощущение влажности, проходившее где-то на спине, в районе лопаток. Самое время надеть капюшон, но его никто ни за какие коврижки не заставил бы это сделать. По волосам стекала вода, правый шнурок развязался и волочился по земле, темнея от сырости. Позади осталась булочная, запах которой так глубоко засел в сознании, что всю жизнь аромат теплого хлеба возвращал Юлиана к этому моменту. Он миновал супермаркет и книжный: двери открылись, выпустив мужчину, и снова закрылись: в витринах стопками громоздились детские книжки с нарисованными и насмешливо улыбающимися медведями, клоунами, барсуком в шляпе (с опущенными полями); он уже вышел из этого возраста и потому, сгорая от любопытства, поспешил отвести глаза. Рядом по стеклам витрин шествовал прозрачный двойник: невозможно длинная шея, мокрые волосы, уши торчком. О, как же он их ненавидел, эти уши, каждый день внимательно рассматривал, ощупывал, надеялся, что они усохнут, и однажды, в особенно светлый и мирный полдень, даже воззвал к дьяволу о помощи. Но и это не помогло.
Дождь постепенно стихал, разрисовывая воздух частой, едва ощутимой штриховкой. Юлиан пересек улицу, потом еще одну, свернул направо, налево, снова направо и вконец сбился. Большое здание показалось ему знакомым: окна как темные зеркала, рекламные щиты, сигарета возле огромной надписи «кока-кола» — вокзал. Раздвижные двери открылись и впустили его.
Мрамор и гулкое эхо, толпы народа, на черном табло бегущие вниз буквы, женский голос объявил: «С третьего пути», потом еще раз: «С третьего пути». Он развел в стороны руки. И вдруг захотелось кружиться.
И он закружился, ведь теперь никто не мог запретить: люди превратились в вихрь из башмаков, пальто, голов, башмаков, он завертелся еще быстрее, налетел на кого-то, услышал вслед грубое «поосторожнее!», еще быстрее, и вдруг его крепко схватили, так, что он чуть не упал.
— Ты один? — Женщина, вся в морщинах, села перед ним на корточки и взяла за плечи. — Может, тебе помочь?
Он как будто задумался. Потом открыл рот, снова закрыл, смерил ее взглядом. И вдруг, когда она уже совсем этого не ждала, вырвался и дал деру. Лавируя между людьми, отпрыгивая в сторону. Мрамор возвращал ему гулкое эхо шагов; в какой-то момент он оглянулся, но женщина уже скрылась из виду. Эскалатор поднял его наверх, вынес над головами людей через стеклянное промежуточное царство на перрон. Автомат со жвачками, зевающие путешественники, высохший старик, уткнувшийся в газету. В углу стайкой топтались мальчишки, похожие на Петера Больберга, только постарше и опаснее; оставалось надеяться, что его не заметят. Снова из громкоговорителя раздался женский голос, а вскоре на них хлынул поток затхлого воздуха.
Поезд выехал на перрон, затормозил, двери открылись.
Юлиан в оцепенении застыл. В нем поднимался страх, затягиваясь петлей на шее и наполняя его целиком. Он сжал кулаки.
Потом поднялся в вагон.
Он был сам не свой. И когда поезд уже давно отъехал и вокзал скрылся из поля зрения, когда рельсы начали сходиться и расходиться, а электропровода подниматься и опускаться и первые луга, такие коричневые и сырые, смешались со скученными домиками, он по-прежнему еще не осознал все случившееся. Во рту пересохло, в желудке вяло сверлило; и вдруг ему так захотелось домой, что на глазах выступили слезы. Сиденья сплошь потертые, из ящичка для мусора торчали сплющенные банки. Какой-то полный господин впился в него водянистым взором. Дверь вагона отворилась, и вошел кондуктор. У Юлиана екнуло сердце и перехватило дыхание. Да, об этом он не подумал.
Неужели теперь в тюрьму? Лучше со всем соглашаться или твердить, что перепутал поезда или заблудился. Кондуктор приближался, толстяк выудил кошелек, повертел в руках и купил ему билет, кондуктор кивнул, облизал губы и проследовал дальше. За окном проседали и поднимались провода, озеро блеснуло словно видение.
— Не стоит благодарности, — сказал толстяк. Бледный как поганка, дряблые, обвисшие щеки, глаза навыкате и мятая куртка. Но смотрел он приветливо. — Если не придумал, куда податься…
— Нет, спасибо, — быстро перебил его Юлиан.
— Однажды я тоже убежал из дому. Можешь ко мне. Я знаю, каково это.
— Я не убежал!
— Конечно, конечно. Ясное дело!
Некоторое время толстяк неподвижно глядел перед собой; когда поезд остановился, он встал, волоча ноги, добрался до дверей и вышел. Юлиан еще видел, как он грузно и медленно прошаркал по перрону, печально улыбаясь. Поезд тронулся. Смеркалось, четкой линией нарисовались очертания холмов. Мимо неслись хлопья, Юлиан продирался сквозь метель, но почему-то все еще топтался на одном месте, вдруг споткнулся, упал и широко открыл глаза, вагон был почти пуст. На следующей станции он сошел.
Крошечный вокзал, и только, на вывеске незнакомое название, здесь тоже был мужчина в военной форме — «Часть вторая». Юлиан опустился на скамейку. Люди неподвижно застыли возле чемоданов, какой-то человек — прислонившись к прилавку передвижной закусочной. Никто не разговаривал. Он ждал. Никто не разговаривал и не шевелился.
Юлиан наклонился вперед. Красные фонари освещали рельсы, чуть подальше, в ста метрах, замер поезд. С другой стороны на путях валялись окурки, клочки одежды, расплющенный мячик, мешок. И рука.
Он зажмурился, мгновение длилось, не желая проходить. Что-то маленькое и белое, да еще с пятью пальцами и, чем дольше он всматривался, все более напоминавшее человеческую руку.
Мгновение наконец прошло. И мешок обернулся телом, в тени, словно на переливающемся календарике, мелькнули две ноги. А расплющенный мячик оказался головой. Без лица, без волос, нечто жуткое и диковинное. Но все же голова.
Радостно закричал чей-то ребенок. Из громкоговорителя послышалось невнятное объявление, потом воцарилась тишина. На соседних путях стоял встречный поезд; это произошло только что, у всех на глазах. Юлиан потер лоб, руки онемели, словно вылитые из железа, пальцы с трудом шевелились. Мимо проследовал полицейский, делая большие шаги и озираясь по сторонам, будто что-то искал. Юлиан зажмурился. Это, должно быть, сон, видение, порождение неуемной фантазии, ничего по правде, решил он, и хотя все его тело затекло, этому наверняка есть другое объяснение, а если даже нет, что с того. Он резко поднялся. Какая-то женщина с упреком впилась в него глазами. Собрав последние силы, Юлиан развернулся и медленно тронулся с места.
Видимо, ему удалось отойти от вокзала на некоторое расстояние. Так как в следующее мгновение, — словно открывшаяся ему на перроне картина вычеркнула из памяти, а может, из времени несколько минут, — он очнулся на скамейке между каменным всадником и отключенным фонтаном. Человек в рабочем комбинезоне, насвистывая песенку, тащил за собой грабли. Потом все стихло.
Ни ветра, ни дождика, и куртка худо-бедно его согревала. На небе только в нескольких местах зажглись звезды, маленькие и далекие, будто ненастоящие. А не привиделось ли ему мертвое тело, разорванное на части, там, на рельсах? Теперь все казалось таким далеким, не совсем правдоподобным и не увязывалось с остальным: день, школа, кукурузные хлопья и трамвай, да еще горох на обед. Но оцепенение не прошло, руки по-прежнему дрожали.
А потом выплыл месяц, матовый и не очень чистый. Юлиан протер глаза. Неужели он спал? Мыслями снова завладела рука, и уже невыдуманная, теперь он знал точно. За спиной послышалось шуршание, краем глаза он подметил движение; обернулся, но ничего не увидел. Рядышком в фонтане расплывалось отражение фонаря. И вдруг он понял, что рано или поздно придется умереть.
Не сегодня и даже не очень скоро, но вообще когда-нибудь; что тело можно порвать или сломать, словно обыкновенную вещь. Он посмотрел на руки: две серые ладошки, узкие и изящно очерченные, а когда нашел некоторое сходство с теми, давешними, его охватил ужас, да такой, что показался непременной составляющей мира, порождением окружавшей его темноты. Пот, несмотря на мороз, градом катился по его лицу. Юлиан закрыл глаза. Попробовал представить, что его больше нет, нигде, совершенно нигде; и тут сообразил, что как раз это и невозможно, что, пока в его голове роятся даже самые никчемные мысли, ему никуда не деться, он будет жить, в любом образе, обернись ты хоть привидением, хоть человеком-невидимкой.
Когда он открыл глаза, месяц перекочевал дальше. За спиной что-то зашелестело, но Юлиан не испугался: наверное, птица или белочка. Сжав кулаки, он медленно поднялся. Вышел из парка и направился вниз по улице; светофор подмигивал желтым глазом, ни одной машины поблизости. Он остановился перед витриной: радиоаппаратура, стиральная машина и — его собственное бледное отражение, и вдруг почувствовал, что уши, эти ненавистные уши, больше ему не мешают; на радио засветились электронные часы: ноль, три, двоеточие, ноль и семь. Он смотрел на цифры, пока семерка не превратилась в восьмерку.
Из ресторана рвались наружу приглушенные звуки: музыка вперемешку с голосами; он невольно ускорил шаг. Возле автомата со жвачками притормозил. Правда, не больно-то и хотелось, но раз уж остановился, придется взять. Он достал монету, просунул в щель и услышал, как та покатилась по железным недрам, подгоняемая невидимыми пальцами, раз, другой, третий, наконец попала в цель, и пачка выпала. Он разорвал обертку, очистил пластинку от фольги и положил в рот. На вкус сладкая, она постепенно изменяла форму, с каждым движением становясь круглее. Когда чья-то рука коснулась его плеча, он не струсил. Он был к этому готов.
Повернулся и поглядел в лицо полицейскому. Потом подумал об училке, о надкусанном яблоке в трамвае, о Туле и драконах без имени, обитавших на дне морском. И все равно почувствовал облегчение.
— И как же тебя звать? — спросил полицейский.
Ладно, так и быть, он вернется домой. Отец раскричится, его накажут — заставят сидеть дома или надолго лишат карманных денег, — мама вообще не пожелает разговаривать, но в конце концов все забудется, а куда им деваться. Зато уши больше никогда не будут ему мешать. Он оглядел полицейского. Потом набрал воздуха и назвал свое имя.
Со временем воспоминание об этом моменте утвердилось как самое первое — его очередная причуда, разумеется. На самом деле память хранила целую прорву других, гораздо более ранних, но все они относились как бы не совсем к нему, а к кому-то другому, знакомому Юлиану по другой жизни.
Чаще всего это были бессвязные, плохо выстроенные и потрепанные по краям картинки. Ковер в гостиной, на ковре — разбросанные игрушки, разбросанные для того, чтобы посмотреть, как они вдруг оживут и, словно червяки, поползут в разные стороны или, наоборот, соберутся в кучку. Резиновая утка, солдатик, едва удерживающий в руках почти отломанный штык, плюшевый мишка в шляпе набекрень и маленький полицейский, однажды уличенный в постыдном побеге: короткими перебежками он прокрался к дверной щели. Юлиан знал об их молчаливом братстве, об их тайном и недобром соглашении против него и догадывался, что бороться с этим никак нельзя и что стоит ему заснуть или выйти из комнаты, как они тут же примутся разбирать его по косточкам. Еще он помнил отца, метавшегося туда-сюда в ярости, причины которой он не знал и никогда не узнает. Еще лицо брата Пауля: как тот, полуприкрыв глаза и закинув назад голову, смотрит кукольную передачу по телевизору. Каждый божий день после обеда куклы давали представление, но только для них — оба верили в это и испытали неописуемое разочарование, узнав, что их видели все и что это обыкновенные деревяшки, искусно наряженные, обклеенные, подвешенные на ниточках и якобы живые перед камерой. Помнилась мама, писавшая кому-то письмо. Летом. Он сидел на полу и наблюдал, их глаза встретились, она отвернулась, а ему вдруг почудилось, будто что-то безвозвратно утрачено. Он встал и вышел. Наткнулся на по пояс окопавшегося игрушечного полицейского, который опять пытался улизнуть. Юлиан, несмотря на отчаянное сопротивление, вытащил беглеца прямо из земли и прислушался к голосам, лившимся из окна Пауля: взрослые разговоры по радио, непонятно, как можно такое слушать. А после ужина разрешалось посмотреть какой-нибудь фильм, но уже через полчаса его загоняли в кровать. Вот так проходили летние дни, ничем не отличавшиеся от предыдущих и тех, которые еще наступят, и ничто не предвещало перемен.
Полицейский отвез его домой, и все произошло точь-в-точь, как ожидалось. Отец кричал, мама выскользнула из комнаты, Пауль, прищурясь, задумчиво глядел на него, словно впервые обнаружил его, Юлиана, существование. Отец сделал передышку, прокашлялся и завопил снова. Брат, зевая, ушел. Юлиан тайком поглядывал на часы, большая стрелка сделала три, четыре, пять скачков, отец все не унимался, стрелка дернулась шестой и седьмой раз, отец проследил за взглядом сына и умолк. Еще через пару минут Юлиан уже нырнул под одеяло и услышал, как ключ два раза повернулся в замке. В темноте обозначились четкие очертания мебели, через жалюзи он увидел, что уже рассвело. По крайней мере, сегодня не надо в школу. С улицы доносились взволнованные голоса родителей, но он не мог разобрать, о чем они говорили. Давешняя картина снова всплыла в памяти: белая рука, мешок, бывший телом, неузнаваемая голова. Но он уже начал к ней привыкать. Внимательно посмотрел на свои руки и неожиданно для самого себя улыбнулся. Потом закрыл глаза.
В последующие затем годы учителей прибавилось, школьные приятели сменились, он изучал латынь, физику, биологию и наконец-то понял, что убегать бесполезно. Когда Пауль выиграл олимпиаду по программированию и с выражением скучающего недоумения, от которого так никогда и не избавился, принимал грамоту из рук министра по делам науки, они всей семьей сидели в первом ряду и хлопали. О, Юлиан бы многое отдал, чтобы тоже стоять на сцене. Правда, он ни бельмеса не смыслил в том, что Пауль сделал: что-то, связанное с простыми числами, с каким-то особенно хитрым способом их определения и с компьютером «Коммодор-64», вот уже год стоявшим в его комнате. Брат, наверное, провел за ним сотни часов, перед мерцающим матовым светом черно-белым телевизором, служившим монитором. Он видел Пауля каждый день, но собраться с духом и спросить никак не мог.
И не мог объяснить почему. Нет человека — так рассуждал он порой, — который бы не трепетал перед Паулем. Родители его не наказывали, учителя старались не вызывать и ставили хорошие оценки, словно брат имел на них естественное право. В двенадцать лет он зарекся справлять Рождество, в тринадцать, поговорив с директором школы, добился досрочного освобождения от уроков закона Божьего, в шестнадцать сильно раздобрел, но это только казалось: Пауль просто отличался неуклюжестью, которую проще всего было объяснить полнотой. Когда брату исполнилось семнадцать, директор заставил его участвовать в молодежной олимпиаде по программированию; Пауль получил вторую премию за построение синусоидной кривой на компьютере системы «Амига».
— Мог бы запросто взять и первую, — заявил он, — но слишком много времени, скукота, кривые уже никому не интересны!
«Не со злости ли это сказано?» — спрашивал себя Юлиан. По всей вероятности, нет; видимо, ничто на свете не могло вывести брата из равновесия и заставить расчувствоваться. Даже те скупые слезы, которые Юлиан изредка видел на его глазах (упал ли он, или поскользнулся, или его поколотил, всего один только раз, Петер Больберг — потом же сам весь побледнел, стушевался и больше никогда не задирался), выступали только после кратких, но напряженных раздумий. Словно Пауль хотел сначала припомнить, как выражаются человеческие эмоции, и в случае необходимости пробудить их к жизни. Или хотя бы разыграть.
Юлиан никогда не тянул на хорошиста. Ему с трудом давался счет, при письме он допускал ошибки, на большинстве уроков скучал до изнеможения. Учителя отыгрывались на нем, срывая свою злость, — ведь к брату не подкопаешься. Однажды ни с того ни с сего биологичка оставила его после уроков; рабочие на улице шумели, за окном летали вороны, а с футбольного поля доносились крики; в тот день он впервые открыл Спинозу. И хотя не понял ни слова, но совершенно невозмутимый тон повествования, на диво учтивая надменность предложений, каждое из которых, словно произнесенное под высокими сводами, отзывалось эхом в голове, — все это произвело на Юлиана колоссальное впечатление. Он читал о субстанции и атрибутах, о взаимно ограничивающих друг друга модусах и вдруг почувствовал слезы, но объяснялось это просто — слабые глаза. В последнее время все чаще и чаще подтверждалась зыбкость окружающего мира; стаканы и чашки ускользали прямо из-под носа, дверные ручки норовили избежать его прикосновения, а буквы из-за своих вывертов вводили в заблуждение относительно их истинной природы. Врач заставил Юлиана смотреть в аппарат, меняя линзу за линзой и монотонно спрашивая: «Что-нибудь видишь? Ну? Что-нибудь видишь?» Так появились первые очки. Он отправился в школу, и Петер Больберг сразу же сбил их метким ударом мяча; Юлиан получил новые: более дешевые и сидевшие немного криво. Он дочитал «Этику» Спинозы до конца и начал сначала. Там непрерывно что-то доказывалось, внятно и неопровержимо, вот только он никак не мог разобраться; пришлось перелопатить море справочников, но все представлялось еще более запутанным и некоторым образом от него, Юлиана, отстраненным, как чужой разговор, не предназначенный для его ушей. Он вгрызался в текст снова и снова, по-прежнему ни крупицы не понимая. И взял книгу с собой на каникулы.
Отец, постоянно твердивший о «мерах по спасению», снял домик в горах. Тот прижимался к каменистому склону, кровлю покрывала вековая дрань, под которой квартировали крохотные паучки, заползавшие ночью внутрь. Если включался свет, то в какую-то долю секунды Юлиан успевал-таки увидеть их краем глаза. Он делил комнату с Паулем, прислушиваясь по ночам к его дыханию, ворочался с боку на бок и впервые мутился бессонницей. Так проходили часы; месяц в окне карабкался по теням гор. Случайные картинки, бессвязные слова, вырванные из рекламы обрывки фраз, мелодии из телевизора и скучные лица актеров: трескучий бег сознания на холостом ходу, неутомимо себя же подгонявшего. Юлиан впервые прочувствовал разницу между собой и хранившимися в памяти голосами, образами и звуками и даже между собственными мыслями. Он закрывал глаза, снова открывал, обнаруживая, что уже светло и, значит, он все-таки спал. В оцепенении садился в кровати. Братова уже пустовала: белье гладкое, словно на нем никто не лежал.
Днем Пауль рассиживал на балконе, зевая и враждебно поглядывая на солнце, словно не мог дождаться, когда оно скроется, а Юлиан читал «Этику». Он до сих пор ничегошеньки не понимал, кроме, пожалуй, одного: все едино и вместе с тем как бы и нет; свобода призрачна и вместе с тем как бы реальна, ибо суть ее — в осознании этой призрачности. Однажды он взял велосипед, втащил его на гору, сел и оттолкнулся. Пауль, засунув руки в карманы, плелся следом. Сначала он ехал медленно, потом, набирая скорость, все чаще чувствовал неровности земли и то, что вот-вот загремит, нет, не сейчас, и каждая секунда, не сейчас, означала триумф равновесия, не сейчас, и хотелось кричать от радости. И вдруг склон оборвался, и на мгновение небо оказалось внизу, а трава наверху, и самолет застыл во влажной синеве. Потом все осталось позади, он лежал и с удивлением ощущал, что даже настоящее — содранный локоть, стебельки перед самым носом и самолет в его поле зрения — оборачивалось прошлым. С вершины холма раздался смех Пауля.
«Меры по спасению» не увенчались успехом. На обратном пути родители не проронили друг с другом ни слова, отец молча сидел за рулем, мать сосредоточенно всматривалась в карту, которую за всю дорогу ни разу не отложила, а Пауль, наморщив лоб, рисовал на каком-то листке человечков, отбрасывавших длинные тени.
Через неделю отец упаковал чемоданы. Собираясь оттащить их в коридор, споткнулся, упал с лестницы да так и остался лежать с красным лицом и страшно вывернутой ногой. Один из чемоданов открылся, и его содержимое разлетелось по полу: рубашки, нижнее белье, бритва, несколько пар обуви. Отец лежал, недоуменно озираясь по сторонам, почти с любопытством, раскрыв рот и беззвучно шевеля губами. Схватил башмак, повертел в руке, словно никогда не видел, и снова отложил. Мать спустилась по лестнице, подошла к телефону и стала искать номер «скорой». Но не нашла; отец тоже не мог вспомнить.
— А вы что, в школе не проходили такого?
— Проходили, — ответил Юлиан, — наверняка!
Но Юлиан забыл его напрочь. Отец давал указания, где могла лежать кожаная книжечка, в которой записаны важные телефоны; мать шарила по всем углам, а Юлиан стоял тут же и глядел исподлобья. Наконец книжка нашлась, и мама набрала номер, не туда попала, извинилась, набрала снова, сказала: «Сломана нога, совершенно верно, сломана, выглядит не очень», отец затряс головой, стараясь не смотреть на сына. Пока ждали «скорую», мать заново собрала чемодан, сложила рубашки, башмаки по паре завернула в газету. Юлиан примостился на ступеньках. Отец закрыл глаза, его губы по-прежнему шевелились, и нестерпимо хотелось узнать, что же он там говорил. Только через сорок минут белая машина остановилась у дверей, без сирен и синей мигалки, два дородных молодца уложили отца на носилки; один, расплываясь в улыбке, таращился на потолок, будто нашел там что-то интересное, другой кусал губы и надувал щеки.
— Я пришлю за чемоданами! — еще сказал отец. Санитар посмотрел на Юлиана, подмигнул и козырнул в знак приветствия.
— Ты уже знаешь, — спросил Пауль, — кем хочешь стать потом?
— Потом?
Пауль вздохнул:
— После школы.
— Не знаю. — Юлиан пожал плечами. — Да, собственно, никем.
— Тогда тебе повезло, ты и так никто. — Пауль засмеялся, а Юлиан, глядя на брата, пытался понять, что тот имел в виду. — Но не думай, что провалишься на экзаменах. И не надейся. Уж об этом я позабочусь.
Так оно и случилось, Пауль действительно помог ему с математикой. Каждый день после обеда они оставались за столом, Юлиан никогда не проводил с братом столько времени.
— Числа. Когда ты решаешь пример, с ними что-то происходит. Просто последи, остальное образуется само собой! Это их жизнь, другой у чисел нет, и она целиком и полностью в твоих руках, только в твоих.
И, удивительное дело, наставления брата помогли. Юлиан закончил школу, выдержал экзамены и стал ходить на лекции. И если честно — ему даже нравилось: он рассеянно строчил в разлинованных блокнотах, грыз карандаш и думал, что с таким же успехом мог бы сидеть где-нибудь в другом месте, необязательно здесь, перед рядами затылков, в потрепанной полднем аудитории, внимая дрожащему и тоскливому голосу профессора Кронензойлера, который вещал о комментариях Ветеринга к паскалевскому закону больших чисел. И здесь под стульями тоже приклеивали жвачку, а за окном трепетали листочки, и это действовало успокаивающе, словно ничего не изменилось. Рядом сидела девочка. Не красавица, но со светлыми и умными глазами, она беспрестанно убирала волосы с лица, не давая Юлиану сосредоточиться. Ее звали Клара.
Они ходили вместе в театр, ходили в кино, гулять, а когда родители Клары уехали — свернули к ней домой. Их тени скользнули по стенам подъезда, что-то упало на пол, дверь открылась, и потрепанный плюшевый медведь со шкафа недружелюбно уставился на парочку. Клара захихикала, а Юлиан побледнел как полотно, услышав ее колючий смех. Потом почувствовал на лице чужие волосы и запах шампуня, а потом, когда возлюбленная навалилась на него всем телом, он с изумлением отметил, какая же она тяжелая, а груди — точь-в-точь такие, какими рисовались ему в воображении; сердце неистово колотилось, но вместе с тем Юлианом завладело странное ощущение, будто он наблюдал за всем со стороны. Он ласкал ее, уповая на то, что руки делают все правильно, она откинула назад волосы, и следующие секунды озарили комнатные сумерки счастьем, и он стал другим, или его вообще не стало, и только через некоторое время снова вынырнул медведь с выражением легкого упрека на морде, открытая дверь, а потом, совсем близко и слегка размыто, лицо Клары. Как будто увиденное впервые.
На следующее утро пришлось рано встать: на семинаре Кронензойлера ждали его доклад о Ветеринге. Юлиан говорил об «Экономике» полтора часа, гораздо дольше, чем планировал, но останавливаться не хотелось. Набросанные заранее мысли казались теперь корявыми и убогими, и, к своему необычайному удивлению, он услышал от себя импровизацию: на ходу придумывались формулы и цитировались произведения, которых не существовало и в помине; его не покидала твердая уверенность, что его выставят из аудитории, но это уже не имело значения. Чем таким был славен этот идиотский семинар, эта учеба! Его впервые охватило чувство, что жизнь — штука стоящая. Когда он закончил, надолго воцарилась тишина, потом Кронензойлер попросил Юлиана зайти к нему кабинет, где предложил стул, чашечку кофе и работу.
— Я уже давно ищу человека, который бы написал монографию о Ветеринге. Несмотря на все заслуги, потомки его недооценили. Если хотите в аспирантуру… Именно сейчас актуальная работа об этом выдающемся ученом очень необходима, что вы думаете?
Юлиан молчал. Он ничего не знал о Ветеринге. Но речь шла о месте, а такого рода вопросы решаются не сразу. В конце концов плечи его поднялись, снова опустились, он посмотрел в лицо Кронензойлеру и тихо сказал:
— Да, конечно. Действительно необходима.
Всего несколько дней спустя Пауль принял предложение от компьютерной корпорации «Инфотой». Совершенно неожиданно, без предварительного оповещения. Услышав об этом, Юлиан подумал, что брат, наверное, шутит.
— Но с какой стати? — воскликнул Пауль. — Если б ты только знал, сколько требуется затрат, сколько ума, знаний и мысли, сколько математики, чтобы разрабатывать все эти игрушки для неграмотных! Никому не нужные, никому не интересные. Разве не потрясающе?
— Да, собственно, нет, — ответил Юлиан, — что тут такого?
— Это же знак.
— Знак чего?
— Ах да откуда мне знать! Не важно! — Пауль фыркнул, отвернулся и больше ничего не сказал.
Мебельный фургон перевез его пожитки на новую квартиру. Там он и остался, редко выходя из дому и корпя над играми, в которых гибли мутанты, истреблялись инопланетяне и насекомые. Даже на фирму не ходил, так как ему разрешили работать дома: ведь он считался единственным программистом, который и самые сложнейшие программы сразу записывал кодом ассемблера. Когда Юлиан навестил брата, тот сидел среди груды бумаг, развалившись в кресле, и смотрел в пустоту, а на гигантском мониторе бегали маленькие человечки, прыгали, хихикали, жонглировали мячами и толкались с выражением веселого коварства на лице. Пауль неразговорчивый и растерянный, глаза маленькие и уставшие. Похоже, его что-то беспокоило, но говорить об этом он не желал. На стене висела картинка с озером и пальмами на фоне гор, расплывчатых в ярком свете. Через полчаса Юлиан поднялся и что-то пробурчал на прощание, он был рад уйти.
Мать тихо поздоровалась, когда он открыл дверь. В последнее время она тоже выглядела неважно и с некоторых пор представлялась Юлиану старшей родственницей себя самой. Зазвонил телефон, мать сняла трубку и с таинственным видом передала ему. Это была Клара, она хотела встретиться, немедленно.
Он вышел за дверь. На холодный воздух; пахло зимой, впервые в этом году. Засунул руки в карманы и, пытаясь скрыть веселость, стиснул зубы, но тщетно. Теперь он знал наверняка, что не клюнет на предложение Кронензойлера. Слишком невелика цена; пока невелика! Шнурки на правом ботинке развязались и волочились по земле, но Юлиана это мало заботило. Какой-то человек, выходивший из супермаркета, тупо на него посмотрел. Зарядил едва заметный дождик, пропитывая воздух влагой. Итак, он все-таки улизнет. Покинет горькую тюрьму, убежит, и никто не сможет его остановить. Невольно вспомнились старинные морские карты, драконы, Ultima Thule, последний предел.
Он позвонил, дверь сразу открылась, перед ним стояла Клара. Бледная, волосы всклокочены. Что же ему так нравилось в девушке, спросил он себя и тут же в ужасе отогнал эту мысль. Потом увидел ее лицо.
— Что случилось?
Их взгляды встретились. Нахохлившийся воробей приземлился на забор, навел на Юлиана свои глазки, похожие на булавочные головки, подпрыгнул и упорхнул, даже не подозревая, что навсегда останется в памяти Юлиана. Так же, как крыша соседнего дома, прямая труба, водосточный желоб и лицо прохожего в макинтоше, в шляпе, с тростью и портфелем.
— Прошу тебя, не надо! — тихо проговорил Юлиан. — Все ведь не так уж плохо!
III
н, наверное, впервые спал таким безмятежным и глубоким сном. Утром смутно припомнился автобус, остановившийся вчера на дороге, приветливое лицо водителя, приглашающее движение руки. Вот по-настоящему повезло, пешком бы до вокзала никогда не добраться: тот оказался гораздо дальше, чем он предполагал. Наконец он сошел, шатаясь от усталости, налетел на пожилую даму, извинился и тут увидел под мышкой мокрые плавки — главное вещественное доказательство, от которого надлежало бы поскорее избавиться. Он зашвырнул их в контейнер, похожий на мусорный. Когда перед глазами все расплывается, не так-то легко отыскать нужное окошко; человек за кассой продал ему билет. Потом он сидел на скамейке, наблюдая за сновавшими туда-сюда людьми и мухами, крошечными мухами над лампами и одновременно гигантскими, так как по полу ползали их громадные тени. Подошел поезд, Юлиан забрался в вагон, опустился на свободное место, был согнан забронировавшей его женщиной, нашел другое, поезд дернулся, вдавив его в мягкую обивку кресла, и поехал. Контролер, точнее, его силуэт, бестелесный, озаренный голубоватым светом, проверил билет. Юлиан спросил, который час: только-только пробило десять. Контролер проследовал дальше, но через несколько секунд вернулся и сказал, что они скоро прибывают; Юлиан покачал головой и уже хотел поинтересоваться куда, как вдруг в окно ворвался свет и он увидел, как вырастают и уменьшаются холмы, как проносятся мимо дома и наступает бледное осеннее утро. А когда он снова спросил у соседа, который час, тот, почему-то с другим лицом, ответил, что уже половина двенадцатого. Дня? Совершенно верно, день был в самом разгаре. И тут показался вокзал: застекленные витрины, плакаты и тележки; поезд еще не остановился, а Юлиан уже открыл дверь и спрыгнул. И теперь стоял на перроне и оглядывался по сторонам, не совсем еще понимая, что действительно добрался до цели.
До цели. Тело по-прежнему ныло, от резкого пробуждения кружилась голова. Эскалатор вывез его в просторный зал. Шум и люди, запах пиццы и жареного масла, а наверху, в каком-то тумане, табло отправления; женский голос из громкоговорителя, наверное еще тот самый, хотя нет: расписание-то меняется, и они постоянно делают новые записи. Юлиан повернулся к выходу, наступил кому-то на ногу, извинился; стеклянные двери разъехались, и он вышел на свежий воздух.
Было холодно и ветрено. Он вскинул руку, и через несколько секунд расплывчатая машина затормозила: по цвету — вроде такси. Он сделал шаг, открыл дверцу и сел. Запах кожаных сидений, рядом с приборной панелью ящичек с цифрами, круглое усатое лицо водителя. И правда такси.
Юлиан назвал адрес, шофер кивнул. Поиски наверняка начались только сегодня утром, наверняка уже нашли одежду, ботинки, главное — очки, портье обязательно припомнит молодого человека и скажет, что предупреждал его. Они войдут в номер, обнаружат там чемодан, бумажник и паспорт. Потом снарядят лодки и обыщут озеро; дело бессмысленное, но так положено, согласно договору о страховании.
Машина затормозила и больше не двигалась: они попали в пробку. Сумма на счетчике набежала уже немаленькая. Вдруг у водителя во рту появилась сигарета, он посмотрел на Юлиана в зеркало и не остался незамеченным. Отвел глаза, Юлиан тоже отвернулся, но тут же снова почувствовал на себе взгляд таксиста. Серый дым повис над их головами. Юлиан поднял голову, водитель уставился в другую сторону.
— Вы могли бы не курить?
— Конечно, конечно!
Водитель не шевелился, его пальцы отбивали по рулю такт неслышимой мелодии, он и не думал выбрасывать сигарету.
— Выпустите меня! — сказал Юлиан.
— Чего?
— Я выхожу.
— Как хотите, — равнодушно ответил таксист. — Прошу вас!
Юлиан швырнул деньги на сиденье, открыл дверь и выскочил на улицу. Обернулся: таксист, опуская окно, смотрел ему вслед, потом щелчком выбросил окурок, и тот полетел, описывая большую дугу. Юлиан пошел быстрее, потом еще быстрее и побежал. Мир вокруг таинственно преобразился, что-то изменилось, что-то важное, но что именно, он не знал. И только некоторое время спустя понял: шел снег.
Самый настоящий снег: маленькие хлопья таяли, едва коснувшись земли, и уже через несколько секунд в их существование почти не верилось. Наконец завиделась его улица, его дом, окна его квартиры на третьем этаже. Он толкнул дверь подъезда и, пригнув голову, пустился вверх по лестнице, топая, как ему казалось, слишком громко. Только бы не столкнуться с соседом!
Он хотел отпереть замок, но связка ключей с предательским звоном упала на пол; этажом выше хлопнула дверь; становилось жарко. Ключ снова скользнул мимо замочной скважины. Юлиан старался дышать ровно и глубоко, как вчера в гостинице. Наконец-то все получилось, ключ повернулся, дверь отворилась.
Юлиан насторожился. Или почудилось? Вдруг к нему закралось подозрение, что он не один, что его поджидали. Он шагнул в коридор, пол заскрипел; еще шаг. В зеркале на стене отразилась его фигура, шкаф за спиной, две криво висящие картинки. Он прошел в гостиную.
Пол скрипел. Отражение тоже двигалось. Юлиан опять увидел шкаф и две картины в коричневых рамках, обе висели криво; значит, он еще топтался в коридоре. Вконец запутавшись, он почувствовал, как перехватило дыхание. Рванул, еще раз, дверь в гостиную…
Действительно гостиная. Но она казалась больше, вытянутой и искривленной. Размытые диван и стулья, стол. Лампа под потолком раскачивалась, с чего бы это? Опять что-то послышалось, но скорее не звук, а дыхание тишины. С улицы не доносилось никакого шума.
Он заставил себя пойти дальше. Снова заскрипел пол, вероятно все та же половица. Раньше, правда, ничего подобного не было. Прищурив глаза и изо всех сил всматриваясь в шкаф, во второй ящик сверху, Юлиан медленно начал приближаться, но шкаф вяло попробовал уклониться. Юлиан оказался проворнее: ухватился за ящик, дернул и принялся шарить в поисках запасных очков. Нашел, надел. Секунду все оставалось по-прежнему. Потом предметы отступили, стушевались, приняв в матовом освещении привычные очертания, и снова стали такими, какими он их знал.
Все было на своих местах. Стол и шкаф, ковер, кипа отксеренных бланков из бюро, корзина, полная мусора, который он перед отъездом забыл выбросить, уже выцветшая обивка дивана, рядом зеленая стопка оставшихся экземпляров его книги «Ветеринг: личность, творчество и значение»: год назад он выкупил их у издательства и тем спас от макулатурной переработки. Юлиан чувствовал себя незваным гостем, чье место не здесь и кто своим присутствием нарушал безмолвное течение жизни. Он вернулся в коридор. Из зеркала на него испытующе смотрел молодой человек. Юлиан поднял руку, молодой человек проделал то же самое, и, непонятно почему, это успокаивало.
В спальне стоял затхлый воздух, на ночном столике осела пыль, хорошо заметная в косых лучах солнца. Над кроватью нависала книжная полка, где теснились двадцать толстенных и невероятно тяжелых томов в кожаном переплете: полное собрание сочинений Ветеринга, издававшееся с 1850-го по 1874 год Голландской академией наук, с неприятно мелкими буковками, потоком латыни, обилием математических символов, с письмами и пространными трактатами, которые требовалось знать, но которые Юлиан даже не открывал. Напротив, под длинной трещиной на потолке красовалась старинная морская карта, купленная несколько лет назад в антикварной лавке: черная тушь на белом фоне, береговая линия континента, непонятная запись навигационных данных и голова змия с торчащими из воды острыми ушками — тончайшая работа.
Он взял последний том Ветеринга и раскрыл.
В этот момент из хаоса воспоминаний душа выбирает себе спутника, который, как ошибочно она полагает, будет сопровождать ее до самого порога, впрочем, не дальше. Мне довелось убедиться (прошу Вас, не докучайте меня вопросами о том, каким же образом), что сие решение, сколь бы малозначащим оно ни казалось, в действительности…
Юлиан захлопнул книгу и, уже немного повеселев, покачал головой. Бедный, спятивший старик, сколько же времени пришлось на него потратить! Он выдвинул ящик ночного столика: носовые платки, снотворное, пачка писем от Клары. Он взвесил ее в руке. Письма хотелось взять с собой. Но потом он положил их на место и закрыл ящик.
В коридоре Юлиана опять напугал человек из зеркала. Чужак, много моложе, глядел с невозмутимым спокойствием и любопытством. Юлиан медленно поднял руки и в течение бесконечной секунды думал, что тот, другой, не поддержит… Но потом руки в зеркале поднялись. Юлиан стал наклоняться вперед, пока не коснулся зеркала лбом. Он смотрел чужаку прямо в глаза — голубые, внимательные и чуть суженные за стеклами очков. И вдруг его охватило чувство, будто их поменяли местами, и это он является отражением другого, а не наоборот, и это он стоит сейчас в геометрически вывернутом мире, где мнимый коридор подделан под настоящий. Чужак сделал шаг назад, отвернулся и медленно направился к двери; Юлиан внимательно следил за ним, от его дыхания стекло запотело. Юлиан видел, как открылась дверь и тот, другой, вышел, оставив его одного, но он все равно продолжал смотреть туда и только постепенно сообразил, что скорее всего сам и был этим другим. Потер глаза, отступил назад и прислонился к стене, стараясь не глядеть в пустое зеркало. Он тяжело дышал.
Насторожился. И вдруг, словно привлеченные его вниманием, послышались шаги. Вверх по лестнице, они приближались, становясь громче, еще громче, стихли.
Он ждал, когда они начнут удаляться наверх. Но только тишина звенела в ушах, означая лишь одно: пришли к нему. Еще мгновение он изо всех сил старался поверить в то, что это просто ошибка. Но тут раздался скрежет ключа. Металл, чиркающий по металлу и не попадающий внутрь, так как изнутри торчал другой ключ. Ручка пришла в движение, и дверь одним рывком открылась.
Их взгляды встретились. У Юлиана закружилась голова. Прошло некоторое время, прежде чем он узнал это лицо: непомерно высокий лоб, толстые губы и маленькие колючие глазки; казалось, перед ним стоял незнакомец.
— Ты, — Юлиан откашлялся, — наверное, удивлен?
— Ах, — притворился брат, — не так сильно, как ты думаешь.
IV
отом, когда бессонными ночами он мысленно возвращался к этому вечеру, то уже не мог сказать наверняка, действительно ли шел дождь или это на душе было так промозгло и тоскливо, что со временем все в тот день — небо, земля и воздух — оказалось затянутым безысходной тоской. Юлиан еще ясно видел, как она надевала пальто, как дважды не попала в правый рукав, как он бросился на помощь и схватился за воротник. И еще слышал ее слова, для него, разумеется, не новые — он давно догадывался, но придававшие всему кошмару бледный налет достоверности.
А позже они как заведенные бродили по улице, туда-сюда, все снова и снова, пока ему не почудилось, будто двенадцать черных и три зеленых мусорных контейнера, брошенные шины, четыре припаркованных автомобиля и кучку собачьих какашек на краю тротуара он знает лучше всего на свете. Она взяла его под локоть; он молчал, и рука скользнула обратно, словно девушка почувствовала, что момент не совсем подходящий. То и дело на глаза попадались развязанные шнурки; теперь их никогда не завязать. Хотя возможность была, но он ее упустил, уже не наверстаешь.
Сам же разговор вспоминался очень приблизительно и, в отличие от двенадцати черных и трех зеленых контейнеров, автопокрышек и машин, представлялся теперь намного невнятнее. Услышав его равнодушное возражение, она пришла в ужас, и он волей-неволей начал оправдываться, уверяя ее в том, что она все неправильно поняла, совершенно неправильно! Потом она затараторила, быстро и сосредоточенно, словно обдумала все заранее. Ну конечно, нет никакой катастрофы. Она бросит на время учебу, он поступит на работу. Ему ведь предложили место?
— Да, — тихо ответил он, прокашлялся и повторил: — Да, предложили.
Дождь покалывал лицо, раз Юлиан чуть не угодил в какашки, а потом вдруг заметил, что лужа все больше и больше походила на человеческую голову с большим носом и невероятно вытянутым подбородком. Он опять стал слушать внимательно, с сомнением спрашивая себя, неужели все те вещи, о которых она говорила, все те понятия из жизни взрослых теперь действительно имели значение.
— Смотри, — воскликнула она, показывая на лужу, — настоящая голова.
Он видел ее лицо, морщины, неожиданно на нем появившиеся, дрожь в уголках губ и не мог бы поручиться, что расслышал ее правильно. В конце концов он проводил ее до ворот, попрощался, сказал, что положено говорить в таких случаях, обещал в тот же день позвонить — разумеется, еще сегодня, сегодня — и под дождем (если в тот день и вправду шел дождь) направился обратно домой.
— Мне нужно с тобой поговорить, — сказала мать.
— Не сейчас!
Она хотела возразить, но он положил руку на ее плечо и мягко отстранил; никогда раньше он не позволял себе ничего подобного, однако теперь его новое положение как будто все оправдывало. Ночью он не спал. А сидел на краю постели и следил за протянувшимися от лампы тенями на стене. Потом бросился к телефону, набрал номер, но, прежде чем Пауль ответил, положил трубку. Он слышал, как рядом, за стенкой, возилась мать, тихо разговаривая сама с собой, а может, с невидимым собеседником, правда вскоре после полуночи, похоже, заснула. Он подошел к окну, увидел темное и высокое небо без звезд; ветер развевал его волосы. И вдруг ему нестерпимо захотелось выйти. И потом просто по прямой, все дальше и дальше.
Он сел, принялся листать «Этику» Спинозы, не нашел ничего, что понравилось бы или как-то поддержало дух. Взял «Экономику» Ветеринга: таблицы, знаки, еще больше таблиц, в конце избранные письма, открыл, закрыл, снова открыл. Как это там?
Однако я пришел к убеждению, что человеческие страхи можно рассматривать как график не слишком оригинальной функции: обозначь ее исходные точки, построй диаграмму и не удивляйся, если полученный тобой рисунок…
Юлиан пролистал дальше, с неприятным чувством, будто над ним тайком потешаются. А вот третье письмо к Арно, в корявом переводе Кронензойлера:
Ваше послание как благотворно действующий бальзам. Воззрения Ваши всегда интересны, так же как и суждение о том, что Вы называете «грядущим часом». Осмелюсь признаться, что я иногда представляю себе это решающее мгновение как прозрение: мир, на первый взгляд надежно огораживающий человека, с некоторых пор становится эманацией его сознания, а значит, смерть немудрено и прозевать? Аид, дорогой мой, начинается за ближайшим углом. Это не печальная аллегория художника, растворяющегося в картине, напротив. Моему взору открывается странник, который медленно и терпеливо ищет свою дорогу в зимнем пейзаже. И он чувствует, как воздух вокруг сгущается, превращаясь в масляные краски, и видит, как горы и небо и, возможно, даже берег какого-нибудь далекого моря застывают и становятся картиной, и как только он — лишь малый, едва заметный ее фрагмент — это поймет, путь его придет к завершению. Умоляю Вас, не пытайтесь мне возражать, ссылаясь на неумолимое время, оно еще более, чем в Ваших самых путаных снах, подвержено искажению. В назначенный час я все объясню, за сим счастливо оставаться, да рассеются Ваши недуги подобно заблуждению. Что ж, в угоду формальностям, заведенным в сем эпистолярном жанре, прощаюсь…
Юлиан захлопнул книгу. Прилег, сложил руки за головой, кровать заскрипела. За стеной что-то упало, вероятно мать опять не спала. На белом потолке растянулась сложно разветвленная трещина, которой он раньше не замечал. И пока он ее разглядывал, внимательно, словно читал по ее линиям нечто очень важное, она как будто превратилась в другую трещину на другом потолке, в комнате с книжной полкой и репродукцией морской карты на стене; а он неподвижно лежал в ожидании сна, который вот уже несколько часов не приходил и не придет еще столько же, и вдруг начал задыхаться и почувствовал, как прочно засел в той, чужой, комнате, в той далекой ночи, когда ему впервые стало ясно, что все должно измениться.
Он освободил руки, онемевшие и бесчувственные, и затряс ими, пока не вернулась подгоняемая мурашками кровь. Все чаще и чаще ему снилось, что он мучается бессонницей; на этот раз даже вообразил себя за чтением, но уже не знал, какая то была книга. Зато точно знал — этой ночью больше не заснуть. Сколько времени прошло с тех пор, как умер ребенок?
Правильнее сказать, даже не умер, ведь он ничем не отличался от вещи и вел безмолвное, замкнутое на себе самом существование до того самого вечера, когда телефонный звонок запыхавшейся сиделки вызвал Юлиана в больницу, где пришлось сиротливо топтаться в белом и пустынном коридоре, да еще краснея от стыда за то, что не испытывал ни страха, ни волнения, только усталость и легкую скуку. Дверь ходила ходуном, беспрестанно открываясь и закрываясь; заглянул врач и тут же скрылся, его лицо выражало предельную сосредоточенность, означавшую, что для вопросов сейчас неподходящее время; да Юлиан и сам бы заверил их в этом: пусть, мол, не беспокоятся на сей счет, он ни о чем не желает расспрашивать, не собирается вмешиваться и до конца сохранит спокойствие, такому моменту не слишком, может, и подобающее. Он попробовал представить смерть какого-то существа, с плавательными перепонками и жабрами, больше похожего на химеру, чем на человека, но кровь от крови его, его породы. Как оно дышит, как еще стучит сердце, но биение замедляется и уже вот-вот грозит оборваться. Если б еще без боли, подумал он, если бы существовала в жизни стадия, слишком ранняя для боли. Но он знал — такого не бывает. Стоять было утомительно, он прислонился головой к свежевыбеленной стене, хотелось сесть на пол, но почему-то он догадался, что этого делать нельзя, не сейчас. Сверху мерцала отработавшая свой век люминесцентная лампа; он запрокинул голову, и на мгновение мерцание усыпило его, нагнав тягучую вялость, а потом, когда он уже стоял возле ее кровати и смотрел на потное лицо, на свисающие сосульками волосы, на закрытые веки, он был рад, что никто не спросил его, хочет ли он взглянуть на ребенка; встреча с мертвым гномоподобным существом страшила его. Он смотрел на девушку и чувствовал подступавшую волну бессильного сострадания; хотел что-то сказать, простое и ясное. Но она никого не слышала, он мог отправляться домой, все прошло как страшный сон, и он с облегчением вздохнул.
Это несчастье не помешало ему перебраться на новую квартиру. Теперь он работал в университете, написал половину монографии о Ветеринге, отрезав тем самым все пути назад.
— Не советую затягивать, — предостерегал его Кронензойлер, — иначе я ничего не гарантирую. Грядут сокращения, понимаете?
— Да, — отвечал Юлиан, — конечно! Я понимаю.
Он старался изо всех сил: читал ночами, испещряя пометками страницу за страницей, познавал тишину библиотек, нарушаемую скребущими карандашами. Делал выписки из старинных книг, вставлял в свой текст длинные цитаты, исписывал карточки убористыми замечаниями и, просыпаясь, все чаще и чаще вспоминал о людях в париках, о домах с башенками, о горящих рукописях и стеклянном шаре, изнутри которого за ним следили круглые глаза насекомого; казалось, это были чужие сны, каким-то загадочным образом перекочевавшие в его жизнь, очень хотелось в отпуск, но где взять время. Он решил посетить дом, где жил Ветеринг, и отправился в пригород Гааги, куда, к слову сказать, не так-то просто добраться.
Переполненный поезд еле полз и прибыл с большим опозданием. Потом некоторое время Юлиан блуждал среди похожих друг на друга улиц с одинаковыми готическими постройками из красного кирпича, без занавесок, с высокими окнами, наконец нашел нужный автобус, проехал семь остановок, вышел и прождал полчаса до открытия музея.
Он оказался единственным посетителем. Что ж, даже здесь Ветеринг никого не интересовал. Юлиан медленно брел вдоль стеклянных шкафов и вглядывался: исписанные бумаги — почерк сначала очень аккуратный, потом, в зрелые годы, нервный, с наклоном, а ближе к концу — панический; первые издания, перья и маленькая лупа, отшлифованная, если верить слухам, самим Спинозой. Под окном на стоянке — два автомобиля и одинокий прицеп, на письменном столе — кем-то нацарапанное «привет!». Вот, значит, где провел Ветеринг двадцать лет, где ходил взад-вперед по комнате, работал над «Экономикой» и во время прогулок, как свидетельствуют источники, так часто ломал руки и ноги, словно упрямо не желал замечать окружающие его углы и пороги, да и вообще те многочисленные препятствия, которые чинил эмпирический мир.
Лестница вела на второй этаж. Спальня: голая комната, пропахшая пылью. Юлиан с тоской посмотрел на кукольную кроватку. В витрине лежали блокнот, счеты и круглый янтарный камешек. Он наклонился: внутри виднелись песчинки, застывший потек в виде спирали, кусочек дерева и муха, расправившая крылья с тонкими прожилками. Некоторое время Юлиан не сводил с насекомого глаз, словно пытался что-то припомнить. Потом отвернулся и поднялся на последний этаж.
Ему стоило немалых усилий перешагнуть через порог. Кроме узкой скамьи, другой мебели здесь не было. Это казалось странным, равно как и то, что сюда разрешалось так запросто войти. Юлиан замялся, потом присел на скамью.
Незадолго до смерти Ветеринг очень изменился. Исследователи не любят говорить об этом периоде его жизни, там почти не за что зацепиться, знатоки пропускают, медики написали несколько статей. Однажды зимним вечером Ветеринг отправился на прогулку, споткнулся и с небольшого холма кувырком покатился вниз. А когда поднялся на ноги и стряхнул с одежды снег, то поспешил назад в дом, где предал огню все свои сочинения, в том числе почти готовую рукопись «Универсального принципа торговли». В течение последующих двух лет он не опубликовал ни строчки, редко выходил из дому и совсем не мылся. Посетившие его амстердамские профессора сокрушенно рассказывали о маленьком, небритом, издающим нечленораздельные звуки человечке, которого они поначалу приняли за вора, а потом за чудаковатого домоуправляющего. В это время Ветеринг писал на латыни трактат «Per spaeculum», сочинение, чей удивительно изящный стиль и кажущаяся простота совершенно не увязывались с очевидным безумием автора, утверждавшим, к примеру, что человек на смертном одре якобы еще много дней способен блуждать в мире своих фантазий, постепенно отдаляющемся от реального, или что сковывающая нас сила тяжести не имеет власти над свободным духом человека. Желая это продемонстрировать, Ветеринг пригласил в свидетели нотариуса, двух астрономов и пейзажиста и повел их на последний этаж своего дома. Там он забрался на скамейку (да-да, вот именно, на эту самую, Юлиан невольно встал) и произнес беспримерную по своей красоте речь, — как впоследствии вспоминал нотариус, — во славу человеческой свободы и той легкости и мужества, с которыми материя способна видоизменяться; где бы ни брался Юлиан за эту речь — на работе ли, дома, в навязчиво-белой квартире, его глаза всякий раз застилали слезы. Потом Жерон Ветеринг, выдающийся ученый-универсал своего времени, основоположник современной статистики, корреспондент Лейбница и один из создателей дифференциального исчисления, одним махом оказался на подоконнике, расправил руки и оттолкнулся. А секунду спустя размозжил голову о мостовую.
Юлиан подошел к окну, посмотрел вниз, на стоянку, и невольно попятился назад. По рассказам — очевидцев, четыре господина высунулись из окна и некоторое время что-то высматривали в небе, пока один из них не догадался опустить глаза на окровавленную землю, покрытую коричневыми пятнами и ошметками мозгов. Юлиан прислонился к стене, на него вдруг разом навалилась усталость; он вспомнил разорванное на части тело на далеком перроне. Солнечные лучи наискосок стреляли в уже давно не мытое окно, обнажая все неровности. И муха, такая же, как та, в янтаре, с глухим стуком все снова и снова билась о стекло.
Юлиан вернулся домой и продолжил работу. Он печатал страницу за страницей, пока боль в глазах, делаясь нестерпимой, не загоняла его в кровать. Он закурил, но скоро бросил — не понравилось: колючий теплый вкус казался отвратительным. Всего за две ночи, с полным кофейником, дрожащими руками и стиснутыми зубами, с кружащейся от истощения и скуки головой, написал последние сорок страниц о значении «Экономики» для разработки современных методов вычисления с повышенным фактором риска. Через неделю отдал рукопись «Ветеринг: личность, творчество и значение» в университетскую типографию: зеленый переплет, триста страниц, солидная и неудобная. Реакция журналов последовала неестественно быстро. Критика была уничтожающая.
В одной рецензии речь шла об «утомительной компиляции», в другой — о «халтуре ниже посредственного», а «Спинозовский вестник» заявил следующее: «Из того, что этот автор упустил, не понял или забыл, может получиться фундаментальный труд». Вот эту статейку, заботливо вырезанную и приправленную рукой Кронензойлера изящным вопросительным знаком, Юлиан и обнаружил на следующее утро в почтовом ящике.
Он скомкал ее и выбросил, снова достал из корзины и разорвал. С пересохшим ртом и ватными коленями побрел в университет, заперся в кабинете и, грызя карандаш, уставился на кипу экзаменационых работ, которые до послезавтра надлежало проверить. Он потер глаза. Затрезвонил телефон, но Юлиан даже не шевельнулся, в такой час могла звонить только мать. Слава богу, она не читала «Спинозовский вестник». Слава богу, его вообще никто не читал! Телефон не умолкал; он вздохнул, вынул изо рта карандаш, снял трубку, услышал на другом конце удивительно невозмутимый голос: «Ваша мать, только не волнуйтесь, ваша мать, мы должны поставить вас в известность, ваша мать покончила с собой».
Три пачки снотворного, растворенные в воде. Еще накануне, как показало вскрытие, она села в кресло, в котором, насколько он помнил, всегда сидел отец, опустила ноги на ковер, где когда-то пробуждались к жуткой жизни игрушки, включила радио, — но там шла передача о здоровье с советами врача, — а потом глоток за глотком, как и следует, выпила целый стакан. Все случилось минут за двадцать, не больше, если верить медицинским справочникам. Юлиан пытался представить себе, как она ждет, как огромное зеркало на стене в последний раз отражает ее образ; но, непонятно почему, в голове роились лишь неуместные мелочи, бессмысленные и не поддающиеся проверке. Сосед, наверное, подстригал газон, где-то поднимался из трубы дым, машина искала место для парковки, а почтальон опускал в почтовый ящик три конверта с рекламой. Яд усыплял тело, замедлял движения и только потом, впрочем, очень скоро, действовал на сознание. На чем в конце концов остановился ее взгляд, что было самым последним: зеркало, телефон, ковер или изрыгающий звуки приемник? Конечно, он не знал, никто этого не знал, глаза покойника ничего не выдают, их взгляд угасает вместе с сознанием, и там, где еще несколько секунд назад находился человек, оставалось нечто размытое, дрожание в воздухе, больше ничего. Мать еще отставила стакан, правда не на матерчатую салфетку, годами для этого служившую, — вот, пожалуй, единственное подтверждение того, что мир для нее постепенно меркнул. И почтальон, насвистывая, отправился восвояси, машина нашла место для стоянки, сосед отставил газонокосилку, а врач посоветовал слушателям снова включить радиоприемники через неделю. Только дым продолжал подниматься в небо, принимая различные формы под воздействием стихавшего и снова набиравшего силу ветра. Тело пролежало всю ночь в пустом доме, хоть это и не совсем верно, так как зеркало ни на секунду не упускало неподвижного двойника. Около семи рассвело, в половине одиннадцатого пришла уборщица, поставила сумку, на какое-то время задумалась, а потом медленно побрела к телефону.
— Но это не твоя вина! — успокаивала Клара.
— Разумеется, не моя! — Юлиан внимательно посмотрел на девушку. Теперь они виделись совсем редко: Клара как будто выросла, повзрослела, цвет ее волос изменился, и тот день, когда моросил дождь, а может, и нет, казался невероятно далеким, словно он его сам придумал. — С чего ты взяла?
— Не знаю! — Она всплеснула руками. — Я просто подумала!..
— Никто не мог ничего изменить, — заключил Юлиан. Нашел глаза Пауля, но тот не отвечал. Брат сидел, обхватив голову руками, и, казалось, думал совсем о другом.
— Прости, — встряхнулся он, — я не слышал!
Он рассеянно посмотрел на Юлиана; Клара с шумом втянула воздух, встала и вышла из комнаты.
— Мы бы все равно ничего не изменили, — сказал Юлиан.
— Скорее всего нет.
— Я это и сказал!
— А как дела на работе? — спросил Пауль.
— Я думаю, сейчас не совсем подходящий…
— Да-да, конечно, не подходящий, — сказал Пауль. — Извини!
— Не очень-то. Я наверняка лишусь места.
— Без него бы никаких компьютеров не придумали.
— Без кого?
Пауль смерил брата долгим взглядом.
— Без Ветеринга. У него есть одна очень важная статья, о возможностях универсального языка жестов, там впервые предлагается бинарная формализация. Двоичная система, так это тогда называлось. Но тебе, конечно, известно.
— О да, — сказал Юлиан неестественно громко, он и понятия не имел обо всем этом. — Во всяком случае, я, похоже, допустил несколько ошибок. Ничего существенного, разумеется!
Пауль снова посмотрел на брата. На его губах заиграла слабая улыбка.
— У меня есть связи в одной страховой конторе. Не так грандиозно, конечно, но…
— Я уже застрахован.
— Да я не об этом толкую, я о работе.
— Как ты сказал?! — Юлиан поперхнулся. — Пожалуйста, не сейчас!
— Конечно, не сейчас, — согласился брат, — конечно, не сейчас.
— Напиши адресок!
Теперь засыпать стало еще труднее. Каждый вечер из темноты возникал образ матери со стаканом воды в руке. Юлиан закрывал глаза и прислушивался к тиканью часов и к уличному шуму. Через некоторое время раздавались голоса, совсем близко, но тихие-претихие, так что разобрать ничего не удавалось. В голове носились странные мысли; и порой он приходил к неожиданным, но вполне очевидным умозаключениям; стоит только пойти назад, и время тоже вернется вспять, а после умножения двух на три с одинаковой вероятностью получится шесть, семьдесят девять или двенадцать; а потом он чувствовал, как становился все легче и легче, как подступал сон и… снова пропадал. И он по-прежнему лежал с открытыми глазами и не спал. За окном поднимался пятнистый месяц, следуя своему пути и заставляя звезды то ярко светиться, то бледнеть, и в конце концов уходил с небосвода еще до того, как под сопровождение поливальных машин предрассветные сумерки подползали к крышам. Нередко он обращался за помощью к счету. И считал, все дальше и дальше, по нарастающей. Не помогало и это, числа постепенно становились угрожающе чужими, но бросить счет казалось тем более невозможным; что-то связывало его, и освобождение не наступало. Он думал о страховой конторе, о Вельнере, его новом начальнике.
Об этом маленьком, лысом, умном и злом человеке. С самого начала Юлиан не мог отделаться от чувства, что его невзлюбили. Во время их первого разговора Вельнер сидел за громадным письменным столом в своем затемненном кабинете, истинные размеры которого не поддавались определению, так как за спиной начальника все тонуло в тени. Вельнер откинулся назад, сложил руки за головой, подтянул колени к животу, поджал ноги и вкрадчивым голосом сказал:
— Дорогой мой, я не уверен… — На несколько секунд умолк, словно о чем-то задумался. — Не совсем уверен, что ваше место здесь, понимаете?
Юлиан молчал. Он понимал очень хорошо. Но продолжал смотреть в пол, делая вид, будто ни о чем не догадывается. Вельнер пожал плечами и меланхолично продолжал:
— Ну ладно, как хотите! Поскольку мы питаем безграничное доверие к вашему брату… Втянетесь в работу, это нетрудно, собственно, мы здесь ничего не… Мальхорн вам все покажет. И кланяйтесь вашей жене!
— Я не женат.
— Ну, не важно.
Вельнер подался вперед, и вдруг его глаза сверкнули, хотя Юлиан уже ни за что не ручался. Он разглядел на столе глобус, подставку с дорогими ручками и маленький янтарный шарик.
Ему выделили место: письменный стол, компьютер, телефон и кучу бумаг, о назначении которых он даже по прошествии многих недель не имел ясного представления. Это были отчеты об авариях, несчастных случаях, катастрофах, выраженные в цифрах: сколько бы там, за окном, ни набралось человеческих судеб, все они подвергнутся обработке математикой. Тридцать один процент супружеских пар обзаводятся детьми, сорок процентов всех вступающих в брак разводятся, в возрасте между тридцатью семью и сорока. И еще до Нового года один процент из ныне живущих отойдет к праотцам; четыре процента от этого числа погибнут в результате несчастных случаев — в аварии, от удара током, а кому-то суждено утонуть; двадцать четыре процента унесет рак, у пятидесяти четырех — сдаст больное сердце. И совершенно не важно, что замышлял или на что в конце концов решался каждый отдельный человек, — расчеты все равно оставались незыблемыми.
— От чего это зависит? — поинтересовался однажды Юлиан. — Отчего окончательные показатели и прогнозы никогда заметно не расходятся?
— Простите, не понял? — Его коллега, толстогубый Мальхорн, безучастно посмотрел на Юлиана. Они сидели в столовой, пахло едой, их разделяли две уже неполные тарелки с супом.
— Я вот тут подумал: все ведь случайно и в любой момент может измениться… Я хочу сказать: ведь может все обернуться иначе?
— Разумеется. — Мальхорн нащупал салфетку.
— Но почему же этого не происходит? Если каждая жизнь зависит от случайностей, почему число аварий не удваивается или наоборот? Ну хоть раз, вот просто так, вдруг, без какой-либо особой причины?
— Статистика, — ответил Мальхорн. — Если она верна, то сбываются даже предсказания.
— Но кто сказал, что они обязательно сбудутся?!
— Если объем данных становится необозрим, — Мальхорн тщательно вытер рот, — то средние показатели приближаются к ожидаемым, — и отбросил салфетку.
— Значит, выходит, мы все — на посылках у статистики, но почему? Я и вы, каждый? Понимаете, о чем я?
— Что ж, если начистоту… — Секунду Мальхорн молчал. Потом отодвинул стул и взял поднос. — Я ни малейшего понятия не имею!
Над письменным столом Юлиан повесил портрет Ветеринга в непомерно большом и уже по тем временам старомодном парике. Некоторое время все шло ничего, но потом Мальхорн начал отпускать на сей счет пренебрежительные замечания, а сам Юлиан понял, что под пронизывающим взглядом мыслителя, да еще с нахмуренным лбом, работать невозможно; он снял портрет и поставил на пол, лицом к стене. Дверь всегда была полуоткрыта, и время от времени он видел Андреа с пачкой бумаг. Иногда она мельком поворачивала голову в его сторону и, прежде чем он успевал ответить, исчезала; тогда улыбка озаряла лицо Юлиана, он хватал пластмассовую ручку, ощущая полное удовлетворение даже после одного взгляда девушки. Ему уже давно не давали покоя, преследуя даже в редких снах, ее глаза, Покатость изящных плеч и желание положить руку на ее головку, склоненную над столом. Прошло еще несколько недель, и только тогда он заговорил. Вскоре они отправились на выходные за город, в пансион.
Целых два дня бродили по лесам, катались по грязному озеру на лодке и любовались ночным небом. Сохранилась фотография: размытый фон, притворные улыбки. Вечера тянулись бесконечно, и говорить было не о чем. По ночам он видел пестрые и запутанные сны, утром в столовой горланили дети, носясь между расшитыми скатертями и посеревшими диванными подушками. И когда они поехали домой, он, к своему удивлению, только облегченно вздохнул.
— Придешь завтра? — спросила она.
— Куда?
Она не ответила.
— Ах да, — опомнился Юлиан, — прости! Конечно, приду.
День выдался ясный, ветер бился в окна его нового автомобиля, купленного совсем недавно: пришлось снова взять кредит, и ответственный за это человек в банке, как всегда, пошел навстречу. Андреа встретила его в дверях. В первое мгновение он едва узнал ее: лицо бледнее, чем накануне, словно девушка поменялась местами с менее интересной сестрой-близняшкой. В квартире оказались две скудно освещенные и пропахшие ароматическими палочками комнаты; на стенах скученно висели абстрактные картинки — тяжелые крашеные холсты с неразборчивыми подписями. Попугай, неожиданно спланировав к Юлиану на плечо, стал недовольно клевать его ухо.
— Это Клаудио, — представила хозяйка своего любимца.
Юлиан кивнул, поднял глаза, опять не узнал ее. На обеденном столе горела свеча, которая все норовила погаснуть и которую снова и снова приходилось зажигать. Когда они, вскоре после ужина, лежали в постели и он чувствовал под собой ее худенькое тело, вдруг совсем рядом раздался хриплый старческий кашель. Она спокойно сказала:
— Клаудио, замолчи.
Потом обняла его и что-то прошептала, но он не разобрал и твердо решил, что все только сон, и окончательно в это поверил, когда опять оказался в машине, наблюдая, как выплывают из темноты и снова исчезают фасады домов, как светящиеся буквы набегают друг на друга, как вспыхивают и меркнут витрины. А когда через полчаса нырнул под свое одеяло, тут уж развеялись всякие сомнения.
Он чуть не забыл про день рождения Вельнера. По дороге заблудился и приехал последним. Впереди выросла загородная вилла средних размеров, на лужайке торчали пухленькие гномы с тачками и лопатами, чугунная «В» косо сидела на воротах. Немного стесняясь, он вошел и столкнулся лицом к лицу с Мальхорном.
— Ого! Ну да лучше поздно, чем никогда, — язвительно заметил тот.
— Иногда и наоборот, — поправил Юлиан.
— Это почему же?
— Да так. Я только хотел сказать… — Он запнулся, но Мальхорн продолжал смотреть серьезно и вопросительно. — Иногда лучше вообще не приходить. Просто шутка!
— Но ведь вы на полном серьезе!
— Знаю… — Юлиан потер глаза. — Мне только подумалось… Я знаю! — Юлиан хотел прислониться к стене, но не нашел ее и растерянно озирался вокруг. Ни одного знакомого лица. — Мне только подумалось… что… иногда можно выразиться…
— Но вы выразились на полном серьезе! — Мальхорн поправил галстук.
— Как вы думаете, — прохрипел Юлиан, — попросить стакан воды — это прилично?
Мальхорн покраснел. На лбу нарисовались морщины.
— Еще увидимся! — буркнул он, отступил и растворился в толпе. Юлиан снял запотевшие очки и протер их краем пиджака.
Осмотрелся. Мужчины в серьгах, женщины с рыбьими глазами, старик в зеленых очках кивнул ему, Юлиан видел его впервые, но на всякий случай тоже кивнул; откуда-то доносились звуки рояля, в середине залы худая как соломинка дамочка пустилась в пляс, но никто не обращал на нее внимания. Чья-то рука легла ему на плечо, насмерть перепугав, — Андреа рассеянно улыбнулась и скрылась. Юлиан схватил первый попавшийся стакан — со следами помады по краям, но ему уже было все равно, — залпом осушил и отставил в сторону. А потом перед ним вынырнул Вельнер, высоко поднял брови и воскликнул:
— Отличные новости!
— Простите, что вы сказали?
— Мы едем в Италию, вы и я. Этой осенью. Небольшая конференция, ничего серьезного, почти как в отпуск.
Юлиану потребовалось несколько секунд, чтобы открыть рот для ответа, но Вельнер уже проследовал дальше.
Позже на улице он попрощался с Андреа. Та стояла возле своей машины, — глазки узенькие от усталости, — и вдруг ему снова открылась какая-то особенная и загадочная красота девушки. Юлиан рассказал ей о разговоре с Мальхорном.
— Кажется, ты никогда ничему не научишься? — заключила она.
— Чему?
— Ты никогда ничему не научишься, — повторила она.
Он ждал, но Андреа ни слова больше не сказала. Только кивнула на прощание, села в машину, завела мотор и умчалась. Он смотрел ей вслед; и даже когда машина уже давным-давно скрылась, все еще стоял на том же месте. Потом поднял воротник и прислонился к забору. Голова раскалывалась, жесткий забор впивался в спину. Через некоторое время глаза привыкли к темноте. Он снял очки и спрятал их в карман. И вдруг ни с того ни с сего ему подумалось, что все еще может устроиться.
V
— Только через восемь лет пропавший без вести официально признается мертвым. Надеюсь, это тебе известно.
— Я не пропал, я утонул. Доказательства налицо.
— Все равно. Если нет трупа — восемь лет.
— Но если есть письменное согласие близкого родственника, тогда гораздо раньше.
— А кто этот родственник?
Юлиан не отвечал.
— Ах вот ты куда клонишь. — Взволнованный Пауль сидел глубоко в кресле и в оцепенении, не моргая, смотрел на него. — Но если серьезно, Юлиан, что все это значит?
— Нам дана только одна жизнь. Ясно как день, и даже детям известно. Это, наверное, самое первое, что пытаются нам вбить в голову родители.
— Ну и что?
— У меня будет еще одна.
Пауль покачал головой:
— Допустим, но и это выгорит только с одного бока. Думаешь, у тебя получится стать кем-то другим. Нет уж, ты — молодой человек со слабым зрением, написавший плохую книгу о всеми забытом мыслителе эпохи барокко, да еще виновный в смерти матери. Вот ты кто, и останешься им навсегда.
— Если я повинен в смерти матери, в таком случае ты тоже.
— О, и даже больше твоего!
— Ты так говоришь, словно это пустяки!
— Пора бы уже понять, — перебил его Пауль, — как нелепы все твои попытки бегства. Хотя, если честно, это был смелый поступок, тогда. И угораздило же тебя приехать именно туда, где женщина попала под поезд.
— Я не знал, что это была женщина.
— Писали газеты. Да, собственно, все идет по кругу: ты вечно хочешь чего-то нового, а я не хочу ничего. И если подумать, добиться того или другого не так-то просто.
— Ничего не хочешь? Поэтому ты и занимаешься игрушками?
— Но что, по-твоему, такого предосудительного в моей работе? В настоящий момент, к примеру, мы разрабатываем одну вещицу, где с помощью искусственного интеллекта действует экипаж космического корабля. Только постепенно, шаг за шагом игрок невольно понимает, что его команда не такая замечательная, как казалась вначале, что люди неверно выполняют его приказы, то ли из-за собственной безалаберности, то ли умышленно. Некоторое время человек думает, что где-то допустил ошибку или вообще винит во всем нас, разработчиков. Но потом, вот к этому-то моменту и сводится игра, рассеиваются последние сомнения: он окружен врагами и всеми обманут, с самого начала. И никаких шансов выиграть. — Пауль ухмыльнулся. — Так оно и есть. Выиграть действительно нельзя.
— Неужели такое покупают?
— Странно, правда? Причем создать игру сложнее, чем кажется. Нужно научить машину лгать, а она на это не рассчитана.
Юлиан скрестил на груди руки. Об игрушках говорить не хотелось.
— Почему ты пришел сюда?
— Мне позвонили. Какой-то незнакомец, говорил на ломаном немецком, вроде итальянец. Понятия не имею, откуда у них мой телефон. Во всяком случае, человек сказал, что они уже начинают волноваться, потому что вчера ты не появился, а сегодня утром они обнаружили твою одежду, очки, даже полотенце, только ботинки не нашли…
— Как не нашли?
— Очень просто. Никто не знал, что и думать…
— Почему не нашли ботинки?
— Откуда мне знать. Ну и вот, так как никто…
— А портье неужели не вспомнил меня?
— Вероятно, нет. И так как никто…
— Да как он посмел забыть, ведь этот тип еще меня предостерегал?! — воскликнул Юлиан. — Почему ни на кого нельзя положиться? И какой хам посмел своровать у утопленника ботинки?
Пауль немного помолчал.
— Так как никто не знал, куда ты запропастился и какое объяснение найти всему этому, и так как полицейский катер может выехать только после обеда, в конце концов, сегодня же воскресенье…
Юлиан открыл рот. Пауль поднял руку:
— Хватит о ботинках, ни слова больше! Вот меня и попросили проверить, не объявился ли ты здесь. Если нет, они заявят в полицию, как и положено в подобных случаях.
— Но ты, ясное дело, обо мне не волновался.
Пауль пожал плечами.
— А в коридоре разве я не походил на привидение?
— Кто знает, может, ты и есть привидение. Лучше скажи, куда собираешься податься: в Латинскую Америку? в пустыню? на острова?
— Конечно, на восток. На северо-восток. Судя по всему, там легче всего затеряться.
— Но тебе нужен паспорт.
— Это не проблема. Хочешь со мной?
Юлиан замолчал, удивившись тому, что сам только сейчас сказал. Пауль прищурился и изумленно на него посмотрел. Под пронизывающим взглядом брата у Юлиана закружилась голова.
— Этот вопрос не обсуждается. Ты утонул там, не я. Юлиан кивнул и почувствовал облегчение.
— Мне нужны деньги.
Пауль достал бумажник, вынул все, что было, и протянул брату:
— Хватит?
— Наверно.
Юлиан, не пересчитав, спрятал деньги.
— Только смотри в оба! Небось еще не забыл, как раньше, когда умудрялся что-то посеять, все божился, будто тебя обворовали два человека в черном? Высокие, прилично одетые и очень вежливые. Но тебе ни разу не поверили. А ты ничего так не боялся, как этих людей в черном.
— Ни о чем не беспокойся! — злобно сказал Юлиан, ничего такого не припоминая. И поднялся. Пауль устало взглянул на брата, словно разговор довел его до изнеможения.
— Ну, и что же? — спросил Юлиан. — Что ты им скажешь?
— Кому?
— Тем, кто тебя послал.
В глазах Пауля вспыхнула искорка недоверия.
— Ты же должен проверить, здесь ли я!
Пауль пожал плечами:
— Скажу, что видел привидение.
— Вот за это спасибо! — Он протянул руку, брат даже не пошевелился, и рука проделала обратный путь. Взгляд Юлиана скользнул по картинам, ковру, столу, шкафу, остановился на Пауле, который сидел с пустым выражением лица, наклонившись вперед и вцепившись в ручки кресла, и вдруг он подумал, что вообще ничего не знает, что знает брата не лучше, чем какого-нибудь шапочного знакомого. На мгновение Юлиан замешкался. Потом вышел.
Уголком глаза увидел пустое зеркало, хотя и старался в него не смотреть. Открыл дверь, вытащил ключ, снял с крючка куртку и надел, уже сбегая по лестнице. Ступени обрушивались в бездну, и, чтобы не потерять равновесия, приходилось хвататься за перила. Наконец он вылетел на улицу. Теперь снег валил по-настоящему. Большие хлопья кружились в воздухе, на земле лежал слой грязно-белой жижи. Юлиан поднял воротник, спрятал руки в карманы и опустил голову.
Он лавировал между людьми, пожарными кранами, колясками, собакой на поводке, ускорил шаг и потом, как-то само собой, побежал. Мимо знакомых домов, витрины супермаркета, книжного, где на лотках целых три дня пролежал «Ветеринг: личность, творчество и значение», — все это он видел в последний раз. Светофор переключился на зеленый, Юлиан махнул через дорогу, уклонился от распространителя рекламы, перепрыгнул через лужу и поднял голову. Перед ним выросла стеклянная стена, в которой отражались небо, дома и машины. Здесь он работал. Страховая компания.
Невероятно! Он даже не заметил, как выбрал эту дорогу. Он отвернулся и уже хотел побежать дальше. Но вдруг остановился. И, передумав, повернул назад.
В конце концов, сегодня воскресенье. Сюда не входили, внутри никого, ни одной живой души, здание стояло пустое. А там черный ход, никто и не пронюхает, если… Он нащупал в кармане связку ключей. Нет, нелепая затея! Покачал головой и твердо решил, что заходить нельзя ни в коем случае и он этого не сделает.
Тяжелая дверь, тихо скрипнув, медленно отворилась. В полумраке пахло пылью, гнилью и грязью. Он закрыл за собой дверь и направился к лифту; освещенная тусклым светом кабинка опустилась. От волнения Юлиан кусал нижнюю губу, пока не почувствовал слабый вкус крови. Потом нажал на кнопку одиннадцатого этажа, кабинка пришла в движение. Он прислонился к стене и сделал глубокий вдох.
Лифт остановился, он вышел. Посмотрел направо, налево и еще раз направо. Нащупал выключатель, и бледный электрический свет волной пронесся по коридору.
Открыл дверь кабинета. Все стояло на своем месте: стол, скоросшиватели на полке, стопка бланков, телефон, перевернутый портрет Ветеринга. Одна стена была целиком из стекла: с этой стороны хорошо просматривались плетения улиц внизу, над которыми висели в воздухе светящиеся точки фонарей, по всей видимости только что зажженных. Люди шли по тротуарам, низкие облака роняли хлопья; и чем дольше Юлиан вглядывался, тем больше убеждался в том, что они застыли на месте, а он уносился вверх. Он сел и, когда спинка кресла подалась назад, страшно перепугался; значит, он еще находился в теле, и это казалось почти невероятным. Он снял трубку телефона, задумался, снова положил. Стояла необычайная тишина, даже тихий стук, с которым хлопья ударялись о стекло, был слышен. Он снова схватился за трубку и по памяти набрал номер. Раздался звонок. Раз, еще раз. И еще. Потом что-то щелкнуло, и он услышал голос:
— Алло!
Это была Клара. И вдруг кровь застыла у него в жилах, сам того не ожидая, он даже пальцем не мог пошевелить от страха.
— Алло, — повторила она. — Да?
Она замолчала, он ждал; она по-прежнему молчала. Верно, прислушивается, догадался он, внимая ударам своего сердца и высокому журчанию в линии.
— Юлиан, — не выдержала она, — это ты?
Стол впереди как будто отодвинулся, рот открылся, он знал: сейчас последует ответ, набрал воздух, сейчас!.. Рука опустилась на рычаг телефона. Некоторое время до его слуха долетало эхо заикающихся гудков «занято». Стол медленно скользил по комнате. Юлиан загарпунил его локтями и потер виски. Может, он ослышался, может, она все-таки не назвала его по имени, может… Но, бог с ним, не столь важно! Даже если каким-то загадочным образом она его узнала, что с того: звонило привидение, и не такие чудные знаки посылают покойники, готовясь уже совсем скоро перейти невидимую грань между мирами. Юлиан был мертв, и только это имело значение.
Он вытянул с полки скоросшиватель, раскрыл и стал листать исписанные не одной чужой рукой бумаги; сколько судеб, как две капли воды похожих друг на друга, хотя каждая в отдельности считается неповторимой. Папка захлопнулась и прицельно полетела в сторону мусорной корзины, раскрылась в воздухе, задела окно, отскочила от железного края корзины, та упала, а из нее покатились бумажные шарики. Папка шлепнулась на пол. Юлиан сверлил ее взглядом, словно одержал верх над сильным врагом.
Из пачки лежавших на столе бланков он взял листок, но не сверху, а из самой середины, поднял на свет. Изнутри вспыхнули переплетения водяного знака, — почерк был крупным, характерным и как будто знакомым. Юлиан старательно разорвал листок точно посередине, сложил половинки, снова разорвал, сложил и разорвал, проделал так еще трижды, но дальше все застопорилось: слишком много бумаги; если его подсчеты верны — шестьдесят четыре листочка. Как же стремительно растут предоставленные самим себе числа! Он открыл ладони, и клочки бумаги дождиком посыпались на стол. Юлиан тихонько захихикал. И спросил себя, а не сумасшедший ли он. И вдруг его ни с того ни с сего захлестнуло веселье, сильное, безудержное, отогнать которое невозможно. Но ведь примерно так и изображают безумцев во всех книжках? Они звонят, рвут бумагу, занимаются произволом по отношению к живущим вокруг, а потом пропадают навсегда. Юлиан поднялся и вышел, ни разу не обернувшись.
Свет снова погас. Когда он уже приближался к лифту, стена в другом конце коридора неожиданно отступила; что-то нарушилось в перспективе. Он пошел быстрее, миновал кабинет Мальхорна, коридор все больше растягивался, из-под двери Вельнера пробивалась узкая полоска света. Снова ускорил шаг и добрался до лифта, кабинка еще ждала, он зашел и нажал на самую нижнюю кнопку.
Выскочил на улицу. Между тем поднялся ветер; стремительно изменяясь, плыли облака; уборочная машина оставляла за собой дорожку из соли и гальки.
В метро на эскалаторе он чуть не поскользнулся. Женщина с плаката на платформе ни на секунду не выпускала его из вида: раскосые глаза, губы бантиком, спадающие на лоб рыжие локоны; он машинально отвел глаза. Заглянул во мрак туннеля, где уже вырисовывались очертания поезда: по рельсам побежали отблески фар, затем показались и сами фары, стекло и зевающая физиономия машиниста. Юлиан вошел в вагон.
За окном проносились потемки, под ногами дрожал пол, напротив сидел мальчуган лет десяти и очень серьезно его разглядывал. Огромные от любопытства глаза, увеличенные кругляшками очков.
— С вами все в порядке?
— Да, — ответил Юлиан, — а что?
Мальчик смотрел на него открыв рот, потом убрал с лица волосы и спросил:
— А куда теперь?
— Что?
— Куда вы едете?
— К отцу.
— Хорошо, — одобрил мальчик, — очень хорошо! Юлиан собрался спросить, что тот имеет в виду, но поезд уже тормозил и пора было выходить. Длинный эскалатор вывез его на улицу. К серой стене, на которой высвечивался рисунок из окон. Полицейский лихорадочно махал жезлом, подавая какие-то знаки. Двери открылись, в зале навязчиво пахло чистотой. Дежурный на входе даже не обратил на него внимания, два врача в белых халатах шепотом что-то бурно между собой обсуждали. Юлиан медленно стал подниматься по лестнице. По низким и стертым ступеням. Навстречу шаркала старушка, в шлепанцах и в махровом халате, остановилась, провожая его остекленевшим взглядом. Он отвел глаза и заспешил дальше.
Лестница заканчивалась коридором без окон, освещенным неоновыми лампами, одна из которых сломалась и, тихо пощелкивая, то вспыхивала, то снова гасла, вспыхивала и гасла. Изображенная на плакате многоножка предостерегала: «ПРИВИВАЙСЯ СВОЕВРЕМЕННО». Юлиан не сразу вспомнил номер палаты; но потом из глубин памяти выплыло: сто семь. Он остановился, взялся за ручку двери, на миг задумался. Как давно он здесь не был? Пожал плечами и вошел.
Две кровати, шкаф, стол и два железных стула. На стене криво подвешенный телевизор, на тумбочке стакан воды. Еще тарелка с плоским пирогом и яблоком. Одна кровать была пуста, на другой лежал старик.
Одеяло натянуто до подбородка, руки — тощие и почти прозрачные — едва касались простыни. Морщинистая шея, щеки испещрены маленькими предательскими порезами, изобличавшими брившую их чужую руку. Взгляд старика на мгновение задержался на Юлиане, но глаза как будто видели что-то другое, а может, вообще ничего не видели. Юлиан уже собрался пододвинуть стул, но потом передумал.
— Знаю, — покаялся он, — я давно не был. Не знаю почему. Я только хотел предупредить, что… я ухожу.
Он выжидал. Но ответа не последовало; старик сделал вдох, тихий, со свистом, четко обозначились его впалые щеки, даже нос еще больше заострился. Как можно стать таким маленьким?
— Тебе скажут, что я умер, — снова начал Юлиан, — но это неправда. Я вышел на ту самую дорогу, которую в свое время избрал ты. Но я пошел в другую сторону.
И вдруг ему захотелось пить. Юлиан посмотрел на стакан и в ту же секунду, сам того испугавшись, почувствовал сильное отвращение. Он перевел глаза на тарелку с пирогом и яблоком. Кто ее туда поставил и для чего? Юлиан попытался вспомнить человека, утром уходившего на работу и вечером приходившего, только тогда его и видели в семье; большую и слегка сутулившуюся фигуру, запах лосьона для бритья в ванной, исцарапанный портфель, до которого даже пальцем не разрешалось дотрагиваться, и крик, нередко переходивший в визг. Однажды Юлиан заглянул к нему в контору. Отец сидел перед телефоном среди груды бумаг, и оба не знали, что друг другу сказать. Снова и снова от стола отделялся листок с буквами, медленно парил в воздухе, а потом беззвучно приземлялся на пол. Тогда отец со вздохом наклонялся и поднимал его. Через час Юлиан ушел.
Внезапно он осознал, как все до смешного нелепо. Что заставило его явиться к этому старику?
— Как меня сюда занесло?
Неужели и впрямь с языка сорвалось? Он смущенно коснулся отцовской руки. Пальцы не отвечали, никакого пожатия. И все же кое-что произошло.
Отец открыл рот. Голова едва заметно качнулась. Юлиан невольно подался вперед. Его обдало запахом стираного белья, лекарств и старого тела, губы отца шевелились, а пальцы подбирались к его руке. Юлиан почувствовал дыхание на своей щеке.
— …сейчас, — услышал Юлиан голос, — да?
— Что?
— Значит, не сейчас. А?
Юлиан высвободил руку. Глаза отца открылись и снова закрылись, костлявая рука напрасно шарила по одеялу.
— Не сейчас, — повторил он, — я прав? Еще нет! Юлиан направился к двери. Зря пришел, старик его не узнал. Он еще раз обернулся: отец спокойно лежал там, ничего не замечая вокруг и даже не повернув головы. Рот по-рыбьи открыт, глаза сосредоточенно сверлили выключенный телевизор. Рука свисала с постели, пальцы казались длинными и почти красивыми. Юлиан тихонько притворил за собой дверь.
Посмотрел на капризную лампу. В течение нескольких секунд ее мерцание целиком овладело сознанием Юлиана: действительность стала размытой; он сжал кулаки: еще нет, он еще не хотел, чтобы все кончилось, не сейчас!.. Он нащупал стену, коридор снова принял привычные очертания, и Юлиан увидел, что спускался по лестнице, мимо двух врачей и дежурного, на улицу; снег доходил уже до щиколоток. На дороге образовалась пробка, отовсюду доносились возмущенные крики, какая-то собака отряхивалась, и белая пыль вихрем взлетала с ее шкуры. Когда Юлиан обернулся, то не увидел больницы — она смешалась с другими домами.
Паспорт! Теперь самое время хорошенько пошевелить мозгами. Несколько лет назад он смотрел фильм, где герою позарез понадобились фальшивые документы, и тогда он отправился в ночной бар. С независимым и доверительным видом вложил украдкой в руку хозяина деньги; тот кивнул, и в следующую секунду показанный крупным планом паспорт был тут как тут, со всеми необходимыми печатями и только чуть размытой фотографией. В реальности, разумеется, все не так-то просто.
А если все же? Юлиан поднял руку, и в то же мгновение, а может и раньше, словно кто-то прочел его мысли — рядом затормозило такси. Он открыл заднюю дверцу и сел. Водитель повернулся: круглое лицо, пухлые губы и усы.
— Ну и погодка! — закричал он. — На дворе ведь только октябрь!
— Опять вы?
Таксист в недоумении уставился на него.
— Вы уже подвозили меня сегодня!
— Я многих вожу.
— Но ведь не два раза в…
— Куда желаете?
Юлиан задумался. Ему стало жарко, он чувствовал, что краснеет.
— Не знаете, есть ли где-нибудь в этих краях ночной бар?
— Чего?
Юлиан сглотнул.
— Где можно выпить… где люди… и если какая нужда… — Он вытер лоб.
— Все понятно! — догадался водитель, и в зеркале заднего вида на долгую секунду расплылась его широкая улыбка. Потом включился поворотник и машина тронулась с места. Юлиан откинулся назад, закрыл глаза, почувствовал, как они притормозили, снова набрали скорость и снова притормозили, сделали поворот и остановились.
— Прошу вас! — сказал таксист.
Юлиан открыл глаза.
— Что?
Водитель медленно вынул изо рта сигарету — Юлиан даже не заметил, что тот закурил, — и стряхнул пепел на соседнее кресло.
— Приехали!
— Да чего тут ехать, ради этого и такси не стоило брать!
— Дело ваше.
Водитель откинулся назад и выпустил в потолок струю дыма. Юлиан расплатился, вылез и замер в ожидании. Только через некоторое время за спиной послышался шум удаляющейся машины.
Перед ним возвышалась голая кирпичная стена, в трещины которой уже забился снег, в стене были маленькие ворота. Приближаясь к воротам, Юлиан спрашивал себя, не стал ли он жертвой злой шутки. Вокруг никого, стена на вид старая и покосившаяся; вдруг какой-то человек преградил ему дорогу. Бесформенный и большой, из-под его воротника и рукавов пробивался мех темных волос.
— Мне бы к шефу, — сказал Юлиан, — к главному. Прошу вас.
Человек, похоже, задумался. Потом кивнул, повернулся и открыл ворота, Юлиан последовал за ним. Они спустились вниз по крутой лестнице, потом прошли по коридору. Граффити, словно загадочные письмена, покрывали стены. Тут до его слуха донеслись резкие пульсирующие звуки, с каждым шагом становившиеся все громче. Дверь распахнулась, и Юлиана накрыла волна оглушительного грохота.
Он невольно зажал уши и только через несколько секунд смог продолжить путь. Проводник почти скрылся в толпе, мигающий свет еще озарял его рваные движения; Юлиан попытался его догнать, но это оказалось непросто, словно ему препятствовало взбунтовавшееся и набиравшее силу время, от которого к тому же предстояло отбиваться. Было не понять, большой это зал или нет; густой дым от прожекторов тяжело висел в воздухе; вокруг мелькали бледные лица, открытые рты, яркие резкие губы, словно их вырезали ножиком; где-то над колонками висел давящий на уши свист, и то усиливался, то снова спадал, Юлиан задыхался, чей-то локоть ударил его в грудь, дурманящий запах пота душил его, он наскочил на женщину, хотел извиниться, но та, очевидно, блуждала уже в нездешнем мире, потом шеи коснулось что-то мягкое и нежное, похожее на вьющееся растение, и на секунду Юлиану почудилось, что его окружает вода, мертвая тишина, наподобие оглушения, и он ясно представил, как идет ко дну, все глубже и глубже…
А потом все прошло. И снова выплыли размалеванные лица с размазанной от пота краской; он поскользнулся в луже рвоты; тощая как скелет дамочка кружилась, подняв руки над головой, но ею как будто никто не интересовался; в углу лежал человек. Верно, пьяный, подумал Юлиан и вдруг увидел кровь, или это все красный свет. И поскорее отвел глаза. Проводник по-прежнему шел далеко впереди, и все больше и больше тел теснилось между ними; дымовая завеса становилась плотнее; Юлиан споткнулся и уперся ладонями в стену, рядом открылась дверь, там стоял проводник и приглашал его войти. Юлиан замялся. Потом почувствовал толчок — и дверь захлопнулась, одним махом отрезав его от шума.
Он потер глаза. Затемненная комната, приглушенные, словно долетавшие издалека, звуки. Он прищурился и постепенно разглядел очертания письменного стола, за которым, наклонившись вперед и опираясь на локти, восседал лысый человек. Стекла его очков слабо поблескивали.
— Вельнер?
— Простите, вы что-то сказали?
— Вы же… Я только хотел… вы как две капли воды похожи на… Нет, извините, этого не может быть! — Юлиан потер лоб, его очки запотели. — Мне бы глоток воды.
— Не сейчас.
Юлиан снял очки и попробовал вытереть их краем пиджака.
— Сперва извольте сказать, что вам от меня нужно?
— Э-э, — Юлиан откашлялся, — паспорт.
— Ах, да что вы говорите?!
Юлиан уставился на лысого. Сходство было поразительное; но он уже ни за что не ручался: освещение никуда не годилось. Потом надел очки, которые сделались еще грязнее. Мужчина откинулся назад и скрестил на груди руки.
— И ты думаешь на всем поставить крест?
— Простите, не понял?
— Я сказал: вы верите в свою удачу! Как вам удалось меня найти?
Юлиан уже собрался рассказать про таксиста, но потом передумал.
— Я заплачу! Вы можете помочь, я знаю.
— Так ты действительно веришь, что обретешь таким образом свободу, Юлиан?
— Простите, не расслышал?
— Я сказал, следовало бы вызвать полицию.
Из-за письменного стола вдруг вырос еще один стол, и за ним тоже кто-то сидел. Но все только привиделось, через секунду Юлиан сообразил, что его опять пытается одурачить зеркало.
— Если хотите совет, дорогой мой, — это не для вас. Вы не тот человек.
— Но я… — Юлиан справился с приступом кашля. — Я заплачу!
Вельнер молчал. Юлиан беспокойно озирался по сторонам. Зеркало в таком полумраке казалось зловещим; при мысли о том, сколько жути явило бы оно в кромешной темноте, по спине Юлиана побежали мурашки, и он поспешил отделаться от навязчивого образа. Вельнер кивнул. Выдвинул ящик, что-то достал и швырнул на стол.
— Вот!
— Что это?
— Паспорт, разумеется. Берите и уходите, да поживее, пока я не передумал! Деньги можете оставить себе. И все равно советую не делать этого.
— Но… — Юлиан протянул руку. И вправду настоящий паспорт: маленький и красный, с тисненым гербом.
— Не открывайте!
Юлиан поднял голову. Очки Вельнера сверкнули.
— Догадываетесь почему?
Юлиан кивнул.
— А теперь исчезните!
— Исчезаю, — тихо повторил Юлиан. Несколько секунд они смотрели друг на друга глаза в глаза. Вельнер усмехнулся и сделал знак рукой. Юлиан отступил, и дверь захлопнулась перед самым его носом. Снова барабаны, снова мерцающий свет и дым, переливающийся всеми цветами. Юлиан двинулся вперед сквозь чад и неприятный запах тел, к горлу подступала тошнота, но он продолжал бесстрашно продираться, кого-то оттолкнул в сторону, другому хорошенько двинул и наконец пробрался к выходу; перед глазами замелькали граффити, он взбежал по лестнице, толкнул дверь, вышел на улицу. На мороз, под падающий снег.
Нестерпимо хотелось присесть, но времени уже не осталось, теперь главное — поскорее прочь. Он все еще держал в руке паспорт; потом спрятал в карман пиджака и двинулся дальше; автомобиль разрезал лужу, и брызги полетели прямо на его штаны. Лениво проползла снегоуборочная машина. Поодаль стояла, прислонившись к стене, женщина. Короткая юбка, крашеные рыжие волосы, пышно ниспадавшие на плечи, кожаная, до пояса, куртка. Бедняжка, наверное, продрогла. Если заговорит, тогда пойду с ней! Юлиан приближался, женщина повела глазами в его сторону, но, казалось, смотрела мимо, словно совсем его не замечая. Повеяло запахом дешевых духов. И вдруг, случайно увидев, как играет свет на женских волосах, Юлиан так страстно возжелал ее, что стало нечем дышать. Он обернулся, но той уже и след простыл; только ветер гулял по тротуару.
Опустив глаза, Юлиан перешел через дорогу, ему было все равно, куда приведут ноги. Он чуть не наскочил на мужчину, но успел увернуться, ступил на белую разметку зебры; какая-то машина тщетно пыталась тронуться с места, колеса прокручивались, и «дворники» беспомощно шмыгали туда-сюда. Юлиан остановился, поднял голову. И не удивился, увидев на другой стороне улицы вокзал. Над входом висели электронные часы: до ночных поездов оставалось больше часа. За спиной выросла тускло освещенная кофейня. Он толкнул не очень-то чистую стеклянную дверь и прошел внутрь.
Две дешевые люстры под хрусталь, затхлый прокуренный воздух, на стенах затянутые тонкой желтоватой пленкой выцветшие старые плакаты, на плакатах тщеславно улыбающиеся актеры, в чалмах и коронах. На шкафу телевизор с выключенным звуком. Юлиан снял куртку и опустился на стул. За столиками сидели редкие посетители: люди листали журналы или в оцепенении смотрели прямо перед собой; официантка суетливо бегала туда-сюда, поглядывая, нет ли новых клиентов. Юлиан вскинул руку, но девушка как будто ничего не заметила. Но когда махнул костлявый мужичок за соседним столиком, она тут же явилась, выслушала нашептанный на ушко заказ, кивнула и поспешила прочь.
— Девушка! — закричал Юлиан, и еще громче: — Девушка!
Мужичок стал нервно оглядываться, официантка вернулась и что-то поставила перед ним на столик; Юлиан наклонился и увидел тарелку с куском пирога, пористым, похожим на пластмассовый. И задумался: где-то ему уже доводилось видеть этот пирог? Официантка опять свернула на кухню. Юлиан поднял руку, сжал в кулак и изо всей силы ударил по столу.
Девушка скрылась. Мужичок медленно повернул голову и, нахмурившись, стал озабоченно всматриваться туда, где сидел Юлиан, словно с той стороны исходила невидимая и все омрачавшая опасность. За окном брел слепой с собакой, наткнулся на сугроб и снова обрел равновесие; некоторое время Юлиан смотрел ему вслед, пока не заметил, что с псом что-то не так. Шелковистая шерсть, настороженно торчащие уши, щелки сосредоточенных глаз — это была огромная овчарка, и она явно не справлялась с ролью поводыря: бежала не по прямой, а виляя, даже не пыталась обойти препятствия, задела фонарный столб, наткнулась на пожарный кран и вдруг стянула хозяина с тротуара на проезжую часть, так, что тот чуть не упал. Машина резко затормозила, завизжали тормоза, пес отскочил, бросился назад, откуда они пришли, и потом оба скрылись в черной расселине между двух домов. Юлиан отвернулся и обомлел от ужаса. По залу медленно шел Мальхорн.
Мальхорн собственной персоной: острый подбородок, косичка, презрительно скривленная нижняя губа. Юлиан машинально захотел нырнуть под стол или закрыть лицо руками, но было уже слишком поздно, и он сдержался. Мальхорн приближался, потирая нос и, по обыкновению, поднимая и опуская плечи, толкнул дверь и скрылся. Скользнул мимо окна, за которым сидел Юлиан, посмотрел направо, налево, снег уже запорошил его волосы. Мальхорн остановился, поскреб ботинком о бордюр и тронулся дальше, постепенно исчезая из поля зрения.
Юлиан обхватил руками голову. Пульс успокаивался. Ведущий из телевизора вертел микрофон и очень быстро шевелил губами. Картинка поменялась: на диване сидел, учтиво склонив голову, священник, рядом с ним — развязный малец в круглых очках, совсем еще дитя: нога на ногу, между указательным и большим пальцами сигарета. Святой отец отчаянно жестикулировал, и при каждом взмахе на его левой руке сверкало кольцо; малец открыл рот, священник покачал головой, и снова в кадр влез ведущий, выделывая неуклюжие па.
— Здесь можно попить кофе? — закричал Юлиан. Никто не повернулся. Официантки не было видно. В телевизоре крупным планом показали мальчика: вместо глаз слепящие стекла очков, в которых отражались прожекторы. Юлиан поднялся, натянул пиджак и вышел.
Посмотрел через дорогу. Увидел на другой стороне тень вокзала, расплывшуюся рекламу и горящие окна. Медленно расправил руки. Глубоко вдохнул и задержал дыхание. Потом закрыл глаза и сделал шаг. Машины проносились мимо; он чувствовал, как они летели прямо на него и мчались дальше, но не слышал ни истошных гудков, ни визга тормозов. И продолжал идти; вот прошмыгнула последняя машина, он выбрался на противоположный тротуар. Положил руку на грудь. Пульс даже не участился. Он опустил воротник. Сделал вдох. Несколько секунд еще прислушивался, словно хотел навсегда запомнить этот шум улицы.
В зале ожидания бродили случайные люди. Его поезд, если верить табло, отправлялся через двадцать минут. Юлиан не сразу сообразил, как подступиться к автомату с мерцающим экраном, обилием кнопок и команд, но в конце концов билет оказался у него в руках. Билет дорогой, но путь был тоже не близкий.
Под потолком отзывалось гулкое, даже слишком гулкое эхо его шагов. Но никто не оборачивался: ни пьяный в углу, ни мужчина с тремя чемоданами, один из которых беспрестанно падал, ни женщина в черной шубе. Эскалатор поднял его на платформу. Третий путь. Странное чувство, когда путешествуешь без багажа. Можно, конечно, и закупиться, но сейчас уже поздно. Куда, в какую трубу, спрашивается, улетел весь день.
Вдруг перед ним как из-под земли вырос человек в до ниточки промокшем плаще. Наклонился вперед, опустил руки и стал смотреть на рельсы. Юлиан размышлял не более секунды. Потом схватил мужчину за плечо.
Тот обернулся. И вытаращил на него испуганные глаза, потом зажмурился, словно ослепленный ярким светом.
— Как ты сюда попал? — спросил Юлиан.
— Но это не я, пора бы уже знать. Или ты до сих пор ничегошеньки не понял? — Пауль запустил руку в карман. — По моим расчетам, ты мог выбрать только этот поезд. Вот я и подумал: а вдруг тебе еще нужны деньги? Паспорт достал?
— Да вроде.
— Так достал или нет?
Юлиан замялся.
— Да.
— Покажешь?
— Лучше не надо.
Пауль пристально наблюдал за ним. Юлиан вновь почувствовал силу его взгляда и невольно опустил глаза. Брат кивнул и вытащил пачку банкнот. Юлиан взял ее и спрятал.
— Я был у отца, — сказал он. — Старик меня даже не узнал.
— Ну и что это, по-твоему, означает?
— Прости, не понял?
— Не понимаю, что ты хочешь этим сказать!
— Я хотел… — Женский голос из громкоговорителя перебил его. — Да я вообще ничего не хотел сказать, — пробурчал Юлиан, — я… — И повеял сквозняк от приближающегося поезда, и нарисовались очертания локомотива. — Я хотел… — снова начал он, но тут поднялся неимоверный грохот, состав тормозил, протяжно шикая, остановился. Двери открылись.
— Мы больше не увидимся, — сказал Пауль. — Ты это знаешь?
— Знаю.
— Тебя еще кое-что ждет впереди.
— Это точно.
Они смотрели друг на друга. Люди выходили и заходили, чемоданы проносились мимо, из громкоговорителя снова донеслись нечленораздельные звуки, человек в форме подавал кому-то знаки.
Юлиан хотел еще что-то сказать. Но потом понял, что в этом нет необходимости. Пауль медленно поднял руки. Юлиан кивнул. Отвернулся и забрался в вагон.
VI
окомотив пронзительно засвистел, Юлиан проснулся и в испуге подскочил. Увидел в стекле свое тревожное отражение: бледное и небритое, растрепанные волосы. За окном стелилась разглаженная темнота: ни огонька на небе, ни огонька под ним. Вагон был почти пуст. Кроме Юлиана здесь сидела пожилая женщина, мальчишка, клюющий носом, и невидимый за паутиной морщин горбатый мужчина со стеклянным взглядом. По другую сторону окна парил прозрачно-зеркальный мир поезда со всеми сиденьями, с людьми, даже со значками «не курить». Юлиан тоже умудрился туда попасть, только с глазами получилась накладка: он видел белки, радужную оболочку, голубоватые прожилки, но зрачков там не было. Законы оптики, подумал он и вдруг вспомнил, что у Ветеринга есть три трактата на эту тему, но он так и не удосужился их прочитать.
Двери за спиной открылись, послышался грохот колес, и толстый мужчина с трудом протиснулся внутрь. Ему не сразу удалось закинуть чемодан на багажную полку: то ли полка оказалась слишком маленькая, то ли чемодан слишком тяжелый. Толстяк громко сопел, пот катился по его лицу. Юлиан уже собрался помочь, но бедняга справился сам и, еле переводя дыхание, рухнул на сиденье. Его грудь часто поднималась и опускалась, рот жадно ловил воздух.
Юлиан закрыл глаза. Попробовал представить пролетающий за окном пейзаж: холмы и долины, погруженные во мрак деревеньки, леса, сдерживающие ночь плетением ветвей. Потом снова открылась дверь, застучали, словно под ударами молотка, колеса, и послышались шаги; он открыл глаза: приближался контролер. Высокий и худой, фуражка набекрень. Юлиан даже не успел опомниться, а тот уже проследовал мимо. Горбун протягивал ему билет, женщина долго копалась в сумке, побледневший мальчишка открыл рот и уже приготовился что-то промямлить, но толстяк вдруг вытащил кошелек и заплатил за него. Контролер кивнул и направился дальше, Юлиан проводил его взглядом, пряча билет обратно. Прислонился к стеклу, столкнувшись лоб в лоб со своим отражением, потом посмотрел на потусторонних обитателей вагона: глаза у женщины закрылись, старик опять застыл в оцепенении, а мальчик тихонько переговаривался со своим спасителем. Толстяк улыбнулся, откинул волосы назад и сложил на животе руки, мальчик замотал головой. За ними тонкой линией, словно из-под карандаша, протянулся горизонт. Первый признак приближающегося рассвета.
Юлиан зевнул, слезы выступили у него на глазах. Он сосредоточился, изо всех сил стараясь что-то вспомнить, что-то очень важное, но на ум ничего не приходило. Теперь уже спали все: голова мальчика упала на грудь, толстяк развалился на трех сиденьях, свесив жирные руки и храпя с открытым ртом. Веки Юлиана сомкнулись и снова разомкнулись. Кажется, на некоторое время он тоже задремал, так как цвет отражения в окне изменился, горы вдали обозначились яснее, у их подножия раскинулись поблекшие луга, а на фоне неба пролегла синусоида поднимающихся и опускающихся проводов: те провисали под собственной тяжестью, а воткнутые на одинаковом расстоянии в землю столбы все снова и снова подтягивали их наверх. Хлопья летели прямо в стекло, вот уже вынырнули первые дома, покосившиеся, с пустыми дверными проемами — очевидно, нежилые. За какую-то трубу цеплялось развороченное гнездо. Из пустых окон торчали осколки стекла, задняя стена обвалилась; Юлиан ничего не успел толком разглядеть, поезд промчался мимо. Бледное небо слабо светилось.
Юлиан встал и едва не закричал от боли, так затекла спина. Никто даже не поднял головы, пока он пробирался к выходу. В тамбуре гулял ледяной ветер; Юлиан, стиснув зубы, преодолел грохочущую пропасть между вагонами. Раздвинул двери следующего и вошел в туалет.
Посмотрел в слепое и запотевшее зеркало, вода потекла не сразу; он вымыл лицо и руки. Его мучила жажда, но табличка предупреждала, что пить из-под крана нельзя. Он намочил волосы и зачесал назад. А когда снова оказался в коридоре, перед ним выросли двое. Большие, во всем черном и с красными галстуками-близнецами.
— Деньги есть? — спросил один из них.
Юлиан кивнул, полез в карман и вытащил оттуда несколько бумажек. Страх мертвой хваткой сдавил его горло. Юлиан пытался сообразить, происходит ли все на самом деле или он по-прежнему сидит на своем месте и видит сон.
— Нет, — сказал другой, высокий, голос, — все, пожалуйста. Для твоего же спасения. Надеюсь, объяснять не надо?
— Нет-нет, — ответил Юлиан почти с облегчением, так как после этих слов незнакомца окончательно убедился, что все ему только снится. Достал оставшиеся деньги и положил в протянутую руку.
— А паспорт?
Юлиан кивнул и отдал паспорт.
— Большое спасибо! — вежливо сказал мужчина, обнажив широкие белоснежные зубы; на лбу у него было родимое пятно. Он тщательно спрятал паспорт. Его спутник провел рукой по волосам, завязанным в косичку, улыбнулся и тоже любезно поблагодарил. Все свершилось так полюбовно, что Юлиан остолбенел, увидев в следующую секунду устремившийся на него кулак. И прежде чем он успел подставить руки и увернуться, очки полетели вниз и он почувствовал, что падает, изо всей силы ударяясь спиной о стену. На мгновение время остановилось. А потом все тело пронзила нестерпимая и набирающая силу пульсирующая боль.
Он видел, как люди в черном медленно, пружинящим шагом удалялись по коридору, и время от времени придерживаясь для равновесия за стены. Из купе вышел проводник, поправил фуражку и поздоровался, двое приветствовали его в ответ, открыли дверь в следующий вагон и исчезли. Проводник смерил их взглядом и нырнул обратно в свое купе. Юлиан хотел закричать, но голос не повиновался.
Сплюнул и почувствовал вкус крови. Ощупал подбородок: и там была кровь, он вытер ее рукавом. Боль стучала в висках, лоб и щеки горели. Но нос не сломан, и — Юлиан осторожно проверил — зубы тоже все целы. Он с трудом поднялся.
Осмотрел очки: по правому стеклышку протянулась тонкая трещина. Пригладил еще мокрые волосы, пол под ногами как будто просел. Юлиан хотел увидеть свое отражение в окне, но солнце поднялось уже высоко. Нашел дверную ручку, споткнулся, пролетел через ледяной тамбур, вторая дверь никак не поддавалась, но Юлиан рванул ее и устремился к своему месту.
Толстяк с мальчиком исчезли. Старик по-прежнему глядел в пустоту, женщина спала, подложив сумочку под голову. Юлиан в изнеможении упал на сиденье и прислонился лбом к окну. От его дыхания стекло запотело, туман мгновенно затянул проплывающий пейзаж: холмы, траву, снежную пустыню до самых гор; Юлиан протер стекло. Голова раскалывалась. Нужно немедленно принять меры, те двое еще находились в поезде, вызвать проводника, полицию… Хотя нет, полицию нельзя. Он ведь умер, и тут уж никто не поможет. «Это не для вас». Кто же так сказал? Юлиан тихо застонал. Он не шевелился и решил только на секундочку закрыть гла…
Поезд затормозил, и он очнулся. Они стояли в поле, насколько хватало глаз — ничего похожего на вокзал, кое-где еще чернели длинные стебли травы, но скоро и они исчезнут под снегом. Надо что-то делать: сейчас или никогда, они могли воспользоваться моментом и улизнуть! Юлиан решительно поднялся, женщина удивленно покосилась на него из-за сумочки. Он направился к выходу, в исступлении задергал дверь, потом толкнул плечом. Дверь неожиданно подалась, и Юлиан вылетел из вагона, размахивая руками и стараясь удержать равновесие.
Мороз пробрал его до костей. Ледяной ветер ударил в лицо, Юлиан по привычке схватился за шею и, разумеется, не нашел никакого шарфа, который бы сейчас в самый раз затянуть потуже. Он прищурился, но что можно разглядеть в такую метель. Похоже, он единственный, кто сошел с поезда. Теперь самое время разыскать проводника! Пока он соображал, земля под ногами вдруг содрогнулась, за спиной послышался скрежет. Юлиан обернулся. Поезд тронулся с места.
Открытая дверь была уже вне досягаемости; мимо проплыл следующий вагон, и еще один; Юлиан попытался запрыгнуть на ходу, но поскользнулся и чуть не попал под колеса, за окном на него пялились два огромных глаза, кто-то разинул рот, и больше ничего. Последний вагон. Юлиан еще раз разбежался, вскочил на подножку, крепко схватился за ручку двери, сорвался и плашмя упал на землю. Показались огни поезда: уменьшающийся треугольник, краснея, превращался в точку и наконец погас. Юлиан в оцепенении всматривался в него до последнего сквозь снег и пар от собственного дыхания. Потом поднялся, отряхнул одежду. И вдруг ощутил бесконечную усталость.
И медленно пошел. Осторожно, шаг за шагом, по рельсам. Снег становился все глубже. Юлиан продирался против ветра, плотно закрыв глаза и уже не чувствуя уколы снежинок. Ведь если шагать по путям, то в конце концов они куда-нибудь да приведут: к вокзалу, к городу. Юлиан протер очки, но снег налип снова. И вдруг он поймал себя на мысли, что уже не помнил, как сюда попал; все события прошлого смешались в голове и никак не увязывались воедино. Он обернулся: следы уже занесло. Вдалеке открылись холмы, но где они кончались и где начиналось небо — одному богу известно, горизонт исчез, и только вьюга бушевала в мире. Юлиан отчаянно боролся, наклонился вперед, вдруг поскользнулся и снова упал, содрав галькой кожу на ладонях, хотел подняться, но снег крепко его держал. Оперевшись на локти, попытался вытереть лицо.
Подтянулся, встал на ноги, ладони кровоточили, пальцы задеревенели от мороза. Юлиан не помнил, когда в последний раз выпадало столько снега. Может, пять или шесть лет назад, на папиных похоронах: они стояли по колено в снегу, он как наяву увидел священника, бледного и продрогшего до костей. Чтобы согреться, Юлиан бил в ладоши, но хлопков было не слышно — все тонуло в яростных завываниях ветра. Он пошел быстрее, в который раз чуть не упал и уже через несколько шагов совершенно выбился из сил. Рядом с рельсами валялся холодильник: никому не нужный и почерневший от ржавчины, с открытой дверцей. Юлиан остановился.
Закинул голову назад, открыл рот и ощутил холодок, мягко ложащийся на ресницы, губы, язык. Все вокруг бушевало, но шум отступил, как только Юлиан на нем сосредоточился. Потом прислушался. Стояла мертвая тишина.
Он чувствовал, как поднималась и опускалась грудь: вдох, выдох и снова вдох. Но стоило только об этом подумать, и дыхание прекратилось — словно он задержал воздух или тот вообще испарился. И ничего вокруг, кроме белой безмолвной реальности настоящего, в которую, правда, уже через секунду тоже верилось с трудом, словно зрение опять его подвело: теперь высоко над головой, на границе воды и воздуха, разливался танцующий свет. Водоросли нежно обвивали его плечи, а течение весело играло тонкими стеблями. Ну, и что дальше? Собраться с силами и бороться, всплыть на поверхность, пусть даже неделю придется проваляться в больнице, но потом — потом домой; стоит только захотеть, и жизнь повернется вспять и пойдет как прежде. Роковой вопрос и бесконечно долгое мгновение — все было в его руках, и все развеялось, едва Юлиан пошевелился или только подумал пошевелиться. Он потерял чувство реальности, которая скользнула в какую-то другую. И снова рельсы, и снова снег, прибывавший все более мощными волнами.
И вдруг наступило прозрение. Он снял залепленные снегом очки и сложил. Секунду взвешивал в руке. Потом повертел окоченевшими пальцами и зашвырнул в метель.
Очки уменьшались, падали, поглощаемые бурей, а потом разбились. Но он уже не видел этого, он шел дальше, уже не пытаясь укрыться от ветра. Спрятал руки в глубокие карманы, закрыл глаза и не удивился, когда тень, выступившая из-за белой пелены, вдруг превратилась в навес над перроном. Вокзал.
Никаких стрелок или разветвлений, одноколейка. Платформа под покатой крышей. Два фонаря, домик с темными окнами, у стены скамейка с отломанной спинкой. Щит, но надпись — всего несколько букв — Юлиан не мог прочитать.
Он выбрался на платформу, добрел до скамейки и сел. Боль ушла. Ветер тоже стих, Юлиан больше ничего не чувствовал. «Тебя еще кое-что ждет впереди». Кто это сказал?
Юлиан посмотрел вверх, щит над головой пришел в движение, его тень медленно раскачивалась туда-сюда. Он невольно подумал о Кларе, маме, Пауле, которого не встречал уже несколько месяцев. Даже об Андреа. В существование этих людей почти не верилось, память с трудом воскрешала их лица. И еще на секунду он вспомнил Ветеринга, маленького человека с вечно плохим настроением; никто и не подозревал, сколько он знал. Отчего все свершилось так быстро? Так удивительно быстро.
Небо прояснилось: рельсы тянулись вдаль, соединяясь в одной точке. Там, на севере, набегали друг на друга холмы, много холмов, сталкивались, росли, превращаясь в горы. На востоке, параллельно горизонту, поблескивала тонкой линией большая река или море. Подавшись вперед всем телом, Юлиан долго всматривался. Его наполняло любопытство. За спиной послышался скрип двери, он обернулся, из темного домика обходчика вышел человек. Широкий в плечах, круглолицый, усатый. Юлиан как будто его уже где-то встречал. Давно, а может, и не очень, но это теперь не имело значения.
— Вам чем-нибудь помочь?
— Нет, — ответил Юлиан. — Уже нет.
— Поезд с минуты на минуту подойдет.
Юлиан разглядывал свои руки. Потом поднял глаза к небу: оттуда падали хлопья, бесчисленное множество безупречно белых пылинок. Странное дело: он больше не мерз, и целую секунду, скорее по привычке, этому дивился. Потом кивнул. И вдруг невольно улыбнулся:
— Я знаю.
Я и Каминский
Хелене
Я и в саном деле удивительное существо. Разве не оказывают мне повсюду исключительный прием? Разве не удостаивают меня уважения лучшие умы? Мне свойственно благородство души, вновь и вновь себя обнаруживающее, весьма глубокие знания, неистощимость и незаурядность идей, оригинальное чувство юмора и столь же оригинальная манера выражаться; и сверх того, полагаю, я весьма преуспел в ведении тайн человеческой натуры.
Джеймс Босуэлл. Дневник, 29 декабря 1764 г.{1} Daniel Kehlmann. ICH UNO KAMINSKI Copyright © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 2003 Перевод и комментарии В. АхтынскойI
проснулся, когда проводник постучал в дверь купе:
— Начало седьмого, через полчаса приезжаем. Слышите?
— Да, — пробормотал я, — да.
С трудом заставил себя встать. Я спал, развалившись на трех сиденьях, один в купе, спина у меня болела, шея затекла. В мой сон то и дело настойчиво вторгались стук колес, голоса из коридора, объявления на каких-то станциях, меня мучили кошмары, я часто просыпался; один раз кто-то, кашляя, распахнул снаружи дверь, и мне пришлось встать, чтобы снова ее закрыть. Я потер глаза и выглянул из окна: моросил дождь. Надел ботинки, выудил из чемодана старую бритву и, зевая, вышел в коридор.
Из зеркала в туалете на меня пристально смотрело бледное лицо, волосы растрепались, на щеке отпечатался узор обивки. Я включил бритву, она не работала. Открыл дверь, успел заметить мелькнувшего на другом конце вагона проводника и крикнул:
— Можно вас на минутку?
Он подошел, со слабой улыбкой глядя на меня.
— Бритва не работает, — сказал я, — электричество, наверное, отключили.
— Быть того не может, — ответил он.
— Да сами проверьте, отключили, — настаивал я.
— Не отключили, — упрямился он.
— Отключили!
Он пожал плечами:
— Ну, значит, пробки перегорели, я-то что могу сделать?
— Но для чего же тогда существуют проводники!
— Не проводники, — возразил он, — а члены поездной бригады.
— Не важно, — процедил я.
Он спросил:
— Что вы хотите этим сказать?
— Не важно, как называется эта бесполезная профессия.
— Я не позволю себя оскорблять, полегче, а то как бы и в морду не получить, — сказал он.
— Только попробуйте, — сказал я, — я все равно буду жаловаться. Как ваша фамилия?
— И не подумаю, — заявил он, — а ты — лысый старый дебил.
Потом он повернулся и, бормоча ругательства, зашагал прочь.
Я закрыл дверь туалета и озабоченно посмотрел в зеркало. Откуда этот идиот взял, что у меня лысина? Разумеется, нет никакой лысины. Я умылся, вернулся в купе и надел пиджак. За окном по-прежнему нанизывались рельсы, опоры и провода, поезд замедлил ход, вот уже показалась платформа: рекламные щиты, телефонные будки, люди с багажными тележками. Поезд затормозил и остановился.
Я протиснулся по коридору к выходу. Кто-то меня задел, я кого-то оттолкнул. Тот самый проводник стоял на перроне, я передал ему чемодан. Он взял его, взглянул на меня, улыбнулся и шлепнул его на асфальт. «Извините!» — сказал он с ухмылкой. Я спустился на перрон, поднял чемодан и ушел.
Железнодорожного служащего в униформе я спросил, когда отходит поезд, на который мне надо было пересесть. Тот окинул меня долгим взглядом, потом вытащил откуда-то мятое расписание и, задумчиво послюнив указательный палец, стал его перелистывать.
— У вас что, компьютера нет?
Он недоуменно уставился на меня.
— Не важно, — сказал я, — давайте быстрее.
Он полистал, вздохнул, еще полистал.
— Скорый поезд отходит в шесть тридцать пять с платформы восемь…
Я торопливо зашагал дальше: вот еще, слушать этот вздор… Я шел неуклюже, спотыкаясь, — не привык так рано просыпаться. У восьмой платформы стоял мой поезд, я поднялся по ступенькам, вошел в вагон, отпихнул какую-то толстуху, пробрался на единственное свободное место у окна и в изнеможении опустился на сиденье. Через несколько минут поезд тронулся.
Напротив сидел сухопарый господин в галстуке. Я кивнул ему, тот кивнул в ответ и отвернулся. Я открыл чемодан, достал блокнот и выложил его на разделявший нас маленький столик. Я чуть было не столкнул его книгу, он едва успел ее подхватить. Времени у меня совсем не оставалось, статью нужно было сдать три дня назад.
«Итак, Ханс Баринг{2}, — строчил я, — предпринял еще одну…» Нет! «Очередную неудачную попытку ознакомить нас с подробностями жизни и творчества ряда известных…» Нет. «Выдающихся»? Нет, это уж точно не подходит, я задумался. «…Исторических личностей, и мы в очередной раз умираем от скуки. Назвать только что вышедшую из-под его пера биографию живописца…», — нет, — «…художника Жоржа Брака неудачной, вероятно, означает оказать слишком большую честь этой книге, которая…» Я прикусил карандаш. Вот сейчас, сейчас я его припечатаю… Я представил себе, с каким лицом Баринг будет читать мою статью, но так ничего и не придумал. Писать злобную рецензию — такое занудство, совсем не в кайф, даже не ожидал.
Наверное, я просто устал. Потер подбородок, щетина противно покалывала ладонь, нужно было во что бы то ни стало побриться. Я отложил карандаш и прислонился виском к оконному стеклу. Пошел дождь. Капли ударялись о стекло и уплывали против направления движения. Я моргнул, дождь пошел сильнее, казалось, капли, разбиваясь о стекло, растекаются рожицами с круглыми глазами и ртами, я зажмурился, вслушиваясь в стук барабанящих капель, задремал и несколько секунд не мог понять, где я. Ощущение было такое, будто я парю в бесконечном пустом пространстве. Когда я открыл глаза, по стеклу растекалась вода, деревья намокли и грузно клонились под тяжестью влаги. Закрыл блокнот и убрал его в чемодан. Только тут я заметил, какую книгу читает мой попутчик, — «Позднее творчество Пикассо» Ханса Баринга. Мне это не понравилось, — будто насмешка какая-то.
— Дрянь погода! — сказал я.
На мгновение он оторвался от книги.
— Не шедевр, правда? — я показал на халтуру Баринга.
— А по-моему, интересно, — возразил он.
— Это потому, что вы не специалист.
— Возможно, — отозвался он и перевернул страницу.
Я откинул голову на валик, после ночи в поезде до сих пор болела спина. Достал сигареты. Дождь постепенно стих, из тумана уже показались первые горы. Зубами вытащил из пачки сигарету. Щелкнув зажигалкой, я вдруг вспомнил «Натюрморт с пламенем и зеркалом» Каминского: трепещущие извивы светлых мазков, над которыми взметнулся остроконечный язычок пламени, точно пытаясь вырваться с плоскости холста. В каком году он его написал? Не знаю. Надо было лучше готовиться.
— Здесь не курят.
— Что?
Мой попутчик, не поднимая глаз от книги, показал на перечеркнутую сигарету на стекле.
— Всего одну затяжку!
— Здесь не курят, — повторил он.
Я бросил сигарету на пол и растоптал, стиснув зубы от злости. Ну хорошо, он сам виноват, теперь я с ним больше и разговаривать не стану. Я достал «Комментарии к творчеству Каминского» Коменева, карманного формата, с бледной печатью и непролазной путаницей сносок. Дождь перестал, в просветах между облаками засквозило голубое небо. Усталость все не проходила. Но спать нельзя, мне вот-вот выходить.
Вскоре я, поеживаясь, брел по крытому перрону, с сигаретой в зубах и стаканчиком дымящегося кофе в руке. В туалете включил бритву, она не работала. Значит, и здесь нет электричества. У входа в книжный магазин торчала вращающаяся стойка с карманными книгами в мягкой обложке: «Рембрандт» Баринга и «Пикассо» Баринга, — а в витрине, само собой, красовалась новинка «Жорж Брак{3}, или Открытие куба» Баринга, целая кипа, на сей раз издали в твердом переплете. В аптеке я купил два одноразовых бритвенных станка и тюбик пены. Вагон местного поезда был почти пуст, я откинулся на мягкую спинку кресла и тут же закрыл глаза.
Когда я проснулся, напротив сидела молодая женщина, рыжеволосая, с пухлыми губами и продолговатыми, узкими ладонями. Я посмотрел на нее, она сделала вид, будто не замечает. Я подождал. Когда она на секунду встретилась со мной глазами, я улыбнулся. Она посмотрела в окно. Но потом поспешно откинула со лба волосы, полностью скрыть смущение ей не удавалось. Я улыбаясь смотрел на нее. Через несколько минут она встала, взяла сумку и ушла.
Вот дурочка, подумал я. Может быть, сейчас ждет меня в вагоне-ресторане, но мне наплевать, вставать не хочется. Стало душно; горы то приближались, выплывая из дымки тумана, то удалялись, утопая в мареве, на скалах повисли клочья облаков, мимо пролетали деревни, церкви, кладбища, фабрики, по проселочной дороге полз мотоцикл. Потом снова луга, леса, луга; люди в комбинезонах выкладывали на шоссе дымящийся асфальт. Поезд остановился, я вышел.
Всего одна платформа, полукруглый навес над входом, маленький домик со ставнями, усатый железнодорожный служащий. Я спросил, когда отходит мой поезд, он что-то сказал в ответ на совершенно незнакомом диалекте, я не понял ни слова. Спросил еще раз, он еще раз попытался объяснить, мы беспомощно посмотрели друг на друга. Тогда он подвел меня к стенной доске «Время отправления». Разумеется, мой поезд только что ушел и следующего теперь придется ждать целый час.
В ресторане вокзала я оказался единственным посетителем.
— Что, туда, в горы? Путь-то неблизкий, вам еще ехать и ехать, — сказала хозяйка ресторана. — Вы что, туда в отпуск?
— Вот и не угадали, — ответил я. — К Мануэлю Каминскому.
— Сезон выбрали не самый удачный, но несколько погожих деньков вам точно выпадет. Это уж будьте уверены.
— К Мануэлю Каминскому, — повторил я, — Мануэлю Каминскому!
— Не знаю такого, — откликнулась она. — Не из местных он…
— Он уже двадцать пять лет здесь живет, — сказал я.
— Значит, он не отсюда родом, — констатировала она, — я так и знала.
Кухонная дверь распахнулась, толстяк поставил передо мной тарелку супа сплошь в блестках жира. Я какое-то время неуверенно разглядывал его, потом проглотил несколько ложек и сказал хозяйке:
— Как у вас хорошо.
Та снисходительно улыбнулась.
— В сельской местности, на природе, даже здесь, на этом вокзале. Вдалеке от суеты, среди простых людей.
— О чем это вы? — спросила она.
— Вдали от интеллектуалов, этих манерных снобов с университетскими дипломами. Среди людей, до сих пор ощущающих родство со своими коровами, со своими полями, с этими горами. Среди людей, которые рано ложатся и рано встают. Живут, а не вечно предаются бесплодным размышлениям!
Она хмуро посмотрела на меня и вышла; деньги я оставил на столе, чаевых не дал В восхитительно чистом туалете я побрился, как всегда, неловко: пена окрасилась кровью, а когда я ее смыл, на лице, внезапно покрасневшем и вызывающе голом, проступили темные царапины. Ну, где лысина? Что за бред, да откуда он вообще это взял? Я покачал головой, двойник в зеркале меня передразнил.
Поезд был крошечный: маленький локомотив и всего два вагона, с деревянными сиденьями, без багажного отделения. Двое рабочих в грубой спецодежде, старуха. Она посмотрела на меня и произнесла что-то на непонятном диалекте, эти двое засмеялись, поезд тронулся.
Рельсы взбирались в гору. Сила тяжести отбросила меня на деревянную спинку; когда поезд круто повернул, мой чемодан опрокинулся, один из работяг засмеялся, я взбешенно уставился на него. Еще один поворот. И еще. У меня закружилась голова. Рядом с нами разверзлось ущелье: отвесно вздымающийся, поросший травой склон с причудливым чертополохом и соснами, словно когтями вцепившимися в землю. Мы проехали туннель, теперь пропасть метнулась к нам справа, еще один туннель, пропасть опять стала преследовать нас слева. Пахло навозом. Уши у меня заложило, я сглотнул, неприятное ощущение исчезло, но через несколько минут вернулось и больше не проходило. Деревья пропали, их сменили обнесенные изгородью альпийские пастбища и очертания гор за склоном. Еще один поворот, поезд затормозил, мой чемодан опрокинулся в последний раз.
Я вышел на платформу и закурил. Головокружение постепенно отступало. За вокзалом виднелась деревенская улица, на ней трехэтажный дом с изъеденной временем и непогодой дверью и распахнутыми ставнями: «Пансион „Чудный вид“. Завтрак, домашняя кухня». Из окна на меня печально смотрела оленья голова. Ничего не поделаешь, здесь я забронировал номер, все остальное было не по карману.
За стойкой регистрации возвышалась крупная дама с прической валиком. Она старалась говорить медленно и отчетливо, но все-таки я с трудом понимал ее диалект. Лохматый пес обнюхивал пол.
— Принесите чемодан ко мне в номер, — сказал я. — Кроме того, мне нужна еще одна подушка, одеяло и бумага. Много бумаги! Как пройти к Каминскому?
Она водрузила на стойку толстые руки и посмотрела на меня. Пес нашел какие-то объедки и, сопя и чавкая, принялся их разгрызать.
— Он меня ждет, — подчеркнул я, — я не турист. Я его биограф.
Она, по-видимому, задумалась. Пес ткнулся носом в мой ботинок. Я подавил желание его пнуть.
— За домом, — сказала она, — все время в гору. С полчаса пешком, потом увидите дом с башенкой. Хуго!
Мне потребовалась секунда, чтобы осознать, что она обращается к собаке.
— Наверное, часто о нем спрашивают?
— Кто?
— Ну, не знаю. Туристы. Поклонники. Ну, кто-нибудь.
Она пожала плечами.
— А вы вообще знаете, кто это?
Она молчала. Хуго хрюкнул и выронил что-то из пасти; я изо всех сил пытался не смотреть в его сторону. За окном пророкотал трактор. Я поблагодарил и вышел.
Горная тропа начиналась за полукруглой главной площадью, двумя витками поднималась над крышами и проходила по бурой россыпи валунов. Я глубоко вдохнул и зашагал.
Подъем оказался утомительнее, чем я ожидал. Не успел я сделать и нескольких шагов, как рубашка прилипла к телу. От лугов поднимался теплый пар, солнце нещадно палило, по лбу у меня стекали капли пота. Когда я, задыхаясь, остановился, оказалось, что я одолел всего два витка серпантина.
Я снял пиджак и набросил его на плечи. Он упал; я попытался завязать рукава на поясе, пот стекал в глаза, я его отирал. Кое-как одолел еще два витка, потом мне пришлось отдохнуть.
Я сел на землю. У моего уха тоненько, противно звенел комар, внезапно тоненький писк умолк; через несколько секунд у меня зачесалась щека. От сидения на влажной траве намокли штаны. Я встал.
Наверное, самое важное — дышать в такт шагам. Но мне это не удавалось, то и дело приходилось останавливаться, скоро я весь взмок, дыхание с хрипом вырывалось из груди, волосы прилипли ко лбу. За спиной у меня послышался глухой шум, я испугался и шарахнулся в сторону, меня обогнал трактор. Водитель равнодушно посмотрел на меня, голова у него моталась из стороны в сторону от толчков мотора.
— Не подбросите? — завопил я.
Он меня не замечал. Я кинулся за ним следом, еще немного — и я запрыгнул бы на гусеницу. Но потом я отстал и уже не сумел его догнать, беспомощно глядя, как он, удаляясь, взбирается в гору, все уменьшается и уменьшается и наконец исчезает за последним поворотом. В воздухе еще долго висел запах бензина.
Через полчаса я, тяжело дыша, отупев от усталости, плохо соображая, стоял на вершине, обхватив деревянный столб. Едва я обернулся, как мне показалось, будто склон обрушился в пропасть, а небесный свод взмыл ввысь, твердь опрокинулась, я судорожно вцепился в столб и подождал, пока приступ головокружения не пройдет. Вокруг росла чахлая трава, там и сям перемежавшаяся заплатами гальки, впереди дорога едва заметно шла под уклон. Я медленно стал спускаться, через десять минут она влилась в маленькую, не замкнутую с юга котловину с тремя домами, автостоянкой и асфальтированной улицей, ведущей в долину.
Да, черт побери, широкая, ровная улица! Надо же мне было дать такой крюк, и потом, я мог поехать в горы на такси. Я вспомнил о толстухе в гостинице: она еще об этом пожалеет! На стоянке были припаркованы, я пересчитал, четыре машины. На первой двери висела табличка «Клюр», на другой «Доктор Гюнцель», на третьей — «Каминский». Некоторое время я ее рассматривал. Мне предстояло свыкнуться с мыслью, что он действительно здесь живет.
Дом оказался большой и некрасивый, в два этажа, с остроконечной декоративной башенкой, неуклюжим подражанием стилю модерн. У садовой калитки был припаркован серый «БМВ»; некоторое время я с завистью его рассматривал, я бы тоже от такого не отказался. Я пригладил волосы, надел пиджак и ощупал комариный укус на щеке. Солнце уже садилось, моя тень, узкая и длинная, легла у моих ног на лужайке. Я позвонил.
II
ослышались шаги, в замке повернули ключ, распахнулась дверь, и на меня недоверчиво уставилась женщина в грязноватом переднике. Я назвал свое имя, она кивнула и захлопнула дверь.
Я уже подумывал позвонить еще раз, но тут дверь снова распахнулась: на пороге появилась другая женщина, лет сорока пяти, высокая и худая, черноволосая, с узкими, почти как у японки, глазами. Я назвал свое имя, скупым жестом она пригласила меня войти:
— Мы ждали вас только послезавтра!
— Смог вырваться раньше.
Я прошел вслед за ней по пустому коридору, в конце которого виднелась приоткрытая дверь; из-за нее доносилась невнятная разноголосица.
— Надеюсь, я не причинил беспокойства.
Я замолчал, давая ей время заверить, что, конечно, никакого, помилуйте, но она ни в чем меня заверять не стала.
— А вот про улицу вы могли бы сказать! Я ведь взбирался по горной тропе, чуть в пропасть не сорвался. Вы его дочь?
— Мириам Каминская, — холодно произнесла она и распахнула другую дверь. — Подождите, пожалуйста!
Я вошел. Диван и два кресла, радиоприемник на подоконнике. На стене висел написанный маслом пейзаж с сумеречными холмами; возможно, Каминский, да, пожалуй, средний период, начало пятидесятых. Стена над камином была покрыта копотью, кое-где с потолка свисала паутина, колеблемая неощутимым сквозняком. Я хотел было сесть, но в этот момент вошли Мириам и — я сразу же его узнал — ее отец.
Я и не представлял себе, что он такой маленький, просто крошечный, и неуклюжий, — ничего не осталось от прежней стройности, запечатленной на фотографиях. На нем был свитер и непрозрачные черные очки. Мириам вела его под руку, другой рукой он сжимал белую трость. Кожа у него была изжелта-смуглая, в морщинах, жесткая и огрубевшая на вид, дряблые щеки обвисли, кисти рук казались неестественно большими, растрепанные волосы встопорщились. Он был в потертых вельветовых штанах и кедах, правый шнурок развязался и волочился за ним по полу. Мириам подвела его к креслу, он ощупью нашел подлокотник и сел. Она не села и пристально смотрела на меня.
— Вас зовут Цёльнер.
Я растерялся: это прозвучало утвердительно, к тому же мне пришлось побороть приступ непонятной застенчивости. Я протянул руку, встретился взглядом с Мириам и снова ее отдернул; ну конечно, что за неловкость! Я откашлялся.
— Себастьян Цёльнер.
— И мы вас ждем.
Это что, вопрос?
— Если не возражаете, — предложил я, — мы можем начать прямо сейчас. Я проделал большую подготовительную работу.
И правда, ради этого я почти две недели мотался в разъездах. Я еще никогда не занимался одним проектом так долго.
— Вы удивитесь, когда узнаете, скольких ваших старых знакомых мне удалось найти.
— Подготовительную работу… — повторил он. — Знакомых…
Меня охватила легкая паника. Он вообще понимает, о чем речь? Он пожевал губами, склонил голову и, казалось — но это была, конечно, иллюзия, — смотрел мимо меня на картину на стене. Я беспомощно взглянул на Мириам.
— У отца мало знакомых.
— Не так уж мало, — возразил я, — в одном Париже…
— Вы должны меня извинить, — сказал Каминский, — я только что встал с постели. Два часа пытался заснуть, потом принял снотворное и встал. Мне нужен кофе.
— Тебе нельзя кофе, — напомнила Мириам.
— Приняли снотворное и встали? — переспросил я.
— Я всегда тяну до самого конца, все думаю, вдруг все-таки засну без снотворного. Так, значит, вы мой биограф?
— Я журналист, — пояснил я, — публикуюсь в нескольких крупных газетах. Сейчас работаю над вашей биографией. У меня к вам несколько вопросов, если хотите, можем начать завтра.
— Статьи пишете? — Огромной ладонью он провел по лицу. Челюсти у него безостановочно двигались.
— Прежде всего вы будете работать со мной, — вставила Мириам. — Ему нельзя волноваться.
— Мне можно волноваться, — откликнулся он. Свободной рукой она обняла его за плечо, улыбнувшись мне поверх его головы:
— Врачам виднее.
— Я благодарен за любую помощь, — осторожно начал я, — но, разумеется, в первую очередь я буду интервьюировать вашего отца. Он первоисточник как таковой.
— Я первоисточник как таковой, — повторил он.
Я потер виски. Все шло к чертям. Ну при чем тут волнения? Мне тоже нельзя волноваться, да никому нельзя. Ну просто смешно!
— Я большой почитатель вашего отца, его картины изменили… мой взгляд на мир.
— Но это же не так, — сказал Каминский.
Я покрылся испариной. Конечно, это было не так, но я еще никогда не встречал художника, который не поверил бы этой лжи.
— Клянусь вам! — я прижал руку к груди, вспомнил, что этот жест не может произвести на него впечатления, и поспешно ее убрал.
— Более преданного поклонника, чем Себастьян Цёльнер, у вас нет.
— Чем кто?
— Чем я.
— Ах да. — Он вскинул голову и снова опустил, на какую-то секунду у меня возникло ощущение, будто он на меня посмотрел.
— Мы рады, что эту работу доверили именно вам, — сказала Мириам, — предложений было много, но…
— Не так уж много, — перебил ее Каминский.
— Ваш издатель очень рекомендовал вас. Он о вас весьма высокого мнения, — добавила Мириам.
Трудно было в это поверить. Я только однажды встречался с Кнутом Мегельбахом у него в офисе. Он метался по своему кабинету, одной рукой брал книги с полок и снова заталкивал назад, другой играл мелочью в кармане штанов. Я вдохновенно лгал о предстоящем Ренессансе Каминского: будут появляться новые диссертации, парижский Центр имени Помпиду подготовит специальную выставку, а историческая ценность его воспоминаний? Нельзя забывать, с кем он был знаком, ведь его учил живописи Матисс, он дружил с Пикассо, его воспитывал Рихард Риминг, великий поэт. Я хорошо знаком, собственно говоря, даже дружен с Каминским, нет никаких сомнений, что он будет говорить со мной откровенно. Недостает лишь самой малости, чтобы он стал предметом всеобщего интереса, о нем будут писать в иллюстрированных журналах, цены на его картины поднимутся, а его биография точно будет бестселлером.
— И что же это? — спросил Мегельбах. — Чего не хватает?
— Конечно, пусть сначала умрет.
Какое-то время Мегельбах ходил туда-сюда и размышлял. Потом он остановился, с улыбкой посмотрел на меня и кивнул.
Я ответил Мириам:
— Весьма польщен. Кнут — мой старый друг.
— Так как, вы сказали, вас зовут? — спросил Каминский.
— Мы должны еще кое о чем договориться, — вставила Мириам. — Услуга…
Ее прервал звонок моего мобильного телефона. Я вытащил его из кармана штанов, увидел номер абонента и отключил.
— Что это было? — спросил Каминский.
— Услуга за услугу: будьте любезны показывать нам все, что собираетесь публиковать. Вы согласны?
Я посмотрел ей в глаза. Я ждал, что она отведет взгляд, но, как ни странно, она не сдалась. Я уставился в пол, на свои грязные ботинки.
— Конечно.
— А что касается старых знакомых, они вам не понадобятся. Для этого есть мы, — сказала она.
— Само собой.
— Завтра меня не будет, можем начать послезавтра. Вы зададите мне вопросы, а если возникнет необходимость, отец что-то дополнит.
Несколько секунд я молчал. В тишине до меня доносилось свистящее дыхание Каминского, он причмокивал губами. Мириам посмотрела на меня.
— Согласен, — произнес я.
Каминский наклонился и закашлялся, плечи у него затряслись, лицо покраснело, он прижал ладонь ко рту. Я с трудом удержался, чтобы не похлопать его по спине. Когда приступ прошел, он оцепенел, словно выпотрошенный.
— Значит, мы все выяснили, — сказала Мириам. — Вы остановились в деревне?
— Да, — ответил я неопределенно, — в деревне.
Уж не предложит ли она у них переночевать? Это было бы мило.
— Ну хорошо, нас ждут гости. Встретимся послезавтра.
— У вас гости?
— Соседи и владелец галереи, где отец выставлялся. Вы его знаете?
— Говорил с ним на прошлой неделе.
— Мы передадим ему, что вы у нас были.
Мне показалось, что она уже думает о чем-то другом. Она неожиданно крепко пожала мне руку и помогла отцу встать. Они медленно пошли к двери.
— Цёльнер, — Каминский остановился, — сколько вам лет?
— Тридцать один.
— Почему вы это выбрали?
— Что?
— Журналистику. Зачем вы пишете для крупных газет? Чего хотите добиться?
— Мне это просто интересно! Многому учишься, можешь заниматься тем, что…
Он покачал головой.
— Да мне просто не хочется делать ничего другого!
Он нетерпеливо стукнул тростью о пол.
— Ну, не знаю… Так получилось. Раньше работал в рекламном агентстве.
— Ах вот как?
Это прозвучало странно; я смотрел на него и пытался понять, что он хотел этим сказать. Но голова у него упала на грудь, а лицо утратило всякое выражение. Мириам вывела его, и я услышал, как по коридору удаляются их шаги.
Я уселся в кресло, с которого только что встал старик. Сквозь окно косо падали солнечные лучи, в них танцевали серебряные пылинки. Неплохо, пожалуй, было бы здесь пожить. А почему бы и нет: Мириам лет на пятнадцать старше меня, но сойдет, она еще ничего себе. Старик скоро умрет, нам останутся этот дом, его состояние, наверняка некоторые картины. Я буду жить здесь, распоряжаться его художественным наследием, может быть, открою музей. У меня наконец будет время для серьезной работы, напишу толстую книгу. Не слишком толстую, но достаточно толстую, чтобы занять место на полках книжных магазинов, где стоят романы. Может быть, с картиной моего тестя на обложке. Или лучше что-нибудь из классики? Вермеера{4}? Название темным шрифтом. В хорошем переплете, на плотной бумаге. Связи у меня есть, значит, положительные рецензии обеспечены. Я покачал головой, встал и вышел.
Дверь в конце коридора теперь была закрыта, но из-за нее по-прежнему доносились голоса. Я застегнул пиджак. Сейчас потребуется вся моя решимость и умение завязывать контакты. Я откашлялся и быстро вошел.
Большая комната с накрытым столом и двумя картинами Каминского на стенах: одна — совершенно абстрактная, другая — туманный городской пейзаж. Вокруг стола и у окна стояли люди с бокалами в руках. Когда я вошел, все замолчали.
— Привет! — воскликнул я. — Я Себастьян Цёльнер. Лед тут же был сломан; я почувствовал, как мое появление сразу разрядило обстановку. Я протягивал руку всем по очереди. Среди гостей было двое пожилых господ, один явно представитель деревенского бомонда, другой банкир из столицы. Каминский что-то бормотал себе под нос; Мириам растерянно посмотрела на меня и хотела было что-то сказать, но потом передумала. Почтенная английская супружеская чета представилась как мистер и миссис Клюр, соседи господина Каминского.
— Are you the writer?[2] — спросил я.
— I guess so[3], — ответил он.
И конечно, Богович, владелец галереи, с которым я встречался всего дней десять назад. Он подал мне руку и стал задумчиво меня разглядывать.
— I understand that your very book will appear soon, — сказал я Клюру. — What’s the title?[4] Он покосился на жену.
— «The Forger’s Fear»[5].
— A brilliant one! — воскликнул я и хлопнул его по плечу. — Send it to me, I’ll review it![6]
Я улыбнулся Боговичу, который почему-то притворился, будто меня не узнает; потом я повернулся к столу, на который удивленная экономка выкладывала еще один прибор.
— А бокал мне тоже дадут?
Мириам тихо сказала что-то Боговичу, он нахмурился, она покачала головой. Мы сели за стол. На первое подали совершенно безвкусный суп из яблок и огурцов.
— Анна великолепно разбирается в тонкостях моей диеты! — заявил Каминский.
Я стал рассказывать о своем путешествии, о наглом проводнике, которого я так отделал сегодня утром, о железнодорожном служащем, этом недотепе, о на удивление переменчивой погоде.
— Дождь то льет, то перестает, — сказал Богович, — так всегда бывает.
— As if in training[7], — резюмировал Клюр.
Потом я рассказал о хозяйке пансиона, и вправду не знавшей, кто такой Каминский. Подумать только! Я стукнул кулаком по столу, зазвенели бокалы, мой живой темперамент действовал на всех заразительно. Богович раскачивался на стуле, банкир вполголоса говорил с Мириам, я повысил голос, он замолчал. Анна подала горошек и пирог из кукурузной муки, такой черствый, что его едва можно было проглотить, видимо, главное блюдо. К нему полагалось скверное белое вино. Не припомню такого гадкого ужина.
— Robert, — попросил Каминский, — tell us about your novel[8].
— I wouldn’t dare call it a novel, it’s a modest thriller for unspoilt souls. A man happens to find out, by mere chance, that a woman who left him a long time ago…[9]
Я стал рассказывать о своем трудном восхождении. Передразнил тракториста и скорчил рожу — вот какой он был и вот как дергался в такт работе мотора. Моя маленькая пантомима вызвала всеобщее веселье. Я изобразил, как наконец добрался наверх, как ужаснулся, обнаружив улицу, как обследовал почтовые ящики.
— Только представьте себе! Гюнцель! Что за фамилия!
— А что такого? — спросил банкир.
— Ну послушайте, разве можно жить с такой фамилией!
Я описал, как Анна открыла мне дверь. В этот момент она внесла сладкое; конечно, я испугался, но интуиция подсказала мне, что было бы большой ошибкой просто замолчать. Я выпучил глаза, передразнивая Анну, и показал, как она захлопнула дверь перед моим носом. Я точно знал, что жертва всегда узнает себя последней. И в самом деле: она так швырнула поднос на стол, что зазвенела посуда, и вышла. Богович не отрываясь глядел в окно, банкир закрыл глаза, Клюр потирал лицо. В тишине раздавалось громкое чавканье Каминского.
За десертом, приторным шоколадным кремом, я рассказал о репортаже, в котором написал о смерти столь эффектно ушедшего из жизни художника Вернике.
— Вы ведь знаете Вернике?
Как ни странно, никто о нем не слышал. Я изобразил момент, когда вдова запустила в меня тарелкой, ни с того ни с сего, у себя в гостиной, она попала мне в плечо, в общем-то больно было.
— Жены, — объявил я, — это вообще кошмар любого биографа, и новая работа доставляет мне радость в том числе из-за отсутствия… Но вы же меня понимаете!
Каминский подал знак, все как по команде встали. Мы вышли на террасу. Солнце опускалось за горизонт, пурпурные склоны гор выделялись на фоне неба. «Amazing!»[10] — воскликнула миссис Клюр, муж нежно погладил ее по плечу. Я допил вино и осмотрелся в поисках того, кто налил бы мне еще. Я ощущал приятную усталость. Пора было уходить и еще раз прослушать кассеты с интервью, записанными за две последние недели. Но уходить не хотелось. Может быть, они все-таки предложат мне переночевать здесь, в горах. Я придвинулся к Мириам и глубоко вдохнул.
— «Шанель»?
— Простите, что вы сказали?
— У вас духи — «Шанель»?
— Духи? Нет. — Она покачала головой и отодвинулась. — Нет!
— Вам лучше отправиться в путь, пока не стемнело, — посоветовал Богович.
— Еще успею.
— Иначе не найдете дороги обратно.
— А вам что, случалось здесь заблудиться?
Богович ухмыльнулся.
— Я никогда не хожу пешком.
— Фонарей на улице нет, — добавил банкир.
— Кто-нибудь может подбросить меня на машине, — предложил я.
На секунду все замолчали.
— Фонарей на улице нет, — повторил банкир.
— Он прав, — хрипло прокаркал Каминский, — вам пора спускаться.
Я стиснул бокал в руке и по очереди обвел всех глазами. Красный свет заходящего солнца переливался между их темными силуэтами. Я откашлялся, вот сейчас, сейчас кто-нибудь попросит меня остаться. Еще раз откашлялся.
— Тогда… я пойду.
— Прямо по улице, — посоветовала Мириам, — пройдете километр, потом будет указатель, там свернете налево, и через двадцать минут вы на месте.
Я бросил на нее взбешенный взгляд, поставил бокал на пол, застегнул пиджак и вышел. Пройдя несколько шагов, я услышал за своей спиной взрыв хохота. Прислушался, но не сумел ничего разобрать; ветер доносил только обрывки разговора. Было холодно. Я зашагал быстрее. Хорошо, что ушел из этого дома. Мерзкие подхалимы, как они набиваются ему в друзья, даже противно! Жалко старика.
Стемнело действительно очень быстро. Приходилось прищуриваться, чтобы различить дорогу; я почувствовал, что под ногами у меня трава, остановился, осторожно нащупывая дорогу, вернулся на асфальт. В долине уже виднелись светящиеся точки фонарей. Вот и указатель, в темноте его уже не прочитать; вот тропа, по которой мне предстоит спуститься.
Я поскользнулся и растянулся во весь рост. В бешенстве я схватил камень и запустил его во тьму долины. Потирая подбородок, представлял себе, как он упадет и увлечет за собой другие, пока наконец лавина не погребет под собой ничего не подозревающего прохожего. Эта мысль мне понравилась, и я швырнул еще один. Мне показалось, что я сошел с тропы, из-под ног посыпалась галька, я чуть было опять не упал. Меня пробирал холод. Я нагнулся, ощупал землю под ногами, понял, что стою на утоптанной тропе. Может быть, просто сесть и дождаться наступления утра? Наверное, замерзну, да и от скуки буду умирать, но все-таки не сорвусь в пропасть.
Нет, об этом и речи быть не может! Не разбирая дороги, как слепой, я осторожно, хватаясь за кусты, крошечными шажками двинулся дальше, неуверенно переставляя ноги. Я уже подумывал позвать на помощь, и тут из темноты показались очертания какой-то стены и плоской черепичной крыши. А потом я различил окна, сквозь задернутые занавеси пробивался свет, и я вышел на улицу с зажженными фонарями. Завернул за угол и оказался на деревенской площади. Двое в кожаных куртках с любопытством смотрели на меня, на балконе отеля женщина в бигуди прижимала к себе поскуливающего пуделя.
Я распахнул дверь пансиона «Чудный вид» и осмотрелся в поисках хозяйки, но она куда-то запропастилась, за стойкой регистрации никого не было. Забрал ключ и поднялся по лестнице в номер. У кровати стоял мой чемодан, на стенах висели картины, изображавшие коров, эдельвейс, крестьянина с пушистой белоснежной бородой. Упав на склоне, я испачкал штаны, а других с собой не взял, но ничего, как-нибудь отчищу. Мне срочно нужна была горячая ванна.
Пока набиралась вода, я вынул из чемодана диктофон, кассеты с интервью и альбом «Мануэль Каминский{5}, жизнь и творчество». Потом достал мобильный телефон и прослушал сообщения: Эльке просила меня срочно перезвонить. Редактор отдела культурных новостей в «Вечерних известиях» хотел как можно скорее получить разгромную рецензию на Баринга. Потом еще одно сообщение от Эльке: «Себастьян, это важно!» И в третий раз: «Басти, пожалуйста!» Я задумчиво кивнул и отключил телефон.
В ванной я некоторое время с чувством смутного недовольства рассматривал собственную наготу. Положил альбом возле ванны. У тихо лопающихся пузырьков пены был приятный сладковатый запах. Я медленно скользнул в воду, на мгновение у меня дух захватило от жара; мне показалось, будто меня медленно несет по бесконечному, неподвижному морю. Потом я потянулся за книгой.
III
начала неудачные рисунки двенадцатилетнего подростка: люди с крыльями, птицы с человеческими головами, змеи и парящие в воздухе мечи, — начисто лишенные таланта. И все-таки великий Рихард Риминг{6}, два года проживший в Париже с матерью Мануэля, выбрал некоторые из них для своего поэтического сборника «Слова на обочине». Когда началась война, Риминг был вынужден эмигрировать в Америку и, пересекая океан, умер на корабле от воспаления легких. Вот две детские фотографии, пухленький Мануэль в матроске: на одной его глаза кажутся странно большими за стеклами очков, на другой он щурится, как от слишком резкого света. Некрасивый мальчик. Я перевернул страницу, от влаги бумага покоробилась.
А вот и символистская живопись. Он написал сотни таких работ, едва окончив школу, вскоре после смерти матери, в одиночестве, в наемной квартире, затаившись под защитой швейцарского паспорта в оккупированном Париже. Почти все эти работы он впоследствии сжег, немногие увидевшие свет были вполне бездарны: золотистый фон, беспомощно написанные соколы над деревьями, на которых растут тупо уставившиеся в пространство человеческие головы, тяжело взгромоздившаяся на цветок навозная муха, неуклюжая, будто из бетона. Бог знает, что заставило его такое написать. На мгновение книга опустилась в мыльную пену; блестящие белые хлопья, казалось, поползли вверх по странице, я стер их ладонью. Со старым рекомендательным письмом Риминга, он отправился в Ниццу, чтобы показать свои работы Матиссу, но тот посоветовал ему изменить стиль, и Каминский в растерянности вернулся домой. В 1946 году на экскурсии в соляных копях Клэрана он отстал от проводника и несколько часов блуждал в заброшенных штольнях. Когда его нашли и подняли на поверхность, он заперся у себя в комнате и не выходил целых пять дней. Никто не знал, что произошло на самом деле. Но с тех пор он стал писать совершенно по-другому.
Друг и меценат Доминик Сильва снял для него мастерскую. В ней он работал, изучал перспективу, композицию и теорию колорита, уничтожил все эскизы, начал заново, уничтожал и начинал снова. Два года спустя при посредничестве Матисса в галерее Теофраста Ренонкура в Сен-Дени состоялась его первая выставка. Там он впервые показал — я перевернул страницу — новый цикл картин: «Отражения»{7}.
Сегодня весь этот цикл выставлен в Музее Метрополитен в Нью-Йорке. Изображения зеркал, под разным углом стоящих друг против друга. На картинах открывались серебристо-серые переходы, теряющиеся в бесконечности, слегка изогнутые, затопляемые зловещим, холодным светом. Детали рам или пятнышки и пылинки на стекле повторялись в зеркальных пространствах, образуя ряды постепенно уменьшающихся копий, пока вовсе не исчезали где-то вдалеке. На некоторых полотнах, словно по недоразумению, можно было различить детали облика художника, руку, сжимающую кисть, угол мольберта, на первый взгляд случайно запечатленные и размноженные одним из зеркал. Там над одной свечой выгибались сразу десять одинаковых узких язычков пламени, здесь два поставленных под прямым углом зеркала, в которых благодаря отражению одного в другом возникало третье, где вещи представали уже не в зеркальной перспективе, а как они есть в действительности, настолько искажали усеянный бумагами стол с притаившейся в углу открыткой — репродукцией «Менин» Веласкеса, — что он превращался в странное в своей симметричности, невероятно сложное нагромождение оптических иллюзий. Андре Бретон{8} посвятил этому циклу восторженную статью, три полотна купил Пикассо, казалось, что уж теперь-то Каминского ждет слава. Но он не прославился. Никто не знал почему; просто не прославился, и все. Спустя три недели выставку закрыли, Каминский забрал картины и уехал домой, никому не известный, как и прежде. На двух фотографиях Каминский был снят в огромных очках, напоминающих глаза стрекозы. Он женился на Адриенне Маль, владелице процветающей писчебумажной фабрики, и год с небольшим прожил безбедно. Потом Адриенна ушла от него с новорожденной Мириам, а брак был расторгнут.
Увлекшись, я не заметил, как пустил кипяток, — и чуть не взвыл от боли; поменьше, вот так, хорошо. Положил книгу на край ванны. Мне о многом нужно было с ним поговорить. Когда он узнал, что теряет зрение? Почему развелся с женой? Что произошло в соляных копях? Я записал на диктофон суждения его знакомых, но мне нужны были его собственные высказывания, факты, которые он еще никогда никому не сообщал. Надо, чтобы моя книга вышла сразу после его смерти, как раз тогда он ненадолго вызовет всеобщий интерес. Меня пригласят на телевидение, я буду рассказывать о нем, а в нижнем углу кадра белыми буквами высветится мое имя и пояснение; «Биограф Каминского». Это обеспечит мне место в штате какого-нибудь крупного художественного журнала.
Книга уже изрядно пропиталась влагой. Я пропустил оставшиеся «Отражения» и открыл репродукции небольших картин следующего десятилетия, написанных маслом и темперой. Он снова жил один, Доминик Сильва регулярно присылал ему деньги, а иногда продавал одну-две работы. В его палитре стали преобладать более светлые тона, творческая манера стала более лаконичной. Теперь он писал отвлеченные, едва узнаваемые пейзажи, городские виды, этюды оживленных улиц, растворявшихся в густом тумане. Прохожий влек за собой свой расплывающийся силуэт, горы поглощало месиво облаков, башня, казалось, делалась прозрачной под напором слишком яркого фона, проступавшего сквозь ее контуры; напрасно вы пытались их различить: то, что минуту назад вы принимали за окно, оказывалось солнечным бликом, деталь искусно украшенной каменной кладки превращалась в причудливой формы облако, и чем дольше вы рассматривали картину, тем меньше на холсте оставалось от башни{9}. «Это совсем просто, — сказал Каминский в своем первом интервью, — и дьявольски трудно. Я ведь слепну. Вот это я и пишу. И ничего больше».
Я прислонился затылком к облицованной кафелем стене и поставил книгу себе на грудь. «Вечернее солнце, разложенное на цвета спектра», «Отрешенная молитва Магдалины» и прежде всего «Размышления во время прогулки перед сном» по мотивам самого знаменитого стихотворения Риминга: почти неразличимый силуэт человека, одиноко бредущего сквозь свинцово-серую тьму. Собственно, только как дань уважения Римингу «Размышления» были показаны на выставке художников-сюрреалистов, где на них случайно обратил внимание Клас Ольденбург{10}. Два года спустя при посредничестве Ольденбурга одна из наименее удачных работ Каминского, «Обретение веры святым Фомой», экспонировалась на выставке поп-арта в галерее Лео Кастелли в Нью-Йорке. К названию картины организаторы добавили «painted by a blind man»[11], а рядом поместили фотографию Каминского в черных очках. Узнав об этом, он так разозлился, что на две недели слег с лихорадкой. Выздоровев, он обнаружил, что отныне знаменит.
Я осторожно вытянул затекшие руки и потряс сначала правой, а потом левой; книга была довольно тяжелая. Сквозь приоткрытую дверь мой взгляд упал на картину, изображавшую старого крестьянина. Он держал в руках косу и гордо ее рассматривал. Картина мне нравилась. В сущности, нравилась больше, чем те, о которых я писал изо дня в день.
Прежде всего из-за слухов о его слепоте слава Каминского внезапно обошла весь мир. А когда его заверения, что он все еще видит, постепенно развеяли слухи, ситуацию уже нельзя было изменить: Музей Гуггенхейма организовал ретроспективный показ его работ, цены на его картины достигли головокружительных высот, фотографии запечатлели художника с четырнадцатилетней дочерью, в ту пору действительно хорошенькой девочкой, на вернисажах в Нью-Йорке, Монреале и Париже. Но зрение у него все ухудшалось. Он купил дом в Альпах и, поселившись в нем, стал жить затворником.
Шесть лет спустя Богович организовал в Париже последнюю выставку Каминского. Двенадцать больших картин, снова написанных темперой. Почти исключительно светлая палитра, желтый и голубой, кричаще-яркий зеленый, прозрачные бежевые тона; переплетающиеся потоки, в которых, стоило чуть отойти от картины или прищуриться, внезапно обнаруживались дотоле скрытые широко раскинувшиеся ландшафты; холмы, деревья, свежая трава под летним дождем, неяркое солнце, просвечивающее сквозь пелену молочно-белых облаков{11}. Я стал перелистывать медленнее. Эти картины мне нравились. От некоторых я просто не мог оторваться. Вода постепенно остывала.
Но благоразумнее было не признаваться, что их любишь, они получили убийственные рецензии. Критики сочли их безвкусицей, неловким промахом, проявлением болезни автора. На последней фотографии форматом в целую страницу Каминский, опираясь на трость, в черных очках, со странно безмятежным лицом медленно брел по залам выставки. Поеживаясь, я захлопнул книгу. Опустил ее на пол — и, как оказалось, прямо в большую лужу. Проклятие, теперь ее даже на блошином рынке не продать. Я встал, вытащил пробку и некоторое время наблюдал, как вода маленьким водоворотом уходит в слив. Посмотрел на себя в зеркало. Ну, где лысина? Нет никакой.
Почти все, кому приходилось слышать, что Каминский еще жив, удивлялись. Трудно было поверить в то, что он еще существует, где-то далеко в горах, в большом доме, в тени слепоты, под сенью славы. Что он следит за теми же новостями, что и мы, слушает те же радиопередачи и что он вообще принадлежит нашему миру. Я понимал — уже давно пора написать книгу. Моя карьера хорошо начиналась, но потом в ней наступил спад. Сначала я подумывал о полемике: не обрушиться ли в печати на какого-нибудь известного художника, а то и на целое направление; я мечтал о сокрушительной критике в адрес фотореализма, потом о защите фотореализма, но внезапно фотореализм вышел из моды. Так почему бы не написать чью-нибудь биографию? Я долго колебался, не зная, кого выбрать: Бальтюса, Люсьена Фрейда или Каминского, — но тут умер Бальтюс{12}, а Люсьен Фрейд{13}, по слухам, уже выбрал себе в биографы Ханса Баринга. Я зевнул, вытерся и натянул пижаму. Зазвонил телефон отеля, я прошел в комнату и, не подумав, снял трубку.
— Мы должны поговорить, — сказала Эльке.
— Откуда у тебя мой номер?
— Не важно. Мы должны поговорить.
Наверное, это действительно срочно. Ведь она сейчас в командировке по делам своего рекламного агентства, обычно она не звонила с дороги.
— Слушай, давай отложим. Я очень занят.
— Нет, поговорим сейчас!
— Ладно, — сказал я, — подожди!
Я опустил трубку. В темноте за окном я мог различить вершины гор и бледный месяц. Я глубоко вдохнул и выдохнул.
— Ну, в чем дело?
— Я еще вчера хотела с тобой поговорить, но ты опять ухитрился прийти домой, только когда я уже уехала. И опять…
Я подул в трубку.
— Ничего не слышно!
— Себастьян, это ведь не мобильный телефон. Я нормально тебя слышу.
— Извини, — сказал я. — Одну секунду.
Я опустил трубку. Мной овладела легкая паника. Я догадывался, что она хочет мне сказать, и собирался во что бы то ни стало сменить тему. Или просто положить трубку? Но к этому способу я прибегал уже три раза. Нерешительно я поднес трубку к уху:
— Да, я слушаю!
— Я звоню по поводу квартиры.
— А завтра я не могу перезвонить? Я очень занят, вот вернусь через неделю, и тогда сможем…
— Нет, не сможем…
— Что?
— Ты не вернешься. Сюда, ко мне. Себастьян, ты у меня больше не живешь!
Я откашлялся. Сейчас нужно было что-то придумать. Что-то простое и убедительное. Прямо сейчас! Но как назло, в голову ничего не приходило.
— В тот раз ты сказал, что это только на время переезда. На несколько дней, пока ты не найдешь новую квартиру.
— Ну и что?
— Это было три месяца назад.
— Свободных квартир мало.
— Достаточно, и дальше так не пойдет.
Я молчал. Может быть, это самый действенный прием.
— К тому же я познакомилась с одним человеком. Я молчал. Чего она добивается? Мне что, заплакать, заорать, умолять? А что, могу, легко. Я вспомнил, какая у нее квартира: кожаное кресло, столик с мраморной столешницей, дорогой диван. Комнатный бар, музыкальный центр, большой телевизор с плоским экраном. Неужели она и правда познакомилась с кем-то, кто готов слушать ее болтовню про агентство, вегетарианское питание, политику и японские фильмы? Что-то не верится.
— Я знаю, что это нелегко, — произнесла она срывающимся голосом. — К тому же я не хотела говорить об этом по телефону. Но иначе нельзя.
Я молчал.
— И потом, ты же знаешь, дальше так продолжаться не может.
Она это уже говорила. А почему не может? Я ясно представил себе гостиную: сто тридцать квадратных метров, мягкие ковры, из окна открывается вид на парк. Летними вечерами на стены ложился южный матовый свет.
— Не могу в это поверить, — выдавил из себя я, — и не верю.
— А надо. Я собрала твои вещи.
— Что?
— Можешь забрать свои чемоданы. Или нет, когда приеду домой, пришлю их тебе в «Вечерние известия».
— Только не в редакцию! — завопил я. Этого еще не хватало! — Эльке, давай забудем этот разговор. Ты мне не звонила, я ничего не слышал. На следующей неделе все обсудим.
— Вальтер сказал, что, если ты еще раз сюда придешь, он сам тебя вышвырнет.
— Вальтер?
Она не ответила. Его еще и зовут Вальтер? У него что, не могло быть какого-нибудь другого имени?
— В воскресенье он ко мне переезжает, — тихо сказала она.
Ах вот как! Теперь понял: на что только не идут люди, чтобы найти какое-нибудь жилье.
— А мне куда деваться?
— Не знаю. В гостиницу. К другу.
К другу? Перед моим внутренним взором замаячило лицо налогового инспектора, потом лицо бывшего одноклассника, с которым я случайно столкнулся на улице на прошлой неделе. Мы выпили по стакану пива, не зная, о чем говорить. Все это время я лихорадочно перерывал свою память в поисках его имени.
— Эльке, это наша общая квартира!
— Нет, не наша. Ты хотя бы раз за нее платил?
— Я побелил ванную.
— Нет, ее побелили маляры. Ты их только вызвал по телефону. А заплатила я.
— Ты хочешь предъявить мне счет?
— Почему бы и нет?
— Не могу в это поверить. — Я еще не произносил этой фразы? — Не могу себе представить, что ты на такое способна.
— Еще как, — сказала она. — Я ведь тоже не могла себе этого представить. Не могла! Как продвигается биография Каминского?
— Мы сразу нашли общий язык. По-моему, я ему понравился. Все дело в дочери. Она к нему никого не допускает. Мне надо как-то от нее отделаться.
— Желаю удачи, Себастьян. Может быть, у тебя еще есть шанс.
— Что ты хочешь этим сказать?
Она не ответила.
— Подожди! Нет, просто интересно, ты это, собственно, о чем?
Она положила трубку.
Я тут же набрал номер ее мобильного телефона, но она не ответила. Попробовал еще раз. Монотонный компьютерный голос попросил оставить сообщение. Попробовал еще раз. И еще. На девятом звонке я сдался.
Комната вдруг показалась неуютной. В картинах с эдельвейсами, коровами и всклокоченным крестьянином появилось что-то угрожающее, ночь за окном стала близкой и зловещей. Неужели это мое будущее? Пансионы, комнаты в сдаваемых внаем квартирах, подслушивающие квартирные хозяйки, кухонные запахи днем, а по утрам завывание чужих пылесосов? Нет, ни за что!
Бедняжка, наверное, в совершенном смятении, мне стало ее почти жаль. Насколько я ее знал, она уже почти раскаивалась в том, что мне наговорила; самое позднее завтра утром позвонит мне и плача попросит прощения. Она не умела передо мной притворяться. Уже несколько успокоившись, я взял диктофон, вложил первую кассету и закрыл глаза, чтобы лучше сосредоточиться на воспоминаниях.
IV
— …Кого?
— Каминского. Мануэля Ка-мин-ско-го. Вы его знали?
— Мануэля. Да. Да-да. — Старуха улыбалась бессмысленной улыбкой.
— Когда это было?
— Что было?
Она приблизила к моим губам восковое сморщенное ухо. Я наклонился к ней и прокричал;
— Когда?
— Да боже мой, тридцать лет назад.
— Наверное, все пятьдесят будет?
— Нет, поменьше.
— Пятьдесят. Пересчитайте!
— Он был очень серьезный. Мрачный. Вечно держался в тени. Нас познакомил Доминик.
— Сударыня, я, собственно, хотел спросить о…
— Вы слышали Паули? — Она показала на птичку в клетке. — Он так чудно поет. Вы обо всем этом напишете?
— Да.
Голова у нее медленно поникла, на секунду мне показалось, что она заснула, но тут она вздрогнула и снова выпрямилась.
— Он всегда повторял, что долго будет неизвестен. Потом прославится, потом его снова забудут. Вы об этом пишете? Тогда напишите еще, что мы не знали.
— Чего не знали?
— Что можно дожить до такой старости…
* * *
— …Так как, вы сказали, вас зовут?
— Себастьян Цёльнер.
— Вы из университета?
— Да… Из университета.
Он засопел и неуклюже провел рукой по лысине.
— Дайте подумать. Познакомился? Я спросил у Доминика, кто этот надменный тип, он сказал, Каминский, как будто это что-то значит. Вы, может быть, знаете, в ту пору уже исполнялись мои симфонии.
— Как интересно, — устало откликнулся я.
— Чаще всего он просто сидел и молча улыбался. Воображал о себе невесть что. Вы же знаете, бывают такие люди, — считают себя гениями, еще не успев… А потом это еще и сбывается, mundus vult decipi…[12] Я тогда сочинял симфонию, один из моих квартетов исполнялся в Донауэшингене, и Ансерме{14} согласился…
Я покашлял.
— Ах да, Каминский. Поэтому-то вы и пришли. Вы же здесь не ради меня. А ради него, я знаю. Как-то раз мы пришли посмотреть его картины к Доминику Сильва, у него тогда была роскошная квартира на Рю Вернёй. Сам Каминский забился в угол, зевал и делал вид, будто это все ему совершенно безразлично. Может быть, и правда — он и не на такое был способен. Скажите, а из какого вы, собственно, университета?..
* * *
— …Если я правильно понял, — спросил Доминик Сильва, — за ужин платите вы?
— Пожалуйста, заказывайте что хотите! — удивленно сказал я. Позади нас в направлении Плас-де-Вож проносились машины, официанты ловко пробирались между плетеными стульями.
— А вы хорошо говорите по-французски.
— Более-менее.
— Мануэль говорил по-французски просто ужасно. В жизни не встречал человека, который был бы так безнадежно бездарен в том, что касается языков.
— Нелегко было вас найти.
Он сидел напротив, сухопарый и дряхлый, острый нос выделялся на его странно осунувшемся лице.
— Теперь мои обстоятельства изменились.
— Вы много сделали для Каминского, — осторожно начал я.
— Я не заслуживаю преувеличенных похвал. Если бы не я, то кто-нибудь другой ему бы непременно помог. Люди вроде него всегда находят людей вроде меня. Он ведь не был богатым наследником. Его отец, швейцарец польского происхождения или наоборот, точно не помню, еще до его рождения разорился и умер, позднее его мать поддерживал Риминг, но Риминг и сам был небогат. Мануэль вечно нуждался.
— Вы платили за его мастерскую?
— Случалось.
— А сейчас вы… уже не так состоятельны?
— Времена меняются.
— Откуда вы его знали?
— Нас познакомил Матисс. Я был у него в гостях в Ницце, и он сказал мне, что есть в Париже один молодой художник, протеже Рихарда Риминга.
— А его картины?
— Не потрясали. Но я подумал, что он станет писать лучше.
— Почему?
— Скорее из-за него. Он производил такое впечатление, будто от него можно ожидать большего. Вначале были довольно скверные картины, перегруженный деталями сюрреализм. Но он стал писать совершенно иначе, когда появилась Тереза. — Он сжал губы; интересно, зубы у него еще есть? Он ведь как-никак заказал бифштекс.
— Вы хотите сказать, с появлением Адриенны.
— Я знаю, что я хочу сказать. Может быть, вас это и удивляет, но старческим слабоумием я не страдаю. Адриенна была позже.
— Кто такая Тереза?
— Господи, она была для него всем. Она его совершенно изменила, даже если он в этом никогда не признается. Вы, разумеется, слышали, что случилось с ним в соляных копях, он же часто об этом говорит.
— Завтра я туда поеду.
— Съездите, вам понравится. Но Тереза была важнее.
— Я не знал.
— Значит, вам стоит начать сначала…
* * *
— …Давайте начистоту. Вы считаете его великим художником?
— Ну конечно. — Я встретился глазами с профессором Коменевым. — С определенными оговорками!
Коменев сцепил руки за головой, рывком откинувшись на спинку стула. Острая бородка у него слегка встопорщилась.
— Итак, по порядку. О ранних картинах можем не говорить. Потом «Отражения». Очень необычно для того времени. Технически великолепно. Но все-таки довольно безжизненно. Хорошая основная идея, воплощаемая слишком часто, слишком точно и слишком скрупулезно, да и прием в духе старых мастеров, это использование темперы тоже как-то не поправляет дела. Слишком много от Пиранези{15}. Потом «Вечернее солнце, разложенное на цвета спектра», «Размышления во время прогулки перед сном», городские пейзажи. На первый взгляд, замечательно. Но сюжет не слишком-то утонченный. И потом, будем откровенны, если бы мы не знали о его слепоте… — Он пожал плечами. — Вы видели оригиналы его картин?
Я замялся. Когда-то я собирался слетать в Нью-Йорк, но это было довольно дорого, и потом — для чего существуют альбомы?
— Конечно видел!
— Тогда вы, вероятно, обратили внимание на довольно неуверенную графику. Пожалуй, он пользовался сильными лупами. Никакого сравнения с прежним техническим совершенством. А потом? Боже мой, о поздних работах уже все сказано. Китч! Вы видели эту ужасную собаку у моря, подражание Гойе?
— Значит, сначала мастерство в ущерб непосредственности выражения, потом наоборот.
— Пожалуй. — Он убрал руки из-за головы, стул резко выпрямился. — Два года назад я проводил в университете семинар по его творчеству. Молодые люди были совершенно растеряны. Он для них пустое место.
— Вы с ним когда-нибудь встречались?
— Нет, зачем? Когда вышли мои «Комментарии к творчеству Каминского», я послал ему экземпляр. Он даже не ответил. Не счел нужным! Как я уже говорил, он художник хороший, а хорошие художники — дети своей эпохи. Вне времени только великие.
— Вы должны были к нему поехать, — сказал я.
— Простите, что вы сказали?
— Бессмысленно писать письма и ждать ответа. Нужно ехать самому. Нужно свалиться как снег на голову, нужно нагрянуть. Когда я писал свою зарисовку о Вернике… Вы знаете Вернике?..
Он смотрел на меня наморщив лоб.
— Он только что покончил с собой, и его семья не хотела со мной встречаться. Но я не уходил. Торчал у входной двери и повторял, что в любом случае напишу о его самоубийстве, так что пусть выбирают, говорить со мной или нет. «Если не дадите мне интервью, — сказал я, — значит, ваша точка зрения в статье учтена не будет. Но если бы вы согласились…»
— Простите, — Коменев наклонился и пристально посмотрел на меня, — о чем вы, собственно?..
* * *
— …Они недолго прожили вместе. Через год Тереза от него ушла.
Официант подал Сильва бифштекс с жареным картофелем, он жадно схватил нож и вилку и стал есть, шея у него дрожала, когда он глотал. Я заказал еще кока-колу.
— Она действительно была необыкновенная. Она видела в нем не то, чем он тогда был, а то, чем он мог стать. И потом она его таким и сделала. Я до сих пор помню, как она посмотрела на одну из его картин и тихо сказала: «А это непременно должны быть орлы?» Если бы вы только слышали, как она произнесла: «Орлы». Так кончился его символистский период. Тереза была чудесна! Брак с Адриенной стал неудачной копией этих отношений, она была немного похожа на Терезу. Сказать ли больше? По-моему, он так и не смог ее забыть. Если в жизни каждого человека есть своя решающая катастрофа… — он пожал плечами, — то у него была такая.
— Но дочь-то у него от Адриенны?
— Адриенна умерла, когда Мириам исполнилось тринадцать. — Он уставился в пустоту невидящим взглядом, как будто воспоминание причиняло ему боль. — Тогда она переехала к нему в этот дом на краю света и с тех пор ведет все его дела. — Он запихнул в рот слишком большой кусок мяса и не сразу смог его прожевать; я отвел глаза. — Мануэль все равно нашел бы людей, которые были ему нужны. Он считал, что мир ему чем-то обязан.
— А почему Тереза от него ушла?
Он не ответил. Может быть, он туг на ухо? Я подвинул диктофон к нему поближе.
— Почему…
— Откуда мне знать! Господин Цёльнер, существует столько объяснений, столько версий, а истина в конце концов всегда оказывается самой банальной. Никто не знает, что произошло, и никто не знает, что думает о нем другой! Пожалуй, нам пора заканчивать. Я отвык от слушателей.
Я удивленно посмотрел на него. Нос у него подрагивал, он отложил нож и вилку и, выпучив глаза, глядел на меня. Что же вывело его из себя?
— У меня осталось еще несколько вопросов, — сказал я осторожно.
— Неужели вы не замечаете? Мы говорим о нем так, как будто его уже нет в живых…
* * *
— …Это было на исполнении одной авангардистской пьесы. — Он выпрямился, потер лысину, провел рукой по двойному подбородку и собрал лоб жирными складками. Только попробуй еще заговорить о своей идиотской музыке, и я заткну тебе диктофоном глотку! — Он пришел на премьеру с Терезой Лессинг. Собственно говоря, чрезвычайно умная женщина, понятия не имею, что она в нем… Авангард в чистом виде, что-то вроде черной мессы, актеры в крови с головы до ног, пантомима под перевернутым распятием, но эти двое все время смеялись. Сначала они хихикали и не давали зрителям сосредоточиться, потом хохотали уже не сдерживаясь. Пока их не вывели из зала. Но, конечно, настроение пошло к черту — или не к черту, в любом случае, вы сами понимаете, желаемого эффекта не было достигнуто. После смерти Терезы он женился, потом его жена, само собой, ушла к Доминику, потом я его больше не встречал…
— К Доминику?
— А вы не знали? — Он нахмурился, его кустистые брови встопорщились, подбородок слегка всколыхнулся. — Да как вы вообще проводите расследование? На мои концерты он так ни разу и не пришел, они его не интересовали. Такой период выдается однажды в жизни. Ансерме собирался дирижировать моей симфонической сюитой, но как-то не получилось, потому что… Как, уже? Подождите, побудьте еще немного, у меня есть несколько интересных пластинок. Сейчас вы такого нигде больше не услышите!..
* * *
— …Что вы, собственно, думаете о его картинах? — Профессор Меринг пристально посмотрел на меня поверх очков.
— Сначала мастерство в ущерб непосредственности выражения, — сказал я. — Потом наоборот.
— Коменев тоже так говорит. Но, по-моему, он не прав.
— Я тоже так считаю, — быстро поддакнул я. — Что за предубеждение!
— Да и Коменев двадцать лет назад говорил совсем другое. Но тогда Каминский был в моде. Недавно я разбирал его со своими студентами. Они были в восторге. А еще я полагаю, что его позднее творчество недооценивают. Время все расставит по местам.
— Вы были его ассистентом?
— Недолго. Мне было девятнадцать, мой отец знал Боговича, и тот представил меня Каминскому. В мои обязанности входило растирать пигменты. Он почему-то вообразил, что получит более насыщенные тона, если мы сами будем производить краски. Если хотите знать, это все меланхолия. Но мне разрешили пожить у него в горах, и, признаться, я был довольно сильно влюблен в его дочь. Она была так хороша собой, а ведь она жила в совершенном одиночестве, ни одной живой души вокруг. Но я ей был, в общем-то, безразличен.
— Вы видели, как он рисует?
— Ему приходилось пользоваться сильными лупами, он закреплял их на лбу, как делают ювелиры. Сильно нервничал, случалось, в бешенстве ломал кисти, а когда ему казалось, что я замешкался… Впрочем, мы ведь и представить себе не можем, через что он прошел… Он детально все размечал на каждой картине, делал множество эскизов, но, растирая пигменты, уже не получал нужных тонов. Через месяц я от него ушел.
— Вы поддерживаете с ним отношения?
— Посылаю открытки на Рождество.
— И он отвечает?
— Мириам отвечает. Думаю, на большее и надеяться нельзя…
* * *
— …Но у меня всего десять минут. — Богович нервно потеребил бороду. За окном вырисовывались очертания стены Пале-Рояль, над письменным столом висел эскиз калифорнийской виллы, выполненный Дэвидом Хокни{16}. — Могу сказать вам только, что люблю его как отца. Отнеситесь к этому спокойно! Как отца. Познакомился я с ним в конце шестидесятых, папа еще управлял делами галереи, он очень гордился тем, что у него выставляется Каминский. Мануэль тогда приехал на поезде, он ведь никогда не летает. Но тем не менее любит путешествовать. Он где только не побывал, разумеется, его всегда кто-то возил. Он не чужд авантюризма. Мы брали на комиссию его крупные пейзажи. Может быть, это лучшее, что он когда-либо написал. Два пейзажа чуть было не купил Музей Орсэ.
— А почему не купил?
— Не знаю, просто не купил, и все. Господин Цольнер, я…
— Цёльнер!
— …знал многих художников. Талантливых художников. Но только одного гения.
Дверь распахнулась, вошла секретарша в облегающей блузке и положила перед ним на стол исписанный лист; Богович несколько секунд его рассматривал, потом отложил. Я покосился на нее и улыбнулся, она отвела взгляд, но я все-таки заметил, что ей нравлюсь. Она была трогательно застенчива. Когда она выходила из комнаты, я незаметно наклонился, чтобы она, проходя мимо, меня задела, но она отстранилась. Я подмигнул Боговичу, тот нахмурился. Вероятно, он был гомосексуалист.
— Я езжу к нему дважды в год, — сказал он, — вот на следующей неделе опять поеду. Странно, что он теперь живет так уединенно. Папа мог бы найти ему квартиру здесь или в Лондоне. Но он не захотел.
— Он совершенно слеп?
— Если узнаете об этом, скажите мне! В последнее время он плохо себя чувствовал, перенес тяжелую операцию на сердце. Я сам навещал его в больнице… Нет, я приходил к папе. Но я бы и за ним ухаживал., Я же говорил, я люблю этого человека. Своего отца я не любил. Мануэль Каминский — величайший художник, ему нет равных. Иногда мне кажется, — он показал на эскиз виллы, — что величайший художник — Дэвид. Или Люсьен, или кто-то другой. Иногда я даже думаю, что величайший — я. Но потом я вспоминаю о Каминском и понимаю, что мы все ничтожны. — Он указал на картину, висевшую на противоположной стене: согбенная фигура сидит на берегу мрачного океана, рядом огромная, в странно искаженной перспективе собака. — Знаете эту картину? «Смерть у блеклого моря». Вот ее я никогда не продам.
Я вспомнил, что эту картину упоминал Коменев. Или Меринг? Забыл, что о ней говорили и принято ли ею восхищаться.
— А ведь не похоже на Каминского, — не подумав, ляпнул я.
— Почему?
— Потому что… Потому… — я долго рассматривал свои ладони. — Ну… графика. Ну, вы же понимаете, графика не его. А что вы знаете о Терезе Лессинг?
— Никогда не слышал это имя.
— А как он ведет деловые переговоры?
— Этим занимается Мириам. С тех пор как ей исполнилось семнадцать. Она справляется со своими обязанностями лучше, чем адвокат и жена вместе взятые.
— Она так и не вышла замуж.
— Ну и что же?
— Она уже столько лет живет с ним. В горах, в одиночестве, ни с кем не общаясь. Ведь так?
— Наверное, — сухо сказал он. — А сейчас я прошу меня извинить. В следующий раз, пожалуйста, заранее договоритесь со мной о встрече, а не просто…
— Конечно! — я встал. — Я тоже там буду на следующей неделе. Он меня пригласил. — Богович пожал мне руку вялой влажной ладонью. — В Аркадию!
— Куда?
— Если когда-нибудь разбогатею, куплю у вас «Смерть у блеклого моря». Сколько бы она ни стоила.
Он, не говоря ни слова, смотрел на меня.
— Шутка! — сказал я весело. — Не обижайтесь. Это всего лишь шутка…
* * *
— …Понятия не имею, что наплел вам этот старый идиот. Я никогда не жил с Адриенной.
Нелегко было уговорить Сильва встретиться со мной еще раз, мне пришлось несколько раз упомянуть, что он может сам выбрать ресторан. Он покачал головой, губы у него были испачканы коричневым шоколадным кремом — малоприятное зрелище.
— Она мне нравилась, я ей сочувствовал. Заботился о ней и о ребенке, потому что Мануэль больше не хотел о них заботиться. Может быть, он на меня за это обиделся. Но не более того.
— Ну и кому же мне верить?
— Это ваше дело, никто не обязан перед вами отчитываться. — Он исподлобья посмотрел на меня. — Наверное, вы скоро встретитесь с Мануэлем. Но вы не можете себе представить, каким он был тогда. Он как-то сумел убедить всех, что рано или поздно станет знаменитым. Все давали ему то, что он требовал. Только Тереза не стала… — Он выскреб из розетки остатки мороженого и облизнул ложечку с обеих сторон. — Только Тереза. — Он о чем-то раздумывал, но, казалось, забыл, что собирался сказать.
— Вы будете пить кофе? — обеспокоенно спросил я. Все это уже превосходило мои финансовые возможности; я еще не говорил с Мегельбахом о возмещении издержек.
— Господин Цёльнер, это все в прошлом! На самом деле нас больше нет. Старость — это какой-то бред. Ты живешь, а вроде бы и не живешь, как призрак. — Несколько секунд он оцепенев смотрел куда-то поверх моей головы, на крыши, на противоположную сторону улицы. Шея у него была такая тонкая, что на ней отчетливо проступали жилы. — Мириам была очень талантливая, живая, немного вспыльчивая. Когда ей исполнилось двадцать, у нее появился жених. Он приехал погостить, пробыл у них два дня, потом уехал и больше не вернулся. Нелегко жить с таким отцом. Я бы хотел увидеться с ней еще раз.
— Я ей это передам.
— Лучше не стоит. — Он грустно улыбнулся.
— Но у меня осталось еще несколько вопросов…
— Поверьте, у меня тоже…
* * *
— …Что мы не знали, что можно дожить до такой старости. Напишите об этом! Непременно напишите! — Она указала на птичку. — Слышите, как поет Паули?
— Вы хорошо знали Терезу?
— Когда она от него ушла, он хотел покончить с собой.
— Что? Правда? — Я выпрямился.
Она на секунду закрыла глаза: даже веки у нее были в морщинах, я никогда не видел настолько дряхлых стариков.
— Доминик утверждал, что да. Я бы никогда не стала Мануэля об этом спрашивать. Никто бы не стал. Но он тогда точно с ума сошел. Только когда Доминик сказал, что она умерла, он перестал ее искать. Хотите чаю?
— Нет. Да. Да, пожалуйста. У вас есть ее фотография?
Она взяла чайник и дрожащими руками налила мне чаю.
— Спросите у нее самой, может быть, она пришлет вам какую-нибудь фотографию.
— У кого спросить?
— У Терезы.
— Да она же умерла!
— Нет, почему. Она живет на севере, у моря.
— Так она не умерла?
— Нет, это только Доминик так говорил. Иначе Мануэль не перестал бы ее искать. Я очень любила Бруно, ее мужа. Он был такой чуткий, совсем не похож на… Вам нужен сахар? Его уже давно нет в живых. Почти никого уже нет в живых. — Она поставила кофейник на стол. — Хотите молока?
— Нет! У вас есть ее адрес?
— Кажется, был где-то. Слышите? Он так чудно поет. Канарейки редко поют. Паули — исключение.
— Пожалуйста, дайте мне ее адрес!
Она не ответила, казалось, не поняла.
— Если честно, — медленно произнес я, — я ничего не слышу.
— Что?
— Он не поет. Он не шевелится, и мне кажется, что с ним что-то не так. Не могли бы вы дать мне ее адрес?..
V
начале одиннадцатого меня разбудило солнце, светившее в окно. Я лежал на постели поверх одеяла, вокруг меня валялось с десяток аудиокассет, диктофон соскользнул на пол. Издалека доносился звон колоколов. Я с трудом встал.
Завтракал я под той же оленьей головой, которую заметил вчера сквозь окно. Кофе был жидкий, как вода, за соседним столиком отец ругал сына; малыш втягивал голову в плечи, ежился и делал вид, что его здесь нет. Хуго, прижав уши, крался по ковру. Я окликнул хозяйку и пожаловался, что кофе никуда не годится. Она равнодушно кивнула и сходила за новым кофейником. «Ну вот, наконец», — сказал я. Она пожала плечами. На сей раз кофе и в самом деле был крепче, после трех чашек сердце у меня поскакало галопом. Я повесил на плечо сумку и отправился к Каминскому.
Тропа, по которой я спускался вчера вечером, при дневном свете оказалась не такой узкой и вполне безопасной, да и ночной обрывистый склон превратился в пологий луг, усыпанный цветами. Две коровы печально посмотрели на меня, человек с косой, точь-в-точь старый крестьянин на картине, крикнул мне что-то непонятное, я кивнул ему, он засмеялся и пренебрежительно махнул рукой, мол, да ладно, чего там. Воздух был прохладный, ничего похожего на вчерашнюю духоту. Дойдя до указателя, я почти не запыхался.
Я быстро прошел по улице и уже минут через десять увидел стоянку и дома. Островерхая башенка вонзилась в небо. У садовой калитки был припаркован серый «БМВ». Я позвонил.
— Вы не вовремя, — неприязненно процедила Анна. — Господин Каминский плохо себя чувствует, он вчера даже с гостями не попрощался.
— Скверно, — удовлетворенно заметил я.
— Да, очень скверно. Приходите завтра.
Прошмыгнув мимо нее через переднюю и столовую, я вышел на террасу и невольно прищурился при виде полукружья гор в обрамлении сияющего утра. Анна кинулась за мной следом, повторяя: «Вы что, меня не поняли?» Я ответил, что предпочел бы обсудить это с госпожой Каминской. Она злобно посмотрела на меня, вытерла руки о передник и пропала где-то в доме. Я уселся на садовый стул и закрыл глаза. Неяркое солнце мягко поглаживало мое лицо, я еще никогда не дышал таким чистым воздухом.
Нет, один раз дышал. В Клэране. Я тщетно попытался избавиться от этого воспоминания.
В Клэране я присоединился к туристической группе. Было около четырех часов. Стальная клеть дребезжа плыла вниз, женщины истерически смеялись, из бездны дул ледяной ветер. На несколько секунд мы оказались в полной темноте.
Коридор с низкими сводами; электрические лампы, отбрасывающие на стены бледный свет, стальная противопожарная дверь то распахивалась, то со скрежетом захлопывалась. «Ne vous perdez pas, don’t get lost!»[13] Проводник шаркая шел впереди, какой-то американец фотографировал, какая-то женщина с любопытством ощупывала белые прожилки в камне. В воздухе чувствовалась соль. Здесь пятьдесят лет назад заблудился Каминский.
Проводник отворил стальную дверь, мы свернули за угол. Всему виной было якобы его плохое зрение, я на секунду закрыл глаза и ощупью стал пробираться вперед. Ведь эта сцена особенно важна для моей книги: я вообразил, будто я Каминский, вот я медленно бреду, нащупывая землю ногами, прищуриваюсь, ничего не видя вокруг, протягиваю руки, зову на помощь, наконец, останавливаюсь и кричу, пока не осознаю, что меня никто не услышит. Я должен был изобразить этот эпизод очень красочно, в деталях, как можно более наглядно, мне ведь нужны были предварительные публикации в крупных иллюстрированных журналах. Какой-то идиот толкнул меня, я вполголоса его выругал, он меня тоже, другой задел мой локоть, странно, до чего некоторые невнимательны, но я преодолел искушение открыть глаза. Мне непременно нужно было описать эхо его голоса в тишине, такие штуки производят впечатление. «Эхо в тишине», — тихо произнес я. Я расслышал, как они поворачивают налево. Оторвался от стены, осторожно сделал несколько шагов, ощупью нашел противоположную и побрел за ними, за голосами: постепенно я научился ориентироваться на слух. Где-то захлопнулась дверь, отблеск света заставил меня открыть глаза. Рядом никого не было.
Короткий коридор, освещаемый тремя лампами. Я удивился, поняв, что до двери больше десяти метров, скрип ведь раздавался у самого моего уха. Я быстро подошел к ней и распахнул. И здесь лампы, под низким потолком висели металлические трубы. И никого.
Я вернулся в другой конец коридора. Значит, они все-таки свернули направо и я ослышался. Изо рта у меня повалил пар. Я дотянулся до двери, она была заперта.
Я отер со лба испарину: хотя в штольне было холодно, меня бросило в жар. Значит, нужно вернуться. До развилки, а потом опять налево, оттуда мы пришли. Остановился, задержал дыхание, прислушался: ни звука. Тишина. Я еще никогда не слышал такого безмолвия. Быстро прошел по коридору и у следующей развилки остановился как вкопанный. Мы пришли справа? Ну конечно справа. Значит, сейчас налево. Стальная дверь легко открылась. Лампы, трубы, еще развилка, и никого. Я заблудился.
Я невольно рассмеялся.
Снова вышел к последней развилке и свернул налево. Опять дверь, но в коридоре за ней не горел свет, в нем теснилась тьма, какой не бывает на поверхности земли, я в испуге захлопнул дверь. Конечно, скоро сюда запустят следующую группу, а потом, здесь ведь должны быть рабочие, в конце концов, в этом руднике еще добывают соль. Я прислушался. Откашлялся и покричал; меня удивило, что в коридоре не было эха. Казалось, крики поглощает камень.
Я повернул налево, прошел прямо через одну, две, три двери, четвертая была заперта. Ну же, попытайся рассуждать логически! Повернул налево, прошел через две стальные двери и оказался на пересечении двух жил. Двери, говорил проводник, предназначены для того, чтобы воспрепятствовать потоку воздуха в случае пожара; если их не будет, от одной-единственной искры может воспламениться воздух во всех копях. Нет ли здесь пожарной сигнализации? Секунду я размышлял, не поджечь ли мне что-нибудь. Но у меня ничего с собой не было, даже сигареты кончились.
Я заметил, что на трубах висят крошечные капли конденсата. Так и должно быть? Я толкнул было две двери, одна была заперта, другая вела в коридор, где я уже побывал. Или еще нет? Отчаянно хотелось курить. Я сел на пол.
За мной придут, скоро придут, как же иначе. Не могут же копи быть такими большими. А свет здесь на ночь выключают? Пол был ледяной, я не выдержал и встал. Покричал. Покричал громче. Мне стало ясно, что это не поможет. Я вопил, пока не охрип.
Снова сел. Мне пришла в голову идиотская мысль достать мобильный телефон, но, разумеется, на такой глубине он не работал. Нигде ты так не отрезан от мира, как в соляных копях. Что же на самом деле происходит: я попал в дурацкое положение или моей жизни грозит опасность? Прислонился головой к стене, какое-то мгновение мне казалось, что я вижу паука, но это было всего-навсего пятнышко, на такой глубине не бывает насекомых. Посмотрел на часы, прошел уже час, словно время текло здесь быстрее или моя жизнь медленнее, а может быть, часы у меня спешили. Идти дальше или ждать здесь? Внезапно я ощутил усталость. Всего на одну секунду я закрыл глаза.
Рассматривал прожилки в камне. Они сближались, соединялись, но нигде не пересекались, как рукава реки. Бесконечно медленный соляной поток, текущий сквозь недра земли. Только бы не заснуть, думал я, потом мне показалось, будто ко мне обращаются какие-то голоса, которым я отвечаю, кто-то играл на пианино, а потом я оказался в самолете и любовался широко раскинувшимися, сияющими ландшафтами: горами, городами и далеким морем, мимо проходили какие-то люди, смеялся ребенок, я посмотрел на часы, но не смог разглядеть циферблат. С трудом встал, тело у меня онемело от холода. Стальная дверь отворилась, за нею оказалась комната Эльке, и я почему-то догадался, что она меня ждет, вот наконец я и пришел. Она бросилась ко мне, от радости распахнув объятия и широко открыв глаза… я сидел на полу, под влажными трубами, в желтом свете шахтерских ламп, совсем один.
Начало седьмого. Я просидел здесь уже два часа. Дрожа от холода, я встал, переминаясь с ноги на ногу и похлопывая в ладоши. Дошел до конца штольни, повернул направо, налево, направо и снова налево. Остановился и оперся на камень.
Какой он массивный и тяжелый на ощупь. Я прижался к нему лбом и попытался свыкнуться с мыслью, что скоро умру. Может быть, что-нибудь написать на прощание, — а кому, собственно? Опустился на колени, кто-то похлопал меня по плечу. Усатый проводник, позади человек десять туристов в касках, с фотоаппаратами и видеокамерами. «Monsieur, qu’est-ce que vous faites la?»[14]
Я встал, что-то бормоча, смахнул слезы и пристроился в хвост очереди туристов. Двое японцев с любопытством меня разглядывали, проводник распахнул дверь: разноголосая невнятица выплеснулась мне в лицо, штольня была полна людей. В сувенирном киоске продавали видовые открытки, кристаллы соли и диапозитивы с изображением молочно-белых соляных озер. У таблички «Exit» начиналась лестница, через несколько минут подъемная клеть скрежеща вынесла меня на поверхность.
— Вы же должны были прийти завтра!
Я поднял голову. Передо мной, обрамленный солнцем, возвышался силуэт Мириам Каминской. В ее черных волосах сквозили тонкие штрихи света.
— Я хотел только поздороваться.
— Добрый день. Я через час уезжаю и вернусь завтра.
— Я надеялся, что смогу поговорить с вашим отцом. Она смотрела на меня, как будто не расслышала:
— Мой отец плохо себя чувствует. Сходите погулять, господин Цёльнер. Побродите немного по окрестностям. Сходите, не пожалеете.
— Куда вы едете?
— Мы основали фонд Каминского. С удовольствием посвящу вас во все подробности, может быть, это пригодится для вашей книги.
— Разумеется.
Теперь я понял: пока она не уедет, я не смогу поговорить с ним наедине. Я медленно кивнул, она избегала встречаться со мной взглядом. Конечно, она меня побаивалась. Кто знает, вдруг я внушаю ей какие-то опасения… Но ничего не поделаешь. Я встал.
— Ну, тогда я поброжу по окрестностям.
Я поспешно прошел в дом, нельзя допустить, чтобы она меня выпроводила. Из-за неплотно прикрытой кухонной двери доносилось дребезжание посуды. Я заглянул в щелку, Анна как раз мыла тарелки.
Когда я вошел, она бессмысленным взглядом посмотрела на меня. Волосы у нее были кое-как заплетены в неопрятную косицу, на ней красовался грязный передник, лицо было круглое как блин.
— Анна! — начал я. — Вы ведь разрешите называть вас просто по имени?
Она пожала плечами.
— Я Себастьян. Называйте меня просто Себастьян. Ужин вчера был восхитительный. Мы можем поговорить?
Она промолчала. Я подвинул к себе стул, снова его оттолкнул и взгромоздился на кухонный стол.
— Анна, нет ли у вас какого-нибудь неотложного дела?
Она недоуменно уставилась на меня.
— Я хочу сказать… вы могли бы заняться им сегодня. Вы меня поняли?
За окном я заметил банкира, который вчера был среди гостей, он выходил из соседнего дома. Прошел по стоянке, выудил из кармана ключ, открыл дверь машины и неуклюже сел.
— Скажу по-другому. Что бы вы ни хотели сегодня сделать, я это… Нет, допустим…
— Двести, — решительно оборвала она меня.
— Что?
— Вы что, идиот или прикидываетесь? — Она невозмутимо смотрела мне в глаза. — Двести, и я уйду до завтра, часов до двенадцати.
— У меня столько нет, — хрипло выдавил я.
— Двести пятьдесят.
— Так не пойдет!
— Триста.
— Двести.
— Триста пятьдесят.
Я кивнул.
Она протянула руку, я достал, бумажник и отсчитал деньги. Обычно я не брал с собой так много; это было все, что я собирался потратить на поездку.
— Ну давай, чего там!
Кожа у нее маслянисто поблескивала; ладонь была такая огромная, что купюры в ней просто исчезли.
— Сегодня днем позвонит моя сестра, я скажу, что мне срочно нужно к ней. А завтра вернусь часам к двенадцати.
— И ни минутой раньше!
Она кивнула.
— А теперь хватит, уходите.
Я нерешительно пошел к двери. Выбросил на ветер столько денег! Но добился, чего хотел! И боже мой, ловко это все обделал, к тому же теперь она у меня на крючке. Осторожно поставил сумку на пол и прислонил ее к стене.
— Господин Цёльнер!
Я испуганно обернулся.
— Вы что, заблудились? — спросила Мириам.
— Нет, конечно… Я как раз собирался…
— Я не хотела бы, чтобы у вас сложилось неверное впечатление, — сказала Мириам. — Мы благодарны вам за то, что вы делаете…
— Да знаю, можете мне не объяснять…
— Сейчас с ним нелегко. Он болен. Иногда ведет себя как маленький ребенок. Но ваша книга для него очень важна.
Я сочувственно кивнул.
— А когда она, собственно, выйдет в свет?
Тут я по-настоящему испугался. Неужели она что-то заподозрила?
— Пока неизвестно.
— Почему неизвестно? Господин Мегельбах тоже не стал об этом говорить.
— Это зависит от многих причин. От… — Я пожал плечами. — От разных. От многих причин. Выпустим как только сможем!
Она задумчиво посмотрела на меня, я быстро простился и вышел. Теперь спуск показался мне очень коротким: пахло травой и цветами, в голубом небе медленно проплывал самолет; я чувствовал себя безмятежно и легко. Получил деньги в банкомате и купил в аптеке новую бритву.
Вернулся в номер и долго разглядывал старого крестьянина на стене. Насвистывал и барабанил пальцами по колену. Небольшое беспокойство я все-таки ощущал. Лег на кровать, не снимая ботинок, и какое-то время смотрел в потолок. Подошел к зеркалу и надолго застыл там, пока не перестал узнавать собственное отражение. Побрился и вдоволь насладился душем. Потом подошел к телефону и, не заглядывая в записную книжку, набрал номер. Трубку сняли на пятом гудке.
— Госпожа Лессинг! — закричал я. — Это опять я, Себастьян Цёльнер. Не кладите трубку!
— Нет! — пискнул кто-то на другом конце провода. — Нет!
— Я только прошу меня выслушать!
Она положила трубку. Несколько секунд я рассеянно слушал гудки «занято», потом позвонил снова.
— Это снова Цёльнер. Я всего лишь прошу вас…
— Нет! — пискнула она и положила трубку.
Я выругался. Ничего не поделаешь, кажется, и в самом деле придется к ней ехать. Только этого не хватало!
В ресторане на главной площади мне подали несъедобный салат из тунца. Вокруг было полно туристов, вопили дети, отцы семейств перелистывали карты автодорог, матери атаковали вилками огромные порции торта. Официантка была молоденькая, ничего себе, я крикнул:
— Слишком много масла в салате, замените!
— С удовольствием, — сказала она, — но заплатить вам все-таки придется.
— Но я ведь к нему, — возразил я, — почти не притронулся.
— Это ваше дело, — сказала она.
Я потребовал управляющего. Она сказала:
— Он будет только вечером, но, если хотите, можете подождать.
— Вот еще, мне больше делать нечего, — съязвил я и подмигнул ей.
Я доел салат, но, когда собирался заплатить, вместо девицы явился широкоплечий официант. Чаевых я ему не дал.
Я купил сигареты и попросил у какого-то молодого человека зажигалку. Мы разговорились, он оказался студентом, а сюда приехал к родителям на каникулы.
— А что вы изучаете?
— Искусствоведение, — ответил он и бросил на меня озабоченный взгляд.
— Вполне объяснимо, — откликнулся я, — особенно если вы отсюда родом.
— То есть?
Я широким жестом обвел горный склон.
— Близость Бога?
— Да нет же, здесь ведь живут великие художники. Он не понял.
— Да Каминский!
Он тупо смотрел на меня. Я спросил:
— Вы что, правда не знаете Каминского?
— Нет, не знаю.
— Последний ученик Матисса, — пояснил я, — представитель классического…
— Нет, я этим не занимаюсь, — перебил он меня, — меня интересует современное искусство альпийского региона… Там есть такие любопытные тенденции, вот, например, Гамрауниг, ну и потом, конечно, еще Гёшль и Ваграйнер{17}.
— Кто?
— Ваграйнер! — выкрикнул он, побагровев. — Да вы что, о нем не слышали? Он сейчас пишет картины только молоком и продуктами питания.
— Почему? — спросил я.
Он кивнул, этот вопрос явно уже не в первый раз доставлял ему удовольствие.
— Понимаете, он ницшеанец.
Я отодвинулся и озабоченно посмотрел на него.
— А может быть, Ваграйнер — неодадаист?
Он покачал головой.
— Или он работает в жанре перформанса?
— Нет, — возразил он, — нет-нет. Неужели вы и правда никогда не слышали о Ваграйнере?
Я покачал головой. Он невнятно что-то пробормотал, мы недоверчиво посмотрели друг на друга. Потом разошлись.
Я отправился в пансион, собрал чемодан и заплатил по счету. Завтра я снова здесь поселюсь, если уж я сегодня здесь не ночую, то и платить за эту ночь бессмысленно. Кивнул хозяйке, отбросил окурок, нашел тропинку и стал подниматься в гору. Такси мне не понадобилось, теперь подъем давался легко; даже с чемоданом я быстро добрался до указателя. Все время по тропе, первый, второй, третий виток серпантина, автостоянка. У садовой калитки по-прежнему был припаркован серый «БМВ». Я позвонил, Анна сразу же открыла.
— Дома есть кто-нибудь? — спросил я.
— Он один.
— А почему машина еще здесь?
— Она поехала на поезде.
Я испытующе посмотрел ей в глаза:
— Я за сумкой, забыл ее у вас.
Она кивнула, повернулась и пошла в дом, оставив дверь открытой. Я проскользнул за ней следом.
— Звонила моя сестра, — сказала она.
— Вот как!
— У нее неприятности.
— Если вам нужно уйти, я могу за ним присмотреть. Несколько секунд она нахально глядела мне в глаза.
— Как любезно с вашей стороны. — Она поправила на себе рабочий халат, наклонилась и подняла с пола туго набитую дорожную сумку. Прошла к двери, замешкалась и вопросительно посмотрела на меня.
— Не беспокойтесь! — тихо сказал я.
Она кивнула. Шумно вздохнула, потом закрыла за собой дверь. Через кухонное окно я смотрел, как она мелкими шажками, неуклюже идет по автостоянке. Сумка болталась у нее в руке.
VI
постоял в передней и прислушался. Слева входная дверь, справа столовая, передо мной лестница на второй этаж. Я откашлялся, мой голос странным эхом раздавался в тишине.
Прошел в столовую. Окна там были закрыты, явно давно не проветривали. О стекло билась муха. Осторожно выдвинул верхний ящик комода: аккуратно сложенные скатерти. Следующий: ножи, вилки, ложки. И нижний: «Лайф», «Тайм» и «Пари-матч» двадцатилетней давности, вперемешку. Старое дерево не поддавалось, я с трудом задвинул ящик назад. Вернулся в переднюю.
Слева от меня виднелись четыре двери. Распахнул первую: маленькая комнатка, постель, стол и стул, телевизор, изображение Мадонны на стене, фотография молодого Марлона Брандо. Наверное, это комната Анны. Следующая дверь вела в кухню, потом комната, в которой меня принимали вчера. За четвертой куда-то вниз вели ступени.
Я поднял с пола сумку и ощупью нашел выключатель. Всего одна электрическая лампочка бросала грязноватый свет на поскрипывавшие деревянные ступени, лестница была такая крутая, что приходилось держаться за перила. Я повернул выключатель, со щелчком зажглись прожекторы, я зажмурился. Привыкнув к яркому свету, я понял, что оказался в мастерской художника.
Помещение без окон, освещенное только четырьмя прожекторами: тому, кто здесь работал, не требовался дневной свет. Посреди комнаты стоял мольберт с незаконченной картиной, на полу валялись с десяток кистей. Я нагнулся и потрогал их, все они были сухие. Рядом лежала палитра, краски на ней окаменели и покрылись сетью трещин. Я принюхался: пахло так, как обычно пахнет в подвалах, — немного сыростью, чуть-чуть нафталином, но уж никак не красками и скипидаром. Здесь давным-давно никто не работал.
Холст на мольберте был почти нетронут, его белое поле пересекали всего три мазка. Они расходились веером из левого угла, вверху справа виднелось маленькое, заштрихованное мелом поле. Никаких набросков, ничего, что позволило бы догадаться о замысле художника. Чуть отойдя от мольберта, я заметил, что у меня четыре тени, перекрещивающиеся под ногами, — по одной от каждого прожектора. К стене были прислонены несколько больших холстов, закрытых полотнищами парусины.
Я откинул первое и вздрогнул. Глаза, искривленный рот: чье-то лицо, странно искаженное, точно отражение в текущей воде[15]. Оно было выдержано в светлых тонах, от него, словно языки затухающего пламени, разбегались красные линии, глаза рассматривали меня холодно, испытующе. И хотя это был, несомненно, его стиль — легкое наложение краски, излюбленная красно-желтая палитра, о которой писали и Коменев, и Меринг, — картина была не похожа на все остальные, что мне приходилось видеть. Я поискал его подпись и не нашел. Потянулся за следующим полотнищем; стоило мне к нему прикоснуться, как над ним вздулось облачко пыли.
То же лицо, на сей раз чуть поменьше, — четко очерченный круг, с притаившейся в уголках рта насмешливой улыбкой. И на следующем холсте снова оно, теперь уже с неестественно растянутым ртом, высоко поднятые брови сходились над переносицей, лоб избороздили морщины, придававшие лицу сходство с маской, встопорщились жидкие волосы, похожие на царапины на бумаге. Ни шеи, ни туловища, одна голова, парящая в пустоте. Я снимал полотнище за полотнищем, лицо искажалось все сильнее: подбородок гротескно удлинялся, краски становились кричащими, лоб и уши вытягивались. Но глаза, казалось, смотрели на меня с каждого нового портрета все отчужденнее, все безучастнее и — я сдернул еще одно полотнище — все презрительнее. Теперь это лицо разбухло, как в кривом зеркале, его уже украшал нос Арлекина и извилистые морщины на лбу, на следующем холсте — брезент за что-то зацепился, я изо всех сил дернул, поднялось облако пыли, я невольно чихнул — оно смялось, как будто кукловод сжал кулак внутри перчаточной куклы. На следующем холсте оно едва виднелось, словно сквозь метель. Другие незаконченные картины остались всего лишь предварительными набросками с отдельными красочными плоскостями, кое-где можно было различить то лоб, то щеку. В углу, как ненужный хлам, валялся блокнот для эскизов. Я поднял его, смахнул пыль и открыл. То же лицо, изображенное сверху, снизу, со всех сторон, а однажды даже показанное изнутри, как маска. Рисунки, выполненные угольным карандашом, с каждым листом становились все более беспомощными, штрихи, дрожащие и неуверенные, оставляли все усиливающееся впечатление хаоса, пока наконец на одном из листов не слились в сплошное черное пятно. С него посыпалась угольная пыль. Последние листки в блокноте были пусты.
Я отложил его и стал осматривать картины в поисках подписи или даты. Тщетно. Перевернул один из холстов и обследовал деревянную раму, откуда-то выпал осколок стекла. Я осторожно его поднял. А вот еще и еще, весь пол за картинами был усыпан разбитым стеклом. Я поднес осколок к свету и прищурился: луч прожектора слегка дрогнул, его черный патрон изогнулся дугой. Стекло было отшлифовано.
Я достал из сумки камеру, маленький суперсовременный «кодак», рождественский подарок Эльке. Прожекторы светили так ярко, что не потребуются ни штатив, ни вспышка. Я присел. Картину, как объяснил мне главный фотограф «Вечерних известий», нужно снимать с очень близкого расстояния, чтобы не возникло перспективного сокращения, иначе ее не опубликовать в репродукции. Я дважды сфотографировал каждый холст, а потом, стоя, прислонившись к стене, мольберт, кисти на полу, осколки стекла. Щелкал, пока не кончилась пленка. Тогда я убрал камеру и стал снова закрывать картины.
Это было нелегко — брезент то и дело застревал. Где я мог видеть это лицо? Я торопился; сам не зная почему, я хотел как можно скорее убраться из этой комнаты. Так почему, черт возьми, оно казалось мне знакомым? Дойдя до последнего портрета, я встретился глазами с его презрительным взглядом и закрыл его. На цыпочках я проскользнул к двери, выключил свет и невольно вздохнул с облегчением.
Я снова постоял в передней и прислушался. В гостиной по-прежнему жужжала муха.
— Есть тут кто-нибудь? — громко спросил я, но никто не откликнулся. Я поднялся на второй этаж.
Две двери справа, две слева, одна в конце коридора. Я начал с левой стороны. Постучал, подождал и распахнул первую.
Наверное, это комната Мириам. Кровать, телевизор, книжные полки и картина Каминского из цикла «Отражения»; трехстворчатое зеркало, перед ним издевательское подобие натюрморта — забытая тряпка, туфелька и карандаш, а их отражения образуют в глубине трех зеркал совершенный многогранник; если рассматривать прищурившись, возникало впечатление, что изображение слабо мерцает. Наверное, стоит целое состояние. Я заглянул в шкафы, но там была только одежда, туфли, шляпы, несколько пар очков, шелковое белье. Я медленно погладил пальцами нежную ткань трусиков; у меня еще никогда не было женщины, которая носила бы шелковое белье. Выдвижной ящик тумбочки набит коробочками с лекарствами: валерьянка, валиум, бенедорм, несколько видов снотворных и успокоительных. Интересно бы заглянуть в аннотации, но на это нет времени.
Рядом ванная комната. Чисто убранная, пахнущая химией, в ванне лежала еще влажная губка, перед зеркалом стояли три флакона духов. К сожалению, «Шанели» среди них не было, только названия, которых я не знал. Ни бритвы, ни помазка, ни крема, старик явно пользовался другой ванной. А как, собственно, бреются слепцы?
Дверь в конце коридора вела в непроветренное помещение. Немытые окна, пустые шкафы, незастланная постель: комната для гостей, в которой давно никто не жил. Маленький паучок раскачивал натянутую над оконной нишей паутину. На столе лежал карандаш с крошечным остатком старательной резинки и отпечатками чьих-то зубов на дереве. Я взял его в руки, повертел, положил на место и вышел.
Еще две двери. Постучал в первую, подождал, постучал еще раз, вошел. Двуспальная кровать, стол и кресло. За неплотно прикрытой дверью виднелась маленькая ванная. Жалюзи были опущены, под потолком горела лампа. В кресле сидел Каминский.
Казалось, он спит, глаза у него были закрыты, иссохшее тело неразличимо под слишком широким шелковым халатом с закатанными рукавами. Руки у него не доставали до конца подлокотников, спинка далеко выступала над головой, ноги не касались пола. Наморщив лоб, он повернул голову, открыл и тотчас же закрыл глаза и произнес:
— Кто здесь?
— Это я, — сказал я, — Цёльнер. Забыл сумку. Анне пришлось срочно уехать к сестре, и она попросила меня побыть с вами, я сказал, да ради бога, и… Я только хотел вас предупредить. Если вам что-то понадобится…
— Что мне может понадобиться? — спокойно сказал он. — Жирная корова.
Черт подери, уж не ослышался ли я?
— Жирная корова, — повторил он. — Да и готовить не умеет. Сколько вы ей заплатили?
— Я не понимаю, о чем вы. Но если у вас найдется время для беседы…
— Вы спускались в подвал?
— В подвал?
Он постучал себя по носу:
— Запах я ведь чувствую.
— В какой еще подвал?
— Она же прекрасно знает, что мы не можем ее вышвырнуть. Здесь в горах все равно никого не найти.
— Мне… выключить лампу?
— Лампу… — Он нахмурился. — Нет-нет. Это условный рефлекс. Оставьте, пусть горит.
Он что, опять принял снотворное? Я достал из сумки диктофон, включил его и положил на пол.
— Что это было? — спросил он.
Лучше всего, наверное, было сразу же перейти к делу.
— Расскажите мне о Матиссе!
Он молчал. Очень хотелось увидеть его глаза, но он явно привык их не открывать, когда был без очков.
— У него был такой дом в Ницце. Я подумал, что тоже не отказался бы так когда-нибудь пожить. Какой сейчас год?
— Простите?
— Вы же ходили в подвал. Так какой год?
Я сказал.
Он потер лицо. Я посмотрел на его ноги. Не доставая до пола, болтались шерстяные тапочки, задралась штанина на безволосой, детской икре.
— Где мы?
— У вас в доме, — медленно произнес я.
— Ну так сколько вы заплатили этой жирной корове?!
— Я приду попозже.
Он вздохнул, я быстро вышел и закрыл за собой дверь. Нелегко мне придется! Дам ему пару минут, пусть сосредоточится.
За последней дверью я наконец обнаружил кабинет. Письменный стол, на нем компьютер, вращающийся стул, канцелярские шкафы, папки, стопки бумаг. Я сел, подперев голову руками. Солнце уже заходило, вдалеке кабина канатной дороги ползла вверх по склону горы, вот она блеснула в солнечном луче, исчезла над перелеском. Совсем рядом раздался грохот; я прислушался, но он больше не повторился.
А теперь все по порядку. Это ведь рабочее место Мириам, а ее отец, вероятно, здесь уже давным-давно не бывает. Сначала просмотрю все неубранные бумаги, потом заберусь в ящики письменного стола, сначала в нижние, потом дойду до верхних, потом на очереди шкафы, примусь за них, двигаясь слева направо. Если нужно, я могу быть аккуратным до педантизма.
В основном это оказались финансовые документы. Выписки из счетов и вкладов, в целом на меньшую сумму, чем я ожидал. Были там и квитанции, доказывающие существование тайного банковского счета в Швейцарии, сумма не так чтобы очень, но в случае необходимости для шантажа использовать можно. Договоры с владельцами художественных галерей: Богович получал сначала сорок, потом всего тридцать процентов — на удивление мало, тот, кто заключил с ним контракт, знал свое дело. Дальше страховка в частной компании на случай болезни — довольно крупная, — затем страховка на случай смерти, как ни странно, на имя Мириам, но не такая уж большая. Я включил компьютер, он со скрежетом загрузился и потребовал пароль. Я скормил ему «Мириам», «Мануэль», «Адриенна», «папа», «мама», «привет» и «пароль», но ни один вариант не подошел. Я в раздражении его отключил.
Потом взялся за письма. Машинописные копии бесконечной переписки с владельцами галерей по поводу цен, продаж, присылки на выставки отдельных картин, прав на репродукции, открытки, альбомы. Большинство писем сочинила Мириам, некоторые продиктовал и подписал ее отец, и только самые старые были написаны им собственноручно: переговоры, предложения, требования, даже просьбы Каминского-юноши, еще не обласканного славой. Писал он тогда сплошь каракулями, строчки скатывались вправо, из них выпрыгивали точки над «и». Копии нескольких ответов журналистам: «Мой отец никогда не причислял и не причисляет себя к сторонникам предметного искусства, поскольку, на его взгляд, это понятие лишено всякого смысла: предметна любая живопись или вообще никакая, вот, пожалуй, и все, что можно сказать по этому поводу». Несколько писем от Клюра и других знакомых: «а не встретиться ли нам», короткие ответы, поздравления с днем рождения и, отдельной аккуратной стопкой, рождественские открытки от Меринга. Приглашения из разных университетов прочитать лекцию; насколько я знал, он никогда не читал лекции, он явно им отказал. И копия любопытного письма Класу Ольденбургу: Каминский благодарил его за помощь, но, к сожалению, вынужден был признаться, что считает искусство Ольденбурга — «извините за прямоту, но в нашем ремесле лгать из вежливости — единственный грех» — пустым вздором. В самом низу, на дне последнего ящика, я обнаружил толстую кожаную папку, запертую маленьким замочком. Я тщетно потратил время, пытаясь открыть ее ножом для писем, и отложил, решив заняться ею попозже.
Взглянул на часы: надо поторопиться! А письма Доминику Сильва, Адриенне, Терезе? Это же была эпоха писем! Но я ни одного не нашел. Услышав шум мотора, я метнулся к окну. Внизу остановилась машина. Из нее вышел Клюр, оглянулся, сделал несколько шагов по направлению к дому Каминского, повернул в другую сторону — я вздохнул с облегчением — и распахнул свою садовую калитку. Рядом раздался сухой кашель Каминского.
Подошла очередь шкафов. Я перелистал толстые папки, документы, подтверждающие страховки, копии выписок из поземельного кадастра, десять лет назад он купил имение на юге Франции и вскоре продал его с убытком для себя. Материалы уголовного процесса, возбужденного им против владельца художественной галереи, который выставил на продажу его картины раннего, символистского периода. А еще старые альбомы для эскизов с детальными зарисовками траекторий, которые проходят лучи между различными зеркалами: я прикинул их стоимость и не сразу подавил желание стащить один. Я уже добрался до последнего шкафа: старые счета, копии налоговых деклараций за последние восемь лет; мне очень хотелось их просмотреть, но времени уже не было. В надежде обнаружить тайники или двойное дно, я обстукал задние стенки мебели. Лег на пол и долго всматривался во мрак под шкафами. Встал на стул и разглядывал их сверху.
Распахнул окно, сел на подоконник и закурил. Ветер уносил пепел, я задумчиво выпустил струйку дыма, рассеявшегося в прохладном воздухе. Солнце уже коснулось одной из горных вершин, вот-вот совсем зайдет. Так, значит, осталась только эта папка. Я отшвырнул сигарету, сел за письменный стол и вынул перочинный нож.
Всего один ровный надрез, сверху вниз, на обратной стороне. Кожа, уже потрескавшаяся, со скрипом подалась. Я осторожно, медленно разрезал папку, потом надорвал ее. Никто не заметит. Зачем ее доставать, пока жив Каминский? А потом все едино.
В ней лежали всего несколько листов. Короткое письмо от Матисса: желает успеха, рекомендует Каминского нескольким коллекционерам, примите уверения, глубоко уважающий вас… Следующее тоже от Матисса: он весьма сожалеет о том, что выставка прошла неудачно, но что делать, советует много и серьезно работать, убежден, что в будущем господина Каминского ждет успех, в остальном желает… Телеграмма от Пикассо: «„Размышления сонного прохожего“ чудные, жаль, что не я их написал, всего доброго, компадре, виват!» Потом, порядком пожелтевшие, три письма мелким, неразборчивым почерком Рихарда Риминга. Первое я знал; его вечно перепечатывали во всех биографиях Риминга; странное ощущение — вот так, вдруг, держать его в руках. «Итак, я уже на корабле, — писал Риминг, — и в сей жизни мы больше не встретимся. Не стоит расстраиваться, это нужно принять как данность; и даже если, расставшись с нашим бренным телом, мы обретаем какой-то иной модус существования, это еще не означает, что мы вспомним о прежних своих маскарадных костюмах и узнаем друг друга, иными словами, если бывают прощания навсегда, пусть и мы попрощаемся навеки. Мой корабль плывет к берегу, в реальность которого, вопреки утверждениям книг, расписаниям и своему собственному билету, я все еще не могу поверить. И тем не менее я не хотел бы упустить этот миг в конце собственного существования, задуманного в лучшем случае как компромисс с так называемой жизнью, не заверив Вас в том, что если бы я обрел право назвать кого-нибудь сыном, то это имя подобало бы не кому иному, как Вам. Я прожил жизнь, едва ли заслуживающую такого названия, просто существовал, не зная зачем, был влеком какой-то непонятной силой, потому что так надо, часто мерз, иногда сочинял стихи, из коих некоторым суждено было найти признание. Поэтому мне едва ли пристало отговаривать кого-либо от подобного поприща, я лишь хочу, чтобы вам не довелось испытать печаль, это уже немало; собственно говоря, это — все».
Два других, ранних письма Риминга были адресованы Каминскому-школьнику: в первом он советовал больше не убегать из закрытой частной школы, «это бессмысленно, нужно выдержать все до конца; я не стал бы утверждать, что Вы когда-нибудь будете кому-то благодарны за годы, проведенные в школе, но обещаю, что Вы это преодолеете, в принципе можно преодолеть почти все, даже если сам того не хочешь». В другом письме он сообщал, что «Слова на обочине» выйдут в следующем месяце и что он ждет появления книги «с робкой радостью ребенка, опасающегося, что получит на Рождество не те подарки, о которых мечтал, и все-таки знающего, что, что бы он ни получил, это и есть тот самый желанный подарок». Понятия не имею, что он хотел этим сказать. Тон письма был холодный и жеманный. Риминг мне никогда не нравился.
Следующее письмо было от Адриенны. Она долго думала, решение далось ей нелегко. Она знает, что Мануэль «никого не способен сделать счастливым и что слово „счастливый“ означает для него не то же, что для большинства. Но я согласна, я выйду за тебя замуж, я беру ответственность на себя, и даже если это ошибка, я ее совершу. Тебя это, может быть, и не удивляет, а я просто поражена собственным решением. Спасибо за то, что дал мне подумать, будущее внушает мне страх, но, может быть, это неизбежно, и, возможно, я когда-нибудь произнесу те слова, которые ты так хотел бы услышать».
Прочитав письмо еще раз, я так и не смог понять, что в нем кажется мне таким зловещим. И вот остался только один лист тонкой бумаги в клетку, как будто вырванный из школьной тетради. Я положил его перед собой и разгладил. Оно было написано ровно за месяц до письма Адриенны. «Мануэль, я пишу это точно во сне. Я только…» И тут меня отвлекло электрическое жужжание: раздался звонок в дверь.
Я озадаченно спустился по лестнице и открыл дверь. На забор облокотился седой человек в тирольской шляпе, рядом с ним на земле стояла пузатая сумка.
— Вы к кому?
— Доктор Марцеллер, — представился он басом. — Назначено.
— Вам назначено?
— Ему. Я его врач.
Ничего подобного я не ожидал.
— Сейчас не время, — сдавленным голосом произнес я.
— Как не время?
— Сейчас, к сожалению, не время. Приходите завтра! Он снял шляпу и пригладил волосы.
— Господин Каминский работает, — сказал я. — Он не хотел бы, чтобы ему мешали.
— Вы что, хотите сказать, что он рисует?
— Мы работаем над его биографией. Ему необходимо сосредоточиться.
— Над его биографией. — Он снова надел шляпу. — Необходимо сосредоточиться. — Какого дьявола он все повторяет?
— Моя фамилия Цёльнер, — сказал я. — Я его биограф и друг. — Я протянул ему руку, он, помедлив, ее пожал. Крепко, до боли. Я ответил тем же. Он недоверчиво посмотрел на меня.
— Я пойду к нему. — Он сделал шаг вперед.
— Нет! — воскликнул я и преградил ему дорогу.
Он в недоумении уставился на меня. Он что, хочет проверить, смогу ли я его задержать? Только попробуй, подумал я.
— Это ведь наверняка всего-навсего обычный осмотр, — сказал я. — С ним все в порядке.
— Откуда вы это знаете?
— Он действительно очень занят. Он не может отвлечься, у него так много… воспоминаний. Эта работа для него крайне важна.
Он пожал плечами, прищурился и отошел на шаг. Я победил.
— Весьма сожалею, — сказал я великодушно.
— Так как там вас зовут?
— Цёльнер, — повторил я. — До свидания.
Он кивнул. Я улыбнулся, он неприязненно посмотрел на меня, я закрыл дверь. Стоя у кухонного окна, я наблюдал, как он идет к машине, ставит сумку в багажник, садится за руль и заводит мотор. Потом он притормозил, опустил окно и еще раз взглянул на дом; я отпрянул, подождал несколько секунд, снова подкрался к окну и увидел, как машина исчезает за поворотом. Я с облегчением поднялся по лестнице.
«Мануэль, я пишу это точно во сне. Я только воображаю, как напишу это письмо, потом положу в конверт и отправлю его из сна в реальность, к тебе. Я только что ходила в кино, де Голль в новостях был смешной, как всегда, на улице оттепель, первая в этом году, и я пытаюсь внушить себе, что это не имеет к нам никакого отношения. В сущности ни один из нас — ни я, ни бедняжка Адриенна, ни Доминик — не верим, что от тебя можно уйти. Но, может быть, мы ошибаемся.
Хотя прошло так много времени, я до сих пор не поняла, что мы для тебя значим. Может быть, мы для тебя зеркала (уж в них-то ты разбираешься), задача которых — показать тебе твое отражение и превратить тебя во что-то величественное, многоликое и отрешенное. Да, ты прославишься. И ты это заслужил. А теперь ты, наверное, отправишься к Адриенне, возьмешь то, что она может тебе дать, и позаботишься о том, чтобы когда-нибудь позднее, уходя от тебя, она сочла это своим собственным решением. Может быть, ты сумеешь сделать так, что она уйдет к Доминику. Тогда в твоей жизни появятся другие люди, другие зеркала. Но я больше не вернусь.
Только не плачь, Мануэль. Ты всегда любил поплакать, но на сей раз предоставь это мне. Разумеется, это конец, и мы умираем. Но это не значит, что мы не проживем еще долго, не найдем других возлюбленных, не будем гулять, ночью видеть сны и проделывать все, на что обычно способна марионетка. Не знаю, на самом ли деле я это пишу, и тем более не знаю, отправлю тебе это письмо или нет. Но если все-таки да, если я смогу это сделать и ты его прочтешь, то, пожалуйста, пойми его именно так: считай, что я умерла! Не звони и не ищи меня, меня больше нет. Я сейчас смотрю из окна и спрашиваю себя, почему все они не…»
Я перевернул лист, но на обратной стороне ничего не было, конец письма, очевидно, потерялся. Еще раз просмотрел все листы, но недостающего среди них не было. Со вздохом достал блокнот и переписал все письмо. Карандаш несколько раз ломался, я спешил и писал неразборчиво, но минут за десять все-таки его осилил. Убрал все бумаги обратно в папку и положил ее на самое дно ящика. Закрыл шкафы, разложил по своим местам кипы документов, проверил, все ли ящики задвинул. Удовлетворенно кивнул: никто ничего не заметит, я все провернул очень ловко. Солнце как раз заходило, несколько секунд горы казались отвесными громадами, потом отступили и превратились в пологие и далекие. Пора было разыграть козырную карту.
Я постучал, Каминский не ответил.
Я вошел. Он сидел в кресле, диктофон по-прежнему лежал на полу.
— Это опять вы? — спросил он. — А где Марцеллер?
— Доктор только что звонил. Он не приедет. Мы можем поговорить о Терезе Лессинг?
Он молчал.
— Так мы можем поговорить о Терезе Лессинг?
— Вы точно спятили.
— Послушайте, я хотел бы…
— Куда подевался Марцеллер? Он что, хочет, чтобы я сдох?
— Она жива, и я с ней говорил.
— Позвоните ему. О чем он вообще думает!
— Я говорю, она жива.
— Кто?
— Тереза. Она вдова. Живет на севере, у моря. У меня есть ее адрес.
Он не ответил. Медленно поднял руку, потер лоб, снова ее опустил. Открыл и снова закрыл рот, на лбу у него залегли морщины. Я проверил, работает ли диктофон: мы заговорили, и он включился автоматически, записывая каждое слово.
— Доминик сказал вам, что она умерла. Но это неправда.
— Не может быть, — сказал он тихо. Грудь у него вздымалась и опускалась, я испугался, вдруг у него случится инфаркт.
— Я сам узнал об этом десять дней назад. И даже без особых проблем.
Он не ответил. Я внимательно за ним наблюдал: он отвернулся к стене, не открывая глаз. Губы у него дрожали. Он шумно, с присвистом, дышал, надувая щеки.
— Я скоро с ней встречусь. Могу спросить у нее все, что хотите. Вы только должны рассказать мне, что тогда произошло.
— Да как вы смеете! — прошептал он.
— Вы что, не хотите узнать правду?
Казалось, он размышляет. Все, теперь он у меня в руках. Он этого не ожидал, он тоже недооценивал Себастьяна Цёльнера! От возбуждения я не мог усидеть на месте, подошел к окну и заглянул сквозь пластины жалюзи. С каждым мгновением огни в долине становились все ярче и отчетливее. Круглые кусты выделялись в сумерках, словно выгравированные на меди.
— На следующей неделе я поеду к ней, — сказал я, — тогда я смогу у нее спросить…
— Только не на самолете, — прервал меня он.
— Нет-нет, — успокоил я его. Бред какой, он все-таки не в себе. — Вы дома. Все в порядке.
— Лекарства у постели.
— Очень хорошо.
— Идиот! — спокойно сказал он. — Вы должны положить их в чемодан.
Я уставился на него:
— Положить в чемодан?
— Мы едем к ней.
— Вы шутите!
— Почему?
— Я могу передать ей все ваши вопросы. Но это невозможно. Вы для этого слишком… больны. — Я чуть было не сказал «стары». — Я не могу взять на себя такую ответственность. — Это что, мне снится или мы и вправду говорим о поездке?
— Вы не ошиблись, вы ничего не перепутали? Вас не обманули?
— Себастьяна Цёльнера, — начал я, — никто никогда не…
Он презрительно засопел.
— Нет, — сказал я. — Она жива и… — Я замялся. — Хотела бы с вами поговорить. Вы можете по телефону…
— Нет, только не по телефону. Неужели вы упустите такую возможность?
Я потер лоб. Что случилось, разве я вот только что не владел ситуацией? Каким-то непостижимым образом все выскользнуло у меня из рук. А ведь он прав: мы пробудем в пути дня два, я и не надеялся, что мы столько времени проведем вместе. Я могу спросить его о чем угодно. Мою книгу станут цитировать вечно, ее будут читать студенты, в трудах по искусствоведению будут приводиться из нее отрывки.
— Как странно знать, — произнес он, — что вы вторглись в мою жизнь. Странно и неприятно.
— Вы же знаменитость. Вы ведь всегда именно к этому и стремились. А быть знаменитым означает терпеть при себе кого-то вроде меня. — Не знаю, зачем я это сказал.
— В шкафу лежит чемодан. Положите в него что-то из моих вещей.
Я с трудом переводил дыхание. Это же невозможно! Я надеялся застать его врасплох и сбить с толку, чтобы заставить заговорить о Терезе. Но у меня и в мыслях не было его похищать!
— Вы много лет никуда не ездили!
— Ключи от машины висят у входной двери. Вы же водите машину?
— И даже очень хорошо.
Он что, правда собирается прямо сейчас, вот так просто, вместе со мной?.. Он точно спятил. А с другой стороны, разве это меня касается? Конечно, поездка повредит его здоровью. Зато раньше выйдет книга.
— Ну, в чем дело? — спросил он.
Я присел на край постели. Спокойно, размышлял я, только спокойно! Все нужно обдумать! Я мог просто послать все к черту и уйти; он заснет, а к завтрашнему утру все забудет. И тогда я упущу единственный в своей жизни шанс.
— Ну так пойдем! — Я вскочил, пружины кровати взвизгнули, он вздрогнул.
Несколько секунд он сидел не шевелясь, как будто не мог в это поверить. Потом он медленно протянул руку. Я подставил ему свою и в то же мгновение понял, что ничего уже не изменить. На ощупь она была прохладной и мягкой, но ухватилась за мое предплечье на удивление крепко. Я поддержал его, он соскользнул с кресла. Я замешкался, он потащил меня к двери. В коридоре он остановился, я решительно потянул его дальше. На лестнице я уже не понимал, кто из нас кого ведет.
— Не так быстро, — хрипло выдавил из себя я. — Мне нужно еще забрать ваши вещи.
VII
вот я действительно ехал на «БМВ». Дорога отвесно спускалась под уклон, фары выхватывали из мрака лишь несколько метров асфальта; я с трудом вписывался в повороты. Вот еще один поворот: я рванул руль, бесконечный вираж нас точно заглатывал; я подумал: вот сейчас, сейчас он кончится, — но он все тянулся и тянулся; нас вынесло на самый край обрыва, мотор закашлялся, я сбавил скорость, он взвыл, я вышел из виража.
— Раньше нужно переключать скорости, — сказал Каминский.
Я с трудом удержался, чтобы не огрызнуться, вот начался следующий виток, нельзя было отвлекаться: переключить скорости, сбавить газ, переключить скорости, мотор глухо заворчал, передо мной протянулась прямая дорога.
— Вот видите! — ухмыльнулся он.
Я слышал, как он причмокивает губами, краем глаза я заметил, что его челюсти безостановочно движутся. Он надел черные очки, сложил руки на коленях и запрокинул голову, поверх рубашки и свитера на нем по-прежнему был халат. Я завязал ему шнурки и пристегнул ремнем безопасности, но он тут же снова расстегнул пряжку. Он казался бледным и взволнованным. Я открыл отделение для перчаток и положил туда включенный диктофон.
— Когда вы последний раз встречались с Римингом?
— За день до его отплытия. Мы пошли гулять, он надел одно пальто поверх другого, потому что вечно мерз. Я сказал, что у меня что-то с глазами, на это он ответил: «Тогда тренируйте память!» Он безостановочно потирал руки, у него слезились глаза. Хронический конъюнктивит. Его очень пугало путешествие, он боялся воды. Рихард всего боялся.
И тут начался самый длинный вираж, который мне приходилось видеть: мне почудилось, что мы почти целую минуту вращаемся по кругу.
— А какие отношения связывали его с вашей матерью?
Он молчал. Материализовались деревенские дома: черные тени, освещенные окна, дорожный указатель с названием этого местечка, несколько мгновений над нами проплывали уличные фонари, на главной площади показались блестящие витрины. Еще один указатель, теперь уже с перечеркнутым названием, потом снова темнота.
— Он просто жил у нас. Мама кормила его ужином, он читал газету, а вечером уходил к себе в кабинет и там работал. Они с мамой всегда были на «вы».
Крутые виражи сменились плавными поворотами. Я перестал судорожно сжимать руль и откинулся на спинку сиденья. Постепенно я привык к горной дороге.
— Ему, разумеется, совершенно не хотелось включать мою мазню в книгу. Но он меня побаивался.
— Правда?
Каминский хихикнул.
— Мне тогда исполнилось пятнадцать, и я был законченный безумец. Бедняга Рихард считал, что я на все способен. Благовоспитанностью я уж точно не отличался!
Я раздосадованно молчал. Разумеется, то, что он мне сейчас рассказывает, — настоящая сенсация; но, может быть, он хочет направить меня по ложному следу, это все звучит просто невероятно. А кого мне спросить? Рядом со мной сидит последний человек, который знал Риминга. И все, о чем не упоминалось в мемуарах — два пальто, озябшие руки, страх и слезящиеся глаза, — уйдет вместе с его памятью. И может быть, именно я окажусь последним, кто еще… Да что это со мной?
— С Матиссом было то же самое. Он хотел меня вышвырнуть. Но я не ушел. Мои картины ему не понравились. Но я не ушел! Представляете себе, какое это производит впечатление: вас выгоняют, а вы просто не уходите? Так можно многого добиться.
— Знаю. Когда я писал репортаж о Вернике…
— Что ему оставалось делать? В конце концов он направил меня к коллекционеру.
— К Доминику Сильва.
— Ах, он был такой надменный, погруженный в себя и внушительный, а мне это было безразлично. И тут я, молодой художник, какой-то странный. Полупомешанный от честолюбия и жадности.
Последний поворот вливался в шоссе. Вот уже показалась остроконечная крыша вокзала, долина была такая узкая, что рельсы проходили вплотную к шоссе. Машина на встречной полосе остановилась и посигналила, я, не обращая внимания, проехал мимо и только тут заметил, что все еще еду с включенным дальним светом. Резко затормозила вторая машина, я переключил фары на ближний свет. Не выехал на автостраду, вот еще, платить. Дороги в это время и так пусты… Тени лесов, темная деревня; у меня возникло ощущение, что мы едем по вымершей стране. Я приоткрыл окно, ощущая себя легким и нереальным. Ночью, в машине, наедине с величайшим в мире художником. Кто бы мог подумать еще неделю назад!
— Можно закурить?
Он не ответил, он заснул. Я покашлял как можно громче, но это не помогло, он так и не проснулся. Побарабанил пальцами по рулю. Покашлял. Тихо помурлыкал себе под нос какую-то мелодию. Он не имеет права спать, он должен говорить со мной! Наконец я махнул рукой и выключил диктофон. Какое-то время слушал его храп, потом закурил. Но он и от дыма не проснулся. На кой черт ему, собственно, снотворное?
Я моргнул, мне вдруг показалось, что я заснул, испуганно вздрогнул, но ничего страшного не произошло, Каминский храпел, на шоссе было пусто, и я снова вывел машину на правую полосу. Спустя час он проснулся и заставил меня остановиться, потому что ему срочно потребовалось выйти. Я озабоченно спросил, не помочь ли ему, но он пробормотал; «Этого еще не хватало», — выбрался из машины и в рассеянном свете фар стал возиться со своими штанами. Держась за крышу, он осторожно сел и захлопнул дверь. Я завел мотор, и через несколько секунд он снова захрапел. Один раз он что-то пробормотал во сне, подергивая головой, от него исходил слабый старческий запах.
Утро постепенно вывело из тумана горы и отдалило небо, в разбросанных по равнине домах загорались и вновь гасли огни. Солнце взошло и все выше взбиралось по направлению к зениту, я опустил солнцезащитный козырек. Скоро шоссе заполонили машины, автофургоны, то и дело попадались тракторы, которые я, сигналя, обгонял. Каминский вздохнул.
— А кофе будет? — вдруг спросил он.
— Сделаем.
Он откашлялся, шумно подышал носом, пожевал губами и настороженно прислушался к моим движениям.
— Кто вы?
Сердце у меня на мгновение замерло.
— Цёльнер!
— Куда мы едем?
— К… — Я сглотнул. — К Терезе, к вашей… К Терезе Лессинг. Мы же… Вы вчера… так решили… Я хотел вам помочь.
Казалось, он раздумывает. Лоб его избороздили морщины, голова слегка задрожала.
— Мне повернуть? — спросил я.
Он пожал плечами. Снял очки, сложил их и сунул в нагрудный карман халата. Глаза у него были закрыты. Он ковырял в зубах.
— А мне вообще подадут завтрак?
— Как только доедем до какого-нибудь мотеля…
— Завтрак! — повторил он и сплюнул. Ни с того ни с сего, на пол перед собой. Я испуганно покосился на него. Он поднял огромные руки и потер глаза.
— Цёльнер, — хрипло произнес он, — так, кажется, вас зовут?
— Правильно.
— А сами вы рисуете?
— Уже нет. Попробовал было, но, когда провалился на вступительных экзаменах в школе искусств, бросил. Может быть, и зря. Подумываю снова начать.
— Не стоит.
— Я занимался живописью цветовых полей в стиле Ива Кляйна{18}. Некоторым они нравились. Но, конечно, глупо было бы всерьез полагать…
— Именно это я и хотел сказать. — Он не спеша надел очки. — Завтрак!
Я снова закурил, по-видимому, его это не беспокоило. На какое-то мгновение я об этом пожалел. Выпустил дым в его сторону. Табличка возвещала мотель, я въехал на стоянку, вышел и захлопнул за собой дверь.
Я нарочно не спешил, пусть посидит и подождет. Ресторан оказался пыльный, прокуренный, почти пустой. Я потребовал два стаканчика кофе и пять круассанов.
— Хорошо заверните, кофе покрепче!
— На мой кофе еще никто не жаловался, — сказала официантка и бросила на меня томный взгляд.
— Вы меня, наверное, путаете с кем-то, кого это интересует.
— Вы мне что, нахамить хотите?
— Давайте быстрее, мне некогда.
Изо всех сил стараясь не уронить, я донес до машины дымящиеся стаканчики и бумажный пакет с круассанами. Задняя дверь была открыта, за креслом водителя расположился какой-то тип и в чем-то настойчиво убеждал Каминского. Тощий, в роговых очках, с жирными волосами и торчащими зубами. Рядом с ним лежал рюкзак.
— Помните, сударь! — сказал он. — Главное — осторожность. На самом легком пути неизменно подстерегает зло.
Каминский с улыбкой кивал.
Я сел за руль, захлопнул дверь и недоуменно переводил взгляд с одного на другого.
— Это Карл Людвиг, — объявил Каминский, как будто все вопросы этим исчерпывались.
— Зовите меня просто Карл Людвиг.
— Он немного проедет с нами, — сказал Каминский.
— Вы ведь не против? — спросил Карл Людвиг.
— Мы никого не подбрасываем.
Несколько секунд никто не проронил ни слова. Карл Людвиг вздохнул:
— Сударь, я же говорил.
— Вздор! — сказал Каминский. — Цёльнер, если я не ошибаюсь, это моя машина…
— Да, но…
— Дайте сюда кофе! Едем.
Я протянул ему стаканчик, нарочно держа слишком высоко, так, чтобы он не сразу до него дотянулся; Каминский ощупью нашел его и взял. Я положил ему на колени бумажный пакет, выпил кофе, он, разумеется, оказался некрепким, выбросил стаканчик из окна и завел мотор. Стоянка и мотель стремительно уменьшались в зеркале заднего вида.
— Вы позволите осведомиться, куда вы едете? — спросил Карл Людвиг.
— Конечно, — сказал Каминский.
— Куда вы едете?
— Это наше личное дело, — оборвал его я.
— Вполне понимаю, но…
— Иными словами, вас это не касается.
— Вы совершенно правы. — Карл Людвиг кивнул. — Извините, господин Цёльнер.
— Откуда вы знаете, как меня зовут?
— Боже мой, да ведь я только что упомянул, — сказал Каминский.
— Вот откуда, — вставил Карл Людвиг.
— Расскажите о себе! — потребовал Каминский.
— Нечего рассказывать. Мне было тяжело.
— А кому легко…
— Абсолютно верно, сударь! — Карл Людвиг поправил очки. — Видите ли, я тоже что-то значил. Проницая тайны мира, чувствам смертных сострадал, сладостной игрой на лире жен прекрасных воспевал. А сейчас? Только посмотрите на меня!
Я закурил.
— Как там было насчет «жен прекрасных»?
— Это же Гете, — сказал Каминский. — Вы что, вообще ничего не читали? Дайте и мне.
— Вам нельзя курить.
— Правильно, — откликнулся Каминский и протянул руку.
Я подумал, чем раньше он помрет, тем лучше, и вложил ему в руку сигарету. Встретившись со мной глазами в зеркале заднего вида, Карл Людвиг несколько мгновений не сводил с меня многозначительного взгляда. Я вздохнул и протянул ему над головой пачку, так чтобы он мог вытащить одну сигарету. Он дотянулся — я почувствовал, как его пальцы, мягкие и влажные, обвились вокруг моих, — и плавным движением вытащил у меня из руки всю пачку.
— Эй, вы что это себе позволяете?
— Осмелюсь заметить, в вас обоих есть что-то странное.
— Что вы хотите этим сказать?
Я снова поймал в зеркале его взгляд: он не сводил с меня прищуренных глаз, насмешливых и коварных. Потом осклабился:
— Вы не родственники, не учитель и ученик, не коллеги. А он… — воздев тощий палец, он ткнул в сторону Каминского, — кажется мне знакомым. Вот вас я точно не видел.
— Тому есть причины, — откликнулся Каминский.
— Само собой! — сказал Карл Людвиг. Они рассмеялись. Да что здесь происходит?
— Верните мне сигареты!
— Какой я рассеянный. Извините, пожалуйста. Карл Людвиг не пошевелился. Я потер глаза, на меня вдруг обрушилась какая-то непонятная слабость.
— Сударь, — начал Карл Людвиг, — мы вечно лицемерим и большую часть жизни расточаем попусту. Мы сталкиваемся со злом и не узнаем его. Хотите послушать дальше?
— Нет, — решительно возразил я.
— Да, — сказал Каминский. — Вы знаете, кто такой Иероним Босх?
Карл Людвиг кивнул:
— Он изображал дьявола.
— Это точно неизвестно. — Каминский выпрямился на сиденье. — Вы имеете в виду пожирающего грешников демона, нахлобучившего на голову ночной горшок на правой створке «Сада земных наслаждений»?
— Повыше, — поправил Карл Людвиг. — Там есть человек, вросший в дерево.
— А ведь интересная мысль, — удивился Каминский, — единственный персонаж, который смотрит на зрителя и не испытывает боли. Но тут вы ошиблись.
Я в ярости переводил взгляд с одного на другого. Да что они плетут?
— Это не дьявол! — провозгласил Каминский. — Это автопортрет.
— А разве одно другому противоречит?
На несколько секунд они замолчали. Карл Людвиг улыбался в зеркале заднего вида, Каминский озадаченно жевал нижнюю губу.
— По-моему, вы не туда свернули, — сказал Карл Людвиг.
— Вы же не знаете, куда мы едем! — огрызнулся я.
— Так куда же вы едете?
— Неплохо, — сказал Каминский и передал ему круассаны на заднее сиденье. — Древочеловек. Неплохо!
Карл Людвиг надорвал обертку и с жадностью набросился на еду.
— Вот вы сказали, что вам было тяжело, — произнес Каминский, — а я вспомнил свою первую выставку. То-то был удар!
— Я тоже выставлялся, — сказал Карл Людвиг с набитым ртом.
— В самом деле?
— В частных художественных галереях. Это все давно в прошлом.
— Картины?
— В некотором роде.
— Вы наверняка были недурным художником, — предположил Каминский.
— Я не стал бы это утверждать.
— И как вы это пережили? — спросил я.
— Знаете ли, — ответил Карл Людвиг. — Вообще-то тяжело. Я тогда…
— Я не вас спрашивал! — Впереди полз спортивный автомобиль, я посигналил и обогнал его.
— Сносно, — ответил Каминский. — Так уж получилось, что у меня не было финансовых проблем.
— Благодаря Доминику Сильва, — уточнил я.
— А творческих идей у меня было немало. Я знал, что рано или поздно мое время придет. Честолюбие вроде детской болезни. Переболеешь им, и становишься сильнее, — продолжал Каминский.
— А некоторые от него умирают, — вставил Карл Людвиг.
— А потом, рядом с вами еще была Тереза Лессинг, — сказал я.
Каминский не ответил. Я украдкой наблюдал за ним. Его черты омрачились. В зеркале заднего вида Карл Людвиг тыльной стороной ладони смахнул с губ крошки, они посыпались на кожаную обивку сиденья.
— Хочу домой, — сказал Каминский.
— Простите, что вы сказали?
— Ничего. Отвезите меня домой!
— Может быть, обсудим это наедине?
Он повернул голову, и на какую-то бесконечно долгую секунду у меня появилось ощущение, что он смотрит на меня сквозь тьму очков, ощущение настолько сильное, что у меня перехватило дыхание. Потом он отвернулся, голова у него упала на грудь, все его тело, казалось, съежилось.
— Хорошо, — тихо сказал я, — вернемся.
Карл Людвиг хихикнул. Я дал световой сигнал, съехал с шоссе и развернул машину.
— Дальше, — сказал Каминский.
— Что?
— Мы едем дальше.
— Но вы же только что…
Он зашипел, а я промолчал. Его лицо теперь казалось жестким, словно выточенным из дерева. Он снова передумал или просто захотел показать, что имеет надо мной власть? Да нет, он старый, полупомешанный, не стоит его переоценивать. Я еще раз развернул машину и снова въехал на шоссе.
— Иногда трудно принять решение, — заметил Карл Людвиг.
— Да помолчите же! — прорычал я.
Каминский будто что-то пережевывал, лицо у него снова обмякло как ни в чем не бывало.
— Кстати, — сказал я, — я побывал в Клэране. — Где?
— В соляных копях.
— А вы не жалеете сил! — воскликнул Каминский.
— Вы правда там заблудились?
— Знаю, на взгляд постороннего, это смешно. Я потерял проводника. До того я как-то не принимал всерьез свои проблемы со зрением. Но вдруг я стал тонуть в каком-то тумане. А ведь там, внизу, не бывает тумана. Значит, все дело было во мне.
— Помутнение роговицы? — предположил Карл Людвиг.
— Что? — переспросил я.
Каминский кивнул:
— Угадали.
— И сегодня вы совсем ничего не видите? — спросил я.
— Различаю формы, иногда цвета. Очертания предметов, если повезет.
— Вы сами выбрались?
— Да, слава богу. Прибегнул к старому фокусу: шел, держась правой стены.
— Понятно.
Держась за правую стену? Я попытался это вообразить. Ну и чем это может помочь?
— На следующий день пошел к офтальмологу. От него я и узнал о своей болезни.
— Вы уж, наверно, думали, наступил конец света, — сказал Карл Людвиг.
— Именно, конец света, — торжественно кивнул Каминский.
Солнце почти стояло в зените, горы, уже очень далекие, расплылись в полуденной дымке. Я зевал, мной овладела приятная истома. Я стал пересказывать свой репортаж о Вернике. Как я случайно узнал о несчастье, большой успех нередко начинается со счастливого стечения обстоятельств, как я первым оказался возле его дома и тайком заглянул в окно. Я изобразил, как вдова тщетно пыталась от меня избавиться. Как всегда, эта история увлекала слушателей: Каминский задумчиво улыбался, Карл Людвиг смотрел на меня открыв рот. Я затормозил у ближайшей бензоколонки.
Машин, кроме нашей, не было, низенькое здание бензоколонки распласталось на фоне зелени. Пока я наполнял бензобак, Каминский вышел. Со стоном расправил халат, схватился за спину, подтянул к себе трость и выпрямился:
— Проводите меня в туалет!
Я кивнул.
— Карл Людвиг, выходите!
Карл Людвиг с многосложными манипуляциями надел очки и осклабился:
— Почему?
— Я закрываю.
— Не беспокойтесь, я посижу в машине.
— Именно поэтому.
— Вы хотите его оскорбить? — спросил Каминский.
— Вы меня оскорбляете, — сказал Карл Людвиг.
— Да что он вам сделал? — возмутился Каминский.
— Я ничего вам не сделал, — плаксиво повторил Карл Людвиг.
— А ну, хватит валять дурака! — заорал я.
— Ну пожалуйста. Прошу вас. Я тут посижу тихонько…
Я вздохнул, нагнулся, вынул диктофон из отделения для перчаток, бросил на Карла Людвига угрожающий взгляд, повесил на плечо сумку и взял Каминского под руку. Снова прикосновение его мягкой руки, странно уверенное, мне опять почудилось, что это он на самом деле ведет меня. В ожидании Каминского я рассматривал рекламные плакаты: «Выпей пива», смеющуюся домохозяйку, троих толстых детей, круглый чайник с ухмыляющейся физиономией. На секунду я прислонился к стене, все-таки я очень устал.
Мы прошли к кассе.
— У меня нет с собой денег, — объявил Каминский.
Стиснув зубы, я достал кредитную карточку. На улице кто-то завел мотор, вот он заглох, снова заурчал, вот затих уже вдалеке. Я подписал чек и взял Каминского под руку. Дверь с шипением открылась. Вот это да.
Я остановился как вкопанный, Каминский чуть не упал.
На самом-то деле я даже особого потрясения не испытал. Мне показалось, будто иначе и быть не могло, будто осуществился гнетущий, но необходимый замысел. Я даже не испугался. Потер глаза. Хотел закричать, но у меня просто не было сил. Я медленно опустился на колени, сел на землю и уронил голову на руки.
— Ну, что там еще? — спросил Каминский.
Я закрыл глаза. Мне вдруг все стало безразлично. Да пошли они к черту, он, моя книга и мое будущее! Мне-то что за дело до всего этого, да зачем мне этот старик? Асфальт нагрелся, тьму пронизали тонкие прожилки света, пахло травой и бензином.
— Цёльнер, куда вы запропастились?
Я открыл глаза. Медленно, с трудом встал.
— Цёльнер! — закричал Каминский тонким, пронзительным голосом. Даже не посмотрев в его сторону, я снова вошел. Тетка за кассой хохотала, точно никогда не видела ничего смешнее. «Цёльнер!» Она сняла трубку, я отказался:
— Мы ведь спешим, а полицейские нам только будут надоедать всякими дурацкими вопросами. Я сам обо всем позабочусь.
— Цёльнер!
— Вы только закажите нам такси.
Она вызвала, а потом потребовала заплатить за телефонный разговор.
— Вы что, спятили? — спросил я, вышел и взял Каминского под локоть.
— Ну наконец-то! Да что случилось?
— Не притворяйтесь, будто не поняли.
Я обернулся. Легкий ветерок колыхал колосья на полях, в небе виднелось несколько прозрачных облаков. Собственно говоря, тихое, идиллическое место. Можно было бы остаться здесь навсегда.
Но тут подъехало наше такси. Я помог Каминскому сесть на заднее сиденье и попросил шофера довезти нас до ближайшей железнодорожной станции.
VIII
еня внезапно разбудил телефонный звонок. Я потянулся за трубкой, что-то упало на пол, с трудом нашел ее и поднес к уху. Кто? Вегенфельд, Ансельм Вегенфельд, из регистрации.
— Ну хорошо, — пробормотал я, — дальше что?
Вокруг меня материализовался убогий номер: кровать с высоким изголовьем и стол, на тумбочке лампа с грязноватым абажуром, на стене криво висит зеркало.
— Я звоню по поводу пожилого господина, вашего спутника, — сказал Вегенфельд.
— По поводу кого?
— Вашего спутника, — подчеркнул он, и я насторожился.
Я приподнялся в постели и тотчас же проснулся.
— Да в чем дело?
— Ничего страшного, просто вы должны к нему зайти.
— Зачем?
Вегенфельд многозначительно покашлял. Потом им и в самом деле овладел приступ настоящего, ненаигранного кашля, потом он еще раз многозначительно покашлял.
— В этой гостинице существуют определенные правила. Поймите, есть вещи, которые мы никак не можем допустить. Вы меня понимаете?
— Черт побери, да в чем дело?
— Скажем так, у него посетительница. Отошлите ее или мы будем вынуждены сделать это сами!
— Не станете же вы утверждать…
— Вот именно, — подтвердил Вегенфельд. — Совершенно точно. — Он положил трубку.
Я встал, прошел в крошечную ванную и умылся холодной водой. Было пять часов вечера, я спал таким глубоким сном, что утратил всякое представление о времени. Прошло несколько секунд, прежде чем я вспомнил, что случилось накануне.
Угрюмый шофер увез нас с бензоколонки.
— Нет! — внезапно заявил Каминский. — На вокзал я не поеду. Я хочу отдохнуть.
— Сейчас отдохнуть вы не сможете.
— Еще как смогу. В гостиницу!
Шофер равнодушно кивнул.
— Так мы только задержимся, — запротестовал я, — нам надо ехать.
Шофер пожал плечами.
— Уже почти час, — сказал Каминский.
Я взглянул на часы, было без пяти час.
— До часа еще уйма времени, — уверял я.
— В час я всегда ложусь отдохнуть. У меня уже сорок лет такой режим, и я его не изменю. Кстати, я могу попросить этого господина отвезти меня домой.
Шофер бросил на него алчный взгляд.
— Ну хорошо, — сдался я, — в гостиницу. — Я почувствовал себя бессильным и опустошенным. Тронул водителя за плечо. — В лучшую, какая здесь только есть. — При слове «лучшую» я покачал головой и предостерегающе выставил руки. Он понял и ухмыльнулся.
— В другой я и не остановлюсь, — сказал Каминский.
Я сунул водителю купюру. Тот подмигнул:
— Я отвезу вас в самый лучший отель!
— Надеюсь, — откликнулся Каминский, плотнее запахнул халат, схватил трость и стал тихо причмокивать.
Кажется, его совершенно не беспокоило, что пропала машина, весь багаж, да и мой чемодан вместе с новой бритвой в придачу, у меня остался только портфель. Он наверняка даже не осознавал, что произошло. Возможно, с ним не стоило даже говорить об этом.
Маленький городок: низенькие дома, витрины, пешеходная зона с неизбежным фонтаном, еще витрины, большой отель, другой отель, еще больше, возле них мы не остановились. Затормозили у маленького, жалкого пансиона. Я вопросительно посмотрел на шофера и многозначительно потер пальцами. А это точно самый дешевый? Он подумал и поехал дальше.
Мы остановились у еще более безобразной гостиницы с обшарпанным фасадом и запотевшими оконными стеклами. Я кивнул:
— Замечательно! Видите ливрейного лакея?
— Двоих! — подыграл мне шофер, которому все это явно доставляло удовольствие. — Министры всегда здесь останавливаются.
Я заплатил, дал ему еще чаевых, он их заслужил, и провел Каминского в маленький грязноватый гостиничный холл. Гостиница сомнительной репутации для коммивояжеров, гнетущая, тягостная атмосфера. «Что за ковер!» — восхитился я и потребовал два номера. Странно, человек с сальными волосами протянул мне блокнот, в котором полагалось расписываться вновь прибывшим. На первой странице я написал свое имя, на второй нацарапал какие-то каракули. «Спасибо, носильщик не нужен!» — громко сказал я и провел Каминского к лифту; поскрипывая, кабина рывками стала подниматься и привезла нас в скудно освещенный коридор. Номер у него был крошечный, шкаф открыт, там явно давно не проветривали.
— Вон там висит подлинный Шагал!
— Марк написал больше оригиналов, чем с них успели снять копий. Поставьте лекарства у кровати. Какой странный запах, вы уверены, что это хороший отель?
На тумбочке они почти не помещались; к счастью, вчера я переложил их в портфель: бета-блокаторы, кардиоаспирин, лекарства от тромбозов, снотворное.
— Где мой чемодан? — спросил он.
— Ваш чемодан в машине.
Он нахмурился.
— Древочеловек, — пробормотал он. — Любопытно! Вы изучали творчество Босха?
— Немного.
— А теперь уходите! — Он весело захлопал в ладоши. — Уходите!
— Если вам что-нибудь понадобится…
— Ничего мне не понадобится, уходите скорей.
Я со вздохом вышел. В своем номере — у меня он был еще меньше, чем у него, — я разделся, голый рухнул на постель, спрятал голову под подушку и задремал. Когда позвонил Вегенфельд, я без сновидений проспал три часа.
Мне потребовалось какое-то время, чтобы найти номер Каминского. На двери висела табличка «Прошу не беспокоить», но она была не заперта. Я тихо вошел.
— …им овладело какое-то наваждение, — как раз говорил Каминский, — он стал писать бесконечные автопортреты, одержимый то ли ненавистью к себе, то ли нарциссизмом{19}. По-моему, он был единственным безумцем, который имел право на манию величия.
Девица сидела на постели — очень прямо, нога на ногу, спиной к стене. Ярко накрашенная, рыжеволосая, в прозрачной блузке, мини-юбке, в ажурных чулках. На полу аккуратно стояли ее сапоги. Каминский, одетый, в халате, лежал на спине, скрестив руки на груди, положив голову ей на колени.
— И я у него спросил: «Слушай, а без Минотавра нельзя обойтись?» Мы сидели у него в тщательно убранной мастерской — хаос в ней царил только на фотографиях, такой рекламный трюк, — и он смотрел на меня божественными черными глазами. — Девица зевнула и медленным движением погладила его по голове. — Я сказал: «Ну хорошо, Минотавр, — а ты не преувеличиваешь свои способности»? И этого он мне так и не простил. Вот если бы я посмеялся над его картинами, он бы и бровью не повел. Входите, Цёльнер!
Я закрыл за собой дверь.
— Вы заметили, как от нее пахнет? Недорогие духи, немножко резковатые. Но не все ли равно! Как вас зовут?
Она быстро взглянула на меня.
— Яна!
— Себастьян, радуйтесь тому, что молоды!
Он еще ни разу не называл меня по имени. Я понюхал воздух, но никаких духов не почувствовал.
— Так нельзя, правда, — сказал я, — кто-то видел, как она сюда входила. Мне звонил директор.
— Скажите ему, кто я!
Я озадаченно замолчал. На столе лежал маленький блокнот, всего несколько листков, забытый прежним постояльцем. На первой странице виднелся какой-то рисунок. Каминский тяжело приподнялся.
— Пошутили, и будет. Тогда, наверное, вам лучше уйти, Яна. Я вам очень благодарен.
— Ну хорошо, — ответила она и стала надевать сапоги.
Не отрываясь я смотрел, как кожа голенищ облегает ее ноги, ключицы у нее на мгновение обнажились, рыжие волосы мягко рассыпались по шее. Я быстрым движением схватил блокнот, вырвал верхний лист и спрятал его в карман. Распахнул дверь. Яна, не говоря ни слова, вышла следом за мной.
— Не беспокойтесь, — сказала она, — он уже заплатил.
— Правда? — удивился я. А до сих пор притворялся, что денег у него нет! Но такую возможность упустить нельзя. — Пойдемте со мной! — Я провел ее к себе в номер, закрыл за ней дверь и дал ей купюру. — Я хочу вас кое о чем спросить.
Прислонившись к стене, она не таясь рассматривала меня. Ей было лет девятнадцать-двадцать, не больше. Она сложила руки на груди, подняла ногу и оперлась подошвой о стену; теперь на обоях останется безобразный след. Бросила взгляд на мою переворошенную постель. Я с досадой почувствовал, что краснею.
— Яна! — Я откашлялся. — Вы позволите называть вас Яной? — Не спугнуть бы только…
Она пожала плечами.
— Яна, чего он от вас хотел?
— О чем вы?
— Что ему нравится?
Она нахмурилась.
— Что он заставлял вас делать?
Она даже немного отстранилась.
— Вы же видели.
— А до того? Этим ведь дело не ограничилось.
— Да вы что! — Она ошарашенно смотрела на меня. — Вы же сами знаете, сколько ему лет. Да что вам от меня нужно-то?
Про запах духов он, очевидно, выдумал. Я пододвинул единственный стул, сел, ощутил какую-то непонятную робость, снова встал.
— Он только говорил? А вы гладили его по голове? Она кивнула.
— По-вашему, это не странно?
— Вообще-то нет.
— А откуда у него ваш номер телефона?
— Может быть, ему в агентстве дали. А он хитрый. — Она отбросила волосы со лба. — А он вообще кто такой? В молодости он, наверное, был изрядный… — Она улыбнулась. — Ну, вы понимаете… Он ведь вам не родственник, правда?
— Почему? — Я вдруг вспомнил, что и Карл Людвиг говорил об этом. — То есть почему не родственник, почему вы так решили?
— Ну, это сразу заметно! Я могу идти, — она посмотрела мне в глаза, — или вам еще что-нибудь нужно?
Меня бросило в жар.
— Почему вы решили, что мы не родственники?
Несколько секунд она смотрела на меня и вдруг метнулась ко мне, я невольно отпрянул. Протянув ко мне руки, она погладила меня по голове, а потом, сплетя пальцы у меня на затылке, привлекла к себе, я попытался высвободиться, близко-близко увидел ее глаза и поспешно отвел взгляд, ее волосы задели мое лицо, я попробовал ее стряхнуть, она со смехом отскочила, а меня внезапно охватила странная слабость, я чувствовал, что не могу пошевелить ни рукой, ни ногой.
— Вы мне заплатили, — сказала она. — Ну так что?
Я не ответил.
— Ага! — торжествующе произнесла она, высоко подняв брови. — Да ладно, чего там, забудь… — Она засмеялась и ушла.
Я потер лоб, через несколько минут стал дышать ровнее. Ну хорошо, опять выбросил деньги на ветер, но дальше так не пойдет! Нужно как можно скорее поговорить с Мегельбахом об издержках.
Я достал лист, который вырвал из блокнота. На нем была сеть прямых — нет, едва заметно изогнутых линий, протянувшихся из нижних углов листа и создававших за счет точно рассчитанного множества просветов очертания человеческой фигуры. Или нет? Неужели я ее потерял? Нет, опять нашел! Нет, снова потерял. Линии были проведены уверенной рукой, технически безупречные, плавные. Неужели слепой мог так рисовать? Или это кто-то, кто до него занимал этот номер, и все не более чем совпадение? Нужно будет показать рисунок Коменеву, мне одному не разобраться. Я сложил листок, убрал его в карман и удивился, а почему, собственно, я ее отпустил. Позвонил Мегельбаху.
— Я очень рад, само собой, — сказал он, — но как там у тебя продвигается дело?
— Замечательно, — ответил я, — лучше, чем я ожидал, старик мне уже такого нарассказал, я и не надеялся ничего подобного услышать, это будет сенсация, обещаю, но подробностей пока не выдам. Но знаешь, тут возникли непредвиденные расходы, и…
В этот момент мой голос поглотило шипение.
— Расходы, — повторил я, — расходы…
— Очень плохо слышно, — прокричал Мегельбах, — перезвони попозже!
— Я не могу ждать, — взмолился я, — мне срочно нужно…
— Ты не вовремя, идет совещание, не понимаю, почему секретарша нас вообще соединила…
— Речь идет о такой мелочи, — вставил я, — всего о…
— Удачи, — воскликнул Мегельбах, — желаю удачи, уверен, это будет грандиозный проект.
Тут он положил трубку. Я позвонил еще раз, теперь уже ответила секретарша:
— Очень сожалею, господина Мегельбаха нет в офисе.
— Да быть не может, я же только что с ним…
— Не хотите ли что-то передать? — язвительно спросила она.
— Перезвоню попозже.
Я отправился к Каминскому. В дверь к нему как раз стучался вспотевший официант с подносом в руках.
— Это еще что такое? — возмутился я. — Никто ничего не заказывал.
Официант облизнул губы и злобно взглянул на меня. На лбу у него виднелись капли пота.
— Заказывали, в номер триста четыре. Только что звонили. Первое, второе и третье, всего по две порции. Вообще-то в номер у нас ничего не доставляют, но он сказал, что доплатит.
— Ну наконец-то! — воскликнул Каминский из-за двери. — Несите сюда, вы должны нарезать мне мясо! Вам придется подождать, Цёльнер!
Я повернулся и побрел к себе в номер.
Когда я вошел, звонил телефон. Наверняка Мегельбах, решил я, хочет попросить извинения. Я снял трубку, но услышал только долгие гудки, — я ошибся, звонили по мобильному телефону.
— Где вы? — крикнула Мириам. — Он у вас?
Я отключил телефон.
Раздался еще один звонок. Я взял трубку, отложил ее, подумал. Глубоко вдохнул и поднес ее к уху.
— Алло! — начал я. — Как дела? Откуда у вас мой номер? Обещаю вам…
Больше я не сумел вставить ни слова. Медленно ходил туда-сюда, подошел к окну, постоял, прижавшись лбом к стеклу. Опустил телефон и выдохнул: стекло слегка затуманилось. Снова поднял аппарат к уху.
— Вы что, хотите выставить себя на посмешище? — сказал я. — Никто его не похищал! Да он прекрасно себя чувствует, мы просто путешествуем вместе. Присоединяйтесь, если хотите.
Я невольно отдернул телефон от уха — оно у меня даже заболело. Рукавом протер запотевшее стекло. Даже держа телефон в полуметре от головы, я различал каждое слово.
— Вы разрешите мне хоть что-нибудь вставить?
Присел на кровать. Свободной рукой включил телевизор: в декорациях, долженствующих изображать пустыню, скакал всадник, переключил на другой канал, домохозяйка любовалась полотенцем, на другой канал, редактор новостей культуры Верена Мангольд с серьезным выражением лица что-то говорила в микрофон, выключил.
— Так вы разрешите мне сказать?
На сей раз удалось. Она замолчала так внезапно, что я этого даже не ожидал. Несколько секунд мы оба ошеломленно вслушивались в тишину.
— Во-первых, на слово «похищение» я никак реагировать не буду, до такого уровня выяснения отношений я не опускаюсь. Ваш отец просил меня его сопровождать. Для этого мне пришлось изменить свои планы, но из уважения и… дружеского расположения я согласился. Наш разговор я записал на кассету. Так что забудьте о полиции, над вами просто смеяться будут. Мы остановились в первоклассном отеле, ваш отец удалился в свой номер и просил его не беспокоить, завтра вечером я привезу его обратно. Во-вторых, нигде я не рылся! Я даже не видел ни подвала, ни письменного стола. Это чудовищная инсинуация! — Уж теперь-то она, наверное, заметила, что меня голыми руками не возьмешь… — И в-четвертых… — я запнулся… — в-третьих, о цели нашего путешествия я вам ничего не скажу. Пусть он сам потом объяснит. Я слишком… многим ему обязан. — Я встал, мне понравилось, как звучит мой голос. — Да он просто расцвел. Свобода идет ему на пользу! Если бы я рассказал вам, что он только что… Давно пора было кому-нибудь вытащить его из этой тюрьмы!
Что? Я изумленно прислушался. Мне не показалось? Я нагнулся и зажал другое ухо. Нет, не показалось.
— По-вашему, это смешно?
В ярости я стукнулся коленом о тумбочку.
— Да, именно так я и сказал. Из этой тюрьмы. — Я подошел к окну. Солнце низко нависло над крышами, башнями, антеннами. — Из тюрьмы! Если вы сейчас же не перестанете смеяться, я отключу телефон. Слышите? Если вы сейчас же…
Я нажал на кнопку.
Отшвырнул телефон и метался по номеру, от злости у меня перехватило дыхание. Потер колено. Не стоило вот так просто прерывать разговор. Стукнул кулаком по столу, нагнулся и почувствовал, что приступ ярости медленно проходит. Подождал. Но, как ни странно, она не перезвонила.
Вообще-то все прошло не так уж плохо. Я для нее шут гороховый, значит, она ничего не предпримет. Что бы ее так ни рассмешило, я, очевидно, все рассчитал правильно. Опять все рассчитал правильно. Да у меня просто талант.
Посмотрел на себя в зеркало. А может быть, он и прав. Конечно, лысины нет, но линия волос надо лбом чуть заметно отодвинулась, и от этого мое лицо стало казаться круглее, старше и немного бледнее. Не так уж я и молод. Встал. Да и пиджак сидит на мне неловко. Поднял руку и опустил, мое отражение, помедлив, сделало то же самое. Или пиджак ни при чем? Сутулюсь, а ведь раньше я никогда этого не замечал. «Да ладно, чего там, забудь!» Что забыть, черт возьми? «Может быть, у тебя еще есть шанс». Над чем смеялась Мириам?
Нет, я слишком долго сидел за рулем, я просто переутомился. Что они все имели в виду? Я покачал головой, бросил взгляд на свое отражение и тут же снова отвернулся. Что же они, черт возьми, имели в виду?
IX
— Перспектива — это прием абстрагирования, условность, придуманная кватроченто{20}, мы к ней просто привыкли. Свет должен пройти сквозь множество линз, только тогда картина покажется нам реалистической. Действительность никогда не бывает похожа на фотографию.
— Вот как? — промямлил я, проглотив зевок.
Мы сидели в вагоне-ресторане скорого поезда. Каминский был в очках, к подлокотнику кресла прислонилась его трость, халат ехал в багажном отделении, убранный в пластиковый пакет. На столе диктофон записывал каждое слово. Он съел суп, два вторых и десерт и сейчас пил кофе; я нарезал ему мясо на кусочки и тщетно пытался напомнить о диете. Он казался возбужденным и веселым и не умолкая говорил вот уже два часа.
— Реальность меняется у нас на глазах каждую секунду. Перспектива — это свод правил, потребных для того, чтобы зафиксировать этот хаос на плоскости. Но не более того.
— В самом деле?
Мне хотелось есть; в отличие от Каминского, я съел только невкусный салат. Сухие листья в жирном соусе, а когда я пожаловался, официант только вздохнул. Со щелчком отключился диктофон, снова кончилась кассета, я вставил следующую. Он и вправду ухитрился все это время нести какой-то бред и как назло не сказать ничего, что годилось бы для моей будущей книги.
— Истина, если ее вообще можно обрести, заключается в атмосфере. То есть в цвете, а не в графике и уж тем более не в правильных линиях схода. Этого ваши профессора вам, очевидно, не говорили?
— Нет-нет.
Я и понятия не имел, о чем он. О школе искусств у меня остались смутные воспоминания: бесплодные дискуссии на семинарах, бледные однокурсники, боявшиеся получить «неуд» за реферат, затхлый запах вчерашней еды в студенческой столовой, и кто-нибудь то и дело просил тебя подписать какое-нибудь воззвание. Как-то раз мне нужно было написать работу о Дега{21}. Дега? Я ничего не придумал и все списал из энциклопедии. Я проучился два семестра, и тут дядя помог мне устроиться в рекламное агентство; вскоре освободилась ставка художественного критика в местной газете, и меня приняли в штат. С самого начала я вел себя правильно: некоторые новички пытались сделать себе имя разгромными рецензиями, но так известности не добьешься. Нужно было, наоборот, всегда и во всем соглашаться с коллегами, а между тем ходить на вернисажи, чтобы потихоньку завязывать нужные контакты. Очень скоро я бросил работу в газете и стал писать статьи для нескольких журналов.
— Никто не рисовал лучше Микеланджело, у него была непревзойденная графика. Но цвет для него ничего не значил. Да вот хотя бы Сикстинская капелла: он совершенно не понимал, что и в самих красках… тоже кроется какая-то часть тайны. Вы записываете?
— Каждое слово.
— Вы знаете, я испробовал приемы старых мастеров. Какое-то время я даже сам изготовлял краски. Научился различать пигменты по запаху. Если вы достаточно в этом поднаторели, то сможете даже безошибочно их смешивать. Так я мог видеть лучше, чем мой остроглазый ассистент.
За соседний столик сели двое.
— Главное — шесть «С»! — заявил один. — Себестоимость, Содействие Сбыту, Соответствующие Статьи бюджета, Серийное производство.
— Посмотрите в окно! — потребовал Каминский. Он откинулся на спинку стула и потер лоб; мне снова бросилось в глаза, какие у него огромные ладони. Кожа потрескалась, на суставах пальцев зажившие мозоли: руки ремесленника. — Я полагаю, там, за окном, холмы, луга, иногда попадаются деревни. Правильно?
Я улыбнулся:
— Ну да, примерно так.
— Солнце?
— Да.
Дождь лил как из ведра. И уже полчаса я не видел ничего, кроме людных улиц, складов, фабричных труб. Никаких холмов или лугов, не говоря уже о деревнях.
— Однажды я задал себе вопрос, можно ли написать поездку на поезде вроде этой. К тому же всю целиком, а не ее моментальный снимок.
— Наши целевые группы, — выкрикнул человек за соседним столиком, — подтверждают, что текстура существенно улучшилась. Да и вкус мы усовершенствовали!
Я озабоченно подвинул диктофон поближе к Каминскому. Если тот парень не будет вести себя потише, он точно заглушит Каминского на пленке.
— Я часто размышлял об этом, — продолжал Каминский, — когда перестал писать. Как картина изменяется во времени? Тогда я подумывал о поездке из Парижа в Лион. Нужно изобразить ее такой, какой она осталась в воспоминаниях, и притом сжатой до типического состояния.
— Мы еще не говорили о вашем браке, Мануэль.
Он нахмурился.
— Мы еще… — попробовал было я снова.
— Пожалуйста, не обращайтесь ко мне по имени. Я старше вас и привык к другому стилю общения.
— Мы заработали бы миллионы, — выкрикнул человек за соседним столиком, — если бы знали, как отреагируют европейские рынки: как азиатские или иначе?
Я обернулся. На вид ему было немного за тридцать, пиджак сидел на нем нескладно. Он был бледен и косо зачесал жидкие волосы, чтобы скрыть лысину. Именно таких типов я просто не выносил.
— Миллионы! — повторил он и тут встретился со мной глазами. — Ну что вам?
— Говорите потише! — потребовал я.
— Я и так говорю тихо! — огрызнулся он.
— Значит, еще тише! — сказал я и отвернулся.
— Это хорошо получилось бы на большом холсте, — продолжал Каминский. — И пусть отчетливо на нем ничего не различить, каждый, кто хоть раз проехал на поезде из Парижа в Лион, узнал бы эту поездку на картине. Тогда я думал, что это у меня получится.
— А потом еще вопрос размещения производства! — выкрикнул человек за соседним столиком. — Я спрашиваю, в чем наши первоочередные задачи? Они не знают!
Я обернулся и пристально посмотрел на него.
— Вы на меня смотрите?
— Нет! — отрезал я.
— Наглец! — бросил он.
— Шут гороховый! — отпарировал я.
— А вот этого я не потерплю, — сказал он и встал.
— Может быть, придется потерпеть. — Я тоже встал. Я заметил, что он намного выше меня. Все разговоры в вагоне умолкли.
— Сядьте, — произнес Каминский странным голосом. Этот тип, вдруг оробев, сделал шаг вперед, потом назад. Посмотрел сначала на своего приятеля, потом на Каминского. Потер лоб. Потом сел.
— Очень хорошо, — начал я, — это был…
— И вы тоже сядьте!
Я тотчас сел. Уставился на него, сердце у меня стучало как бешеное.
Он откинулся на спинку стула, поглаживая пустую кофейную чашку.
— Скоро час, мне нужно прилечь.
— Я знаю. — На секунду я закрыл глаза. Что меня так испугало? — Мы скоро будем в квартире.
— Я хочу в гостиницу.
«Тогда сами за нее и платите», — чуть было не взорвался я, но сдержался. Сегодня утром мне снова пришлось оплатить его номер, включая счет за доставку обеда. Подавая господину Вегенфельду кредитную карточку, я вдруг опять вспомнил о банковских счетах Каминского. Этот крошечный, высохший скупой старик, который путешествовал, спал и ел за мой счет, все-таки имел денег больше, чем я когда-нибудь смогу заработать.
— Мы остановимся у частного лица, у одной… У меня. Большая квартира, очень уютная. Вам понравится.
— Я хочу в гостиницу.
— Вам понравится!
Эльке приедет только завтра вечером, к тому времени нас там уже не будет, вероятно, она даже ничего не заметит. Я удовлетворенно констатировал, что идиот за соседним столиком теперь говорит тихо. Значит, я все-таки нагнал на него страху.
— Дайте сигарету!
— Вам нельзя курить.
— Меня устраивает все, что ускоряет дело. Вас ведь тоже, не правда ли? В живописи, хотел сказать я, столь же важно решать проблемы, как и в науке.
Я дал ему сигарету, он закурил, держа ее дрожащими пальцами. Что он сказал — «вас тоже»? Он что, догадался?
— Например, я хотел написать цикл автопортретов, но не смотря на себя в зеркало, не ставя перед собой фотографию, а по памяти, — написать свое лицо, каким я видел его в своем воображении. Мы ведь не представляем себе, как выглядим на самом деле, у нас же складывается совершенно ложный образ самих себя. Обычно мы пытаемся компенсировать это незнание всевозможными вспомогательными приемами. А если сделать наоборот, если писать именно этот ложный образ, и к тому же как можно точнее, со всеми деталями, со всеми характерными чертами!.. — Он стукнул кулаком по столу. — Портрет и вместе с тем не портрет! Можете такое вообразить? Но ничего не получилось.
— Но вы же попытались.
— Откуда вы знаете?
— Я… только предположил.
— Да, попытался. А потом глаза у меня… Или, может быть, не глаза, просто работа как-то не задалась. Нужно уметь признаваться себе в том, что потерпел поражение. Мириам их сожгла.
— Простите, что вы сказали?
— Я ее об этом просил. — Он откинул голову и выпустил к потолку струйку дыма. — С тех пор я больше не бывал в мастерской.
— Могу себе представить.
— Не стоит из-за этого расстраиваться. Ведь самое главное — правильно оценить масштабы собственного дарования. Когда я был молод и еще не написал ничего путного… Мне кажется, вы не можете себе этого представить… Я заперся у себя в комнате на целую неделю…
— На пять дней.
— Хорошо, пусть на пять дней, чтобы поразмышлять. Я знал, что еще ничего не совершил в искусстве. Здесь тебе никто не поможет. — Он ощупью нашел пепельницу. — Мне нужна была не просто хорошая идея. Их всюду можно найти. Я должен был выяснить, каким художником я могу стать. И как-то вырваться из плена посредственности.
— Посредственности, — повторил я.
— Знаете притчу об ученике Бодхидхармы?
— О ком?
— Бодхидхарма был индийский мудрец, проповедовавший в Китае. Некий юноша возжаждал стать его учеником, но ему было в этом отказано. Поэтому он всюду следовал за философом. На протяжении долгих лет, безмолвно и покорно. Тщетно. Однажды, не в силах более выносить отчаяние, он преградил Бодхидхарме путь и воскликнул: «Учитель, у меня ничего не осталось, меня тяготит пустота!» Бодхидхарма ответил: «Отринь ее!» — Каминский потушил сигарету. — И дух его прояснился.
— Не понимаю. Если его тяготила только пустота, зачем тогда…
— В те дни у меня появились первые седые волосы. Но я вышел из своего заточения с первыми эскизами «Отражений». Прошло еще немало времени, прежде чем я написал первую хорошую картину, но это было уже не важно. — Он на мгновение замолчал. — Я же не один из великих. Не Веласкес, не Гойя, не Рембрандт. Но иногда мне кое-что удавалось. Это тоже немало. И это все благодаря тем пяти дням.
— Я это процитирую.
— Да не процитировать вы это должны, Цёльнер, а запомнить! — Мне снова показалось, что он на меня смотрит. — Все самое важное осознаешь внезапно.
Я подозвал официанта и потребовал счет. Внезапно или нет, на этот раз я за него платить не буду.
— Извините, — сказал он, взял трость и встал. — Нет, спасибо, я сам. — Мелкими шажками он прошел мимо меня, толкнул столик, попросил извинения, задел официанта, снова попросил извинения и исчез за дверью туалета. Официант положил передо мной счет.
— Одну минуту, пожалуйста!
Мы ждали. Вздымались дома, в оконных стеклах отражалось серое небо, улицы перегораживали автомобильные пробки, дождь лил все сильнее.
— Не могу же я, — сказал официант, — ждать целую вечность.
— Минуту!
С аэродрома где-то поблизости взлетел самолет, и его тотчас же поглотили облака. Те двое за соседним столиком злобно взглянули на меня, встали и ушли. За окном протянулся проспект, сияла световая реклама супермаркета, вяло поплевывал фонтанчик.
— Ну так как?
Я молча протянул ему кредитную карточку. Поблескивая, приземлился самолет, рельсовых путей прибавилось, вернулся официант и объявил:
— Ваша карта заблокирована.
— Быть того не может, — возмутился я, — попробуйте еще раз.
— Я же не идиот, — возразил он.
— Как сказать, — засомневался я.
Он пристально смотрел на меня сверху вниз, молча потирая подбородок. Но поезд уже тормозил, некогда было препираться. Я швырнул ему купюру и дожидался, пока он не выплатит мне всю сдачу, до мельчайшей монетки. Когда я встал, Каминский вышел из туалета.
Я сложил вещи в свою сумку, туда же сунул пакет Каминского с халатом, взял его под локоть и повел к выходу. Рывком распахнул дверь вагона, подавил желание его вытолкнуть, спрыгнул на платформу и осторожно помог ему выйти.
— Я хочу прилечь отдохнуть.
— Подождите чуть-чуть. Поедем на метро и…
— Нет.
— Почему?
— Я никогда на нем не ездил и на старости лет уж точно пробовать не собираюсь.
— Нам недалеко. На такси дорого.
— Не так уж и дорого.
Он потащил меня за собой по переполненной платформе, на удивление ловко увертываясь от попадавшихся на пути прохожих, как ни в чем не бывало вышел на проезжую часть и поднял руку. Остановилось такси, шофер вышел и помог ему сесть на заднее сиденье. Я сел впереди — в горле у меня пересохло от злости — и назвал адрес.
— Откуда здесь дождь? — задумчиво спросил Каминский. — Здесь всегда идет дождь. По-моему, это самая безобразная страна в мире.
Я озабоченно взглянул на шофера. Он был усатый, толстый, угрожающе сильный на вид.
— Кроме Бельгии, — сказал Каминский.
— А вы бывали в Бельгии?
— Боже сохрани. Вы заплатите? У меня нет с собой мелких денег.
— Я думал, у вас вообще нет денег.
— Вот именно, нет денег.
— Я ведь и так за все платил!
— Очень щедро с вашей стороны. Я должен прилечь.
Мы затормозили, шофер посмотрел на меня, мне стало неловко, и я заплатил. Я вышел, дождь хлестнул меня по лицу. Каминский поскользнулся, я его подхватил, трость грохнулась на землю; когда я ее поднял, с нее стекала вода. Наши шаги гулко раздавались в мраморном холле, лифт беззвучно вознес нас на нужный этаж. На мгновение меня охватил страх, что Эльке поменяла замок. Но мой ключ по-прежнему подходил.
Я открыл входную дверь и прислушался; тишина. На полу под щелью для писем лежала почта за два дня. Я громко покашлял, прислушался. Тишина. Мы были одни.
— Не знаю, правильно ли я понял, — заметил Каминский, — но у меня сложилось впечатление, что мы попали не в мое прошлое, а в ваше.
Я провел его в комнату для гостей. На постели поменяли белье.
— Здесь нужно проветрить, — заявил он.
Я открыл окно.
— Лекарства.
Я расставил их на тумбочке.
— Пижаму.
— Пижама в чемодане, а чемодан в машине.
— А машина?
Я не ответил.
— Ах вот как, — сказал он, — вот в чем дело. А теперь уходите.
В гостиной стояли два моих туго набитых чемодана. Значит, она и вправду меня вышвырнула! Я прошел в прихожую и поднял с пола письма; счета, рекламу, два письма, адресованные Эльке, одно от ее занудной подруги, другое от какого-то Вальтера Мунцингера. От Вальтера? Я вскрыл его и прочитал, но Вальтер оказался всего лишь клиентом ее агентства, тон — холодным и официальным, наверное, это другой Вальтер.
Еще там были письма, адресованные мне. Опять счета, реклама «Выпей пива», три квитанции, подтверждающие получение гонорара за перепечатанные статьи, два приглашения: на презентацию какой-то книги на следующей неделе и на вернисаж сегодня вечером — открывается выставка новых коллажей Алонзо Квиллинга. Там будут нужные люди. При обычных обстоятельствах я бы непременно пошел. Черт, вот жалость, никто не знает, что у меня Каминский.
Я заметался по комнате, не сводя глаз с приглашения. Дождь барабанил по оконному стеклу. А почему бы и нет? Это может быть мне очень и очень на руку.
Открыл чемодан побольше и стал выбирать рубашку. Мне потребуется мой лучший пиджак. И другие ботинки. И, разумеется, ключи от машины Эльке.
X
— Себастьян, привет! Входи.
Хохгарт потрепал меня по плечу, я в ответ шлепнул его по плечу, он посмотрел на меня так, будто мы лучшие друзья, я улыбнулся, будто поверил. Он был хозяином галереи, где проходил сегодняшний вернисаж, иногда пописывал критические статьи, случалось, не брезговал рецензиями на выставки, которые устраивал у себя, это никого особенно не трогало. Он щеголял в кожаной куртке, волосы у него были длинные, жидкие.
— Квиллинга пропустить нельзя, — начал я. — Позвольте представить вам… — я на мгновение замялся, — Мануэля Каминского.
— Очень рад, — сказал Хохгарт и протянул руку; Каминский, маленький, опирающийся на трость, в шерстяном свитере и уже изрядно помятых вельветовых штанах, стоял рядом со мной и никак не реагировал. Хохгарт опешил, потом хлопнул его по плечу, Каминский вздрогнул, Хохгарт ухмыльнулся мне и пропал в толпе.
— Что это было? — Каминский потер плечо.
— Не обращайте на него внимания. — Я смущенно проводил Хохгарта взглядом. — Совершенно ненужный человек. Но несколько интересных картин я вам обещаю.
— Вы думаете, меня интересуют интересные картины? Вы что, в самом деле притащили меня на выставку? Я всего час назад принял снотворное, уж и не знаю, жив ли я еще, а вы меня сюда привозите!
— Сегодня открытие, — сказал я нервно и закурил.
— Моя последняя выставка открылась тридцать пять лет назад в Музее Гуггенхейма. Вы что, спятили?
— Всего на несколько минут. — Я потащил его дальше, люди расступались при виде его трости и очков.
— А Квиллинг-то своего уж точно добился! — выкрикнул Ойген Манц, главный редактор журнала «ArT». — Вот слепцы к нему пожаловали! — Он секунду подумал, а потом изрек: — Благотворите не видящим вас. — Он так расхохотался, что вынужден был поставить бокал на пол.
— Привет, Ойген, — начал я осторожно. С Манцем важно было поддерживать хорошие отношения, я очень надеялся получить постоянное место в его журнале.
— Благотворите не видящим вас, — еще раз повторил он.
Стройная женщина с выступающими скулами погладила его по голове. Он отер слезы и окинул меня затуманенным взглядом.
— Себастьян Цёльнер, — представился я. — Ты меня еще не забыл?
— Ну разумеется, — ответил он. — Как можно.
— А это Мануэль Каминский.
Он перевел осоловелый взгляд с меня на Каминского, потом снова на меня:
— Ты что, серьезно?
По телу у меня разлилось приятное тепло.
— Конечно.
— Вот это да! — восхитился он и отошел на шаг. Какая-то женщина позади него застонала сквозь зубы.
— Простите, что здесь происходит? — спросил Каминский.
Ойген Манц подошел к нему, наклонился и протянул руку:
— Ойген Манц. — Каминский не реагировал. — «ArT».
— Что? — переспросил Каминский.
— Ойген Манц, журнал «ArT», — повторил Ойген Манц.
— Да что здесь происходит? — снова проговорил Каминский.
Манц бросил на меня нерешительный взгляд, все еще протягивая Каминскому руку. Я пожал плечами и многозначительно уставился в потолок.
— Дело в том, что я слеп, — пояснил Каминский.
— Конечно! — с готовностью подтвердил Манц. — То есть я хочу сказать, что я это знаю. Я все о вас знаю. Я Ойген Манц из «ArT».
— Да, — согласился Каминский.
Манц отважился убрать руку.
— Что вас сюда привело?
— Я и сам хотел бы это знать.
Манц расхохотался, снова отер слезы и воскликнул: «Да такого просто не бывает!» Как вкопанные застыли двое с бокалами в руках: редактор теленовостей Верена Мангольд и сам Алонзо Квиллинг. Когда мне в последний раз случилось его видеть, он носил бороду; теперь он был гладко выбрит, с косичкой и в очках.
— Смотрите! — провозгласил Манц. — Мануэль Каминский.
— Какой еще Каминский? — спросил Квиллинг.
— Да вот он стоит, — настаивал Манц.
— Кто? — удивилась Верена Мангольд.
— Не может быть! — поразился Квиллинг.
— Да я же говорю!.. — выкрикнул Манц. — Господин Каминский, это Алонзо Квиллинг, а это… — Он неуверенно взглянул на Верену Мангольд.
— Мангольд, — поспешно сказала она. — Вы тоже художник?
Подойдя к нам, Хохгарт обнял Квиллинга за плечи. Тот вздрогнул, вспомнил, что выставляется у Хохгарта, и не стал возражать.
— Вам нравятся картины?
— Это сейчас не важно, — откликнулся Манц. Квиллинг испуганно смотрел на него. — Это Мануэль Каминский.
— Знаю, — отмахнулся Хохгарт и взглядом поискал кого-то в толпе. — Никто из вас не видел Яблоника? — Он сунул руки в карманы и ушел.
— Я пишу о Мануэле книгу, — объявил я. — Поэтому мы, конечно, должны…
— Я поклонник вашего раннего творчества, — сказал Квиллинг.
— Вот как? — удивился Каминский.
— Поздние вещи я как-то не очень понимаю.
— Это ваш пейзаж с лугом в галерее Тейт?{22} — спросил Манц. — Он меня просто сразил!
— Это не я, это Фрейд написал, — поправил его Каминский.
— Фрейд? — переспросила Верена Мангольд.
— Люсьен Фрейд.
— Прошу прощения, — не растерялся Манц. — Sorry!
— Я хочу сесть, — сказал Каминский.
— Дело в том, — важно пояснил я, — что мы здесь проездом. Больше я открыть пока не вправе.
— Добрый вечер! — сказал седой человек.
Это был Август Вальрат, один из лучших художников страны. Знатоки его ценили, но ему как-то не везло; так уж получилось, что ни один крупный журнал о нем не написал. А теперь он был слишком стар для популярности, что поделаешь, он уже давно занимался живописью и упустил свой шанс прославиться. Он был лучше Квиллинга, это все знали. Он тоже это знал, и даже Квиллинг это знал. И все-таки галерея Хохгарта никогда бы не устроила его выставку.
— Это Мануэль Каминский! — провозгласил Манц. Тоненькая женщина положила руку ему на плечо и прильнула к нему, он ей улыбнулся.
— Да он ведь давно умер, — поразился Вальрат. Верена Мангольд шумно ахнула, Манц отпустил свою подругу, я испуганно посмотрел на Каминского.
— Если сейчас не сяду, то точно умру.
Я взял Каминского под локоть и подвел его к расставленным у стены стульям.
— Я пишу биографию Мануэля! — громко объявил я. — Поэтому мы сюда и пришли. Мы с ним. Мы.
— Прошу прощения, — вмешался Вальрат. — У меня это невольно вырвалось, вы ведь живой классик. Как Марсель Дюшан{23} или Брынкуши{24}.
— Брынкуши? — переспросила Верена Мангольд.
— Марсель был позер. Идиот, невесть что о себе воображавший, — сказал Каминский.
— Вы не могли бы дать мне интервью? — спросил Манц.
— Да, — сказал я.
— Нет, — сказал Каминский.
Я кивнул Манцу и протянул руку: подожди, я все устрою! Манц бессмысленным взглядом уставился на меня.
— Дюшан — значительная фигура, — сказал Вальрат. — Мимо него-то ни в коем случае пройти нельзя.
— Какая разница, кто значительная фигура, а кто нет. Живопись — вот что важно, — заметил Каминский.
— А Дюшан тоже здесь? — спросила Верена Мангольд.
Каминский со стоном опустился на раскладной стульчик, я его поддержал, Манц с любопытством навис над моим плечом.
— А ты не так уж мало о нем знаешь, — тихо сказал я.
Манц кивнул.
— Я когда-то написал его некролог.
— Что?!
— Лет десять назад, я тогда работал редактором отдела культуры в «Вечерних известиях». Моей основной специальностью были некрологи про запас, на всякий случай. Как хорошо, что все это в прошлом!
Каминский сидел, опираясь на трость, повесив голову, нижняя челюсть у него двигалась, как будто он что-то пережевывает; если бы в зале было потише, слышалось бы его причмокиванье. Над его головой на коллаже Квиллинга был изображен телевизор, с экрана которого бил густой поток крови, а рядом красовалось граффити: «Watch it!»[16] Чуть поодаль висели три из его «Advertisement Papers», плакатов фирмы-изготовителя мыла «DЕМОТ», сплошь составленных Квиллингом из вырезанных по контуру персонажей картин Тинторетто{25}. Какое-то время они были очень модны, но с тех пор как сама фирма «DЕМОТ» стала использовать их для рекламы мыла, никто не мог понять, как к ним относиться.
Хохгарт оттер меня плечом.
— Мне сказали по секрету, что вы — Мануэль Каминский.
— Да ведь это я тебе еще когда сказал! — выкрикнул я.
— Ну, значит, я не расслышал. — Хохгарт присел, так что его лицо оказалось вровень с лицом Каминского. — Мы должны сфотографироваться!
— А ведь здесь можно устроить его выставку, — предложила стройная женщина. До сих пор она не проронила ни слова. Мы удивленно взглянули на нее.
— Нет, правда, — сказал Манц и обнял ее за бедра. — Нельзя упускать такую возможность. Может быть, сделаем обзор вашего творчества. В следующем номере. Вы же не завтра уезжаете?
— Надеюсь, что завтра, — произнес Каминский.
К нам нетвердыми шагами направился профессор Цабль, по пути опрокинув присевшего на корточки Хохгарта.
— Ну, что там у вас? — повторял он. — Что там у вас? Что? — Он явно напился. Он был седовлас, щеголял искусственным загаром и, как всегда, носил кричаще яркий галстук.
— Закажите мне такси, — сказал Каминский.
— Нет, зачем, — отозвался я. — Мы сейчас уйдем. — Я улыбаясь обвел всех глазами и объявил: — Мануэль устал.
Хохгарт встал, отряхнул штаны и провозгласил:
— Это Мануэль Каминский!
— Завтра я возьму у вас интервью, — напомнил Манц.
— Очень рад, — сказал Цабль и, нетвердо держась на ногах, подошел к Каминскому. — Цабль, профессор эстетики. — Он протиснулся между нами и плюхнулся на свободный стул.
— Может быть, пойдем? — попросил Каминский. Мимо прошла официантка с подносом, я взял бокал вина, выпил залпом и потянулся за следующим.
— Меня верно проинформировали, — начал Цабль, — о том, что вы сын Рихарда Риминга?
— Что-то вроде того, — ответил Каминский. — Извините, а какие мои картины вы знаете?
Цабль по очереди обвел нас глазами. Кадык у него подрагивал.
— Сдаюсь. — Он ощерился в ухмылке. — В сущности, это не моя сфера.
— Уже поздно, — сказал Манц. — Нельзя так терзать вопросами господина профессора.
— Вы — приятель Квиллинга? — спросил Цабль.
— С моей стороны было бы дерзостью это утверждать, — сказал Квиллинг. — Однако верно, что я всегда считал и буду считать себя учеником Мануэля.
— Во всяком случае, вы сумели нас удивить, — съязвил Манц.
— Нет, — возмутился я. — Он пришел сюда со мной!
— Господин Каминский, — сказал Цабль, — можно на следующей неделе пригласить вас на мой семинар?
— По-моему, на следующей неделе его здесь не будет, — заметил Квиллинг. — Мануэль много путешествует.
— Правда? — удивился Манц.
— Он прекрасно со всем справляется, — просвещал присутствующих Квиллинг. — Иногда нас беспокоит состояние его здоровья, но сейчас… — Он на мгновение дотронулся до темной мореной рамы коллажа «Watch it!». — Постучим по дереву!
— Кто-нибудь вызвал такси? — спросил Каминский.
— Мы уже уходим, — заверил его я.
Снова прошла женщина с подносом, я взял еще один бокал.
— Завтра в десять вас устроит? — спросил Манц.
— Зачем? — спросил Каминский.
— А интервью?
— Нет, — сказал Каминский.
— Я его уговорю, — сказал я.
Цабль хотел было встать, невольно схватился за подлокотник и снова в изнеможении сел. Хохгарт вдруг извлек откуда-то фотоаппарат и нажал на кнопку, вспышка отбросила на стену наши тени.
— Я могу позвонить на следующей неделе? — тихо сказал я Манцу. Нужно действовать, пока он не напился до бесчувствия.
— На следующей не получится. — Он прищурился. — Через неделю.
— Хорошо, — сказал я.
На другом конце зала, под тремя неоновыми лампами, которые Квиллинг оклеил газетными вырезками, стояли и о чем-то беседовали Вальрат и Верена Мангольд. Она что-то быстро говорила, он прислонился к стене и печально смотрел в свой бокал. Я взял Каминского под локоть и помог ему встать, Квиллинг немедленно подхватил его с другой стороны. Мы повели его к двери.
— Мы справимся, — процедил я. — Оставьте его в покое!
— Не беспокойтесь, — повторял Квиллинг, — не беспокойтесь!
Манц похлопал меня по плечу, я на секунду отпустил Каминского.
— Лучше все-таки в конце этой недели. В пятницу. Позвони моей секретарше.
— В пятницу, — сказал я, — очень хорошо.
Манц рассеянно кивнул, тоненькая женщина положила голову ему на плечо. Обернувшись, я увидел, что Хохгарт как раз в эту минуту фотографирует Квиллинга и Каминского. Все разговоры смолкли. Я поспешно подхватил Каминского под локоть с другой стороны, но было поздно: Хохгарт их уже снял. Мы пошли дальше, пол, по-моему, был неровный, воздух словно слегка подрагивал. Значит, я все-таки опьянел.
Мы спустились по лестнице. «Осторожно, ступенька!» — повторял Квиллинг при каждом шаге. Я посмотрел на редкие волосы Каминского, правой рукой он крепко сжимал трость. Мы вышли на улицу. Дождь перестал, в лужах расплывались отражения фонарей.
— Спасибо! — сказал я. — Моя машина вон там.
— Моя ближе, — отозвался Квиллинг. — Я могу его отвезти. К тому же у меня есть домик для гостей.
— А вам разве не пора возвращаться?
— Они и без меня обойдутся.
— Это же ваша выставка.
— Но я должен быть здесь.
— Мы больше не нуждаемся в вашей помощи!
— А так было бы проще.
Я выпустил локоть Каминского, обошел их обоих и прошипел Квиллингу на ухо:
— Оставьте его в покое и возвращайтесь к гостям!
— Вы что, теперь будете мне приказывать?
— Я же пишу рецензии, а вы выставляете работы. Мы ровесники. Я буду писать о каждой вашей новой выставке.
— Не понимаю вас.
Я вернулся на свой пост и взял Каминского под локоть.
— Но, может быть, мне действительно пора к гостям.
— Может быть, — подтвердил я.
— Это все-таки моя выставка.
— Вот именно, — откликнулся я.
— Ничего не поделаешь.
— Досадно, — поддакнул я.
— Для меня это честь, — объявил он, — большая честь, Мануэль.
— А вы, собственно, кто? — спросил Каминский.
— Он просто неподражаем! — воскликнул Квиллинг. — До свиданья, Себастьян!
— До свиданья, Алонзо!
Несколько секунд мы с ненавистью смотрели друг на друга, потом он повернулся и взбежал по лестнице. Я перевел Каминского через улицу к машине Эльке. Просторный «мерседес», скоростной и роскошный, почти такой же красивый, как и украденный «БМВ». Иногда мне казалось, что деньги зарабатывают все, кроме меня.
Мне приходилось сосредоточиваться, чтобы не съехать с полосы, я был слегка пьян. Опустил окно и быстро пришел в себя от прохладного воздуха, нужно пораньше лечь спать, завтра мне потребуется ясная голова. Наверное, вечер удался, они видели меня в обществе Каминского, все прошло хорошо. И все-таки мне отчего-то взгрустнулось.
— Я знаю, зачем вы это сделали, — сказал Каминский. — Я вас недооценивал.
— О чем вы?
— Вы хотели мне показать, что меня забывают.
Мне понадобилась минута, чтобы понять, что он имеет в виду. Он откинул голову и глубоко вздохнул.
— Никто не знал ни одной моей картины.
— Это ничего не значит.
— Ничего не значит? — повторил он. — Вы же собираетесь писать обо мне книгу. Это вас не насторожило?
— Нисколько, — солгал я. — Книга получится великолепная, ее появления все с нетерпением ждут. А потом, вы же сами это предвидели: сначала ты неизвестен, потом знаменит, потом тебя снова забывают.
— Неужели я это говорил?
— Конечно. А Доминик Сильва рассказал…
— Не знаю такого.
— Доминик!
— Никогда не встречал.
— Не станете же вы утверждать…
Он резко выдохнул и снял очки. Глаза у него были закрыты.
— Если я говорю, что никогда не встречал такого-то, значит, это правда. Я его не знаю. Верьте мне!
Я промолчал.
— Вы мне верите? — спросил он, словно ему небезразличен мой ответ.
— Да, — ответил я тихо, — конечно.
И вдруг я действительно в это поверил, я с готовностью поверил бы всему, что он скажет, меня уже ничто не волновало. Меня даже не волновало, когда выйдет книга. Единственное, чего я хотел, — это спать. И еще я не хотел, чтобы он умер.
XI
шел по улице. Каминский был не со мной, но где-то поблизости, и я торопился его забрать. Навстречу мне все спешили какие-то люди, я споткнулся, упал, хотел было встать и не смог: мое тело отяжелело, на меня навалилась сила тяготения, меня задевали чьи-то ноги, чей-то ботинок наступил, не причинив боли, мне на руку, я изо всех сил оттолкнул не отпускающую меня землю; потом я проснулся. Половина пятого утра, я различил очертания шкафа и стола, темное окно, а рядом пустую постель Эльке. Откинул одеяло, встал, понял, что хожу босиком по ковру. Мне показалось, что кто-то или что-то скребется в шкафу. Открыл дверцу. В шкафу сидел Каминский, скорчившись, опершись подбородком о колени, обхватив ноги руками, и светлыми пронзительными глазами смотрел на меня. Он хотел было что-то сказать, но стоило ему произнести лишь слово, как вся комната рассеялась; я почувствовал тяжесть одеяла. Горький привкус во рту, отупение, головная боль. Шкаф, стол, окно, пустая постель. Десять минут шестого. Я откашлялся — голос был какой-то чужой — и встал. Я понял, что хожу босиком по ковру, и некоторое время, поеживаясь, рассматривал в зеркале шашечки на своей пижаме. Подошел к двери, повернул ключ, открыл. «А я уж было думал, что ты так и не спросишь!» — сказал Манц. «Ты уже знаешь?» — из-за его спины протиснулась Яна. Что знаешь? Да о чем они? «Ну же, — увещевал меня Манц, — не притворяйся!» Яна задумчиво накручивала прядь волос на указательный палец. «Расточительство, — радостно сказал Манц, — все лишь вздор и расточительство, милый мой». Он достал из кармана платок, манерным жестом махнул мне и рассмеялся так громко, что я проснулся. Окно, шкаф и стол, пустая постель, сбитое одеяло, подушка упала на пол, у меня болело горло. Я встал. Поняв, что хожу босиком по ковру, я испытал такое чувство нереальности, что схватился за изголовье постели, но оно стремительно выскользнуло из-под моих пальцев. Теперь я понял, что это сон. Подошел к окну и поднял жалюзи: светило солнце, по парку шли люди, проезжали машины, начало одиннадцатого, никакой не сон. Я вышел в прихожую. Пахло кофе, из кухни доносились голоса.
— Это вы, Цёльнер?
Каминский сидел за кухонным столом в халате и в черных очках. Перед ним стоял апельсиновый сок, мюсли, вазочка с фруктами, джем, корзинка со свежей выпечкой и чашка дымящегося кофе. Напротив сидела Эльке.
— Ты уже вернулась? — нерешительно спросил я.
Она не ответила. Элегантный костюм, новая прическа: короче, чем раньше, с открытыми ушами, с завитками на затылке. Смотрелась она ничего себе.
— Скверный сон! — сказал Каминский. — Крошечная комната, дышать нечем, я в ней заперт, подумал уж было, что я в гробу, но потом заметил, что надо мной висит одежда, значит, я в шкафу. Потом я плыл на лодке, и мне хотелось рисовать, но бумаги под рукой не оказалось. Только представьте себе, мне каждую ночь снится, что я рисую!
Эльке подалась вперед и погладила его по руке. По лицу у него скользнула мимолетная детская улыбка. Она быстро взглянула на меня.
— А вы уже познакомились! — сказал я.
— Вы там тоже были, Цёльнер. Но что там с вами происходило, я забыл.
Эльке налила ему кофе, я подвинул к столу стул и сел.
— Я не думал, что ты вернешься так быстро. — Я прикоснулся к ее плечу. — Как поездка?
Она встала и вышла.
— Плохо дело, — заметил Каминский.
— Подождем, — заверил я и вышел за ней следом.
Я догнал ее в коридоре, мы вместе прошли в гостиную.
— Ты не имел права сюда возвращаться!
— Мне ничего другого не оставалось. Тебя не было, и… И вообще, многие были бы счастливы, если бы я привез к ним Мануэля Каминского!
— Вот и привез бы его к кому-нибудь из этих многих.
— Эльке, — сказал я и взял ее за плечо. Придвинулся к ней. Она казалась какой-то чужой, моложе, чем раньше, с ней что-то произошло. Блестящими глазами она смотрела на меня, прядь волос упала ей на лицо и попала в уголок рта. — Ну перестань, — тихо сказал я. — Это же я, Себастьян.
— Если хочешь уложить меня в постель, сначала побрейся. Сними пижаму и убери отсюда этого Рубенса, который ждет, что ты отвезешь его к подруге юности.
— Откуда ты знаешь?
Она сбросила с плеча мою руку.
— От него.
— Он же не хочет об этом говорить!
— С тобой, может быть, и не хочет. А у меня сложилось впечатление, что он только об этом и говорит. Наверное, ты не заметил, но он очень взволнован. — Она пристально посмотрела на меня. — И вообще, что это за безумная идея?
— Это давало мне возможность побыть с ним наедине. И потом, такая сцена нужна мне для начала книги. Или для финала, я еще не решил. И если я его к ней отвезу, то узнаю, что тогда произошло на самом деле. — Впервые в жизни мне было приятно с ней говорить. — Я и представить себе не мог, что это окажется так трудно. Каждый видит все по-своему, а сколько всего забыто, и все друг другу противоречат. Ну как мне докопаться до правды?
— Может быть, никогда и не докопаешься.
— Одно с другим не сходится. Он совсем не такой, как его описывали.
— Это потому, что он старый, Себастьян.
Я потер виски.
— Ты говорила, что у меня, может быть, еще есть шанс. Что ты хотела этим сказать?
— Спроси у него.
— Как это «у него»? Он же совершенный маразматик.
— Тебе решать. — Она отвернулась.
— Эльке, неужели мы вот так расстанемся?
— Да, именно так. Без всяких трагедий, без переживаний, даже без особой грусти. Извини, лучше было бы сообщить тебе об этом в более деликатной форме. Но в таком случае я бы никогда тебя отсюда не выгнала.
— Это твое последнее слово?
— Свое последнее слово я сказала в телефонном разговоре. А эти выяснения отношений уже лишние. Закажи такси и поезжай на вокзал. Через час я вернусь, и надеюсь, что к моему приезду тебя в квартире не будет.
— Эльке!
— Иначе вызову полицию.
— И позвонишь Вальтеру?
— И позвоню Вальтеру, — подтвердила она и вышла.
Я услышал, как она вполголоса разговаривает с Каминским, потом входная дверь захлопнулась. Я потер глаза, подошел к столу в гостиной, взял сигареты Эльке и подумал: а не заплакать ли мне? Закурил сигарету, положил ее в пепельницу и безучастно смотрел, как она медленно догорает. После этого мне стало легче.
Вернулся на кухню. Каминский держал в руках карандаш и блокнот. Он склонил голову на плечо и приоткрыл рот, как будто погружен в свои мысли или к чему-то прислушивается. И только через несколько секунд я заметил, что он рисует. Его рука медленно скользила по бумаге: указательный, безымянный и мизинец он отставил, большим и средним сжимал карандаш. Не отрывая карандаша от бумаги, он чертил спираль, которая кое-где, на первый взгляд в случайных местах, вздымалась маленькими волнами.
— Нам пора? — спросил он.
Я сел рядом с ним. Его пальцы согнулись, в середине листа появилось какое-то пятно. Поразительно легко он сделал несколько быстрых штрихов, потом отложил блокнот. И только посмотрев на рисунок во второй раз, я понял, что пятно превратилось в камень, а спираль — в круги, которые камень оставляет на водной глади, на ней виднелись брызги пены и даже едва намеченное отражение дерева.
— А ведь хорошо, — сказал я.
— Так даже вы сможете.
Он вырвал листок, спрятал его в карман и передал мне блокнот и карандаш. Его рука обхватила мою.
— Вообразите что-нибудь. Что-нибудь совсем простое.
Я решил, пусть это будет домик, как на детском рисунке. Два окошка, крыша, труба и дверь. Наши руки задвигались. Я взглянул на его острый нос, удивленно поднятые брови, услышал его свистящее дыхание. Снова посмотрел на бумагу. Вот на листе появилась крыша, тонко заштрихованная, точно под падающим снегом или в завитках плюща, потом одна стена, один ставень был приоткрыт, из этого окна, опираясь на локоть, выглядывала маленькая фигурка, нарисованная тремя штрихами, а вот и дверь, внезапно мне пришло в голову, что этот рисунок — подлинник, если я заставлю Каминского его подписать, то смогу продать за большие деньги, дверь вышла покосившаяся, вторая стена, на эти деньги я куплю машину, разминулась с крышей, карандаш сполз в нижний угол листа, что-то не получилось; Каминский выпустил мою руку.
— Ну как?
— Сойдет, — разочарованно протянул я.
— Едем?
— Конечно.
— Опять на поезде?
— На поезде? — Я задумался. Ключ от машины, наверное, еще в кармане моих штанов, машина там, где я ее вчера припарковал. Эльке вернется только через час. — Нет, не на поезде.
XII
а сей раз я все-таки решил ехать по шоссе. У автомата, где взималась дорожная пошлина, служитель отказался принять мою кредитную карточку, я осведомился, от какого почтенного занятия он отлынивает, тот ответил: «Плати или убирайся», — и взял мои последние наличные. Я нажал на газ и от ускорения невольно мягко откинулся на сиденье. Каминский снял очки и, как в начале нашего путешествия, сплюнул на пол. Вскоре после этого он заснул.
Грудь у него равномерно поднималась и опускалась, рот был приоткрыт, на подбородке отчетливо виднелась щетина; мы оба не брились два дня. Он захрапел. Я включил радио, пианист исполнял джазовые пассажи, все убыстряя ритм, Каминский захрапел громче, я прибавил громкость. Пусть сейчас поспит, сегодня вечером он обойдется без отеля, мы сразу же вернемся. Я верну Эльке машину, заберу, если она действительно на этом настаивает, свои чемоданы и на поезде отвезу Каминского домой. У меня есть все, что мне нужно. Не хватает только центральной сцены, встречи с Терезой после стольких лет разлуки, в присутствии друга и биографа.
Я выключил радио. Навстречу бежали разделительные линии, я обогнал два грузовика по правой полосе. «Все это, — думал я, — его история. Он ее прожил, и вот она подходит к концу, и я вне ее». На мгновение его храп смолк, словно он прочитал мои мысли. Его жизнь. А моя? Его история. А у меня есть история? Какой-то «мерседес» так тащился, что мне пришлось пропустить его, свернув на аварийную полосу; я посигналил, выехал на левую полосу, ему пришлось затормозить, чтобы избежать столкновения.
— Но должен же я куда-то идти.
Неужели я произнес это вслух? Я покачал головой. Но ведь правда, я должен куда-то идти, должен что-то делать. Вот в чем проблема. И всегда была в этом. Я потушил сигарету. Пейзаж изменился, холмы уже давно исчезли, а вместе с ними деревни и дороги; мне показалось, будто мы перенеслись в прошлое. Шоссе осталось позади, некоторое время мы ехали по лесу, меж древесных стволов и теней сплетенных веток. Потом остались только луга с пасущимися овцами.
Сколько лет я не видел моря? Я с удивлением заметил, что радуюсь тому, что его увижу. Я нажал на газ, кто-то посигналил. Каминский проснулся в испуге, произнес что-то по-французски и снова заснул, из уголка рта у него стекала струйка слюны. Вот дома из красного кирпича, а вот указатель с названием нашего городка. Какая-то женщина, держась очень прямо, переходила улицу. Я затормозил, опустил окно и спросил, куда нам ехать. Она мотнула головой в нужном направлении. Каминский проснулся, закашлялся, судорожно ловя ртом воздух, отер рот и спокойно спросил: «Приехали?» Мы ехали по последнему в городке проспекту. Номера домов, казалось, перетасовал какой-то шутник, мне пришлось дважды проехать вдоль всей улицы, пока я не нашел нужный дом. Затормозил.
Вышел из машины. Было ветрено и прохладно, и, если это не обман чувств, пахло морем.
— Я здесь уже бывал? — спросил Каминский.
— Наверное, нет.
Он уперся тростью в землю и попытался встать. Застонал. Я обошел машину и помог ему выйти. Я еще никогда не видел его таким: с перекошенным ртом, с изборожденным морщинами лбом, испуганным, едва ли не в ужасе. Я опустился на колени и завязал ему шнурки. Он облизнул губы, достал из кармана очки и медленно надел.
— Тогда мне казалось, что я умираю.
Я удивленно посмотрел на него.
— И это был бы лучший выход. Все остальное — самообман. А так живешь, притворяешься, будто и не умер. Все на самом деле было так, как она писала. Она всегда была умнее меня.
Я расстегнул сумку и нащупал диктофон.
— Это письмо пришло однажды утром. Просто так — пришло, и все.
Большим пальцем я нащупал кнопку «запись» и нажал.
— А в ее квартире никого не было. Вам не доводилось пережить ничего подобного.
А диктофон записывает в сумке?
— Откуда вы знаете, что мне не доводилось пережить ничего подобного?
— Думаешь, что живешь. И вдруг все исчезает. Искусство ничего не значит. Сплошные иллюзии. А ты это знаешь и все-таки заставляешь себя жить.
— Давайте позвоним, — предложил я.
Мы стояли перед домом, ничем не отличавшимся от остальных: два этажа, островерхая крыша, ставни, маленький палисадник. Солнце спряталось, по небу проплывали прозрачные облака. Каминский тяжело дышал, я озабоченно его оглядел. Позвонил.
Мы подождали. Каминский будто что-то пережевывал, его пальцы поглаживали ручку трости. А если никого нет дома? Этого я не ожидал. Позвонил еще раз.
И еще.
Дверь отворил пожилой толстяк: густые седые волосы, нос картошкой, обвисшая вязаная куртка. Я взглянул на Каминского, но он по-прежнему молчал. Он стоял ссутулившись, опираясь на трость, склонив голову, и, казалось, к чему-то прислушивается.
— Очевидно, мы ошиблись адресом, — сказал я. — Мы ищем госпожу Лессинг.
Толстяк не отвечал. Он нахмурился и медленно переводил взгляд с Каминского на меня, как будто ждал объяснений.
— Она разве не здесь живет? — спросил я.
— Она нас ждет, — добавил Каминский.
— Ну, это не совсем так, — вставил я.
Каминский медленно обернулся ко мне.
— Мы это обсуждали, — начал я, — но я не уверен, насколько четко дал понять, что мы приезжаем сегодня. То есть я хочу сказать, в принципе мы договорились, но…
— Отведите меня в машину.
— Вы что, серьезно?
— Отведите меня в машину. — Таким тоном он со мной никогда еще не говорил. Я открыл было рот и снова закрыл.
— Да что там, входите! — пригласил толстяк. — Вы Тезочкины знакомые?
— В какой-то степени, — отозвался я. «Тезочкины»?
— А я Хольм. Мы как-то прибились друг к дружке. Осень жизни вместе. — Он засмеялся. — Тезочка дома.
Мне показалось, что Каминский, которого я держал под локоть, не хочет двигаться с места. Я мягко потянул его к двери, при каждом шаге его трость стукала о землю.
— Дальше! — скомандовал Хольм. — Снимайте пальто!
Я помедлил, но снимать нам было нечего. Узенькая прихожая с ярким ковром и циновкой с надписью «Добро пожаловать». На трех крючках — примерно пять вязаных курток, на полу — ботинки. Картина маслом — восход солнца, в лучах которого на цветочной клумбе резвится плутишка заяц. Я достал из сумки диктофон и незаметно переложил его в карман пиджака.
— За мной! — приказал Хольм и прошел впереди нас в гостиную. — Тезочка, ну-ка, угадай! — Он обернулся к нам. — Простите, как, вы сказали, вас зовут?
Я подождал, но Каминский молчал. Хольм пожал плечами:
— Это Мануэль Каминский. Помнишь?
Светлая комната с большими окнами. Занавески с цветочным узором, полосатые обои, круглый обеденный стол, буфет, за стеклянными дверцами которого возвышались стопки тарелок, телевизор у дивана, кресло и тумбочка, телефон у стены, рядом с ним фотография пожилой супружеской четы и репродукция «Рождения Венеры» Боттичелли. В кресле сидела старушка. Лицо у нее было круглое, прорезанное сетью глубоких морщин и мелких морщинок, шиньон, как белоснежный шар. На ней была розовая шерстяная кофточка с вышитым на груди цветком, клетчатая юбка и плюшевые тапочки. Она выключила телевизор и недоуменно глядела на нас.
— Тезочка плоховато слышит! — сказал Хольм. — Друзья! Юности! Каминский! Помнишь?
По-прежнему улыбаясь, она уставилась в потолок.
— А как же. — Когда она закивала, шиньон у нее закачался. — Вы из фирмы Бруно.
— Каминский! — прокричал Хольм.
Каминский до боли стиснул мою руку.
— Боже мой, — выдохнула она, — это ты?
— Да, — сказал он.
Несколько секунд ни один из нас не проронил ни слова. Ее руки, крошечные, темные, точно вырезанные из дерева, поглаживали пульт дистанционного управления.
— А я Себастьян Цёльнер. Я вам звонил. Я же сказал вам, что рано или поздно…
— Хотите пирога?
— Что?
— С кофе придется подождать. Ну, садитесь!
— Очень любезно с вашей стороны, — поблагодарил я. Я хотел подвести Каминского к креслу, но он не двигался с места.
— Я слышала, ты прославился.
— Ты же это предсказывала.
— Я предсказывала? Боже мой, да садитесь же. Столько лет прошло. — Она кивком указала на свободные стулья. Я еще раз попытался усадить Каминского, но он словно оцепенел.
— А когда вы были знакомы? — спросил Хольм. — Давно, должно быть, это было, Тезочка мне ничего об этом не рассказывала. Она много чего на своем веку повидала. — Она хихикнула. — Да нет, какое там, стесняться тебе нечего! Два раза замужем была, четверо детей, семеро внуков. Это уже что-то, а?
— Ага, — поддакнул я, — это точно.
— Вы не хотите сесть, а я нервничаю. Как-то неловко. Ты плохо выглядишь, Мигуэль, садись.
— Мануэль!
— Да-да. Садись.
Я изо всех сил потащил его к дивану, он сделал шаг, споткнулся и чуть не упал, схватился за спинку и с трудом сел. Я опустился на диван рядом с ним.
— Для начала ответьте на несколько вопросов, — сказал я. — Я хотел бы узнать…
Тут зазвонил телефон. Она крикнула в трубку: «Нет, хватит!» — и бросила ее на рычаг.
— Соседские ребятишки, — пояснил Хольм. — Они звонят, изменив голос, и думают, мы их не узнаем. Но не на тех напали!
— Не на тех. — Она пискливо засмеялась.
Хольм вышел. Я ждал, кто же из них заговорит первым. Каминский сидел ссутулившись, Тереза улыбаясь теребила отворот кофты; один раз она кивнула, словно ей в голову пришла какая-то интересная мысль. Хольм вернулся с подносом: тарелки, вилки, буроватый плоский пирог. Он разрезал его и передал мне кусочек. Пирог оказался совершенно черствый, едва не застревал в горле.
— Ну хорошо. — Я откашлялся. — Вы ушли. А что потом?
— Ушла? — переспросила она.
— Ушла, — подтвердил Каминский.
Она улыбалась бессмысленной улыбкой.
— Вы же внезапно исчезли.
— Вот это похоже на Тезочку, — вставил Хольм.
— Села в поезд, — медленно произнесла она, — и поехала на север. Работала секретаршей. Мне было очень одиноко. Моего начальника звали Зомбах, он слишком быстро диктовал, мне приходилось исправлять его орфографические ошибки. Потом познакомилась с Уве. Через два месяца мы поженились. — Она смотрела на свои узловатые руки, на тыльной стороне которых выступила сетка вздувшихся жил. На какое-то мгновение с ее лица исчезла улыбка, а взгляд стал более осмысленным. — Помнишь того ужасного композитора? — Я взглянул на Каминского, но он, по-видимому, не понимал, кого она имеет в виду. Ее черты разгладились, она снова заулыбалась. — А про кофе ты забыл?
— Батюшки! — воскликнул Хольм.
— Да зачем, — отмахнулся я.
— Не хотите, и не надо, — сказал Хольм и никуда не пошел.
— У нас было двое детей. Мария и Генрих, ты же их знаешь.
— Откуда мне их знать? — удивился Каминский.
— Уве погиб в результате несчастного случая. Его сбил пьяный водитель, он умер на месте. Сразу, без страданий.
— Это важно, — тихо произнес Каминский.
— Да-да, важнее всего. Когда я об этом узнала, думала, что умру.
— Не слушайте вы ее, она не всерьез, — вмешался Хольм. — Ее так просто не возьмешь.
— Через два года я вышла замуж за Бруно. От него у меня Ева и Лора. Лора живет на параллельной улице. Едете все время прямо, потом сворачиваете на третью улицу налево, потом еще раз налево. И вы у нее.
— Где? — спросил я.
— У Лоры. — Несколько секунд все молчали и недоуменно смотрели друг на друга. — Вы же хотели к ней!
Зазвонил телефон, она выкрикнула в трубку: «Хватит!» — и бросила ее на рычаг. Каминский сложил руки на груди, его трость упала на пол.
— А чем вы занимаетесь? — спросил Хольм.
— Он художник, — пояснила она.
— Надо же! — Хольм удивленно поднял брови.
— Знаменитый. Надо бы тебе в газетах читать не только спортивные страницы. Он когда-то был очень известен.
— Дело прошлое, — отозвался Каминский.
— Эти зеркала, — сказала она, — такие зловещие. Ты тогда впервые написал что-то, что было…
— А вот меня раздражают, — начал Хольм, — такие картины, на которых ничего не разберешь. У вас ведь другая манера, правда? — Прежде чем я успел воспротивиться, он стряхнул мне на тарелку еще один кусок пирога, который едва не упал, мне на колени посыпались крошки. — А у меня была маленькая фабрика, — сказал Хольм, — я производил косметику на основе трав: гель для душа, чай из трав, крем от растяжений. Сейчас вы такое днем с огнем не найдете, что поделаешь, некий упадок — в природе вещей. В природе вещей! — воскликнул Хольм. — Вы точно не хотите кофе?
— Я все время думал о тебе, — проговорил Каминский.
— А ведь это все было так давно, — ответила она.
— Я спрашивал себя… — начал было он и оборвал себя на полуслове.
— О чем ты?
— Да так, ничего. Ты права. Как давно это было.
— Что давно было? — заинтересовался Хольм. — Ну-ка, давайте выкладывайте!
— Помнишь то письмо?
— А что у тебя, собственно, с глазами? Ты же художник. Как ты это пережил?
— Ты помнишь о письме?
Я нагнулся, поднял трость и вложил ему в руку.
— Откуда мне помнить? Я была тогда молоденькой дурочкой.
— И что же?
На лице у нее на миг появилось задумчивое выражение.
— Такая глупенькая, неискушенная.
— Я бы не сказал.
— Вот и я о том же, — вставил Хольм. — Каждый раз, когда спрашиваю Тезочку…
— Попридержите язык!
Он ахнул и уставился на меня.
— Нет, Мануэль. Я и правда больше ничего не помню. — Уголки рта у нее приподнялись, морщины на лбу разгладились, негнущимися пальцами она вертела пульт дистанционного управления.
— А я сейчас вам вот что расскажу, — объявил Хольм. — Про Тезочкин день рождения, ей исполнилось семьдесят пять, и все наконец собрались: дети, внуки. Все были в сборе. И когда все запели «For she’s a jolly good fellow…»[17], именно в этот момент, у большого торта…
— На нем было семьдесят пять свечей, — вставила она.
— Поменьше, места не хватило. Знаете, что она сказала?
— Нам пора, — перебил его Каминский.
— Знаете, что она сказала? — Пронзительно зазвенел дверной звонок. — Кто бы это мог быть? — Хольм встал и пошел открывать, я услышал, как он быстро и взволнованно разговаривает с кем-то у двери.
— Почему ты так ни разу и не приехал? — спросила она.
— Доминик сказал, что ты умерла.
— Доминик? — переспросил я. — Вы же утверждали, будто его не знаете.
Он нахмурился, Тереза удивленно посмотрела на меня, казалось, они оба забыли, что я еще здесь.
— Он так сказал? — поразилась она. — Зачем? Каминский не отвечал.
— Я была молода, — сказала она. — Ведь в молодости делаешь много всякого вздора. Я была не такая, как сейчас.
— Пожалуй, да.
— А ты и внешне был совсем другой. Выше и… в тебе чувствовалась такая сила. У меня голова начинала кружиться, когда я бывала с тобой слишком долго. — Она вздохнула. — Юность — это болезнь.
— «Лихорадка ума».
— Ларошфуко. — Она тихо засмеялась. Каминский чуть заметно улыбнулся. Он склонился к ней и произнес что-то по-французски.
Она улыбнулась:
— Нет, Мануэль, не для меня. В сущности все началось только после этого.
Несколько секунд все молчали.
— Так что ты сказала? — хрипло спросил он. — На своем дне рождения?
— Если бы я помнила!
Вернулся Хольм.
— Она не хочет входить, говорит, что подождет. Может быть, все-таки выпьете кофе?
— Уже поздно, — сказал Каминский.
— Очень поздно, — повторил я.
— Вы же только приехали!
— Мы могли бы вместе посмотреть телевизор, — предложила она. — Сейчас начнется «Кто хочет стать миллионером».
— Кёлер — хороший ведущий, — добавил Хольм.
— Я читала, что он женится, — сказала она.
Каминский подался вперед и протянул руку, я помог ему встать. Мне показалось, что он хотел еще что-то сказать; я подождал, но он по-прежнему молчал. Едва прикасаясь, он держался за мое плечо. Мой карман оттягивал включенный диктофон, я почти забыл о нем. Я его отключил.
— Часто бываете в наших краях? — осведомился Хольм. — Непременно приезжайте еще. Правда, Тезочка?
— Я познакомлю тебя с Лорой. И с ее детьми. С Морицем и Лотаром. Они живут на параллельной улице.
— Замечательно, — откликнулся Каминский.
— А в какой манере вы, собственно, работаете? — спросил Хольм.
Мы прошли в прихожую, Хольм открыл входную дверь. Я обернулся, Тереза вышла нас проводить.
— Счастливого пути, Мигуэль! — сказала она, скрестив на груди руки. — Счастливого пути!
Через палисадник мы прошли к машине. На улице никого не было, только какая-то женщина медленно ходила взад-вперед. Я заметил, что рука у Каминского дрожит.
— Осторожнее на дороге! — напомнил Хольм и закрыл дверь.
Каминский остановился и поднес к лицу другую руку, сжимавшую трость.
— Очень сожалею, — сказал я тихо. Я просто не мог заставить себя посмотреть ему в глаза.
Похолодало, я застегнул пиджак. Каминский тяжело опирался на мою руку.
— Мануэль! — позвал я.
Он не ответил. Прохаживавшаяся возле машины женщина обернулась и подошла к нам. На ней было черное пальто, ветер играл ее волосами. От неожиданности я отпустил Каминского.
— А почему ты не вошла? — спросил он. Он-то как раз не выглядел удивленным.
— Он сказал, что вы сейчас уходите. Вот мне и не хотелось затягивать ваш визит. — Мириам посмотрела на меня. — А теперь отдайте мне ключ от машины!
— Простите, что вы сказали?
— Отвезу машину назад. У меня был долгий разговор с ее владелицей. Мне поручено вам передать, что, если вы заупрямитесь, она заявит в полицию об угоне.
— Помилуйте, какой угон!
— Кстати, другую машину, нашу, уже нашли. На стоянке какого-то мотеля, с очень любезным благодарственным письмом. Хотите посмотреть?
— Нет! — негодующе отказался я.
Она взяла отца под руку, я открыл машину, она помогла ему сесть на заднее сиденье. Он тихо застонал, его губы беззвучно задвигались. Она захлопнула дверцу. Я, нервничая, достал сигареты. В пачке оставалась всего одна.
— Позволю себе прислать вам счет за авиабилет и такси. Обещаю, это обойдется вам недешево. — Ветер трепал ее волосы, ногти у нее были обгрызены вплоть до ногтевого ложа. Угроза меня не испугала. У меня больше ничего не было — одна пустота, так что и отнять у меня она больше ничего не могла.
— Я не сделал ничего плохого.
— Конечно нет. — Она облокотилась на крышу машины. — Вот сидит старик, которого дочь объявила недееспособным и которым командует, не так ли? Никто не сказал ему, что возлюбленная его юности еще жива. Вы всего лишь хотели ему помочь.
Я пожал плечами. В машине Каминский мотал головой и беззвучно шевелил губами.
— Именно так.
— А откуда, по-вашему, у меня ее адрес?
Я ошеломленно взглянул на нее.
— Я давно его знаю. Я побывала у нее еще десять лет назад. Она отдала мне его письма, и я их уничтожила.
— Что вы сделали?
— Так хотел он. Мы всегда знали, что рано или поздно появится кто-то вроде вас.
Я сделал шаг назад и уперся спиной в садовую изгородь.
— Вообще-то он не хотел с ней встречаться. Но после операции сделался сентиментальным. Умолял всех нас свозить его к ней: меня, Боговича, Клюра, всех знакомых. Их у него не так уж много осталось. Мы хотели уберечь его от этого. Вы, наверное, что-то сказали, что ему опять об этом напомнило.
— От чего вы хотели его уберечь? От встречи с этой глупой старухой? И с этим идиотом?
— Этот идиот — умный человек. Полагаю, он пытался спасти ситуацию. Вы же не знаете, что Мануэлю ничего не стоит разрыдаться. Вы не знаете, что у него мог случиться сердечный приступ. А эта старуха давным-давно от него освободилась. Она прожила свою жизнь, в которой он не играл никакой роли. — Она нахмурилась. — А это не многим удалось.
— Он больной и слабый. Он уже никем не может манипулировать.
— Вот как? Когда вы по телефону обвинили меня в том, что я держу отца в тюрьме, я невольно засмеялась. Я сразу поняла, что он подчинил вас себе, как и всех нас. Разве не он заставил вас украсть две машины и провезти его сюда через пол-Европы?
Я прикусил сигарету.
— В последний раз повторяю, я же не…
— Он ничего не рассказывал вам о договоре?
— О каком договоре?
Она повернула голову, и тут я впервые заметил, что она похожа на отца.
— По-моему, его зовут Беринг. Ханс…
— Баринг?
Она кивнула.
— Ханс Баринг.
Я судорожно вцепился в изгородь. Металлическое острие укололо меня в ладонь.
— Он готовит цикл статей в каком-то журнале. О Рихарде Риминге, Матиссе и послевоенном Париже. Издаст воспоминания отца о Пикассо, Кокто и Джакометти{26}. Он интервьюировал отца часами.
Я отшвырнул сигарету, даже не закурив. Еще крепче вцепился в изгородь, как только мог, намертво.
— Но это не означает, что вы понапрасну перерыли наш дом. — Я выпустил изгородь, по ладони стекала тонкая струйка крови. — Возможно, следовало предупредить вас заранее. Ничего, ведь вам остаются его детство, долгие годы в горах. Его позднее творчество.
— Нет у него никакого позднего творчества.
— Правильно, — сказала она, как будто только сейчас об этом вспомнила. — Значит, книга получится тоненькая.
Я попытался дышать как можно спокойнее. Заглянул в машину: челюсти у Каминского непрерывно двигались, руки плотно обхватили рукоять трости.
— Куда вы сейчас едете? — Мой голос доносился до меня словно издалека.
— Найду какой-нибудь отель, — ответила она. — Он…
— Не ложился отдохнуть сегодня днем.
Она кивнула.
— А завтра возвращаемся домой. Я верну машину, дальше поедем на поезде. Он…
— Он ведь не летает.
Она улыбнулась. Встретившись с ней глазами, я вдруг понял, что она завидует Терезе. Что она всегда жила только его жизнью, что у нее нет своей истории. Как и у меня.
— Его лекарства в отделении для перчаток.
— Что с вами? — спросила она. — Вы какой-то другой.
— Другой?
Она кивнула.
— Я могу с ним попрощаться?
Она прислонилась к изгороди. Я открыл дверцу водителя. Колени у меня все еще по-прежнему дрожали, хорошо, что я мог сесть. Захлопнул дверцу, чтобы она не могла нас подслушать.
— Хочу к морю, — объявил Каминский.
— Вы выбрали биографом Баринга.
— Разве его так зовут?
— Вы ничего мне об этом не сказали.
— Очень любезный молодой человек. Очень образованный. А разве это важно?
Я кивнул.
— Хочу к морю.
— Я хотел с вами попрощаться.
— Вы с нами не поедете?
— Думаю, нет.
— Это вас удивит, но вы мне нравитесь.
Я не знал, что на это ответить. Это меня и в самом деле удивило.
— Ключ от машины еще у вас?
— Зачем он вам?
Лицо у него словно скомкалось, нос внезапно показался очень тонким и резко очерченным.
— Она не повезет меня к воде.
— Ну и что?
— Я никогда не бывал на море.
— Быть не может!
— В детстве как-то не получилось. Потом это перестало меня интересовать. В Ницце я хотел видеть только Матисса. Все думал, еще успею. А теперь она меня туда не повезет. Вот и расплачиваюсь.
Я украдкой бросил взгляд на Мириам. Она стояла, прислонившись к изгороди, и нетерпеливо поглядывала на нас. Я осторожно достал из кармана ключ.
— Вы уверены? — спросил я.
— Уверен.
— Точно?
Он кивнул Я подождал еще секунду. Потом нажал на кнопку, и все дверцы со щелчком закрылись. Я вставил ключ в замок и включил зажигание. Мириам бросилась к нам и схватилась за ручку дверцы. Пока мы трогались с места, она беспомощно дергала за нее; когда я прибавил скорость, она стукнула кулаком по стеклу, ее губы произнесли какое-то слово, которого я не разобрал, она пробежала рядом с нами еще несколько шагов, потом я заметил в зеркале заднего вида, как она остановилась, опустив руки и глядя нам вслед. Вдруг мне стало так ее жалко, что я едва не затормозил.
— Не останавливайтесь! — приказал Каминский.
Перед нами протянулась улица, мимо пролетали дома, вот исчезла из виду деревня. Мы ехали мимо неогороженного поля.
— Она знает, куда мы едем, — сказал он. — Возьмет такси и отправится в погоню.
— Почему вы ничего не рассказали мне о Баринге?
— Мы с ним говорили только о Париже и о бедняге Рихарде. На вашу долю приходится все остальное. Вам же этого хватит.
— Нет, не хватит.
Шоссе описало плавную кривую, вдалеке показался искусственный свод дамбы. Я выехал на обочину и затормозил.
— В чем дело? — спросил Каминский.
— Подождите минуту, — попросил я и вышел.
Позади виднелись очертания деревенских домов, впереди возвышалась дамба. Я раскинул руки. Пахло водорослями, дул очень сильный ветер. Значит, мне не суждено прославиться. Не будет ни книги, ни штатной должности, — ни у Ойгена Манца, ни в другом журнале. У меня больше нет квартиры, нет денег. Я понятия не имел, куда идти. Я глубоко вздохнул. Почему же так легко на душе?
Я снова сел в машину и завел мотор. Каминский теребил очки.
— Знаете, как часто я воображал, что вот приеду к ней?
— «Кто хочет стать миллионером», — негодовал я. — Бруно и Уве. Господин Хольм и его травяные экстракты.
— А еще этот восход солнца.
Я кивнул и вспомнил эту сцену: гостиную, обои, болтовню Хольма, добродушное лицо старушки, картину в прихожей.
— Постойте. Откуда вы это знаете?
— Что — «это»?
— Вы прекрасно меня поняли. Откуда вы знаете про картину?
— Ах, Себастьян…
XIII
ебо затянула паутина тонких облаков. Море вдоль берега было серым, а ближе к горизонту почти серебристым. В песке торчал покосившийся тент, в сотне метров от нас мальчишка запускал змея, вдалеке волочил за собой поводок потерявшийся спаниель; ветер иногда доносил до нас его лай. Мальчик вцепился в бечевку, полотняный четырехугольник трепало ветром, казалось, его вот-вот разорвет. Над водой протянулся деревянный причал, к которому летом, наверное, приставали лодки. Каминский осторожно шел, держась за меня, с трудом сохраняя равновесие, на ботинки налипал песок. Под ногами похрустывали осколки раковин. Пенные гребни волн кидались к нам, прокатывались по песку, отступали.
— Хочу сесть, — сказал Каминский.
Он снова надел халат, ветер трепал измятую ткань вокруг его тщедушного тела. Я поддержал его, он осторожно опустился на песок. Подобрал ноги и положил рядом трость.
— С трудом верится. Мог ведь умереть, не побывав здесь.
— Вы еще долго проживете.
— Вздор! — Он откинул голову, ветер шевелил его волосы, высокая волна обдала нас брызгами. — Я скоро умру.
— Мне нужно… — Я с трудом перекрикивал шум прибоя. — Мне еще нужно вернуться. За чемоданами.
— Там у вас что-то важное?
Я задумался. Рубашки, штаны, белье и носки, ксероксы статей, ручки, карандаши, бумага, несколько книг.
— Да ничего у меня нет, ничего не осталось, так, все пустое.
— Бросьте вы все это.
Я уставился в стекла его очков. Он кивнул.
Я повесил на плечо сумку и медленно зашагал к причалу. Взошел на доски, они заскрипели под ногами, добрался до его конца.
Достал диктофон. Посмотрел на него, повертел в руках, включил и снова выключил. Потом швырнул его в воду. Он всплыл поблескивающим пятнышком, казалось, на какое-то мгновение замер и еще немного приподнялся на волнах. Потом он погрузился в воду и исчез. Я потер глаза. На губах я ощущал вкус соли. Расстегнул сумку.
Выбросил первую аудиокассету, но она отлетела недалеко, наверное, была слишком легкой. Следующую я уже и не пытался отшвырнуть, еще одну просто уронил, наклонился и смотрел, как она плавает на поверхности воды еще несколько секунд, как ее подхватывает волна, как другая волна ее накрывает и как она тонет. Некоторые продержались на воде дольше. Одну кассету почти прибило к берегу; ее едва не вынесло на песок, но потом на нее обрушилась волна, и она тоже исчезла.
Я глубоко вздохнул. На горизонте проплывал сухогруз, я различал палубные надстройки, длинную стрелу крана, кружащиеся точки — стаю чаек, следовавшую за кораблем. Достал блокнот.
Перелистал его. Страницы, сплошь исписанные моим неразборчивым почерком; заложенные между ними десятки ксерокопий из книг и старых газет, то тут, то там подчеркнутые красным фломастером буквы М. К. Вырвал первый лист, скомкал его и бросил. Вырвал второй, скомкал его и бросил, вырвал следующий. Вскоре на волнах рядом со мной закачались белые шарики. Мальчишка догнал змея и теперь наблюдал за мной.
В нагрудном кармане я нащупал еще один листок бумаги: путаница линий, между которыми, сейчас я отчетливо это видел, выделялась человеческая фигура. Снова убрал листок в карман. Вытащил, посмотрел на него и снова убрал. Вытащил и бросил, волны тотчас же его поглотили. Мальчик взял змея под мышку и ушел. Сухогруз глухо загудел, над ним поднялся невысокий столб дыма, изменил контуры на ветру, поблек. Одежда на мне пропиталась влагой, постепенно я стал замерзать.
Вернулся на берег. Спаниель подбежал ближе. Может быть, кто-нибудь его ищет? Опустевшая сумка болталась у меня на плече, и в ней одна камера.
Камера?
Я остановился, достал ее и взвесил на ладони. Цикл его последних работ. Я положил большой палец на кнопку, осталось только нажать на нее, чтобы открыть заднюю крышку и засветить пленку.
Я заколебался.
Мой большой палец точно сам по себе отдернулся. Медленно я снова убрал камеру. Завтра — тоже день, успеется; будет время подумать. Я подошел к Каминскому и присел рядом с ним.
Он протянул руку:
— Ключ!
Я вложил в нее ключ от машины.
— Передайте ей, что я очень сожалею.
— Которой из двух?
— Обеим.
— А что вы сейчас собираетесь делать?
— Не знаю.
— Хорошо!
Вдруг я невольно рассмеялся. Тронул его за плечо, он вскинул голову, на мгновение его ладонь легла на мою.
— Удачи, Себастьян.
— Вам тоже.
Он снял очки и положил их на песок рядом с собой.
— И всем на свете.
Я встал и медленно побрел прочь, преодолевая поскрипывающее сопротивление песка. Каминский протянул руку, пес неуклюже протрусил к нему и стал обнюхивать. Я отвернулся. Как много предстояло решить. Небо было низкое, необозримое, волны понемногу смывали мои следы. Начинался прилив.
Примечания
1
И.-В. Гете. Фульский король. Перевод Б. Пастернака.
(обратно)2
Вы тот самый писатель? (англ.).
(обратно)3
Думаю, да (англ.).
(обратно)4
Насколько я знаю, у вас скоро выйдет новая книга. Как она называется? (англ.).
(обратно)5
Страхи лжеца (англ.).
(обратно)6
Гениально! Пришлите ее мне, я ее отрецензирую! (англ.).
(обратно)7
Как будто учится (англ.).
(обратно)8
Роберт, расскажите нам о своем романе (англ.).
(обратно)9
Я бы не рискнул назвать его романом, это непритязательный триллер для неискушенных душ. Один человек совершенно случайно узнает, что женщина, которая ушла от него много лет назад… (англ.).
(обратно)10
Поразительно! (англ.).
(обратно)11
Написано слепым (англ.).
(обратно)12
Мир жаждет быть обманутым (лат.).
(обратно)13
Не заблудитесь! (фр. и англ.).
(обратно)14
Что вы здесь делаете, мсье? (фр.).
(обратно)15
Глаза, искривленный рот: чье-то лицо, странно искаженное, точно отражение в текущей воде. — Цикл автопортретов Каминского представляет собой любопытные вариации на тему соотношения личности и личины, маски, тщательно утаиваемого и лежащего на поверхности. В западноевропейской живописи подобная традиция связана прежде всего с именем Рембрандта, запечатлевшего себя в самых разных ракурсах и обликах, от беззаботно пирующего Блудного Сына, не догадывающегося о том, что уготовила ему судьба («Автопортрет с Саскией на коленях», ок. 1635), до нищего и безумца с искаженным странной гримасой лицом на гравюрах 1630–1640-х гг. и старика на предсмертных автопортретах 1668–1669 гг.
В связи с описанным в романе циклом автопортретов Каминского наибольший интерес представляют последние автопортреты Рембрандта, на которых он предстает то отрешенным и покорным судьбе стоиком, то исполненным отчаяния и горечи, с улыбкой полупомешанного, в ожидании мучительного конца («Автопортрет с гермой бога Термина», 1663–1665).
В XX в. многочисленные образцы пронзительных, приоткрывающих тайну личности автопортретов оставил Пикассо, несколько позднее — Люсьен Фрейд.
(обратно)16
Смотри! (англ.).
(обратно)17
Ведь она такая душка… (англ.).
(обратно)Комментарии Веры Ахтырской к роману «Я и Каминский»{27}
1
Эпиграф представляет собой трогательное самовосхваление Джеймса Босуэлла (1740–1795), биографа знаменитого английского писателя, стихотворца, драматурга, критика, лексикографа Сэмюэла Джонсона (1709–1784).
На протяжении десятилетий Босуэлл в двух получивших широкую известность книгах — «Дневник» (1785) и «Жизнь Сэмюэла Джонсона» (1791) — фиксировал едва ли не все высказывания Джонсона, от философски глубокомысленных и утонченно остроумных до комических и парадоксальных. Имя Босуэлла стало нарицательным обозначением педантичного, дотошного и не всегда доброжелательного биографа, жадно ловящего любые подробности жизни описываемого им лица. Эпиграф в ироническом ключе предвосхищает основную психологическую коллизию книги, повествующей об отношениях художника и его невежественного, бездарного и самодовольного биографа. Одновременно он отсылает к роману Владимира Набокова «Бледное пламя» (1962), строящемуся на столкновении точек зрения автора и биографа — в данном случае гениального американского поэта Джона Шейда и его комментатора, причудливого безумца Чарльза Кинбота, — и, кроме того, Набоков в качестве эпиграфа также использует непроизвольно комическую цитату из Босуэлла.
(обратно)2
Баринг Ханс. — Столь ненавистный герою романа художественный критик Ханс Баринг — это биограф знаменитого писателя Анри Бонвара, сделавший неплохую карьеру в рассказе Даниэля Кельмана «Под солнцем» (1998), а в романе «Я и Каминский» обратившийся к жизнеописанию художников.
(обратно)3
Брак Жорж (1882–1963) — французский живописец и график, поначалу приверженец фовизма, впоследствии ставший наряду с Пикассо одним из основоположников кубизма.
В 1900–1910-х гг. предпочитал почти монохромные композиции («Натюрморт с музыкальными инструментами», 1908; «Гитара и ваза на высокой ножке», 1909; «Португалец», 1911; «Женщина с гитарой», 1913), постепенно отходя от кубизма к абстрагированию форм. Широко применял технику коллажа («Гитара и кларнет», 1916) и сочетание различных живописных техник: гуаши, угля, масла, — в пределах одной работы.
К началу 1920-х гг. перешел к полихромным композициям с более выраженным декоративным началом («Гитара, кувшин и фрукты», 1927; «Черные рыбы», 1942; «Лежащая женщина», 1930–1952; «Аякс», 1949–1954; цикл «Птицы» 1950-х гг.).
В конце жизни много занимался литографией и росписями (церковь в Асси, плафоны залов в Лувре), писал главным образом натюрморты, отличающиеся сложным совмещением пространственных планов, изяществом линий, насыщенностью тона.
(обратно)4
Вермеер Ян (1632–1675) — знаменитый голландский художник, автор жанровых картин и пейзажей.
Его упоминание в тексте романа не случайно: как и Латур, Вермеер был непревзойденным мастером поэтической трактовки образов неприметных, но загадочных в своей самоуглубленности вещей. Под его кистью оживали стекло или хрусталь бокалов, бархат тяжелых драпировок, сине-белый дельфтский фаянс, неодушевленные предметы, обретая множество тончайших оттенков смысла, казались более одухотворенными и таинственными, чем взаимозаменяемые персонажи картин.
Вместе с тем картины Вермеера, при внешней сюжетной незамысловатости, таят в себе ряд загадок, будь то построение перспективы с помощью «камеры-обскуры», прием «картины в картине» или эффект обмана зрения. Описание некоторых картин Каминского позволяет говорить о том, что Вермеер, как и Латур, оказал на его творчество определенное влияние.
(обратно)5
Каминский Мануэль. — Имя Мануэля Каминского впервые упоминается в романе в связи с одной из его наиболее характерных работ — «Натюрмортом с пламенем и зеркалом» (видимо, из подробно описанного ниже цикла «Отражения»). Не прообразами могли послужить произведения знаменитого французского художника Жоржа де Латура (1593–1652), автора жанровых картин и полотен на религиозные сюжеты, тяготевшего к желто-красной палитре, утонченным свето-воздушным и зеркальным эффектам, необычным контрастам света и тени, таинственному ночному освещению. Пламя (как правило пламя свечи) и зеркало — своего рода лейтмотивы картин Латура.
Среди «прототипов» работ Каминского можно назвать такие картины Латура, как «Иов и его жена» (начало 1630-х гг.), «Женщина, ловящая блоху» (1630–1634), «Мария Магдалина у зеркала» (ок. 1635) (эта картина световыми и зеркальными эффектами весьма напоминает натюрморт Каминского), «Магдалина с двумя свечами» (1640-е гг.), «Покаяние святого Петра» (1645).
Кроме теплого колорита, световых рефлексов, зеркальных отражений, Латура и Каминского объединяет пристальное внимание к детали, своеобразное «оживление» неодушевленных предметов: достаточно вспомнить раннюю картину Латура «Старуха» (1618–1620-е гг.), которую хочется назвать «портретом передника» — с таким наслаждением выписаны складки и кромка белого атласа, из которого сшит передник старухи, или «Старых крестьян за трапезой» (1620-е гг.), где Латур добивается почти осязаемого эффекта в живописном изображении ткани и волос. Судя по описанию картин Каминского, ему было свойственно столь же трепетное отношение к незначительным, на первый взгляд, подробностям изображаемого им мира: недаром его воспитывал великий поэт Рихард Риминг, прообразом которого послужил Райнер Мария Рильке.
(обратно)6
Риминг Рихард. — В странном, отрешенном, погруженном в себя Рихарде Риминге узнается знаменитый австрийский поэт Райнер Мария Рильке (1875–1926). Правда, у Даниэля Кельмана Риминг — Рильке умирает в 1939 г., но в остальном сходство не оставляет сомнений.
Даже стиль писем, отправленных Римингом Каминскому-школьнику, напоминает некоторые страницы романа Рильке «Записки Мальте Лауридса Бригге» (1909), хотя у Кельмана они окрашены чуть иронически.
(обратно)7
Цикл «Отражения». — В западноевропейской живописи существует давняя и богатая «зеркальная» традиция.
Кроме уже упоминавшегося Латура, ей отдали дань, в частности, такие живописцы, как Ян ван Эйк в одной из самых знаменитых своих картин — «Портрете четы Арнольфини» (1434), Квинтен Массейс — в «Меняле с женой» (1514). На обеих картинах зеркала словно бы случайно запечатлели персонажей, не показанных на полотне.
С зеркалами экспериментировали и итальянские маньеристы, в том числе Пармиджанино, написавший утонченный и загадочный «Автопортрет в выпуклом зеркале» (1523), и Караваджо, по мнению исследователей пользовавшийся зеркалами для изображения некоторых своих моделей и виртуозно игравший с зеркальными эффектами: так, целая комната, причудливо искажаясь, отражается в стеклянном кувшине на переднем плане эрмитажного «Лютниста» (1595) (впрочем, некоторые искусствоведы считают его «Лютнисткой»).
Наконец, нельзя не упомянуть о едва ли не самых известных опытах в «зеркальном» жанре — «Венере с зеркалом» (ок. 1650) и «Менинах» (1656) Веласкеса. Открытку с репродукцией «Менин» можно рассмотреть в зеркале на одном из полотен Каминского цикла «Отражения», и это трудно счесть случайностью.
Вероятно, Каминского, как и его предшественников, в «зеркальных» сюжетах привлекала возможность средствами живописи трактовать тему истинного и мнимого, тождества, сходства и инакости, двойничества и призрачности, таинственности того, что представляется поверхностному взгляду очевидным.
(обратно)8
Бретон Андре (1896–1966) — французский писатель и художник, основоположник сюрреализма, создатель теории «автоматического письма».
Под влиянием психоанализа Фрейда разработал так называемый метод свободных ассоциаций, в воплощении которых должно заключаться создание стихотворения. Полагал, что истинная поэзия выходит за рамки рассудочных представлений, подчеркивал галлюцинаторно-сновидческое начало поэтического творчества, пытался интегрировать в поэзию бред, словесные ассоциации безумцев. Занимался проблемами художественного языка. По мнению Бретона, истинный поэтический язык способно создать лишь воображение сновидца, наделенного эзотерическим знанием.
(обратно)9
«Прохожий влек за собой свой расплывающийся силуэт, горы поглощало месиво облаков, башня… делалась прозрачной под напором слишком яркого фона, проступающего сквозь ее контуры… окно оказывалось солнечным бликом, деталь… каменной кладки превращалась в причудливой формы облако…» — Трудно сказать, существуют ли реальные «прообразы» пейзажей Каминского, где все предстает внимательному зрителю не тем, чем казалось на первый взгляд.
Можно предположить, что отчасти они навеяны работами голландского художника Маурица Корнелиса Эшера (1898–1972), знаменитого своими графическими размышлениями на темы бесконечности, пустоты, мнимости видимого. Хотя Эшер, в отличие от Каминского, предпочитал технику черно-белой гравюры, его не слишком занимало колористическое решение. На гравюрах Эшера 1930–1960-х гг. «Бельведер», «Восхождение и спуск», «Другой мир», «Водопад», «Дом лестниц», «Рисующие руки», отличающихся странной, завораживающей орнаментальностью, причудливо искажаются пространственные отношения, зримая действительность обнаруживает свою призрачность и оказывается чем-то напоминающим ленту Мёбиуса: вода течет по кругу вниз и вверх, лестницы образуют таинственный круг вне и внутри здания, незаметно для зрителя нарушается перспектива, загадочные замки предстают словно бы в кривом зеркале, одна рука, вырастающая из пустоты белого листа, рисует другую, также порожденную белоснежной плоскостью листа и в свою очередь рисующую первую, словно бы замыкая круг.
Вместе с тем очевидно, что ни реально существовавший Эшер, ни вымышленный Каминский, с их обостренным вниманием к оптическим иллюзиям и мнимой безжизненности неодушевленных предметов, не пренебрегли опытом голландских художников XVII в., работавших в жанре «trompe l’oeil» — картины-обманки. Наиболее любопытные образцы подобных картин-натюрмортов, писавшихся, как правило, на деревянной доске и производящих эффект объемного трехмерного изображения, оставил Самюэль ван Хогстратен (1627–1678). В своих натюрмортах-обманках, чаще всего изображающих принадлежности живописца, Хогстратен добился удивительного воспроизведения почти осязаемой фактуры ткани, волосков кисти, пористой губки, выпуклых головок гвоздей, якобы вбитых в поверхность доски.
Кроме того, и Хогстратен, и его современники Вермеер, Питер де Хох (1629–1684) и Карел Фабрициус (1622–1654) экспериментировали с построением перспективы при помощи «камеры-обскуры», мастерски используя в своих жанровых и пейзажных работах необычные композиционные эффекты. Пожалуй, в этом смысле наиболее близок Каминскому ученик Рембрандта и учитель Вермеера Карел Фабрициус, автор на первый взгляд реалистических, странных, завораживающих полотен с загадочной, «сновидческой» перспективой, созданной при помощи особых выпуклых линз в «камере-обскуре» и обособления переднего и заднего планов, — «Вид Дельфта с лавкой музыкальных инструментов» (1652), «Караульный» (1654). Видимо, описанные здесь в романе картины Каминского точно так же убаюкивали воображение неискушенного зрителя мнимой традиционностью, чтобы затем ошеломить медленно проступающей из-под спуда конкретных деталей иллюзорностью.
Кроме того, не исключено, что «прототипами» пейзажей Каминского послужили работы англо-израильского художника, выходца из России Исраэля Зохара (р. 1945) — автора задумчивых и тонких портретов, часто обращавшегося к сюжетам и живописным приемам старых мастеров. В 1970-е гг. Зохар показал балансирующий на грани искусства и китча и вызвавший неоднозначную реакцию критики цикл под названием «Отражения: дань памяти Вермеера» (курсив наш. — В. А.), в котором представил картины знаменитого дельфтского живописца, словно бы раздробив их на отдельные детали и собрав заново, как цветные стеклышки калейдоскопа, в сочетании с подробностями своих собственных пейзажей.
(обратно)10
Ольденбург Клас (р. 1929) — американский художник шведского происхождения, представитель поп-арта, автор объектов и инсталляций из различных материалов, муляжей из скоропортящихся продуктов питания и тому подобных произведений в жанре «визуального искусства» («Гигантская трубочка мороженого», «Гигантский комплект мягких барабанов», «Мягкая пишущая машинка», «Гигантский тюбик губной помады на гусеницах», установленный в кампусе Йельского университета), композиций из антропоморфных картонных фигур. Один из зачинателей проведения хэппенингов. Легко вообразить, как относился к его творчеству Каминский.
(обратно)11
«…переплетающиеся потоки, в которых, стоило чуть отойти от картины или прищуриться, внезапно обнаруживались дотоле скрытые широко раскинувшиеся ландшафты: холмы, деревья, свежая трава под летним дождем…» — Последние двенадцать ярких, написанных темперой картин Каминского напоминают пейзажи японских художников, испытавших влияние дзэн-буддизма и разрабатывавших его эстетику, в частности таких, как Сэссон (1504–1589), Хасэгава Тохаку (1539–1610), позднее художники и поэты Мацуо Басё (1644–1694) и Ёса Бусон (1715–1783). Запечатлевая в соответствии с канонами дзэн-буддизма мгновенное состояние бренного видимого мира, заключенного в беспредельном пространстве, перечисленные художники создавали возвышенные и лаконичные пейзажи с громоздящимися в облаках или теряющимися в тумане горами, одинокими деревьями, проступающими из прозрачной дымки. Правда, в отличие от Каминского, они чаще пользовались тушью и тяготели скорее к монохромным композициям. Тем не менее лаконично-эскизный, скупой стиль композиций, нарочитая невыписанность деталей и недоговоренность целого, прием письма насыщенной влагой кистью, оставляющей мягкие размывы, на первый взгляд случайные потеки краски или туши, создающие воздушную дымку и глубину пространства, почти ничем не заполненный, «пустой» фон, благодаря которому пейзаж словно бы «скрадывается» бесконечностью и даже иногда не сразу узнается, позволяет говорить о том, что описанные в романе последние пейзажи Каминского сродни японским.
(Кстати, внешность Каминского, крошечного и невзрачного, его эксцентричная манера поведения — сочетание безумия, может быть нарочитого, и лукавства — напоминает святых, как их принято изображать в традиции дзэн-буддизма.)
Предположение, что последние пейзажи Каминского навеяны японской живописью, кажется не столь уж фантастическим, если вспомнить о том, что увлечению японским искусством отдал дань один из названных в тексте романа прототипов Каминского — Бальтюс.
(обратно)12
Бальтюс (вар.: Бальтус, наст. имя — граф Бальтазар Клоссовский де Рола, 1908–2001) — известный французский художник.
С детских лет увлекался живописью; за его успехами пристально следил знаменитый поэт Райнер Мария Рильке, поощрявший его первые опыты, подобно тому как Рихард Риминг в романе покровительствует юному Каминскому. Рильке написал французский текст к первой увидевшей свет серии рисунков тринадцатилетнего художника, посвященных загадочной природе кошек, и предложил ему псевдоним Бальтюс, под которым он впоследствии получил признание.
Ранние картины Бальтюса напоминают ранние символистские опыты Каминского: в частности здесь можно вспомнить о написанной Бальтюсом в 1922 г. картине темперой «Рыцарь, ангел и конь», навеянной «Явлением ангела рыцарю Штреттлингенскому» Пьеро делла Франчески (впрочем, интерес Бальтюса к творчеству таких мастеров итальянского Возрождения, как Пьеро делла Франческа, Джотто, Мазаччо, Паоло Уччелло, не ослабевал и впоследствии, когда он пережил юношеский период подражаний). В начале своего творческого пути во Франции он испытал влияние Пьера Боннара и Анри Матисса.
К 1930-м гг. создал собственный стиль. На протяжении всей жизни оставался приверженцем «предметной» живописи (хотя Каминский стал бы возражать против этого определения), отдавая предпочтение жанру обнаженной натуры и портрета.
Для картин Бальтюса характерна странная, тревожная «срежиссированность», их персонажи словно бы застыли в таинственных мизансценах, вырванных из сценического действия, точный смысл которого ускользает от зрителя. Бытовые сюжеты у Бальтюса словно преломляются в кривом зеркале, обретая непонятную напряженность. Его первым большим успехом стала жанровая картина 1933 г. «Улица» (с напоминающими манекены персонажами, отрешенно бредущими по узенькому переулку), как ни странно, вызвавшая восторг сюрреалистов, хотя, казалось бы, творческий метод Бальтюса, как и предметное искусство вообще, сюрреалистам должен был быть чужд (еще одна черта творческой биографии, роднящая Бальтюса и Каминского). С этого времени к Бальтюсу приходит известность, им восхищаются Жан Кокто, Альбер Камю, Брак, Пикассо, Альберто Джакометти, Федерико Феллини, его выставки получают благосклонные отзывы критики.
Он много работает как книжный иллюстратор и театральный художник, в частности оформляет спектакли Жана Кокто и Антонена Арто. Вращается в художественных кругах, по свидетельствам современников ни с кем по-настоящему не сближаясь, надменный и отстраненный. Вырабатывает собственный стиль, постоянно перевоплощаясь, как Протей, тяготея то к живописи итальянского Возрождения, то к японскому искусству, то к Хогарту или Курбе.
В 1930-е гг. создает проницательные и глубокие портреты («Хуан Миро с дочерью», «Леди Абди»). Начиная с 1930-х гг. и до последних дней писал обнаженную натуру, бесконечно варьируя образы загадочных, далеко не всегда «эльфических» и весьма двусмысленных девочек-нимфеток — перед зеркалом расчесывающих волосы, играющих друг с другом или с почти неизменно прокрадывающейся на его картины кошкой. Любопытно, что Владимир Набоков в одном из интервью, включенном в сборник «Твердые суждения» («Strong Opinions»), на вопрос журналиста о том, как можно представить себе Лолиту, ответил, что лолитоподобных созданий («Lolita-like creatures») писал Бальтюс. Наиболее известные его работы в этом жанре — «Окно» (1933), «Урок игры на гитаре» (1934), «Белая юбка» (1937), «Сцена в гостиной» (1942), «Спящая девочка» (1943), «Обнаженная перед зеркалом» (1957), «Кошка перед зеркалом» (1993) (девочка, играющая с кошкой на кровати), одним из любимых его сюжетов был «Художник и модель».
Иногда Бальтюсу случалось слышать в свой адрес упреки в китче и безвкусице, часто — в безнравственности. Так, «Урок игры на гитаре», одна из наиболее известных его картин, на которой обнаженная девочка изображена в неестественной позе на коленях учительницы музыки, была сочтена непристойной, запрещена к показу и увидела свет лишь спустя сорок лет после того, как была написана, — в 1977 г. Справедливым будет заметить, что некоторые работы Бальтюса действительно производят двусмысленное впечатление, словно в разгар детских игр в комнате незаметно появляется Гумберт Гумберт, неотрывно, жадным взглядом следящий за нимфетками.
Тем не менее, несмотря на неприятие чопорной частью рецензентов, Бальтюс получил признание не только в артистических, но и в официальных кругах, удостоился многих художественных премий, в 1964–1977 гг. возглавлял Французскую академию в Риме.
Последние годы жизни, борясь, как Матисс и Каминский, с надвигающейся слепотой, он провел затворником в швейцарском Россиньере, между Гстаадом и Монтрё. В этот период в связи с ухудшением зрения, как и Каминский, обратился к пейзажам. О нем заботилась дочь Харуми (от брака с японкой Седзуко Идета; вспомним «японскую» внешность Мириам, хотя здесь неизбежно возникает и призрак великого слепого писателя, которого водила по улицам Буэнос-Айреса трогательная японка Мария Кодама — его студентка, впоследствии жена).
(обратно)13
Фрейд Люсьен (р. 1922) — известный английский художник, родившийся в Германии, в каком-то смысле его можно считать еще одним прототипом Каминского.
Иногда его не совсем удачно характеризуют как живописца-реалиста лондонской школы. Знаменит своими портретами и работами в жанре обнаженной натуры, часто показанной ошеломляюще крупным планом.
Начинал как график, автор сюрреалистических натюрмортов, ниспровергатель классических традиций. Вращался в артистических, преимущественно гомосексуальных, кругах, где законодателем мод был Стивен Спендер.
Обратил на себя внимание авангардистскими работами, демонстративными выступлениями в защиту контр-культуры и в соответствии со своими программными заявлениями попытался сжечь художественную школу, в которой тогда учился.
В конце 1940-х гг. неожиданно проявил интерес к жанру портрета и с тех пор неустанно ищет верного, точного воспроизведения ускользающих деталей облика своих моделей («Человек с цветком чертополоха» («Автопортрет»), 1946; «Девушка с фиговым листом», 1947; «Нарцисс», 1948). Первый успех пришел к Люсьену Фрейду в 1951–1952 гг., когда его картина «Комната на Паддингтонском вокзале» («Портрет Гарри Даймонда в интерьере») получила первую премию на «Фестивале Британии» — Британской юбилейной выставке. Художественные критики с восхищением отзывались о любопытной по композиционному и колористическому решению картине с напряженной, даже зловещей темной фигурой молодого человека на заднем плане, с самодовольно занявшим передний план фикусом в горшке и сумрачным лондонским видом, открывающимся из окна. Эта картина ознаменовала перелом в творческой манере Фрейда, решительно обратившегося к предметной живописи, в частности к опыту живописцев-экспрессионистов с их контрастными светотеневыми эффектами и насыщенным тревожным цветом (здесь можно вспомнить замечательный пейзаж Фрейда в экспрессионистской манере «Фабрика на севере Лондона» (1972), со столкновением светло-, темно- и красно-коричневых тонов, хотя некоторые искусствоведы в связи с этой и подобными картинами Фрейда иронизируют по поводу «палитры с преобладанием оттенков грязи, впитавшей в себя лондонский туман»).
С начала 1950-х гг. и до сих пор создает глубокие, тонкие портреты («Девушка с белой собакой», 1952; «Портрет художника Фрэнсиса Бэкона», 1952; «Портрет Джона Минтона», 1952; «Автопортрет с двумя детьми», 1965).
В 1960-е гг. обращает на себя внимание серией ярких и самобытных «ню» — изображениями несовершенного и беззащитного в своей наготе женского тела, — одновременно безжалостными и загадочными, поскольку не дают забыть о печали и отрешенности лиц моделей.
В 1970-е гг. пробует писать обнаженных мужчин («Обнаженный с крысой», 1977). Наиболее известна выполненная Фрейдом в начале 1990-х гг. серия портретов Ли Баури, музыканта и художника-авангардиста, работавшего в жанре перформанса, трансвестита, с удовольствием эпатировавшего публику. На картинах Фрейда он предстает абсолютно обнаженным, чудовищно тучным, в обвисших складках жира, совершенно лысым, с неподвижным, остановившимся взглядом.
Впрочем, в связи с этими и подобными работами Фрейд неизменно говорит о том, насколько его привлекает возможность убедительно показать фактуру плоти и оттенки нездоровой кожи, подчеркивает, что изображение тела, далекого от традиционных канонов красоты, должно доставлять зрителю эстетическое наслаждение, и нередко лукаво добавляет, что его представления о воссоздании на полотне обнаженной натуры сложились под влиянием Тициана и Рембрандта, что по-своему верно.
С подобными острыми и неоднозначными «ню» (здесь можно вспомнить также недавнюю картину Фрейда «Сцена по мотивам Сезанна», 1999–2000) контрастируют его блестящие портреты в манере старых мастеров: «Групповой портрет в интерьере по мотивам Ватто», 1983–1985; гравюра «Голова Кэя», 1991–1992; «Отражение: автопортрет» (курсив наш. — В. А.), 1995; «Портрет Брюса Бернарда», 1996; серия портретов 1998 г. («Луиза», «Мужчина в серебристом костюме», «Голова ирландца»).
(обратно)14
Ансерме Эрнест (1883–1969) — швейцарский композитор и дирижер.
(обратно)15
Пиранези Джованни Баттиста (1720–1787) — итальянский гравер и архитектор. Развивал традиции барокко, испытывал интерес к античному зодчеству.
Сочетая в своей творческой манере офорт с резцовой гравюрой, добивался необычных светотеневых эффектов. Работал в жанре своеобразной «архитектурной фантазии», изображая реальные архитектурные сооружения с вымышленными деталями и тем самым создавая в своих работах странные, «сновидческие» монументы (в частности в цикле «Фантазии на тему темниц», 1745–1750).
(обратно)16
Хокни Дэвид (р. 1937) — известный англо-американский художник, график, гравер, фотограф, театральный декоратор. Приобрел известность как представитель поп-арта, автор кричаще ярких картин, в основном написанных акриловыми красками, напоминающих стилистикой нарочитого китча рекламные плакаты или иллюстрации в глянцевых журналах («Мужчина под душем», 1964; «Портрет Ника Уайлдера», 1966; «Поливка газона», 1967; знаменитая — на наш взгляд, незаслуженно — картина «Разлетающиеся брызги», 1967).
Увлекался творчеством Пикассо и Матисса. Впоследствии несколько изменил художественную манеру, сосредоточившись на передаче весьма скупыми средствами свето-воздушной среды, зеркальных эффектов («Чета Кларк и Перси», 1970; «Неоконченный автопортрет с лежащей моделью», 1977). Известен гравюрами к стихотворениям К. Кавафиса и сказкам братьев Гримм, а также декорациями к операм Моцарта, Пуччини, Вагнера.
В связи с картинами Каминского вспоминается прежде всего выполненная Хокни в 1970-е гг. серия натюрмортов на стеклянном столе, в зеркальной поверхности которого причудливо отражаются лежащие на нем предметы, а также отсылающий к «Менинам» Веласкеса «Автопортрет с родителями» (1970-е гг.), где сам художник видим лишь в зеркале, а на корешке стоящей на полке книги отчетливо различимо название — «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста.
Кроме того, Хокни принадлежит цикл любопытных графических работ и акварелей «в духе Каминского», воспроизводящих тени одного и того же предмета, запечатленного в разных ракурсах, и виды предметов, погруженных в воду.
(обратно)17
Гамрауниг, Гёшль, Ваграйнер — художники вымышленные.
(обратно)18
Кляйн (Клейн) Ив (1928–1964) — французский художник-абстракционист, представитель радикального авангарда, лидер «Новых реалистов». Работал в жанре монохромной живописи, перформанса, создания визуальных объектов.
Один из зачинателей концептуализма; требовал разрушения «музейной эстетики», выступая за внехудожественное начало и нарочитое неумение в искусстве. Разумеется, Каминский мог относиться к его творчеству только отрицательно.
(обратно)19
«…им овладело какое-то наваждение… Он стал писать бесконечные автопортреты, одержимый то ли ненавистью к себе, то ли нарциссизмом…» — Возможно, Каминский рассказывает Яне о Пикассо.
(обратно)20
Кватроченто (от ит. quattrocento — четыреста) — название 1400-х гг., начального периода итальянского Возрождения.
(обратно)21
Дега Эдгар (1834–1917) — один из наиболее ярких французских импрессионистов, автор портретов и жанровых сцен, написанных маслом и пастелью, тяготевший к нескольким повторяющимся сюжетам (репетиции балетных танцовщиц, скачки, обнаженная за туалетом), тонкий колорист, оригинальный мастер композиции.
(обратно)22
«Пейзаж с лугом» кисти Люсьена Фрейда ни в одном каталоге галереи Тейт нам обнаружить не удалось; очевидно, Даниэль Кельман лукавит.
(обратно)23
Дюшан Марсель (1887–1968) — французский художник, большую часть жизни провел в Америке. Прошел путь от последователя Сезанна к фовизму, затем кубизму, футуризму. Поддерживал тесные контакты с французскими дадаистами; разрабатывал стилистику шока (наиболее известные произведения — «Обнаженная, спускающаяся по лестнице 2», 1912; «визуальные объекты» «Велосипедное колесо», 1913; «Сушилка для бутылок», 1914; «Мона Лиза с усами и бородой»).
Один из основоположников жанра оптико-кинетической скульптуры и перформанса, своего рода предтеча поп-арта. В глазах Каминского, безусловно, не художник.
(обратно)24
Брынкуши (Бранкузи) Константин (1876–1957) — румынский скульптор-абстракционист. Работал главным образом в Париже. Автор портретов, символических, носящих обобщенный характер монументальных скульптур, надгробных памятников («Молитва», 1907; «Поцелуй», 1908).
В монументальном скульптурном комплексе в Тыргу-Жиу (Румыния) пытался синтезировать идеи абстрактного и фольклорного искусства.
(обратно)25
Тинторетто Якопо (наст. имя — Якопо Робусти) (1518–1594) — итальянский живописец эпохи Возрождения, представитель венецианской школы. В совершенстве владел рисунком, мастер светотеневых эффектов. В поздних работах тяготел к маньеризму. Часто изображал массовые сцены (которыми вполне мог воспользоваться для своих коллажей Квиллинг) с виртуозными пространственными построениями, асимметричными композициями, глубокими задними планами (картины на темы жития святого Марка, росписи Дворца Дожей в Венеции, живописные работы на античные сюжеты). В чем-то предвосхитил творческие искания Рембрандта.
(обратно)26
Джакометти Альберто (1901–1966) — швейцарский скульптор, живописец, график, основоположник так называемого «абсурдного спиритуализма». Весьма показательно, что его работы высоко ценили Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар. Наиболее известен скульптурами в духе сюрреализма «Женщина-ложка» (1926), «Идущий человек» (1932) (без головы), «Женщина с перерезанным горлом» (1932), «Нос» (1947) (сам по себе).
Несколько более любопытны его живопись и графика 1960–1970-х гг., в основном портреты и работы в жанре обнаженной натуры.
(обратно)27
P. S. Хочется надеяться, что Мануэля Каминского оценят по достоинству, наравне с такими талантливыми и оригинальными современными художниками, как Мод Шейд, Лэнг, Виктор Винд, Генри Бресли и недавно погибший в авиакатастрофе Джонатан Мосс.
Вера Ахтырская (обратно)

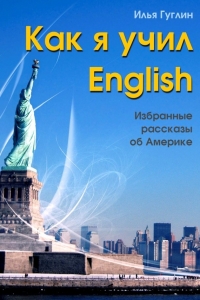



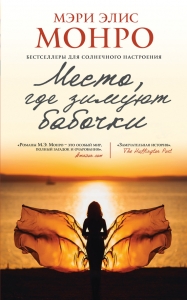



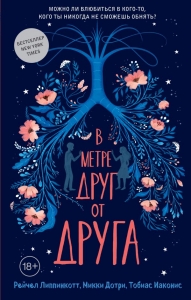
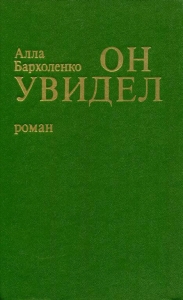
Комментарии к книге «Последний предел», Даниэль Кельман
Всего 0 комментариев