Меир Шалев Вышли из леса две медведицы
От переводчиков
«Я пишу, — говорит героиня нового романа Меира Шалева, — но свои рассказы показываю только родным, да и то не все».
Это не совсем точно. Теперь и мы можем прочесть рассказы Руты Тавори — нам их показал сам Шалев. В его романе добрую половину текста составляют рассказы, якобы написанные главной героиней. Но и другую половину написал как бы не он. Да и само название книги на иврите («Штаим дубим») тоже вроде бы не ему принадлежит, потому что заимствовано из Библии, даже грамматическая ошибка, которая есть в Библии, сохранена: не «Два медведя», а «Две медведя».
Не правда ли, все сказанное требует объяснения?
Попробуем объясниться в немногих словах.
Прежде всего, следует сказать, что новый роман Меира Шалева — мучителен. Разумеется, как всегда у Шалева, он замечательно написан, он неотрывно увлекателен, он искрится юмором, в нем живут и движутся мощно выписанные герои, его наполняют страсти — любовные в том числе; в общем, тем, кто читал прежние книги Шалева, этот перечень знаком, а тем, кто открывает этого автора для себя впервые, стоит только позавидовать. Но сверх всего этого новый роман задает такие мучительные нравственные вопросы, каких не задавала до сих пор ни одна книга Шалева. Мало того что это произведение поднимает самые глубинные, самые потаенные пласты человеческой души, все то в нас, в чем мы порой сами себе не признаемся, и делает это безжалостно, не считаясь с условностями литературы, — оно к тому же замешано на таких семейных тайнах и преступлениях, которые продолжают стоять перед нашими глазами и саднить нашу память еще долгое время после того, как мы закрываем последнюю страницу. Именно последнюю, потому что главную ужасную сцену — и главный нравственный вопрос — автор приберег на самый конец книги, и, закрыв ее, вы уже не сможете от нее отделаться, пока не найдете убедительный (может быть, точнее сказать: успокоительный) для себя самого ответ на этот вопрос.
Во-вторых, следует предупредить также, что новая книга Шалева не только мучительна (а значит — и очистительно трудна) для души, но еще и виртуозно сложна в своем сюжете. Прежние книги Шалева тоже отличались виртуозной сложностью сюжетной конструкции. Автор играл со временем, иной раз возвращая нас к прошлому, где еще не произошло что-то нам уже известное, иной раз забегая дальше своего рассказа, откуда только и становится понятным то, что прежде понятным лишь казалось, а порой еще и прослаивал эту игру «рассказами в рассказе», которые на вид были абсолютно чужды основному повествованию — но только на вид, потому что на деле все шло в дело и все получало свое место в общей картине, разве что картина эта возникала лишь по прочтении всего произведения. Но в своем новом романе Шалев добавляет к этим сложностям еще одну: как уже сказано, добрая половина глав имеют особые названия, и это дает понять, что перед нами — эпизоды семейной истории, сочиненные героиней книги, школьной преподавательницей Рутой Тавори. Прием по-своему замечательный, ибо в своих рассказах учительница Рута многое объясняет нам в сюжете, но в то же время мы понимаем, что многое из ею рассказанного она знать никак не может, а потому полностью ей доверять трудно, и нам остается только гадать, что же было «на самом деле»? Это хорошее, волнующее литературное ощущение. Потому что, как говорит сама героиня: «Однозначная истина скучна даже самой себе».
Ну а другие главы, те, что просто так и названы «Глава такая-то… глава такая-то»? А это тоже не я, подмигивает нам автор, это — запись интервью, которые некая исследовательница истории еврейских поселений Варда Канетти якобы берет у героини книги, Руты Тавори, и в которых Рута рассказывает о себе и своей семье. Судя по репликам интервьюера, Варда не очень-то понимает психологические глубины человеческих отношений, о которых предельно точно и захватывающе интересно, то исповедально, то саркастически насмешливо говорит Рута, но мы, восторженно понимающие, можем забыть о Варде и лишь благодарить героиню — и автора — за острое интеллектуальное наслаждение.
Есть в этой шалевовской конструкции и еще одна особенность. В некоторых интервью Руты Тавори мы снова сталкиваемся со многими событиями, уже известными нам по сочинениям самой Руты, но увы: в ее интервью они, эти события — или их мотивации и причины, — выглядят иначе, чем в ее же рассказах. И этот авторский прием заставляет нас снова и снова возвращаться к извечному «пилатовскому» вопросу: «Что есть истина?» Благодаря этим «столкновениям истин» Шалев ухитряется, счастливо избегая обычных схем детективного рассказа (или с удовольствием разрушая их), сделать чтение своей книги не только мучительным нравственным вопрошанием и не только напряженным интеллектуальным приключением, но еще и радостным литературным переживанием.
А теперь, соединив все сказанное, легко сообразить, что Рута Тавори, голос которой мы слышим и в главах-интервью, и в главах, именуемыех ее рассказами, оказывается сквозным повествователем всей книги (включая ее, книги, дополнительного подарка читателю в виде трех прелестных детских сказок). Вообще-то все прежние книги Шалева тоже были написаны от первого лица, то есть их всегда рассказывали главные герои, но на сей раз писатель впервые рискнул передать свои авторские права не мужчине, а женщине. Вплоть до права говорить о самых интимных (физиологических и даже сексуальных) женских переживаниях. Дерзкий — и, кажется, редчайший — литературный эксперимент!
Зачем он это сделал — загадка. Впрочем, Шалев, говоря словами поэта, издавна «ранен женской долей», и все самые симпатичные ему герои его книг — это сильные, высокие, мужественные (и красивые) женщины. Но ни одна из них доселе не получала главного слова в его книгах, где рассказчиками всегда были герои-мужчины, так что, возможно, он просто погашает старую-старую задолженность. Правда, можно думать и иначе. Можно думать, что у героя-рассказчика нового романа есть и другое, более важное назначение, нежели просто быть «голосом женщины». Ибо, закрывая книгу, мы отчетливо ощущаем, что нам рассказали не одну, а две параллельные истории семьи Тавори. Одну — реальную — историю своей семьи рассказала Рута Тавори в интервью, а другую — своего рода «миф семьи Тавори» — она же создала в своих рассказах. И взаимное отражение этих двух параллельных историй в непрерывно чередующихся главах позволяет автору создать мощное движение сюжета, которое до последних страниц держит в напряжении читателей романа, ибо его главная сцена, как уже сказано, отнесена на самый конец.
Но тут мы уже подходим к той границе, за которой предисловие грозит превратиться в пересказ. И, не желая лишать читателя удовольствия прочесть роман и подумать самому, мы лучше последуем примеру мудрой Шахразады: прекратим дозволенные речи и передадим слово самому автору — Руте Тавори, alias Меир Шалев.
Глава первая Телефонный разговор[1]
Звонит мобильник. Высокий, плотного сложения парень смотрит на высветившийся на экране номер и поворачивается к женщине, с которой обедает.
— Мне нужно ответить, — говорит он. — Я мигом обратно.
И направляется к двери, на ходу пытаясь втянуть небольшой животик. Он еще не свыкся с этим приобретением, и живот всякий раз удивляет его заново — то в зеркале, над поясом, то под взглядами подруги, когда он трудится над ее телом.
— Алло?
— Я насчитал девять гудков, — отзывается в трубке знакомый голос. — Ты заставляешь себя ждать.
— Извини. Я в ресторане, пришлось выйти…
— У нас проблема.
— Я слушаю.
— Я тебе растолкую, осторожно и с умом, а ты постарайся отвечать мне в том же духе.
— Ладно.
— Помнишь нашу прогулку на природе?
— Сегодня утром?
— Что я тебе только что сказал? Осторожно и с умом. Никаких дат, никаких дней, никаких часов.
— Извини.
— Славная вышла прогулка…
Молчание.
— Ты что, не слышишь? Я говорю: славная вышла прогулка…
— Нет, я слышал.
— Но ты же не ответил!
— Потому как ты велел отвечать осторожно и с умом. Так что я мог ответить?
— Что это за обороты у тебя — «потому как»?! Как ты позволяешь себе так выражаться? Положено говорить «потому что»!
— Хорошо.
— Что уж тут хорошего. Повтори за мной: «Потому что ты велел».
Парень снова пытается втянуть живот, но тут же расслабляет пояс:
— Потому что ты велел. Так что я мог ответить?
— Ты мог сказать, согласен ты с тем, что я сказал, или не согласен.
— С чем согласен?
— Что получилась славная прогулка.
— Я согласен. Мы славно погуляли.
— Сразу бы так! Ты уже второй раз заставляешь меня ждать. Первый раз с гудками, теперь с ответом.
— Извини.
— Впредь не заставляй меня ждать, никогда, ты понял?
— Ладно.
— Помнишь то место, вроде трона, где мы сидели в конце прогулки?
— А как же! В том вади[2], под здоровенным харувом![3]
— Слушай, я же сказал тебе: «Осторожно и с умом»! Никаких дат, никаких имен, никаких названий!
— Но я ж никого и не называл!
— Но ты сказал «харув», не так ли?
Парень осторожно сжимает правую ладонь и смотрит на нее. Ладонь обмотана белым бинтом, и наружу выглядывают только кончики пальцев. Его маленькие, близко посаженные глазки на миг закрываются, но тут же распахиваются снова, словно от внезапного укола боли. Она всегда просыпается, когда припоминают минуту ее рождения. Сейчас я вижу его в своем воображении: он стоит возле ресторана, смотрит вниз, на сапоги, потом чуть приподымает левую ногу и протирает правой брючиной блестящий квадратный носок левого сапога.
И я слышу голос его собеседника в трубке:
— Добро бы ты сказал только «харув» — ладно, Бог с тобой. И даже только «здоровенный» — тоже не страшно. Но сказать «здоровенный харув» — и существительное, и прилагательное вместе — это же все равно что поднести людям готовенькое на тарелочке. Приятного вам аппетита, ешьте на здоровье. Не просто дерево, а харув. Не просто харув, а очень большой харув. И не просто очень большой харув, но очень большой харув в вади. Такое описание весьма сужает поиск. Люди придумали язык, чтобы всем было ясно. Но для нас с тобой все то, что всем ясно, это очень плохо, ты меня понял?
— Да. Извини.
— Хватит извиняться. Просто прими во внимание.
— Ладно.
— Хорошо. Теперь к делу. Дело в том, что мы там кое-что забыли.
— Ту газовую горелку, на которой ты готовил чай?
— Нет, кое-что поважнее.
— Ложечку для сахара?
— Стали бы мы разговаривать из-за ложечек! Подумай хорошенько и припомни. Хоть один раз используй мозги по назначению. Даже самый крохотный мозг может кое-что сообразить, если его правильно задействовать. Но когда припомнишь, не говори, что это. Скажи только: «Я понял, что ты имеешь в виду».
— Сейчас подумаю.
Молчание.
— Ты опять заставляешь меня ждать?!
Молчание.
— Вспомнил! Я понял, что ты имеешь в виду.
— В таком случае съезди туда снова, поищи там, найди это и принеси.
— Как срочно?
— Если кто-нибудь найдет это раньше нас, будет очень плохо.
— Уже несусь, только фонарь прихвачу.
— Безнадежный случай, вот что ты такое! Безнадежный случай. Сначала «потому как», теперь «несусь». Несутся только курицы. Люди не несутся, люди едут. Скажи: «Я уже еду». Когда я наконец услышу от тебя хоть одно правильное выражение?
— Я уже еду.
— И перестань меня раздражать.
— Извини.
— Только не вздумай появляться там в такое время с фонарем! Сейчас уже темно. Кто-нибудь может издали заметить твой фонарь. Лучше встань с утра пораньше.
— Что значит «с утра»?
— Пораньше. На рассвете. И не оставляй машину в нашем обычном месте. Найди другую парковку и пройди чуток пешком, придешь туда с первым светом и сможешь спокойно поискать.
— Ладно.
— Как твоя рука?
— В порядке.
— Болит?
— Уже меньше.
— Ты сменил повязку?
— Еще чего не хватало!
— Ты только не заболей нам бешенством.
— Вот еще!
— И распусти наконец свой живот. Я прямо чувствую это издалека. Ну, йала[4], сплавь свою подружку, а сам отправляйся спать. Тебе завтра рано вставать. Незачем ей знать, когда ты вышел.
Глава вторая Сборы
1
Какой тяжелой обещает быть месть и как просты и будничны приготовления к ней! Жене человека, готовящегося сейчас к мести — той женщине, что стоит за его спиной, подмечая и понимая все мельчайшие детали его действий, — его сборы напоминают приготовления к обычной прогулке, вроде тех, на которые они вдвоем отправлялись в былые годы: та же энергичная утряска рюкзака, с радостью вернувшегося из чердачного изгнания, та же проверка шнурков в дорожных ботинках, уже потерявших было всякую надежду, тот же придирчивый смотр, устроенный пуговицам рабочей блузы.
Но она замечает и различия: вместо тех вкусных вещей, которые он брал на их былые прогулки, чтобы побаловать ее на привале, теперь он готовит еду простую и грубую — несколько кусков хлеба, крутые яйца, нечищеные огурцы, баночку сметаны. Ей вдруг вспоминается слово «аскетичный».
Она подмечает и другие детали. Яйца он чистит заранее, тут же на кухне, чтобы осколки скорлупы не остались потом на земле и не выдали его присутствия. Умильные намеки салями, этой постоянной спутницы их прежних прогулок, которая хотела и на этот раз присоединиться к нему, он решительно игнорирует — запах колбасы может привлечь собаку, а за собакой, как правило, появляется ее хозяин. Свой черный кофе, замечает она, он тоже приготовил заранее. И приготовил, и налил в термос. Костер могут увидеть издали, газовая горелка шумит, запах свежесваренного кофе разносится слишком далеко.
Она вспоминает: когда-то, во времена тех совместных прогулок, он варил кофе на своих маленьких, точно и осторожно сложенных костерках. Кипятил, размешивал, наливал, подавал ей изысканным жестом галантного официанта. У них была тогда маленькая джезва с длинной ручкой, за которую она получила ласковое прозвище «Рукастик». Эта джезва сопровождала их во всех походах. Но и ее (а где она, кстати? — думает вдруг она, — уже двенадцать лет, как не попадалась на глаза), — но и ее сейчас не вложили.
Она знает: предстоит произойти чему-то мрачному и ужасному. Свершится месть, прольется кровь, прервется чья-то жизнь, может быть — чьи-то жизни. И несмотря на это, она сочувственно улыбается пропавшей джезве: «Ну что, несчастная ты закопчушка, не берет он тебя с собою, да? Ничего, меня он тоже оставляет дома. Как Давид оставил при обозе двести своих воинов, когда отправился с остальными к Навалу, препоясавшись мечом и замыслив жестокую месть»[5].
Она подходит к нему поближе. Чувствует ли он ее шаги? Сохранил ли свою былую, влекущую и пугающую способность ощущать, что происходит у него за спиной? Сохранил или нет, но он не оборачивается и не смотрит на нее. Она подходит еще ближе. С прежним острым волнением отмечает всегдашние два сантиметра разницы в их росте. И улыбается про себя: во всей мошаве[6] нет мужчины, который был бы ниже своей жены, и уж тем более такого мужчины, которому нравилось бы такое ее преимущество.
Когда-то, еще до беды, когда они шли рядом по улице («Какая красивая пара», — говорили о них тогда), он даже клал голову ей на плечо, вызывающе переворачивая супружеские роли и приводя в смущение всех, кто их видел, а ее, напротив, забавляя и веселя. «И это хорошо, — говорил он ей в такие минуты. — Это хорошо, потому что любимой женщине всегда должно быть весело». В их «Десяти заповедях», которые он написал для нее и развесил на стенах в спальне, третья, четвертая и пятая звучали одинаково: «Да возвеселит муж жену свою всяко».
Откуда у него такие выражения? — недоумевала она тогда, глядя на эти листки, как недоумевает и сейчас, вспоминая. Несколько лет назад, в одно совсем паршивое утро, она сорвала эти его заповеди со стены, разорвала и выбросила в мусор. Новые он ей не написал, но старые она не забыла — они все еще висят на стенах ее сердца.
Какой широкой она стала, его спина, — с горечью отмечает она.
В те их прогулки они всегда шли рядом, и, когда дорога превращалась в узкую тропу, она замедляла шаги, пропуская его вперед. Пропускала и смотрела на его спину — узкую, юношескую спину, — а он то и дело оборачивался к ней и спрашивал:
— Почему ты идешь за мной? Иди впереди, будь ведущей.
— Но я не знаю куда.
— Тропа сама тебя выведет.
— Но она ничем не помечена.
— Нет, помечена, только не цветом. Помечена следами ног, примятой травой, вытертыми местами на скалах, сдвинутыми с места камнями. Нужно только смотреть и примечать. А еще она помечена своей логикой, и это самое главное. У всякой тропы есть своя логика. Надо ее понять, и тогда можно легко найти дорогу.
— У меня сегодня день отдыха. У меня нет желания всматриваться в тропу и не хватает мозгов понимать ее логику. Давай ты понимай, а я буду просто любоваться природой.
— Еще чего! Нет уж, это я пойду за тобой и буду любоваться твоей попой. Она красивее всякой природы, а я тоже имею право наслаждаться.
Хотя он был ее мужем, она смотрела на него так, как матери смотрят на взрослеющих сыновей. Смотрела тем взглядом, в котором недоумение, надежда и тревога смешаны с улыбкой и любопытством. У нее никогда не было взрослеющего сына, и со времени беды она знала, что уже и не будет, но она достаточно много лет преподавала в школе, чтобы знать, как матери смотрят на своих сыновей, а она — на своего мужчину.
В душе моей трепет: «Разве еще есть сыновья в моем чреве? Разве есть мне еще надежда?»
Красивые древние слова стучатся меж моим чревом и сердцем: «Даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей…»[7] С мужем? С моим мужчиной? С тобой?
2
Они помногу гуляли тогда. Первое время — вдвоем, потом — с сыном. Вначале сын плыл, ворочаясь в ее чреве. Потом он спал на ходу, завернутый в большой платок, который она перевязывала через плечи на груди. А еще позже — сидел в рюкзаке, который отец сшил для него в кожевенной мастерской своей части, на сборах резервистов. Сшил и носил на спине. Той самой спине, на которую она смотрит сейчас.
Воспоминание картинкой наплывает на ее скорые на слезу глаза: сын маленьким всадником на спине отца. Отец ржет и скачет, как лошадь, а мать в тревоге спешит за ними: «Осторожней! Ну прошу тебя! Ему же страшно! Он сейчас упадет!»
Не сбылось ее пророчество. Малышу было страшно, но он наслаждался этим страхом, как это часто бывает с детьми. Он смеялся. Он рос. Он встал на ноги. Он делал первые шаги. Падал, по обычаю всех малышей, и поднимался, по обычаю всех малышей. И уже тогда у него проглядывал легкий отцовский шаг — в том, как он ступал, как спотыкался, как улыбался, как поднимался.
На первых порах они гуляли с ним неподалеку, к востоку от мошавы, в полях, что заросли маками и хризантемами, и дальше — в сторону полос льна, что пятнами розовели на горке за рощей авокадо. А позже шли с ним на север, к потаенному пруду, к тому маленькому, укрытому от всего мира водоему, где они спасались от летней жары и где старший брат когда-то учил ее плавать и нырять, еще в те годы, когда он был мальчишкой, а она малолетней девчонкой. А еще позже, когда малыш зашагал совсем уверенно, они взяли его в вади дедушки Зеева. Так в их семье называлось то вади, где росло большое рожковое дерево — «дедушкин большой харув», на языке семьи.
Там, в этом вади, они с братом гуляли, когда сами были детьми. Там дед учил их распознавать дикие цветы и собирать их семена. Под этим харувом он впервые рассказал им сказку, которую она со временем записала для своего сына. Сказку о первобытном человеке, который жил в пещере неподалеку. В небольшой пещере, где в глубине есть яма, куда порой проваливается какая-нибудь заблудившаяся овца или коза, и тогда из этой ямы поднимается ужасное зловоние.
Из этого дедушкиного вади они шли потом с мужем, переходя из одной долины в другую, поднимаясь и спускаясь, забирая всё северней, как говорил он на своем армейском сленге, пока не приходили в такие места, куда еще не ступала нога человека. Им нравилось до одури обжиматься там на траве, и у них уже появилось в этих местах несколько укромных уголков. А с сыном они шли оттуда еще дальше и выше, на самый гребень хребта, по ту сторону которого открывался широко распахнутый мир, для них — знакомый и радостный, а для сына — чужой и далекий, чудный и влекущий: ну же, малыш, шагни, подойди поближе, не бойся. Шагни еще, стань на край, вдохни, втяни, вбери весь этот простор в жадные ячейки детской памяти.
А еще позже эти двое, отец с сыном, стали ходить в те же места одни, без нее. «Прогулки парней», — говорил он, усмехаясь. А однажды добавил: «Девчонки не приглашаются».
Так он сказал, а я только усмехнулась. Не провидела будущего, и не удостоена была той хваленой интуиции, того таинственного предчувствия, которое обычно приписывают женщинам, особенно матерям. Даже в день беды не предчувствовала ничего.
«Прогулки парней». Только они вдвоем. Маленькому мужчине положено научиться у большого мужчины всем тем глупостям, которым отец обязан научить сына: как развести костер, как ходить босиком по земле, как опознать растения, из листьев которых можно заварить чай. Женщины могут лишь вопрошать, со страхом или с насмешкой: «А что, если он наступит на осколок стекла?» Или: «А что, если появится змея?» Или: «Даже дедушка Зеев всегда ходит в высоких сапогах».
— Если появится змея, уж мы с ней справимся, правда, Нета?
Так они назвали своего сына, который вырос и возмутился:
— Надо мной смеются в детском саду. Почему вы дали мне девчоночье имя?
— А ты смейся над ними в ответ.
И находить Полярную звезду. И водить старый пикап (сын на коленях у отца, его руки — в три года, в четыре, и в пять, и в шесть — с силой вцепились в огромное рулевое колесо). И завязывать прутик узлом, и заострять ночное зрение, слегка скашивая взгляд, и узнавать все, что слышит ухо, и чувствует палец, и чует нос, и видит глаз.
— Это иголка дикобраза. А это змея сбросила кожу — потрогай, какая она нежная и тонкая. Потрогай, Нета, не бойся, это только ее кожа, а сама она уже далеко. Сбросила кожу и поползла себе дальше. Но даже если б она была здесь — я с тобой, я тебя охраняю.
— Ты слышал, Нета? Прислушайся. Это крик сойки, а вот это трель сокола, а это вопль ржанки, а это стрекот славки, а это цоканье малиновки. Она каждый год прилетает к нам во двор, эта малиновка, и всегда к одному и тому же дереву. Это дерево посадили мы, но она почему-то считает его своим.
— А сейчас понюхай: это куст девясила. Твоя мама считает, что у него дурной запах, но понюхай сам и скажи мне, что ты об этом думаешь. Нет, не так, закрой глаза. Нюхать нужно с закрытыми глазами. Только носом. Запахи помнятся лучше, чем виды или голоса. Это запах девясила, а это — рута, это — фисташковое дерево, это — тимьян, а самый лучший — шалфей. Шалфей — это друг. Если ты будешь знать и помнить все названия, я расскажу дедушке Зееву, и он будет очень доволен. Может быть, он возьмет тебя к большому харуву в свое вади, и покажет тебе пещеру с ямой, и расскажет тебе историю о первобытном человеке, который там жил когда-то, и научит тебя названиям других растений, и сделает тебе дубинку на случай, если появится злая собака, или ядовитая змея, или плохой человек. А когда ты еще немного подрастешь, он научит тебя стрелять из его старого «маузера» и попадать прямо в точку.
— А вот это следы гиены — она похожа на большую собаку, только у нее задница низкая, а плечи высокие. Видишь, Нета: следы передних ног больше, чем следы задних. Чему ты смеешься? Тому, что я сказал «задница»? А ты тоже скажи «задница». Давай скажем вместе: «Задница, задница, задница, задница».
— А вот еще интересная вещь, очень интересная: вот этот камень. У каждого камня в поле есть нижняя сторона и верхняя сторона, сторона земли и темноты и сторона солнца и света. Видишь? Низ совсем гладкий. На нем осталось только немного земли и паутины. А вот верх шероховатый и грубый. Потрогай и ты почувствуешь. Это называется лишайник. Если камень лежит лишайником вниз, это верный знак, что кто-то его перевернул. Взял и не положил обратно, как было.
— Природа выглядит как сплошной балаган, — не раз говорил он ей. — Но на самом деле это не так. В природе каждая вещь лежит на своем месте, — и, вспоминая это, она улыбалась про себя, потому что так он говорил ей всякий раз, когда они лежали вместе: «Нет, ты посмотри, какой балаган в этой кровати! Одна нога там, другая здесь, а этот маленький приятель — он что тут делает? А ну давай положим его на место. Вот так. Видишь, насколько приятней, когда все на своем месте».
— Так давай, Нета, положим этот камень на его место. Вот, он лежал здесь. Видишь эти маленькие росточки? Вот эти, совсем белые, только кончики у них зеленые? Они проросли из-под низу, поползли вбок, чтобы выбраться, и только там, где сумели выйти на свет, стали зелеными. Все белое осталось под камнем, а все зеленое — уже снаружи. И это говорит нам еще об одном — что этот камень сдвинули совсем недавно. Правда, интересно, Нета? Мы с тобой, как два сыщика из полиции…
«Прогулки парней», — говорил он ей. Смотрел на их сына, а сын смотрел на отца, и оба они — этакие великодушные победители — смотрели на нее. Кто может устоять перед такой парой, перед отцом и сыном, которые улыбаются друг другу, как соучастники тайны и сговора? Прогулки парней — на холмах к югу от поселка, прогулки парней — на широких кукурузных полях к северу. Там они воровали для нее молодые, еще сладкие початки, которые она очень любила.
— Давай обжарим их для мамы, Нета, на огне. Иди, я покажу тебе как.
— Я принес тебе, мама. Вкусно?
— Ешь, Рута, это специально для тебя.
Я ела. Я наслаждалась. Я сердилась.
И еще — прогулки парней вдоль скалистой береговой линии моря и среди огромных валунов за крепостью крестоносцев, где цикламены цветут уже на Хануку[8].
— Смотри, какое чудо! — сказал мне однажды дедушка Зеев, когда он был еще жив, а я была маленькой девочкой. — Смотри, Рута, — цветы этих цикламенов уже раскрылись, а зеленые листья даже еще не вышли из земли. Такое бывает только здесь, в наших местах. Так близко к мошаве, а никто не знает. Только мы с тобой.
И наконец, та прогулка парней в пустыне. Первая и последняя, ровно двенадцать лет назад. Та прогулка, после которой они уже больше никогда не гуляли. Ни парни одни, без меня, ни я с ними, и, по правде говоря, вообще ничего уже не делали вместе. Двенадцать лет прошло с тех пор, и были они в моих глазах, как сто.
3
Смотрю на него, пока он собирается на выход, узнаю его и не узнаю, и снова и снова отмечаю перемены, которые произошли в нем с тех давних пор. Когда б не беда, что случилась с нами, я могла бы удовлетворенно улыбнуться. Я — несмотря на годы и все, что за эти годы произошло, — все еще выгляжу молодой. Сияю себе из зеркала, останавливаю взгляды учеников, задерживаюсь в глазах их родителей, затуманиваю зрачки мужчин и женщин на улице. А он, мой супруг (так я называла его когда-то), стал другим. Он свою былую стать утратил.
Знаю: это нельзя объяснить только тем, что он состарился. Старятся обычно медленно, долго еще сохраняют что-то от молодого себя, что-то такое, что на первых порах греет сердце и душу, а потом начинает раздражать, когда выясняется, что лишь для того оно сохранилось, чтобы напоминать и ранить. Но он — он изменился целиком и полностью. Переродился, как насекомое, только наоборот — из бабочки стал личинкой.
Смотрю на него и снова пересчитываю потери. Вот, стерлась улыбка. И огонь, его вечный огонь, погас. И его золотистая кожа, радость моих пальцев и глаз, выцвела, остыла и потускнела. И его запах, эта мирра нашей юности, растаял бесследно. И его тело — когда-то тело юноши — отяжелело и огрубело. Не разжирело, не одрябло — нет, наоборот, затвердело. А его руки — когда-то изящные, точные и быстрые в движениях руки — стали тяжелыми медвежьими лапами, и их объятье страшно даже представить.
Мой супруг, мой первый муж, золотистый и тонкий, — он исчез, его нет больше. Его сменил мой второй — с белесой кожей, с массивным телом, чужой. Вся его плоть — сплошные мышцы. Белизна его — белизна смерти. Солнечный глаз его уже не позолотит, глаз человеческий уже не узрит.
Помню: как-то раз он порезался, мой второй муж. Кровь так и хлестала из пальца. Он даже не смотрел на меня, пока я его перевязывала. А я — меня переполняла радость: он живой! У него красная кровь, как и раньше! Если б я только могла, я бы разрезала этого своего второго, чужого мужа и извлекла из него своего первого, прежнего — тебя.
4
Я стою за его спиной и наблюдаю за тем, как он собирается в дорогу. Убеждаюсь в основательности его приготовлений, радуюсь возвращению мелких прежних деталей в его память и к его рукам. Он укладывает еду в две пластмассовые коробки, которые извлек из кухонного шкафа, потом прячет эти коробки в рюкзак, добавляет к ним две бутылки воды, а затем делает нечто странное и новое, чего не делал никогда прежде, — записывает на бумажке, словно список для магазина, все, что взял с собою. Шесть кусков хлеба. Два огурца. Шесть плиток гранолы[9]. Баночка сметаны. Два крутых яйца. А также: две пластиковые коробки, термос, чайная ложка, две бутылки воды, рюкзак, туалетная бумага, эта записка, авторучка.
Записку и ручку он сует в нагрудный карман, а затем снова удивляет меня: берет из ванной комнаты маленький мягкий коврик, на который мы раньше становились после душа, и выходит из дома, неся в руках этот коврик и рюкзак. Выходит и направляется к нашему питомнику.
Я иду за ним — супруга, понимающая предстоящее, мать, предчувствующая будущее, малышка, радующаяся новому: давай, будущее, вдохни жизнь в наши сухие кости! Иду, смотрю, запоминаю каждую деталь. Он подходит к доске с висящими на ней рабочими инструментами и снимает с нее еще несколько предметов, которые не берут с собой на обычную прогулку, — складную ручную пилу того злодейского типа, который называют «маленький японец», садовые ножницы и зеленый рулон клейкой ленты.
Медленный и уверенный ритм его действий ускоряется. Еще несколько предметов присоединяются к списку и к рюкзаку: моток тонкой веревки, складной нож и конечно же верный спутник — маленькая кирка для выкапывания луковиц и клубней, которая в его руках, я знаю, может превратиться в страшное оружие. Все это он тоже записывает на бумажке, потом добавляет к списку ключи от машины, кладет их в карман, выходит к пикапу, который ждет его под навесом, и бросает рюкзак на заднее сиденье.
Затем возвращается к доске с инструментами, снимает с нее большие садовые ножницы и разрезает коврик из ванной на две равные половинки, прокалывает на краях дырки, продевает туда куски веревки, отрезанные от мотка, и кладет обе половинки на водительское сиденье рядом с рюкзаком. Из кучи вещей в углу питомника вытаскивает выцветшее зеленое полотнище с металлическими петлями по краям, под которым мы когда-то спасались от солнца, и к нему тоже привязывает отрезки тонкой веревки. Полотнище бросает в ящик пикапа, сверху кладет грабли для сбора листьев и маленькую метлу, потом споласкивает ручной опрыскиватель, чтобы смыть с него следы химикатов, которые могли на нем остаться, протирает его, наполняет водой, пару раз проверяет, как ходит поршень, побрызгав слегка на землю, а после этого освобождает клапан давления, открывает баллон опрыскивателя, добавляет в воду пластиковый клей, закрывает, взбалтывает, снова проверяет поршень и, наконец, кладет опрыскиватель в багажник и добавляет его в свой список вместе с полотнищем для тени, граблями, метлой и овечьими туфлями. Что такое овечьи туфли и зачем их надевают, я узнаю лишь на следующий день, когда он вернется оттуда, куда собирается, и после того, как он сделает то, что задумал там сделать.
Напоследок он скрывается в сарае во дворе — маленькое деревянное строение, память о первых днях жизни дедушки Зеева и бабушки Рут в мошаве — и через несколько минут выходит оттуда со свертком в руках. Что-то удлиненное, замотанное в старое одеяло с вышитыми на нем блеклыми цветами и перевязанное на обоих концах тонкой веревкой — точь-в-точь мертвое тело, закутанное в саван и обвязанное шпагатом вокруг лодыжек и шеи. Он кладет сверток в ногах заднего сиденья пикапа и добавляет к списку шпагат, одеяло и «Ружье». Именно так, «Ружье» с большой буквы. Потом наклоняется и подтягивает болты на ступицах передних колес, как это обычно делают парни перед тем, как отправиться на прогулку парней. Открывает дверь кабины, садится на водительское сиденье и тогда, будто только что вспомнив, сует руку в карман рубашки, вытаскивает оттуда пачку сигарет, вечно лежащую там в последние годы, и точным броском отправляет ее прямо в мусорный ящик.
У меня перехватывает дыхание. Что-то в движении его руки вдруг напоминает мне его былую легкость.
Я говорю:
— Эйтан.
Он делает то, чего не делал уже двенадцать лет, — смотрит мне прямо в глаза.
Я спрашиваю:
— Эйтан, куда ты едешь?
Молчание.
— Не бойся, я никому не расскажу.
Молчание.
— Ты хочешь, чтобы я поехала с тобой? Ты еще помнишь, как водить машину? Ты не водил уже двенадцать лет.
Молчание. Звук заведенного двигателя.
Он помнит. Он, конечно, помнит, успокаиваю я себя. Такие, как он, не забывают. Они помнят, как водить машину и как ходить по лесной тропе. Как маскироваться, как лежать в засаде и как попадать в цель.
— Эйтан, — снова говорю я.
Он снова смотрит на меня.
— Я знаю, куда ты едешь. Я знаю, что ты собираешься сделать. Я с тобой в этом деле, но, пожалуйста, — поберегись.
Пикап медленно сдвигается с места, набирает скорость и выезжает из ворот питомника.
— Возвращайся побыстрей! — кричу я вслед. — Ты меня слышишь? У нас завтра похороны.
Он поворачивает. Но не направо, в сторону главной дороги, а налево, к полям. В сторону вади.
5
Я представляю себе: на главную дорогу он свернет через несколько километров, а на встречу в вади прибудет ближе к закату. Он не станет включать фары и медленно проедет еще несколько сот метров, до развилки. Тут он переключит скорость, раз и еще раз, до третьей, и, не сигналя и не тормозя, плавно уйдет налево, на короткую грунтовую дорогу, которая тянется к насосной станции, стоящей на краю склона. Здесь он замедлит ход, умело, не останавливаясь, перейдет на вторую скорость, и машина поползет медленно-медленно и тихо-тихо, не производя шума, не разбрасывая камни из-под колес и почти не оставляя следов на дороге.
Я вижу в воображении: за несколько метров до насосной он сворачивает к растущим там дубам и останавливается, осторожно подняв рычаг ручного тормоза. Ставит выключатель внутреннего освещения в положение «выключено», открывает дверцу кабины, высовывает ноги наружу и так, держа их на весу, прижимает куски коврика из ванной к своим ботинкам, затягивает тонкие веревки на обоих концах коврика по диагонали, с одной стороны на другую, и только после этого опускает закутанные в коврик ноги на землю. Закрывает дверцу кабины, вешает рюкзак и опрыскиватель на одну из ветвей, «Ружье» — эту закутанную в одеяло змею — на другую, потом раскладывает вокруг колес несколько камней и накрывает машину зеленым полотнищем. Она разом исчезает, слившись с листьями.
Уже смеркается. Его движения становятся торопливей. Быстро привязав края полотнища к разложенным вокруг камням, он опрыскивает его раствором клея и разбрасывает поверх пригоршни земли и сухие листья, которые тут же прилипают к ткани. Потом, ловко орудуя вилами, забрасывает листьями все места, где мог остаться след сдвинутого камня, ступившего каблука или прокатившегося колеса, отходит немного назад, внимательно осматривает дело рук своих, накидывает рюкзак на плечо, берет в руку завернутое в одеяло ружье и, выйдя из тайника под дубами, начинает подниматься вверх по ущелью.
Он уже много лет не ходил так, по узкой, скалистой, не знающей света тропе, которую прорубила природа, а не кирка или экскаватор, и утрамбовали не катки, а ноги животных, башмаки людей и тяжелая поступь времени. Но его ступни тут же припоминают это искусство ночной ходьбы — те уверенные, бесшумные движения, которые не оставляют следов нигде, кроме его лица, — ту былую и незваную, слегка кривую, даже не улыбку, а судорогу лицевых мышц, которые вот уже двенадцать лет не раздвигали щеки для смеха, губы для поцелуя, а рот для слов. Только ели немного и пили немного да плотно стискивали челюсти.
Я знаю эту тропу. Я не раз ходила по ней. Через полтора километра, на третьем повороте, он свернет с нее на юг, к невысокому хребту, остановится там, ляжет, полежит минуту на спине, прислушается и осмотрится, потом встанет и начнет подниматься по склону. Вот он пересекает хребет по диагонали, поднимаясь вдоль медленного изгиба, потом спускается по противоположному склону и выходит к тому месту, где в нескольких десятках метров от поворота в дедушкино вади стоят рядышком ветвистое фисташковое дерево и раскидистый палестинский дуб. Дуб поднимается выше фисташки, и его ветви раскинуты шире, а она — как все фисташковые деревья — стоит под ним маленькая и густая, и ее ароматные листья словно бы срослись в единое целое и касаются земли, будто целуя ее.
Здесь он остановится, снимет рюкзак и ружье, положит их на соседний камень, потом повернется и посмотрит вниз, на знакомый ему харув, растущий прямо под ним в вади. В ночной темноте дерево должно показаться ему огромной черной глыбой, которая резко обозначится, когда он чуть отведет от нее взгляд, и тотчас вновь сольется с окружением, когда он опять посмотрит на нее прямо. Через несколько часов, когда он будет лежать в укрытии, которое тут себе приготовит: ружье в руках и солнце светит в затылок, — он будет видеть все, что внизу, четко и ясно, а тот, кто придет по вади к харуву, — человек, которого он никогда не видел и имени которого не знал, но тот, кого он подстерегает и по чью душу явился, — этот человек будет ослеплен солнцем, если посмотрит наверх, в сторону укрытия.
Он развяжет веревку на одеяле и извлечет наружу ружье — старый «маузер», тяжелое и точное оружие, давно уже отметившее свое столетие, перебывавшее в руках немецких солдат, и в руках турецких, и в руках дедушки Зеева, да и сам он тоже не раз из него стрелял, — засунет ружье между ветками фисташкового дерева и поставит там на приклад. Потом достанет из рюкзака маленькую кирку, положит на ближайший камень, разложит одеяло, сядет на него, развяжет и снимет чехлы с ботинок и тоже положит их на землю. Снимет ботинки, поставит их на куски коврика, потом снимет носки и затолкает их внутрь ботинок, чтобы ночью туда не заползли змея или скорпион. Растянется на одной половине одеяла, укроется второй, пошарит вокруг, убедится, что его левая рука дотягивается до ружья, а правая — до кирки, подтянет к себе камень, положит на него голову и медленно, глубоко вздохнет. Впереди — несколько часов темноты, и он надеется, что этой ночью бессонница его пощадит.
Я соединяю друг с другом маленькие кусочки мозаики: люди здесь по ночам не ходят, дикие звери к нему не подойдут. Если не учуют его бродячие собаки, если никто не найдет замаскированный пикап, все пойдет, как задумано. И звук выстрела, которому предстоит грянуть наутро, тоже не вызовет подозрений: в этих местах нередко постреливают охотники, да и солдаты-отпускники любят палить в небеса в ближайших к их деревням лесах. Одиночный выстрел не удивит никого, и никто не станет звонить из-за него в полицию. А если и позвонит, никакой полицейский не подумает выезжать на место такого ничтожного происшествия.
Он будет рассчитывать на птиц, которые подадут голос перед восходом, но для пущей верности назначит себе час подъема и несколько раз повторит этот час про себя, чтобы птицы его тела тоже запели в нужное время. Несмотря на то, чему предстояло произойти, он, я думаю, будет испытывать некое странное облегчение, какую-то давно забытую и оттого неожиданную приятность. Ему будет приятно сознавать, что он собирается сделать то, что справедливо и что надлежит сделать. Приятно сознавать, что в его рюкзаке и в его возможностях имеется все, что необходимо для этого дела. Приятно лежать на земле и ощущать ее прикосновение, такое твердое и одновременно такое мягкое, лежать с закрытыми глазами под открытым темным небом и вдыхать воздух, льющийся к нему с других небес сквозь те дырочки, которые люди называют звездами. И приятно снова чувствовать в себе способность ощущать приятность: «Я вернулась, это я», — говорит приятность, как он сам говорил мне бывало, называя себя в женском роде, когда неожиданно обнимал меня сзади, когда входил в нашу комнату, в нашу постель, в мое тело. Именно так он говорил мне всегда в такие минуты: «Я вернулась. Это я».
Я чувствую: его голова лежит на каменной подушке, его глаза вбирают в себя громаду космоса. Небесный свод изгибается над ним, как женщина. Сейчас он сольется с ней сквозь смеженные ресницы и опускающиеся завесы тьмы. Его тело становится тяжелым и слабым. Он погружается в сон. Впервые за двенадцать лет — с такой легкостью, без пробуждающих сновидений.
Мы просыпаемся точно в назначенный час. Несколько секунд лежим молча. Эйтан — там, на земле, над большим харувом, что в дедушкином вади, я — здесь, в нашем доме, в нашей постели. Он там — с закрытыми глазами и настороженными ушами, прислушиваясь к хору знакомых предрассветных звуков: нет ли в них чего-то странного и чужого? А я здесь — в ожидании его возвращения. Мои глаза тоже закрыты, и мои уши тоже прислушиваются. Вот далекий громкоговоритель арабского муэдзина, вот стая шакалов, поддержавших его восторженным лаем, а вот и звуки поближе: радостные крики авдоток, кружащих в своем утреннем танце, а следом за ними — сойки из вади, что там, под ним, и наши верные черные дрозды — здесь, в питомнике, среди ветвей.
Как приятно проснуться и услышать птиц. Открыть глаза под открытым небом — оно еще темное. Только полоса на востоке бледнеет перед тем, как зажечься золотом. Как приятно чувствовать едва ощутимое могучее движение под своей спиной. Это земной шар медленно поворачивается на своей оси, подставляя все новые меридианы розовым пальцам зари. На его лице снова появляется улыбка. Двенадцать лет без единой улыбки, и вдруг — сразу две за одни сутки!
Мы оба садимся. Мои ноги ощущают прохладу плиток на полу, его ноги спрятаны под расстеленным на земле одеялом. Он достает бутылку воды, льет на ладонь, протирает глаза, потом вытряхивает и надевает носки, переворачивает и вытряхивает ботинки, надевает их и снова обворачивает, на этот раз — теми овечьими туфлями, которые взял с собой. Потом отходит в сторону помочиться в низкий куст колючего черноголовника, — чтобы никто не услышал струю и не увидел лужицу. Возвращается к месту ночлега и возвращает на место камень, который ночью положил под голову, берет ружье и спускается к харуву. Проверяет землю под ним, заглядывает в маленькую пещеру, подходит к яме, что внутри, и принюхивается.
Светает. Он снова возвращается к месту ночлега, отпивает немного кофе из термоса. Я — у себя дома — поднимаюсь и включаю электрический чайник. Пока он закипает, я иду в ванную. Он — там, на склоне, — закрывает термос, кладет его в рюкзак, вынимает туалетную бумагу, берет ружье и кирку, отходит метров на тридцать от ночлега и выкапывает себе ямку в земле. Потом возвращается на место ночлега, достает японскую пилу, садовые ножницы и клейкую ленту и направляется к фисташковому дереву. Я готовлю себе чай, пью его и смотрю через окно на наши теплицы. Высокая шелковица чернеет за ними. Еще немного, и совсем рассветет, и она зазеленеет.
Эйтан приподнимает две большие нижние ветки, почти касающиеся земли, вползает под них как можно глубже и отпиливает их у самого основания по диагонали — так, чтобы срез был обращен книзу и свежеспиленная светлая сердцевина не блеснула случайно на солнце, вызывая ненужное любопытство. Потом вытаскивает срезанные ветки наружу, забирается в пустоту, образовавшуюся в толще листвы, и, орудуя садовыми ножницами, срезает одну за другой внутренние ветки, заталкивая обрезки между другими ветвями. Он расширяет себе пространство внутри дерева — маленькое и укрытое от сторонних глаз гнездо.
Просыпается легкий ветерок. К пению утренних птиц мало-помалу присоединяются дневные. Эйтан покрывает свежие срезы маленькими полосками клейкой зеленой ленты, чтобы и они не сверкнули на солнце. Потом выбирается наружу, возвращает ленту и пилу в рюкзак, а рюкзак и ружье заталкивает в только что сделанный в листве тайник, потом лезет туда сам, тянет за собой одеяло, расправляя его как можно шире, опускается на колени, подтягивает к себе — листьями наружу — те две большие ветки, которые срезал первыми, и закрывает ими дыру за собой.
Теперь он один в маленькой хижине. Ее стены и потолок образованы ветвями и листьями фисташки, а полом служит земля, на которой он расстелил одеяло с вышитыми на нем цветами. Он ест и пьет, а закончив, аккуратно вычеркивает из своего списка баночку сметаны, одно яйцо, два куска хлеба, огурец и плитку гранолы. Список и ручку сует в нагрудный карман, обертку от гранолы и баночку из-под сметаны тщательно протирает и вместе с ложечкой кладет в отдельный карман в рюкзаке.
Горизонт у него за спиной совсем посветлел. Он придвигает срез ружейного ствола к наружному краю листвы и смотрит вниз через прицел. С такого расстояния можно обойтись и без привычного снайперского ружья, достаточно своего армейского опыта и старого «маузера» с его обычными прицелами и прославленной точностью. Он снова вынимает ножницы и осторожно, один за другим, срезает несколько листиков, которые заслоняют ему линию прицела. Потом возвращает ножницы в рюкзак.
Солнце вот-вот взойдет. Он снова смотрит сквозь ветки вниз, в вади, где растет большой харув. Теперь ему остается только одно — ожидать. Ожидание — штука тяжелая, оно утомительно, оно усыпляет, но ему ясно, что на этот раз оно не будет слишком долгим. Ему уже доводилось ждать куда дольше и в обстоятельствах куда более сложных и опасных. И действительно, в половине седьмого утра его ожидание подходит к концу. Сначала ему сообщает об этом напряженный, чуткий, прижатый к земле живот. Потом об этом докладывают настороженные чуткие уши. Где-то неподалеку сдвигается с места камень, ударяет по другому камню, слышится негромкий звук удара. Потом — уже ближе — скользит, оступившись, чья-то подошва и чей-то раздраженный рот выплевывает громкое проклятье.
Появившийся внизу человек совершенно непохож на того, кто рисовался ему в воображении и в предчувствиях. Это высокий плотный парень с забинтованной правой рукой. Шея толстая и сильная, но живот слабый и даже слегка трясется под рубашкой. Из тех людей, у которых размер ноги меньше, чем можно было бы ожидать, а темные солнечные очки призваны, скорее, скрывать глаза, чем защищать их.
На человеке темные брюки и бежевая рубашка, на рубашку наброшена распахнутая кожаная куртка. На ногах у него низкие сапоги с мягкой кожаной подошвой, и это говорит о неопытности самого дурного толка — той, что замешана на преувеличенной самоуверенности и обыкновенной лени. Никакого оружия в руках, на поясе или под курткой, но на плече висит небольшая кожаная сумка, в которой вполне может уместиться пистолет.
Невидимый в своем древесном укрытии, Эйтан смотрит на него, стараясь очистить мысли от ненависти и гнева, чтобы жертва не ощутила его присутствие и намерения. Он повторяет про себя, что дело, которое намерен сейчас совершить, не является злом. Он верит, что зло способно излучаться из задумавшего его и поэтому другие люди могут ощущать его на расстоянии, тем более люди, чьи сердца сами полны ненависти и зла. Но все справедливое, и правильное, и достойное свершения — беззвучно и потому не может выдать своего хозяина. Даже если он совсем близко.
Человек в куртке идет медленно, то и дело оскальзываясь на мокрых от росы камнях и всякий раз громко проклиная дорогу. Эйтан сопровождает его взглядом. Он твердит себе, что это идет подонок и убийца, встречать которого надлежит именно так — в первый и в последний раз в его жизни. Он дает человеку дойти до большого харува, видит, что тот наклоняется, проверяет, вглядывается и что-то ищет. Теперь он окончательно убежден в том, что перед ним именно тот человек, которого он ждал.
Человек опускается на колени и начинает искать под камнями, суетливо сдвигая и переворачивая их. (Эйтан знает, что он не даст себе труда вернуть их на место.) И когда тот отказывается наконец от безуспешных поисков (а Эйтан знает, что они будут безуспешны), поднимается и достает из кармана куртки мобильник (а Эйтан знает, что, не найдя ничего, он захочет позвонить тому, кто его сюда послал), Эйтан медленно тянет за спусковой крючок. Теперь наконец он делает то, ради чего пришел сюда накануне.
Глава третья
Звонит дверной колокольчик.
Рута встает, подходит к двери и открывает:
— Здравствуйте. Вы — Варда?
— Да. Добрый день.
— Я РутаТавори, вы мне звонили. Авы — Варда…
— …Канетти. Варда Канетти.
— Как интересно! Вы в родстве с Элиасом Канетти?
— Простите?
— Нет, видно, вы не из тех Канетти. Иначе вы бы его знали.
— Видите ли, Канетти — фамилия моего мужа. Это большая семья. Я не всех его родственников знаю.
— А я его очень люблю. Нет, нет, извините, не вашего мужа, конечно, прошу прощения. Поймите меня правильно — вашего мужа я вообще не знаю. Я люблю писателя по имени Элиас Канетти. Впрочем, я и в этом не уверена, я ведь его лично тоже не знаю. Я люблю его книги. Но что это мы стоим у дверей? Входите, входите, пожалуйста. И если не возражаете, давайте расположимся в кухне. Кухня — это мое главное место в этом доме. Не то чтобы я была такой уж завзятой стряпухой, нет-нет, мне просто нравится сидеть на кухне, писать на кухне, принимать гостей на кухне, проверять контрольные на кухне. Да-да, контрольные, я ведь учительница, как вам уже успели, я думаю, рассказать все, с кем вы здесь встречались: «Рута Тавори — преподавательница Танаха[10] и классная руководительница в старшем классе нашей школы». Но я, кажется, слишком много болтаю, да? Напомните, пожалуйста, по какому именно поводу вы мне звонили?
— Видите ли, я занимаюсь историей еврейской колонизации Палестины и для этого интервьюирую людей из семей первопоселенцев.
— Вас интересует история колонизации вообще или история нашего конкретного поселения?
— Меня интересуют только поселения, созданные здесь бароном Ротшильдом[11]. Я интервьюирую жителей трех его бывших поселений.
— Это замечательно! Уж не знаю, какую историю вы найдете в двух других поселениях, но наша мошава вас точно не разочарует. Сама по себе она, конечно, не Бог весь что, но история у нее — пальчики оближешь! Усаживайтесь. И чувствуйте себя свободно. Стол большой, хватит места и писать, и диктофон поставить, и чаю попить. А если задержитесь до вечера, то и перекусить найдется. Так уж у нас в поселке положено — принимать гостей по всем восточным правилам. Деды наши думали, что создадут здесь еврейское село, а получилась у них арабская деревня — с ее восточным гостеприимством, с ее хамулами[12], и с этой их родовой честью, земельными спорами и кровной местью. И вот сегодня, четыре с половиной поколения спустя, все у нас тут как у арабов, — все друг другу родственники и у каждой семьи свое лимонное дерево в саду, и свой виноградник, и свой гранат, и своя смоковница, и обязательный большой пекан[13]. Разве что у нас, у евреев, гранат, как правило, сорта «уандерфул», а у арабов — сладкий. Ну и голуби на крыше, конечно, и куры во дворе. Впрочем, я ошиблась, извините, я сказала «обязательный пекан», но как раз в нашем дворе вместо него — шелковица. И еще, как и у арабов, у нас здесь под каждым домом собственный склад всевозможного оружия, еще со времен турецкого правления. Разве что мы, в отличие от арабов, не палим в воздух на свадьбах.
Да-да, вы не ослышались — целые склады оружия. Есть охотничьи ружья, есть трофейные, и всякие антики тоже. У моего дедушки, например, было старое чешское ружье, тех времен, когда Израиля еще не существовало. Хорошо, что наш дедушка уже умер, — если бы он услышал, что я назвала его «маузер» чешским ружьем, он бы ужаснулся. «Нет никакого такого „чешского ружья“! — рассердился он на меня однажды. — То, что здешние болваны называют „чешским ружьем“, это на самом деле „маузер“, и он немецкий».
Извините, Варда, но что же вы всё стоите? Садитесь, садитесь, пожалуйста. Нет, нет, не сюда. Садитесь вот на этот стул, тогда вы будете видеть меня с моей красивой стороны. Но вы еще не сказали, как называется тема вашего исследования.
— Я занимаюсь гендерными проблемами в поселениях барона Ротшильда.
— М-да, занятно…
— Я здесь поговорила немного с людьми старше вас, и все они мне сказали, что с вашим дедушкой — Зеев Тавори, я не ошибаюсь? — связано несколько крайне интересных историй такого рода.
— А знаете, они правы! Кстати, и с моей бабушкой тоже. Но, по правде говоря, чтобы услышать эти истории, я вам не нужна. У нас тут достаточно доброхотов с длинным языком — все знают всё, и каждый — о другом, конечно. А кроме того, должна вас сразу предупредить — я для вас, возможно, самый неподходящий собеседник.
— Почему?
— Ну, во-первых, потому, что мой дед не любил распространяться об определенных событиях и периодах своей жизни. А во-вторых, потому, что и я в этом на него похожа. Я тоже думаю, что есть вещи, которые не стоит предавать огласке. И в-третьих, потому, что я могу говорить в основном с чужих слов, то есть пересказывать то, что рассказывали мне другие. А это означает, что вам придется доверять дважды — и моей памяти, и памяти тех, кто рассказывал мне все эти истории. Ну и кроме всего этого, когда при мне говорят слово «гендерный», мне почему-то всегда слышится «тендерный» и сразу представляется, будто вас, и меня, и всех вообще женщин выставили на публичные торги, на тендер. Или того хуже — прицепили за мужчинами, как тендер за паровозом.
— Я понимаю. И все-таки — сколько времени вы смогли бы мне уделить?
— Если прямо сегодня, то часа два. Причем часть этого времени я уже у вас украла своими глупостями. Но если вам захочется встретиться со мной еще несколько раз — нет проблемы. Говорят же, что женщины должны помогать друг другу, а здесь у нас налицо и корова, которая хочет сосать, и корова, которая хочет, чтоб ее сосали.
— Это очень любезно с вашей стороны. Не у всех здесь есть время, а еще меньше тех, у которых есть терпение.
— Ну, у меня-то они как раз есть. Если кто-то наконец захотел меня выслушать, я такому человеку не откажу. Я буду вам рассказывать, и рассказывать, и рассказывать, я принесу вам, как поется в песне, целую корзину роскошнейших рассказов[14], и вам покажется, будто вы моя самая лучшая и близкая подруга, а мне — будто у меня наконец-то такая появилась. Этот мой большой рот — «созданный для поцелуев», как говаривал мой первый муж, — уж он вам расскажет, он вам такое расскажет! Но — не все!
— Извините, я не знала…
— Не знали? Чего не знали?
— Ну, вы сказали — первый муж… То есть что вы овдовели… возможно… Я не знала…
— A-а, вот вы о чем… Что ж, можно сказать и так — да, овдовела. На некоторое время — безусловно. Ну, не важно. А что вы — уже дипломированный исследователь или пока еще студентка?
— Спасибо за комплимент. Я уже несколько лет, как получила докторскую степень.
— М-да… «Взгляд доктора наук Варды Канетти некоторое время блуждает в пространстве и, наконец, останавливается на черном камне, вделанном в стену дома семьи Тавори…»
— Простите? Я не поняла…
— Я заметила, что вы остановили свой взгляд на черном камне, вделанном в нашу стену.
— О да, вы правы, это очень необычно! Я еще никогда такого не видела. Черный камень посреди белой стены, да еще в жилой комнате!
— Это кусок базальта из Галилеи, из тех мест, где родился и вырос мой дедушка — тот самый Зеев Тавори, которым вы интересуетесь. Он вделал его в стену таким манером, чтобы этот камень был виден с обеих сторон. Нам, изнутри, чтобы мы всегда знали и помнили, кто мы и откуда пришли в эти места, а другим, снаружи, чтобы и те знали и помнили, с кем они тут имеют дело.
— Да, выглядит слегка страшновато…
— Вот именно. Но и наш дедушка тоже был достаточно страшноват.
— Мне рассказывали, что у него была повязка на одном глазу, как у пирата.
— Это верно.
— А как случилось, что он потерял глаз?
— О, это произошло задолго до моего рождения. И кстати, совсем не так героично, как ему бы, наверно, хотелось. Просто погнался за ворами на лошади, и ветка воткнулась ему в глаз.
— Как ужасно!
— Ничего, мы привыкли. И к его черной повязке на лице, и к его черному камню в стене, и к нему самому тоже. Между прочим, этот камень ему прислали его родители. В один прекрасный день его старший брат Дов заявился сюда на телеге, запряженной могучим быком, — в его семье всегда говорили именно так: «могучий бык», никак не иначе, — и вместе с этим черным камнем привез также, обратите внимание на перечень, ружье, корову, дерево и женщину. Все это родители послали дедушке из Галилеи, потому что именно эти четыре вещи считались тогда главным, что нужно мужчине на первых порах для обзаведенья. Я вижу, Варда, что вы уже начали записывать, так запишите, пожалуйста, точно в том порядке, в каком я сейчас перечислила: ружье, корова, дерево и женщина. Это очень важно. Вы себе не можете представить, сколько раз я слышала эту историю и всегда именно в этом порядке. Почему не «дерево, женщина, ружье и корова»? Или «женщина, корова, дерево и ружье»? Можно было бы предположить, что порядок этих слов отражает порядок предпочтительности у мужчин, это хорошо подходило бы к теме вашего исследования, но нет — это также выбор того, кто рассказывает историю. Потому что каждый из таких вариантов рождает другую мелодию, а главное — другой сюжет. В нашем семейном рассказе ружье стоит на первом месте, а женщина — на последнем, и моя бабушка Рут действительно говорила, что ружье было не только главным героем в этом рассказе — оно этот рассказ и породило. А кому было лучше знать, чем ей? Ведь она и была той женщиной, что стояла последней в списке, и в той же телеге, вместе с ней, был вот этот базальтовый камень.
Да, так вот, ружье. Мы говорили о ружье. Знаете, я еще успела увидеть, как дедушка Зеев стреляет из него. Не в людей, конечно, а почему-то в соек. Он не выносил этих птиц, понятия не имею почему. Как-то раз, много лет назад, мы с ним устроили на холмах стрельбище для всей семьи, и мой первый муж, который мог попасть пулей в волосинку, очень хвалил тогда обоих стариков — что дедушку, что его «маузер». Но у того история даже длиннее. Я имею в виду «маузер». Из него наверняка убили парочку-другую людей еще в Первую мировую войну, и, не исключено, что в тридцатые годы тоже, во время арабских волнений, и уж точно во время Войны за независимость, да поди знай, когда еще… Я когда-то даже написала об этом рассказ. Впрочем, я свои рассказы показываю только родным, да и то — не все.
— Мне не говорили, что вы пишете…
— Потому что не все знают. Я пишу, потому что есть истории, которые удобней записывать, чем рассказывать, — их слова неприятно ощущать во рту. Так лучше уж, вместо того, чтобы извиваться на языке, точно скорпионы и сороконожки, пусть ползают по бумаге и там оставляют свой яд. Но у меня есть и еще одна причина писать. Мне долгое время не с кем было поговорить. Кстати, я потому и не закрываю рот с той минуты, как вы вошли. Хотя, по правде говоря, начала я с детских рассказиков. Когда моему сыну было два года, он то и дело просил, чтобы я ему читала. И я тогда сразу заметила, что в процессе чтения я все это редактирую и улучшаю. И вдруг поняла, что могу писать не хуже, чем те гении, которые эти рассказы сочинили. И вот так оно началось. Я сочинила для моего сына рассказ о могучем быке нашего дедушки и о нашем знаменитом дереве, шелковице, а потом рассказ о первобытном человеке, его пещере и его первом огне, и еще один — о мальчике, который любил наряжаться, как сам Нета, и однажды захотел переодеться в Ангела Смерти. А потом уже я стала писать для себя самой. Начала пересказывать на бумаге все эти наши семейные истории. Они ведь, в сущности, рассказывают о том же самом — о могучем быке, и об Ангеле Смерти, и о первобытном человеке…
— Но это правдивые истории?
— Ну конечно, правдивые. От кого мне скрывать правду, если я их все равно никому не показываю? От себя самой? Но вообще-то вы ведь историк, а я преподаватель Танаха, так что нам с вами не нужно объяснять, что и правда не всегда правдива. Кто, как не мы, знает, что со временем правдой становится именно то, что записали, а не то, что рассказывали.
Я как-то раз показала один такой рассказ моему старшему брату, его зовут Довик, и он рассердился: зачем я сочиняю такие истории, да еще о нас самих, о нашей семье?! Что, я забыла, как дедушка Зеев нам говорил, что есть вещи, о которых не стоит болтать зря? А уж писать — тем более.
Я сказала ему, что я никому и не рассказываю. Я пишу, а пишу я просто потому, что слова смотрятся иначе, чем слышатся. И рассказала ему — я где-то это прочитала, — что Лев Толстой и его жена даже разговаривали друг с другом письменно: обменивались фразами и целыми письмами с помощью тетрадки, которая всегда лежала открытая у них в доме на столе. Знаете, я прониклась к ним завистью: такие длиннющие диалоги на бумаге! Какая смелость, какая интимность — не говоря уж о претенциозности! Но потом я поняла: возможно, есть такие пары, которым легче разговаривать на бумаге, потому что так ты не видишь лица собеседника и не слышишь его криков. Написанные слова, может быть, больше обязывают, но зато они спокойней. И у меня тоже так. Хотя я, в отличие от Толстого, никогда не переписывалась ни со своим первым мужем, ни со вторым, но и у меня есть истории, которые я рассказываю, а есть истории, которые я записываю, есть истории, которые я показываю другим, и есть истории, которые нет, и все они очень разные.
Кстати, Довика, как вы уже, наверно, поняли, назвали так в честь того дяди Дова, старшего брата дедушки Зеева, который привез сюда на телеге ружье, корову, дерево и женщину. Мы с Нетой иногда называли Довика «дядя Дов», и тогда дедушка Зеев сердился, потому что для него Дов был только один — этот его старший брат, который позже погиб во время Войны за независимость, подорвался на мине. Он был одним из самых старых среди тех, кто сражался и погиб в сорок восьмом, и Довика назвали в его честь. Дедушка Зеев тоже участвовал в Войне за независимость, но он не погиб и даже не был ранен. Он умер в девяносто два года, во время прогулки в лесу, на хребте Кармель. И еще у них был третий брат, Арье, который умер в доме престарелых. Вы обратили внимание на их имена? Их стоит записать, потому что это напрямую относится к вашей теме. Их отец дал трем своим сыновьям имена по названиям хищных зверей: медведь, волк и лев. «Конец всем этим „Янкеле“, и „Мотеле“, и „Шмулеле“, — сказал он, — здесь у нас будут медведи, волки и львы».
Глава четвертая
— Извините, что я вас перебиваю. Я хочу попросить, если вам не трудно, вернуться к теме нашего разговора и по возможности сосредоточиться на ней.
— Сосредоточиться? Нет, вы и впрямь попали не по адресу. Давайте вы будете сосредотачивать вопросы, как вам удобно, а я буду отвечать так, как считаю нужным. Вы уж извините. Понимаете — история еврейских поселений в Палестине, при всем моем к ней уважении, это ведь далеко не только комиссия Пиля[15], и расколы в поселенческом руководстве, и высокие принципы сионизма, и положение женщины, и отношение к арабам, и личность Бен-Гуриона. На мой взгляд, это, в первую голову, история любовей и ненавистей, рождений и смертей, мифов и мести. И еще это истории семей — отца и матери, брата и сестры, жениха и невесты, внуков и правнуков. И не в золотой цепи поколений, а в деревянной телеге — с ружьем, и коровой, и деревом, и женщиной. Из этого состоит история в любом месте, и из этого она состояла и здесь.
— Не могу сказать, что вы предоставляете мне широкий выбор.
— Но это ведь вы обратились ко мне, не я к вам.
— Сколько мне помнится, вы сказали, что я могу записывать вас на диктофон?
— Чувствуйте себя свободно. Угощенье за счет заведения! И кстати, я прошу прощения за свой тон. Обещаю впредь держаться ближе к теме. Знаете что? Давайте я даже представлюсь вам официально, чтобы создать более деловую атмосферу. Прошу — вот мое удостоверение личности. Имя, фамилия, номер, видите? Правда, я назвалась вам Рутой, но на самом деле мое имя Рут. Как у моей бабушки. Рута — это имя, которым меня называют все вокруг, в том числе я сама. Это хорошее имя, такое, знаете, «дружественное к окружающей среде», и к тому же к нему легко найти рифму: Рута-баламута, Рута-таратута, Рута-стебанута. А один раз, на перемене в школе, я услышала, как двое старшеклассников называют меня «Рута-шалавута». Они думали, что я не слышу, но я остановилась — это было на самом верху лестницы, возле учительской, — и сказала им: «Насколько я понимаю, мальчики, вы говорите обо мне. Так, может, вы объясните мне, что такое „Рута-шалавута“?» Вы обратили внимание, Варда, каким тоном я это сейчас произнесла? Это я подражала самой себе в роли строгой учительницы.
Ну вот, эти остряки уставились друг на друга — ледяная тишина в воздухе и багровый румянец на лицах — и не знали, что ответить.
«Ну, ребята, — сказала я, — я же жду, я ведь и на самом деле не знаю, что значит „Рута-шалавута“, и не могу припомнить такого выражения в Танахе».
На их счастье, прозвенел звонок, и они шмыгнули в класс, но после обеда, дома, я спросила Довика — это мой старший брат, если вы случайно забыли…
— Я не забыла. А кроме того, я записываю все имена…
— …я спросила Довика, и он объяснил мне, что такое «шалавута», и я уж не знаю, знаете ли вы, но он сказал, что это очень грубое выражение. И еще добавил, что я не должна волноваться, потому что со стороны старшеклассников это даже своего рода комплимент.
«Чего ты от них хочешь, сестричка, — сказал он, — эти ребята, они же старшеклассники, они же вот-вот лопнут от гормонов, а тут такая училка, как ты, огонь-девица, они же в их возрасте только об этом и думают…»
Это я сейчас подражала Довику. Довику легко подражать, потому что он нарочно говорит грубым голосом и делает ударения и паузы в самых неправильных местах.
«В этом возрасте, — продолжал он, — на что они ни смотрят, оно у них вызывает одну-единственную мысль, совсем как в том анекдоте о профессоре, который показывал своему пациенту разные картинки и спрашивал, что это ему напоминает».
Он прав. Это именно то, что занимает все их мысли. А «Рута-шалавута» и в самом деле хорошая рифма, и ребята эти, в конце концов, тоже хорошие, а я хоть и «училка», но действительно выгляжу совсем неплохо. Признаю свою вину. Не огонь-девица, конечно, но «есть на что посмотреть», как я однажды услышала за собой. Смешно — у них только еще ломается голос, а они уже порой смотрят на меня, как взрослые мужики на улице. Еще не тот взгляд, которым скототорговцы смотрят на корову, но уже эдак медленно-медленно, проходя сверху вниз и останавливая взгляд в тех же местах, где обычно задерживаются взрослые мужики: сначала глаза, губы, потом справа налево от одной груди к другой и обратно и дальше вниз: такой, знаете, проникновенный взгляд в глубины чресел, — как там насчет ширины таза и числа яйцеклеток? — и потом вдоль ног обратно к глазам, но уже только лишь из соображений вежливости, потому что, между нами говоря, глаза ведь не говорят ничего. Они не добавляют и не убавляют. Весь почет, который им оказывают, когда величают их окнами души или зеркалами духа, — все это глупости. Ну, не важно. Короче, все они так. И не имеет значения, прохожий это на улице, или ученик в школе, или отец ученика, или врач в поликлинике, или инспектор министерства просвещения.
Кстати, насчет ваших гендерных различий: женщины тоже пялят глаза, даже если они доктора наук из университета. Я ведь видела, как вы посмотрели, когда вошли, таким знакомым «гендерным» взглядом, которым женщина смотрит на женщину, чтобы проверить, кто сильней. Наши мудрецы правильно говорили: «Женщина, ее оружие всегда с ней», — то есть она всегда вооружена: груди торчком, чресла наизготовку, бедра — патронташ, кудри — шлем и ко всему к этому — язык, готовый стрелять очередями. Вот такие мы: состоим при оружии двадцать четыре часа в сутки, как новобранец, получивший пожизненное назначение в караул. Глаза, голос, внешность, тело. Это достаточно гендерно, на ваш взгляд, то, что я сейчас говорю?
— Безусловно гендерно.
— Я понимаю. Достаточно гендерно для разговора, но недостаточно для истории еврейской колонизации Палестины, да? Я вижу, что вы смеетесь. Я опять отвлеклась и потеряла сосредоточенность?
— Есть немного.
— Потерпите, Варда. Не беспокойтесь, все еще образуется. Вы не уйдете из дома Тавори с пустыми руками.
Глава пятая
— Ласковое ли это имя — Рута? Не совсем. И в любом случае ласковые имена — не самый популярный товар в нашей мошаве. Я вам сказала, что мое официальное имя — Рут, по имени моей бабушки, и, сказать по правде, это она сама попросила назвать меня так. Я ведь родилась, когда она еще была жива. И никто не возражал. Все знали, как сильно она хотела иметь дочь, а потом внучку, и даже те, кто ворчал, что, мол, у евреев не принято называть новорожденного по имени еще живого родственника, даже те знали, что ей уже недолго осталось. Да и она сама, надо думать, тоже знала.
Короче, в течение нескольких лет в семействе Тавори были бабушка и внучка с одинаковым именем. Но ее всегда величали «Рут Тавори» — как положено, по всей форме: «Рут (торжественная пауза и потом: „Вызывается к зажиганию факела..“[16]) Тавори!» А меня звали просто Рут Тавори. А если говорят просто «Рут Тавори», без паузы и без факела, то это слышится, как «РутаВори». Попробуйте сами произнесите это вслух. Видите! Я уверена, что и нашу Рут Моавитянку[17] тоже звали Рута и по той же самой причине. Потому что «Рут (торжественная пауза: „Вызывается для зажигания факела“) Моавитянка» — это величанье, это прабабка царя Давида, а просто Рут, та, что из Моава, — это та Рута, которая всю ночь обжималась с Боазом на гумне.
Ну, не важно. Сегодня уже все здесь, и семья, и ученики, и другие учительницы, и подруги, называют меня Рута. Кстати, настоящих подруг у меня нет, ни единой, но у меня нет и более подходящего слова, чтобы назвать тех, кто у меня есть. Ну вот, и всякий раз, когда я иду на наше кладбище — а это бывает раз-два в неделю, — я навещаю также могилу бабушки, и тогда я вижу свое собственное имя, выгравированное на ее памятнике: «Рут Тавори» — и ниже: «Добродетельная жена[18], мать своих сыновей и супруга своего мужа». Совсем как замечания об ученике, которые пишут в школьном табеле после отметок, правда? Так вот — в качестве «супруги своего мужа» бабушка, конечно, заслужила «неуд», но по всем остальным предметам — «хорошо» и даже «отлично».
— Вы ее помните?
— Да, очень хорошо. К тому же, знаете, она из тех женщин, которые легко вызывают воспоминания, даже воспоминания о том, чего на самом деле никогда и не было, если по совести говорить. Мы с Довиком тогда еще не знали всю правду о ней и о дедушке, но мы слышали там и сям кой-какие разговоры и знали, что люди одновременно и жалеют ее, и избегают с ней общаться — убийственное сочетание, как на мой взгляд. Так что мы уже детьми поняли, что она много лет назад получила какой-то ужасный удар, от которого так никогда и не оправилась.
— Что вы имеете в виду, когда говорите «всю правду о ней и о дедушке»?
— Терпение, Варда, я ведь посреди рассказа. Мы знали, что наша бабушка — из тех, о которых говорят «слегка странноватая». И я несколько раз слышала, как люди говорили, что она то и дело плачет безо всякой причины. Кстати, я категорически не согласна с этим выражением. Не бывает плача без причины, просто не всегда эту причину знают или понимают, а иногда и понимают, но не называют. Ну, не важно. Иногда она действительно плакала, ну так что? Кто не плачет иногда, а? И кто действительно понимает, почему плачет? Но что на самом деле приковывало к ней внимание, так это то, что все время казалось, будто она что-то ищет. Даже когда она открывала дверцу кухонного шкафа, это выглядело так, будто она надеется увидеть там еще что-то, кроме кастрюли или банки с рисом.
Это у нее особенно проявлялось, когда копали землю. Я была тогда совсем маленькой девочкой, но хорошо это помню. Каждый раз, когда копали котлован под фундамент, траншею для водопроводной трубы или канализации или даже просто новую выгребную яму, она тотчас приходила, точнее сказать — появлялась, вставала возле землекопов и начинала вглядываться. И всегда на таком подчеркнутом расстоянии: «Я не мешаю, но и уходить не намерена». Было ясно, что она что-то ищет и это «что-то» погребено в земле. И так же было, когда начиналась глубокая пахота в преддверии осени — она шла за трактором, чуть сбоку, по еще невспаханной земле, кругом аисты и сойки, и тут же она — всегда в одном из своих широких цветастых платьев, в высоких рабочих ботинках и в соломенной шляпе, вдет размашистым шагом, твердым, отличным от ее обычной походки. Высоко вверху, в небе — два ястреба, из тех, что охотятся на змей: кружат и жадно высматривают себе добычу, которую, может, вывернет из земли плуг, а внизу, на земле — наша бабушка Рут, вокруг которой величаво ступают аисты, высокие, худые и уродливые. И она, как одна из них — тоже высокая и худая, но красивая. А плуг себе идет и идет и знай выворачивает огромные комья и открывает небу укрывшихся в земле змей, мышей и ящериц, и птицы тут же набрасываются на них. И только она одна никак не находит того, что ищет.
— Чего же? Что она могла искать?
— Спросите стариков, которых вы здесь интервьюируете, — может, они знают, что и почему. Дети думали, что она просто тронутая, и были такие, которые ходили за ней следом, и тогда в поле наблюдалось странное шествие: впереди трактор, за ним аисты и женщина, а за ними дети — показывают на нее пальцем и смеются. По правде говоря, если бы это была не наша бабушка, возможно, мы бы тоже смеялись, потому что мы сами, поскольку были детьми, тоже думали, что у нее не все в порядке. Но мы не видели в этом ничего особенного. В те времена такие «не-все-в-порядке» были тут чуть не в каждой семье, и каждый со своими причудами. Сейчас, кстати, такого уже нет, и, честно говоря, от этого даже скучновато. Нет уже тех былых безумцев и безумиц, нет людей, которые повинуются зову своего сердца — зову любви, зову ненависти, зову мести.
— А на самом деле в чем была правда?
— Какая правда?
— Ну, она на самом деле была безумна или действительно что-то искала?
— Правда о человеке, Варда, всегда находится как раз посредине между этими двумя возможностями, в точности там, где любят находиться настоящие правды. Однозначная правда, та, что либо на одном конце, либо на другом, вызывает скуку, и не только у окружающих, но и у самой себя. А когда она между, это совсем иное дело. Но это вы, я уверена, знаете и без моих объяснений, вы ведь историк. Да и что, в сущности, она меняет, эта «правда»? Можно искать в земле, потому что ты безумна, и можно искать, потому что там действительно скрыто что-то такое, что ты ищешь. Одно не противоречит другому, наоборот.
А что касается имен, то я думаю, что, когда придет мой черед, я велю им написать на моем памятнике «Рута», как в «Рута-шалопута», а не «Рут», как меня зовут по паспорту. Рута — хорошее имя для памятника. В нем есть что-то живое, озорное, оно непременно внесет свой положительный и даже освежающий вклад в довольно серенькую, согласимся, кладбищенскую атмосферу. И кроме того, Рут — это имя для женщины образцово-показательной, у которой все в полном порядке. «У-у-у» в нем — как у чиновницы из министерства, которая вытягивает губы трубочкой, а «Т» такое, будто она им этот слог, эту «Рут», припечатывает намертво. И еще это может быть имя женщины, вроде моей бабушки, которая отнюдь не была образцово-показательной, но сохраняла позу образцовости — одну из того незабвенного ряда имитаций, в которых будущее запечатлело ее на памятнике: «добродетельная жена», и «мать своих сыновей», и «супруга своего мужа». Может быть, это я от нее унаследовала свой талант имитации, как вы думаете?
— У меня нет никаких мыслей по этому поводу.
— Ну, в самом деле! Разве кто-нибудь не был «добродетельной женой» в первых еврейских поселениях в Палестине? Слышишь, бабушка Рут? Ты была «добродетельной женой», даже если плакала без причины. И ты была «супругой своего мужа», даже если он этого не заслужил. И ты была «матерью своим сыновьям», хотя они и сбежали из твоего дома при первой возможности.
Извините, мне нужно глотнуть немного воды. Приходится беречь горло. Налить вам тоже? Я ведь учительница. Мое горло — это мое орудие труда. Я нуждаюсь в нем, чтобы учить, чтобы говорить, чтобы отражать нападки, чтобы плакать и смеяться, чтобы рассказывать вам истории.
Хорошая штука вода! И заметьте — это вам говорит любительница более крепких напитков. Но вода… стоит мне попить воды, и я слышу свой вздох, вздох удовольствия и облегчения. Ну так что, Варда, я сумела дать вам немного материала? Рассказала вам немного о женщинах в истории еврейских поселений? А кстати, какое все-таки забавное выражение, эта ваша «история поселений»! Вы, возможно, не знаете, но в библейском иврите слово «история» чаще понимается как «родословная». Когда в Библии говорится: «Вот история такого-то» — это необязательно его личная биография. Обычно это список людей, что порождали, и порождали, и порождали: этот «роди» того, а тот «роди» этого. Потому что именно это на самом деле важно: имена, рождения, смерти, — а не все наши торжественные: «Восхождение в Страну», «Возвращение к труду на земле», «Заседание поселкового Совета» и «Первая борозда».
Ну, не важно. Оставим это. Какой парой они были — дедушка Зеев и бабушка Рут! Как она изменила ему, и как он отомстил ей за измену, и какой ранней смертью она отомстила ему за его месть! Именно отомстила, потому что осмелилась умереть до него и притом — не попросив у него разрешения и не сообщив ему заранее, что умрет. А ведь это далеко не то, что дозволяется сделать женщине по отношению к ее мужчине, и уж наверняка по отношению к такому мужчине, как наш дед, и в такой семье, как наша.
Два раза за всю жизнь она поставила его перед свершившимся фактом. В первый раз, когда изменила ему, и во второй — когда умерла ему. И легко было догадаться, что она кое-чему научилась между первым и вторым, потому что уже не дала ему возможности наказать ее за смерть, как он наказал ее за измену. И в самом деле — как можно наказать человека, все преступление которого состоит в том, что он умер? Что ты ему сделаешь? Самое большее — забудешь, но по отношению к бабушке этого не сумел сделать никто, и уж не он, конечно…
Ладно, мое горло и в самом деле начинает побаливать. Достаточно на сегодня, пожалуй. Видите, вот еще одна причина писать, а не говорить. Верно?
Глава шестая Убийство и самоубийство
1
В тысяча девятьсот тридцатом году в нашей маленькой тогда мошаве покончили жизнь самоубийством три человека. Так записано в книгах Совета мошавы, и таким выводом трижды завершал свой визит сержант британской полиции, который появлялся у нас после каждого такого случая. Появлялся, расследовал, проверял и вызывал у всех, видевших его, наряду с естественным страхом перед любым визитом представителя власти, еще и удивление, потому что волосы у него были черные, но лицо и руки тесно покрывали обильные веснушки.
Вот так, значит, было записано в книгах, и к такому выводу трижды пришел веснушчатый сержант, однако вопреки записям секретаря нашего Совета и вопреки выводам британского полицейского люди в мошаве знали, что только двое из самоубийц действительно наложили на себя руки, тогда как третий был на самом деле убит. Вся мошава знала, так говорят сегодня — знала, но скрывала и молчала. Совет мошавы поддерживал эту версию в силу убеждений — пусть, мол, англичане расследуют себе, сколько хотят, а мы чужим властям своего человека не выдадим. А британский полицейский поддерживал ее в силу своей великой лени, а может быть, и полного равнодушия. Пусть себе эти нэйтивз[19] кончают самоубийством сколько их душе угодно и убивают друг друга сколько хотят — Британской империи, которая меня сюда послала, все это глубоко безразлично.
Сам убийца тоже внес вклад в версию самоубийства. Хотя он и совершил свой поступок в порыве гнева и ревности, но действовал при этом весьма обдуманно и планомерно: отправил свою жертву на тот свет именно тем способом, который характерен для самоубийц, — выстрелом в рот. При этом он выбрал правильный угол и позаботился снять с покойника правый сапог и носок с правой ступни (после выстрела прошло всего несколько секунд, но его пальцы наверняка уже почувствовали, что эта ступня остыла), чтобы любому было ясно, что спусковой крючок был нажат большим пальцем ноги покойника, а не пальцем какого-то другого человека.
Вся мошава знала. Знала и молчала. Знала, что самоубийца убит, знала, кто и почему убил, но мы тут у нас свое грязное белье стираем дома, не снаружи, и даже сегодня не рассказываем эту историю чужим.
С той поры прошло много лет. Убийца уже умер. Его жена (о которой до сих пор говорят: «Это все из-за нее») умерла раньше него; двое их сыновей покинули мошаву, и один из них тоже умер. Так что сегодня на семейном участке живут только их внук и внучка со своими семьями. И поскольку как-то неуклюже рассказывать историю, все время именуя героев «убийца», «убитый» и «жена убийцы», из-за которой «это все», то самое время назвать их всех по имени. Убитого звали Нахум Натан, имя убийцы было Зеев Тавори, а имя его жены — Рут.
Зеев Тавори был человек строгих правил, из «гневливых», как таких именуют Притчи Соломоновы[20], огромный и могучий, как бык, и, под стать быку, ширококостный и жестоковыйный. Он вырос в одном из поселений Нижней Галилеи вместе с двумя братьями — Довом, который был старше него, и Арье, младшим, с молчаливой, работящей матерью и с отцом, который хотел сделать каждого из своих сыновей настоящим мужчиной: в пять лет они у него скакали на лошади, в девять сами пасли быков и доили коров, в двенадцать отец научил их стрелять из ружья и замахиваться дубинкой, а в четырнадцать каждый из них уже мог в одиночку срубить дуб и подковать лошадь.
Убитый, Нахум Натан, был уроженцем Стамбула, сыном важного тамошнего раввина Элиягу Натана. Это был обходительный, мягкий и деликатный юноша, совсем непохожий на своего убийцу. И на двух других, которые покончили с собой в тот год в нашей деревне, он тоже не походил. Он был молодой холостяк, а те — солидные семейные люди. Один из них покончил с собой, запутавшись в долгах, другой — из-за тяжелой болезни, тогда как Нахум Натан — так приукрашали, затемняя, объяснение его смерти — якобы не выдержал тяжести труда на земле и атмосферы в поселке, которая, в силу его характера и жизненного опыта, оказалась для него слишком гнетущей. Некоторые у нас даже называли его после смерти «неженкой».
Много знаменитых раввинов и ученых мужей вышли из семейства Натан, но отец Нахума, рав Элиягу Натан, был самый знаменитый из всех. Этот выдающийся знаток Торы был мудр не только по чину, но и по сути. Пойди Нахум по его пути, он остался бы в Стамбуле и стал раввином, как и его отец. Но еврейские первопоселенцы, которые двинулись тогда из России в Страну Израиля и по дороге проходили через Стамбул, поразили его воображение, очаровали и увлекли. И еврейские девушки из России, с их непривычно открытыми взгляду тяжелыми косами вокруг головы, порой золотыми, совершенная редкость в Стамбуле, и с их необычными в этом городе глазами, тоже взволновали и очаровали его. К тому же некоторые из них не единожды останавливали на нем свой голубой взгляд.
Быстро разнесся слух, что у этого молодого человека голодный халуц[21] всегда может получить щедрую миску супа с рисом, фасолью, кольцами лука-порея, отварными луковицами и костями. Суповые кастрюли наполнялись и опустошались, взгляды бросались все чаще и голубели все больше, разговоры завязывались, золотые косы расплетались и заплетались, идеи сверкали, как молнии, и, под стать молниям, разрывали потемки и раздвигали небеса, электризовали и освежали воздух, неподвижный и застойный уже долгие годы. И вот так сионизм увлек Нахума Натана, и он тоже надумал отправиться в Страну Израиля, чтобы стать еврейским земледельцем.
Рав Элиягу Натан испугался. Он умолял сына не прерывать свои занятия в ешиве и, уж конечно, не становиться крестьянином. Не покидать «шатер Иакова» — так он сказал — и не уходить в «пустыню Измаила» и в «поле Исава»[22]. Но сердце Нахума порывалось вдаль, и порой он чувствовал, как оно бьется в клетке ребер, точно птица, рвущаяся в полет. Он настаивал, и просил, и объяснял, и доказывал, и, в конце концов, убедил отца, и тот разрешил ему присоединиться к группе пионеров, отправлявшихся в Страну, и даже благословил его на дорогу.
Рав Элиягу, человек мягкий и добрый, дал свое разрешение с тяжелым сердцем. Он помнил, как праотец Иаков отправлял своего любимого сына Иосифа в его полосатой рубашке к братьям-пастухам в поля и как те продали его в рабство. Но даже в этих своих размышлениях он не мог представить себе весь размер того несчастья, которое ожидало его сына и его самого. «С пастбища в Сихеме к яме в Дофане»[23] — эти слова бились в памяти, но не достигали его ума во всем своем подлинном смысле. Он боялся, что его сын утратит веру, будет ограблен, заболеет, даже умрет, но не того, что он будет убит, а тем более — убит своим же соплеменником.
Тяжко было у него на душе, но согласия, данного сыну, он обратно не взял. Только поставил ему одно условие — что он не присоединится к какой-нибудь группе социалистов, или к рабочему движению, или к одному из тех кибуцев, в которых нет ни синагоги, ни шойхета, ни миквы[24] и где все парни, как рассказывают, спят со всеми девушками, а пойдет в одно из поселений Барона[25], к порядочным людям, где к его услугам будут и синагога, и миньян, и шойхет и где он будет каждый день накладывать тфилин и сможет соблюдать субботу и кашрут[26].
Сын обещал, и отец удивил его неожиданным подарком — парой отличных сапог, в точности подходящих для работы на земле.
«Ну как по мне мерили! — удивлялся Нахум, когда, примеряя их, прохаживался туда-сюда, улыбаясь счастливой детской улыбкой. — Такие удобные, а сапожник даже мерки не снимал!»
И рав Элиягу, в свой черед, улыбнулся сыну доброй отеческой улыбкой и не открыл ему, что однажды ночью, когда Нахум спал непробудным сном, он пригласил в дом сапожника и они вдвоем осторожно приоткрыли ноги юноши, так что тот даже не почувствовал. Отец держал в руке большую свечу, а сапожник обрисовывал ступни сына на картоне и измерял окружность лодыжки и мышцы голени, а также расстояние от пяток до колен на каждой ноге отдельно, потому что ноги, как всем известно, отличаются одна от другой.
Эта сцена: юноша лежит с закрытыми глазами, тени пляшут на стенах, сапожник склонился над неподвижным телом, снимая какие-то мерки, — вызвала у рава Натана такое волнение и страх, что он выбежал в другую комнату, чтобы там вволю выплакаться и успокоиться, потом умыл лицо и только тогда вернулся. Но сейчас, когда Нахум натянул сапоги и так обрадовался, рав Элиягу только улыбнулся, и заключил сына в свои объятья, и держал так, пока снова не наполнился страхом, причем не столько страхом перед тем, что может случиться с его сыном, сколько страхом перед собственным страхом, так что опять почувствовал подступающие к горлу слезы и вынужден был снова выйти в соседнюю комнату, чтобы поплакать и умыться.
2
Нахум Натан попрощался с отцом, с соседями, со своими учителями и учениками, сел на корабль, идущий в Яффо, а из Яффо направился в сельскохозяйственную школу «Микве Исраэль». Там он научился пахать, и сеять, и прививать, и обрезать и познакомился с киркой и косой. Там он также подружился со своим будущим убийцей Зеевом Тавори, пришедшим из Нижней Галилеи.
Очень отличались они друг от друга. Зеев — сильный, смелый и привычный к тяжелой работе в поле, а Нахум — мягкий, деликатный и мечтательный. Но, несмотря на это, они стали друзьями. Нахуму нравилось, что Зеев «борется и скачет на лошади, как настоящий янычар, — так он писал отцу, — размахивает палкой, как анатолийский пастух, а борозды прокладывает так прямо, как немецкий инженер». А Зеев смотрел на Нахума как на младшего, избалованного брата, учился у него незнакомым словам и выражениям и помогал ему, когда возникала необходимость.
После окончания школы их пути на какое-то время разошлись. Нахум по указанию отца поднялся с прибрежной равнины в Иерусалим, провел там несколько месяцев, поработал наемным рабочим у хозяина в Моце и усовершенствовался в выращивании винограда. Зеев не вернулся в родной дом в Галилее. Он кочевал по стране — тут пахал, а там охранял, тут добывал камень, а там сажал деревья. В помощь оказались ему и его опыт, и мышцы, а также привычка к тяжелому труду, которую воспитали у него отец с матерью. В любом месте он легко находил работу, однако нигде не заводил друзей. Земледельцы в поселениях Иудеи казались ему слишком мягкими и кроткими, под стать их рассыпчатой, красноватой глинистой земле, их садам и винодельням. Никакого сравнения с мужчинами в поселениях его Галилеи, твердыми, как базальт.
«У нас выращивали арбузы, скот и оливки, а нашими соседями были арабы, которые становились либо добрыми друзьями, либо злейшими врагами. И у нас дети в день рождения получали в подарок коня и дубинку, — так рассказывал он о своем детстве внукам многие годы спустя. И усмехался: — А эти тут танцевали менуэты, и потягивали вино, и болтали по-французски с чиновниками Барона».
И от тех пионеров, которые так понравились Нахуму в Стамбуле, он тоже держался в стороне. В отличие от него, родившегося в Стране и привыкшего к ней, в этих ему чудилась какая-то чуждость и опасливость — это сказывалось в их телодвижениях, в их способе выражаться, в нескончаемых спорах и странных восторгах. Да и их склонность к разговорам по душам и бесконечные пляски казались ему бесполезной тратой времени. «Они разговаривают, — писал он тогда отцу, — точно так же, как танцуют, — кругами. Никуда не сдвигаются».
На какое-то время он сблизился с людьми из «а-Шомер», организации еврейской самообороны, но вскоре убедился, что они слишком много времени уделяют тому, что подкручивают усы, бахвалятся своей силой и гарцуют по деревенским улицам. Он ушел и от них. В конечном счете он обнаружил, что во время обеденных перерывов чаще всего сидит с арабскими рабочими — среди людей, на языке которых он говорил, привычки которых знал и пищу которых любил. И хотя отец и мать всегда говорили ему: «Это наши враги!» — он именно в их обществе чувствовал себя уверенно и спокойно.
Раз в две недели он писал три письма: одно — родителям, второе — дочери соседей по родному поселению, где он родился и вырос — молодой девушке по имени Рут Блюм, и третье — своему товарищу по сельскохозяйственной школе Нахуму Натану. Писание давалось ему трудно, и длина его писем определялась бумагой, на которой он писал: письмо было длинным, если попадался целый лист, и коротеньким, если маленький клочок. Он рассказывал, где находится и чем занят, а для Рут Блюм добавлял пару ласковых слов о том, как он скучает, и все свои письма подписывал одними и теми же тремя словами: «Я, Зеев. Привет».
Какое-то время он работал в Зихрон-Яакове и там услышал о планах создания новой мошавы на деньги Барона. Он сообщил об этом своим родителям и нескольким товарищам, в том числе и Нахуму Натану. Они сорганизовались, одолжили деньги и купили себе в этом новом месте земельные участки. Участок Зеева Тавори оказался рядом с участком Нахума Натана, а рядом с ними был участок другого парня из этой же группы, по имени Ицхак Маслина, из хасидской семьи, которая прибыла в Страну еще до Первой алии[27] и поселилась в Тверии. Ицхак Маслина был уже женат на женщине по имени Роза, и Зеев знал его с юности, потому что до женитьбы на Розе Ицхак работал в лавке ее отца, а отец Зеева покупал в этой лавке семена и рабочие инструменты.
Они посадили на своих участках деревья, заложили виноградники, построили дома, и в начале того далекого тысяча девятьсот тридцатого года, когда в новом поселке покончили самоубийством три человека, Зееву исполнилось двадцать три года и он женился на Рут Блюм, которой было тогда девятнадцать. А в конце того же года она явила миру радостный живот беременной женщины.
3
Те годы давно миновали, те люди давно уже умерли, но рассказы живы и даруют друг другу поддержку и силу. Некоторые из них рассказывают у нас прилюдно, но в приукрашенных версиях, в те дни, когда празднуют основание мошавы. Некоторые опубликованы в различных исследованиях и книгах. А прочие шевелятся под спудом и порой вдруг выглядывают оттуда — подмигнут насмешливо: «А мы всё еще здесь», взмолятся взглядом: «Извлеките нас на свет!» — и исчезают снова. Так, истории о «краже выкупа», об «ограблении иерусалимского менялы» и о «городской малышке, утонувшей в старинном акведукте» все еще рассказываются на публике, тогда как истории о «том нашем парне, у которого был один глаз», или о «том нашем парне, который ходил к проститутке из Тверии», пересказываются только шепотом.
Историю о самоубийстве Нахума Натана — она же история о «сыне раввина и жене соседа» — не рассказывают, конечно, никому, а уж тем более на публике. Но когда она порой сама собой всплывает в разговорах между членами семьи или их соседями и каждый, кто рассказывает ее, что-то убирает или добавляет, выясняется, что никто не помнит ни точного места, ни даты смерти этого самоубийцы или убитого, а весь спор идет о типе ружья, ствол которого был вставлен ему в рот, был то английский «энфилд», или русская винтовка Мосина, или немецкий «маузер». И поскольку кости этого самоубийцы уже много лет назад были увезены с нашего кладбища и от него не осталось ни памятника, ни какого-либо иного следа, то находятся даже такие, что ожесточенно спорят, звали его Нахум Натан или Натан Нахум, а то и вообще как-то совсем иначе.
Все, однако, согласны в том, что он умер в ту осеннюю ночь, когда пошел первый дождь того далекого года. Эта деталь существенна, потому что наши места славятся дождями. Иные из них настолько обильны, что прорывают в земле новые овраги, а первый дождь тысяча девятьсот тридцатого года был таким шквальным, что на фоне его громов и молний, да еще сидя за спущенными жалюзи и закрытыми ставнями, никто в поселке не заметил, как сверкнул выстрел, и не услышал, как он грянул. Исключение составили три человека — Зеев Тавори, который произвел этот выстрел, Нахум Натан, в рот которого он выстрелил, и их сосед Ицхак Маслина, жена которого — я еще помню ее, эту Розу Маслину, с ее заячьими зубами и стройными ногами — в тот вечер потребовала от мужа немедленно выйти и починить водосток, потому что он все откладывал и откладывал это дело, хотя она не раз гнала его и умоляла, и вот теперь, через считанные минуты после начала дождя, вода уже стала заливать их спальню.
Ицхак Маслина прислонил лестницу к стене дома и уже начал было подниматься по ней, но в тот момент, когда он поставил правую ногу на четвертую перекладину, ему показалось, что из соседнего двора доносятся какие-то крики. Он посмотрел в ту сторону, но ничего не увидел, и тогда спустился с лестницы, с опаской приблизился к забору, поднял штормовой фонарь, который держал в правой руке, и поводил им вверх и вправо, пытаясь разглядеть, что там происходит.
Фонарь едва рассеял темноту, но как раз в ту минуту, когда Ицхак поравнялся с забором, гигантская молния рассекла небо сверху вниз по диагонали, с востока на запад, и в ее свете он увидел два синеватых силуэта. Двое мужчин стояли друг против друга на краю поля на соседском участке. Меньший из них дважды воскликнул: «Нет! Нет!» — а потом, видимо заметив силуэт Маслины, тоже синевший в темноте, крикнул: «На помощь! Он хочет меня убить!»
Маслина сразу узнал этот голос — голос соседа-холостяка Нахума Натана — и даже крикнул ему в ответ: «Нахум, Нахум!» — но ответом ему был жуткий, нечеловеческий рев. Более высокий из мужчин страшно взревел и, размахнувшись, ударил меньшего кулаком в левый висок, а когда тот покачнулся, нанес ему еще один удар кулаком в грудь. Нахум упал, и в свете новых молний Маслина увидел, что высокий мужчина наклонился над упавшим, держа в руках что-то длинное и узкое. Он подумал было, что это палка, но, когда раздался выстрел, понял, что это ружье, и тоже завопил от страха, распластавшись на грязной земле. Он испугался, что убийца — очевидно, грабитель, другая мысль даже не пришла ему в голову — заметит свет его фонаря и выстрелит в него тоже.
И стрелявший действительно заметил его. Сначала — как темный силуэт на фоне открывшейся двери, потом — как дрожащее пятно слабого света, приблизившееся к его забору и неподвижно застывшее там, а теперь — как исчезнувший силуэт и погасший свет. Убийца стащил сапог с правой ноги убитого и крикнул: «Ко мне, Ицхак! Быстрее ко мне!»
Ицхак Маслина узнал и этот голос и вздрогнул, узнав, потому что это был голос Зеева Тавори, его второго соседа. Он открыл калитку в заборе и стал приближаться к Зееву, и чем ближе он подходил, тем короче становились его шаги, а так как и глаза его не хотели встречаться с взглядом соседа, он приближался к нему, уставившись взглядом в землю.
Молнии вспыхивали одна за другой, и в их свете глазам Ицхака открылся труп Нахума Натана. Он содрогнулся от ужаса. Пуля вошла в череп Нахума и разворотила его, выходя, а то, что уцелело, было покрыто кровью, и водой, и мозгами, и грязью, так что убитого трудно было узнать. Но сапоги — сапоги на нем были теми единственными в своем роде замечательными сапогами Нахума Натана, которые были известны всей мошаве.
Зачем он вышел во двор в такой поздний и бурный ночной час, спросил Зеев Тавори.
Дождь залил его спальню, и он вышел прочистить забитый водосток, правдиво ответил Маслина.
— А почему ты подошел к забору?
— Я услышал крики, — сказал Маслина, — и хотел посмотреть, что тут происходит.
— И что же ты увидел?
— Я не увидел ничего.
— Ты ошибаешься, — сказал Зеев Тавори. — Ты много чего увидел. И если ты не помнишь, что ты увидел, то я тебе напомню. Ты увидел самоубийство. Ты увидел, как наш бедняга сосед Нахум Натан выстрелил себе в рот.
— Но откуда у него ружье? Чье оно, это ружье? — в недоумении спросил Маслина.
— Это мой «маузер», — сказал Зеев Тавори. — То ружье, которое мой брат Дов привез мне из Галилеи, когда доставил сюда в телеге корову, дерево и Рут.
Все это Зеев Тавори сказал совершенно спокойно и на удивление четко. А потом так же спокойно и четко объяснил:
— Нахум пробрался в мой дом и украл ружье. Но я проснулся и бросился за ним вдогонку. И ты видел, как я бежал за ним, и ты слышал, как я кричал ему, чтобы он остановился. Но я не успел — он тут же сунул дуло себе в рот и выстрелил. Сейчас ты припоминаешь?
Маслина не ответил, и тогда Зеев Тавори наклонился и прижал палец правой ноги покойника к предохранителю спускового крючка.
— Вот так, — сказал он. — Посмотри и запомни — может, когда-нибудь и ты захочешь покончить с собой.
Потрясенный Маслина приоткрыл рот — может быть даже намереваясь сказать, что он видел нечто совершенно иное, но Зеев Тавори опередил его. Он поднял ружье одной рукой, поднес дуло к шее Ицхака, точно под подбородком, и немного приподнял его так, чтобы глаза Маслины уже не могли уклониться от его взгляда.
— «При словах двух свидетелей состоится дело», — процитировал он[28]. — Если мы оба будем свидетельствовать одинаково, ты получишь от меня в подарок корову, точно такую же, как мою, голландскую первородку, беременную от первоклассного голландского быка. Но если ты расскажешь другое, ты тоже умрешь такой смертью. Здесь уже покончили с собой трое — прибавится еще один.
Ицхак хотел было сказать, что покончили с собой только двое, но его тело оказалось разумнее головы — оно застыло в молчании.
А сейчас небольшое, но необходимое разъяснение. Когда Ицхак Маслина был молодым парнем в Тверии, он каждое лето работал, как уже было сказано, в лавке отца Розы — той девушки, которой позже предстояло стать его женой. Вначале он занимался погрузкой и доставкой товаров, потом — их сортировкой и укладкой, а под конец даже счетоводством, но главное — он был занят мыслями о дочке своего хозяина.
В Тверии Розу прозвали Зубастой, потому что в детстве на месте выпавших молочных зубов у нее выросли два огромных резца, которые не позволяли ей как следует закрыть рот, из-за чего лицо ее постоянно сохраняло слегка насмешливое выражение. Но когда она выросла, в городе начали говорить не только о «зубах Розы», но и об «остальной Розе», потому что все остальное в ней, если не считать этих зубов, превратилось в симпатичную девушку с изящными движениями, длинными ногами и цветущим, красивым телом.
Однажды, когда Ицхак Маслина зашел на склад ее отца, Зубастая Роза, стоявшая на раздвижной лестнице, попросила его подать ей с пола пакет. Подняв пакет, он поднял также и глаза и увидел над собой схождение ее бедер. С тех пор каждый раз, как он видел ее, он снова видел ту же картину, и много лет спустя, когда она уже была его женой и он уже не мог выносить ее речь, и ее присутствие, и ее зубы, он по-прежнему ощущал желание к «остальной Розе». Стоило ему вызвать в памяти тот день и ту лестницу, как беглая встреча с ее бедрами снова возвращалась к его глазам.
Но вернусь к счетам, которыми он занимался в лавке ее отца. Их он тоже не забыл и даже сейчас, спустя много лет, все еще мог хорошо, и быстро, и точно подсчитать в уме свою прибыль и свой убыток. И поэтому он мгновенно понял смысл слов Зеева Тавори. А леденящее душу прикосновение ружья к подбородку ускорило его расчеты в несколько раз.
Он отступил на шаг и сказал:
— Самоубийство — со всех точек зрения дело плохое, корова, напротив, дело хорошее, а беременная голландская первотелка — это совсем хорошо.
— И его сапоги ты тоже можешь взять, — снисходительно разрешил Зеев Тавори. — На меня они все равно не налезут.
— Но что я скажу людям в мошаве? Что я снял их с ног мертвеца?
— Конечно. Забрал, чтобы не украл какой-нибудь воришка. Взял для сохранности. Сейчас ты скажешь им так, а потом посмотрим, что они решат с ними делать.
Маслина никак не мог решиться. Но такими замечательными сапогами и впрямь нельзя было пренебречь. Поэтому он быстро наклонился и попытался стащить сапог с левой ноги Нахума Натана. Однако сапог отказался ему подчиниться. И на какой-то миг Маслине даже показалось, что мертвец вырывает у него из рук свою ногу. Он испугался и отпрянул от трупа.
Зеев Тавори усмехнулся. Маслина опять наклонился, потянул и упал на спину, прямо в грязь, с сапогом в руке. Убийца усмехнулся снова и сказал:
— Вставай и беги к Кипнису, расскажи ему, что ты здесь видел. И скажи, что я стою во дворе под дождем и охраняю труп самоубийцы.
Кипнис был тогда председателем Совета мошавы. Человек высокого роста, резкий, с желчным чувством юмора.
— В такое время? Он еще спит.
— Если человек кончает жизнь самоубийством, председателя Совета можно разбудить в любое время, — сказал Зеев Тавори и подтолкнул Маслину. — Ну, давай, беги, беги! Беги и расскажи, что ты видел, а я тем временем останусь здесь с этим несчастным дохляком.
— И мы оба с тобой скажем, что это было самоубийство? — недоверчиво переспросил Маслина, словно требуя лишнего подтверждения.
— Разумеется, самоубийство, — сказал Тавори. Он указал дулом ружья на развороченную голову мертвеца, а потом снова поднял ружье и придвинул дуло вплотную ко лбу Маслины. — Сделать своему другу то, что он сделал мне, — разве это не самоубийство?
4
Каждый человек порой думает о самоубийстве, а некоторые и вполне всерьез размышляют о том, как это лучше сделать, и даже пытаются представить себе, что будут говорить о них безутешные родственники и потрясенные друзья. И вообще — в самоубийстве, несомненно, есть что-то влекущее, любопытное и заразительное, и порой мысль о нем приходит на ум не только из-за боли, отчаяния или нужды, но и из желания наказать кого-то или вызвать жалость и сочувствие к себе, а возможно — и просто от наплывшей вдруг тоски или минутной слабости. Поэтому члены Совета мошавы решили сказать британскому сержанту, что Нахум Натан покончил самоубийством, потому что был человеком мягким и деликатным, не создал семью и не выдержал трудностей и одиночества, а поскольку у него не было здесь по-настоящему близкой души, с которой можно было бы поделиться своими страданиями, или жены и детей, о которых нужно было бы заботиться, на него очень сильно повлияло то, что сделали двое самоубийц, ему предшествовавших, и он сделал то же, что сделали они.
Эту версию самоубийства изложили также в телеграмме, посланной отцу Нахума раву Элиягу Натану в Стамбул, и этим нанесли ему неизлечимую рану. Не только потому, что он потерял единственного сына, но и потому, что известие о самоубийстве пробудило в тамошней общине всевозможные толки и пересуды. Рав Элиягу поспешил написать некролог о сыне, который озаглавил: «Хищный зверь растерзал его»[29], как бы утверждая, что Нахум не сам наложил на себя руки, а кто-то другой нанес ему смертельные раны, ибо среди хищных зверей есть и двуногие, и один из таких как раз его и «растерзал». Но в тексте некролога были также слова: «Пал он духом» — и даже: «Душа его растерзана была его же руками», — как будто рав Элиягу хотел намекнуть, что есть правда и в сообщенной ему версии.
Так или иначе, но, получив телеграмму, рав Элиягу поспешил отплыть из Стамбула в Хайфу в сопровождении своего верного слуги — молчаливого великана в поношенной одежде, в красных туфлях, мягких, как руки годовалого ребенка, с огромными ладонями, тяжелым подбородком и иссиня-черной вьющейся прямоугольной бородой ассирийского царя. В хайфском порту прибывших ожидал шофер, который доставил их в поселок. Секретарь и председатель Совета, упомянутый выше Кипнис, встретили их и провели в комнату для общих собраний. Здесь гостей ждали казначей и директор мошавной школы, сидевшие посредине за столом, а также Зеев Тавори и Ицхак Маслина, сидевшие у стены на скамейке.
— Эти двое — свидетели, — указал на них председатель Совета после приветствий и выражений соболезнования. — Они были соседями вашего Нахума, светлая ему память. Достопочтенный рав может их расспросить.
Рав Элиягу начал спрашивать, свидетели стали свидетельствовать. Маслина начал с правдивых слов о дожде, водостоке, залитой спальне и лестнице, а убийца начал со лжи, заявив, что ночью услышал кого-то у себя в доме: скрип дверей, крадущиеся шаги — «вор подкапывающий[30], ваша честь, вошел в дом и вышел». И затем сказал, что он вскочил и хотел схватить свое ружье, но со страхом увидел, что его ружья нет на месте, и выбежал во двор, а во дворе увидел силуэт какого-то человека, убегавшего под дождем с длинным предметом в руке, похожим на ружье, и побежал за этим человеком.
Оба они упомянули гигантскую, наискосок через все небо, молнию и оба подчеркнули, что затем увидели при ее свете: убегавший человек остановился на краю поля, по ту сторону забора Ицхака Маслины, и прежде, чем они поняли, что он задумал, уже прогремел выстрел, а когда они подбежали — «я со своего двора, а Ицхак со своего, мы увидели, что это ваш сын Нахум, светлая ему память, ваша честь». Помолчав, Зеев Тавори, к ужасу рава, добавил: «Помилуй его Аллах» — и сказал еще, что из-за темноты и проливного дождя, «а также выстрела, который разворотил, прошу прощения, его череп», он поначалу опознал покойника только по его сапогам, единственным в своем роде и знакомым каждому человеку в мошаве: правый валялся в грязи, а левый был у него на ноге.
— Те сапоги, которые я ему подарил, — вдруг простонал рав Натан сквозь подступившие слезы. — Новые сапоги, чтобы он пошел в них своим новым путем и работал в них на земле…
И тогда огромный слуга, который до той минуты не проронил ни слова, вдруг спросил, где они, эти сапоги и взял ли их кто-нибудь оттуда?
Маслина не смутился.
— Эти сапоги у меня дома, — сказал он и перевел взгляд на Зеева Тавори, а с него — на рава Элиягу. — Мы сразу побежали позвать председателя Совета, ваша честь, этого самого господина Кипниса, который здесь присутствует, и председатель Совета сразу вызвал полицию, и я испугался, что во всей этой суматохе кто-нибудь украдет его сапоги. Такие сапоги не каждый ведь день увидишь, тем более здесь, у нас в мошаве.
Рав Элиягу выразил желание увидеть сапоги сына.
Маслина сбегал домой и вернулся с сапогами. Рав молча посмотрел на них. Слезы стояли в его глазах, горло пересохло. Наконец он выговорил:
— «Посмотри…»
— Куда? — испуганно спросил секретарь.
— «Посмотри, сына ли твоего эта одежда, или нет»[31], сказал раввин и показал пальцем. — Там еще сохранилось пятно крови.
— Оно уже не сойдет, — усмехнулся Зеев Тавори. — С кожаных вещей кровь никогда не сходит, ваша честь. Мой отец когда-то раскроил вору голову дубинкой, и на подпруге отцовского седла по сей день остались следы крови этого говнюка.
Осиротевший отец глянул на него с недоумением, словно поразился: из какого зловонного источника брызнула вдруг эта грубость? — но тут же повернулся к Ицхаку Маслине и сказал:
— Это сапоги для работы на земле, а не для городских жителей, возьми их себе. Кажется, они тебе по размеру…
— Я уже примерял их, — поспешил ответить Маслина, удивляя себя не меньше, чем всех остальных. — Они на мне как влитые.
Воцарилась тишина. Маслина понял, что сказал ужасную вещь. Он почувствовал, что его тело вдруг мучительно захотело стать больше и выше, подняться над своей низкой душой и сказать правду, рассказать раву Элиягу, как на самом деле погиб его сын. Но и Зеев Тавори почувствовал это. Он скосил взгляд на соседа и заметил:
— Очень красивые сапоги. Ты сможешь выйти в них на пастбище со своей новой коровой.
Маслина снова втиснулся в стул.
— Спасибо, ваша честь, — проговорил он. — Каждый раз, когда я буду надевать эти сапоги, я буду вспоминать вашего сына, да будет ему земля пухом.
Несчастный отец задал еще несколько вопросов. В них не было ни малейших признаков недоверия или подозрения. Он даже не намекнул на возможность убийства. Но он не спросил и о том, свидетельствовало ли что-нибудь в поведении сына о его страданиях или отчаянии, как будто не хотел снова выслушивать заведомо известные ответы. Какой мудрец мог бы понять, что за мысли и чувства рождались и бродили в эту минуту в его душе? Мог ли этот несчастный старик представить себе, что ему с такой дерзкой решимостью говорят страшную ложь?
5
После всех разговоров и свидетельств рава Элиягу и его слугу повезли на поселковое кладбище. В те дни там было лишь несколько захоронений, и на могиле Нахума Натана стоял только простой деревянный знак. Рав Элиягу спустился с коляски и едва не упал, но слуга, как будто привыкший к этому, тут же охватил его своими огромными ручищами и понес к могиле, прижав к груди, так что ноги рава висели в воздухе. А подойдя к могиле, слуга сделал нечто такое, чего у нас никто не видел ни до того дня, ни после, — встал на четвереньки, как собака, и тогда рав уселся на его широкой спине, как на скамье, сложил руки на коленях и стал вглядываться в могилу сына.
Люди, изумленные этим зрелищем, отошли подальше и встали за забором, потому что поняли, что рав хочет посидеть в одиночестве. Несколько минут спустя слуга оторвал одну руку от земли, быстро и энергично почесал нос и тут же вернул руку на место, не меняя позы.
Через четверть часа рав поднялся. За ним поднялся с четверенек и слуга, похлопал себя по коленям и смахнул со штанов налипшую землю. Они вернулись к коляске, и председатель Совета пригласил их к себе в дом на обед.
— Все уже готово и все абсолютно соответствует правилам кашрута, — объявил он, а секретарь вдруг улыбнулся и сказал, что госпожа Кипнис замечательно готовит. И добавил:
— Это большая честь для нас, жаль только, что из-за такого большого несчастья.
Рав принял приглашение. Несмотря на горе, его мучил голод. Но собственный аппетит и удовольствие, которое он получал от пищи, были ему неприятны, и он ел вежливо и сдержанно, разглядывая сотрапезников и вспоминая братьев Иосифа, которые ели и пили над ямой, в которую бросили младшего брата. Однако и теперь лицо его не выражало никаких подозрений, одну лишь печаль и еще — вину, потому что всякий родитель чувствует свою вину в смерти дочери или сына.
Он запил еду двумя маленькими чашками горячего и очень сладкого чая и, наконец, набрался сил, чтобы попросить показать ему также дом его сына. Маленькая компания вышла из дома Кипниса и направилась к дому Нахума Натана. Председатель Совета открыл дверь принесенным ключом, и рав Элиягу обошел небольшое жилище сына: две комнаты, кладовка и кухня с верандой, выходящей во двор, — пересмотрел скудную одежду в шкафу и несколько книг на полке — Талмуд, молитвенник и рядом книги по сельскому хозяйству.
— Он только что посадил виноградник, — сказал секретарь, — и собирался построить птичник.
Рав пробормотал:
— Посадил виноградник и не попробовал от него… — потом посмотрел на узкую холостяцкую кровать и вдруг зарыдал: —…и не успел породить сына, не успел познать женщину…
Это было его первое рыдание со времени приезда. Огромный слуга тотчас бросился к хозяину и прижал свое тело к его телу, как будто снова предлагая себя для опоры. А Зеев Тавори, который присоединился к группе и тоже вошел в дом, хоть и не был приглашен, подумал со злобой: «Познал, еще как познал, сучье семя!» Но губы его оставались плотно сжатыми, и на лице не отразилось ничего.
Рав попросил всех удалиться. Он остался один в доме, и никто так и не знает, что он там делал, но потом он открыл окно в спальне и, очевидно, кого-то увидел, потому что тут же вышел из дома и поспешил к забору, который отделял двор его сына от соседнего двора, где появилась высокая молодая женщина.
Глаза женщины встретились на минуту с глазами рава Элиягу, и ее рука потянулась прикрыть рот. Рав вздрогнул и посмотрел на нее. Несмотря на рост и широкие плечи, женщина показалась ему худой. И хотя она выглядела стройной, но его сердце и ее глаза безошибочно сказали ему, что она беременна, и душу его наполнила та непонятная тоска, которая иногда пробуждается в душе мужчины при виде беременной, даже если он старый годами раввин, а она молодая и чужая женщина.
Зеев Тавори, стоявший рядом с председателем Совета, секретарем, казначеем и Ицхаком Маслиной, вдруг шагнул к женщине и буркнул: «Вернись в дом, Рут!» — и рав сразу понял, что она жена ему и что между ними царит не любовь, а страх с ее стороны, ревность и подозрения — с его.
Женщина, которой сказали «Рут», собралась было выполнить приказ мужа, но рав вдруг остановил ее и сказал: «Подойди, пожалуйста, ко мне». Ему хотелось увидеть, как она идет, — возможно, чтобы подтвердить или опровергнуть свою догадку.
Она подошла, и рав сказал ей: «Да будет мальчик», — и не знал того, что уже чувствовала она, — что будет девочка, и не знал того, что уже знала она, — что это будет его внучка, дочь его сына, убитого рукой ее мужа.
— Вернись в дом, Рут, — повторил Зеев Тавори. — Вернись немедленно!
У него вдруг кровь прилила к голове. Но она тут же вошла в дом и закрыла за собой дверь, и тогда он медленно сжал и разжал кулаки, и головокружение отступило.
Председатель Совета спросил, не намерен ли достопочтенный рав поставить дом и имущество сына на продажу, и гигант слуга ответил, что с такими вопросами не следует беспокоить рава, а нужно обращаться к нему и что председатель будет вскоре извещен.
Председатель Совета поинтересовался еще, не хочет ли достопочтенный рав поставить памятник на могиле сына, и слуга ответил, что покамест рав удовольствуется стоящим там простым знаком, ибо в недалеком будущем он намерен перевезти останки сына на Масличную гору в Иерусалиме, на семейный могильный участок, где похоронены его отец, и мать, и старший сын, и там ему поставят постоянный каменный памятник.
— Там я похоронил и мать Нахума, — сказал вдруг рав и добавил, что, когда придет его час, он тоже будет похоронен на этом участке.
Затем рав Элиягу поднялся с места, и все поняли, что он собирается произнести прощальные слова.
— Я иду к нему, но он не вернется ко мне… — начал он, но все слова, вышедшие затем из его уст и покинувшие его тело, не облегчили его страданий, и ни на йоту не уменьшили страшную тяжесть от той муки и вины, от тех «когда бы» и «если бы», которые терзали его разум «бичами и скорпионами»[32] всех несбывшихся возможностей.
Водитель поспешил к машине, крутнул ручку мотора, надел шапку и сел на свое сиденье. Визит закончился. Поселковые дети, которые вот уже несколько часов ожидали именно этой минуты, восторженно завопили и захлопали в ладоши. Машина тронулась, стала удаляться, потом скрылась из глаз бежавших за ней детей — и вернулась по прошествии трех лет, будто уехала только вчера: тот же шофер в той же шапке и те же пассажиры, рав и его слуги, один — маленький, со слезящимися глазами, другой — могучий, с иссиня-черной бородой, в красных туфлях, косая сажень в плечах и громадные руки, всегда готовые обнять и нести.
В тот год у нас в мошаве построили новую синагогу, заменившую тот барак, который прежде служил молитвенным домом, и рав Элиягу привез нам свиток Торы в память своего сына Нахума и для вознесения его души. Тяжел был свиток для его возраста, сил и скорби, и поэтому слуга нес его так, как раньше нес самого рава, — прижав к груди, точно младенца.
Люди в поселке обрадовались дорогому и почетному подарку, а еще больше — его значению, ибо если бы рав подозревал кого-либо из них в убийстве своего сына, он не вернулся бы сюда и тем более со столь ценным подарком.
С радостью и печалью, с молитвой и слезами внес рав Элиягу Натан свиток Торы в синагогу, а после молитвы выразил желание снова посетить сыновний дом. Тем временем дом этот был уже продан другому человеку, и тот принял гостя с уважением и пригласил войти, но рав сказал, что ему тяжело входить в этот дом и что он хотел только познакомиться с купившим его человеком и пожелать ему успеха и мира, потому что до сих пор только слышал о нем от своего слуги, который занимался этой продажей.
На обратном пути из дома сына к дому председателя Совета рав Элиягу тщетно пытался вспомнить имя свидетеля, забравшего сапоги его сына, и дивился про себя, носит ли он их, как рав ему разрешил. И пока он рылся в памяти, он вдруг увидел в поле далекую женскую фигуру, и, пока он недоумевал, кто бы это мог быть, ноги его уже поняли, и решили, и свернули своего хозяина с дороги, и повели к ней. А приблизившись, он увидел, что угадал и что это та самая молодая женщина, которую он видел во время своего предыдущего визита в соседнем с сыновним домом дворе и лицо которой не стерлось из его памяти и даже иногда навещало его во снах.
Сейчас он увидел, что она держит на руках младенца — мальчика около года от роду, и поскольку прошло три года с тех пор, как он видел ее, и тогда она была беременна, он удивился — где же тот ребенок, которого она тогда носила во чреве?
Женщина стояла рядом с землекопом, который рыл канаву для стока воды вдоль края своего виноградника, и глаза ее были прикованы к лопате, которая раз за разом методично вгрызалась в почву и выбрасывала оттуда все новые и новые комья земли.
Увидев рава, землекоп торопливо выбрался из канавы, вежливо поклонился ему и сказал:
— С приездом, ваша честь, мы все здесь по-прежнему скорбим о Нахуме, вашем сыне. — А потом, приблизившись к нему, прошептал: — Несчастная женщина! Каждый раз, когда где-то копают, она приходит туда и смотрит.
С этими словами он вернулся к своей работе, а рав Элиягу, неожиданно для себя почему-то сильно разволновавшийся, поздоровался с женщиной.
Она не ответила. Он видел, что она вспомнила и узнала его и поняла, зачем он приехал тогда и зачем сейчас, но она лишь бросила на него один короткий и пустой взгляд и снова повернулась к канаве и к выраставшей рядом с нею куче земли. И больше она не обращала внимания ни на него, ни на копавшего канаву человека, а смотрела лишь на вонзавшуюся в землю лопату, которая слой за слоем снимала почву, и вслушивалась в безмолвный вопль, который доносился до нее откуда-то из-под земли и который слышала только она.
6
Наутро в мошаву прибыла еще одна машина, а в ней — люди из «Хевры кадиша»[33] сефардской общины в Иерусалиме. Председатель и секретарь Совета отправились с ними на кладбище и показали им могилу Нахума Натана. Несчастный отец не пошел с ними. Он не хотел и не мог смотреть на кости сына и уж тем более — на его развороченный пулей череп. Никто из жителей поселка не пошел тоже.
Люди из «Хевры кадиша» раскопали, нашли, выгребли, собрали и отвезли кости Нахума на Масличную гору. Там он и покоится по сей день, рядом с матерью, бабушкой, дядей и дедом. Его отец, достопочтенный рав Элиягу Натан, стоял там все время захоронения, смотрел на маленький кусочек земли, ожидавший его самого, и еще не знал, что ему не суждено быть похороненным в этом месте. Спустя несколько лет он переехал из Стамбула в Каир, а еще через двадцать лет, пресыщенный жизнью и тоской, ушел в иной, лучший мир. В своем завещании он снова припомнил историю Иосифа Прекрасного и процитировал его просьбу: «Вынесите кости мои отсюда»[34], — то есть из Египта в Страну Израиля, на семейный могильный участок в Иерусалиме.
Но к тому времени уже возникло Государство Израиль, и кладбище на Масличной горе оказалось вне его границ. Поэтому рав Элиягу был похоронен в Каире, а через многие годы, когда стало возможным перенести его останки на Масличную гору, уже не было ни тех, кто помнил бы его просьбу, ни тех, кто оплатил бы расходы, связанные с ее выполнением.
И сын его Нахум тоже забыт. Никто не посещает его могилу на Масличной горе, а его хозяйство в поселке много раз после его смерти переходило из рук в руки и меняло хозяев, пока несколько лет назад его не приобрел Хаим Маслина, внук того самого Ицхака Маслины, который дал ложное свидетельство и получил за это пару замечательных рабочих сапог и замечательную голландскую телку-первородку, беременную от замечательного голландского быка.
Глава седьмая
— А вот и вы! Сговорились на четыре, и ровно в четыре доктор Варда Канетти звонит в дверь. Пришла посмотреть на позор нашего поселения, изучить его и вывернуть наизнанку, да? Ну, как дела? Хотите есть? Хотите пить? Соскучились по мне? Ладно, ладно, я шучу. Усаживайтесь, пожалуйста. У нас есть полтора часа, а потом, если захотите, можете пойти со мной на родительское собрание и увидеть меня в действии. Мы можем начинать. Итак, ваш первый вопрос?
— Какая фамилия была у вас в семье до Тавори?
— До Тавори мы были Тверские. Мне говорили, что это имя имело в России какое-то значение, но отец моего деда хотел сменить галутное имя[35] на израильское и назвался Тавори. Как по причине, что это немного похоже по звучанию на «Тверской», так и потому, что там поблизости была гора Тавор, которую в России называют Фавором. Мне нравится и то и другое — и фамилия, и гора. Тавор — красивая гора, особенная, ее силуэт похож на женскую грудь, полную молока, на живот на седьмом месяце. И слово «Тавор» тоже особенное, оно ведь существовало еще до языка иврит, он просто присвоил его себе.
Дедушка Зеев, который родился и вырос вблизи этой горы, говорил своим внукам, Довику и мне, что еще многие годы после того, как он покинул Галилею и переехал сюда, ему не хватало очертаний Тавора на горизонте. Всякий раз, когда он поднимал глаза, его охватывало удивление — где гора? куда она подевалась? Я сама не росла возле Тавора. Я родилась в Тель-Авиве, а выросла здесь, в мошаве, но что-то из всего этого осталось и во мне. Я сохранила фамилию Тавори даже после того, как мы с Эйтаном поженились. Что? Эйтан? Разве я вам еще не называла это имя? Извините. Эйтан — это мой муж. Они оба — Эйтаны. И мой первый муж, и второй.
— Как интересно, что у обоих ваших мужей одно и то же имя, правда?
— Да, Варда, это очень интересно. И что еще интересней — что это один и тот же человек. Но сейчас это не важно. Вы потом поймете. А важно то, что я сохранила свою фамилию. Мой муж был Эйтан Друкман, а я осталась Рута Тавори. Тогда еще не было принято, как сейчас, чтобы женщина, выйдя замуж, сохраняла свою фамилию, так что многие брови вокруг меня поднялись в недоумении. И кстати, не впервые. Да будет вам известно, Варда, что будь на Олимпиадах такой вид спорта, как удивленное поднимание бровей, я принесла бы Государству Израиль много трофеев. Представляете себе: соперники выходят на поле, каждый выполняет упражнение, судьи подсчитывают, сколько бровей поднялось на трибунах, и объявляют (как заранее знает весь поселок): «Первое место, три очка — Рут (торжественная пауза) Тавори, Israel (восклицательный знак), просят подняться для вручения медали». Звучит гимн «а-Тиква», израильский флаг поднимается на вершину флагштока, море почестей и слез. Я кладу одну руку на грудь, как спортсмены из Соединенных Штатов, и одна слеза выкатывается и соскальзывает на щеку победительницы. Я ведь специалист по слезам. Я много в них упражнялась и достигла немалых успехов.
Ну, не важно. Я вышла замуж и сохранила свою фамилию. Я не хотела ее менять, и я не выношу этот нынешний обычай разных дамочек тащить на себе негабаритный груз двойных, а порой и тройных фамилий. Если ты уж такая самостоятельная женщина, сделай, как я — сохрани свое семейное имя, и все. Эйтану, кстати, это было совершенно безразлично. Даже наоборот. Он сказал: «Я влюбился в Руту Тавори и не хочу никакую Рут Друкман взамен». И не ограничился этим. Через некоторое время он вообще сменил свою фамилию на мою. Из Эйтана Друкмана стал Эйтаном Тавори. Сначала он представлялся так в шутку, это была еще одна из его шуток: «Эйтан Тавори, очень приятно». И добавлял: «Вы себе даже не представляете, насколько приятно». Я вижу, вы улыбаетесь. Да, он тогда очень любил смешить, а я была его благодарной аудиторией.
Короче, в один прекрасный день он поднялся, пошел в Министерство внутренних дел и официально сменил свою фамилию на мою. Довик сказал ему: «Что с тобой, Эйтан? Ты с ума сошел?» Но мне это как раз понравилось. Я даже сказала ему, что вижу в этом особо изысканный способ ухаживания. И знаете, что он ответил? Он сказал: «На этот раз это ухаживание не за тобой, а за дедушкой Зеевом, это он здесь главный Тавори, не ты». Но на мой взгляд, он ухаживал именно за мной, да еще как! Он умел ухаживать, и он любил ухаживать, хотя порой я чувствовала, что в этом спектакле ухаживания я не всегда являюсь объектом его стараний. Что иногда я всего лишь сцена для его спектакля.
Скажем, дни рождения. Как правило, дни рождения больше интересуют женщин и меньше мужчин, но мой первый муж не пропускал ни одного дня моего рождения — он устраивал мне праздник, он готовился, он придумывал всякие шутки и в каждый такой день вывешивал на стене свое постоянное объявление: «Рута, поздравляю тебя с твоим замечательным днем рождения, теперь тебе осталось еще… — и тут число менялось: пятнадцать лет, четырнадцать лет, тринадцать лет, — до твоего сорокалетия». И в каждый такой день я смеялась — Боже мой, сколько я смеялась с ним тогда, в те дни! — и спрашивала:
— Что ты так привязался к этому сорокалетию?
— Это мой любимый возраст. Возраст, в котором мне не терпится увидеть тебя.
— Сорок? Ты хочешь, чтобы моя кожа тинэйджера совсем сморщилась? Чтобы я поседела? Хорошо хоть, что у меня маленькие сиськи, они и в сорок будут стоять торчком.
А он свое:
— Я всегда хотел иметь сорокалетнюю жену, и я готов ее ждать.
— Почему же ты сразу не женился на сорокалетней?
Он смеялся:
— Потому что хотел тебя. Я по тебе видел, какой чудесной ты станешь, когда наконец прибудешь на эту станцию. Ты была моим долгосрочным вкладом.
— А пока что? Смотришь, как я с каждым днем становлюсь старее?
— Нет, — сказал он. — Ты не становишься с каждым днем старее. Ты с каждым днем становишься сороковее.
Представляете?! Я тут читаю книги и преподаю язык и Танах, а этот мой дикарь и невежда, с трудом закончивший среднюю школу, разом обгоняет меня с этим его «сороковее»!
— Сорок — малоприятное число, — сказала я ему. — Это сплошные неприятности — сорок дней потопа, сорок лет еврейских скитаний в пустыне, «еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена»[36], как возвещал пророк Иона. А кроме того, что будет, когда мне исполнится сорок лет и один день? Или сорок лет и неделя? Сорок лет с половиной? Ты уже не захочешь меня больше?
— С какой стати? Так же, как это не случается за один день, так это и не исчезает за один день. Так же, как ты была немножко «сороковее» уже в шестнадцать с половиной, когда я тебя увидел впервые, так в тебе останется вполне достаточно и годы спустя.
Люди говорили мне: «Как он все время ухаживает за тобой, какой клевый мужик тебе попался, видно, как он тебя любит». И еще (это я им подражаю): «Муж у тебя — прикольный парень». Какое отвратительное слово — прикольный! Уже и газету и даже книгу невозможно взять в руки, чтобы не наткнуться на него во всех его видах — прикольный, прикольно, прикол… Эйтан был совсем не из этого корня. Ему больше подходило слово «обаятельный» — он очаровывал всех, и все попадали в его сеть, которую он даже и не раскидывал. А еще ему подходит звание «покоритель сердец», если вспомнить те сердца, которые ему покорились и потом уже не захотели освободиться. И пусть у вас не будет заблуждений: большинство этих сердец принадлежали как раз мужчинам. Мужчины самого разного возраста и уровня — бедные и богатые, молодые и старые, друзья и покупатели — все оставались с проколотыми ушами у косяка его двери[37].
Ну, не важно. Эйтан попросил меня, чтобы в тот торжественный для него день, когда он меняет фамилию Друкман на Тавори, я пошла бы с ним и официально поменяла свое имя на Руту. Но я отказалась. Я ненавижу бланки и бюрократию, и мне все равно, что написано в моем удостоверении личности. «Ты называешь меня Рута, и мне этого достаточно, — сказала я. — И я ведь прихожу, когда ты меня так зовешь, разве нет?»
— А как вы называли его?
— Что я слышу? Неужто вы не так уж сосредоточены исключительно на истории еврейских поселений в Палестине?
— И все-таки — как?
— Вы имеете в виду ласкательное прозвище? У него не было такого. Я называла его Эйтан, а когда знакомила с другими, говорила «мой супруг». Сегодня «супруг» считается политически корректной заменой «мужа», но как раз в Танахе, который я преподаю, в самой шовинистической книге, какую я знаю, самой подходящей для моего деда, если бы он удосужился ее прочесть, слово «супруг» употребляется вместо слова «муж» и очень даже часто[38]. Смешно, правда? Некоторые у нас в поселке, услышав мое «супруг», спрашивали, уж не стала ли я феменисткой — так у нас произносят «феминистка», с буквой «е».
Я? Вы что, с ума сошли? Мне просто нравится это выражение. «Мой супруг», древнее ивритское иши, — в этом есть что-то личное, и к тому же оно созвучно слову «эш», огонь, а это очень напоминало мне Эйтана — с его кострами, которые потом погасли, и с угольями, на которых он варил нам кофе и которые перестали тлеть и шипеть, и с той сверкающей кожей, которая была у него, но побелела и потускнела после беды. У некоторых людей после беды или травмы седеют волосы, а у Эйтана поседела кожа.
Нет, мое горло решительно меня убьет… Налить вам тоже? В голове балаган, сердце может рваться на куски, но за горлом я все-таки кое-как умудряюсь следить.
Ну, не важно. Мы остановились на Эйтане? Давайте продолжим. Еще до того, как он официально сменил фамилию на Тавори, мы все чувствовали, что он внутри больше Тавори, чем многие настоящие Тавори. Даже Довик, мой старший брат, который его нашел и привел к нам, говорил: «Он совсем как мы. Сдается мне, что не только бабушка Рут, но и дедушка Зеев был не прочь потрахаться на стороне и Эйтан — его незаконный сыночек». Надеюсь, вы понимаете, что это не мой стиль. Я так не говорю, это я подражаю Довику, это его стиль.
В общем, это верно, что Эйтан был Тавори, то есть один из «наших», но в то же время он был другой Тавори. Как блудный сын, вернувшийся в семью после многолетней отлучки. Я помню, когда мы только начали встречаться, у меня сразу появилось такое ощущение, будто какой-то кусочек паззла стал на то место, которое его ожидало. Раньше — на место в душе, а потом — и в теле. Он не был у меня первым. У меня была маленькая история в армии, крошечная история, ничтожная во всех отношениях, если вы понимаете, о чем я говорю. А потом еще с преподавателем в университете, которому я из мести прилепила кличку Микро-Софт. Я вижу, вы улыбаетесь. Вы тоже сталкивались с ним? У кого из нас, из девчонок, не было таких ненужных историй? У всех были. Даже в поселениях Барона, как видите. Но тогда, в наш первый, мой с Эйтаном первый раз, когда мое тело наполнилась его телом, я поняла, что именно этого оно ждало и что с этим оно хочет остаться.
Мне продолжать? Потому что это ведь не совсем из тех «гендерных» тем, которыми вы занимаетесь, а возможно, это и не так уместно в разговоре двух женщин, которые раньше совсем не знали друг друга. Продолжать? Спасибо. В тот момент я вдруг поняла, как многозначительна фраза «и будут одна плоть»[39] и как гениален был тот, кто ее написал, потому что «одна плоть» — это действительно замечательное словосочетание, даже лучше, чем то, что оно описывает. И если вы спросите, дорогие мои ученики, свою преподавательницу Танаха, то, на мой взгляд, «одна плоть» — даже более гениальное выражение, чем «Господь един». Это ведь не только вопрос стиля — тут идея: двое становятся одним. Может, я потому и преподаю Танах, а не математику. Потому что в математике утверждение, что один и еще один равно одному — это ошибка, а в Танахе это верно. Именно так и должно быть. Одна плоть. Всё на своем месте. Упорядочено именно так, как ему надлежит.
Смешно. Со времени нашего детства, Довика и моего, дедушка всегда объяснял нам, как важно соблюдать порядок и класть все на свое место — рабочие инструменты и кухонную посуду, письменные принадлежности и учебники, одежду короткую и одежду длинную, одежду верхнюю и одежду нижнюю, одежду для зимы и одежду для лета — каждое в свой ящик. У него даже поговорка была на этот счет, она очень нас веселила: «Сёмка, Шломка, каждый в свою котомку». Это ведь не только правильно и полезно, такой порядок и приятен тоже. И вот такое же ощущение порядка я испытала от первого раза с Эйтаном — это именно то, что мы есть друг для друга, тот порядок, в котором каждый из нас должен находиться. Полное соответствие, идеальное заполнение, точное примыкание, без зазора и без междустений. Короче — «одна плоть».
Мне кажется, вы шокированы, Варда. Это потому, что я так говорю, или потому, что с вами такое еще не случилось? Я надеюсь, что и с вами это произойдет, вы еще молоды. Припомните тогда меня и скажите: «Та сумасшедшая училка в одной из мошав Барона, та, что ни на минуту не закрывала рот и не добавила к моему исследованию ничего полезного, — я уже забыла, как ее зовут, но она была права». И парень, с которым вы будете тогда, скажет: «С кем ты разговариваешь, Вардуш?» И вы скажете ему: «Сама с собой, дорогой», — вы ведь наверняка будете его называть «дорогой», девушки, которых парни называют «Вардуш», всегда называют своих парней «дорогими», — «с собой, дорогой, я говорю с собой, я докладываю себе, что здесь происходит что-то важное». И добавите: «А если девушка, которая лежит с парнем, говорит сама с собою вслух, это верный признак, что она спокойна, и довольна, и в хорошем настроении».
Ладно, оставим. Я вижу, что мне не с кем пока перебрасываться этим мячиком. Вернемся к Эйтану и к тому времени, когда мы все, побежденные и довольные, упали к его ногам. Он вошел в наш дом, как молодой Давид вошел во дворец царя Саула[40]. Я могу сравнивать, потому что я хорошо знакома с ними обоими. О Давиде я не перестаю учить, а Эйтана я не перестаю изучать. Эйтан тоже может прибегнуть к силе под покровом своего обаяния, он может быть даже опасным, но в нем не было ничего подобного злодейству и манипуляциям Давида. Запустить Голиафу камень в лоб и раскроить ему голову? С большим удовольствием! Это Эйтан тоже и рад и способен был сделать. Но приказать поставить Урию Хеттеянина там, где будет самый жестокий бой, и бросить его там одного, «чтоб он был поражен и умер»[41], — нет, на это способен был только Давид. И Эйтан не пошел бы убивать двести филистимлян, чтобы отрезать у них крайнюю плоть[42]. Потому что каждый, кто его встречал — это включает меня тоже, — отдавал ему свою крайнюю плоть добровольно.
Ладно, я вижу, что вам неприятно это слушать и вы даже не понимаете, о чем я говорю. Лучше оставим это. Что важно в истории с Эйтаном — что мы все влюбились в него, а сам он не только не был этим удивлен, но и не страдал от этого. Увидел дедушку и Довика, и вот — «хорошо весьма», увидел Руту, и «Рута приятна»[43], и тут же приступил к процессу самоусыновления. И вот что интересно: хотя это Довик нашел его и привел к нам и это я вышла за него замуж, но тем, кто привязался к нему самыми крепкими узами, стал дедушка Зеев. Произошло это очень быстро. Довик ревновал, а я была удивлена. Как же так: с одной стороны — самый тяжелый и жестокий человек в нашей семье, наш черный базальтовый камень, а с другой — Эйтан, пляшущий солнечный луч, бабочка на легком ветру? Но на самом деле в них обоих было что-то общее — что-то основательное, подлинное, примитивное, даже неандертальское в хорошем смысле всех этих слов.
Я помню: когда дедушка Зеев привел меня и Довика к тому большому харуву, что рос в его вади, и рассказал нам о первобытном человеке, который жил в соседней пещере, и о первобытной женщине — так он ее назвал, — и об огне, который они разжигали, он сказал, что это был простой человек с простой жизнью. Он боролся с другими первобытными людьми за свой кусок земли, и за женщину, и за пещеру, и за воду, и за еду, а не за честь или за Бога. «И все это с помощью камней!» — провозгласил дедушка. И правда — что может быть проще камня? Камнем резали, камнем очищали, камнем разбивали кости убитого животного, а при нужде этот же камень поднимали и били им врага по голове. Для этого есть даже специальный глагол — «размозжить». Это больше, чем разбить, — это раздробить, очень сильно поранить, повредить. Как говорила иногда бабушка Рут: «Меня сломали, мне размозжили душу».
Я, кстати, уверена, что дедушка Зеев прекрасно поладил бы с этими первобытными людьми. Есть вещи, которые могут осознать и понять только такие люди, как он, — мужчины его поколения, которые были похожи одновременно и на сильную, ревущую «медведицу в поле, у которой отняли детей», и на окруженную врагами «одинокую птицу на кровле», и на гневливого вола, которому «заградили рот, когда он молотит», и на стремительную «лань, что желает к потокам воды»[44]. Я помню, как однажды, на одном из вечеров группового пения, куда я попала, одна из женщин завела песню: «Так где же, где ж они, те былые парни», вместо «те девушки», — и все засмеялись, но почувствовали, что она сказала что-то настоящее. Вам тоже позволено засмеяться, Варда. Не сдерживайтесь, это было смешно.
Вот так-то. Мне потребовалось время, чтобы это понять. Понадобилось время, чтобы увидеть, как велико сходство между моим дедом и моим мужем и какие глубинные пласты они открыли друг в друге. Но когда я поняла, то поняла до конца: Эйтан прошел до тех мягких пластов дедушки Зеева, которые таились под его защитным покровом из брони и кремня, а дедушка Зеев добрался до твердых пластов гранита, которые таились в Эйтане под его сияющими легкими крыльями. И возможно, они также открыли друг в друге некую сходную мрачность. Ну, не важно. Несмотря на пропасть в два поколения, между ними возникла дружба — из тех дружб, которых ищут все мужчины, но лишь немногие находят. И эта дружба — вот что спасло Эйтана после гибели Неты.
Глава восьмая Могучий бык, телега и шелковица (рассказ для Неты Тавори, написанный его матерью)[45]
1
Когда-то, давным-давно, в маленьком доме, в далеком поселке, у подножья горы, жил маленький мальчик по имени Дедушка Зеев.
Когда ему исполнилось четыре года, получил Дедушка Зеев от родителей очень особенный подарок.
— Веселого тебе дня рождения, Дедушка Зеев, — сказали ему родители. — Вот, мы принесли тебе маленький саженец шелковичного дерева. Ты будешь поливать его, и ты будешь удобрять его, и когда-нибудь, когда этот саженец станет большим деревом, ты сядешь в его тени и будешь есть его плоды.
2
Дедушка Зеев очень любил свою маленькую шелковицу.
Он не совсем понимал, что такое ее тень и что такое ее плоды, но он был сыном земледельца и уже умел удобрять и поливать.
Прошло два года.
Дедушка Зеев и его дерево росли и выросли, и однажды его родители сшили ему из ткани сумку, и купили ему тетрадку и карандаш, и сказали:
— Пришло время идти в школу, учить арифметику и азбуку.
3
Наутро Дедушка Зеев проснулся, взял сумку и пошел в школу.
На улице было много других детей.
Этот первый раз шел в школу, а тот — уже давно ученик, у того книги были перевязаны веревочкой, а у этого книги были в сумке, этот ехал на осле, а тот на велосипеде, этот шел пешком, а того несли на плечах, одни шли быстро, а другие шагали медленно, одни шли по отдельности, а другие группой, а Дедушка Зеев шел со своей мамой и думал о своей шелковице.
4
— Здравствуй, первый класс, — сказал учитель. — Я ваш учитель и я буду вас учить сложению и вычитанию, чтению и письму.
Все ученики сидели и учили буквы и знаки препинания, цифры и значки «плюс» и «минус», а Дедушка Зеев сидел, и скучал, и думал о своей шелковице:
«Может быть, и она скучает? Ведь когда ее нет со мной, то и меня нет с нею».
И еще: «Может, она хочет пить и нужно ее полить?»
И еще: «Может, она подумает, что я ушел навсегда, и отдаст кому-то другому свою тень и свои плоды».
И еще: «Какое счастье, что она дерево и не может никуда уйти».
5
Наутро Дедушка Зеев сказал своим родителям:
— Я не хочу идти в школу.
— Почему, Дедушка Зеев? — спросили они.
— Потому что я не учусь. Я только сижу там целый день и скучаю по своей шелковице.
Мама и папа сказали:
— Но это же очень нехорошо, Дедушка Зеев! Дети обязаны сидеть и учиться!
Они сидели, и сидели, и сидели, и сидели.
Они думали, и думали, и думали, и думали, и, наконец, они воскликнули:
— Ура! Мы знаем, что нужно сделать!
Они взяли старую большую телегу и пристроили ей со всех сторон четыре стенки.
— Что вы делаете? — удивился Дедушка Зеев.
— Сейчас поймешь! — сказали ему родители.
И они насыпали на дно телеги толстый слой хорошей земли и добавили к ней немного коровьего навоза.
— Но что вы делаете? — опять спросил Дедушка Зеев.
— Сейчас поймешь, — сказали ему родители.
И они взяли мотыгу, и вилы, и кирку и выкопали глубокий ров вокруг шелковицы.
— Что вы делаете? — испугался Дедушка Зеев.
— Сейчас поймешь, — сказали родители.
Они поставили над деревом треногу из больших и толстых палок, и привязали на верху треноги железное колесо, и перебросили через него очень крепкую веревку.
— А сейчас, — сказали они Дедушке Зееву, — пойди и приведи сюда нашего Могучего Быка, на котором мы пашем в нашем поле.
6
Родители Дедушки Зеева взялись за веревку и привязали один ее конец к рогам Могучего Быка, а другой конец они привязали к стволу шелковицы, а потом они сказали:
— Ну, Могучий Бык, покажи, на что ты способен! Вперед, только с умом и осторожно.
— Зачем это? — поразился Дедушка Зеев.
— Сейчас увидишь, — сказали ему родители, а также Могучий Бык и дерево шелковица.
И Могучий Бык сильно напрягся, и крепкая веревка сильно натянулась, и железное колесо сильно заскрипело, и шелковица медленно-медленно поднялась в воздух вместе с огромным комом земли, который окружал и защищал ее корни.
И тут Дедушка Зеев очень испугался и закричал:
— Медленней, медленней, осторожней! Чтобы с моим деревом ничего не случилось!
Но дерево воскликнуло:
— Не медленней, а, наоборот, быстрее! Ты думаешь, это так уж приятно — висеть в воздухе и чтобы все твои корни были снаружи?!
7
Мама и папа велели Могучему Быку поднять дерево еще немного повыше, а потом направили шелковицу точно в центр телеги, и добавили туда земли, чтобы она покрыла все корни, и стали поливать ее до тех пор, пока из телеги не начала отовсюду капать вода и дерево само сказало:
— Хватит, мне уже довольно, мне хорошо!
— Теперь ты понимаешь, Дедушка Зеев? — спросили папа и мама. — Завтра тебе уже не придется расставаться со своим любимым деревом.
Ты поедешь вместе с ним на телеге в школу.
8
Наутро Дедушка Зеев сам запряг Могучего Быка в телегу, влез в нее и сел рядом с деревом, потом взял в руки вожжи и сказал маме и папе:
— Привет, родители, я поехал.
А Могучему Быку крикнул:
— Вперед!
И Могучий Бык потянул, и телега выехала со двора на улицу.
На улице было много детей, все на пути в школу.
Этот ехал на осле, а тот на велосипеде, этот шел пешком, а того несли на плечах, одни шли медленно, а другие быстро, а Дедушка Зеев ехал в телеге, запряженной Могучим Быком, и в ней росло настоящее живое дерево.
9
Когда они въехали во двор школы, Дедушка Зеев остановил телегу прямо напротив окна своей классной комнаты, а потом вошел в класс и сел у окна прямо напротив своей шелковицы.
Целый день он учил стихи и песни, и рассказы, и цифры, и буквы, и знаки препинания, а также «плюсы» и «минусы», и весь день он был хорошим и внимательным учеником.
Но когда учитель не видел, он улыбался в окно своему дереву, а когда Могучий Бык закрывал глаза и зевал от скуки, потому что быки скучают больше, чем все остальные животные и люди, он протягивал руку в окно, и гладил его по носу, и шептал ему:
— Не спи, Могучий Бык, учись вместе со мной, потому что учиться — это очень важно.
10
На большой перемене поел Дедушка Зеев питу с сыром и маслинами, потому что именно это он любил есть, а Могучему Быку он дал сена, потому что это то, что любят есть большие быки.
А тот навоз, что Могучий Бык произвел, когда поел, он спрятал в земле под своим деревом, потому что это то, что любят есть деревья.
А после уроков Дедушка Зеев опять взобрался на свою телегу, сел под своим деревом, сказал Могучему Быку:
— Вперед! — и вернулся домой.
11
Так у них тепёрь проходили день за днем: Дедушка Зеев учился, не давая себе лениться, шелковица росла и давала плоды и тень, а Могучий Бык от многих чесаний носа и охапок сена вырос так, что превратился из Могучего в Громадного, и не просто Громадного, а Громаднейшего из Громадных, и больше не засыпал на уроках, а слушал учителей, и выучил все буквы, и знал все цифры, и стал быком Дедушки Зеева, и Дедушка Зеев любил его больше всех остальных быков.
Глава девятая
— Я вспоминаю: летний вечер, развороченная постель, его левая рука под моей головой, а правая обнимает меня, или наоборот, решите сами, какое наоборот вы выберете, и я читаю ему стихотворение Бялика «Возьми меня под свои крылья». Вам смешно? Это было у нас что-то вроде обычая. Эйтан многое пропустил в школе, и я помогала ему залатать дыры. Я читала ему, показывала репродукции знаменитых картин, а с этим Бяликом вообще произошла смешная история. Эйтан, который школьником удирал со всех уроков литературы, вдруг загорелся этим стихотворением, особенно двумя словами: «Будь мне». Это интересно, и это я говорю вам как учительница, интересно, какая мелочь может увлечь человека, у которого никогда не было никакого интереса ни к искусству, ни к литературе, ни к поэзии. Но почему-то именно эту пару слов, самых поэтичных и, честно сказать, самых туманных в этом стихотворении, он воспринял с пылким энтузиазмом.
— Что, оно так и было написано, когда нам преподавали этого Бялика в школе? — спросил он.
— Да.
— Не может быть. Это ты сейчас добавила.
Наши уроки литературы проходили в кровати, естественно. «Мы двое, ты и я, — говорил он, — зе ту оф ас, две голые в кровати и с Бяликом притом». Но я читала ему и других поэтов. «Этот Альтерман мне нравится, — говорил он. — У него часто появляется буква „э“. И с Ионой Волох я тоже встретился бы с удовольствием». Но что до Бялика и его «будь мне», то именно к этому выражению Эйтан почему-то прилип и именно его он себе присвоил и начал употреблять по любому поводу и в любом смысле. Вместо «скажи мне», или «обними, поцелуй, погладь, коснись меня» он говорил «будь мне». Я не уверена, что Бялик имел в виду именно это, но в нашем обиходе «будь мне» стало означать — сделай мне приятно и хорошо, на сердце, в душе и в теле. Будь мне. Увлеки меня, укачай меня или свяжи меня, и вообще — делай со мной все, что твоей душе угодно. Покажи, что ты любишь меня, что ты понимаешь мою любовь, и объясни, только объясни медленно и точно, как именно ты ее понимаешь. И еще — что у нас есть наше «вместе», наше «друг для друга», не просто мужчина для себя и женщина для себя, но именно «ты будь мне» и «я буду тебе», и не только в повелительном наклонении и в будущем времени, но и в настоящем: «я есть тебе, ты есть мне». «Кстати, слово „любовь“, — удивил он меня однажды, — нужно писать: „л-ю-б-о-г“. Это ближе к Всевышнему». Ага, я уже вижу по вашим глазам, что кое-что проникает даже сквозь ваши гендерные заборчики! Я опытная учительница, уж я-то знаю, как понимание отражается в глазах…
Я помню: однажды я показала ему изображения трех женщин — леонардовской Моны Лизы, боттичеллиевской Венеры и гойевской Махи — точнее, четырех, потому что у Гойи есть Маха одетая и Маха обнаженная.
Он посмотрел на них беглым взглядом и сказал:
— Живопись меня не интересует.
Я сказала:
— Кто говорит о живописи, Эйтан? Посмотри на них, как мужчина смотрит на женщину. С кем из них ты бы лег в постель? С кем ты бы пошел погулять?
О Моне Лизе он сказал так:
— Эта, наверно, считается красивой, но она ничего не излучает. Она из тех красоток, которые не волнуют.
О Венере Боттичелли:
— Голова красивая, но ноги очень печальные.
А о Махе Гойи:
— Сексуальная уродина, ничего не скажешь. Рожа, как жопа, но по части секса обеим предыдущим даст фору. Сверкает, как солнце в простынях, так и сияет из своей постели. И голая, и одетая. Интересно, какую из них он рисовал сначала, а какую потом, что он ей сказал после первого рисунка: «Оденься» или «Разденься»? Но в общем, — заключил он, — вся эта твоя живопись не поспорит с красотой раскрытого граната «уандерфул» на белой тарелке под солнцем…
— Насчет сорта граната ты прав, — сказала я, — но сказано это не о раскрытом гранате на белой тарелке, а о красных зернах граната в серебряном стакане, и не на солнце, а между солнцем и тенью[46].
— Как скажешь. Это ты у нас тот, кто знает. А я у нас буду воспитанный мальчик и промолчу.
Я засмеялась:
— Ты просто не понимаешь, о чьей красоте я говорю. Экий ты у нас плебей и невежда.
Я уже говорила вам: он не слишком много читал. Не из тех, с кем можно поговорить о хорошей книге, пойти в театр или на выставку. Но он так лучился, что люди тянулись к нему, как мотыльки к огню. Только, в отличие от тех несчастных мотыльков, в его огне никто не сгорал. И если вы спросите меня, то и вся история Эйтана — это история огня. Сначала — свет и доброе тепло, потом — угасание, темнота и холодный пепел, а затем — новая вспышка. Ну, не важно. Вы только не думайте, будто я целыми днями тем и занималась, что пыталась приобщить его к искусству и поэзии. Куда чаще это он забавлял меня своими дурачествами — всякими подражаниями, представлениями, неожиданностями. Мы с Довиком тоже любим подражать, но мы подражаем людям, а Эйтан подражал и животным, причем не столько их голосам, сколько в основном их лицам и движениям и даже чему-то совсем неживому. Например: «Сейчас я тебе покажу письменный стол, на который пролили куриный бульон». Или: «Это морда пуделя, который провалился на экзамене на вождение грузовика».
Иногда он обнимал меня, и прижимался, и извивался вокруг моего тела, и сообщал, что это он изображает жгучий ломонос — мое любимое растение, такой дикий ползучий лютик с сильным запахом и буквально тысячами малюсеньких белых цветков. Наш питомник, кстати, один из немногих в стране, который продает эти растения. Дедушка Зеев принес его семена из Галилеи, из каких-то мест вблизи друзской деревни Хорпеш, и он цветет все лето: уже все полевые цветы отцвели, и агростеммы кончились, а морской лук еще не пошел в рост, но этот один все цветет и цветет. Здесь, у нас, ему немного жарковато, но он как-то приспосабливается. Когда Нета был еще жив, а Эйтан еще был моим первым мужем, мы, бывало, специально ездили в Галилею посмотреть и понюхать этот вьюнок, и я всегда говорила ему: «Какой же ты у меня замечательный ломоносик, и какой же ты сладкий, и какой же ты красивый, и какой же ты ароматный, и какой же ты вьющийся, и как же ты прижимаешься, и как же ты обвиваешься…»
Вот таким же был и Эйтан — такой же красивый, и так же прижимался и извивался, и говорил мне раз за разом: «Будь мне», — и я должна была угадывать, чем я должна быть ему сейчас или что ему сделать. И если я угадывала сразу, он говорил: «Ты не должна была сразу попадать в яблочко, твои попытки пристреляться мне тоже нравятся».
Все мое тело таяло. Я вся стекалась в одно место. Такое маленькое море под диафрагмой, а все остальное тело сухое. У меня, Варда, есть маленькая анатомическая аномалия — еще один мозг, который находится не в голове, а именно под диафрагмой. Я помню: как-то раз Эйтан заявил, что намерен устроить «уголок ласкания». Я думала, что он собирается принести в наш питомник козлят и кроликов, чтобы занять детишек наших покупателей, но ночью обнаружила указатель — маленькую записку на спичке, воткнутую, как флажок, в его пуп, на ней надпись: «Уголок ласкания, вход 5 шекелей» — и изображение стрелки. Угадайте сами, в каком направлении!
— Это действительно симпатичная история, Рута, но, может, вернемся к той теме, ради которой я пришла?
— Я думаю, весь поселок слышал, как я хохотала из-за этого «уголка ласкания», включая Далию, мою невестку, которая, наверно, исходила завистью, и Довика, который притворился спящим, но не сдержался и улыбнулся. Откуда я знаю? Знаю, и все. У меня есть много путей узнавания. Либо я вижу, либо слышу, либо предполагаю, либо представляю себе в воображении, либо просто помню.
Вот так вот оно. То и дело из нашего дома разносятся звуки, которые слышит весь поселок. Порой крики. Порой гневные вопли. Бывали и выстрелы. Иногда плач и рыдания. Но стоны страсти и звуки смеха тоже. Особенно с того дня, когда появился Эйтан, и вплоть до беды. Много смеха.
Он не только нашей семье, но и нашему питомнику принес много добра. Довик силен в счетоводстве, в переговорах с поставщиками, в тендерах, в торговле, а также во всем, что касается отношений с городскими и местными властями. Поэтому Эйтан взял на себя выискивание частных покупателей-садоводов. И тут случилась любопытная вещь. Вы, возможно, знаете, что мастеровые люди кладут в ящик с инструментами магнит, чтобы все винты, и гайки, и маленькие гвозди притягивались к нему и не терялись. Так вот, Эйтан стал у нас таким магнитом. Едва он появился, сразу вокруг него собралась целая компания.
Женщины? Почему женщины? Господи, да оставьте вы уже наконец свое гендерство! Я ведь вам уже рассказывала: вокруг него собралась группа мужчин. Одни мужчины. Покупатели, соседи, приятели — целый детский сад, мужчины один лучше другого. Женщины у нее на уме! Женщины — се пассе[47], Варда. Мужчины в действительности ищут других мужчин. Это то, чего им не хватает. Глубокой дружбы, настоящих друзей. То, что у большинства женщин есть в избытке, у них в дефиците, и именно на этом у них все основано.
В общем, что там говорить, — вскоре у нас под шелковицей дедушки Зеева уже появились две «пойке», и вокруг них начали собираться мужчины. «Пойке»? Это такая африканская цельночугунная кастрюля на трех маленьких ножках. Эйтан разводил под ними костер, раскалял угли, варил и раздавал покупателям свою мясную похлебку. С этого начался замечательный период в нашей жизни: пиво в кувшине не убывало и мясо в чугунках не истощалось[48], и люди делали у нас огромные закупки только потому, что Эйтан подавал им пластиковую тарелку с пластиковой ложкой и разрешал им выудить из чугунка кусочек мяса и картофелину в соусе, и взять кусок белого хлеба, и макнуть, и сидеть вместе, и есть, и пить, и разговаривать, и смотреть на его вечный огонь. Потому что огонь горел здесь всегда. И для варки, и потому, что мужчины тянутся не только друг к другу, но и к огню. Не в том смысле, что тянутся к опасностям, а в прямом смысле — к настоящему огню. Та первобытная жена первобытного человека хранила костер в пещере с таким тщанием именно затем, чтобы он захотел вернуться, а когда вернется — чтобы сидел вокруг возле огня вместе с другими вернувшимися мужчинами, и чтобы они раздували золу, добавляли щепу в костер и занимались огнем, а не выходили наружу и не задирались там с мамонтами, и с медведями, и с другими первобытными людьми и не делали глупостей.
Короче, вскоре все начальники отделов садовых и декоративных насаждений в городских и местных советах на севере и в центре страны — а именно от них мы получали наши главные заказы и доходы — перестали принимать Довика в своих кабинетах и начали сами приезжать к нам, и они сидели под большой шелковицей, и разговаривали, и ели Эйтанову похлебку. А когда наши дети — близняшки Довика и Далии, Дафна и Дорит, и наш Нета — немного подросли, они стали возвращаться из школы не домой, а прямо в питомник, и каждый их учебный день кончался теперь одинаково: Далия еще была на своей работе в поселковом Совете, я — на своей работе в школе, Довик — в конторе рассадника, а Эйтан, который всегда был занят в питомнике, просил покупателей подождать минутку, зачерпывал для каждого малыша полную ложку из чугунка, убеждался, что они едят как надо, а потом усаживал их делать уроки за одним из садовых столов, которые мы здесь продаем.
Я помню: если они чего-то не понимали, он кричал на весь рассадник: «Есть здесь кто-нибудь, кто кончил среднюю школу? Ты? У тебя хватает терпения возиться с детьми? Тогда, пожалуйста, посиди с ними минутку и помоги им с уроками». И если они приводили с собой товарищей по классу, то и те после одного обеда у Эйтана уже не хотели есть у своих матерей, и в скором времени здесь образовался настоящий летний лагерь. Лагерь для детей двух возрастов — сорока-пятидесяти и пяти-шести лет. Знаете что — запишите все-таки эту «пойке» в свою тетрадку! Если бы мы продолжали варить в таких чугунках на кострах, может, и весь сионизм выглядел бы сегодня немного иначе.
Глава десятая
— Разве мы договорились на сегодня?
— Нет. Но я была у ваших соседей и решила зайти поздороваться.
— Очень мило с вашей стороны. Совсем как в том анекдоте про медведя на Аляске, который говорит охотнику: «Сдается мне, что ты не ради охоты возвращаешься сюда раз за разом». Не знаете? Ладно, может, когда вы немного повзрослеете и мы познакомимся поближе, я вам его расскажу. Сейчас мы с вами еще не на том этапе, когда я могу вам рассказывать такие непристойные анекдоты. Хотите чего-нибудь попить? Может, вместо чая с лимоном выпьете лимончелло а-ля Довик? Я как раз налила себе. Вы поймали меня на горячем. Вот, попробуйте? Вкусно?
— Очень. Но я не привыкла пить. И уж тем более в такое время…
— Я никак не могу найти себе покоя. Приближается день рождения Неты, и я как зверь в клетке. Нета… Мой мальчик… Кстати, мальчик, о котором вы ни разу не спросили. Ни разу не поинтересовались, что с ним случилось.
— Я не спрашивала, потому что мне кажется, о таких вещах человек должен рассказать сам, а не ждать, пока его спросят.
— Но ведь я рассказала. Я назвала вам его имя, и я сказала: «Наша беда», и я произнесла слова «кладбище» и «могила», и даже сказала: «умер». Я рассказала. Вам оставалось только провести прямую линию между всеми этими точками. Ведь я вам сказала: «После того, как Нета умер». И сказала: «У меня умер ребенок». Мальчик шести лет. Точнее, почти шести с половиной. А вам все это будто мимо ушей. Только ваше исследование у вас в голове…
— Очень сожалею. Я просто иначе все это понимала…
— Да, это трудно понять. Тогда, после его смерти, я говорила себе: ну все, жизнь кончилась. Случилась беда, и жизнь кончилась. Смешно. Ведь умер Нета, а я сказала «кончилась» о своей жизни, о жизни его матери. А дело в том, что это не так. Она не кончилась, моя жизнь, и, в определенном смысле, это еще хуже. Нета умер, и его отец тоже в некотором смысле умер. Перестал быть собой. И я потеряла обоих — и своего сына, и своего супруга. «Его с его порождением», как написано в Торе[49], и в один и тот же день. Кстати, вы когда-нибудь обращали внимание, насколько несчастья возвышают нашу речь? Делают ее красивей и торжественней, насыщают ее некими особыми словами, которые несут на себе тяжкую ношу, — слишком святые для прикосновения, слишком загадочные для понимания, невыносимо древние для будничного употребления.
Да, мой первый муж умер. Не говорил со мной больше, не шутил, не смеялся, не касался меня ни разу и, главное, наказывал самого себя. И знаете — по справедливости! Ему причиталось. Я не швырнула ему это прямо в лицо, но он хорошо понимал, что я думаю. Ибо если кто-то был здесь виноват, так это он. Но и я, конечно, тоже. Я виновата, потому что это я позволила ему взять Нету на ту прогулку. На эту их «прогулку парней», куда «девчонки не приглашаются». Так это всегда с родителями. Даже если это родители погибшего солдата и между ними и его смертью есть целый список командиров и политиков, которых можно обвинить, — даже тогда они обвиняют себя. Ведь это действительно мы виноваты. Всегда мы. Даже если мы на работе и пьяный водитель въехал на тротуар и задавил нашего ребенка на пути из школы — виноваты мы. И даже если врач отправил его домой с неправильным диагнозом — виноваты мы. И даже если молния ударит в него с неба — и тогда виноваты мы: почему молния ударила в него, а не в нас? Ведь мы для этого и существуем. А тем более когда отец берет своего маленького сына на прогулку парней и возвращает его матери мертвым… Нет других виноватых!
Какой хороший мальчик он был — и хороший, и удачный, и любимый, и полный любви к своим ближним! Но в шестилетнем возрасте много таких, да и что можно сказать о ребенке, который умер в шесть лет? Сколько еще могло измениться… Удачный, да, но при всей его удачности отнюдь не что-то особенное. А возможно, в том и была его особость, что в нем все было в меру, все уравновешенно, и спокойно, и правильно — ив душе, и в теле. Уже в два года у него были совершенно точные движения и взгляд, который даже слегка пугал своей ясностью. И еще одно свойство, которое несколько трудно определить, разве что — складный, согласованный. Не в том смысле, что правое с левым, но и внутреннее с наружным. Нет, я не имею в виду симметрию, я не люблю симметрию, согласованность это нечто другое. Ну, не важно. Я чувствую, что начинаю сердиться. Меня преследует мысль — ужасная, я знаю, — но иногда я думаю: если какой-то ребенок должен был умереть в тот день, если Ангел Смерти должен был выполнить в тот день свою норму по детям, то почему он выбрал именно моего ребенка? На свете так много детей — разве трудно было выбрать кого-то другого вместо моего? И я говорю это не только как мать, которая была счастлива со своим ребенком, но и как опытная, старая учительница и воспитательница, которая повидала в своем классе многие поколения избалованных, нахальных, испорченных и крикливых детей и уже умеет распознать среди них удачного ребенка.
Вот так вот. Прежняя жизнь кончилась. Прежний огонь погас. В двух отдельных сердцах и в одном общем сердце. Ведь у каждой пары есть этот общий вечный огонь, порой маленький, порой яркий — огонь, который то разгорается, то гаснет, иногда полыхает, как буря, а иногда его нужно раздувать, и за ним всегда нужно следить и его всегда нужно подкармливать. А тут беда разом его погасила. Мы были женаты почти семь лет, и этому предшествовали несколько лет знакомства. В таких случаях ты уже хорошо знаешь своего партнера, знаешь все его переключатели и выключатели, и что он любит, а что нет, и что ему смешно, а что неприятно, и даже что его раздражает — и это тоже интересно и даже хорошо, в обратном смысле, потому что нарушает рутину и разгоняет скуку. И вдруг — какой-то чужой человек! Новый муж. Иные женщины скажут вам, что это случается в конечном счете с каждым мужчиной, но обычно это происходит постепенно, а у меня это случилось сразу, в одну ночь.
— Вы не сказали, от чего он умер, ваш Нета.
— Как странно слышать его имя из уст другого человека… даже не здешнего…
— Вы не хотите рассказывать?
— «Вы не хотите рассказывать…» Какой заботливый тон вдруг у вас появился! Похоже, я вас передразнила, правда? Нет, Варда. Я не хочу вам рассказывать, но я расскажу, потому что я женщина вежливая и потому что это нужно. Мой Нета умер от укуса змеи. Странно, но иногда мне стыдно об этом говорить. Погибнуть в армии — это понятно, это достойная смерть, а погибнуть в автокатастрофе — ну, это уже совсем обычно, это часть той жизни, которую люди сами себе придумали. Потому что ведь святость жизни — это для нас пустое слово. Ни одно общество не запрещает ездить на машинах из-за какой-то там святости жизни. И смерть от болезни — это тоже вполне приемлемо, а от старости — что и говорить. А вот укус змеи — это что-то такое, что нужно скрывать. Такая смерть обескураживает, она пугает. В самом деле, кому такое придет в голову — чтобы здесь, у нас, в конце двадцатого века, животные убивали людей?! Что мы, черт побери, Индия?! Африка?! И все-таки у нас каждый год появляются два-три сообщения о такой смерти, и тогда люди читают о них в газете или видят по телевизору и говорят: «Смотри, что это, Шула, просто не верится — змея кого-то укусила насмерть!» «Укусила насмерть» — так они говорят. Как будто на этот раз Ангел Смерти, разнообразия ради, нарядился змеей: «Привет, я Ангел Смерти, разрешите мне укусить вас насмерть».
Нет, имя «Шула» можете не записывать. Это просто общее имя женщины, которая читает книгу, когда ее муж смотрит по телевизору новости или футбол. И знаете что, редакторы газет и мужья этих Шул, — вы правы! Это действительно новость из тех, в которые просто трудно поверить. Умереть от укуса змеи? «Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту»?[50] Что с тобой, Господь? Мы ведь уже не в Танахе. Пора кончать с этими казнями египетскими, со змеями и прочими Твоими излюбленными наказаниями, вроде моровой язвы, палящего ветра, ржавчины и саранчи[51]. У нас сегодня прогресс. У нас сегодня есть куча других возможностей на выбор — можно быть задавленным на переходе через улицу, можно быть разорванным на куски в теракте, можно кончиться от передозировки наркотиков, можно погибнуть от выстрела врага и можно погибнуть по ошибке от выстрела друга, и даже умереть при крушении самолета. Почему же Ты выбрал для моего бедного мальчика самую древнюю Свою забаву? И что еще Ты приберег там для меня на Своем складе боеприпасов? Лев взойдет от возвышения Иордана? Две медведицы выйдут из леса и растерзают детей? Нашлешь на меня злых ангелов? Большие камни с небес? Земля разверзнется подо мною и поглотит меня?[52]
Змея. Вы понимаете? Змея. И к тому же в пустыне, в одиночестве, вдали от всех и без возможности позвать на помощь. Вот так Господь любит нас, Свою «дщерь иерусалимскую», которая последовала за Ним «в пустыню, в землю незасеянную»[53]. Заметьте — не «последовал», не в мужском роде, и не «последовали», во множественном числе, как надлежало бы сказать о целом народе, нет — «последовала», во втором лице, единственном и испуганном, или, точнее, единственная и испуганная. Вы ищете гендерный элемент в еврейской истории, Варда? Так вот вам, пожалуйста: целый народ, который весь, как одна женщина, — голодная, усталая, зависимая, боязливая, томимая жаждой, умирающая без ванной и даже телефона нет. Вдали от дома, вдали от дороги, вдали от любви, вдали от больницы, вдали от людей — вот так Господь любит «обрученную Ему»!
«Прогулка парней», со всеми этими дебильными словечками парней, собирающихся на свою прогулку: снаряга, жужжалка, ремнабор, таганок, шведик, воду читать, костриться, взять к полудню… Когда мне говорят «взять к полудню», я сразу думаю об Иакове, которому Господь обещал, что распространит его «к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню»[54], но у Эйтана это — выбрать такой путь по карте, чтобы доставить нашего сына, нигде не плутая, прямиком на юг, в пустыню, точно к месту и ко времени назначенной встречи со змеей. И это нельзя ни изменить, ни отрицать. Это он взял его туда. Не я. «Девчонки не приглашаются», — сказал он мне и улыбнулся своей знаменитой улыбкой. И Нета посмотрел на него и улыбнулся точно такой же улыбкой. Так разве у меня был хоть какой-то шанс? Прогулка парней. Только они вдвоем. Ты и он…
— Рута, мы можем остановиться. Может быть, не нужно выкладывать все за один раз?
— Оставьте. Ведь я тоже виновата. Я могла возразить: «Нет, я не хочу». Я могла сказать: «Нет, я не разрешаю». Но вот — что бы там ни говорили о матерях и о материнстве, у меня не было этого знаменитого материнского предчувствия беды. И кстати, даже в тот момент, когда это случилось, я не почувствовала, будто что-то случилось, как чувствуют, по их рассказам, матери лучшие, чем я, или лживее, чем я. Ничего. Сидела себе дома, в полном спокойствии, и даже спать потом пошла без всяких проблем. Ведь мой Эйтан — самый ответственный и организованный человек в мире. Он никогда ничего не забывает, ни единой мелочи. И в той их прогулке у него тоже все было продумано и записано: собрать снаряжение, проверить машину, продумать маршрут. Просто никто не принял в расчет змею. И Эйтан не принял. Вот сюда она его укусила — с внутренней стороны запястья. Но не эта картина меня преследует. Не те два ее зуба, которые вонзились в его руку, и не тот яд, что вошел через них туда. Другая картина стоит у меня перед глазами: Эйтан бежит с Нетой на руках, обнимая и прижимая его к себе, бежит и знает, что ничего уже не поможет…
Глава одиннадцатая
— Как вы встретились?
— Кто?
— Вы с Эйтаном.
— Очень мило с вашей стороны. А также правильно и разумно. Пришло время для обычного разговора, приятной болтовни двух женщин, безо всех этих моих несчастий и без вашей скучной истории еврейских поселений.
— Мы еще вернемся к этим двум темам. Я верю в нас обеих.
— Это угроза или обещание?
— Это только от вас зависит.
— Ну ладно. Вас наверняка удивит, Варда, но нас с Эйтаном соединило сватовство. А нашим сватом был мой брат Довик. Как-то раз он вернулся домой весь сияющий и объявил: «Я встретил парня, который ну прямо для нас создан. Я его приведу как-нибудь при случае». А случай представился на их свадьбе — Довика и Далии. Он сообщил, что они решили пожениться, и тут же, на том же дыхании, сказал, что намерен пригласить на свадьбу и «его» — этого своего нового приятеля, — чтобы познакомить со всеми нами.
— Я никогда в жизни не слышала, чтобы ты так много и восторженно говорил о ком-нибудь, — сказала я ему.
— Потому что я никогда в жизни никем так не восторгался, — ответил он.
— И в каком же качестве ты собираешься его пригласить? — спросила я.
— Что за вопрос! В качестве друга, конечно.
— В качестве друга или в качестве невесты? Потому что ты мне кажешься немного влюбленным.
— Почему вдруг в качестве невесты? — удивился Довик. И добавил с характерной для него туповатостью: — Ведь он же мужчина…
— Вот об этом я и говорю. Неужто и в нашей семье появился наконец гомик?!
— Очень смешно, — обиженно сказал Довик.
— Ваш разговор принимает какое-то странное направление, — сказала Далия. — Мы извещаем вас, что собираемся пожениться, так с чего вдруг вы только и говорите что об этом парне?
И Довик сказал:
— Далия права. А ты, Рута, говоришь глупости.
— Спасибо, Довик, — сказала Далия. — Ты прелесть. Так можно уже наконец перейти к серьезным вещам? Я бы хотела обсудить, какое угощение мы подадим и как мы оденемся. Мне бы хотелось, чтобы каждая деталь нашей свадьбы символизировала любовь и неразрывную связь.
Далия очень любит слово «символичность». И находит ее в любом месте. Может, к примеру, стоя возле молочных продуктов в супермаркете, объявить: «Ой, как символично, только десять утра, а трехпроцентный творог уже кончился». Но Довик прошел мимо символики свадебного угощения и, хитровато улыбнувшись, сказал мне:
— Ну, раз уж ты спросила, в каком качестве я его пригласил, так уж точно не в качестве невесты, а в качестве жениха. Я хочу, чтобы во время нашей свадьбы ты установила с ним зрительный контакт, потому что не исключено, что потом мы сможем его для тебя сосватать.
Мне было тогда чуть больше шестнадцати, и меня не интересовали никакие женихи. Но Довик повторил:
— Рута, я тебе говорю как старший брат — установи с ним зрительный контакт, ты слышишь, Рута? — И тут я окончательно убедилась, что права и что он действительно влюблен в своего нового друга и хочет использовать меня как наживку, чтобы привязать Эйтана к нам. А может, видит в этом самый короткий путь, чтобы самому лечь с ним в постель. Так или иначе, забавно было видеть его в таком состоянии.
— Какой зрительный контакт, Довик? — сказала я ему, когда он и на следующий день продолжил свои настояния. — Мне всего шестнадцать лет, и не знаю, обратил ли ты внимание, но я из тех шестнадцатилеток, у которых еще нет сисек. Я никудышный товар, Довик.
Как вы, наверно, обратили внимание, Варда, а я обратила внимание на то, что вы обратили внимание, я и сегодня не рекордсмен по размерам передних пристроек, а уж тогда я была вообще плоская, как стенка. Совсем плоская.
Довик засмеялся:
— Когда ты его увидишь, это случится само собой. А что касается твоих сисек, то все мы терпеливо ждем их появления, так что и он подождет.
Короче, Эйтан пришел на свадьбу, и я установила с ним требуемый зрительный контакт. Это было нетрудно, потому что он безусловно мне понравился, и он тоже явно меня заметил и улыбался мне, мы даже обменялись несколькими словами, но этим все и ограничилось.
По правде говоря, мне было жалко. Он выглядел хорошо — не красавчик, просто открытое и приятное лицо, легкая мягкая походка, красивые руки. Но больше всего мне понравилась его кожа — у нее был какой-то особенный, слегка золотистый оттенок. Тот второй мозг, который у меня под диафрагмой, задумался, светится ли эта кожа в темноте, — и я почувствовала, что краснею.
Мне было ясно, что я тоже понравилась ему, но это и все. То есть не все, на той свадьбе случилось и еще кое-что, но уже не со мной. Со мной все случилось много позже, когда Эйтан начал приходить к нам все чаще и чаще и довольно скоро стало очевидно, что он приходит уже не из-за Довика, а из-за меня и что хотя мне чуть больше двадцати, а ему все двадцать пять, это мне придется ждать, пока он подрастет, а не ему.
Ну, не важно. Вернемся к свадьбе. Довик и Далия стояли у входа во двор, держась за руки — Далия и по сей день символизирует таким манером свое счастье широкой публике, — и принимали гостей: объятья, похлопывания по плечу, шутки о подарках (кто сколько дал и что), приветствия, поцелуи в щечку и все такое — и тут появился Эйтан. Как только Довик увидел его, он воскликнул: «Вот он!» — бросил Далию и кинулся к нему.
Он подцепил его под ручку, как говорят здесь наши старики, и повел в дом, всем своим лицом выражая восторг: «Смотрите, кого я веду!» — а по пути еще раз шепнул мне, как идиот: «Зрительный контакт, Рута, зрительный контакт! Ты слышишь?» Но мне уже было ясно, что последнее, что Эйтану сейчас нужно — это зрительный контакт со мной, слишком плоской и слишком высокой девицей шестнадцати с лишним лет, потому что все взрослые и грудастые женщины, которые там были, уже уставились на него. Даже наша с Довиком мать, которая соизволила по этому случаю прибыть из Соединенных Штатов, сделав там очередную подтяжку лица в честь свадьбы своего первенца, спросила меня, кто этот handsome, которого так обхаживает Довик? И я сказала ей: «Понятия не имею, мама. — Мне странно было выговаривать это слово „мама“, и тогда, и сейчас, при вас. — Понятия не имею, какой-то его приятель по армии».
Тогда я еще не знала всех деталей, но позже узнала, что они действительно служили в одной части, но не в одно и то же время и даже не в одних и тех же должностях. Эйтан служил в боевом подразделении, а Довик был сержантом в штабе. Впрочем, сержантом он назывался официально, по штатному расписанию, а на самом деле был затычкой для любой дырки, старший куда пошлют, этакий гибрид координатора со снабженцем, адъютанта с офицером разведки — он во всем и все на нем[55]. Он знал все, что происходит, участвовал в совещаниях командиров и в составлении оперативных планов, придумывал и сам изготовлял особое снаряжение и приспособления для спецопераций, при нужде воровал оборудование у других подразделений, встречал бойцов, возвращавшихся с задания, и так далее, и даже сегодня он все еще активничает в организации ветеранов своей части — выколачивает для них пожертвования и привозит к ним артистов для выступлений.
Я уверена, что он влюбился в Эйтана еще и потому, что Эйтан служил в боевом подразделении, а он нет. У Довика врожденные проблемы с дыханием, он с детства не расстается с ингалятором, и в школе его всегда освобождали от уроков физкультуры. Но именно поэтому он вырос подростком, который не знал ни страха, ни усталости. Он взбирался на верхушки самых высоких деревьев, прыгал с крыши на крышу, смело входил в загон к телятам, которые уже начали взбрыкивать, задирался с собаками, угонял соседские машины и вечно ходил с очередной гипсовой повязкой, которая кочевала по его телу с одного места на другое. А когда повзрослел, носился здесь по лесам и вади, играя во всякие «как будто», которые обычно увлекают воображение таких парней: как будто он послан на операцию в сирийский тыл; как будто ему поручено взорвать командный пункт «Черного сентября»[56]; как будто ему велено уничтожить парочку-другую федаинов[57], разрушить их бункеры, обезвредить пусковые установки. А поскольку наш Довик к тому же из романтиков, то он попутно спасал красивых девушек из гаремов саудовских шейхов и тюрем Арабского легиона[58].
Потом ему пришла повестка из армии, и Довик, со своим профилем 45[59], стал буквально переворачивать горы, чтобы попасть — не важно, в какой должности — в максимально боевую часть. Как вы, наверно, уже понимаете, ему это удалось, но с Эйтаном он встретился вне связи с армией, совершенно случайно, потому что Эйтан моложе его и попал в часть, когда Довика уже демобилизовали, так что их первая встреча была куда случайней, и симпатичней, и даже куда романтичней, чем мое собственное знакомство с Эйтаном.
У Довика есть на примете куча, как он говорит, «заветных местечек»: там — жутко красивое дерево, тут — поляна, скрытая в глубине рощи, а здесь — источник или колодец. «Я всю нашу страну прошел насквозь, пешком, и на машине, и на джипе», — гордо говорит он о себе и не понимает, почему все, кто его слышит, усмехаются. В общем, неподалеку от нашего поселка, за старинным акведуктом, у него тоже было одно такое местечко, о котором я, кажется, уже упоминала, — его любимый потаенный пруд. В мелкой части этого водоема всегда собиралась грязь, потому что коровы приходили туда пить в жару, но чуть подальше он вдруг становился прозрачным, глубоким и очень холодным, и там, как у нас рассказывали, когда я была еще маленькой, жил себе и поживал старый крокодил из Нила, оставшийся еще с тех дней, когда в Стране Израиля кишмя кишели крокодилы, и молодые львы грозно рычали в виноградниках, и медведи запросто выходили из лесов[60]. Знаете, в комментариях к Танаху река Нил называется Йеор. Красивое слово, правда? Когда говоришь «рррека», слышишь раскат и раздолье, но в слове Йеор вдобавок к этому есть еще и глубокое, огромное «о»… Впрочем, «Нил» — тоже красивое слово. Говоришь «Ни-и-ил» и видишь такую нескончаемую, величавую длину. И еще «Нил» мне кажется похожим на ванну, в которой можно нырять и лежать. «Н» — это ноги, а «л» — голова. Я как-то сказала это Эйтану, а он ответил: «Посмотри хорошенько, Рута, — и провел линию по верхушкам всех этих трех букв. — Видишь, эта линия от „л“ и „и“ поднимается к верхушке „Н“, — значит, там, где „Н“, лежит голова, а не ноги…»
Ну, в общем, в мошаве говорили, что в этом пруду живет старый большой крокодил, и дети постарше рассказывали тем, кто помоложе, что раз в год мошава должна отдать этому крокодилу в жертву маленького мальчика или девочку, чтобы старая кровожадина не натворила нам беды. Так что смотри, Рута, не попади ему в пасть, потому что ты так себя ведешь, что это вполне даже возможно! Кстати, был действительно такой случай: как-то раз к нам приехала погостить девочка из города — такая, знаете, маленькая красавица, с золотыми локонами, в розовом платьице и в красных туфельках — и пошла погулять за деревню, ну и заблудилась и каким-то образом утонула в акведуке. Когда ее нашли, то только по этой одежде и по локонам опознали, и нам сказали, что это старый крокодил ее так растерзал. И знаете — были такие, что даже радовались: вот, теперь не нужно отдавать крокодилу никого из наших, он уже свое получил…
Ну, не важно. Вернусь к пруду, у которого они встретились, Довик и Эйтан. Вот представьте себе — маленький водоем, совершенно укрытый от сторонних глаз, со всех сторон окруженный всякими растениями — малиной, девясилом, камышом и тростниками, и к нему ведет тропинка, которую проложили себе в этой чаще дикие кабаны — совсем как зеленый туннель, и там всегда что-то ползает, пищит и шуршит. Когда Довик повзрослел, он начал возить туда своих девочек, потому что это было его «таянное место», — так он говорил, в том смысле, что это место, где его девушки «тают». Довик, как я вам уже говорила, парень не очень интеллигентный и не очень элегантный в выражениях, даже порой грубоватый, но он истинный рекордсмен по части «прокладки связи». Это еще одно выражение, которое все они приносят из армии и употребляют потом в разных обстоятельствах.
Меня Довик тоже брал туда, но только когда я была маленькой девочкой и, конечно, не для «прокладки связи», а чтобы научить меня плавать. У нас тут все дети учились плавать в общественном бассейне, а учил их Шая, наш учитель физкультуры, и все дети знали, что во время этих плавательных уроков Шая будет трогать их за разные части тела, никого не пропустит и никого не обойдет своим вниманием, как малышей, так и больших девочек. Короче, в один прекрасный день, когда посреди одного такого урока я закричала на него: «Не смей меня трогать!» — при этом воткнув ему палец в глаз и укусив за руку, дедушка Зеев пришел в бассейн, избил этого Шаю в присутствии всех учеников, а потом велел ему покинуть школу и деревню, причем незамедлительно и по собственному желанию. Или, как он сформулировал: «Будь доволен, если ты уедешь в машине „скорой помощи“, а не в машине „Хевры кадиша“!» А после этого наказал Довику: «Теперь ты сам будешь учить свою сестру плаванию вместо этого подонка, потому что каждый ребенок должен уметь плавать».
Довик всегда выполнял приказы дедушки, но тут он очень скоро обнаружил, что у меня весьма негусто с координацией движений и что дыхание у меня путается с движениями рук и ног, и тогда его осенило, и вместо того, чтобы учить меня плавать, он стал учить меня нырять, и не в общественном бассейне, а в том его потайном пруду. Мне тогда было шесть лет, а ему четырнадцать, и поначалу он вводил меня в воду, держа за руку, пока вода не доходила мне до груди, и тогда приказывал мне наклониться, погрузить голову в воду и осторожно выдыхать там воздух, а потом поднять голову из воды и вдохнуть — и снова, и снова. А когда я уже научилась спокойно проделывать это упражнение, он велел мне погружаться в воду полностью, до самого дна, и сидеть там, не шевелясь, только медленно выпускать воздух и получать удовольствие. А если мне очень захочется, я могу взять два камешка со дна, ударить ими друг о друга и слушать, какой приятный звук они издают, потому что под водой все слышно намного лучше.
Когда я привыкла так сидеть, он показал мне, как нужно плавать, но велел мне и эти движения делать, оставаясь под водой — держа там и тело, и голову, и все, — чтобы не сбивать дыхание, а когда у меня кончится воздух, стать на ноги, высунуть голову из воды, набрать полные легкие воздуха и снова нырнуть.
После нескольких таких уроков я научилась высовывать голову и набирать воздух, не становясь на ноги, и так вот я плаваю по сей день. Как тюлень. Большую часть времени нахожусь под водой и высовываю голову как можно реже. Обычно — раз в двадцать или тридцать метров, но если нужно или хочется, я могу нырнуть и на сто метров, а воздух могу не вдыхать целых четыре минуты подряд. Это не мировой рекорд, но для обычного человека много. Да что там много — это жутко много! Большинство людей не могут без воздуха больше чем тридцать — сорок секунд, так что я, сама того не зная, стала тем, кого называют «фри-дайвер», — человек, который ныряет без баллона, только на собственном запасе воздуха.
Не знаю, что мне больше нравится — само ныряние или мое умение нырять. Так или иначе, это приятно, а со времени нашей беды — еще и успокоительно. И полезно. Похоже на невесомость или на полет в замедленной съемке. Я не из тех, кто ныряет на глубину. Мне вполне достаточно двух метров под поверхностью. Я скольжу надо дном, парю там, точно какая-то подводная птица. И всегда, когда я ныряю, мне хорошо и хочется плакать. Может быть, я даже и плачу, не знаю. Когда по лицу течет вода, трудно различить, течет ли по нему еще что-нибудь. Слезы или пот, если под водой вообще потеют.
Я помню: как-то раз когда я была еще девушкой, как говорят наши старухи, и плавала в нашем общественном бассейне, я высунула голову в точности рядом с Хаимом Маслиной, который сидел возле трамплина и старался произвести впечатление на незнакомую мне девицу, какую-то гостью из города. Не помню, рассказывала ли я вам об этом ничтожестве — он внук того Ицхака Маслины, тоже ничтожества, который был соседом дедушки Зеева и, подобно ему, принадлежал к числу основателей нашей мошавы. Короче, когда я высунула голову, чтобы набрать воздух, это ничтожество посмотрело на меня и произнесло: «Как это может быть, чтобы у девушки с такими масисинькими сисями были такие здоровенные легкие?»
Я не разозлилась и не обиделась. Мне нравятся мои масисинькие сиси, и я им тоже нравлюсь. Иногда я даже говорю им: «Как хорошо, что мне достались такие, как вы, а не такие, как, например, у Далии». А иногда они мне говорят: «Как хорошо, что нам досталась ты, а не она». Да-да, они у меня умеют разговаривать, но они не склонны говорить с чужими людьми — только со мной, и друг с другом, и с Эйтаном, когда с ним еще можно было говорить. Ну, не важно. Я посмотрела на Хаима Маслину и сказала: «А как это может быть, чтобы в семье с такими масисенькими мозгами вдруг появился такой гений». И нырнула себе дальше своей дорогой.
Кстати, десять лет назад, во время нашей ежегодной школьной экскурсии в Иорданскую долину, я взяла своих учеников на Кинерет, на тамошнее кладбище, к могиле поэтессы Рахели[61], и там прочла им ее стихи: «Буду ждать тебя до скончания дней, как ждала праматерь Рахель», — потому что именно это я шептала тогда по ночам своему исчезнувшему первому супругу. Потом я показала им также могилу Берла Кацнельсона[62], который лежит там между могилой жены и могилой возлюбленной. А после всех этих культурно-воспитательных мероприятий позволила им немного поплавать в самом озере. И поскольку к нам присоединились несколько девочек, мальчишки решили устроить соревнования — кто донырнет до буйка, что в пятидесяти метрах от берега.
Никому из них это не удалось, и после того, как они вышли из воды, я спросила, разрешается ли учительнице тоже участвовать в соревновании. Они захихикали, и кто-то из них спросил:
— Что, учительница Рута, мы наконец увидим вас в купальнике?
— Не совсем, — сказала я. — Я люблю плавать в коротких штанах. И я спорю, что нырну даже дальше буйка.
Кто-то сказал:
— А я спорю, что нет.
Я спросила:
— На что спорим?
Он сказал:
— Учительница Рута, я дам вам шекель за каждый метр, который вы пронырнете дальше буйка, а вы дадите мне шекель за каждый метр, на который вы не доплывете до него.
Я спросила, кто еще спорит, и поднялись еще десять рук.
Ну, продолжение вы можете сами себе представить. Я вошла в воду до талии, сделала им ручкой «Привет!», нырнула и через три с половиной минуты, которые напугали их до смерти, вынырнула на двадцать — тридцать метров дальше буйка. Помахала им рукой, набрала воздуха и вернулась под водой на берег.
Они были потрясены.
— Ну, вы прямо ас, учительница Рута. А что еще вы умеете делать?
Хороший вопрос. Действительно, что? Говорить. Причем бесконечно, как вы уже, наверно, обратили внимание, Варда. И еще я умею ответить как следует тому, кому это причитается. Что называется, «отрезать», как я отрезала тогда Хаиму Маслине в бассейне. И я умею ждать, долго ждать, я двенадцать лет ждала возвращения моего первого мужа, и его стоило ждать. Я также неплохо умею плакать, но в первых трех занятиях я особенно сильна.
Мои ученики, обиженные и возбужденные, как только могут обижаться и возбуждаться взрослеющие старшеклассники, снова стали нырять, и самый любимый мой ученик, Офер Маслина — кстати, сын того самого Хаима Маслины, — при этом едва не утонул. Этот Офер, надо вам сказать, был парень в своем роде особенный. Не самый лучший мой ученик и тем более не самый прилежный, но самый необычный и самый интересный. Было в нем нечто такое, что я очень ценю и люблю, — голова, устроенная иначе, чем у других. Я бы сказала, что он сумел победить тот генетический материал, которым наделила его семья, ублюдочная во многих поколениях. Расскажу вам случай, который произошел у меня с ним на одном из моих уроков. Помните, в Танахе есть история о пророке Елисее, который проклял детей, смеявшихся над его лысиной. Они смеялись над его лысиной, он их за это проклял, а когда пророк кого-то проклинает, то обязательно следует наказание: «Двое медведиц вышли из леса и растерзали из них сорок два ребенка». Так написано в Танахе[63]. Сейчас, когда я вам это рассказываю, я думаю — жаль, что бабушка Рут не могла так проклясть тех детей, которые бежали за ней, когда она шла в поле за трактором, и смеялись над ней.
Ну, не важно. Когда я разбирала с ними этот отрывок, особенно тяжелый для меня из-за Неты, я сказала им, что пророк Илья, учитель Елисея, обычно более нетерпимый и жесткий из них двоих, не поступил бы так ужасно с детьми и, уж конечно, не из-за насмешек над его лысиной. И тут вдруг Офер прервал свое обычное занятие (он все время рисовал в тетрадке такие маленькие рисуночки, кучу маленьких улиток, тесно прижатых друг к другу) и поднял руку.
— Да, Офер, что ты хотел спросить?
(А про себя: «Какой славный мальчик!»)
И снова вслух:
— Да, Офер, я жду?
(А про себя: «Я, осиротевшая медведица Рута, сама бы вышла из леса тебя растерзать».)
— Учительница Рута, — спросил он, — если в самом Танахе написано «двое медведиц», почему вы ругаете нас, когда мы говорим «двое девочек» или «двое мороженых»?
Я посмотрела на него, пытаясь понять, то ли он умничает, то ли в самом деле не понимает, и сказала:
— Ты прав, Офер. Но «двое девочек» или «двое мороженых» — это ошибка уродливая, а «двое медведиц» — ошибка красивая. Некоторые писатели дорого дали бы, чтобы сделать такую красивую ошибку.
И вдруг почувствовала, что от моей диафрагмы к сердцу, точно пузыри из пучины, подымаются совсем другие слова: «Как ты, Офер, такая же красивая, как ты сам, Офер. Кажется, мне не стоит смотреть на тебя».
Ну, не важно. Вернусь к тому пари на берегу Кинерета. Офер набрал воздуха, нырнул и исчез, и прошли минуты полторы, и я вдруг поняла, что это уже чуть многовато для мальчика, поднялась с песка и крикнула: «Офер!» — а потом: «Что с ним случилось? Кто-нибудь видит его?!»
И тут мы увидели, как из воды появились его руки, которые метались из стороны в сторону, точно призывая на помощь. За руками появилась его макушка, потом мальчик погрузился вновь, но на наше счастье оказалось, что он довольно близко. Я бросилась в воду, подплыла к нему, схватила и потянула к берегу, а потом несколько учеников помогли мне вытащить его по мелководью на песок. Здесь его вырвало, и он пришел в себя. И тогда ребята начали пересмеиваться: «Это он представляется. Он просто хотел, чтобы учительница Рута сделала ему искусственное дыхание изо рта в рот».
Офер смутился, а я сказала:
— Не думайте, что из-за этой небольшой драмы я забыла о нашем пари. — И обошла их всех со своей соломенной шляпой, этакая Рута-приставута: — Кладите свои шекели! Сюда, прошу!
Кто-то спросил:
— Учительница Рута, что ты сделаешь с такими большими деньгами? — А потом добавил — Может, пригласишь нас в бар на кружку пива?
Я сказала:
— Учительницы не накачивают своих учеников алкогольными напитками. — А про себя: «Хотя я и в этом могла бы легко победить вас всех».
На следующий день я отдала все эти деньги школьной секретарше, чтобы она купила на них какие-нибудь книги для нашей библиотеки или пробирки и горелки для лаборатории, и думала, что поступила абсолютно правильно, но ребята обо всем рассказали родителям, и те пожаловались директрисе: как это учительница спорит на деньги со своими учениками? А Хаим и Мири Маслина, наши соседи за забором, вообще завопили: «Она чуть не утопила нашего сына!» В общем, поднялся шум. Директриса вызвала меня «для серьезного разговора», инспектор записал мне замечание в личное дело, и в конце концов мне все это осточертело и на ближайшем родительском собрании я вернула каждому родителю эти несколько шекелей его ребенка и надеюсь, что эту торжественную церемонию они не забыли по сей день.
Глава двенадцатая
— Обычно Довик ездил на этот свой пруд один. Дедушка разрешал ему уже в четырнадцать лет брать машину — тогда это была еще наша прежняя развалюха, «форд» с круглыми крыльями, — при условии, что он не станет выезжать на главные магистрали, а будет ездить только полевыми дорогами. На пруду он раздевался, плавал, а потом лежал в воде голышом на надутой шине — он называл это «Довик в корзинке» — и представлял себе, так он мне рассказывал, что сейчас на берегу появится дочь фараона и желательно со своими прислужницами — потому что именно так написано в Танахе, там, где говорится про Моисея в корзинке, зачем же менять, — и он объяснит им в точности, как вытащить его из воды и что с ним сделать потом.
Как вы сами, конечно, понимаете, он убегал туда довольно часто, лежал там часами и предавался мечтам о войнах с крокодилами, вроде тех, которые описывал Нахум Гутман[64] в книжке «Лубенгулу-король Зулу», и о нашей маме — что она делает в Америке, и думает ли о нас, и как это будет, если навестить ее там и уговорить купить ему мотоцикл «харлей-дэвидсон» в качестве компенсации за то, что она бросила своего сына. И как это она, с одной стороны, могла отказаться от нас в пользу дедушки, а с другой стороны, как хорошо, что она оставила нас у него, и почему это так, что все в мошаве нашего дедушку боятся, а для нас он такой хороший и добрый. Став чуть постарше, он начал убегать туда, когда хотел улизнуть от работы, которую поручал ему дедушка. Валялся на берегу пруда и мечтал, как закончит наконец школу и пойдет в армию и как покончит с собой, если его не возьмут в достойную военную часть из-за его астмы. А многие годы спустя он начал прятаться там от Далии с ее занудством и «символами», которые она ухитрялась отыскать везде, где угодно. И однажды даже сказал мне: «Я увидел, что дочери фараона не приходят вытащить меня из воды, и поэтому стал время от времени привозить туда какую-нибудь свою фараонову дочь».
Наша Далия, кстати, из тех женщин, которым очень важно показать людям, какая у нее удачная и счастливая семейная жизнь. На улице она ходит с Довиком только за ручку, а своих двойняшек по той же причине назвала Дафна и Дорит, чтобы их имена начинались на ту же букву, что и имена родителей. Когда девочки были еще маленькими, она дважды в день, утром и в полдень, тащила Довика в детский сад, чтобы все видели, что счастливые родители вместе приводят и забирают детей. Вдобавок она то и дело намекает, что у них с Довиком есть какие-то особенные любовные забавы, и всегда рассказывает, как он любит все, что она готовит. Нет, поймите меня правильно, готовит она очень хорошо, это правда, я тоже люблю ее обеды, но все-таки еда — это всего лишь еда, жизнь на этом не построишь.
Поначалу все эти ее штучки меня слегка напрягали. Ну для кого ты устраиваешь эти представления? Но потом до меня дошло: это не представления для кого-то, это она себя пытается убедить — и тогда я даже немного пожалела ее. Ну, не важно. Теперь Довик уже редко навещает это свое тайное укрытие, потому что кто-то из его друзей, узнав такой большой секрет, немедленно рассказал кому-то другому, а другой третьему и кончилось тем, что какой-то журналист написал целую статью об «уединенном бассейне». Один из тех журналистов, которые рекомендуют людям места для «уединенного отдыха», после чего стаи саранчи с мангалами и наргиле со всех концов страны мчатся туда со своими семьями, чтобы оставить там после себя обертки от сэндвичей, коробки из-под кукурузных хлопьев и кучи, я извиняюсь, дерьма вместе с туалетной бумагой. А шум, который они производят, висит там в воздухе долгие часы после их отъезда. Так вот, в один прекрасный день Довик застал около своего пруда семейство, которое жарило на берегу шашлыки, что, по его мнению, было равносильно кощунству, разозлился так, что проколол им все шины, и после этого начал уединяться со своими фараоновыми дочерьми в разных других местах. «Я понял, что они могут спасти меня и без корзинок и даже без Нила вообще», — как-то сказал он мне, когда попросил попробовать новый вариант лимончелло и сказать, нужно ли что-то поменять в соотношении воды, лимона и спирта.
Мы тогда много экспериментировали с этим лимончелло, пробуя разные соотношения крепости, сладости и кисловатости, и каждый раз на определенном этапе начинали хихикать и говорить всякую ерунду. Довик готовит замечательные лимончелло, но при этом всегда утверждает, что на самом деле все решает не человек, а лимон. А с нашим старым лимонным деревом, кстати, случилась интересная перемена: после смерти дедушки его плоды стали значительно лучше. Такое ощущение, что ему буквально полегчало, когда дедушка исчез. А вот наша шелковица, напротив, явно скорбела о покойном — от нее пошел какой-то вонючий запах, и ее листья стали опадать прямо посреди лета. Вот так это у деревьев — они чувствуют, помнят и не умеют обманывать.
Короче: однажды Довик снова отправился к своему пруду, но на этот раз не на машине, а на старом велосипеде, медленно и лениво, и, прибыв туда, увидел на берегу военный джип, припаркованный возле тропинки. Джип показался ему знакомым. Он пригляделся и понял, что добрая половина переделок на этом джипе сделана им самим, во время его армейской службы. Кто это водит мой джип? Кто это ходит по моей тропинке? Он тихонько подкрался к пруду и услышал, что кто-то там плывет. Кто это плавает в моем пруду? На кусте у берега висела армейская рабочая роба, трусы, майка, а под кустом лежала пара поношенных спортивных ботинок с воткнутыми в них носками. Кто это здесь носит спортивные ботинки да еще умудрился так их разносить? Только кто-то из нашей части!
Довик спрятался в кустах и приготовился ждать. Через четверть часа неизвестный «кто-то» вышел из воды — совершенно голый — и пошел в кусты помочиться. Довик был весьма впечатлен. Прежде всего тем, что неизвестный оказался не из тех, которые бесстыдно мочатся прямо в воде. А во-вторых, самим его видом, тем, насколько он был красив. «В нем все было красивое, — рассказывал он мне несколько лет спустя. — Если бы дочь фараона и ее прислужницы появились там наконец, они бы первым делом вытащили из воды не меня, а его».
Неизвестный парень кончил мочиться и вернулся в воду, и Довик, долго не размышляя, разделся и прыгнул туда вслед за ним, постаравшись произвести максимально возможный шум и максимально возможное количество брызг, чтобы показать, что явился законный хозяин. Ну вот. Так они встретились, мой брат и мой супруг: «Довик». — «Эйтан». — «Ты откуда?» — «А ты?» — «Кто тебе рассказал об этом месте?» — «А в какой ты части?» — «Я так и знал. Я был там незадолго до тебя, и я узнал твой джип». — «В самом деле? Как твоя фамилия? А, так ты Довик Тавори! О тебе до сих пор говорят в части, о всех твоих делишках и придумках…»
Довик раздулся от гордости и после всех положенных: «А такого ты знаешь?» — и: «А этого?» — и: «Что ты говоришь?!» — и: «Не может быть!» — пригласил Эйтана попробовать нашей шелковицы, которую прихватил с собой. Они бесстыдно сидели голышом на берегу, пока не обсохли. Потом Эйтан приготовил кофе, Довик подал шелковицу, они поели и попили и вернулись в воду. Эйтан предложил нырять до дна, но Довик сказал, что астма ему не позволяет, но добавил:
— Если ты так уж любишь нырять, то тебе стоит познакомиться с моей младшей сестрой, она ныряет куда лучше меня.
Вот так. Эйтану пришло время вернуться на базу, Довик проводил его до джипа и сказал:
— Это крепление для домкрата я не просто установил — я его сам придумал. — И потом: — У меня такое чувство, что мы еще пересечемся.
А Эйтан сказал:
— И у меня тоже. С удовольствием. Пока…
И действительно, через несколько месяцев, уже после того, как Эйтан демобилизовался, они пересеклись на какой-то традиционной встрече. Этакий «слет молодых ветеранов» их части. Вам стоило бы увидеть приглашения на эти их встречи! Каждый листок — сплошные цифры, восемнадцать цифр подряд. Шесть первых — это дата, и их всегда шесть, потому что только первобытные люди добавляют к датам нули. У первобытных это было бы, скажем, «восьмого мая тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года», а у них — ноль-восемь-ноль-пять-шесть-семь. И все. Четыре следующие цифры — время начала встречи, а восемь последних — координаты места. У них, видите ли, каждое место — это некая точка на карте, а каждая встреча — как военная операция. Даже если это встреча в каком-нибудь клубе в Тель-Авиве, адресом будет не улица и номер дома, а его координаты. Почему? Потому что мы не просто приходим — мы прибываем согласно указанным координатам. А если кто-то не в состоянии прочесть эти восемь цифр, то ему нечего там делать.
Они сразу же узнали друг друга на этой встрече, но Эйтан, с его неиссякаемыми дурачествами, в шутку поставил Довика в неловкое положение при всех — притворился, что не узнает его, а потом сказал: «А, это ты?! Я просто не узнал тебя в одежде», — и все, кто это слышал, радостно заржали. И все, и вот так началась их дружба, которая, в отличие от всей болтовни о так называемом «солдатском братстве», стала настоящей дружбой. Да, Варда, болтовни, потому что это пресловутое «солдатское братство» — пустая показуха, бравая поза, что-то вроде героических усов на актере в театре, поза мужчин, тоскующих по своей молодости, повод для еще одного всплеска натужной активности и еще одной порции театральных переживаний. О да, они, конечно, помогут друг другу, о да, они будут встречаться и рассказывать друг другу истории, но это не будет настоящая дружба. Выручка — да, дать взаймы — что за вопрос, собрать пожертвования, когда нужно, — конечно, но открыть душу — этого они просто не умеют. И действительно, у Эйтана — кстати, так же, как у меня, потому что я тоже такая — никогда не было настоящих друзей. Даже среди тех, что служили и воевали рядом с ним. А вот наш Довик, который не служил вместе с ним и даже не был, как он, в боевом подразделении, стал ему по-настоящему близким другом.
И обратное верно: Довик, который раньше всегда говорил только о своих подвигах в армии и о девицах, с которыми у него «было», вдруг начал говорить только о своем новом друге и притом впервые с настоящей любовью, без обычного бахвальства. И именно поэтому он нас сосватал. Я не сомневаюсь. Таким способом он сумел сохранить Эйтана для себя. Мне он рассказывал, какой это классный, и занятный, и симпатичный парень, а Эйтану он объяснил диспозицию.
— У меня есть сестра, намного удачнее меня, — сказал он ему, — и я хочу, чтобы вы встретились.
Эйтан рассмеялся:
— Та самая, которая ныряет лучше тебя, или другая?
— У меня только одна сестра, — сказал Довик. — Приходи, и я тебя с ней познакомлю.
Глава тринадцатая
— Ну вот. Так я установила тот самый «зрительный контакт». Я знала, что парня зовут Эйтан, и что Довик познакомился с ним на берегу своего тайного пруда, и что он на нем зациклился и хочет нас сосватать, поэтому я сделала все, что Довик велел. Точнее, сделала то, что в мои шестнадцать с половиной лет означали для меня слова «установить зрительный контакт», — уставилась взглядом молодой телки прямо ему в глаза. Смешно. Когда я вижу сегодня своих учениц, которые шествуют по школьному двору, «подняв шею, и обольщая взорами, и выступают величавою поступью»[65] в своих бюстгальтерах с силиконовыми подкладками, с накрашенными ресницами и глазами, подрисованными в гламурном стиле, я вспоминаю, что сама в их возрасте была еще совсем как мальчишка. Но Довик велел мне не ограничиваться взглядом, а вдобавок еще убедиться, что Эйтан заметил, как я на него уставилась.
Довик — мой старший брат и очень близкий мне человек, и я всегда выполняю любую его просьбу. Правда, я всегда была интеллигентней, чем он, и поскольку я интеллигентней, то знаю, что я такая, а он иногда об этом забывает. Но у него есть свои достоинства: он хороший и заботливый брат, и он толковый менеджер, он успешно и умело руководит нашим питомником и, в отличие от меня, целиком отдается работе, тогда как я, намного более интеллигентная, чем он, довольствуюсь тем, что я есть, и не пытаюсь стать такой, какой я могла бы быть.
Ну, не важно. Я остановилась на зрительном контакте, так давайте к нему и вернемся. На свадьбу Далии и Довика я нарядилась в белое платье, чтобы позлить невесту, надела туфли без каблуков, чтобы не быть выше жениха, заплела толстую косу, завязанную на конце красной резинкой — у меня тогда были длинные волосы, — сорвала с нашей плюмерии два душистых цветка и приколола их к волосам, посмотрела в зеркало и сказала себе: «В один прекрасный день, когда ты перестанешь быть своенравным мальчишкой, ты станешь красивой женщиной, даже очень красивой женщиной». В шестнадцать с половиной я еще не давала себе режиссерских указаний, как сегодня, но у меня уже был этот мой второй мозг под диафрагмой, и я нередко говорила сама с собой. Жаль, что я не смогла заодно предсказать себе свое будущее.
Кстати, эту плюмерию, Варда, вы можете еще и сейчас увидеть у нашего забора, рядом с дорогой. У нее, конечно, нет того уровня семейной важности, что у дедушкиного харува в вади, у акации Эйтана в пустыне или у шелковицы во дворе, но она моя, и я за нее отвечаю. Дедушка Зеев посадил ее через несколько дней после того, как привез нас с Довиком сюда к себе. Посадил и сказал: «Рута, это дерево называется плюмерия. С сегодняшнего дня ты за него отвечаешь, и это будет твое дерево. — И добавил: — Когда я был молодым парнем в нашей мошаве в Галилее и мой отец иногда брал меня с собой в Тверию, я видел там много таких деревьев, они очень красиво цвели и сильно пахли. Поливай ее, Рута, ухаживай за ней, она вырастет, и ты вырастешь, и вы обе будете намного красивее, чем каждая из вас по отдельности». Он воткнул вокруг саженца три деревянных шеста и привязал к ним тонкий стволик полосками, которые оторвал от старой простыни. «Простыня лучше веревки, — объяснил он, — она не царапает ствол и не так натягивает, она дает стволу немного двигаться по ветру и наращивать себе мускулы».
А Эйтан? Эйтан заявился на свадьбу в белой отглаженной рубашке (кто это так хорошо гладит ему рубашки? может, это он сам так хорошо гладит? — спросила очень красивая женщина внутри своенравного мальчишки) и в золотистой коже (которая вызвала у меня бурный восторг и почти неудержимое желание прикоснуться к ней, чтобы узнать, такая ли она горячая и гладкая на ощупь, как на вид), и в своих золотисто-зеленоватых глазах, и в светло-каштановых волосах, и в брюках хаки, и в сандалиях — в общем, не буду отрицать, он мне понравился. Очень понравился. Не только как парень, но и как возможный напарник — скажем, для игры в прятки и в догонялки. Я сразу заметила, что он в точности с меня ростом, и это меня обрадовало: я понимала, что он уже перестал расти, а я еще нет, а я не люблю симметрию и поэтому мне нравятся и такие пары, в которых женщина немного выше мужчины, а еще больше мне нравится, когда и мужчине это нравится тоже, и я даже иногда потом веселилась, представляя себе, что на ту первую встречу со мной он решил прийти не только в той одежде и в той коже, которые мне понравятся, но и специально надел на эту встречу тот рост, который придется мне по душе.
Короче, все выглядело весьма многообещающе, но ничего не произошло. Иными словами, я установила с ним зрительный контакт, как того потребовал от меня Довик, и Эйтан вернул мне взгляд, и даже спросил, я ли та младшая сестра жениха, о которой он так много слышал, и даже улыбнулся вполне милой улыбкой, но я не улыбнулась в ответ достаточно широко и достаточно быстро и не дала ему какого-нибудь незабываемого знака. В сущности, если не считать пожеланий счастья и еще одной слабой улыбки, которую он потом послал мне через стол — Довик настоял, чтобы его новый друг сидел с нами за первым столом, — у нас не получилось по-настоящему поговорить. Все осталось в потенции, на стадии куколки. Бабочка еще не появилась.
Мы сидели там, Довик, и Эйтан, и я, и наша мама, и дедушка Зеев, и Далия, и ее мамаша, которая отзывалась на имя Эллис. И вы не поверите, что произошло! Эта Эллис тоже установила с ним зрительный контакт — бросила на него взгляд, который задержался на какие-нибудь полсекунды, но оказался достаточно эффективным, чтобы увлечь его оттуда к ней домой. Мать невесты! Вы представляете? Далия отправилась со свадьбы прямиком на медовый месяц с Довиком, а его друг отправился оттуда в Тель-Авив, прямиком в постель ее матери.
Семью трясло. Мошава бурлила. Только в семье Тавори может произойти нечто подобное, и женятся они тоже на себе подобных — вот, пожалуйста, судите сами. Хорошо, что на этот раз, разнообразия ради, у них произошла просто неприличная история, а не еще один кошмар из их семейного склада кошмаров.
Меня эта история только позабавила и, странным образом, даже возбудила, но, признаюсь, я немного ревновала тоже. Не то чтобы я сама питала надежду тут же заполучить его к себе в постель — в конце концов, я была всего-навсего мальчишка без сисек, как я вам уже докладывала, — но во мне, много глубже этой ревности и выше скудости опыта и ограниченности понимания, было четкое и ясное сознание: Довик добьется своего, потому что придет день, когда мы с Эйтаном поженимся и он присоединится к семье. Ну а кроме того, стоило пережить все это, чтобы увидеть физиономию Далии. Выражение ее лица доставило мне истинное удовольствие. Мало того что ее собственная мать, эта самая Эллис, оказалась много красивее и элегантнее своей дочери, но она еще и украла у нее главную роль на ее же свадьбе — вышла оттуда с парнем моложе ее почти на тридцать лет, намного более интересным и более привлекательным, чем ее жених, — и это говорит вам женщина, которая любит их обоих и неплохо их обоих знает, — и ушла с этим парнем на виду у всех, да еще до того, как свадьба закончилась. Общий привет всем присутствующим, я иду домой с моей новой игрушкой, чао! Сами открывайте свои подарки и попрощайтесь со своими гостями от моего имени тоже.
Пишите, пишите, Варда. Вы ведь все время записываете имена, так запишите и это имя тоже: Эллис. Она была англичанка и больше говорила по-английски, чем на иврите. Сдается мне, что она приехала из Манчестера. Запишите себе и про Манчестер. Это ведь тоже часть истории еврейских поселений в Палестине — список мест, откуда евреи приехали в Палестину. И какая женщина! Какой стиль! Настоящий класс! Сексапильная, какой только может быть женщина пятидесяти одного года, какой и я могу стать через несколько лет, если только смогу управиться с тормозами, которые меня останавливают, и с болью, которая гнет меня к земле, и с грузом, который лежит у меня на душе.
Веселая разведёнка, ухоженная, понимающая что к чему, все интересы только на себе и трат на себя не жалеет. Просто взяла парня одной рукой: «Ты, лис, попал в мою судьбу» — это тоже из Бялика, но это я читала Нете, а не его отцу, — другой рукой сделала общий привет, и мне почему-то кажется, что на меня она бросила тогда какой-то особый взгляд, как будто понимала, что забирает Эйтана не только со свадьбы своей дочери, но и с первой его встречи с будущей женой, — сделала общий привет и повела его к своей машине.
Я вспоминаю: через несколько лет, когда Эйтан уже был моим мужем, я спросила его, почему, собственно, он пошел с ней, и он сказал:
— Из-за ее машины, Рута. Ты видела, какая у нее была машина?
— Я не обратила внимания, — сказала я.
— Старый «мини-купер», — сказал он. — Женщина, у которой такая машина, и сама должна быть чем-то особенным. И мне захотелось покрутиться — и на ней, и на ее машине.
— Покрутиться на ней? Ах ты, мерзкий тип!
И на стоянке — обратите внимание, Варда, учитесь! — она открыла дверь с его стороны и держала ее открытой, как мужчина открывает для женщины, и Эйтан это уловил и тут же вошел в роль. Сжал ноги, приподнял двумя пальцами воображаемое платье и уселся, как садятся женщины, и я поняла, какой праздник предстоит и ему, и ей.
Она захлопнула дверь, как охотник за попавшей в клетку добычей, обошла свой необыкновенный «мини-купер» — просто старый драндулет, если вы спросите мое мнение, — села на место водителя, включила двигатель и поехала — и все знали, куда и зачем. И только когда они уже исчезли из виду и люди начали шептаться, лишь тогда стало понятно, какая тишина царила там, пока она его забирала и уходила.
— А что Далия сказала на все это?
— Если это то, что вас беспокоит, Варда, и если вам важнее всего это знать, то в тот вечер она не сказала ничего. Она завелась только после того, как пришла в себя. «Она испортила мне свадьбу, она перетянула на себя все одеяло, все внимание — и это в мой вечер, на моей свадьбе! Вот так она относится ко мне всю жизнь, с тех пор, как я была еще маленькой…» Она не простила матери по сей день, и «по сей день» означает — и после того, как Эллис уже умерла. Вы наверняка знаете таких женщин, они всю жизнь продолжают жаловаться на свою мать. Что она мне сделала! Чего только она мне не делала! В три года она заставляла меня, в десять лет она сказала мне, в четырнадцать лет она не разрешила мне… Пора повзрослеть, девочки! Вы уже большие. Это уже ваши жизни. Возьмите ответственность на себя. Наша с Довиком мать была хуже. Она бросила нас, когда мы были детьми, оставила нас у своего тестя и уехала в Америку — так что, разве я хнычу по этому поводу? Ничего подобного. Напротив, я вижу в этом только положительное: у тебя мать была дерьмо? так научись от нее, какой не надо быть.
Ладно, прервемся. Я много чего могу сказать о своей матери, и насчет Далии у меня тоже слов предостаточно. Но как раз не кто иной, как Эйтан в один прекрасный день, когда я особенно сильно завелась насчет Далии, попросил меня прекратить. Он сказал: «Это некрасиво, а помочь это тебе все равно не поможет». И он прав. Трудно расти дочерью такой матери, как Эллис, — блестящей, отшлифованной посланницы классической Европы на нашем ублюдочном Ближнем Востоке.
— А что вы почувствовали, когда Эйтан поехал с ней?
— Я уже сказала вам — я немного ревновала. Вернее, сказала себе, что те чувства, которые я сейчас испытываю, принято называть ревностью. Но мой мозг, тот, что под диафрагмой, продолжал извлекать уроки и сообщать мне свои выводы. Я сказала себе: не страшно, Эйтан или как тебя там зовут, я хотя и младшая сестра Довика и во мне сейчас еще ничего такого нет, но я удачная, и я становлюсь все лучше, и у меня есть время и терпение. В конце концов ты все равно будешь мой, а до тех пор я могу и подождать. Тем временем она «освежит тебя яблоками», как сказано в Песни песней, и научит тебя всему, от чего мне потом будет хорошо.
И в результате вышло так, что первые серьезные слова в истории наших с Эйтаном отношений я сказала себе, а не ему. Он, сидя в этом дурацком «мини-купере», от которого пришел в такой бешеный восторг, ничего не слышал, и не почувствовал, и не ответил, но мне, когда я сказала ему все это в душе, — мне стало тепло во всем теле. Слава Богу, у меня уже тогда был тот идиотский характер, который меня хранит всю жизнь. Я сказала себе: успокойся, Рута, подожди, чему быть, того не миновать, — и я действительно ждала, и спустя годы, когда он уже был мой, за несколько дней до свадьбы, когда я уже была беременна Нетой и эта первая беременность уже усладила все мое тело, точно конфета во чреве она мне была, я потребовала, чтобы он рассказал мне наконец, что произошло после того, как они сбежали со свадьбы.
Он спросил, действительно ли я хочу услышать, и мы оба рассмеялись, потому что тот Эйтан, который был моим первым мужем, принадлежал к разряду этаких ретроактивных ревнивцев. Такие люди не мучаются из-за того, что, может быть, происходит, и не переживают из-за того, что, может быть, произойдет, но злятся на то, что уже произошло в прошлом. У него пробуждали ревность даже те мужчины, которые шли мне навстречу по улице, когда я шла в детский сад.
— Очень хочу, — сказала я.
— О’кей, мы были, зе ту оф ас, полтора месяца подряд, олл дэй вместе, две голые в одной кровати. Это ее выражение.
Теперь настала моя очередь злиться, потому что до этого я думала, что выражение «зе ту оф ас две голые в одной кровати» — он придумал для нас и только мы «две» говорили это друг другу, я и он, одна о другой. И вдруг выясняется, что это вообще не его выдумка. Однако Бог с ним, я сдержалась, потому что это было не единственное хорошее, чему он научился у нее.
Полтора месяца он был там, и она почти не давала ему выйти. Не только из ее квартиры, но и из нее самой, буквально. Держала, охватив его руками и ногами, а когда они начинали чувствовать голод, говорила: «Давай поползем в кухню, не разделяясь, я покажу тебе как».
Короче, она кормила его тем, что он любил, и точно также, как несколько лет спустя я читала ему стихи, она ставила ему пластинки, всякие там «Реквиемы», и «Стабат Матер», и Россини, и Гассе, и Форе[66].
— Я даже египетскую и турецкую музыку у нее слушал, — рассказывал он мне.
— Вот и Рамона у Сола Беллоу развлекала этим Герцога, — сказала я[67].
Он, разумеется, не понял, о чем я говорю, ну и что? Я вижу, вы тоже. И еще она научила его, что и как пить, и это благодаря ей я пью не только лимончелло нашего Довика, но люблю и пиммс, и джин с тоником, иногда даже джин «Хендрикс» — в точности, как она. Кто бы мог подумать: внучка дедушки Зеева — и кир[68] за обедом, кальвадос перед сном! Не волнуйтесь. Я не пьянею. Просто отключаю в голове несколько синапсов, и это хорошо.
Теперь я вижу, Варда, что вы понемногу начинаете понимать, кто же в результате выиграл от всей этой истории. Я. Рута. Очень приятно. Всем покупателям и друзьям он варил в тех «пойке», которые у него стояли под шелковицей, а мне подавал в кровать деликатесы, которым его научила мать его невестки. Ведь в этой «пойке» весь смысл сводится к тому, что все, что в нее бросишь, даже сетку из раковины, считается вкусным. Эйтан сам мне сказал: «Пойке — это просто походное устройство для переработки отходов». Это они так острят в питомниках и теплицах. Так вот, варево из «пойке» у нас ели друзья и покупатели, а мне он подносил еду, которую она подносила ему: вечернюю, где первым блюдом были он и я, и ночную, где он и я были на закуску. Ему самому она позволяла готовить только одно — утреннюю яичницу, потому что Эйтан умеет готовить дивные глазуньи с мягким желтком и слегка подгоревшим белком. Он всегда готовил мне и себе две такие в одной сковородке и всегда давал мне более удачный глаз — тот, что он называл «глаз, который видит». Потому что всегда, Варда, и это правило существует в истории кухни и в истории человечества, а может быть, и в вашей истории еврейских поселений в Палестине тоже, — всегда, когда вы делаете две глазуньи в одной сковороде, одна обязательно получается лучше другой, и ее вы даете «той, что дорога тебе», как сказано в Книге Есфири.
Через два дня он сказал ей, что должен подскочить домой, сменить одежду — сменит и мигом вернется. «Никаких домой, Иth’н, — сказала она. Так она звала его: „И“ вместо „Э“ в начале и „th“ вместо „т“. — Никаких домой, Иth’н, no way. Если ты выйдешь отсюда, да еще с этим запахом на пальцах и с этой сияющей мордой на лице, то какая-нибудь девка попросту украдет тебя, и все. Женщины за версту чуют мужиков, которых любят другие женщины».
Она права. Они чуют. Не только мужчину, которого любят, что не так уж трудно, но и мужчину, который любит, и мужчину, который вот-вот войдет в цвет, даже если он уже взрослый, или вот-вот завянет, даже если он еще молодой, и мужчину, который вот-вот умрет, даже если ему самому кажется, что он будет жить вечно. Они как те собаки — я читала о них в газете, — которые по запаху чуют больных раком. И вот так же они чуют болезнь и здоровье, силу и слабость, доброту и злобу, скрытые возможности, чувство юмора, ум и глупость. Им не нужно для этого изучать глаза или вглядываться в линии на ладонях рук, это все чепуха — они узнают это по уголкам губ, по тому, как мужчина поднимается со стула, по его излюбленным словечкам, по способу наливать воду в стакан.
Короче, она повела его в магазин готовой одежды, купила ему все, что нужно, и вернула к себе для еще любви, и еще музыки, и еще еды, и все это выглядело великолепно и даже было великолепно для такого молодого парня, но после полутора месяцев она вдруг объявила ему, что это все, Иth’н, — точка, на этом все кончено, теперь ты должен уйти.
— Что случилось? — удивился он. — Я тебе надоел? Все? Ты насытилась?
Оказалось, что нет. Он ей совсем не надоел, напротив, она была бы весьма не прочь получить еще порцию, и еще, и еще. Но ее постоянный друг, какой-то престарелый английский богач и, вдобавок ко всем радостям, ее далекий кузен и капитан нефтяного танкера — из тех гигантских танкеров, которые огибают весь земной шар, — только что кончил разгружать свою нефть на Филиппинах, или в Шотландии, или черт его знает где, и завтра прибывает в ашдодский порт.
— Почему так неожиданно? Почему ты не сказала мне заранее, что полтора месяца — и все?
— Потому что я предпочитаю гильотину песочным часам. Один удар вместо медленного погребения. Сейчас мы сделаем это с тобой в последний торжественный раз и скажем друг другу — прощай.
Она приготовила ему последнюю, торжественную и особенно вкусную трапезу, потом трахнула его, извините меня, Варда, заключительным, торжественным и особенно приятным образом, проспала с ним последним, торжественным и особенно тесным сном и прогнала прочь:
— Это все! Теперь уходи!
— Если ты думаешь, — сказал он ей у двери, — что ты можешь сейчас выбросить меня, а после того, как твой развозчик керосина отплывет из Ашдода, позвать меня обратно, то ты ошибаешься, Эллис.
— Все в порядке, — сказала она. — Ты уже доказал, насколько ты молод в нескольких очень приятных отношениях. Не нужно доказывать это еще и глупыми декларациями.
И, рассказав мне все это, Эйтан добавил, что, несмотря на все ее скорбные плачи на реках вавилонских, вроде what a pity и what a waste, то бишь «какая жалость!» и «какая потеря!» — вся эта ситуация очень смешила его, потому что в ту минуту, когда она его прогоняла (хотя им обоим было ясно, что они оба хотят, чтобы он остался), ему упорно представлялся ее богатый английский капитан с белыми от старости волосами, с красным от спиртного носом и с золотыми нашивками на рукавах чуть не до локтей, который плывет от порта к порту на своем гигантском танкере и в каждом городе, куда прибывает, причаливает свой корабль, бросает якорь, поднимается наверх, на капитанский мостик, в своем белоснежном костюме, звонит там в большой ручной колокольчик и кричит на всю округу: «А вот кому керосин, кому керосин!»
Вот и всё. Иth’н ушел оттуда, над миром сверкало солнце, и щенок лабрадора, стоявший на тротуаре, смотрел на него и улыбался. И Эйтан сказал, в ту минуту — себе, а несколько лет спустя — мне: «Щенок лабрадора — это хорошая примета». Он позвонил Довику и сказал ему, что его только что изгнали из постели Довиковой тещи и теперь он едет на какое-то время в Штаты, он получил предложение присоединиться к группе, охраняющей какого-то еврейского миллионера в Майами, но рассчитывает через несколько месяцев вернуться, и закончил вопросом: «Как поживает твоя сестра? Передай ей привет».
Глава четырнадцатая Бессонница (черновик)
Всякий, кто, идя ночью по нашей улице, пройдет мимо питомника, что на ее восточном конце, обязательно заметит там очень сильного на вид человека в синем рабочем комбинезоне и в австралийских рабочих ботинках. Иногда он сидит у входа, иногда ходит кругом. У него странная походка. Ноги явно сильные в бедрах и щиколотках и слабые в коленях и икрах, а руки сложены на груди, как будто он обнимает или несет что-то такое, что только ему дано обнимать и нести.
Так он ходит там, смотрит, охраняет и проверяет. На лбу у него головной фонарь того типа, которым пользуются туристы, а в руке маленькая кирка — обычное орудие для рытья неглубоких ям или выкапывания луковиц и клубней и опасное оружие в умелых руках. В пальцах другой руки у него сигарета, и, докурив ее, он не бросает окурок на землю, а растирает о стену или подошву ботинка, пока тлеющая головка не отрывается и падает на землю. Тогда он давит ее ногой, а потухший окурок бросает в мусорное ведро.
Немногие прохожие: рабочий, возвращающийся со смены, смеющиеся девушки, идущие с вечеринки, солдат, спешащий на рассвете к автобусной остановке, парень после любовной ночи, все, кто ищет сна — куда он скрылся? — все оборачиваются и смотрят на него. Кто мимолетным взглядом, кто взглядом долгим и внимательным. Некоторые знают его, и кое-кто даже здоровается с ним. Но он не отвечает ни на взгляды, ни на приветствия.
Случилось однажды, что двое парней, один — из недавно поселившейся здесь семьи, другой — его приятель, впервые гостивший в поселке, решили подшутить над ним. Один из них неожиданно протянул руку, пытаясь снять фонарь с его лба, и тогда этот человек вдруг отбросил кирку, развел руки с такой быстротой, которую трудно было от него ожидать, и прижал его к себе с такой силой, что у парня перехватило дыхание. Затем он с легкостью поднял нападавшего, как поднимают малого ребенка, и перенес через улицу. Когда он отпустил его, парень упал, мучительно кашляя, потом крикнул: «Он мне ребро сломал, сволочь!» — и его вырвало на землю. Приятель помог ему встать, и они убежали, а человек с фонарем вернулся на свой пост у входа.
Кто он, этот человек? Молодежь и новички полагают, что это просто охранник-поденщик, точнее — «понощник», потому что днем его вообще не увидишь. Но люди постарше знают, что он женат на внучке хозяина питомника и что он также шурин и друг ее брата, управляющего этим питомником, и выполняет те работы, которые поручает ему старый хозяин. Днем он сгружает, переносит и грузит все, что нужно сгрузить, перенести и нагрузить, ночами же сторожит у входа, а спать не спит никогда. Иные люди бегут от боли в сон, а он, наоборот, — в бессонницу.
Что делают люди, чей сон отлетел безвозвратно? Некоторые расставляют для него ловушки и приманки, ставят знаки и указатели, пробуют разные таблетки, горячее молоко, настойки из листьев, которые именуются в народе полезными, или настойки винограда, которые именуются вином или коньяком. Так, например, делает жена этого человека, которая ждет его в их доме и в их кровати, а он все не идет. Она пьет и лежит, пьет еще, читает, ждет его и своего сна. И может быть, так даже лучше, чем лежать вместе, не засыпая. Потому что тогда отлетают сны обоих, и каждый из двоих знает, что его сон улетел из-за соседа по постели, и каждый закрывает глаза, притворяясь, что думает, будто другой заснул.
А есть пары, которые как раз тогда нуждаются друг в друге, потому что после близости — так говорят — тоже приходит сонливость. А если не хотят друг друга, то предпринимают отчаянные попытки — он наедине со своим телом и она наедине со своим. Но эти не такие, и эта женщина уже многие годы не лежит со своим мужем.
Иногда этот человек входит в дом и ложится на другую кровать, в другой комнате, не в спальне, и порой он думает, что ему удалось немного вздремнуть. Но он тут же пробуждается, и пробуждение извещает его, что оно здесь давно. Иными словами, он медленно закрывает глаза, лежит и знает, что сейчас он спит, но вдруг понимает, что бодрствует. Не только «сердце его бодрствует», как сказано в Песни песней[69], но бодрствует все его тело. Руки и ноги расслаблены, как у спящего, дыхание спокойно, как у спящего, глаза закрыты, как у спящего, и иногда он даже видит сны, как спящий, но потом чувствует, что глаза его открыты и смотрят внутрь него, а его сон — это не сон, а воспоминание и размышление.
Тогда он встает, одевается и снова идет сторожить. И так ночь за ночью. Муж, снаружи, ходит вокруг дома, а я, в доме, в пустой постели, жду.
Глава пятнадцатая
«Почему ты проснулась, Сарра?»
«Из-за вас. Вы очень шумите».
«Мы собираемся на прогулку».
«Какая вдруг прогулка? Вы мне ничего не сказали».
«Прогулка парней. Я и Исаак».
«Только вы вдвоем? Одни? Это не опасно?»
«Мы не одни. Мы возьмем с собой двух отроков и осла, и Господь тоже будет»[70].
«Правда?»
«Так Он сказал».
«Насколько я Его знаю, Он явится в последнюю минуту и скажет, что забыл захватить еду. Так ты уж лучше сам возьми что-нибудь Ему в жертву».
Молчание.
«И куда вы идете?»
«На то место, о котором Я скажу тебе».
«Кто скажет тебе?»
«Господь. Так Он сказал».
«А как же я? Я тоже хочу с вами».
«Это прогулка парней. Я же тебе сказал — Исаак, отроки, Господь, осел и я. Женщины, девочки, матери и ослицы не приглашаются. Оставайтесь в шатре и не выходите наружу».
«Насколько лучше было, когда меня звали Сара, а тебя Аврам. С тех пор как Господь изменил нам имена, в нашей семье что-то разладилось».
Молчание.
«И когда же вы вернетесь?»
«Через несколько дней».
«Несколько дней — это очень много. Что вы там будете делать?»
«То, что делают парни всегда. Пойдем, проложим путь в то место, которое Он для нас усмотрит. Придем. Сделаем привал на одной из гор, будем сидеть и смотреть вокруг. Поговорим, помолчим, повспоминаем. Поскучаем по тому, что было пять минут назад. Зажжем дрова с первого же раза. Будем учиться вязать узлы, чтобы стреножить осла, и узлы, чтобы связать жертву. Научим друг друга всему, что должны знать мужчины».
— Я декламирую, Варда: «…ступать неслышно, и понимать следы, и прятаться в листьях, и идти в темноте, и наблюдать, оставаясь невидимым». И еще: «Сено для коров добывать, и в поле за плугом шагать, и деревья в саду подрезать, и хору, как дядья, танцевать». Это последнее — просто так, Варда, маленькое угощенье для вас, песенка из истории еврейских поселений в Палестине. Вас ведь не столько люди интересуют, сколько гендерные проблемы. Ну, так эта песня как раз гендерная, потому что в ней все делают дядья, даже не ясно, зачем нужны тети? И узнавать голоса в ночи, и находить «пути орла на небе, змея на скале и мужчины к девице»[71]. Выкопать колодец, устроить алтарь, зажечь огонь, ходить босиком, наточить нож, управлять лошадью — мальчик в седле, руки держат вожжи, улыбается с волнением, которого мать понять не может.
«Вот следы зайца, Исаак, а это — гиена, ее задние ноги меньше передних, а это след оленя, вот это раздвоенное копыто, видишь — здесь он прошел, его следы видны отсюда и до кустов. Посмотри на этот камень, у него лишайник сверху, это знак, что олень перевернул его своим копытом».
Вас не так уж интересуют рассказы о перевернутых камнях? Жаль. Потому что рассказы о камнях — это самая что ни на есть история всякого поселения, какая только может быть. Краеугольные камни, замковые камни, верстовые камни, каменное ядро, отесанный камень, неотесанный камень, надгробный камень. Камни, которые больше неба, камни, которые кладут под голову и видят сны.
А вот Полярная звезда, вот Большая Медведица и рядом с ней Малая Медведица, все мы здесь — один Господь, двое медведиц, четыре матери: Сарра, Ревекка, и Лия, и Рахиль, — и мы: отец с сыном. «Что это за „двое медведиц“, Авраам?! Еврейский народ только-только начал говорить на иврите, а ты уже делаешь ошибки?!» — «Мы в Танахе, Сарра, если ты случайно забыла. У нас в Танахе даже ошибки священны».
Вот и все. Встали утром, оседлали осла своего, поехали[72]. Как меняются слова! Сегодня «поехали» означает — «на машине», а раньше оно означало — «на осле». Всё на осле: вода, еда, шатер, полотнище для тени, дрова для всесожжения и нож для жертвы, инструменты для работы и горшок для варки — все готово, и они пошли. «И возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь»[73]. Кажется, я вам уже говорила, что Эйтан любил играть словами? Так вот, накануне той их последней прогулки парней, на ужине с дедушкой Зеевом, Довиком и Далией, он сказал мне: «Ты, Рута, у нас, конечно, учительница, а я с трудом сумел закончить десятый класс, но я хочу объяснить тебе кое-что касательно нашего языка, чего, мне кажется, ты не понимаешь. „Единственного твоего“ — это значит „единственника“. Потому что так же, как у человека есть его „свойственники“ и есть его „родственники“, у него есть и его „единственники“ — те единственные, которых он любит. Вот так».
Довик усмехнулся, а дедушка вперил в Эйтана один глаз с повязкой и другой — с симпатией и любопытством: что еще скажет и сделает этот удивительный парень, который присоединился к его семье, эта сияющая бабочка, это существо с золотистой кожей? Эта птица с красивыми перьями, что опустилась во двор, полный кур и гусей? Я смеялась, и даже Далия одарила нас улыбкой. Вечер перед бедой — вечеря, последняя в своем роде. У нас тогда вечера были веселые и шумные, приправленные рассказами, и смехом, и анекдотами, и загадками, мы соревновались, кто ловчее сбросит салат с вилки соседа, украдет у него последний кусок или перехватит последний глоток. Наш Довик — любитель поесть. Он набирает на вилку много, и жует долго, и вздыхает от удовольствия, но в основном уже занят тем, что представляет себе следующий кусок. Поэтому умыкнуть у него этот кусок необыкновенно приятно. Он нагружает на вилку понемногу от каждого овоща, который есть в салате, по кусочку желтого и белого от яичницы, потом стружку сыра, затем немного селедки — и тогда, за секунду до того, как все это попадет в его рот, я протягивала свою вилку и сбрасывала все это обратно в тарелку, и он смеялся и сердился.
И тут же обсуждали, что произошло за минувший день и что нужно сделать завтра, и Эйтан, мой супруг, мой первый муж, всегда был в центре — рассказывал, подражал, передразнивал, делал смешные торжественные объявления. Довик смотрел на него с обожанием и преданностью, дедушка Зеев — с любовью и любопытством. Двое его собственных детей покинули дом, один из них — мой отец — уже умер, и вот Господь вместо них послал ему этого.
Я заглянула проверить, укрыт ли Нета, и мы пошли спать. Как ни странно, я не помню, были мы с Эйтаном в ту ночь или нет. Скорее всего, были, потому что мы очень много были тогда друг с другом, при любом удобном случае, и если так, то это был последний раз на много-много лет вперед: двенадцать тощих, злых лет уже готовились взойти на мою постель с Нила[74] — вот, мы здесь. А на рассвете я услышала, что Эйтан собирается в дорогу, и вышла в кухню поздороваться с ним.
— И вы не почувствовали, что что-то должно случиться?
— Нет, Варда, нет. Я ведь уже вам говорила — у меня нет никаких предчувствий и никаких женских интуиций, и я не почувствовала, что это последнее наше утро вместе, что это последний раз, когда я вижу своего мальчика живым и своего мужа таким, как он есть. Но конечно, как каждая мать о своих детях и каждая жена о своем муже, я немного беспокоилась за них. Даже провела с ними беседу озабоченных матерей:
— Так вы уже решили, куда ехать?
— Примерно.
— Можно и мне узнать?
— В Негев.
— Это ты уже говорил. А точнее — куда именно в Негев?
— Что значит «точнее», Рута? Мы просто едем погулять. Какое-то время побыть наедине с близким человеком, отец с сыном, только вдвоем. Посидим под каким-нибудь деревом в каком-нибудь вади.
— Но ведь ты сам всегда говоришь, что, если едут куда-то, нужно, чтобы дома знали детали маршрута.
— Ты права, — сказал он. — Но я же сказал тебе, что сейчас это не поход по какому-то определенному маршруту, а ночевка на стоянке, и мы еще не выбрали где. Решим на месте. Где-нибудь в районе ручья Цихор или Цнифим. Найдем акацию покрасивее, поставим в ее тени палатку, сложим себе камелек из камней, подружимся с тамошними птицами, научимся рисовать карту на песке. Будем прокладывать дорогу среди холмов.
— Зачем шестилетнему мальчику прокладывать дорогу среди холмов?!
— Ты предпочитаешь шестилетнего мальчика с телевизионным пультом в руках или с компьютерной мышью?
Я рассердилась:
— Извини, Эйтан, но я знаю эти места лучше, чем ты думаешь. Между ручьем Цихор и ручьем Цнифим — это добрая четверть Негева. Ты случаем не знаешь, где точно находится эта твоя красивая акация?
— Там, где ей указал Господь. Когда мы ее найдем, мы поймем, что это она, и если мобильник будет работать, я пошлю Довику ее координаты, и он покажет тебе ее на карте.
— А если мобильник не будет работать? Что, так уж сложно заранее сказать мне, где именно вы заночуете?
— Там, куда нас приведет руль машины. В том месте, о котором скажет Господь[75].
И как это я, преподавательница Танаха, не поняла, что происходит?!
А Эйтан добавил:
— Не нужно планировать каждую мелочь, Рута. Куда мы едем, где мы будем — не стоит все знать заранее. Куда интересней импровизировать и плыть по течению.
Как вы понимаете, он все-таки сумел вывести меня из себя. Но с другой стороны — ведь он был самым надежным человеком для таких походов. Прекрасный водитель, отличный штурман. Никогда не застревал по пути и не терял дорогу. И вдобавок разбирался в технике и мог, если понадобится, починить машину. И еще он был человеком сильным, с большим опытом, и при всей его кажущейся беспечности и беззаботной веселости всегда планировал все до последней мелочи. А уж по части ответственности не уступал какому-нибудь Гансу или Фрицу. Так он вел себя, когда ставил на огонь джезву, когда приготавливал все для дня рождения жены, когда отправлялся в туристский поход. И когда шел убивать — тоже.
Он вышел к пикапу, погрузил в него все, разложил по местам, покрыл полотнищем и привязал веревками. «В нашем питомнике, — сказал он мне когда-то, — есть все необходимое для похода, а также для засад и наблюдения. Веревки, ящики, канистры и другие емкости всех видов, садовые ножницы, маленькая кирка, чтобы вырыть яму, а если понадобится — то и дать кому-нибудь по голове, а также лопата — вытащить машину, или перенести угли, или закопать какашку в песок, и нейлоновые мешки для отбросов, и грабли, и метлы для заметания следов, и полотнища для тени, для маскировки и для подстилки».
Я смотрела, как он готовит пикап к дороге, следила за его экономными и спокойными движениями и понемногу успокаивалась. К тому же я вспомнила прошлый раз, когда они оставили меня дома и уехали в пустыню, и даже улыбнулась про себя. Это было годом раньше, тогда по радио сообщили, что ожидается большой метеоритный дождь, и Эйтан сказал:
— Давай, Нета, поедем в пустыню, посмотрим, как они падают с неба.
Я спросила:
— А что со мной? Я тоже хочу поехать.
Эйтан сказал:
— Ну что ты! Куча народа поедет смотреть на этот дождь именно в пустыне, потому что там ночи совершенно темные, и кто вдруг появляется там среди всех? Наша Рута. Сияет, как солнце, распространяет вокруг себя дивный свет. И вместо метеоритов все смотрят на нее, причем через закопченные стекла.
Я же говорила вам, Варда, — мой первый супруг был неутомимый ухажер и очень забавный выдумщик.
— Все готово. Ты хочешь принести Нету или я принесу его сам?
Я поднялась, взяла Нету на руки, завернутого в одеяло, и уложила на заднее сиденье машины. Обняла и поцеловала в обе щеки и в лоб, но он был совершенно сонный и ничего не почувствовал, а Эйтан осторожно придвинул к нему спинку переднего сиденья, чтобы он не скатился, когда машина будет тормозить. Я обняла и Эйтана и поцеловала его тоже. И все. Они поехали, а я приготовила себе кофе, потому что близилось уже время моего обычного подъема. Я не беспокоилась, но я думала о них. Нета, насколько я его знаю, наверняка будет спать всю дорогу и проснется, только когда они доберутся до своей акации, а Эйтан, как я представляла, будет вести машину по вади, выбирая из всех акаций «ту, что покрасивее». Мне ли не знать, с какой тщательностью он всегда выбирал подходящее дерево, чтобы устроиться в его тени, особенно если дело происходит в пустынной степи, а это дерево — акация. Она должна быть симметричной, и очень важно также, чтобы у нее был красивый силуэт, и обязательно, чтобы под ней можно было стоять выпрямившись, не получив колючей веткой по голове, и еще необходимо, чтобы на земле под ней не было слишком много упавших веток, потому что такие ветки могут проколоть одежду и подошвы.
— Что хорошо в акации, — объяснил он мне однажды, — что если она красивая, то она и хорошая, а если она хорошая, то она и красивая. И гранат тоже такой, и кипарис, и дуб. Но не у всех деревьев это так. Смоковница, например, может быть уродлива, как смерть, но хороша, с замечательными плодами, и наоборот — сама смоковница красота красотой, а плоды совершенно дерьмовые.
— Уродливые до несъедобности, — предложила я замену.
Он рассмеялся:
— Твой иврит немного высоковат для меня. Но я запишу себе твое предложение, чтобы не забыть.
Я знала: он выберет для их стоянки самую красивую, а значит, и хорошую акацию, припаркуется на берегу одного из негевских ручьев, и они вместе накроют машину полотнищем для тени, чтобы она не раскалилась на солнце. А потом набросают на это полотнище — для маскировки — камешки, и сухие ветки, и несколько пригоршней песка. Я представляла себе его наставления армейского снайпера: главное — это изменить форму, спрятать выделяющиеся цвета и контуры, скрыть блеск металла и стекла. «Нам не нужно показываться тем, кто не должен нас увидеть». А покончив с машиной, они поставят себе маленькую палатку на две следующие ночи — не только затем, чтобы прятаться от ночного холода, но и для защиты от комаров, скорпионов и змей. «Мы ведь не хотим непрошеных гостей, правда, Нета? Так пройди, пожалуйста к дороге и, когда дойдешь, глянь оттуда на нашу палатку и скажи, видно ли ее оттуда».
Потом Эйтан приготовит что-нибудь поесть, скажет, что в жаркие часы люди не должны ничего делать, только валяться, и тут у них начнется «расслабон». Они немного вздремнут, потом проснутся, побеседуют, помолчат, сольются с окружающей тишиной.
— Попей воды, Нета.
— Мне не хочется.
— Попей, это важно.
— Но я не хочу пить.
— Попей, даже если не хочешь.
— Но почему?
— Потому что здесь сухо и жарко, и ты даже не чувствуешь, как ты потеешь и высыхаешь. Видишь те два валуна вон там? Один маленький, а другой большой? Это были отец и сын, которые когда-то остановились здесь и не пили достаточно воды.
Эйтан сделает несколько снимков своим старым фотоаппаратом: палатка и дерево, Нета и он сам, вместе и по отдельности. Тогда уже входили в моду цифровые камеры, но Эйтан, хоть и любил всякие новшества и улучшения, упорно снимал своим старым «Пентаксом». Он говорил, что ему нравится, как клацает нож гильотины, отрезающий очередной кадр в этом старом аппарате, и не нравится, что в этих новых цифровых игрушках сразу виден результат и можно повторять снимок, пока не получится хорошо.
«Настоящая фотосъемка — это как выстрел снайпера, — говорил он. — Ты сам рассчитываешь, сам целишься, сам отвечаешь за результат. Когда пуля вылетела, передумывать уже поздно. И выстрелить снова по той же цели тоже нельзя. Вот так и в старых фотоаппаратах».
Потом они откроют справочник птиц и начнут вместе разбираться в местном птичьем поголовье: вот это пеночки, а это зяблики, а это еще что-то черное, есть и такая птица, я забыла, то ли чернохвостка, то ли черноспинка, то ли черноголовка. А может, чернобрюшка.
«Еще через пару дней они к нам привыкнут, Нета, и будут есть у нас с руки», — скажет Эйтан сыну, как он сказал мне в одной из наших прогулок, когда мы еще не были родителями, а были только вдвоем.
А перед вечером, когда солнце уже остынет и убийственный жар спадет, они выйдут на прогулку — посмотреть, как выглядят эти места в вечернее время, «потому что завтра утром ты их не узнаешь, Нета, в пустыне виды меняются каждый час».
— Пошли, я хочу тебе что-то показать, — скажет он ему. Я так любила эту его фразу. Всегда, когда он говорил: «Идем, Рута, я хочу тебе что-то показать», — меня ожидало что-то красивое, что-то смешное или что-то хорошее.
— Идем, Нета, посмотри. Это время, когда солнце уже не жарит, и поэтому разные звери начинают выходить из нор, искать, что бы поесть. Возьмем с собой воду, что-нибудь для перекуса и наш фотоаппарат, чтобы снять себя и эти виды и потом показать маме, когда вернемся. Идем, я поведу нас к вершине вон того холма, а потом ты поведешь нас оттуда обратно к палатке. Так что давай, смотри вокруг внимательно и запоминай признаки, потому что потом будет уже темно, и, если ты не найдешь машину и палатку, мы с тобой так и останемся в пустыне навсегда.
Откуда я все это знаю? По правде говоря, я не знаю ничего. Но я достаточно знаю Эйтана, чтобы представлять себе, что он говорит. И я уверена, что он напомнит Нете то, что говорил и мне на прогулках: «Время от времени нужно оборачиваться, чтобы увидеть и запомнить, как выглядит дорога в обратном направлении». Вообще-то он предпочитал круговые маршруты, а не прогулки туда и обратно, но иногда нет выхода и приходится возвращаться по своим следам, а тропы выглядят совершенно по-разному на пути туда и на пути обратно.
«Это еще одно свойство, которое я люблю у тебя, — как-то сказал он мне. — Тебя можно дважды провести по одному и тому же маршруту, раз туда и раз обратно, и ты думаешь, что это новый маршрут, которым ты еще никогда не ходила. Ты у нас девушка экономная».
И они пошли. «Оба вместе». Сначала вдоль ручья, потом — поднимаясь на холм по диагонали. Наверняка по диагонали. «К гребню холма обязательно нужно подниматься наискосок, Нета, как поднимаются животные. И даже стоит ступать по их следам, чтобы не оставлять новых». Это я тоже могу вам продекламировать наизусть, потому что и я ходила с ним так. Поднимаются наискосок, а поднявшись, не становятся на самой вершине, как поц на постаменте, а немного ниже. «Мы ведь не хотим, чтобы нас видели за километры все те, кто не должен нас видеть».
Поднялись, сели посмотреть на безбрежный простор и на красное, огромное солнце на горизонте, и Эйтан сделал еще несколько снимков. И вот такими они получились — картины вечернего заката, атмосфера прощания, надвигающейся ночи. Как будто камера поняла то, чего еще не поняли ни они, ни я. Он снял и их самих. Последние снимки, немного сумеречные — глаза и зубы сверкают на фоне темных лиц. Сейчас я уже не воображаю и не догадываюсь — я их видела, эти снимки. Правда — лишь несколько лет спустя. Может быть, я еще расскажу вам при случае.
— Идем, Нета, уже темнеет, веди нас обратно к палатке.
И я думаю, что как раз в эту минуту Нета положил руку на землю, как кладут ее для опоры, когда, сидя, хотят подняться. И именно там была змея. Потому что это было как раз то время, когда змеи выползают на камни, которые целый день грелись на солнце, чтобы впитать от камней их тепло — как можно больше тепла, — перед тем, как отправиться на охоту. И змея укусила его — вот тут, на внутренней стороне руки, в том месте, где близко к коже проходят большие кровеносные сосуды.
Эфа это была. Я знаю, потому что именно эфы предпочитают камни и скалы на песчаных склонах, тогда как другие гадюки — рогатая, например, — предпочитают песок или щебень на берегу ручья. Все это я прочла потом, с большим опозданием, надо признать, но, когда тебе ничего не рассказывают, приходится все узнавать самой — читать, и изучать, и открывать.
Какое странное название — эфа! У нас в Танахе змея называется «нахаш», и в самом этом слове уже слышно ее шипенье. И еще я хочу напомнить вам, Варда, что это было весной, когда эфы просыпаются от зимней спячки. Звучит, как еще одна детская сказка, правда? Проснулась эфа ото сна, проголодалась за зиму она, зевнула во всю свою широкую пасть и потянулась всем своим длинным телом: «Кого бы мне сегодня укусить? Мои зубы полны яда, а живот сводит от голода!»
Вот и все. Дело доли секунды. Всего-навсего. Нета Тавори, шести лет, укушен ядовитой змеей эфа. Мальчик, которого отец предостерег от всех возможных опасностей, мальчик, который достаточно пил, чтобы не пересохнуть на солнце, мальчик, который замаскировал машину, чтобы ее не увидели те, которые не должны увидеть, и поднялся на хребет наискосок, чтобы не остался новый ряд следов, и не стоял на гребне, как поц, а сел чуть пониже, чтобы не быть заметным. Вы в состоянии это понять, Варда? Вы в состоянии это понять?! Ведь если бы он поднялся по прямой и стоял там, выпрямившись, на гребне, все эти воображаемые враги, конечно, его бы увидели, но он не был бы в нескольких метрах от змеи, и не положил бы на нее руку, и не умер бы от ее укуса.
Наверно, он закричал, криком неожиданности и боли. И наверно, Эйтан тут же склонился к нему: «Что случилось, Нета? Ты чего-то испугался? У тебя что-то болит? Тебя что-то укололо? Где?» Зажегся фонарь. «Покажи сейчас же!» Он увидел две точки от змеиных зубов, ощутил дрожь маленького тела, сразу же все понял, лихорадочно обвел вокруг глазами и увидел змею. Понимаете — он еще потратил время на то, чтобы найти ее, а найдя — убить и сунуть в карман! «В таких случаях обязательно нужно доставить змею в больницу, — объяснял он потом Довику. — Врачи опознают ее и поймут, какую дать сыворотку». Но меня он не обманет. Верно, так положено сделать, но я-то слишком хорошо его знаю, чтобы в это поверить. Дело не в сыворотке. Это была месть. Автоматическая реакция: убить всякого, кто причинил вред кому-то дорогому для него, кому-то из семьи, тем более — его сыну. Его «единственнику». Я не утверждаю, что те десять секунд, которые он потратил на то, чтобы найти змею и разбить ей голову о камень, спасли бы Нету. Но я не могу не думать о такой возможности.
И лишь тогда, с мертвой змеей в кармане и с умирающим мальчиком на руках, он помчался вниз по склону, а потом вдоль ручья к палатке. Нета весил тогда двадцать семь килограммов, я точно знаю, потому что я каждые три месяца измеряла и взвешивала его. Отмечала рост на косяке кухонной двери и рядом с каждой меткой роста писала дату и вес. Двадцать семь килограммов для мальчика шести с половиной лет, не особенно высокого и совсем не толстого, — это изрядная тяжесть. Плотный мальчик, говорил Эйтан, железобетон! И похлопывал его, как похлопывают теленка — между плеч, точно под затылком. Это телосложение, кстати, он унаследовал от моего деда, но какое значение это имеет сейчас? Только деда его здесь не хватало! Отдыхай себе на своем смертном ложе, дедушка дорогой, а нас оставь, ради Бога, — и ты сам, и все прочие мужественные мужчины нашего семейства!
Бежит. Тяжесть ребенка на руках и кромешная темь вокруг. Но Эйтан — это Эйтан: он не устает, не спотыкается, не сбивается с пути. Его ступни видят и в темноте. Он бежит. Он несет и обнимает. Добежал до красивой акации, которую так долго выбирал, положил мальчика на землю, сорвал полотнище, покрывавшее машину, уложил Нету на заднее сиденье, зажег внутренний свет, и тогда увидел, что кровь течет у него из носа и изо рта, а укушенная рука распухла и посинела от подкожных кровоизлияний. Эти подкожные кровоизлияния видны снаружи, но по-настоящему смертельные — те, что внутри тела, в сердце и в почках. Он отодвинул переднее сиденье до упора, чтобы прижать Нету к месту, и помчался, как бешеный, как только он способен мчаться, минуту за минутой, пока его мобильник не нащупал связь. И тогда он начал звонить: Довик, «скорая помощь», полиция. Довик, не я — и этого я тоже ему не прощу. Потом промчался до главной дороги, включил все фары на полную мощность, плеснул соляр из запасной канистры и зажег костер, чтобы все, кто должен увидеть, действительно увидели.
Потом он вытащил Нету из машины и, хотя знал, что мальчик уже умер, опустился с ним на колени и медленно-медленно, чтобы с ним ничего не случилось, положил его на землю. И тогда рухнул рядом с ним, потому что больше у него не оставалось сил и больше ему нечего было делать и не для чего стоять. Только лежать рядом и ждать.
Довик тем временем уже начал развертывать дивизии. У них, у резервистов, есть эти свои сети, покрывающие всю страну. Они могут не видеть друг друга десять лет, но стоит такой сети включиться, как в их домах начинают мигать всевозможные лампочки, и звонить телефоны, и шипеть какие-то приборы, и маркеры принимаются гулять по картам и аэрофотоснимкам, а сеть все пульсирует, и дышит, и передает сообщения и указания. Все это, кстати, одна из форм того, что они называют солдатским братством и боевой дружбой, но не спутайте, Варда, я уже говорила вам и повторяю — тут нет никакого братства и никакой дружбы. Они придут на помощь, они помогут деньгами, они подставят плечо, но это всего лишь еще одна из их мужских игр. Так они выжимают себе еще одну «гнилую каплю»[76] жизни, напоминающую им былую молодость и былые «экшнз». Это не дружба, как мы ее понимаем, и это я говорю вам как женщина, у которой нет, и не было, и, очевидно, уже не будет настоящей подруги. Потому я и изливаю сейчас это все на вас — чужого, в сущности, человека. Думаете, мне это приятно? Нисколько.
Ну, не важно. А важно, что за несколько минут Довик вызвал по этой своей сети армейский вертолет, а когда вертолет завис над машиной Эйтана, его уже ждал там старый резервист, тоже из их части, который примчался туда еще раньше, из кибуца Паран, вместе с сыном — двенадцатилетним мальчиком, тощим, как палка, с большими ушами, — я знаю, как он выглядел, потому что увидела его на следующий день у нас дома на похоронах Неты. Они вышли из своей машины, и старик побежал к Эйтану, а мальчик не сказал ни слова, но тут же высмотрел место, где сможет сесть вертолет, и разметил эту посадочную площадку «стиклайтами» — это такие зеленые светящиеся палочки, которые у подобных мальчиков всегда под рукой, как будто разметка посадочной площадки для вертолета — именно то, чем они занимаются каждый вечер перед сном, начиная с трехлетнего возраста.
К тому времени, когда вертолет приземлился, Эйтан уже вырубился окончательно. Он лежал возле Неты, как саван, упавший с мертвеца, и его тоже погрузили в вертолет на носилках, потому что он не смог подняться. Тяжесть смерти Неты он пронес бегом, через несколько километров песка, и щебня, и камней, и темноты, но собственное; мертвевшее тело не смог теперь поднять с земли. Даже шага не мог сделать.
Старик позвонил Довику, что вертолет летит в больницу «Сорока» — пусть едет туда, — и еще одному из их компании, который жил под Беер-Шевой, чтобы тоже немедленно мчался в больницу, потому что он ближе всех к ней, а потом вернулся к себе домой, в Паран, на своей машине, а тощий мальчишка с большими ушами отвел туда машину Эйтана — один, через всю степь, в полной темноте, не дожидаясь рассвета, потому что у него еще не было водительских прав.
А я, дома, все это время спала. Совершенно спокойно и безмятежно. Я уже говорила вам: у меня не было никаких предчувствий. Все эти рассказы о матерях с телепатией, которые внезапно просыпаются с ощущением, что с их ребенком что-то произошло, а потом оказывается, что действительно произошло и как раз в ту самую минуту, — все эти рассказы не про меня. Возможно, я не такая хорошая мать, как они, а возможно, они лучше меня умеют сочинять истории. И когда я вдруг проснулась, это было тоже не из-за ощущения, что случилось что-то ужасное, а потому, что до меня донесся шум из дома Довика. Зажегся свет, зазвенели телефоны, и я услышала крики Далии: «Разбудите Руту! Надо разбудить Руту! Почему я? Сам буди!» И точно в тот момент, когда я спрыгнула с кровати, Довик вошел в комнату и сказал: «Рута, я должен сказать тебе что-то ужасное. Нета умер. — И добавил: — Из-за змеи».
И там, в морге больницы «Сорока», после чудовищного перегона в машине, рядом с Довиком и Далией — я предпочла бы провести этот путь в багажнике, — я увидела моего единственного сына и моего первого мужа в последний раз. О том, как я увидела Нету, я не хочу говорить, а Эйтана я увидела, когда его там допрашивала офицер полиции, — он отвечал ей, как робот, а со мной не обменялся ни словом. Ничего не сказал и не осмелился даже посмотреть мне в лицо.
Я не понимаю: как может мужчина так вдруг растерять все свое мужество? Хорошо еще, что он успел передать все подробности врачам и полицейским в «Сороке», а также перебросился несколькими словами с Довиком, потому что еще через несколько часов после этого он окончательно угас и уже не с кем было говорить. Понимаете? Он сделал все, что мог, чтобы спасти Нету, он потерпел поражение, он доложил, как положено верному солдату, все, что нужно доложить, как это делается при расследовании военного провала, — и все. Он угас, и его больше нет.
Я кричала на него, я умоляла его: «Что случилось?! Расскажи мне, что случилось?!»
Я обнимала его. Трясла его. Била его: «Расскажи мне, как это случилось? Как такое могло случиться?!»
Я царапала ему лицо ногтями. Я плакала на его шее: «Слышишь, расскажи мне, ты слышишь меня?»
Он не отвечал и стоял, как истукан. Мой мозг отказывался понимать. Наши рты уже ничего не могли сказать друг другу. Но его тело говорило моему телу: «Я умер», — а мое тело отвечало его телу: «Я чувствую это». Однако ничто во мне не сказало тогда, что это конец и что моим вторым мужем отныне станет этот мертвец.
Так это было. А назавтра были похороны. Нету похоронили на нашем кладбище, а Эйтан похоронил себя внутри самого себя, а после похорон, по приказу дедушки Зеева, начал отбывать свои бессрочные каторжные работы. Он больше ни с кем не говорил, даже со мной, и перешел спать в бывшую комнату Неты, и стало ясно, что это все, что жизнь кончилась. Так прошли двенадцать долгих лет, а потом, в день смерти дедушки Зеева, что-то в нем щелкнуло снова, и он начал медленно возвращаться к себе.
Я была потрясена. Я думала, что смерть дедушки прикончит Эйтана окончательно. Они были очень привязаны друг к другу. Дедушка Зеев был единственным, кто нашел способ помочь ему после нашей беды, — способ чисто мужской, простой и жестокий, но действенный и эффективный: он заставил его работать в питомнике, выполняя самую простую и в то же время самую тяжелую работу — взваливать, и тащить, и нагружать, и поднимать, и носить, и сгружать, и перетаскивать, и еще — охранять по ночам. Но именно это удержало Эйтана в живых — если это можно было назвать жизнью. Эти двенадцать лет молчания и каторжной работы, а не любовь ко мне, как мне ни обидно, и не дружба с Довиком, и не армейское братство. А когда дедушка ушел, Эйтан вернулся. Ко мне и к себе. Не на сто процентов, да и я тоже уже не та Рута, какой я была до смерти Неты, но — вернулся.
Глава шестнадцатая
— Первой моей мыслью — после рыданий и криков, которые слышала вся мошава, — было: «Господи, я больше не хочу сыновей от этого человека!» И тут же: «А если я случайно уже беременна, сделай, чтоб это была дочь!»
Господь не ответил, но я знала, что Он слышал. Однако на всякий случай я еще и подбадривала Его: «Ты можешь, Господи, Ты можешь». И даже перевела на Его язык, чтобы Он лучше понял: «Есть ли что невозможное для Господа?»[77] — в уважительном третьем лице, чтобы Он был доволен. И как видно, убедила, потому что неделю спустя, в последний день траура, ко мне заявилась в гости благословенная тетя Руби. Я, кажется, улыбаюсь, и если так, то это из-за вас, Варда. Это имя не нужно записывать. Она нам не родственница и в истории еврейских поселений в Палестине не играла никакой роли. «Тетя Руби» — это просто одно из тех игривых прозвищ, которыми женщины у нас заменяют слово «месячные». И в тот раз это были те еще месячные! Настоящий потоп, у меня никогда таких не было. Да еще с такими жуткими болями и прочими осложнениями, о которых я раньше только слышала от других женщин. Как будто Всевышний втолковывал мне, что мир, который Он создал, продолжает функционировать, что солнце восходит и заходит, а луна растет и убывает, и вот так же и мое тело — вот, оно сообщает мне, что при всей его скорби об одном погибшем мальчике, оно думает также о других детях. А для других детей нужен мужчина. Но тетя Руби пришла и ушла, потом снова пришла и снова ушла, а я оставалась в этом доме со своим не то живым, не то мертвым супругом, который с тех пор ни разу не заговорил со мной, и ни разу не улыбнулся мне, и ни разу не сварил мне, и ни разу не коснулся меня, и ни разу не рассмешил меня. Только делал то, что было ему велено: нагружал, и переносил, и складывал, и разбирал, и все это с усилием, и все это медленно, как во сне. Но когда бы я ни посмотрела на него, я видела человека, бегущего сломя голову. И мне было ясно, что внутри своего тела он все еще бежит. Бежит с мертвым ребенком на руках, обнимает и несет, от его первого крика и до его последнего вздоха. Шаг, и еще шаг, год, и еще год, двенадцать ежегодных поминок, в которых он не участвовал, двенадцать дней рождения Неты, которые я отмечала одна, двенадцать пасхальных вечеров без сына и без его отца, который сидел один, в стороне от всех, и курил, не обращая внимания ни на праздничный бульон, ни на фаршированную рыбу, которые Довик ему выносил, как выносят остатки еды привязанной во дворе собаке. И сотни моих посещений кладбища, куда он ни разу не ходил, и одно долгое, очень-очень долгое ожидание. Нет, не Неты, я знала, что Нета уже не вернется. Я ждала Эйтана — пусть вернется хотя бы он.
«Посмотри на меня, — смотрела я на него через окно, — я здесь. Улыбнись мне, вернись ко мне, вернись и вернемся, супруг мой, озорная частичка моя».
Я уже говорила вам, что предпочитаю называть его «мой супруг», и даже говорила почему, но тому есть еще одна причина, не смейтесь — это звук «с» и то положение моих губ, когда они этот звук произносят, которое Эйтан очень любил. Я никогда не представляла себе, что кто-нибудь может внимательно изучать, как именно некий согласный звук выходит из губ его жены, и тем более не думала, что мое «с» чем-нибудь отличается от «с» других женщин. Но Эйтан был человек основательный и вникал во все детали того, что его интересовало.
Я помню: однажды — я была тогда на восьмом месяце, — в пятницу после обеда, в самое приятное время дня, мы сидели в кровати — Эйтан, я и Нета в моем животе, и вдруг он сказал:
— Еще немного, и он выйдет из тебя, и мы уже не будем «зе ту оф ас голые в кровати». Мы станем папа, мама и младенец. Так вот, я хочу воспользоваться тем, что сейчас это еще только мы вдвоем, и сделать что-то важное.
— Все, что ты скажешь, — сказала я, потому что после такого рода фраз всегда следовало что-то очень симпатичное.
— Я хочу, чтобы ты повторяла за мной все буквы алфавита и произнесла их все до конца, потому что я хочу увидеть, как каждая из них по-своему меняет твое лицо. Скажи «а», скажи «б», теперь «аб», теперь «в», теперь «г», и «д», и «де», и «ди», и «ду»…
Некоторые буквы он не просил произносить, потому что они не меняют лицо, а «н», так он сказал, «уродливая и уродует». И наконец мы подошли к «с», и он начал проверять ее в самых разных словах и сочетаниях:
— Скажи «свет», скажи «Самсон», скажи «сосна», скажи «семьдесят семь», скажи «сейчас семь часов семь минут семь секунд»…
Я делала все, что он говорил, а он смотрел на меня и требовал продолжать, пока я не сказала:
— Минутку, Эйтан, на меня напала смешинка.
И он сказал:
— Вот оно! Твое «с» в слове «смешинка» делает тебя самой красивой и самой тобой, какая ты есть. Отныне, прошу тебя, говори мне «смешинка» при каждом удобном случае.
Был летний день. Со двора доносились маленькие взрывы стручков люпина, которые дедушка рассыпал сохнуть на бетонном полу. Так он делал каждый год и объяснял нам, что семена люпина нуждаются в изрядной порции жаркого летнего солнца, чтобы хорошо прорасти. Я отчетливо помню эти звуки — взрыв лопающегося стручка, и дробные удары вылетающих из него зерен, скорлупью хрупкость этих тихих потрескиваний.
Я спросила:
— Почему именно «с» в слове «смешинка»? Почему не «слезинка»?
Эйтан ответил:
— Посмотри сама. Встань перед зеркалом и сравни твое «с» в «смешинке» и «с» в «слезинке», насколько они разные. Это все из-за давления, которое оказывает «м», из-за его силы.
— И это называется любовь? — спросила я. — Я должна тебе целый день смеяться?
Он улыбнулся:
— Нет, только время от времени произносить «смешинка». Ты вовсе не должна на самом деле смеяться. Это то, что так замечательно в языке, — что слово может быть красивее, чем то, что оно описывает.
Я немного удивилась. Мне не приходило в голову, что у него есть и такие мысли.
— Я люблю букву «с» из «смешинки» именно на твоих губах, — сказал он. — Потому что только у тебя во рту эти губы, эти зубы и этот язык встретились с этой буквой.
— Какой ты выдумщик, — сказала я.
И это же я повторю и вам: он действительно был неистощимый выдумщик. Однажды к нам в питомник приехал какой-то тельавивец, из новоприбывших, из тех, что, как только приехали в Страну, сразу хотят завести свой огород с овощами и выращивать собственных кур. Он хотел купить семена и саженцы — помидоры, перец, салат и тому подобное, — но спросил, органический ли у нас товар. Эйтан посмотрел на него и на полном серьезе сказал, что органическими бывают не семена, а способ их выращивания.
— Что это значит? — удивился покупатель. — Как же я должен их выращивать?
— Это очень просто, — сказал Эйтан. — Обычные овощи люди опрыскивают днем, а органические — ночью.
И чуть было не всучил ему какую-то бутылку под видом специальной жидкости для органического опрыскивания — просто так, для смеха, — но тут этот человек вдруг спросил, не найдутся ли у нас также семена «этого, ну, как его… фикуса… факуса?»[78], и Эйтан, не задумываясь, ответил, что «факус» у нас, увы, уже кончился, но он может предложить отдельно «фалупу» или «фаманду». Я уже искала, куда спрятаться, чтобы не видели, как я хохочу, но покупатель сказал, что о таких растениях он не слышал, на что Эйтан ответил, что до Тель-Авива эта новинка еще, очевидно, не дошла.
Далия поджала губы и сказала, что это «вульгарно», но Довик ответил: «Наш Эйтан, он такой комик, что не всегда поймешь, когда он шутит, а когда насмехается». Иногда и у моего брата бывает проблеск ума. И он всегда говорит «наш Эйтан», а не просто «Эйтан» или «твой Эйтан».
Но вернемся к этой букве «с». Эйтан взял фотоаппарат, и я снова и снова должна была произносить эту «смешинку», чтобы он мог снова и снова фотографировать меня, в результате чего я теперь, наверно, единственная на свете женщина, заснятая обнаженной на восьмом месяце беременности, когда она произносит слово «смешинка» и при этом задыхается от смеха. И все потому, что я мать без предчувствий, как я вам уже говорила. Я не знала тогда, что ребенок, который у меня в животе, умрет на седьмом году жизни. Та самая буква «с» моих губ, моих зубов и моего языка.
А в газетах писали не «на седьмом году жизни», а «в шесть с половиной» или даже просто «в шесть». И не буквами, а цифрой: «Нета Тавори — в скобках „6“ — погиб от укуса змеи». А ниже, буквами поменьше: «Трагедия в пустыне. Мальчик нашел свою смерть на прогулке с отцом». Какое странное выражение: «Нашел свою смерть»! Ведь это смерть находит свою жертву, а не жертва находит смерть. Именно в этом же и состоит специальность Ангела Смерти, разве не так? Найти ориентиры, изучить трассы, проложить маршрут, прийти, найти, запомнить адрес. Но нет, речь настаивает на своем. Всю нашу жизни смерть ходит за нами, следит, и ищет, и приближается, а потом — смотрите: оказывается, это мы ее нашли! Да, видно, язык знает и помнит какие-то вещи, которые мы не хотим знать или давно забыли. Ладно, оставим это, Варда, а то не ровен час, и от стольких слез я еще начну смеяться.
Глава семнадцатая Выстрел
1
Все птицы вдруг разом умолкли, будто освобождая место для звука выстрела. Его грохот отозвался эхом где-то в глубинах вади и тут же затих. Несмотря на близость цели и скорость пули, стрелявший четко ощутил промежуток времени между ударом бойка по капсюлю патрона и ударом пули по мягкому телу.
Высокий плотный парень вскрикнул и закрутился на месте. Полы короткой куртки на миг распахнулись. По тому, как он падал, стрелявший понял, что попал точно туда, куда метил, в колено. Такое ранение делает человека беспомощным, страдающим от боли и испуганным, оставляя его в чувствах и в полном сознании.
Какое-то мгновенье парень лежал на спине, затем начал медленно отползать в сторону, пытаясь протиснуться между колючими кустами, названия которых он не знал и которые все равно не смогли бы его укрыть. Потом затих, вытащил из сумки пистолет и огляделся. Но, не увидев стрелявшего, в нерешительности застыл на месте.
Ясное небо и восходящее солнце слепили его глаза. Приятный, не очень сладкий аромат последних цветов раздражающе щекотал его нос. А сердце теснил страх. Эти камни, скалы, кусты — все здесь было ему чужим. Он привык защищаться в городе, на улице, среди домов и машин, но не в вади, не в лесу, не в открытом поле — в тех местах, чьих законов он не знал, чьи сигналы не мог расшифровать и чей язык не понимал. Полуослепшими глазами вглядываясь в противоположный склон, он знал, что кто-то наблюдает за ним оттуда через тот же прицел, с помощью которого стрелял в него, понимал, что продолжение последует, и с ужасом ожидал его.
Прошло несколько минут, и тогда он наконец увидел человека. Мужчина среднего роста спускался в его сторону с холма, неся винтовку горизонтально, на уровне пояса. Солнце, встававшее у него за спиной, вычерчивало его на фоне неба как сильный широкий силуэт, лишенный деталей и черт лица.
Приблизившись метров на тридцать, человек остановился и негромко сказал:
— Пистолет в сумку!
У раненого, в его положении, на таком расстоянии от противника и из такого оружия не было шансов ответить выстрелом, тем более человеку, вооруженному ружьем и уже доказавшему свою снайперскую сноровку.
Он сунул пистолет в сумку.
— Закрой, — сказал человек.
Раненый закрыл сумку.
— Брось в мою сторону.
Раненый не двигался. Стрелявший человек приблизился к нему и при этом сдвинулся в сторону. Теперь солнце уже не стояло точно за его спиной. Темный мужской силуэт обрел каштановые, посверкивающие на свету волосы, лишенное выражения лицо, светлые глаза и такую светлую кожу, которая могла удивить и даже испугать своей белизной. Человек был в старой рабочей одежде — синяя хлопчатобумажная рубаха и поношенные брюки хаки. Ботинки были обмотаны чем-то белым, похожим на махровые полотенца.
Он подошел ближе и нагнулся, чтобы поднять сумку. Раненый ухватился за ремешок. Человек ничего не сказал, но, когда раненый потянул сумку к себе, с силой воткнул ствол ружья в его раздробленное колено.
Раненый закричал от боли, отпустил ремешок и откатился в сторону.
— Не кричи, — сказал человек. — Ты ведь не хочешь, чтобы кто-нибудь услышал и явился сюда? — И добавил: — Запомни, что ты здесь из-за убийства. А я еще нет.
Потом поднял сумку и спросил:
— Что ты искал под деревом? За чем тебя послали?
Раненый ответил:
— Я не искал ничего. Я просто себе гуляю.
— В таких ботинках, в этой одежде и с этой сумкой ты не выглядишь горожанином на прогулке, — сказал человек. — Что ты ищешь здесь в такое раннее время? За чем тебя сюда послали?
— Я же тебе сказал — я просто гуляю.
— Может, тебя послали за этим? — спросил человек и вынул из кармана золотую зажигалку.
Раненый не ответил.
Человек сел на большой, похожий на трон камень у подножья гигантского харува и чиркнул зажигалкой.
— Смотри, она даже работает, — сказал он. — Это твоя?
Раненый не ответил.
— Она лежала в грязи. Я ее немного почистил. И увидел, что на ней сзади есть инициалы.
Раненый не ответил.
Человек открыл его сумку, вытащил оттуда бумажник и проверил водительское удостоверение.
— Нет. Это не твои инициалы. Это инициалы кого-то другого. Кто-то другой забыл здесь свою зажигалку и послал тебя принести ее.
Раненый сказал:
— Я просто гулял. Я знать не знаю, от кого эта зажигалка.
— Чья это зажигалка, — исправил стрелявший. — А то я, чего доброго, могу подумать, что ты просто мелкая уголовная сошка, которая даже говорить правильно не умеет.
Он поднялся с камня.
— Так чья это зажигалка? — повторил он. — Кому важно, чтобы ее не нашли здесь?
— Я не знаю, о чем ты говоришь, — сказал раненый.
Человек подошел ближе.
— На этот раз кричи тихо, — сказал он. — Для своей же пользы. Помнишь, что я тебе сказал раньше? Ты здесь из-за убийства, а я еще нет.
И снова ударил раненого по колену стволом своего ружья. Раненый закричал в ладонь. Крик кончился сдавленным воем. Тело его тряслось. Пот заливал лоб и капал на лицо.
— Чья это зажигалка?
— Ты не знаешь, с кем связался. Ты не доживешь до восхода солнца, — прошептал раненый, пытаясь отползти назад. Он извивался и тяжело дышал, и слюна слетала с его губ вместе со стонами.
Человек поднял мобильный телефон, выпавший из кармана раненого при падении, и посмотрел в список имен быстрого набора.
— Вот этот тип, — сказал он наконец. — Кто еще может стоять в таком списке перед отцом, и перед матерью, и даже перед Ади? Интересно, что общего у девушки с красивым именем «Ади» с таким дерьмом, как ты?
Раненый молчал.
— Так кто убил старика, который был здесь вчера. Он или ты?
Раненый молчал.
— Я опишу его тебе, чтобы ты скорее вспомнил. Старый человек, седые волосы, одет в рабочую одежду, точно такую же, как у меня. Только он держал не ружье, а всего лишь сумку и палку. И у него был слуховой аппарат в ухе и повязка на одном глазу.
— Никто его не убивал. Он подскользнулся здесь, упал и разбил голову о камень. Клянусь!
— Целых три ошибки, — сказал человек. — Во-первых, ты действительно не умеешь говорить. Не говорят «подскользнулся», говорят «поскользнулся». Во-вторых, он не упал и не разбил голову о камень. Кто-то поднял этот камень с земли и разбил ему голову. И в-третьих, откуда ты вообще знаешь, что он умер от удара по голове, а не от чего-то другого?
— Он упал, — прошептал раненый. — Старый человек с палкой, совсем без чувства равновесия. Он не слышал и не видел одним глазом. Он упал и разбил голову о камень. Мы были здесь, но мы сразу смылись. Мы просто гуляли. Мы не хотели впутываться в неприятности.
— И вчера вы гуляли здесь, и сегодня ты гуляешь? Любите природу, любите страну… это очень похвально.
Он наклонился, поднял с земли камень величиной с большой грейпфрут, выпрямился и встал над раненым.
— Ты ошибаешься, — сказал он. — Он пришел сюда, когда вы были здесь, и вы убили его, ударив камнем по голове, вот так. — И он ударил раненого в висок. Удар был легкий, но болезненный. — Вот так, только намного сильнее. А потом вы положили этот камень ему под голову, как будто старик сам упал на него. Но вы идиоты, и поэтому вы положили этот камень низом вверх. Вот так, мразь ты этакая.
И занес руку.
Раненый пытался подняться. Его лицо исказилось в страхе и мольбе, и рот раскрылся для крика. Но человек ударил его камнем в висок и на этот раз изо всей силы. Потом стал на колени перед трупом и поднял его в сидячее положение. Он снял с него куртку, обернул ею его голову, чтобы не испачкаться кровью, потом обнял мертвеца и, несмотря на его размеры и вес, с легкостью поднялся с колен и выпрямился, как будто неся младенца.
Спустившись с трупом в овраг под гигантским деревом, он внес его в пещеру на склоне, бросил вместе с окровавленным камнем в старый высохший колодец, вырубленный на задах пещеры, а потом сам спустился туда. На дне колодца лежала мертвая коза. Человек отодвинул ее в сторону, положил на ее место труп, забросал его камнями, лежавшими на дне колодца, положил поверх мертвую козу, вылез наверх, снова заглянул в колодец и вышел из пещеры. Потом вернулся к харуву, сел на тот же камень, похожий на большой трон, и снова стал ждать.
2
Мобильник убитого зазвонил.
Человек молча поднес телефон к уху.
— Ты опять заставляешь меня ждать, — сказал голос в трубке. — Я тебе говорил, что я не люблю ждать.
— Извини.
— Нашел?
— Нет.
— Кто это говорит? Ты звучишь как-то странно.
— Я.
— Прекрасно. Ты научился не называть имен. Ты хорошо искал?
— Да.
— Кто это говорит? Почему ты так странно говоришь?
— Потому что я умер.
— Ты что, решил со мной шутить?
— Ты не поверишь, что случилось. Кто-то пришел сюда, нашел это раньше меня, дождался, пока я приду, и убил меня. Ударил камнем по голове.
— Что с тобой? Кто это?
— Камнем в висок. Точно так, как мы вчера угробили того старика. Он убил меня и бросил в колодец, вместе с нашей дохлой козой.
— Слушай, ты нашел или не нашел? Сейчас не время для шуток!
— Я лежу в колодце, засыпанный камнями. Мои мозги выплеснулись на землю под деревом. Мой рот забит землей и кровью. Надо мной наша коза, и она уже немного воняет. Так что мне остается? Только шутить…
— Понятно. Так кто же тебя убил?!
— Какой-то парень. Я не знаю, как его зовут.
— Вы успели поговорить до того, как он тебя убил?
— Естественно. У нас состоялся замечательный разговор.
— И к чему вы пришли в конечном счете?
— В конечном счете он оставил тебе здесь то, что ты здесь забыл.
— Где это «здесь»? Где именно?
— Тебе придется немного поискать. Кстати, он нашел и тот камень, которым мы ударили старика.
— Как нашел?
— Он сказал, что мы идиоты, что мы перевернули этот камень, я не совсем понял, к чему он клонил. Я думаю, тебе стоит прийти сюда побыстрее, до того, как он сообщит в полицию и они найдут здесь и твою зажигалку, и мой мобильник.
Человек оборвал разговор, повесил сумку убитого на плечо и снова поднялся в свое укрытие в фисташковом дереве. Съел две оставшиеся плитки гранолы, вычеркнул их из списка на бумажке, которую вынул из кармана, выпил воды и расслабился. Через полчаса он отпил еще немного кофе из термоса и посмотрел сквозь просвет в ветвях фисташки на большой харув, на большой каменный трон у его подножья и на разверстую черную пасть пещеры в овраге поодаль. У него было время. У него были планы и цель.
Он готов был ждать.
Глава восемнадцатая
— Рута, как бы вы охарактеризовали свою семью в сравнении с другими в мошаве?
— Как особенную.
— Интересно. Другие люди здесь, в мошаве, тоже определяют свои семьи как особенные или нестандартные.
— Это потому, что им скучно. Вот они и рассказывают вам всякие истории о себе, выдумывают небылицы, хотят казаться особенными. А я нет. Я бы охотно отказалась от этой особости. Кстати, это доказывает, что я рассказываю правду. Люди не придумывают о себе такие истории. Тот, кто рассказывает такое, явно говорит правду.
— Но не всю правду!
— Нет. Не всю правду.
— И главное — в том, что касается вашего дедушки. О нем вы явно рассказываете не все.
— Да. И об Эйтане тоже. Я уже говорила вам — я пишу. Страшные рассказы о страшных поступках, совершенных страшными мужчинами, которых я люблю, и в сущности — о страшных вещах, которые я сделала бы сама, будь я на сто процентов мужчиной.
— И что же вы подразумеваете под словами «особенная семья»?
— Большинство семей здесь — это хамулы цикламенов. Так дедушка называл семьи, в которых дети остаются возле родителей. В отличие от них, наша семья из породы крестовников. У этих растений потомство разлетается во все стороны. Дедушка Зеев и его братья покинули родительский дом в Нижней Галилее. Мой отец и его брат выпорхнули из этого нашего дома, как только сумели это сделать. Наша с Довиком мать оставила нас у дедушки и уехала в Соединенные Штаты. Эйтан оставил меня и этот мир, хотя потом вернулся. Нета умер прежде времени и уже не вернется. Я не из тех, кто верит в загробный мир и в бессмертие души, и от меня вы не услышите: «Вознесся в небо, стережет нас с небес» — и другие подобные глупости. Смерть — это не вознесение. Это прах и земля. Нету зарыли в землю, и сегодня, двенадцать лет спустя, от него ничего не осталось. Ни от кого ничего не остается. И уж тем более от маленького мальчика — тоненькие косточки, такие маленькие, тоненькие… как у птички.
Комната Неты, кстати, не стала нашим семейным музеем. Я не сохраняю там его кровать, какой она была, и его одежду в шкафу, и медвежонка на подушке. Через несколько дней после его смерти она стала комнатой Эйтана, и совсем не потому, будто Эйтан непременно хотел спать в постели мертвого сына, а потому, что он боялся — или не хотел — спать со мной. Ну, не важно. Я не сильна в увековечениях. Я храню только несколько маленьких памяток — в основном его рисунки из детского сада, неполную тетрадку из первого класса с первыми буквами и несколько праздничных костюмов. Все это, кстати, я хранила бы и в том случае, если бы он был жив сегодня.
Я вспоминаю: у него были разные костюмы. Я не называю их «нарядами», потому что эти костюмы не были только нарядами. Это была смесь моего умения подражать и Эйтанова таланта к маскировке плюс унаследованная от Эйтана изобретательность. Посмотреть с одной стороны — этакий маленький мужчинка, плотно сбитый, простой, бесхитростный, сильный, с умелыми руками. А с другой стороны — время от времени он начинал кутаться в разные цветные шали и тряпки, даже соединял их английскими булавками, обнаруживая при этом неожиданный талант настоящего дизайнера. Иногда он объяснял: это я колдун, это я король, это я папа. Как-то он сообщил мне: я наряжаюсь в кого-то не отсюда. А однажды попросил себе в подарок на день рождения черную ткань, потому что он хочет нарядиться в Ангела Смерти. Скажу честно — меня это испугало. Я сказала Эйтану: «Хватит. Я больше не участвую в этих играх». Я даже удивилась — ведь он совсем не такого рода мальчик, откуда же у него такие завиральные идеи?
Ну, не важно. Так вот, некоторые из этих костюмов я сохранила, а его обычную одежду отдала в отдел социальной помощи нашего Совета и двум приятельницам, у которых были дети его возраста. Далия сказала мне тогда — она порой просто выводит меня из себя, эта женщина:
— Почему ты и мне не дашь какие-нибудь вещи Неты? Может, и у меня в один прекрасный день родится сын…
— Именно поэтому, — сказала я ей, — именно потому, что в один прекрасный день и у тебя может родиться сын.
— Не понимаю, — сказала она.
И я, в своем мозгу под диафрагмой, ответила ей: «Ничего, я и не ожидала, что ты поймешь». А вслух добавила:
— Поверь мне, Далия, тебе не нужны сыновья. Ты начала с дочерей и продолжай в том же духе. Так лучше. — И улыбнулась: — А кроме того, дочери — это куда более символично.
Мне опять кажется, что я улыбаюсь. Я иногда улыбаюсь, но не чувствую улыбки. А иногда я чувствую улыбку, но не улыбаюсь. Ну, не важно. Еще два слова о тех одежках Неты, которые я отдала в наш Совет. Однажды, года через два после этого, я увидела на нашей улице маленького мальчика из России в Нетиных штанишках. Я их сразу узнала, потому что на них были две цветные заплатки на коленях — одна в виде сердца, а другая в виде глаза. Я их сама ему нашила. Этот мальчик и его мать стояли на улице перед доской объявлений и говорили по-русски. Я увидела их и, знаете, Варда, — я не упала в обморок и не убежала и даже не подошла к ним. Просто стояла и смотрела на них, на мать и ее сына, и вдруг она тоже посмотрела на меня, тут же взяла его за руку, и они вдвоем отошли от доски и пошли от меня, все дальше и дальше, а потом исчезли за поворотом улицы. Возможно, она уловила что-то в моем взгляде, возможно — слышала какие-то рассказы и знала, кто я, а может — просто посмотрела, как иногда смотрят на меня другие женщины. Я, кажется, уже говорила вам, что женщины смотрят на меня не реже, чем мужчины. Нет, не потому, будто я такая уж красавица, вовсе нет, но, вероятно, они видят, что я довольна тем, как выгляжу. Это одно из моих боевых орудий. Та выпивка, которая усыпляет меня по вечерам, — это мое секретное оружие. А мой внешний вид — мое неконвенциональное оружие. Это приятно, и это подкрепляет, а в моем возрасте — особенно. Будь я действительно красивой, было бы еще лучше, но я довольна и тем, что есть. Каждый год я снова и снова рассказываю моим ученикам историю Давида и Голиафа[79] и каждый год говорю им, что красота была оружием Давида в той же мере, в какой его ум, его смелость и его праща с камнем. Голиаф, этот уродливый идиот, явился «с мечом, и копьем, и щитом», да еще «оруженосец шел впереди его», и стал поносить Давида грязной бранью. Как будто брань — что бронь, может защитить одного человека от другого. А Давид вышел против него со своей красотой: «видный собой», «красивый лицем» — точно женщина, которая вышла на улицу, вооруженная своей красотой, и вот — падут слева от нее тысячи и справа — десять тысяч[80]. Враги обращаются в камень, врагини испаряются от зависти. Почему «оруженосец впереди»? Это был щитоносец, он нес его огромный шит. Почему вы не спросили сразу?
Вот это и сразило Голиафа: он вдруг понял, что у этого парня нет силы и геройства настоящего мужчины, которые он одолел бы без труда, а есть пугающая уверенность красивой женщины, подобная сиянию тех ангелов, что пришли в Содом и поразили там всех слепотой[81]. И мне почему-то вспоминается, как накануне нашей свадьбы мы с Эйтаном поехали в аэропорт встречать мою мать, которая соизволила дать себе труд прилететь. Тогда при входе в терминал были автоматические двери, а мы ведь приехали из самой что ни на есть деревенской дыры, поэтому я сказала ему:
— Видишь, какие новшества, Эйтан? Уже не нужно лететь в Америку, Америка сама прилетела к нам. У нас в мошаве не открывают друг другу двери из-за событий, которые произошли еще в мандатные времена, а здесь двери сами открываются для всех и каждого — заходите, милости просим.
— Никакие это не новшества, Рута, — сказал он. — Самые обыкновенные двери. Просто когда к ним подходишь ты, они сами открываются тебе навстречу. Когда ты подходишь к двери, любая из них сразу становится автоматической.
Он умел ухаживать, я уже вам говорила. Я была тогда в начале беременности, со всей красотой начала первой беременности — чуть поправилась, потеряла свой обычный худосочный вид. Я помню, однажды он сказал мне: «Всего двадцать минут после оплодотворения, а ты уже прибавила семьсот граммов. Десять граммов веса зародыша, на десять граммов ты пополнела сама и еще шестьсот восемьдесят граммов красоты, которая тебе прибавилась».
Он, конечно, немного преувеличил, но от меня действительно исходило то сияние, которое сопровождает первую беременность. Эх, если бы Нета оставался во мне всю жизнь! И с ним бы ничего не случилось, и я бы навсегда осталась такой сияющей.
Ну, не важно. Двери терминала раскрылись, Эйтан поднял меня на руки, застонал: «Какая ты тяжелая! Я и не знал, что красота так много весит! — И внес внутрь со словами: — Смотри, какой я тебе построил новый дом! Потерпи немного, все улетят, и мы с тобой останемся здесь наедине друг с другом».
Глава девятнадцатая
— Как он умер?
— Нета? Я ведь вам уже рассказывала. Почему вы снова спрашиваете?
— Не Нета. Ваш дед.
— Мой дед умер так, как ему подобало умереть.
— То есть?
— Он умер так, как когда-то умирали герои его типа. «Семка, Шломка, каждому своя котомка» — кто на пастбище, кто в поле, в окружении своих коров или своей пшеницы. Кто на поле боя, в тяжелой схватке, среди любимых друзей и врагов. Кто в море, в пучине вод, поглотивших и его товарищей, и его корабль. Тот за рабочим столом, в кругу гаек и болтов, или пробирок, или кистей, или слов, а этот в своем саду или в огороде, в окружении высаженных им овощей или деревьев, как в «Крестном отце». Кстати, это самый библейский фильм, который я когда-либо видела. Помните, как Дон Корлеоне там умирает в своем огороде, среди кустов помидоров, рядом с маленьким внуком. Я так плакала, когда смотрела! Ужасно. До сих пор не понимаю почему. Ведь подумать только — ну кто там такой умер? Мафиози, убийца, кусок дерьма — но факт, что я плакала. Это было. Чувства я могу скрыть даже от себя, но факты — нет.
— А ваш дед?
— Дедушка Зеев умер в своем вади, возле своего большого харува, в том самом месте, где всегда собирал семена и куда брал нас с Довиком на свои уроки природоведения.
— Но как?
— Не совсем ясно. Он, очевидно, поскользнулся на тропе, что вполне может случиться, когда тебе девяносто два, а ты по-прежнему упрямо хочешь гулять в одиночестве. Поскользнулся, упал и разбил голову о камень. Таким его нашел Довик.
— Ужасно…
— Почему ужасно? Девяносто два года, моментально, в том месте, которое ты так давно знаешь и любишь. Хорошо, что Довик нашел труп раньше, чем его нашли звери земные и птицы небесные[82]. У меня здесь в ящике есть листок, который я зачитала на его похоронах, хотите послушать?
— Да.
— Сейчас. Я пыталась описать ту жалкую, убогую старость, которой он избежал. Получилось немного высокопарно, так что я заранее прошу прощения. Так уж вышло. Я только раньше попью немного воды… Вот. Теперь я еще откашляюсь, и — в путь. «Понемногу сгорбятся мужи силы, постепенно задрожат стерегущие дом[83], расслабятся связи, помрачится глаз. Тут оторвется цепочка, там закапает труба, осыплется штукатурка, уши оглохнут и остановятся мельничные жернова. Но не у тебя, дедушка Зеев. У тебя — мгновенно. Разбился кувшин над источником, обрушилось колесо над колодцем, и снова возвратится прах в землю, чем он и был, и дух возвратится к Богу, Который дал его».
— Это очень красиво. Как-то по-особому…
— Вполне с вами согласна. Я могу похвалить этот текст со спокойной душой, потому что не я его написала. Большую часть я списала у Экклезиаста, и люди, слышавшие меня на похоронах, расточали мне те похвалы, которые причитались ему. Не важно. Что действительно важно — так это то, что дедушка Зеев ухитрился. Ему не причиталось, но он ухитрился. Жил долго, умер здоровым и в ясном уме и, как я вам говорила, в окружении любимых мест и любимых растений. В определенном смысле и он умер в своем доме, потому что это вади, как и наш дом и наш питомник, было его территорией. И таким, кстати, он и был — человеком своего надела, своих границ, своих заборов, всего, что провозглашено и объявлено своим владением. Этакий Халев, сын Иефониин[84]: «Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать, и выходить и входить. Пойдем и завладеем». Этот дом и питомник были его собственностью, и тело бабушки Рут было его владением, и это вади тоже принадлежало ему.
Кстати, с того дня, как он умер, мы возвращались туда только дважды. Один раз — вместе с полицией, сразу после того, как Довик нашел труп, и еще раз — в первую зиму после этого. Но когда мы были детьми, я и Довик, мы бывали там с дедушкой много раз — чтобы гулять и собирать семена, а главное — учиться распознавать растения и называть их по именам. То были приятные, полные любви и терпения прогулки. Он вкладывал в нас все то немногое, что было в нем хорошего. Я, младшая, сидела сзади, а Довик, как старший, — на сиденье рядом с ним, непрерывно задирая меня: ага, я сижу впереди, я вижу лучше, чем ты, я был в дедушкином вади раньше тебя, дедушка брал меня туда, когда мы еще жили с мамой в Тель-Авиве, он рассказывал мне о первобытном человеке, когда ты еще вообще не родилась.
А потом он начинал приставать к дедушке — как тот может водить с одним глазом?
«Могу, — говорил дедушка. — Факт, что я вожу, разве нет?»
Я пытаюсь представить себе: а если бы мы вот так же спросили его и о других его поступках: как ты мог такое сделать, дедушка? — он бы и тогда ответил: «Но ведь это факт, что я сделал это, разве нет»? Это слово — «Факт!» — отвечает на много вопросов: и «как ты мог?», и «как ты это сделал?», и «как это случилось?», и «как такое может случиться?». И даже: как ты, Рута, могла жить рядом с таким человеком и при этом любить его? Но — факт! Я ненавидела его, боялась его, любила его и жила у него. И мне хорошо было жить у него, и ему от этого тоже было хорошо, не только нам. Может быть, забота о нас, такая чуждая его характеру, была для него, при всей несравнимости, тем же, чем годы спустя — каторжная работа в питомнике для Эйтана?
Ну, не важно. Все это непросто. Вернемся лучше к этим нашим прогулкам с ним. Он вел машину так, как водил всегда — медленно, плохо и уверенно. Вождение не доставляло ему никакого удовольствия. И отношений между своей машиной и соседними он не понимал — его сознание попросту не принимало некоторые правила вождения. Как, впрочем, и ряд других житейских правил. И все же, несмотря на все это, да еще и на единственный зрячий глаз, с ним ни разу не случалось аварии — до самой первой, много лет спустя, когда ему уже было под восемьдесят. Хотите послушать? Он ехал тогда по немощеной дороге среди виноградников и поднялся на главную дорогу, не посмотрев по сторонам, не остановившись и не уступив право проезда ехавшей по шоссе женщине. С ними обоими ничего не случилось, но бампер его джипа отправил ее щегольской «ауди» на неделю в основательный ремонт. Она была из тех городских, которые приезжают сюда пожить — построила себе виллу размером со спортивный центр и насадила вокруг старые маслины, чтобы приезжать на уик-энд с друзьями и изображать «Я-хозяйка-имения-а-это-здесь-Тоскана». Были вопли. Точнее, она вопила.
— Ты выехал с поля на главную дорогу! Ты должен был дать мне право первенства!
А он совсем не кричал. Он ей спокойно так ответил:
— Мадам, здесь право первенства — у меня.
— Как это?! Ты же выехал с боковой дороги на главную!
— Это не боковая, а та дорога, по которой я скакал на лошади к винограднику еще до того, как мы основали здесь поселок, и тогда тут не было ни твоей главной дороги, ни тебя самой.
— Ну, что из этого?! — завопила она.
— А из этого то, — сказал он, — что право первенства у того, кто был здесь первым. Это одно и то же слово. Ты что, не понимаешь язык?
— Ты не только болван, ты еще вдобавок полуслепой! Как тебе вообще разрешают водить машину?
— Когда я вижу тебя, — сказал он, — я жалею, что не потерял и второй глаз. А теперь успокойся, потому что я могу оставить тебя здесь, и ты будешь до утра орать на деревья и камни, или же я могу довезти тебя до твоего дома и послать своего внука отвести твою машину в гараж и уплатить за всю работу. Так что ты выбираешь?
По дороге она попыталась завязать более дружественный разговор, но дедушка Зеев велел ей замолчать, потому что свое право голоса она уже исчерпала. Довик, кстати, потом встретил ее в гараже и присоединил к числу своих «дочерей фараона», из самых стоящих, даже намекал, будто она дала ему возможность исправить то плохое впечатление о мужчинах нашего семейства, которое, возможно, вынесла из встречи с дедушкой Зеевом. Но рассказы Довика не всегда нужно принимать на веру. Однако и без этой добавки история была очень симпатичной, и мы все много смеялись над горожанкой, которая даже не поняла, что избежала значительно большей беды, чем неделя рихтовки в гараже. Но вечером, дома, когда нас не слышало ничье чужое ухо, дедушка Зеев сказал нам, что, по правде говоря, он просто ее не заметил и что мужчина должен быть ответственным и делать выводы. На той же неделе он послал свое водительское удостоверение в автоинспекцию и сообщил им, что в честь своего восьмидесятилетия отстраняет себя от вождения.
Начиная с того дня кто-то из нас каждый день отвозил дедушку в его любимое вади. Мы высаживали его возле мостика через шоссе, и оттуда он шел к своим цветам, кустам и семенам, а в полдень отдыхал под своим большим харувом и ел там всегда одну и ту же еду: хлеб, сыр, огурец, чеснок, крутое яйцо, кусок колбасы, зеленый острый перец, маслины, которые сам солил, и несколько глотков красного вина прямо из фляжки. Потом он немного дремал, сидя на своем «царском троне» — так мы называли большой камень у подножья харува, похожий на стул для гигантов и куда более удобный для человеческого зада, чем могло показаться глазу. Затем он поднимался и снова шел своим путем, рассматривая, помечая или собирая, в зависимости от времени года. А после полудня снова спускался на дорогу, и там уже кто-нибудь из наших уже ждал его, чтобы отвезти домой.
Но когда я была еще маленькой девчонкой, он ездил туда сам и иногда брал с собой Довика и меня. Мы оставляли джип в тени дубов на обочине дороги и поднимались вслед за дедом по дну вади. Он учил нас, как узнавать, как находить и как собирать семена диких цветов. В период цветения он втыкал рядом с ними тонкие высокие прутики, чтобы отместить, потому что потом, когда семена созревают, растение уже совсем сухое и его трудно найти среди других. Иногда он прикреплял к этим прутикам еще и ярлычки — записки, в которых указывал некие особые свойства: например, цикламен с более глубоким, чем обычно, оттенком, или анемон с особенно большими цветами, или алцея, более темная, чем всегда, или морской лук, который год за годом расцветал раньше срока.
Мы переходили от метки к метке, от прутика к прутику, подбирали семена и клали их в бумажные мешочки — семена нельзя класть в нейлон, они в нем плесневеют, — и внутрь мешочков вкладывали записки с названиями. Дедушка Зеев узнавал семена и плоды всех растений с той же легкостью, с какой узнавал их цветы, но делал это так, чтобы и мы учились и узнавали. Иногда он даже устраивал нам викторины — раскладывал на столе разные семена и требовал, чтобы мы называли, к каким растениям они относятся: лилово-коричневые семена цикламена, которые, даже высохнув, сохраняли следы аромата, и семена анемона, завернутые в пух, который разносит их по ветру, и семена лютика, этакие золотистые крошки, которые нужно помять между ладонями, чтобы отделить от конца стебля, и желтовато-скользкие семена голубого василька, которые выскакивают из сухого плода, когда его сжимают между пальцами, и семена льна, тоже скользкие и маслянистые, но меньше и темнее, и семена морского лука, похожие на мелкие черные крошки. И как отличить семена мака от семян львиного зева, семена шафрана от семян гладиолуса и агростемму обыкновенную от агростеммы изящной, семена которых почти одинаковы, хотя у второй — ядовиты.
В конце такого похода по вади мы возвращались к дедушкиному большому харуву, который каждый раз заново удивлял нас тем, какой он большой, густой и зеленый, усаживались поесть в его тени, и дедушка Зеев объяснял нам, что в природе большое значение имеют случай и удача. Слой земли на горе очень тонкий и скудный, порой — всего несколько сантиметров толщины, а под ним — меловые скалы. Но этому харуву подыграл случай — так он сказал, — и он пророс в хорошем месте, в глубокой земле, а русло вади доставляло ему много воды и каждый зиму прибавляло еще немного земли. Большие скалы вокруг него не подпускали к нему коров и крапиву, которые имеют обыкновение собираться под такими большими харувами и оставлять большие кучи навоза на земле и жгучие пузыри на коже. Дедушка Зеев говорил, что только в мошавах и кибуцах думают, будто у коровьего навоза хороший запах, и даже прославляют его в песнях. У нас в поселке выросли настоящие крестьяне, и они хорошо знают, что всякое дерьмо воняет, даже если это навоз социалистических телят и сионистских коров.
Мы нередко находили там окурки, золу костра, следы незваных гостей. Довик сердился: «Кто им разрешил сидеть под нашим харувом?!» Но дедушка Зеев проявлял в таких случаях неожиданную снисходительность: они, вероятно, не знали, что этот харув наш, говорил он и даже похваливал костры этих неизвестных людей за то, что они маленькие, аккуратные и разложены точно на остатках своих предшественников. Это говорит о том, что эти люди в полном порядке, выносил он свой приговор и добавлял, что харув принадлежит не только нам и им, но также птицам, в нем живущим, и муравьям и козам, которые едят его плоды, и даже змеям и ящерицам, живущим между скал в его тени.
Он собирал несколько хворостинок, учил нас разводить огонь и разжигал маленький костер точно на том месте, где другие разжигали ему подобные. Довик тут же усаживался на «царском троне», но дедушка заставлял его немного подвинуться и дать мне сесть рядом.
— Здесь достаточно места и для Руты, — говорил он и доставал из своей сумки огурец, и сыр, и хлеб, и колбасу, и маслины, и чеснок, и зеленый острый перец. Ставил на огонь маленький чайник, готовил нам чай и всякий раз заводил разговор о соседней пещере, которая когда-то была жилищем первобытного человека.
— Иди, загляни туда, — говорил он Довику, — может быть, он дома, тогда мы пригласим его присоединиться к нашей трапезе.
Довик бежал к пещере, заглядывал туда и каждый раз кричал:
— Его здесь нет!
— Очень жаль, — говорил дедушка Зеев, — мы могли бы поучиться у него, как зажигать огонь с помощью кремня, а не спичек или зажигалки. — И какая-то искренняя тоска звучала в его голосе — не тоска археолога или историка, а сожаление мужчины, который ищет себе товарища по плечу.
Бабушка Рут была еще жива в те дни, но растил нас именно он. Она присутствовала в доме, но ее не было в нашей жизни. И это можно было почувствовать даже в бутербродах, которые она готовила нам в школу. В них были все необходимые составляющие: и свежие помидоры, и яичница с сыром, — но дедушкины давленые маслины, и твердый сыр, и огурец, и острый перец были намного вкуснее и живее, чем у нее. Иногда она пыталась завязать с нами разговор. Обычно ей это не удавалось, но один раз я увидела, что она неподвижно сидит на ступенях кухонной веранды, и спросила ее, что она делает.
— Я скучаю, — сказал она.
— По ком?
— По моим детям, которые упорхнули из дома, как только научились летать. — И добавила: — От него и из-за него, как и я пыталась сделать.
Она объяснила мне, что здесь, в нашей мошаве, есть такие хамулы, которые всегда держатся вместе, все на том же участке земли, хотя не перестают ссориться друг с другом, а есть такие, как у нас, из которых дети разбегаются по всему свету, и поди знай, что лучше.
Дедушка тоже говорил с нами на ту же тему — о потомках, отделяющихся от дома, и потомках, остающихся в нем, — но он делал это с помощью забавных примеров из жизни растений, противопоставляя тех, что рассеивают свои семена, тем, у которых дети остаются дома — так он говорил с неожиданной для него мягкостью, — возле отца с матерью.
Он показывал нам, что растения, которые посылают своих детей вдаль, снаряжают семена всевозможными хохолками и крылышками, чтобы они могли лететь по ветру, или же колючками, крючками и волосиками, чтобы ухватиться за шкуру животных, которые унесут их из дома, или же производят такие плоды, которые будут съедены животными и, пройдя через их кишечник, выделят потом семена в каком-нибудь другом месте. Но те, которые хотят удержать детей дома, поближе к себе, высаживают семена рядом с собой. «По-настоящему высаживают», — сказал он, и показал: цикламен, например, пригибает свой стебель к земле, и благодаря этому его семена падают совсем рядом с ним. А у люпина есть такая пружинка в стручке, и когда стручок высыхает, он лопается и эта пружинка выбрасывает семена на расстояние одного-двух метров. А мак держит свои маленькие семена внутри похожего на солонку плода, в котором есть отверстия, и, когда подует ветер, эти семена падают на землю, как соль на салат. Но вот крестовник разбрасывает свои семена далеко-далеко, невесть куда.
И все это потому, что цикламен говорит себе в душе (он так и сказал — «говорит себе в душе»): «Если мне удалось прорасти в этом месте, вырасти и произвести клубень, листья, цветы и семена, значит, это хорошее место и моим детям тоже стоит расти здесь». Но и у крестовников есть своя логика: «Здесь хорошо, дети, действительно хорошо, но там, за горой, возможно, есть место намного лучше». И они отправляют своих детей туда: «Хватит прижиматься к отцу и матери. Идите, попытайте свою судьбу. Познакомьтесь с новыми местами и с новыми людьми, поборитесь, пообвыкните, а кроме того — ну сколько же потомков и сколько поколений может прокормить один и тот же кусок земли, даже очень хорошей земли?»
Сойка крикнула с дерева. Дедушка Зеев поднялся, подобрал камень с земли и бросил его в листву. Сойка вспорхнула и исчезла. Он терпеть не мог соек. Я, кажется, уже рассказывала вам, что когда-то он даже стрелял в них из своего старого ружья. Сначала я не понимала, что он имеет против них. Может быть, ему были неприятны их вопли посреди дня, может быть — их легкомыслие и несерьезность, их воровские повадки, подражания и шалости, а может, его просто раздражал тот маленький нахальный хохолок, что у них на макушке, и это синее пятно посреди крыла, — что это за пятно, в самом деле?
Хаим Маслина, идиот, сын наших соседей, который учился в одном классе со мной, рассказал мне историю, которую слышал от своего деда, Ицхака Маслины, не меньшего идиота: «Когда они были молодыми, твой дед стрелял по каждой сойке, которую замечал в поселке, и понемногу всех их перестрелял насмерть. Друзья и родственники этих соек, тут, на холмах и в других местах, узнали об этом, и поэтому в нашем поселке сойки до сих пор не водятся. — И добавил: — Может, они вернутся, когда твой дед умрет?»
По правде говоря, дедушка Зеев очень неплохо стрелял. Когда Эйтан поселился у нас, дедушка вызвал его на соревнование и был немало удивлен, когда Эйтан отстрелялся лучше него — и не только из М-16, которую он принес из армии, но также из дедушкиного старого «маузера», отдача которого так и отбрасывала стрелка назад, — «он ведь немецкого производства, потому и веса в нем, как положено настоящему ружью, не то что в этой твоей американской игрушке».
Однако Эйтан сказал, что дедушка тоже настоящий снайпер. Ему нужно, конечно, поработать над темпом стрельбы, заметил он, но зато у него каждая пуля попадает в яблочко. Сразу видно, что человек рос в те времена, когда давали семь патронов, чтобы выиграть войну, и десять — чтобы основать государство, так что никто не нажимал на спусковой крючок, не будучи стопроцентно уверен, что попадет, куда нужно.
«И кроме того, — сказал он, — ему не нужно закрывать второй глаз, тот, что не целится, потому что на нем уже есть повязка. Может, ты и мне вышьешь такую же, Рута, чтобы у него не было этой форы?»
Когда Эйтан пришел в нашу семью, у дедушки Зеева уже были разного цвета повязки с вышитыми на них цветками, и они ему очень нравились. Но до того у него были лишь две страшного вида черные тряпки — одна на глазу и одна в ящике в душевой.
«Берегитесь, — сказал Довик ребятам, которые встретили его оценивающим взглядом, когда он впервые вошел в свой класс в нашей мошавной школе. — Берегитесь, мой дедушка — пират».
Черные повязки дедушки Зеева наполняли Довика гордостью. Однажды он даже надел одну из них себе на глаз и в таком виде вышел из дома. Наш сосед Ицхак Маслина увидел его и закричал: «Как тебе не стыдно? Это тебе не игрушка! Вот я скажу твоему дедушке, он тебе выдаст порцию!»
Довик испуганно побежал обратно в дом, но там дедушка встретил его тройным сюрпризом — во-первых, он, оказывается, был дома и видел, как Довик надевал его повязку, во-вторых, он не выдал ему порцию, а в-третьих, он расхохотался:
— Я ее дам тебе на Пурим[85], эту штуку, ты наденешь ее, и все будут знать, что ты нарядился в своего деда.
— А что у тебя под ней? — осмелев, спросил Довик.
— Ничего, — сказал дедушка.
— Только дырка?
— Нет. Даже дырки нет. Там есть глаз, но он мертвый. Могу тебе показать.
Довик испугался. Нет, он не хочет видеть. Но через несколько дней, превозмогая страх, все-таки попросил:
— Покажи, но только чтобы и Рута видела тоже.
Мне было тогда четыре года, и тот комок, который был дедушкиным глазом, был одной из первых картин, врезавшихся мне в память. Он сдвинут повязку на лоб, и мы увидели что-то вроде яичка — маленькое, сморщенное, холодное, беловато-серое, лишенное того выражения, которое сетчатка и зрачок придают живому глазу. Тогда я еще так не сформулировала, но почувствовала: вот оно, первое прикосновение смерти к еще теплому и живому телу.
— Что это, дедушка? — спросила я испуганно.
— Я уже говорит вам — когда-то это был мой глаз.
— А почему он такой?
— По нему ударили, и он умер.
— Как?
— От чего?
— От ветки. Я скакал на лошади в лесу, и ветка воткнулась мне в глаз.
— Ты гнался за ворами?
— Нет.
— А за кем?
— Ни за кем. Просто скакал, и все.
— Тебе было больно?
— Не очень. Ветка только поцарапала глаз, и я не сразу пошел к врачу. Бабушка Рут наложила мне повязку. А сосед дал мне сульфит, который дают коровам. А когда я пошел к настоящему врачу, глаз уже ничего не видел.
И улыбнулся:
— А сейчас вы наденьте повязку на один глаз и попробуйте налить воду из чайника в чашку.
Мы попытались сделать это, но не смогли. Вода разлилась по столу.
— Видите? — сказал он. — Мне многому пришлось учиться заново из-за этого глаза. И чай готовить, и шнурки продевать в ботинки, только со стрельбой у меня не было проблем.
Спустя несколько лет, к моей бат-мицве[86], я сшила ему подарок — новую синюю повязку, а на ней маленькие желтоватые цветы.
— Пожалуйста, надень на мой праздник эту новую повязку, а не ту свою старую, черную, — попросила я.
— Хорошо, — сказал он и, будучи человеком слова, появился в ней, вызвав у одних гостей новое удивление, а у других — старые страхи. С тех пор он стал ходить в ней, а я стала вышивать ему еще и другие повязки и на каждой — какой-нибудь из его любимых цветков: синий василек, розовый лен, хризантему, дикий мак, цикламен. Кстати, когда он умер, мы все эти его повязки положили с ним в гроб. Я не верю в загробный мир, но Довик сказал: «Он начинает там сейчас новую жизнь, так пусть они увидят его там с его красивой стороны. Не убийцу с черной повязкой на глазу, а дедушку, который любил цветы и которого любили его внуки».
Глава двадцатая Женщина, и ружье, и дерево, и корова (черновик)
1
Сначала Зеев увидел верхушку дерева, появившуюся над далеким земляным валом. Верхушку маленького дерева, которого там не было вчера и не должно было быть и сегодня.
Он покрепче сжал палку и приготовился ждать. К его удивлению, дерево двигалось. Оно приблизилось, выдвинулось из-за гребня насыпи и, наконец, объявилось целиком. Оно стояло на телеге, телега была запряжена быком, а за ней, на привязи, шла корова.
На сиденье возчика виднелась человеческая фигура, а внутри телеги, в тени дерева — еще одна. Зеев уже понял, кто эти двое, хотя они были еще далеко и черты их лиц еще не различались. Он уже знал также, что под сиденьем возчика его вдобавок ожидает ружье — холодное, молчаливое и готовое к действию.
Он улыбнулся. Месяц назад он сообщил родителям, что нашел себе новое место и купил участок земли в новом поселке, и вот — они посылают ему все, что нужно мужчине поначалу.
Телега приблизилась. Фигуры на ней обрели четкость и имена: возчик стал его старшим братом Довом, дерево стало молодой шелковицей со двора его родителей, бык стал их могучим быком, а фигура в телеге была Рут Блюм — дочь соседей в их мошаве в Галилее, которую он знал с тех пор, как был подростком, а она девочкой, и вожделел, и писал своим родителям, чтобы они спросили ее и ее родителей.
Телега приблизилась. Брат криком остановил могучего быка, Рут спрыгнула с телеги, подошла к Зееву и встала перед ним:
— Ты помнишь меня, Зеев?
Так прямо и спросила: «Ты помнишь меня, Зеев?» — что на языке тех дней означало: «Я помню тебя, Зеев. Я не переставала думать о тебе с того дня, как ты ушел».
И он сказал:
— Да, Рут, я помню тебя. Ты маленькая девочка из семьи Блюм, — что означало: «Я люблю тебя».
И она сказала:
— Если так, то я очень рада. — Ибо так выражали тогда: «И я тебя».
И он сказал:
— Ты выросла, — то есть: «Раньше ты заполняла лишь мою память и мои сны, а сейчас ты наполняешь также мой взор и мое сердце».
И она спросила:
— А ты рад, что я выросла, Зеев? — Так прямо и спросила: «А ты рад, что я выросла?» — что означало: «Все это твое».
Он ответил ей:
— Да, я очень рад, что ты выросла. — И Рут услышала и поняла каждое слово: «Да, я хочу тебя, ту большую и красивую девочку, которой ты стала. Я хочу трогать тебя, трогать тебя и все, что выросло и расцвело в тебе».
— И ты рад, что я согласилась и приехала, Зеев?
Он немного смутился, пальцы его сжались вокруг палки, но губы произнесли:
— Да, я рад, что ты согласилась и приехала.
И Рут перевела для себя: «Не уезжай, пожалуйста, останься со мной».
Его старший брат Дов, который все это время ждал на расстоянии вежливости и сначала сделал вид, будто проверяет оси колес и соединения вожжей, а потом принялся наливать воду в ведро — прежде для быка, потом для коровы, — теперь распрямился, посмотрел на них, понял — по наклону их шей, по движениям их рук и поворотам их тел, — о чем они говорят, и наконец крикнул:
— Хватит, Зеев, что ты так любезничаешь с нею?! Смотри, я привез тебе из дому еще и корову, и шелковицу, а самое главное… — и он вытащил из-под сиденья что-то продолговатое, завернутое в разноцветное одеяло и перевязанное на обоих концах, — ружье, которое тебе обещали! Все, что мужчине нужно, чтобы начать!
Он подошел к ним — ружье в руках — и добавил:
— Отец положил тебе в телегу также семена, и упряжь, и табуретку, чтобы сидеть при дойке, и кирку, и мотыгу, и лопату, и второй лемех для плуга, а это одеяло для ружья послала тебе мать, и цветы на нем она вышила сама. Я сказал им, что они дают тебе слишком много, больше, чем осталось для меня и для Арье, но отец решил так. Иди глянь, все в телеге.
Зеев подошел. Бык вытянул к нему свою могучую шею и высунул язык, чтобы лизнуть. Зеев ласково погладил его по носу и потер ему лоб косточками пальцев, потом заглянул в телегу и увидел там инструменты и мешки с семенами, а также черный базальтовый камень, примерно сорока сантиметров длиной, из базальтовых камней Нижней Галилеи, с шершавыми пятнышками лишайника на стороне, обращенной к солнцу, с крошками земли и волосками паутины на нижней, гладкой стороне.
Он взял его, поднял и прижал к груди. Тяжесть этой глыбы — а она была тяжелой — была приятна его сильным рукам. А ее тепло — тепло той лавы, которой этот камень был при рождении, и тепло солнца, которое он впитал за время своей жизни, — согрело его грудь и глаза.
— Отец сказал, чтобы ты вделал этот камень в стену того дома, который вы с Рут здесь построите, — сказал Дов. — Чтобы ты поместил его на высоте примерно полутора метров и чтобы не закрывал его штукатуркой. Чтобы одна его черная сторона была к улице, а другая черная сторона — внутрь дома. Так вы будете помнить, кто вы и откуда, а ваши соседи будут знать, что здесь живет человек, пришедший из Галилеи, с которым не стоит заводиться.
Он развязал узлы на одеяле, вышитые на ткани цветы зашевелились, и под ними обнаружилось ружье.
— Но это твое ружье, Дов! — удивился Зеев.
— Я знаю, что это мое ружье. Но отец решил отдать его тебе.
2
Свой немецкий «маузер» Дов отнял у турецкого солдата во время отступления турок в конце Первой мировой войны. Он был тогда совсем еще молод, и в тот день отец велел ему вспахать один из участков. Дов поднялся рано утром, взял с собой еду, запряг мула в телегу, погрузил в нее плуг и отправился работать. Подъехав к указанному отцом участку, он увидел человека, лежавшего на краю поля, в тени большой пальмы. Он осторожно приблизился и понял, что это спящий турецкий солдат и что в руках у него ружье.
На мгновенье он испугался, но не удивился. В то время англичане уже далеко продвинулись на север, и отступавшие турецкие солдаты появлялись то тут, то там, в одиночку или маленькими группами, голодные, жаждущие глотка, обтрепанные и испуганные, порой даже раненые или больные.
Солдат проснулся и сел. Дов увидел дрожащие руки, потрескавшиеся губы, усталые, умоляющие глаза, но его собственные глаза впились в ружье, и впились со страхом и вожделением. Он остановил мула на безопасном расстоянии, улыбнулся солдату, сделал рукой успокоительный жест, а затем вынул из своей сумки четверть буханки и помахал ею перед турком.
Вид хлеба произвел немедленное действие: турок выпустил из рук ружье и пополз к Дову на четвереньках. Он полз, как измученное, но упрямое животное. Не сходя с телеги, Дов кинул ему кусок хлеба. Солдат схватил хлеб и торопливо проглотил его, издавая сдавленное, довольное урчание. А Дов тем временем спрыгнул с телеги и, подбежав к дереву, схватил ружье.
Он направил ружье на турка. Но солдат не испугался. Он лишь протянул умоляюще руку, и тогда Дов повесил ружье себе на плечо и вернулся к телеге. Он отломил от буханки еще кусок, бросил его турку и даже вытащил из сумки жестяную банку с маслинами. Потом подошел поближе и начал бросать солдату маслины одну за другой.
У турка не хватало сил ловить маслины на лету. Он ползал на четвереньках, поднимал упавшие на землю маслины и торопливо бросал их себе в рот вместе с пылью и налипшими на них соломинками. В его глазах светились радость и благодарность. Дов осторожно приблизился к нему, положил на землю свою флягу с водой и, отступив на несколько шагов, сделал ему знак подползти и напиться.
Когда солдат опустошил флягу, Дов знаками велел ему снять с себя патронташ и бросить его на землю. Потом он крикнул ему по-арабски: «Беги!» — и для вящей убедительности провел ребром ладони по горлу и указал пальцем, в каком направлении бежать.
Солдат, который уже немного пришел в себя, приободрился, с усилием поднялся с земли и выпрямился во весь рост. Дов испугался. Он никогда в жизни не видел такого высокого и плечистого человека. Он снова направил на него ружье, но великан лишь прижал руку к сердцу тем жестом признательности, который понятен каждому человеку и одинаков на всех языках, и низко поклонился. Его израненные губы улыбались. Подгибающиеся ноги шагнули раз, другой и повели его вдаль, прочь от Дова и от его телеги. Он даже не попытался отнять свое оружие. Похоже, он был только рад избавиться от него — от того, что оно позволяет сделать, от скрытого в нем соблазна, от его тяжести.
Дов подождал, пока солдат превратился в далекую точку, и тогда повесил ружье и патронташ повыше на дереве, чтобы их не увидели те, кто, возможно, следит за ним издалека. Весь день он пахал, а вечером спрятал ружье среди вещей в телеге, вернулся домой и рассказал отцу, что произошло.
«Ты правильно сделал», — похвалил его отец и добавил, что не хочет, чтобы Совет мошавы узнал об этом приобретении, потому что тогда они потребуют отдать им то ружье, которое выдали ему для охраны поселка.
Они разобрали несколько досок в сарае во дворе, выкопали яму, завернули турецкое ружье в тряпки, пропитанные машинным маслом, закопали его и снова настелили пол над его могилой. При первом удобном случае отец раздобыл длинную жестяную коробку, и они переложили ружье туда и снова закопали его. А сейчас, когда Зеев решил жить в другом месте, Дов привез ему это ружье в той же телеге.
«Это ружье сопровождает всю нашу историю», — рассказывал Зеев сначала своим сыновьям, а потом внуку и внучке. И глаза детей, у каждого в свою очередь и в своем поколении, сверкали от возбуждения. Но Рут Блюм — сначала мать, а потом бабушка — не говорила ничего. Только один раз она заметила:
— Оно не сопровождает нашу историю. Оно ее определяет, и оно ее пишет. Это ты в его руках, а не оно в твоих.
Глава двадцать первая
«Так что же мне прислали из дому?» — спрашивал дедушка Зеев меня и Довика, когда мы были маленькими. И мы должны были ответить ему стишком, который он сам придумал: «Ружье и корову, черный камень суровый, дерево тут[87] и бабушку Рут». Дерево тут, кстати, он любил не меньше, чем бабушку Рут, и от большой любви не посадил его в землю, а оставил в той же бочке, в которой оно приехало, и на той же телеге, и всюду, куда бы ни ездил, так он нам рассказывал, выезжал со своим деревом. А оно все росло себе и росло, и росло, пока… «Что случилось, дети? Что случилось, Довик? Что случилось, Рута? Что случилось, Нета?» А случилось то, что корни дерева вырвались из бочки, и тогда дедушка Зеев наполнил всю телегу землей, так что она превратилась в гигантский цветочный горшок на колесах, и они по-прежнему могли вместе, дедушка Зеев и его дерево, выходить на работу. Могучий бык тащил телегу, а когда они приезжали в поле, его запрягали в плуг, и дедушка пахал, и боронил, и сеял, а в обеденный перерыв лежал в тени своего дерева, ел и отдыхал. «Я ел то, что приготовила бабушка Рут, на сладкое у меня была шелковица с дерева, а для быка я косил траву и собирал в кучу. Его навоз я отдавал дереву, а бык тащил меня и дерево в телеге. Так это в семье».
В конце концов дерево выросло настолько, что и две пары быков уже не смогли бы тащить телегу, в которой оно находилась, да и сама телега начала разваливаться под напором корней, под тяжестью ствола и кроны и от вечной влажности земли.
«И что произошло тогда, Довик? И что произошло тогда, Рута? И что произошло тогда, Нета?»
Дедушка Зеев вырыл в конце двора длинную и глубокую траншею, и быки потащили, а он стал толкать сзади, и телега въехала в эту траншею.
«И что случилось тогда, Довик, Рута, Нета?»
Дедушка Зеев отвязал быков, и они вышли вместе с упряжью из траншеи, и тогда он открепил оглобли от телеги, а телегу покрыл кучей земли. Вот и все. Так он посадил свое «дерево тут» в нашем дворе, и так оно стало нашим нынешним огромным шелковичным деревом, которое выглядит так, будто росло там всегда, и не оно приехало к дедушке Зееву на телеге, а дедушка Зеев пришел к нему и решил построить свой дом в его тени. Но мы-то знали, что оно приехало на телеге, которая закопана под ним, и Довик, который был очень деятельным подростком и хотел произвести впечатление на своих сверстников, а заодно и заработать денег, чтобы — так он говорил — купить билеты и слетать в Америку повидать маму, так вот Довик все время приставал к дедушке, чтобы он выкопал и вытащил эту телегу, и впряг бы в нее трактор вместо быка, и поставил бы на нее шелковицу, и они поехали бы в ее тени, как он ездил в детстве, «и может быть, мы даже будем продавать билеты тем, кто захочет прокатиться». Но дедушка Зеев сказал, что телега наверняка уже сгнила там, в земле, без остатка, а если даже и не сгнила, то корни шелковицы уже пробили ее стенки и днище и вросли глубоко-глубоко в земной шар. Так он и сказал: «Вросли в земной шар» — не в «наш двор» и даже не просто «в землю».
Со временем, когда Эйтан появился у нас, и присоединился к нашей семье, и услышал историю о шелковице, которая приехала на телеге, он отправился в столярную мастерскую одного из товарищей по армии и вернулся с маленькой тележкой, длиной сантиметров семьдесят, не больше — точной, только уменьшенной копией старой крестьянской телеги, но на резиновых колесах и с высокими бортами. Он заполнил ее землей, поместил в ней саженец лимона и объявил: «Вот это мы будем теперь делать и продавать — всех размеров и с самыми разными деревьями».
Идея была в том, что можно возить деревья во дворе с места на место и каждый день менять вид двора. Но Довик сказал: «Так не пойдет. Люди не любят, когда их деревья двигаются с места на место. Это сбивает их с толку. Это вызывает неприятное чувство».
Он был прав. Достаточно нам, что мы сами двигаемся — нас гоняют, тянут, толкают. Деревья должны стоять на своем месте и вселять уверенность и спокойствие. И я рассказываю вам все это, Варда, потому что нашу семью можно описать не только с помощью семян и цветов из дедушкиного вади, но также с помощью ее деревьев. Но не тех многих тысяч несчастных саженцев в «Питомнике Тавори», которые стремятся вырваться из черных мешков, где находятся, и гадают нетерпеливо — кто же меня купит? Кто будет меня растить? Кто будет есть мои плоды? Кто будет сидеть в моей тени? Не эти деревья я имела в виду, а те три дерева, которые действительно связаны с нашей семьей: большой дедушкин харув в его вади, в тени которого он учил нас узнавать растения и под которым он умер, и ту красивую акацию в Негеве, в тени которой остановились на своей прогулке парней мой муж и мой сын и под которой умер мой сын, и вот эту большую шелковицу в нашем дворе, под которой никто, к счастью, еще не умер, если не считать Эйтановых чугунков для варки супа. Но и они, хотя и простояли мертвыми целых двенадцать лет на холодной золе, все же возродились к жизни после того, как дедушка умер.
Три больших дерева. Размер имеет значение. Большие деревья помогают людям обрести спокойствие. Тут и могучий охват ствола, и широкая тень, и чувство защищенности, и какая-то умиротворенность, и шелест ветра среди ветвей, которые даже в бурю движутся медленней, чем несется ветер, и спокойная красота окружающей природы. Тот харув и ту акацию я вам не могу показать, но шелковицу вы можете увидеть прямо из окна. Повернитесь и гляньте. Видите?
Кстати, и на той фотографии с воздуха, что на стене за вами, она тоже хорошо видна. Поднимитесь на минутку, Варда, подойдите сюда, я хочу вам что-то показать. Вот, видите посвящение на этом снимке? «Учительнице Руте, которая научила меня всему. Я хочу, чтобы ты учила меня еще». Это подарок Офера, сына наших соседей — Хаима и Мири Маслина. Мой любимый ученик, тот самый, который едва не утонул во время моих соревнований по нырянию на Кинерете. Он начал фотографировать примерно с тринадцати лет и к окончанию школы сделал прекрасную выставку, которую ему зачли как работу на аттестат зрелости. Все называли ее «Выставкой аэроснимков нашей мошавы», но сам Офер назвал ее «Бог смотрит на нашу мошаву и думает Свои думы». Я помню, как он это снимал. Товарищ Хаима летал с ним целый день на специальном аэроквадроцикле, и Офер с утра до вечера снимал — с разной высоты, при разных положениях солнца, улицу за улицей, дом за домом, участок за участком, двор за двором, — волнуя, тревожа и сводя с ума весь поселок.
«Может, ты выстрелишь в него, как когда-то стрелял в соек?» — предложил тогда Довик дедушке Зееву. Но дедушка, к нашему общему удивлению, почему-то стрелять не стал, и Офер все снимал и снимал. Потом он съездил в город отпечатать эти снимки, поместил их в рамки и добавил подписи, которые тоже порядком разозлили всех, кого касались, иными словами, всех до единого в мошаве.
О нашей семье, если это вас интересует, он написал: «Семья Тавори. Большие воды ее не затопят, глыбы земли не покроют, пропасть забвения не поглотит»[88]. Меня восхитили эти строки. Я спросила его: «Откуда ты это взял? Откуда у тебя такой язык?» — и он сказал мне: «От тебя, учительница Рута», — и сделал для меня копию с этим посвящением. Какой это был замечательный мальчик, как он выделялся на фоне своей семьи, жалкой и ничтожной во всех ее поколениях! Вы видите? Это дом дедушки Зеева, тот самый, в котором мы с вами сейчас разговариваем, а это — дом Довика и Далии, а рядом — дом, в котором жили мы с Эйтаном. Далия хотела сдать его внаем, но мы с Довиком не согласились. Мы не хотели, чтобы в нашем дворе мелькали какие-то чужие люди. Когда-нибудь этот дом перейдет к Дафне или к Дорит, к одной из двойняшек Далии и Довика, к той, которая первой выйдет замуж, и к ее жениху, который еще не появился и неизвестно еще, как он выглядит и как его зовут, хотя Довик уже заранее его ненавидит, потому что он, в отличие от Эйтана, не изменит свою фамилию на нашу, и один из домов Тавори станет невесть чьим.
А вот это — старый сарай дедушки Зеева, на котором Офер написал, что тут находится подсознание всех остальных домов семьи Тавори, а может — и всей мошавы вообще, и недавно, после дедушкиной смерти, мы его разрушили, и Эйтан залил новый бетонный пол и построил на нем новый сарай, который уже не чье-то там подсознание, а просто самый обыкновенный сарай, каким должен быть обыкновенный сарай. А вот это — участок, где у нас в питомнике находятся живые изгороди и ползучие растения, а тут — лечебные растения и всякие специи, здесь — саженцы овощей и рядом — все оборудование для ухода за огородом.
У вас дома есть орхидеи? Хотите купить у нас? Так я и знала. Я знала, что не только семья Тавори, но и ваша семья, Варда, скрывает ужасный секрет, и вот, пожалуйста: миг неосторожности, и он вышел наружу. Точно в тот момент, когда между нами уже начала возникать некая близость, выясняется вдруг, что вы любите орхидеи. Так вот, да будет вам известно, что с точки зрения семьи Тавори и «Питомника Тавори» орхидеи — это объявление войны. Это наше «досюда и не далее», наша красная черта. Если есть на свете одно растение, которое все мы единогласно считаем невыносимым, так это орхидея. Даже Далия терпеть не может орхидей, хотя ей лично скорее пристало их любить. Я не говорю о тех дедушкиных, симпатичных, маленьких диких орхидеях, которые так и так никто не станет покупать. Я имею в виде «Ее Величество Орхидею» — самое китчевое, самое пластмассовое, самое нуворишское, самое высокомерное, самое самовлюбленное, самое жеманное, самое «смотрите на меня», самое «любите меня», самое «я не такое, как все» растение, какое только может быть на свете.
Я помню, что сказал дедушка Зеев Эйтану, когда мы сообщили ему, что скоро поженимся, и он начал наставлять его перед присоединением к семье. Он тогда сказал, среди прочего: «Три вида дерьма не должны появляться в нашем питомнике — орхидеи, бонсай и люди, которые их выращивают». Он терпеть не мог также кактусы, но не делал из этого проблемы. Бонсай? Это японские карликовые деревья. Я уже говорила вам, что деревья должны быть большими, так вот бонсай — это как раз самые маленькие деревья, какие только могут быть. Японцы берут саженец, помещают его в нарочито маленький горшок, как когда-то китайцы перевязывали девочкам ноги, и этот горшок не дает дереву развиваться, и оно навсегда остается маленьким скрюченным карликом. И я уверена, что дело не только в горшке, что они еще по-всякому над ним издеваются. Так вот — из-за страданий этих деревьев и из-за тех садистов, которые их уродуют, мы не хотим видеть их в нашем питомнике. Ни тех, ни других. Верно, многие покупатели ими интересуются, но мы не хотим держать у себя дерево, на котором какой-то ботанический доктор Менгеле производил какие-то свои эксперименты. Не у нас.
А вот тут наша контора. Это царство Довика. Здесь ничего не растет, но это самое важное место в питомнике. То, что я могу сейчас болтать с вами о диких цветах, и о нашей шелковице, и о различиях между большими и маленькими деревьями, — все это благодаря ему. Довик, несмотря на дедушкины уроки, не так уж интересуется цветами и растениями и вообще природой. Но это он вывел нас на дорогу больших дел, а большие дела — это не цикламены, или морской лук, или маки дедушки Зеева, и не клуб Эйтановых чугунков с супом, и не те петуньи, барвинки и овощи, которые мы продаем частным покупателям. Большие дела — это продажа декоративных и садовых деревьев для тех площадей и бульваров, что находятся в ведении городских муниципалитетов и районных Советов, и эту продажу Довик организует умело и успешно.
В этом углу, за конторой, вы можете опознать душ и туалет для персонала, а также туалет для покупателей и склад инструментов и оборудования. А здесь — место открытого складирования: камни для мощения дорожек, камни для террас, туф, щебень и горшки, столбы, опоры и сетки. А что мы видим тут? Тут мы видим людей. Глядя сверху, их не сразу и опознаешь. Большая часть здесь — это покупатели, но вот тут, по-моему, Далия — это она возвращается с работы и идет в контору проверить, не вытаскивает ли какая-нибудь фараонова дочь ее мужа из речной корзинки. А вот это странное существо, которое трудно опознать в таком ракурсе, — мой Эйтан, который обхватил бочонок с саженцем и несет его к грузовику. Это та работа, к которой его приговорил дедушка Зеев после смерти Неты, и это также то, чего хотел для себя сам Эйтан, — его наказание. Пожизненное заточение в стенах питомника и каторжная работа в нем, без скидки за хорошее поведение, без сокращения срока и без права на помилование. Так он выглядел тогда, и так выглядело то, что он делал в течение двенадцати лет подряд. Самое большее — мог иногда позволить себе отдохнуть за прополкой, точнее, за очисткой питомника. Он мог часами этим заниматься. Опускался на четвереньки и полз по земле — полз, высматривал сорняки и безжалостно их уничтожал, вырывая с корнем каждую травинку. Продвигался медленно-медленно, и земля, которая перед ним была покрыта зелеными стебельками, точно одетая в нежную зелень, за ним становилась красновато-коричневой, голой и безжизненной.
Это то, что он делал до того, как дедушка Зеев умер. Но после смерти дедушки, я вам уже рассказывала, — с ним что-то произошло. Словно кто-то дунул в золу, и старые угли вдруг задышали и налились багровым, пламя высунуло язычок, и огненный пальчик забегал среди углей, облизывая их и разжигая заново.
Глава двадцать вторая
— На похоронах Неты я закричала только один раз. Это было, когда приехал старый товарищ Эйтана и Неты из их части — тот, с худым, как палка, мальчиком с большими ушами. Он тогда посадил вертолет на дорогу и привел наш пикап по бездорожью к себе домой в Паран. Сейчас они пригнали наш пикап. Водитель вышел, подошел к Довику — короткая церемония объятий и похлопываний — и отдал ему ключи.
Я никогда раньше не видела этого человека. Не видела и не слышала о нем вплоть до нашей беды. Он не принадлежал к тесной компании друзей Эйтана и Довика и был намного старше — лет шестидесяти — шестидесяти пяти, невысокий, худой, тело загорелое и жесткое, как старый рабочий сапог, глаза маленькие и голубые, как сапфир, и густые, жесткие, пружинисто вьющиеся волосы, темные с проседью. Он тоже никогда раньше не слышал обо мне, а Нету впервые увидел только мертвым. Но он проехал всю дорогу через Араву[89], чтобы вернуть нам пикап и принять участие в похоронах. И его жена с этим странным мальчиком — сын? внук? может, и он, как мы с Довиком, рос у дедушки и бабушки? — ехала за ним на своей машине всю дорогу от Аравы, чтобы потом вернуть их всех домой. Они привезли нам два ящика огромных по размеру овощей — угощать людей, которые будут приходить с утешением во время траурной недели. И вот, когда я увидела, как этот старик передает Довику ключ от нашего пикапа, я вдруг набросилась на него, сама не понимая, почему и зачем. Это было ужасно. Вы не можете себе представить, как я жалею об этом. Я кричала на него при всех:
— Как же вы, такие все организованные, дальше некуда, сигналы друг другу умеете передать, и дорогу в темноте можете проложить без ошибки, и обеспечить все, и привезти, и расставить, и помочь, тип-топ до последнего винтика, как же вы все, такие замечательные гаденыши, дали моему ребенку умереть в пустыне! Да чтоб вы все провалились, сволочи? Как вы могли сделать такое, мерзавцы вы все?!!
Худенький мальчик подошел к нам, остановился передо мной и уставился на меня своими бесцветными холодными глазами. А мужчина ничего не сказал, только смотрел на меня добрым взглядом и молчал. Довик почувствовал необходимость вмешаться, торопливо подошел к нам и сказал:
— Познакомься, Нисо, это Рута, моя сестра и жена Эйтана. — А мне он сказал: — Познакомься, Рута, это Нисо, офицер из нашей части. — То есть: «Знай, перед кем ты стоишь». Вот, еще один из их «вождей воинства» [90], еще один ангел из пустыни.
Но этот Нисо просто взял меня за руку, как будто мы знакомы многие годы, отвел в сторону и сказал:
— Рута, ради Бога, Рута, я друг, я только пытаюсь, чем могу, помочь.
И я перестала кричать и проклинать и начала плакать:
— Так почему же ты не помог раньше? Почему ты не позаботился предостеречь их, не сказал им, что там есть такая змея? Почему ты не убил ее? Ты же живешь там, в Негеве, ты же знаешь там каждое вади и каждый камень, ты, наверно, знаешь там и всех змей…
Я видела, что Довик показывает ему жестами, чтобы он оставил меня, что я уже сама успокоюсь, но он, наоборот, обнял меня, что было довольно смешно, потому что я была выше его на голову. Ну, не важно. Главное, что на кладбище я уже вела себя вполне нормально. Я использовала свою способность нырять, точнее — задерживать дыхание, а также метод, который разработала еще девочкой, когда наша с Довиком мать передала нас дедушке Зееву, а сама умчалась в Штаты. Я тогда научилась режиссировать сама собой, давать себе короткие, ясные указания, сначала говорила себе просто «встань», «сядь» и тому подобное, а потом перешла на более профессиональные формулировки, которыми драматург описывает своего героя: «улыбается», «вздыхает», «прощается», «смахивает слезу». И так же, как я не дала себе волю тогда, когда наша мать оставила своих детей, я не дала себе волю на похоронах мальчика, который оставил свою мать. В этой семье не распускаются.
И одним из первых моих распоряжений себе было: «Не идти рядом с Эйтаном». Точнее, наоборот, — я не дала себе распоряжения идти рядом с ним, и получилось, что мы шли отдельно, каждый сам по себе. Люди, смотрите! Слыханное ли дело?! Где это видано, чтобы осиротевшие родители, да еще молодые притом, у которых умер маленький сын, к тому же единственный ребенок, не шли вместе за гробом? А мы шли даже не вместе, а совсем «отстраненно», как иногда высокопарно говорят о людях, демонстративно идущих на расстоянии друг от друга. И не только мы — дедушка и Довик шли рядом с Эйтаном, а Далия, истекая символикой, — рядом со мной. И я заметила, что люди обращают на это внимание, перешептываются, следят, и знала, что об этом еще будут долго говорить в мошаве. Вот, семья Тавори дарит односельчанам еще одну замечательную историю.
А потом, у ямы, когда комья земли стучали о гроб, точно прощальные банальности, я отдала себе еще один приказ: не падать на землю, не терять вида, не вопить, как обычно вопят у нас в стране на похоронах. Но Эйтан, видимо, не давал себе приказов, и поэтому он упал. Не закричал — это он сделал потом, — но рухнул на землю.
Его подняли и посадили на стул. Все ждали, что я им займусь. Но этого приказа я себе не дала. Вместо этого я в качестве режиссера послала себя в качестве актера к Нисо, чтобы попросить у него прощения, и даже улыбнулась при этом: «На следующих похоронах такое не повторится, обещаю тебе». Так это у нас в семье. Мы способны улыбаться на похоронах. И даже смешить. И смеяться.
И вот так, порознь и отстраненно, слышали мы с Эйтаном удары комков земли о крышку гроба, и голос крови нашего мальчика, вопиющий, задыхаясь, из ямы, и плач многих людей, и слова руководительницы первого класса, его учительницы, которая говорила обо всем, что было скрыто и заложено в нем: «крылья бабочки, которые больше не раскроются, не расправятся, — так она сказала, — и мы уже не узнаем, что должно было явиться».
«Уже не раскроются, уже не расправятся…» Но надо было добавить, что это гадание будет возвращаться, что будет чудиться и думаться: этот размах крыльев, которые никогда уже не распластаются на ветру, — куда бы он занес его? На каких ветрах мой мальчик парил бы над землей? На каких высотах? Где бы опустился? Пустил бы корни? Вытолкнул бы стебель? Годы спустя у меня появилась странная привычка: я повсюду видела девочек, которые могли бы стать его подругами — во дворе школы, на автобусной остановке, в библиотеке, на берегу моря. А однажды я увидела и его подругу жизни, его несостоявшуюся жену — она на мгновенье пересекла мне путь: моего роста, в брюках с низким поясом и в потрясающей блузке до живота, такая оголенная, что можно было видеть смутное сияние сотен тысяч яйцеклеток, которое золотило ее пах, и нескольким из них (четырем? трем?) суждено было стать внуками и внучками других бабушек.
Но тогда я слышала только удары заступов и звуки сгребаемой, падающей вниз и ударяющей о гроб земли, и они слышались мне так, как будто я сама лежала в этом гробу. Я все слышала и все время давала себе режиссерские указания: стоять прямо; сжать губы; не поворачиваться назад — даже когда Эйтан, который стоял за мной на расстоянии нескольких шагов и не давал себе никаких указаний, вдруг рухнул, как подрубленное дерево.
Как я вам уже говорила, все ожидали, что жена подойдет к нему и обнимет. Но я даже не посмотрела на него. Ни там, возле могилы, ни на пути домой, ни дома, под навесом, который друзья уже натянули над нашим двором. Они поставили пластиковые стулья, разложили на столах угощение, подходили с утешениями к скорбящей матери, то есть ко мне, которая сидела под большой шелковицей («Жаль, что это случилось на Песах, а не на Шавуот[91], мы могли бы угостить вас всех ведрами шелковицы», — судорогой пронеслась во мне мысль, от спазма в мозгу до боли к горле), потом хотели подойти также к скорбящему отцу, но не смогли, потому что его не было во дворе — он шагал, качаясь, в дальнем углу питомника, туда и обратно, туда и обратно, как маятник, а потом вдруг упал в заросли ползучих растений и оттуда раздался страшный, нечеловеческий рев.
Никто не осмеливался подойти к нему, словно там выл какой-то раненый бык или медведь, потерявший своего детеныша. Все снова повернулись к скорбящей матери, ожидая от нее каких-нибудь слов или действий, но она лишь устало улыбнулась: дайте ему немного покричать, это иногда помогает. И в ту минуту, когда я это сказала, он появился снова — начал выползать из кустов. Все шарахнулись испуганно, но дедушка Зеев встал, подошел к нему, протянул руку и сказал: «Встань, Эйтан. Поднимись с земли. Встань». И шепотом, так что слышала только я, потому что знала, что он скажет, и мои уши уже были готовы услышать эти слова, добавил: «Мужчина не смеет так падать и так кричать перед всеми. Ты слышал? Не в нашей семье. Встань!»
Ночью я описала эту сцену в одной из своих тетрадок. Я еще помню на память несколько строк: «Скорбящий отец тяжело поднялся. Кончилась его легконогость и кончилось его легкомыслие. Кончилась легкость его движений и кончилась легкость его души. Отныне его тело будет удручать его душу, а его душа будет томить его тело. Тяжесть преступления, и тяжесть беды, и тяжесть мертвого сына на руках — как они тяжелы, эти мертвые! — вот что отныне будет его вечной ношей».
А если говорить на нормальном языке, Варда, то Эйтан с трудом поднялся, протянул руку дедушке Зееву и пошел за ним, как ребенок, прямо в душевую — ту, которую я вам раньше показывала на снимке Офера. Эту душевую он сам построил за несколько лет до смерти Неты и установил там камышовую перегородку, и вешалку для одежды и полотенец, и краны для горячей и холодной воды. И еще он принес туда мочалки и щетки: маленькую щеточку, чтобы вычищать грязь под ногтями, и щетку с длинной ручкой для спины, — и корзину для грязного белья, и маленькую скамейку, чтобы мужчины могли посидеть вместе голышом в конце рабочего дня — как хорошо и как приятно[92], сжимая и распрямляя пальцы уставших ног, пить холодное пиво и высыхать на ветру.
«И дедушка Зеев, — так я писала в тетрадке, — не поворачивая головы, приказал своей внучке, то есть мне, принести чистую рабочую одежду. А она — то ли потому, что привыкла слушаться его, то ли из любопытства, а может, просто потому, что не хотела спорить с ним перед этим скопищем посторонних, которое все росло и росло, приближалось и шумело, точно доброе чудовище, — она послушалась приказа. А вернувшись с одеждой, которую он просил принести, увидела, что он уже вошел с ее мужем за камышовую перегородку, и поспешила следом за ними».
Эйтан стоял там, согнувшись, опустив голову. Одна его рука лежала на плече дедушки, который опустился рядом с ним на стульчик для дойки. Этот стульчик все мы всегда называли «табуреткой», с того дня, когда он приехал сюда вместе с женщиной, и деревом, и коровой, и ружьем, и до последнего времени, через много лет после продажи последней нашей коровы, когда дедушка стал пользоваться им для того, чтобы, надежно усевшись, мыть ступни и пальцы ног. Это был первый знак его старения, знак, понятый с опозданием, но с того момента, как был опознан, стиснувший сердца, вселивший в них тревогу и больше уже не забывавшийся.
Усевшись на табуретке, дедушка начал раздевать Эйтана. Сначала он развязал шнурки его ботинок, потом похлопал по бедрам, как делают с лошадью, когда прибивают ей подковы, и Эйтан послушно, как лошадь, поднял одну ногу и затем другую, а потом одну руку за другой, как делал Нета, когда мы раздевали его для купанья.
Я вспоминаю: «Сейчас моя ручка», — говорил Нета ласково, а иногда — «моя рученька» или «моя ручонка», — а потом: «А сейчас моя ножечка», или «ноженька», или «ногушка-попрыгушка», и всякие другие наши слова, которые очень смешили его в три, и в четыре, и в пять, и в шесть лет. До трех он еще не понимал смешное, а после шести его уже не было.
«Ботинок за ботинком, пуговица за пуговицей, рукав и еще рукав, левая штанина, правая штанина, и все это с легкими направляющими похлопываниями, слегка потягивая, и она сразу поняла, что ей снится сон, а во сне она бодрствует и уже не забудет ту картину, которая ей снится: старый человек похлопывает, и тянет, и снимает, и бросает на пол одежду, в которой еще недавно ползал и валялся в грязи молодой, а этот молодой подчиняется ему молча, и доверительно, и послушно, с закрытыми глазами, пока не оказывается совсем голым — его ботинки под скамейкой, рядом друг с другом, его одежда в корзине, он готов к омовению, и к очищению, и к продолжению жизни».
Эйтан молчал, не говорил ни слова и не поднимал на меня взгляд, но дедушка Зеев вдруг повернулся ко мне и уставился на меня своим единственным глазом.
— Ты здесь, Рута? Сколько времени ты здесь стоишь?
— С его второго ботинка, дедушка. Ладно, я шучу. С тех пор, как вы с ним вошли. С самого начала.
— Шутишь?
— А что делать?
— Ты принесла его чистую одежду? Положи ее здесь и вернись к гостям. Они пришли к тебе.
— Это не гости, дедушка. Это — утешители, и это наша траурная неделя.
— Это гости, не будем сейчас спорить. Иди к ним, пожалуйста.
Но я не могла пойти. Хотя он сказал «пожалуйста», редкое слово в его лексиконе, но мои ноги были по-прежнему прикованы к земле, а мои глаза — к этим двум оставшимся у меня мужчинам, к одетому старому, который останется с нами до последнего своего дня, и к обнаженному молодому, который будет здесь, но погаснет и исчезнет из жизни, чтобы вернуться в день смерти старого, в день своей кровавой мести.
Меня переполняло волнующее любопытство, но одновременно — и тревога, потому что я знала, что дедушка Зеев — человек особый и уже совершал в прошлом непредсказуемые и даже ужасные поступки. Но, сказать по чести, главным было все-таки любопытство. Я понимала, что если останусь, то увижу то, что женщинам обычно видеть не дано — ту пресловутую мужскую дружбу, которая дарована лишь немногим мужчинам и которую еще меньшему числу женщин дано воочию наблюдать.
Знаете, у Редьярда Киплинга есть короткий рассказ об индийском мальчике по имени Тумаи, который учился на «махаута», погонщика слонов или их дрессировщика, что-то подобное, я уже точно не помню. Не дрессировщик для цирковых представлений, упаси Боже, нет — для серьезных вещей, чтобы учить слонов работать вместе с людьми в лесу, перетаскивать стволы деревьев и другие грузы. Короче говоря, самый старый из слонов — у меня на минуту выскочило из головы его имя, но вы не беспокойтесь, оно так же и всплывет, как все слова, которые вдруг ускользают из памяти, — так вот, этот старый слон, которого мальчик каждый день мыл в реке, однажды ночью повез его в лес, чтобы он увидел встречу диких слонов — представление, которого никогда не видел человеческий глаз. Я вспомнила этот рассказ, потому что почувствовала себя, как этот погонщик. Я понимала, что если ослушаюсь и останусь, то увижу такое, чего никогда не видели женские глаза. Ну, во всяком случае, глаза этой женщины, мои.
Дедушка Зеев бросил на меня свой обычный короткий взгляд, который в рядовые дни означал: «Это не для тебя!» — но я увидела, что уголки его рта выражают согласие, а его единственный глаз вдруг стал теплым и добрым, намекая мне, что это вполне для меня, что я могу остаться. Я до сих пор удивляюсь. Иногда я думаю, что он сделал это за неимением выбора — ведь я использовала свое новое положение. Вы понимаете, о чем я говорю? Нета только что умер, и я использовала свое положение осиротевшей матери, которой нельзя отказать и которую нельзя обидеть. Напротив — нужно уважить и ее, и ее желания.
Так или иначе, я осталась стоять как вкопанная, и тогда дедушка Зеев сказал: «Я вижу, что ты остаешься, так поддержи его минуточку, чтобы он не упал, — я должен подняться».
Я взяла левую руку Эйтана в свою правую, а своей левой осторожно уперлась ему в грудь. Ладонь женщины на груди ее мужчины, особенно с расставленными пальцами, говорит ему самое важное: «Я здесь. Я с тобой». Иногда, когда он лежал на спине, а я сидела на нем верхом, мы клали так руки друг на друга, он — свою ладонь на мою плоскую грудь, а я свою ладонь — на его плоскую грудь. Но сейчас это было просто для того, чтобы он не упал. Я не так уж поддерживала его. Это не всегда нужно. Иногда достаточно такого прикосновения — ясного, точного. Вливающего уверенность: «Это я. Я здесь. Я с тобой».
Я помню: однажды, когда Нете было три года, мы шли с ним по улице, и он попросился пройти, держа равновесие, по забору одного из домов — полоске шириной в несколько сантиметров, всего-навсего. У него было тогда безумное увлечение, которое и нас доводило до безумия, — он не мог миновать забор, чтобы не попросить разрешения пройти по нему. Вот и тут он потребовал: «В последний раз» — и пообещал «Последний, и все».
Эйтан поднял его и поставил на забор, дал ему руку и пошел рядом, и я увидела, что он улыбается.
«А сейчас пусть мама даст тебе руку, — сказал он, пройдя с ним несколько шагов, а мне шепнул: — Ты только посмотри, какое у него чувство равновесия — он совсем не держится за руку, ему достаточно одного прикосновения».
Как же его звали, этого проклятого слона у Киплинга? С ума можно сойти!
Ну, не важно. Я положила руку на грудь Эйтана, и он тоже оперся на меня — чуть-чуть, но я почувствовала, какой он холодный. Холодный тем холодом, который, как я поняла лишь несколько месяцев спустя, возвещал об угасании огня, об исчезновении золота, о той мертвенной белизне, что поднимется снизу, и поползет наверх, и выбелит его кожу.
И тогда, убедившись, что Эйтан стоит устойчиво, дедушка тоже начал раздеваться. Я была потрясена. Он никогда раньше не раздевался при мне и даже меня упрекнул однажды, что я хожу неодетой при Нете.
— Но ему всего четыре года, — сказала я ему тогда.
— Все равно это непорядок, — настаивал он. — Сын не должен видеть свою мать без одежды.
И вот сейчас он раздевался передо мной и рядом со мной, а ведь мне уже не четыре года, и я не маленькая девочка. Но он раздевался так спокойно и так естественно, как женщина обнажает грудь перед посторонними мужчинами, когда ей нужно покормить своего младенца, хотя никогда не обнажилась бы так в других обстоятельствах.
Я посмотрела на него, на нашего старого праотца. Не уставилась, упаси Бог, но посмотрела. То был первый и последний раз, когда я видела его обнаженным, и я пожалела, что не видела его таким в его молодые годы, и поняла, как выглядел бы Нета, если бы дожил до этого возраста.
Я опять прочту, с вашего разрешения, из своей тетрадки — то, что я записала в нее тогда: «Она обвела взглядом все его тело, открывая для себя эту неведомую землю со всеми ее хребтами и равнинами, мертвыми зонами и запретными городами. На этом старом теле еще приметны были маленькие, четкие и трогательные островки молодости: гладкая сильная спина под морщинистым затылком и покатыми плечами, мышцы больших сочных икр под бедрами, которые уже окостенели, отощали и утратили форму, и неожиданная, упругая выпуклость ягодиц».
Смешно. Обычно у мужчин зад стареет первым. Не то чтобы я когда-нибудь видела представительную выборку мужских задов, но вы же знаете, как женщины рассказывают одна другой. Я как-то слышала — одна женщина сказала другой, что для нее мужчина, у которого «умер зад», все равно что мертвый. А другая ответила: «Мой муж мог бы уже сейчас отсидеть траурную неделю по своему покойному заду, если бы у него еще было на чем сидеть». Но Эйтан сказал мне однажды, когда у нас зашел об этом разговор: «Какая разница? В повседневной жизни хозяин зада все равно не может установить с ним зрительный контакт». Я с удовольствием рассказала бы вам еще парочку смешных историй о мужских задах, но мы с вами сейчас, если помните, в самом разгаре похорон, так что вернемся к подобающему тону.
Я смотрела на тело моего дедушки и думала, что у меня, на моем теле, можно, наверно, увидеть обратное — маленькие островки старения еще молодого тела. Мне было тогда двадцать девять лет, но я уже замечала там и сям начало морщинок и уже не раз находила пару седых волосинок в своих черных волосах. Когда эти волосинки появились впервые, я подумала: «Как жалко, что моя мама их не видит». А сегодня я думаю о том, что уже никогда не увижу седые волосы на голове у Неты или другого моего мальчика, потому что другой уже не родится у меня никогда.
Интересно, правда? Интересно, что думает человек, когда видит первые седые волосы на голове своего сына или дочери? Что это для него — первые плакальщики, неслышно отпевающие его самого? Или, может быть, такие маленькие предупредительные флажки на пути к его собственной смерти? Но тогда, в душевой, я вообще ничего такого не думала — там были не мысли, а какие-то крохотные вспышки озарения и понимания, которые с огромной скоростью проносились в моей голове. Нет, нет, не пугайтесь, Варда, это я постучала по столу, потому что вспомнила. Кала Наг — вот как звали того слона у Киплинга. Кала Наг — это черный змей по-индийски, точнее — на хинди, так называется их язык. Я же говорила вам, что оно всплывет! И вот, пожалуйста, всплыло.
Дедушка разделся совсем, осторожно снял повязку со своего слепого глаза и протянул ее мне со словами: «Повесь ее там, на стене, пожалуйста». И тот бледный, мутный, страшный комок, который когда-то был его глазом, посмотрел на меня точно так, как в тот далекий день нашего с Довиком детства, когда он вот так же снял эту повязку и показал нам свой мертвый глаз.
Затем, стоя совершенно голый, не пряча от меня ничего, он не спеша отрегулировал температуру воды, встал под струю и сказал: «Заведи его ко мне, Рута, и подвинься, пожалуйста».
Я надеюсь, что вы замечаете эти тонкости, Варда? И то, что он сказал «подвинься», а не «теперь уходи» или «оставь нас одних», как не раз говорил во многих других случаях, и то, что он снова, в третий раз за один день, если я не ошибаюсь, сказал мне «пожалуйста».
Я подвела Эйтана под струю и осталась рядом, потому что хотела все досмотреть до конца. И я смотрела. Еще как смотрела! Боялась даже моргнуть. А вы — вы не остались бы? Ну что ж. Для меня это была единственная в своем роде возможность. И предоставили ее мне Нета и Эйтан, два моих «парня», своим уходом из жизни, и дедушка Зеев — своей мудростью.
Я смотрела. Я видела. Я слышала. Я запоминала каждую деталь. Дедушка Зеев обнял Эйтана, с силой прижал его к себе и сказал: «Теперь все в порядке, Эйтан. Да?» И потом: «Сейчас уже лучше, правда?» И Эйтан вдруг ответил. Заговорил. Произнес: «Да» — слабое и короткое.
Я не сказала ничего, но вспомнила мою классную руководительницу в третьем классе, которая спрашивала нас каждое утро: «Приготовили уроки?» Мы хором отвечали: «Да». А она говорила: «Это было очень жалкое „да“!» Я очень любила эту учительницу, ее звали Батия, и мне очень нравится это ее выражение: «Очень жалкое „да“». Долгие годы я тоже пользовалась им в своем классе, пока не поняла, что большинство моих учеников уже не понимает, что тут значит «жалкое», и думает, что это от слова «жалостливое».
Глава двадцать третья
— Несколько дней спустя я записала в тетрадке: «И вдруг воцарилась тишина. Шум воды в душе стал единственным звуком — в ушах, во дворе, в поселке, во всем мире. И она поняла, что сотни мужчин, и женщин, и мальчиков, и девочек, пришедших на похороны Неты и на его поминовение, вдруг замолчали. Что все они стоят и прислушиваются — из-за заборов и стен. Никто не подходил близко, но все уши насторожились, все рты умолкли, и все сердца слышали и понимали».
Голые и обнявшиеся, стояли эти двое под струей воды. Мой дедушка поддерживал, мой супруг опирался на него, и губы у обоих двигались, а голосов не было слышно.
Но я знаю, что они говорили.
Дедушка Зеев спросил:
— Ты стоишь, Эйтан? Хорошо стоишь?
И Эйтан сказал:
— Да. Я стою.
Дедушка Зеев сказал:
— Я должен сейчас присесть, так я тебя оставлю. Не упади.
И Эйтан сказал:
— Не беспокойся. Когда ты со мной, я не упаду.
Дедушка Зеев сказал:
— Оставил. Сейчас я уже не держу тебя. Стой.
И Эйтан сказал:
— Я стою. Но оставайся здесь, возле меня.
Дедушка Зеев подтянут табуретку поближе, и снова сел возле Эйтана, и опять похлопал его по бедру, и Эйтан снова поднял одну ногу, а потом другую, и снова так же послушно и так же закрыв глаза, выражая этим свое полное доверие, и его вялая рука лежала на плече дедушки Зеева, не держась, только слегка прикасаясь. А дедушка Зеев намыливал и мыл его — сначала ступню и бедро левой ноги, потом ступню и бедро правой ноги. Намыливал, мыл, а потом похлопывал, давая очередной сигнал повернуться.
Я видела, как член Эйтана качается почти рядом с дедушкиным лицом, чуть ли не касаясь его, и как дедушка Зеев старательно помыл и его, и тогда я вдруг поняла, что все кончено. Больше мы никогда не будем принимать душ вдвоем, Эйтан и я, и этот его член навсегда останется таким вот вялым и беспомощным, и я никогда уже не смогу заставить его кончить в той же душевой, стоя рядом с намыленными руками и стиснув губы, чтобы из них не вырвался один из тех стонов, что бывают «до», или смех, который бывает «после» (потому что мы не раз делали «это» и в те часы, когда по дорожкам рассадника ходили покупатели).
Дедушка Зеев мыл его под коленями, и между ног, и между ягодицами, и между пальцами ног, как моют маленького мальчика, и Эйтан отвечал на каждое похлопывание, поднимая и опуская, когда требовалось, и поворачиваясь в ту и другую сторону, когда нужно. Потом дедушка Зеев поднялся с табуретки и продолжил мыть его наверху — грудь, и плечи, и спину, и поднял ему одну руку за другой, чтобы намылить и сполоснуть подмышки, а в конце еще слегка похлопал по затылку, чтобы он сел на табуретку для основательного мытья головы. Ну и за ушами тоже, как полагается.
Вот и все. Он смыл с него весь шампунь и мыло, и Эйтан остался сидеть, сгорбленный и равнодушный, под стекающей водой, а дедушка Зеев кончил намыливать и ополаскивать себя, закрыл краны, вытер Эйтана и одел его в чистую рабочую одежду, которую я принесла, и все это в том же порядке, с той же четкостью и с теми же указующими похлопываниями — подними, надень, натяни, повернись, давай. А потом, наконец, вытерся сам, оделся и протянул мне руку.
— Повязку, пожалуйста, — сказал он мне. — Дай мне повязку. Мы выходим.
Чистые и одетые, они вышли из душевой. Народ расступился. Дедушка Зеев пересек его посуху[93], отвел Эйтана к навесу и сказал ему:
— Видишь все эти мешки — с компостом, со смесью для цветочных горшков и с удобрением для грядок? Их нужно перенести на другую сторону. Сделай это сейчас, Эйтан, пожалуйста.
Вот и все. Так оно началось. Каждый такой мешок весил за тридцать килограммов, и там были сотни мешков, и их совсем не нужно было никуда переносить. Но Эйтан сделал то, что дедушка велел ему сделать, и мы все увидели: вот он опускается на колени, вот он охватывает, поднимает, несет, укладывает в новую огромную кучу.
Наутро, окончив, он пришел к дедушке Зеву и сказал:
— Я кончил.
Он шел с трудом, его колени не разгибались от напряжения, все тело дрожало от усталости. Но дедушка Зеев сказал ему:
— Прекрасно. А сейчас вон те камни для мощения двора. Перенеси их отсюда туда и снова разложи в том же порядке. — Знаете ли вы, что такое камни для мощения? Это каменные плиты для тротуаров и площадок во дворе или в огороде. Тяжеленные камни — каждый весит два-три десятка килограммов, иногда даже больше. — Перенеси их на правую сторону стоянки, где наши покупатели оставляют свои машины, и уложи по пять в высоту, — сказал дедушка Зеев, и Эйтан начал переносить эти камни. Он опять становился на колени, охватывал, поднимал, нес, снова становился на колени, укладывал и возвращался.
Никто из приходивших к нам в траурную неделю ни разу не подошел к нему, даже те, кого они называли «армейскими друзьями». А приходили многие. Сидели, разговаривали, молчали, порой плакали. Поминки — это ведь еще и некое событие, случай для встречи, мы уже говорили об этом раньше. Люди, которые не виделись много лет, встречаются снова и, несмотря на траур и скорбь, беседуют также о будничных делах, спорят и даже смеются. Поминки дедушки Зеева, двенадцать лет спустя, тоже были такими. Довик даже сказал тогда: «Хорошо, что он умер. Если бы он сидел сейчас с нами, ему бы не понравилось то, что здесь происходит». Но на поминках Неты этого не было. Разговаривали, рассказывали, но смеяться не смеялись. Когда шестилетний мальчик погибает по вине своего отца, тут не до смеха. И когда этот отец не говорит никому ни слова, а только появляется раз в несколько часов и в очередной раз докладывает старому хозяину: «Я кончил», и в очередной раз спрашивает у него: «Что делать теперь?» — это тоже не смешно. Парень, который вел половину дел нашего питомника, и притягивал покупателей, как огонь мотыльков, и помнил на память каждую мелочь, от кнопки до цветка, от лейки до мотыги, от удобрений до капельных шлангов, этот парень теперь молчит, да знай перетаскивает камни и переносит мешки, как вьючное животное.
У дедушки Зеева всегда были очень ясные правила и очень категоричные указания. Он приказывал, Эйтан выполнял, а Довик смотрел на них, и я видела, что он вот-вот заплачет. Но Довик это Довик, и он быстро отошел.
— Поздравляю, — объявил он уже через несколько дней, — у нас появился новый автопогрузчик. Спасибо, дедушка.
И мы все улыбнулись вместе с ним — все, кроме дедушки, который повернулся к Эйтану и сказал:
— Скоро придет грузовик с цветочными горшками и ящиками, разгрузи его, понял?
Так он делал в течение всей траурной недели, и в последующие недели тоже, и Эйтан все носил и перетаскивал с места на место, и тогда я сказала дедушке Зееву:
— Может быть, ты велишь ему прекратить это?
И дедушка Зеев сказал:
— Он может прекратить в любой момент, когда захочет. Никто его не неволит. Если он продолжает — значит, так ему хорошо. — И добавил: — Твоего сына мы уже не спасем, но можно и нужно спасти хотя бы твоего мужа.
Я тогда еще не знала, что дедушка спасет Эйтана и другим способом. Тогда я только сказала ему:
— Если ты считаешь это спасением, дай тебе Бог удачи. — А в своем втором мозгу, что под диафрагмой, подумала: «Но это уже ваше дело, вы у нас мужчины в семье. Хотите — спасайте друг друга, хотите — убивайте друг друга, хотите — убивайте своих женщин, их любовников и их детей, но меня, пожалуйста, оставьте в покое!»
Глава двадцать четвертая
— Через неделю после поминок Довик объявил, что должен отвезти Дафну и Дорит в Сде-Бокер. В том году они начали там учиться, но если вы спросите меня, то я думаю, что Далия отправила их туда потому, что давно уже почуяла, что моя связь с ее девочками все усиливается, и, возможно, испугалась, что теперь, после смерти сына, я совсем завладею ее дочерьми. Они и так все больше времени проводили в соседнем доме, у «занятной» тети, с которой можно разговаривать обо всем и у которой можно делать то, что им дома делать не разрешают, и не делать то, что им «не в кайф». Но помимо всего этого я понимала, что Довик захочет использовать эту поездку, чтобы от Сде-Бокера продолжить свой путь дальше на юг, к ручью Цихор, и разыскать там то снаряжение, которое Эйтан оставил под акацией, а заодно и глянуть на то место, где случилась наша беда.
И я действительно заметила, что он о чем-то говорил с Эйтаном и что Эйтан дал ему какую-то записку. А когда я пристала к нему, он сказал, что Эйтан написал ему координаты. Не сказал словами, а написал на бумажке. Молча написал цифры, молча отдал ему записку и так же молча вернулся к своей ужасной работе, и я только через несколько дней поняла, что это у него не просто работа, а отбывание приговора, очень жестокого приговора, вроде тех, что бывали в старину, своего рода каторжные работы, а его молчание — не просто молчание, а великий обет молчания, о котором никто, в том числе и я, не может сказать, когда он будет наконец избыт.
Довик нашел нужное место на карте и с гордостью сообщил, что запросто доберется туда. А потом, без посторонних, спросил меня, хочу ли я поехать с ним. Я сказал, что нет, я этого не выдержу, и спросила:
— А зачем ты туда едешь вообще? Ради жалкой палатки и полотнища для тени? Это не стоит времени и бензина. А кроме того, все это наверняка уже украли. Ты же сам мне говорил, что в этих прогулках по Негеву всегда так — стоит оставить машину на десять минут и тут же появляется ворье, которое вытаскивает из нее все подчистую, а бывает, что и сама машина испаряется бесследно, точно ее и не бывало.
— Дело не только в снаряжении, — сказал Довик. — Я хочу увидеть и понять. А кроме того, Рута, там не только палатка и навес. Я попробую найти и тот фотоаппарат, который Эйтан взял с собой. Я думаю, что он забыл его на том месте, где Нету укусила змея.
— И ради этого ты едешь? Ради какого-то старого фотоаппарата?
— Рута, — сказал он, — Рута, тебя считают самой умной в семействе Тавори, и ты уж точно умнее меня. Как же ты не понимаешь такую простую вещь: в этом фотоаппарате могут быть снимки. Эйтан наверняка снимал там все вокруг, а уж Нету обязательно. Это последние снимки твоего сына. Ты думала об этом?
— Думала и поняла, что не выдержу этого. Я даже не хочу знать, найдешь ты его там или нет.
Довик очень любил Нету. Он был прекрасным дядей. «Из-за того, что он мальчик, — так он говорил, — он также мой сын». И иногда добавлял: «Из-за моих двух близняшек я уже не сплю по ночам — лежу и представляю себе, как их будущие мужья завладеют всей нашей усадьбой».
Как я вам уже говорила, Варда, мой брат — очень хороший старший брат, но отнюдь не гений. Он не раз выпаливает глупости, но, к счастью, у нас в семье есть вещи куда более страшные и проблемы куда более тяжелые, чем тот факт, что в некоторых вопросах мой брат Довик слегка туповат. Ну, не важно. Это был не первый раз, когда он заговаривал о будущих зятьях. Далии и Дафне с Дорит это очень не нравилось, и даже Эйтан однажды сказал ему: «А что со мной? Я ведь тоже зять». Это было, конечно, до нашей беды. После нее Эйтан уже ничего не говорил.
«Ты совсем другое дело, — усмехнулся тогда Довик, а своим близняшкам сказал: — Не обращайте внимания. Это я шучу. Где ваше чувство юмора?»
Ну, не важно. Он отвез их в Сде-Бокер («Мы знаем, куда ты поедешь отсюда, папа, — сказали они ему, — и мы тоже хотим туда поехать») и продолжил свой путь на юг один. Миновал Мицпе-Рамон и котловину, над которой он высится, пересек Мейшар, спустился в Паран, пересек и его и добрался к Цихору. Тут он свернул направо на грунтовую дорогу, помеченную на карте красным (если вас удивляет эта моя осведомленность, то я все это видела потом на карте), и спидометр показал ему, что он на месте. Есть такие мужчины, которым достаточно указать координаты и точное расстояние, и им уже все ясно, они спокойны, у них есть все необходимое. А с другой стороны, заберешь у них координаты, и они беспомощны.
Он подъехал к акации, которая стояла точно в том месте, где должна была стоять, среди множества других акаций. «Ее красота — вот что окончательно убедило меня, что это то самое дерево, — сказал он мне, когда вернулся. — Она действительно была самой красивой в своем окружении». Приблизившись, он увидел, что все снаряжение Эйтана на месте, никто ничего не тронул, как будто даже воры знали, что здесь произошло, и поэтому ни к чему не прикоснулись: палатка все еще стояла закрытой и ждала хозяев, и холодная газовая горелка тоже их ждала, и навес для тени был все еще отброшен в сторону, и несмятые лежали два матраца, на которых никто не успел поспать. И раскрытый справочник птиц, который я потом изучала, чтобы понять, каких птиц мой маленький мальчик видел и узнал перед смертью и какие птицы видели и узнали его.
Довик положил все в пикап, накрыл полотнищем, нашел следы Эйтана и Неты и пошел по этим следам. Следы отца и сына, которые спокойно шли по склону наверх, смешались со следами отца, который возвращался назад бешеным бегом, точно по тому же пути. Отпечатки ног идущего человека выглядят совершенно иначе, чем отпечатки ног человека бегущего, тем более если он несет на руках умирающего ребенка, тем более если этот умирающий ребенок — его собственный сын и он виноват в его смерти. Такие вещи сильно влияют на характер следов. По следам можно многое узнать, даже настроение того, кто их оставил.
Довик пошел по следам следов, поднялся вместе с ними на хребет — по диагонали, как и положено — и добрался до того места, где змея укусила Нету, а Эйтан убил змею. Тут он нашел и фотоаппарат — тот из-за всей этой суматохи, и к счастью, немного скатился со склона и остановился у камня, который к тому же большую часть дня давал ему тень. Он нашел даже тот камень, которым Эйтан размозжил голову эфы, и то место, из которого этот камень был извлечен и где остался оголенный светлый участок земли. Я знаю все это, потому что через несколько недель после его поездки изменила свое мнение и попросила Довика съездить туда опять со мной. Но тут уж мой добрый и старший брат вдруг стал возражать: «Зачем тебе это, Рута? Ведь ты сама говорила, что не вынесешь этого». Он, кстати, неплохо передал мои интонации. А потом еще попытался убедить меня, что там уже не на что смотреть. Наверняка прошло наводнение и все смыло.
Он сказал мне все это, а я устроила ему сцену осиротевшей матери и младшей сестры, которую ему не забыть. Даже Бялик, наверно, не представлял себе таких мать и сестру. Это было подражание медведице, потерявшей своего ребенка, дикой лесной медведице, ревущей так, что слышал весь поселок. Не пугайтесь, Варда, я сейчас буду подражать самой себе, орущей на него: «Что за наводнение ты придумал, Довик?! Откуда сейчас наводнение?! Сейчас лето, и ты отвезешь меня туда немедленно, иначе я сама поеду искать ваши идиотские координаты, и ты будешь виноват, если со мной тоже что-нибудь случится».
Извините. Я прошу прощения. Я вам уже говорила — время от времени из нашего двора несутся крики и вопли, которые поставляют пищу для всех ушей и всех ртов в мошаве, и то был один из таких случаев. И этот, сейчас, тоже.
Ну, не важно. Мы отправились туда и по дороге почти не разговаривали, но по радио передавали хорошие песни, и мы присоединялись, я вторым голосом, а Довик — первым, и так, в конце концов, добрались до той акации, которую выбрал Эйтан, — дерево действительно было и красивым, и тенистым, — а оттуда пошли к тому месту, где змея укусила Нету, и Довик сказал: «Ну вот, Рута, это здесь и случилось». И надо вам сказать, что я выдержала это испытание с честью, а на обратном пути мы даже заехали в Сде-Бокер, навестить Дафну и Дорит, и те очень обрадовались нашему приезду, хотя не его причине. Я тоже была очень рада их повидать, потому что с тех пор, как Нета умер, а они уехали, мы остались совсем без детей, и это было ужасно. Двор опустел. У меня было более чем достаточно детей, которых я учила в школе, но это было совсем не то. Я не из тех учительниц, которые называют учеников «мои дети». Они не наши.
«Папа повез тебя на то место, где умер Нета?» — спросили они, точнее — то ли спросили, то ли констатировали, и я сказала, что да. Конечно, это обязанность братьев и право матерей.
А через несколько недель мы поехали туда еще один, последний раз, потому что дедушка Зеев тоже вдруг захотел побывать на том месте, где погиб его правнук. Ему тогда уже исполнилось восемьдесят, и заметно было, что ему нелегко в пустыне, что это место ему не по душе — незнакомые цветы, все вокруг желтое и сухое, песчаное и открытое, но следы еще виднелись, и Довик показал ему их, и дедушка пошел вдоль вади, смотрел, и проверял, и спрашивал. А спустя несколько месяцев, на праздник Суккот[94], в тех местах прошел неожиданный и сильный дождь, вызвавший сильное наводнение. Серьезный был дождь, в Негеве многие годы такого не бывало. Вышли из берегов все тамошние ручьи — и Цнифим, и Цихор, и Паран, и Кархум, — я, как вы, наверно, понимаете, смотрю иногда на карту тех мест и уже выучила наизусть цвета всех дорог и названия всех вади…
То был первый дождь, который прошел с тех пор, как Нета умер, и вообще первый дождь в том году, и он начался именно там, в пустыне, не в Галилее, и не на Голанах, и не у нас в мошаве, где тоже изрядно дождливо. Именно там, в тех проклятых сухих песках. Пошел дождь, прошло наводнение — и все стерлось. Бог освободился от всех других своих дел и в течение нескольких часов не умертвлял и не возрождал, не спаривал и не разлучал, не унижал и не возвеличивал, не поднимал коров из Нила[95], не выводил медведиц из леса[96], не возлагал грехи детей на отцов и грехи отцов на детей[97]. Нет, Он только вернулся на место преступления и уничтожил все его следы и свидетельства.
Глава двадцать пятая Древний человек и огонь (еще один рассказ для Неты Тавори, и тоже рассказанный его матерью)[98]
1
Много-много лет назад, в вади дедушки Зеева жил древний человек.
Так его звали, потому что в те времена у людей еще не было имен.
Дедушки Зеева тогда еще не было и его харува тоже. Но вади уже было, и на другой его стороне была пещера, и она была его домом.
Древний человек очень любил эту пещеру.
Летом у него была там приятная и прохладная тень, а зимой она защищала его от дождя.
Но зимой приходили также тучи, и солнце исчезало, и бывали не только дожди, но и снег валил, и град, и ветер задувал в вади, свистел меж скал и уносился к вершинам гор. Древний человек сидел у входа в пещеру, смотрел наружу, и ему было холодно.
Очень холодно.
Страшно холодно.
Он забрался глубоко-глубоко внутрь пещеры, но это не помогло.
Он надел медвежью шкуру, но и это тоже не помогло.
Он обнял свою жену, древнюю женщину, и накрыл ее и себя медвежьей шкурой, и это было очень приятно и, кстати, даже помогло, но лишь немного и на короткое время.
2
В один прекрасный день сказала древняя женщина древнему мужчине:
— У нас кончилась еда, и ты должен пойти и принести что-нибудь поесть.
— В такой холод? — спросил он. — Там, снаружи, льют ливни, завывают ветры, бушуют бури.
— Ничего не поделаешь, — сказала она и засмеялась. — Иначе нам придется есть друг друга: ты съешь меня, а я съем тебя.
Древний человек очень-очень любил древнюю женщину.
Он не хотел есть ее и не хотел, чтобы она съела его. Поэтому он вышел и пошел, и шел, и искал, и искал, и шел, а дождь хлестал ему в лицо, и ветер морозил его тело.
Но он искал, и шел, и не отдыхал ни минуты.
И вдруг, прямо над ним, сверкнула молния и послышался могучий грохот грома и огромное дерево возле него зажглось и заполыхало желто-красным огнем.
Древний человек никогда до этого не видел огня.
Он испугался и упал на землю, но тут же поднялся и закричал:
— Чудовище… желтое чудовище… нет… красное чудовище!
Древний человек никогда раньше не видел и чудовищ, но это слово показалось ему очень подходящим.
3
Он так испугался, что помчался назад в пещеру.
— Пошли быстрей! — сказал он жене. — Я хочу тебе что-то показать.
Древняя женщина очень любила эту фразу. Каждый раз, когда древний человек говорил, что хочет ей что-то показать, происходило что-нибудь приятное и симпатичное.
— Что? — спросила она.
— Что-то страшное и ужасное.
— Что?
— Там чудовище, — сказал древний человек. — Оно огромно. Оно бушует. Оно красное и желтое. Оно пожирает деревья за холмом.
— Что значит чудовище? У нас еще нет такого слова, — сказала древняя женщина.
— Я только что придумал его. Теперь оно есть. Есть и чудовище, и слово для него.
— Как оно выглядит, твое чудовище?
— Оно не похоже ни на что.
— Как медведь? Как носорог?
— Нет.
— У него есть крылья? Когти? Чешуя? Хвост?
— Есть! Очень много хвостов, и крыло, и еще крыло, и еще крыло.
— Оно худое? Оно толстое? У него есть хобот? Или просто нос?
— Ну что ты! У него вообще нет формы. А точнее, у него много всяких форм. Каждую минуту другая. Ну, идем же, я хочу показать его тебе.
4
Древний человек и древняя женщина побежали вместе, несмотря на дождь, и ветер, и холод, и бурю.
Они обогнули холм и увидели горящее дерево.
— Смотри, — сказал древний человек. — Ты когда-нибудь видела такое чудовище?
Древняя женщина приблизилась.
Капли дождя падали на горящее дерево и издавали шипящие звуки.
— Берегись! — крикнул древний человек. — Это очень опасно!
— Оно приятное, — сказала древняя женщина. — Оно греет. Подойди и ты.
Древний человек медленно подошел.
Ему стало тепло и приятно.
Он протянул руку и коснулся.
Он всего-навсего хотел погладить теплое чудовище, но ему вдруг стало ужасно больно.
Он подпрыгнул и закричал:
— Оно меня укусило! Чудовище укусило меня!
И убежал обратно в свою пещеру.
5
Но древняя женщина осталась возле огня.
Она грелась и получала удовольствие.
Спустя несколько минут появился огромный медведь.
Он поднялся на задние лапы и зарычал на древнюю женщину, но не осмелился приблизиться к ней, потому что испугался огня, и поэтому убежал.
Еще через несколько минут появился тигр.
Он пополз к ней и зарычал.
Но тоже не осмелился приблизиться, потому что испугался огня, и поэтому убежал.
А еще через несколько минут прибежала стая волков. Они бегали вокруг нее и скалили зубы, но не осмеливались приблизиться, потому что боялись огня, и поэтому в конце концов убежали.
А потом вернулся древний человек, и она рассказала ему, что произошло.
— Знаешь, — сказала она ему, — если у нас в пещере будет такое желтое чудовище, нам будет тепло, а оно будет охранять нас от зверей.
— Правильно, — сказал древний человек после долгого раздумья. — Но только если это будет маленькое желтое чудовище.
— Так давай возьмем одну ветку с желтым чудовищем на ней, а когда оно съест ее, мы дадим ему еще одну, и потом еще и еще, и у нас всегда будет такое чудовище в нашей пещере.
Так они и сделали.
Взяли ветку с маленьким чудовищем, принесли ее в пещеру, и стали давать маленькому чудовищу ветку за веткой, и назвали его костром.
Ночью они лежали возле него, и им было тепло и приятно, и никакой медведь, никакой лев не осмеливались войти в их пещеру.
И костер сделал в пещере свет.
И тени плясали на стенах и на потолке.
Древний человек спросил:
— Что это за черные пятна? Они страшно пугают меня.
А древняя женщина ответила:
— Это я и ты.
И сделала ему тени в форме зверей — медведя и медведицы, тигра и тигрицы.
Древний человек посмотрел на жену и сказал:
— Снаружи дождь, и холод, и буря, а здесь тепло и приятно, и ты такая умная, и красивая, и занятная.
— Правда? А на кого я похожа? — спросила она. — На муравьиного медведя? Или на лису? Или на ящерицу? Или на аиста?
— Что такое муравьиный медведь? Нет в наших краях такого зверя.
— Ну, так наверно он есть в каком-нибудь другом месте.
Древний человек рассмеялся:
— Какая ты прелесть, чудовищенок ты древненький этакий! Ты ни на кого не похожа. Каждую минуту ты принимаешь новую форму.
6
Кончилась зима, пришла весна, а за ней лето, и однажды, когда древний человек вернулся с охоты, древняя женщина сказала ему:
— Идем быстрее, я хочу тебе что-то показать.
Древний человек очень любил эту фразу.
Каждый раз, когда его жена говорила, что хочет показать ему что-то, происходило что-нибудь приятное и симпатичное.
Он пошел за ней, и она показала ему крошечного древнего человечка, закутанного в шкуру.
— Что это? — спросил он.
— Это древний ребенок, — сказала она. — Он мой и твой.
Глава двадцать шестая Свадебная ночь
1
Путешествие закончилось. Дов въехал на телеге во двор брата. Зеев и Рут шли за телегой пешком. Дома братья первым делом спрятали ружье. Потом они накормили и еще раз напоили корову и быка, после чего бык, словно мужчина, выполнивший свое мужское дело, разом ослабел, лег на землю и растянулся пластом. Зеев погладил его по голове и, повернувшись к брату, спросил, что слышно дома, и Дов шепнул, что отец повелел — он так и сказал: «Отец повелел», — чтобы с этого дня Зеев дважды в день натирал ладони оливковым маслом.
— Зачем? — проворчал Зеев, который считал, что всякие мази — это дело неженок или женщин.
— Так отец велел передать, и так ты должен отныне делать.
Ночью, когда Дов уже спал, Зеев и Рут продолжали разговаривать. Среди прочего Зеев рассказал своей девушке о странном приказании отца, и Рут улыбнулась про себя. Вторая ночь у них снова прошла в разговорах, а наутро Дов и Рут отправились в обратный путь в Галилею. Там Рут сообщила своим родителям, что встречалась с Зеевом и что они хотят пожениться, а родителям Зеева передала письмо от их сына.
Свадьбу решили справить после праздника Шавуот, в тот день, когда Зееву должно было исполниться двадцать три года. Сам он прибыл в родительский дом за три дня до свадьбы и сразу же отправился с отцом поработать во дворе и в саду. Потом погулял по деревне, встретился с друзьями, рассказал о новом поселке, в котором живет, а ночью, когда почуял шедший снаружи крепкий запах трубки, понял, что отец ждет его во дворе.
Отец откашлялся и спросил, знает ли Зеев, что происходит между молодыми в свадебную ночь.
— Не беспокойся, отец, — сказал Зеев. — Знаю очень хорошо.
— И что же, к примеру, ты знаешь?
Зеев смутился:
— Знаю…
Отец сказал:
— Это хорошо, что ты набрался опыта, и хорошо, что невеста еще неопытна, а жених уже нет. Но я говорю не об этом, а о том, что ты должен понять и запомнить: эта женщина отныне и далее, всю твою жизнь, будет с тобой. Ты будешь ей один-единственный, и она будет тебе одна-единственная. И поэтому, Зеев, в ночь после свадьбы, в эту важную и особенную ночь, ты не должен огорчать или обижать ее, или делать ей больно, или делать что-то, из-за чего у нее останутся дурные воспоминания. Ты должен быть нежным, и терпеливым, и заботливым, и все, что ты будешь делать ей и с ней, ты должен делать ласково и мягко.
Зеев не удивился. Отец был человек грубый и тяжелый, но с женой, матерью Зеева, Дова и Арье, он всегда был терпеливым и преданным. Зеев не сказал ни слова, и отец продолжил:
— Во все ночи мы должны быть жесткими, твердыми и сильными, внутри и снаружи, в душе и в теле, потому что у нас есть не только жена. Есть еще земля, которую нужно обрабатывать, и скот, который нужно выращивать, и воры, которых нужно ловить, и грабители, которых нужно отгонять. Но в эту ночь муж полностью принадлежит своей жене, и он должен быть добрым в душе, и нежным в прикосновениях, и твердым там, где нужно.
Зеев по-прежнему молчал. Никогда еще он не слышал таких речей от своего обычно неразговорчивого отца.
— Ты понял меня, Зеев?
— Понял, отец, спасибо тебе.
— И мелкие детали тут тоже важны, — добавил отец. — Ты должен быть гладко выбрит и чист, и все твое тело, все его места, должны хорошо пахнуть, а ногти нужно заранее постричь и отшлифовать, потому что придется прикоснуться к нежным местам и нельзя там поцарапать. Именно поэтому я велел Дову передать тебе, что ты должен день за днем натирать ладони оливковым маслом, чтобы ей было гладко, и приятно, и хорошо.
Мать невесты тоже провела с ней аналогичную беседу — то, что в ту пору называли «наставления перед», но ее указания были куда более конкретными и практичными, чем отцовские наставления сыну. Кроме советов касательно терпения и соучастия, чистоты и хорошего запаха, мать дала дочери и чисто технические указания:
— А если он не находит, ты должна взять его рукой и положить на нужное место. — И усмехнулась: — Как сказано: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне»[99].
И Рут, помимо воли, прыснула со смеха.
Таким манером все было приготовлено. Соседки испекли хлеб и принесли сыры собственного изготовления, мужчины привезли и втащили ящики с фруктами и овощами. Мясо не подавалось, а несколько бутылок вина и шнапса хоть и были откупорены, но пились за отдельным столом, чтобы не обидеть приглашенных мусульман, которые приехали из соседних арабских деревень с инжиром и пирогами. Несколько местных охранников устроили конные соревнования с арабскими всадниками — скакали галопом и размахивали палками, как саблями.
Свадьба кончилась поздно. Гости, жившие поблизости, вернулись к себе. Приехавшие издали назначили дежурство для охраны лошадей и повозок и улеглись спать — кто по углам хозяйского дома, кто в соседних домах, кто в сараях, на сеновалах, в коровниках. Разместились по старшинству, пожилым по их возрасту, юнцам по их молодости: те — на кроватях и матрацах, а эти — на джутовых мешках, набитых соломой.
Соседки и родственницы простились с невестой, пожелав ей доброй ночи, как женщины — женщине. Две из них успели шепнуть ей на ухо, что ребенок, зачатый в первую брачную ночь, рождается большим, здоровым и удачным. Но невеста не очень прислушивалась к их словам. Что бы ни говорили соседки, главное говорило ей ее собственное тело — уповающим жаром чресел, вожделением пересохшего горла, блаженным стеснением диафрагмы. Она еще не знала мужчины, и страх тоже гнездился в ее теле, но больше страха были волнение, и страсть, и любопытство.
Она вспомнила: однажды, когда ей было лет одиннадцать, а Зееву — около пятнадцати, она увидела его у источника на склоне вади, обнаженного по пояс. Могучий бык семьи Тавори тоже был с ним. Сначала Зеев помыл быка, полил его водой и растер жесткой щеткой, потом расчесал ему кончик хвоста, а затем сам разделся догола. Рут видела загорелые, медного цвета затылок и руки, белые бедра и спину. Он нагнулся, и выпрямился, облился водой из ведра и вдруг отвернулся, видно почувствовав на себе ее взгляд.
На мгновенье она увидела блеск его глаз и темное пятно между бедрами. Улыбнулся он ей или рассердился? Она так и не поняла, потому что он сразу же спрятался в кустах и крикнул ей оттуда: «Рут, уходи!» А когда она не ушла, крикнул снова: «Ты уже видела меня, ты видела! Так теперь уходи, пожалуйста, потому что я купаюсь». На этот раз она ушла, но слова: «Ты уже видела меня, видела» — окрасили нежностью ее желание, и хотя ей было всего одиннадцать, она знала, что он тоже ощущает сейчас желание и нежность.
Молодые поднялись. Гости с симпатией смотрели на них. Какая приятная и любящая пара! Каждый из них по отдельности не был особенно красив, но вместе они выглядели много лучше. Может быть, еще и потому, что были очень похожи друг на друга, — оба рослые, широкие в плечах и сильные в шеях, сверкают одинаковой белозубой улыбкой, в обоих пышет грубоватое юношеское здоровье. Они улыбались друг другу, и из-за их роста эти улыбки витали высоко над головами гостей. Им не терпелось уйти в свою комнату, но они знали, что надо вести себя по правилам, а кроме того, их немного смущало, что все знают, зачем они уходят.
Мало-помалу двор опустел, и мать невесты наконец позвала свою дочь в кухню и сказала:
— Ну, Рут, день у нас выдался шумный и долгий, и вы, наверно, хотите сейчас отдохнуть.
Вошли также Зеев и его родители, а также отец Рут, и отец ее сказал:
— Гости уже спят, пошли и мы на боковую.
Четверо родителей вышли из кухни. Молодые остались наедине.
— Рут, — сказал Зеев, — я очень рад, что ты согласилась выйти за меня. Спасибо.
— Я тоже рада, — сказала Рут. — Я надеялась, что ты захочешь взять меня в жены, и знала, что соглашусь. Знала еще с той поры, когда мы были детьми и ты въезжал к нам во двор на вашем могучем быке.
Она подошла к нему и движением, которое родилось в ту минуту и которому суждено было сохраниться в их семье и в последующих поколениях, протянула правую руку и положила ему на грудь, широко распластав пальцы жестом любви и доверия, и он немного наклонился вперед и почувствовал приятную силу ее руки.
Они вошли в свою комнату, закрыли дверь и, не зажигая света, прошли каждый к своей стороне кровати. На ней были расстелены новая простыня и новое легкое одеяло. В честь свадьбы две свояченицы сшили им по две ночные рубахи каждому, вместе купили ткань и вместе сшили эти рубахи — широкие, белые и длинные, одинакового покроя и разного размера: мать жениха сшила рубаху для невесты, а мать невесты — рубаху для жениха. Таков был тогда обычай.
Рубахи были отглажены, свернуты и положены на супружескую кровать, которая тоже была специально изготовлена, а вернее — составлена — в честь предстоящей свадьбы. Большинство кроватей в этой мошаве были односпальными и совершенно одинаковыми, потому что их делал один и тот же столяр. А когда какая-нибудь пара молодых женилась, два отца брали кровать жениха из его дома и кровать невесты из ее дома и соединяли их вместе тремя деревянными досками и большими болтами — в головах, в центре и в ногах. Таким же манером была сделана и та кровать, которую отец Зеева и отец Рут накануне установили в центре их комнаты и на которую были положены ночные рубахи, сшитые двумя матерями, — ее рубаха слева, его рубаха справа. Молодые разделись и в темноте стали надевать свои ночные рубахи, и невеста вдруг услышала голос жениха, который чуть напряженным голосом сказал, что рубаха узка для него и он не может натянуть ее ниже плеч. Она сразу же поняла, что матери ошиблись и положили ее рубашку на его сторону, а его — на ее. Она тихо засмеялась, и ему это было неприятно, потому что он все еще сражался с рубахой, понимая, что она ждет, голая, в темноте, но страшась порвать легкую ткань. В конце концов он все-таки высвободился, но, когда они попытались обменяться рубахами, их руки соприкоснулись, и хотя темнота поглощала и скрывала их наготу, оба они на миг испугались, каждый отпрянул назад и просто бросил другому его рубаху.
Белые, бесшумные и безмолвные, точно две гигантские совы, рубахи полетели навстречу друг другу, спланировали и опустились на нужные стороны кровати. Молодые пошарили, нашли их и надели — она ту, что была по ошибке дана ему, а он — ту, что была по ошибке дана ей. Надев рубахи, они сели на кровать, каждый на своей стороне, а потом легли и растянулись рядом на простыне.
Теперь они были совсем близко друг к другу. Только льняная ткань покрывала их кожу, только кожа покрывала их плоть, только плоть укрывала их сердца. Они уже и раньше не раз целовались украдкой, а однажды жених даже погладил через кофточку правую грудь невесты. И они уже и раньше обнимались и прижимались друг к другу так, что чувствовали, как жар их чресел проникает сквозь одежду, и ощущали его напрягшуюся твердость и ее уступчивую мягкость. Но они никогда еще не были единым телом, в какое сливаются женщина и ее супруг.
Поэтому они молча лежали в темноте, пока Рут не почувствовала вдруг, что рука Зеева ищет ее руку, находит ее, поднимает и подносит к своим губам. Он приподнялся, оперся на левый локоть и поцеловал ее пальцы, один за другим, и ее обрадовала эта неожиданная нежность, столь отличная от его обычных грубоватых манер на поле и в охране, и обрадовало, что не исполняются слова: «Вся эта мерзость, которая тебя ожидает», — которые сказала ей одна из замужних подруг, добавив при этом: «И если он набросится на тебя, как зверь, ты лежи тихо. Это обычно кончается быстро. А если хочешь, я тебе объясню, как сделать, чтобы это кончилось поскорее».
Его вторая рука присоединилась к первой, легла на ее щеку и повернула к нему ее лицо. Она повернулась к нему, и они обнялись и поцеловались — долгим любовным поцелуем, в полном и уверенном сознании предстоящего, как будто желая еще немного отодвинуть то, чему предстоит свершиться, и насладиться еще несколькими минутами предвкушения и вожделения.
Поцеловав пальцы на второй руке невесты, жених повернулся к ней, положил руку ей на талию и слегка потянул к себе, и она ответила ему, повернулась и прижалась к нему, а когда их тела снова прильнули друг к другу, он стал целовать ее губы, и она почувствовала, что он улыбается в темноте, и надеялась, что он тоже почувствует ее улыбку. Жених подтянул свою рубашку почти до груди, невеста подняла подол своей рубахи почти до талии и легла на спину, не шевелясь, как велела ей мать во время «беседы перед», процитировав при этом еще одну библейскую фразу, из книги, названной ее именем: «…и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать»[100].
Его вес был и чужим, и новым для ее тела. Она попыталась представить себе, что она почувствует, когда он войдет в нее. Она обняла его, сдвинула немного свое тело так, чтобы их колени касались друг друга, и чтобы их лодыжки соприкасались тоже, и ее груди прижались к его груди — соски к соскам, и это было приятно ее телу и сердцу, но, когда она раздвинула ему навстречу свои бедра и подвинула свое тело под его тело, из ее горла вдруг вырвался глубокий и громкий стон, удививший их обоих, и она вдруг почувствовала, что он содрогнулся и его плоть разом обмякла и ослабела.
Несмотря на отсутствие опыта — а может быть, как раз поэтому, — она попыталась прижаться к нему еще сильней, охватить его своими бедрами, и он тоже прижал свое тело к ней, но уже понял, хотя никогда не имел такого опыта в прошлом, что его тело уже не ответит ему нынешней ночью. Это ощущение было таким простым и ясным, что ему показалось, будто его член вообще отделился от тела, точно плод, упавший с дерева на землю.
Он быстро коснулся себя, словно желая получить подтверждение, и, когда его пальцы подтвердили ощущение его тела, он отстранился от нее, молча лег рядом на спину, натянул рубаху почти до коленей и укрылся одеялом. Потом тихо-тихо, медленно-медленно опять протянул руку, чтобы, крадучись, обследовать свое тело, понять, что с ним — большое оно или уменьшилось, и хотя обнаружил свой член на том же месте, что всегда, но у руки осталось такое же странное ощущение, будто он больше не составляет часть его тела, а полностью отделен от него.
Молод он был. Настолько молод, что его член не раз вставал как бы сам по себе, от одних только мыслей или картин, проносившихся в нем как бы независимо от головы хозяина. Молод настолько, что еще не знал, какое действие могут оказать странный взгляд, насмешливая фраза, блудливая, не вовремя и не к месту улыбка, неприятный запах тела, неумеренная выпивка, глупое замечание, неожиданная помеха, незваное воспоминание — причин много, а результат один.
Его рука все еще оставалась там, как будто защищая его чресла, и он слегка надавил, проверяя, осталось ли хоть немного мужской силы в его слабости, есть ли там еще какая-нибудь надежда «преобразить и преобразиться»[101]. И в ужасе ощутил странную вещь — что нажатие чувствует только его рука, но не его плоть. Но, щупая себя, он вдруг обнаружил, что рука его не одинока, потому что и рука его невесты тоже здесь и тихо гладит его. Какая-то отчужденная, изучающая холодность почему-то почудилась ему в этом ее прикосновении, и он испуганно отдернул свою руку.
— Что ты делаешь? — со стыдом прошептал он. — Что ты делаешь?
— Я только хотела взять твою руку в свою, — сказала она. — Лежать рука об руку. Что случилось?
Она попыталась смущенно, неуклюже обнять его, но он на миг оцепенел и тут же отпрянул.
— Оставь меня, — сказал он. — Не надо брать меня за руку, как маленького ребенка. — И минуту-другую спустя добавил: — Иди спать.
— А ты?
— Я должен проверить воду в коровнике. Отец поднял за столом слишком много рюмок и, наверно, забыл, но коровы не виноваты, что у нас свадьба.
— Не уходи. Твой отец не забыл, а кроме того, Арье и Дов тоже здесь. Останься со мной, мы уснем и будем спать вместе. Ты тоже немного перепил. Это пройдет. Ничего страшного.
Зеев не ответил. Рут села на постели и снова положила ладонь с широко расставленными пальцами на середину его груди, но он отстранился от нее. Тогда она легла на спину и закрыла глаза, а он, немного спустя, не проверяя, спит она или нет, поднялся, сбросил с себя свадебную рубашку, натянул штаны и вышел во двор.
Луна уже клонилась к западу и сияла так, что его тело обрисовалось в проеме двери, как огромный могучий силуэт. Она видела, как он вышел и закрыл за собой дверь. Теперь ступни его ног ощущали землю двора, а его обнаженную грудь ласкал ветер, в котором тепло и прохлада переливались друг в друга, как блики света на разноцветной рубашке Иосифа[102]. Так оно всегда в большинстве ночей летнего месяца сивана.
На мгновенье ему стало легче, но тут он снова почуял запах отцовской трубки, пошел на него и увидел отца, который сидел на стуле возле виноградной беседки. У отцовских ног стояла початая бутылка шнапса.
Зеев хотел было отойти в тень, но отец уже заметил его.
— Почему ты не спишь? — спросил он.
— Не смог уснуть.
— Как правило, после этого обычно засыпают, но иногда, от большой любви и волнения, это как раз возбуждает, — сказал отец. Он бросил на сына взгляд, приглашающий к обмену мужскими улыбками, но сразу понял, что это не к месту.
— Все было в порядке? — тревожно спросил он.
— Ничего не было.
— Как это не было?
— Не было.
— Не было чего? Вы не были вместе?
— Почти были. Но вдруг нет.
— Что случилось?
Молчание.
— Она тебя оттолкнула? Испугалась? Закрылась?
— Это я. Вдруг расхотел.
— Что значит «расхотел»? Ты молодой парень. В твоем возрасте это не ты хочешь или не хочешь, это твое тело хочет. В твоем возрасте оно всегда хочет.
— Вначале мое тело хотело, а потом вдруг расхотело.
Отец пососал трубку и помолчал. Потом сказал:
— Такое иногда случается с каждым.
И через какое-то время, очень долгое для сына и короткое для него, глотнул из своей бутылки и стал допытываться:
— Она сказала тебе что-то? Она сделала что-то необычное?
— Нет, не сказала и не сделала. Лежала и ждала.
— Вернись к ней, — сказал отец. — Ты слышишь? Сейчас же вернись в кровать. Если ты не сделаешь это сегодня, будет очень плохо.
Он отделил мундштук от трубки и подул в него, чтобы выдуть табачные соки, которые жгли ему язык.
— Этой ночью ничего уже не получится, отец. Сделаем это завтра. Завтра ночью…
— Иди к ней сейчас. Ложись в постель и лежи возле нее.
— Я уже лежал рядом с ней.
— Трогай ее так, как ты мечтал ее трогать.
Зеев не ответил.
— Подумай о какой-нибудь другой женщине и о том, что она тебе делала.
— Что ты говоришь, отец! Это моя жена. Я люблю ее.
— При чем тут любовь?! Любовь это роскошь. Только часть жизни мужчины и женщины. Ты должен сейчас думать обо всей вашей жизни. Если ты не сделаешь это нынешней ночью, она подумает, что ты не мужчина. Потом она посоветуется со своей матерью, и со своими сестрами, и со своими подругами, и они расскажут своим матерям, и сестрам, и подругам. Нельзя допустить, чтобы о нас рассказывали такое в деревне!
— Она уже спит, отец. Завтра все будет в порядке. Может, я выпил немного лишнего, я не привык так пить, как ты.
Отец вздохнул.
— Пойду проверить, есть ли вода у коров, — сказал Зеев.
— Я уже проверил, — сказал отец.
— Для большей надежности, — сказал Зеев и пошел проверить, а когда вернулся, на стуле уже сидел не его отец, а какой-то другой мужчина, который заступил в свой черед на охрану деревни. Увидев Зеева, он блудливо ему подмигнул.
Зеев вернулся к Рут, опасаясь, что она все еще не спит, и страшась, что уже уснула, лег возле нее, слушал ее дыхание, ждал, что она коснется его, и надеялся, что не коснется, и, наконец, уснул и до утра спал без всяких снов.
Утром они проснулись. Сначала молча лежали рядом, потом встали и оделись, и в их движениях были натянутость и неловкость. Зеев присоединился к отцу и братьям в винограднике, а Рут, к его большой тревоге, присоединилась к женщинам, работавшим во дворе и на кухне.
На следующую ночь всплыло воспоминание о первой ночи, на третью всплыли воспоминания о двух предыдущих, а на четвертую, когда Рут не надела сорочку в полной темноте, а зажгла свечу, и легла в постель в чем мать родила, и гладила его — сначала одной рукой, потом двумя, а потом языком, он испугался: откуда у нее такая опытность? Неужто она была с другим мужчиной до него? А может быть, она рассказала матери о его неудаче и получила совет от одной из женщин в своей семье, и теперь ее рассказ передается из уст в уста и от улыбки к шепоту? Отец был прав. Вся деревня будет знать — и эта мысль была такой уверенной и страшной, что его плоть снова сжалась, и сморщилась, и увяла.
2
Прошло несколько дней, и Зеев сказал отцу, что хочет взять жену и вернуться в свой новый дом в новом поселке. Отец попросил его остаться еще на два дня, чтобы съездить вместе в Тверию и помочь в каком-то деле.
В Тверию они поехали верхом и по дороге немного говорили — в основном о лошадях, и о земле, и о разных способах подрезки деревьев и прививки побегов, а также об отношении англичан к еврейскому поселенчеству в сравнении с их отношением к арабам[103]. По дороге они остановились в бедуинском шатре, угощались там кофе, и отец разговаривал с несколькими мужчинами из своих знакомых. Зеев сидел сбоку и слушал. Он гордился своим отцом, который говорил на хорошем арабском и умел вести себя согласно всем местным обычаям. Потом они попрощались с хозяевами, поскакали дальше на северо-восток и поднялись к гребню хребта.
Ленивое и белесое, расстилалось перед ними озеро Кинерет, и Тверия виднелась на его берегу. Большинство ее домов было построено тогда из черного базальта, и лишь немногие из них взбирались вверх по склону, поднимавшемуся к западу от города. Они спустились вниз и недалеко от берега свернули к северу, в сторону участка, где стояли несколько больших домов. В одном из них жил богатый араб, давний приятель отца. Они сидели в его саду, старшие ели, и пили, и разговаривали, а Зеев ел мало, пил мало и не говорил вообще. Потом пришли еще какие-то люди, был подписан какой-то договор, купюры перейти из рук в руки, и тогда отец шепнул что-то хозяину, и тот шепнул ему что-то в ответ и сделал знак толстыми пальцами.
Маленький мальчик отделился от тени дерева и помчался с такой скоростью, что за его пятками взлетали маленькие вихри пыли. Через несколько минут он вернулся, довольный и гордый, восседая на козлах двуконной коляски, рядом с возницей. Зеев и отец оставили своих лошадей в саду хозяина и сели в коляску, которая доставила их в грязный прибрежный переулок, к югу от рыбачьего причала.
Возле одного из домов с розовыми занавесками в окнах и двумя большими деревьями перед входом возница остановил коляску, спустился и открыл им дверь. Зеев никогда не был в этом месте, но сразу понял, куда его привезли и что это собой представляет. Отец велел Зееву подождать минуту в коляске, а сам поднялся к хозяйке дома и со всей серьезностью объяснил ей, что его сын несколько дней назад женился и у него есть некоторые проблемы.
— Сколько дней? — спросила хозяйка заведения.
— В точности неделя, — ответил отец.
— Надо было прийти сразу же наутро, — сказала хозяйка заведения, толстая еврейка, говорившая по-английски и по-арабски, а также на французском, немецком, ладино, иврите, идише и языке немых. — Но не беспокойтесь. У меня есть девушка точно для него.
— Я прошу для него даму чистую и здоровую, добрую и терпеливую, — сказал отец и добавил: — Не слишком молодую и не слишком старую, не слишком красивую и не слишком уродливую. — И объяснил, что все в ней должно быть самым обычным и самым средним, чтобы она не являлась потом сыну в воспоминаниях ни кошмарным видением, ни влекущей мечтой, не приходила бы к нему призраком по ночам и не являлась бы ему вдруг, словно дрожащий мираж в жарком воздухе полудня, чтобы не оставила следов ни на его теле, ни в его душе и чтобы имела опыт, но не хвалилась им перед клиентом.
Хозяйка заведения улыбнулась и сказала, что он не первый отец, который приводит к ней сына, «а ты, господин мой, судя по твоей походке, виду твоих рук и морщинам у глаз, кажешься мне человеком от земли, крестьянином, поэтому я хочу тебя заверить, что мои девушки тоже неплохо понимают в сельском хозяйстве — они могут и кривую ветку выпрямить, и робкий росток поднять, и саженец полить, и руками подоить, и ось, если нужно, смазать, и колосья отмолотить, чтобы зерна посыпались, — но самое важное, господин мой, это то, что та девственность, которую ваши парни теряют здесь у нас, уже нигде не найдется, даже если ее искать с большим фонарем».
— Все это хорошо и замечательно, — сказал отец, — но в нашем случае вполне достаточно выпрямить ветку, а уж саженец посадить нам нужно только в ямку, чтобы все было по правилам, как нас создал Господь. И пусть ваша дама не пугает его каким-нибудь особенным удовольствием, которое твои девушки, как я слышал, делают парням своими пальцами и даже ресницами глаз.
На стене за спиной хозяйки заведения качались четыре кисти — желтая, синяя, красная и зеленая, — которыми кончались шнуры, тянувшиеся вверх и исчезавшие в отверстиях в потолке. Она наклонила голову в знак того, что поняла запрос, и спросила, кого хочет господин — арабку или еврейку.
— Мне говорили, что у тебя есть черкешенка… — сказал отец.
— Нет, черкешенка ему не подходит, — решительно сказала хозяйка. — Она точно то, что ты не велел ему давать. Но я уже поняла, кто его возьмет.
— Кто? — спросил отец.
— Если хочешь, можешь посмотреть на нее до него.
Отец испугался.
— Посмотреть?! Ни за что! Я полагаюсь на твое понимание.
— А что тем временем? — спросила хозяйка заведения. — Может быть, господин тоже желает получить небольшое удовольствие?
Нет и нет. Господин подождет в ближайшем кафе. Отец повернулся и начал спускаться к выходу, но остановился на третьей ступеньке, повернулся к хозяйке и спросил, не умеет ли она случайно использовать пальцы также для свиста.
Большинство мужчин не водят своих сыновей на обучение в публичный дом, и его вопрос мог бы показаться странным, но хозяйка заведения мигом поняла его и кивнула: конечно, она умеет. Она обратит внимание, и прислушается, и присмотрится, и если что — немедленно просигналит ему громким свистом.
— Меня услышат отсюда до Дамаска и отсюда до Яффы, — заверила она его. — И не только ты, но и все отцы, которых беспокоят их сыновья, услышат тоже, от реки египетской и до реки Евфрат. Остается только маленький вопросик. Тут у нас принято платить вперед.
Отец уплатил и позвал сына. Зеев вошел, слегка смущенный. Хозяйка смерила его тем взглядом, которым мужчины оценивают женщину, и потянула за синюю кисть. Со второго этажа тотчас донесся отдаленный радостный звон колокольчика, и хозяйка велела Зееву подняться по ступенькам, а когда он увидит там четыре двери — желтую, синюю, красную и зеленую, постучать в синюю и подождать, пока она откроется.
Зеев бросил быстрый взгляд на отца, который движением подбородка и бровей приказал ему подняться. Он пошел по ступенькам. Хозяйка заведения прислушалась, посчитала про себя до четырех — те четыре секунды, которые парни такого типа обычно стоят перед синей дверью, прежде чем постучать, и тогда услышала его стук, скрип открывающейся двери и его шаги — уверенные шаги, отметила она про себя.
Проститутка за синей дверью — не особенно старая и не особенно молодая, не особенно уродливая и не особенно красивая, не толстая и не худая — встретила Зеева, протянув к нему обе руки, и тут же отступила назад, к кровати. Она уселась на большую круглую подушку, прижатую к стене, и потянула пояс своего халата. Зеев испугался, что сейчас она откроется перед ним вся целиком, во всей своей наготе, которая сразу ослепит его воображение. К счастью, она не была голой, на ней была рубашка из тонкой ткани, и, когда она отклонилась назад, ткань слегка вздулась и приподнялась, по ней прошли волны, и его плоть напряглась.
— Это все твое, — сказала она и дала ему знак раздеться за ширмой. А сама встала, затянула тяжелые шторы и слегка затемнила комнату, потому что знала, что он может устыдиться своей пробудившейся наготы. Он вернулся из-за ширмы и сел рядом с ней, а она погладила его по голове и слегка обняла, а минуту спустя развела его руки, прикрывавшие причинное место, внимательно присмотрелась и сказала:
— Говорили, что это цыпленок, который пришел по первому разу, а прислали боевого жеребца.
Спустя полчаса, выйдя от нее и спустившись по лестнице в кафе, Зеев увидел, что отец проверяет его походку и выражение лица, пытаясь угадать, чем закончилось дело. Он сел в коляску, они вернулись к богатому арабу, в саду которого оставили своих лошадей, и всю дорогу не сказали друг другу ни слова. Только поднявшись из Тверии на гору и увидев оттуда долину, расстилавшуюся внизу, отец спросил его:
— Ну, что скажешь, Зеев?
И Зеев улыбнулся и солгал:
— Сейчас все в порядке.
Прошел еще день, и отец повторил свой вопрос, и Зеев опять солгал, а на третий день они с Рут поднялись, и отправились в свой дом в новом поселке, и всю дорогу не сказали друг другу ни единого слова, кроме самых необходимых. Они вошли в дом, и Рут тотчас начала обустраивать свои новые владения, а Зеев ушел в поле. Ночью они вошли в свою новую спальню и обнаружили, что перемена места не означает перемены судьбы.
3
Как мужчина узнаёт, что его жена была с другим? Иногда она сама рассказывает ему об этом, иногда кто-то другой, иногда она смотрит на него с каким-то ранее небывалым пренебрежением, а иногда со страхом, которого раньше не было. Иногда она отстраняется от него, а иногда, наоборот, добивается его близости, прибегая к таким ухищрениям и уловкам, которых стеснялась или избегала раньше.
Если этот мужчина наделен умом и чуткостью, он понимает, что все эти приметы еще ни о чем не говорят — ни о верности, ни о измене, ни о равнодушии, ни о страсти, ни об обычном отсутствии терпения, ни о новообретенной терпеливости, ни о том, что все круто переменилось, ни о том, что все осталось по-прежнему. А если он не одарен умом и чуткостью, он все равно поймет то же самое. Потому что все это приметы ускользающие. И вот на миг поднимают глаза или на миг опускают, то проникают взглядом в самую душу, то понапрасну стучатся в металлические шторки век, а правда все никак не выходит наружу. Правда оседает внутри, и червь подозрения разъедает душу и роет в ней свои тайные ходы.
И так ночь за ночью и день за днем. Некоторые не пытаются ничего выяснять, другие, напротив, проверяют и доискиваются: следят, и ищут, и обнюхивают одежду, и выворачивают карманы, и устраивают перекрестные допросы, и копаются в мусорном ящике, и проверяют постельное белье. Не стоит упоминать телефоны и компьютеры, потому что в те дни они еще не существовали, но и тогда, как сейчас, на помощь подозрениям призывались все наличные резервы: навостренные уши, настороженные глаза, принюхивающиеся ноздри, придирчивая память, услужливая логика и очевидные выводы.
Зеев Тавори, однако, был свободен от всего этого, ибо совершенно не подозревал свою жену — вплоть до той минуты, когда действительность ударила его со всею силой. Сначала он почувствовал, что она ищет его близости больше обычного и старается довести эту близость до конца. Но тогда он еще не понял настоящей причины. Потом он заметил, что у нее появилась новая привычка — подниматься вдруг из-за стола и выходить на улицу, иногда прямо-таки в спешке, и однажды, выйдя следом за ней, он увидел, что она торопится — то ли к коровнику, то ли даже дальше, к винограднику за ним. Подойдя поближе, он понял, что ее рвет там, за виноградными лозами, и хотел было подбежать к ней, спросить, не нужна ли ей помощь, но потом передумал и отступил назад. А спустя еще несколько дней к нему подошла одна из женщин поселка, радостно поздоровалась с ним и поздравила с беременностью жены.
Он был потрясен. Его смутные опасения внезапно получили имя и смысл. Он тотчас взял себя в руки и поблагодарил женщину, но та бросила на него странный взгляд и добавила:
— Твоя жена молода, это ее первая беременность — может, она просто постеснялась тебе рассказать. Но нам, женщинам, не нужны рассказы, мы понимаем то, что видим.
И действительно, хотя фигура Рут еще не раздалась, но ее глаза уже излучали тот свет, который дарует женщине первая беременность. Немногие из мужчин замечают этот свет, но от женских глаз ему не укрыться. И в последующие дни он получил еще много других таких же поздравлений и много других добрых пожеланий. Он не знал, подходили ли эти женщины также и к Рут, что они говорили ей и что она им отвечала, но на сердце у него было тяжело и мрачно, и где-то глубоко под диафрагмой угнездился страх, потому что только она и он знали, что эта беременность не от него. Как долго они смогут еще притворяться? И сколько еще он сможет наблюдать, как ее живот распухает на его глазах? Как растет это чужое семя, проникшее в ее чрево и в его дом, этот чужой зародыш, и как он добавляет себе клетку за клеткой и приумножает их число, тем самым сообщая о своем существовании посторонним?
Рут не сказала ему ни слова, а он боялся ее расспрашивать. Какое-то время он даже обдумывал возможность притвориться, будто он действительно отец этого ребенка, и принимал все поздравления молча, с какой-то угрюмой и мрачной улыбкой. Люди относили эту его угрюмость за счет того, что не все мужчины быстро осваиваются с мыслью об отцовстве и у некоторых вызывает смущение даже вторая и третья беременность жены, а он на самом деле боялся, что правда откроется, и из этого же опасения не делился ни с кем своими мучениями, только вглядывался в каждого мужчину в поселке в надежде найти ответ в прямом или опущенном взгляде, в усмешке или в испуге. И ему уже представлялась в воображении чья-то шея, стиснутая его руками, и подбородок, сломанный ударом его кулака, и хрип задыхающихся легких, и треск ломающихся костей.
И ее он тоже иногда видел в своем воображении такой — задыхающейся, хрипящей, похороненной заживо, побитой камнями, как в старину побивали распутниц. А порой его воображение рисовало ему какого-то могучего самца, склонившегося над ней, его член, движущийся и пульсирующий внутри ее влагалища, извержение его семени в отверстие матки и маленького выблядка, растущего там и плавающего в ее жидкости. Что же ему делать, когда наступит время родов? А после них? Но сколько бы он ни вглядывался в эту страшную даль, его глаза видели только непроницаемую завесу, за которой не было ничего.
Прошло несколько недель, и Рут уже поняла, что ее зародыш — женского пола. Что еще одна матка, маленькая и чистая, растет внутри ее матки, вероломной и похотливой, — такой она себе казалась. Если бы она могла умертвить этот зародыш силой своей мысли, она бы тотчас сделала это. Если бы она могла, то вырвала бы его из себя собственными ногтями и разорвала на куски, но, увы, — не во всем душа властвует над телом. Маленький зародыш рос в ней — медленно и неостановимо, с уверенностью и спокойствием ребенка, который еще ничего не знает о своей матери. Маленькая дочка. Малютка. Девочка.
Она не успела еще обзавестись близкими подругами в новом поселке и потому не могла ни с кем поделиться своим смятением и страхом, а писать матери боялась, ибо в любом поселении есть глаза, способные прочесть чужое письмо даже сквозь заклеенный конверт. А что до Зеева, то он и раньше никогда не был склонен к откровенным разговорам по душам. И хотя он не переставал искать в глазах родственников и соседей искру насмешки или хотя бы подозрения, не находил их там. Однако у правды есть свои пути обнаружить себя, и, когда живот его жены начал выделяться под одеждой, ему уже начали улыбаться и мужчины, торопясь поздравить его с беременностью жены, тем более что беременность эта была первой в новом поселке. И Зеев отвечал им, коротко кивая и улыбаясь все той же угрюмой, мрачной улыбкой.
Его отец, приехавший навестить сына, сказал:
— Ну вот, я знал, что все будет в порядке, — и затем, словно не в силах сдержать свою радость, сжал кулаки и добавил: — Вот что такое мужчина по-нашему: руки — железо, лоб — базальт, а шванц — тверже всякой меди.
Но Рут, знавшая своего мужа, поняла, что предстоит случиться чему-то ужасному. В отличие от Зеева, который не замечал ее беременность до поздравлений соседок, она сразу же поняла, что вынашивает в себе ее муж: неудержимый гнев и мысли о мести, которые зародились и разбухают в плаценте его ярости, питаясь из темных артерий его души, прикрепленные к ней своей пуповиной. И она знала, что его страшные роды опередят рождение того зародыша, который зреет в ее чреве.
Глава двадцать седьмая
— Каждый раз, когда Эйтан приходил к Довику, он приходил один, ни разу не приводил своих подружек, и всякий раз спрашивал меня, что слышно, и старался завязать разговор. А когда я пошла в армию — я отказалась идти в их часть, хотя у них принято, что парни приводят своих сестер, — и стала приходить домой в солдатской форме, он вдруг начал смотреть на меня другими глазами, как будто я не просто младшая сестра его друга, а человек, который представляет интерес сам по себе. Особенно когда я приходила в такой форме, которая была мала мне по росту и велика в ширину, но очень мне шла. «Она вызывала желание потрогать, — сказал он мне годы спустя. — Проверить, есть ли ты там вообще».
Мы начали подолгу беседовать, и задолго до того, как сблизились совсем, уже вовсю обменивались остротами и переглядывались, когда Довик и Далия не понимали, чему мы смеемся. И уже сделали маленькие открытия, вроде того, что нам нравятся одни и те же фильмы и одна и та же еда. Не книги, кстати, — по той простой причине, что Эйтан не читал книг. И я уже заметила, что единственный глаз дедушки Зеева смотрит на нас таким взглядом, которым он не смотрел ни на кого другого, и поняла, что не только Довик, но и дедушка заинтересован в этом ухаживании и хочет, чтобы Эйтан остался в семье.
Вот и все. Каждая такая встреча добавляла новую грань, и желание, и повод, и так возникла любовь. Это произошло не так быстро, как я вам сейчас рассказываю, но, когда это случилось, мы поняли, что любим друг друга уже давно. Когда я говорю «давно», это означает, что к тому времени я уже успела отслужить в армии, и поступить в университет, и получить учительский диплом.
— Да, срок действительно большой.
— Вы правы, Варда. Но какое это имеет значение? У всего свой срок. Мы поняли. Мы полюбили. А вдобавок я в конце концов забеременела, и вот тогда мы поженились. Я надеюсь, что вас это не шокирует? Эйтан присоединился к рассаднику семьи Тавори, и у нас родился Нета — детское подобие своего отца на земле. Наша школьная методистка, правда, говорит не «детское», а «инфантильное», но я предпочитаю «детское», как говорили раньше, а «инфантильное» я оставляю дамам, которые прибавляют себе фамилии всех своих мужей, а вместо здравого смысла у них так называемый «эмоциональный интеллект». У меня, кстати, его нет. Ни грамма эмоционального интеллекта! Тонны эмоций есть, интеллект тоже есть, но, как ни жаль, они у меня не смешиваются.
Я помню: первый раз это у нас произошло хорошо и красиво. И это важно, потому что не у всех это так. Иногда это происходит так неуклюже и натужно, что просто страшно становится. Ко мне то и дело приходят мои ученицы — рассказать, что с ними это было, и как оно было, и что они при этом почувствовали, и просят сказать, правильно они почувствовали или нет и будет ли в следующий раз лучше. Как будто я какой-то спец в этих делах! Они сидят со мной тут, под нашей шелковицей, и просят совета: и что насчет того, и что насчет этой, и что, если узнают, с кем, и что, если скажут как. Боже, какой жалкой я могу быть! Учительница Рута, такая свойская, такая безудержная, такая сильная, которая оправилась от своей беды, которая улыбается, которая смело смотрит вперед! Рута-шармута[104], которая уже годы не спала с собственным мужем, но ничего — для своих учениц у нее сколько угодно советов: и как важно, чтобы в первый раз это было по любви, и как вообще важно, чтобы это было по любви, и как узнать, что это любовь, и в каком возрасте можно начинать. Бла-бла-бла…
Кстати, двое из моих мальчиков тоже приходили ко мне с такими вопросами, и было время, когда я надеялась, что и Офер как-нибудь придет ко мне с этим, — ну, Офер, тот мой бывший ученик, который чуть не утонул в Кинерете, а потом фотографировал весь поселок, — и я скажу ему: «Замечательно, Офер, расскажи, как это было, но не говори с кем, чтобы я не вышла из леса и не растерзала ту, которая первой была с тобой».
Ну, не важно. Наш с Эйтаном первый раз случился, когда я была на втором курсе университета и приехала домой на каникулы. Эйтан в тот день приехал навестить Довика и Далию. Он привез рыбу и жарил ее на углях, а Далия, она хорошо варит, приготовила нам замечательный рис в своей специальной «рисовой» кастрюле и свой прекрасный салат из помидоров, чеснока и острого перца, а также картошку для Довика, потому что для Довика обед, в который не вбухан килограмм картошки, — вообще не обед. Мы пили белое вино с газированной водой, «волчье шампанское», как называет его Довик в честь нашего «волка», дедушки Зеева, у которого это любимый напиток, а после обеда все разошлись вздремнуть: дедушка под своей шелковицей, с большим вентилятором на длинном проводе, Довик и Далия — под кондиционером в их спальне, а Эйтан — в моем гамаке, покачиваясь с закрытыми глазами.
Я подошла к нему, чтобы выяснить, что означает этот наглый захват моей собственности.
— Эйтан, — сказала я.
Он не ответил.
— Эйтан, — сказала я, — это мой гамак. Я две недели не была дома, и я хочу отдыхать в своем гамаке.
Он не ответил, и тогда я схватилась двумя руками за край гамака и с силой подняла одну сторону.
Эйтан перевернулся, упал на землю, но успел удержаться на руках и тут же вскочил.
— Видишь, — сказал он, — я сразу освободил тебе место. Просто нужно было хорошо попросить.
Я легла в гамак, а он зашел в дом на несколько минут, вернулся, подтянул себе стул, уселся рядом и стал качать меня, мягко и приятно.
— У тебя есть планы?
— Изучать искусство в Италии.
— Нет, на сейчас?
— Вздремнуть в моем гамаке, и чтобы мне не мешали.
— Хочешь поехать ненадолго?
— В пещеру Альтамира в Испании, посмотреть наскальные рисунки первобытных людей.
— Не на медовый месяц, Рута. На сейчас?
— Если ты привяжешь гамак над кузовом пикапа и будешь ехать медленно-медленно, чтобы я не упала, тогда да. На такую короткую экскурсию я готова и сейчас.
— Хочешь съездить на пруд Довика?
— У тебя есть плавки?
— Уже на мне.
— И ты возьмешь нам что-нибудь повкуснее на потом?
— Уже в сумке.
— А если бы я отказалась?
— Я бы поехал один, и ел один, и плавал бы голышом.
Вот так. И мы поехали. По пути мы разговаривали, и у меня было приятное чувство, потому что воздух между нами двигался туда-сюда в ритме наших слов, и фраз, и взглядов. Мы были на том опасном этапе, когда, если не сделать какой-то шаг, можно навсегда остаться друзьями и обречь себя на судьбу друзей: вечное вожделение. Не выпить и не быть выпитым. Не съесть и не быть съеденным. Не наесться и не напиться вволю. Позже я записала себе на бумажке: «Мы оба Танталы, мы оба себе — и прозрачная вода внизу, и вожделенный плод наверху».
Приехали к пруду. Растянулись на берегу, Эйтан в своих плавках, я в лифчике от бикини и в коротких шатнишках, у меня уже тогда была такая мода. Эйтан рассказал мне, как они с Довиком встретились здесь впервые, и я была удивлена. Обычно все, что превращается в историю, имеет несколько версий, но история, которую рассказал мне Эйтан, была абсолютно идентична тому, что рассказал мне об этой встрече Довик. Потом мы пошли плавать. На середине пруда я улыбнулась ему и сказала: «Посмотрим, удастся ли мне донырнуть до дна», — и исчезла.
Я нырнула до дна, спряталась там за большим камнем и уселась так, как я умею, — на все мои четыре минуты. Через тридцать секунд он начал беспокоиться. Нырял, поднимался, искал, звал меня. Я видела его силуэт, видела, как он плавает и ищет, слышала, как его ноги колотятся в воде, испуганные и встревоженные. До меня донесся его голос: «Рута! Рута! Где ты?» Он снова нырнул, проплыл совсем близко, но меня не увидел. Каждые несколько секунд я выпускала изо рта немного воздушных пузырьков, чтобы они не поднимались сразу большой гроздью и не выдали меня.
Желание наполняло мое тело и делало со мной все, что оно умеет делать. Даже в воде я ощущала, что мое лоно горит. Даже в воде я была совсем мокрой. Помните, я рассказывала вам, что плачу под водой и не чувствую влажности своих слез? Но эту влагу я как раз очень хорошо ощущала. «Я вся светилась», — рассказывала я ему много времени спустя, когда он спросил, не скучала ли я там, на дне, — все-таки целых четыре минуты?! Я трогала себя и чувствовала слезы радости, и любви, и желания. Вот и все. А потом у меня кончился воздух и надо было возвращаться.
Я медленно выплыла наверх. Тело неподвижно, руки раскинуты. Эйтан бросился ко мне и начал тащить меня к берегу. Я обняла его и засмеялась:
— Эйтан, ты любишь меня!
— Какое, к черту, люблю?! Я просто беспокоился. Ты сестра моего друга. Что я ему скажу, если с тобой что-то случится?
— Никакой «сестры моего друга», — передразнила я его. — Ты просто меня любишь. И тебе разрешается в этом признаться.
Я приблизила свое лицо к его лицу, и мы поцеловались. Такой быстрый, но мягкий клевок. Губы закрыты, но решительны и прижаты. Как будто скрепляют документ о владении.
Его рука соскользнула на мое левое бедро и нежно помяла его под водой.
— Так приятно касаться тебя, — сказал он.
— Это потому, что я растолстела в армии. Стала мягкой. Я должна похудеть.
И я положила свою правую руку с расставленными пальцами ему на грудь.
— Ты совсем не должна худеть.
— Может быть, это потому, что я высокая и этого не видно, но мне нужно сбросить три кило.
Мы вышли на берег. Эйтан расстелил одеяло на грубой траве.
— Сейчас это будет наш первый раз, — сказал он, — и я не хочу, чтобы это сопровождалось уколами и укусами.
Он разделся привычными супружескими движениями — как человек, который уже не раз раздевался перед своей женой, — и так, нагишом, лег на бок.
Я тоже разделась, легла возле него, и мы уставились друг на друга вблизи. Все вдруг стало ясно.
Он сказал:
— Рута.
— Что?
— Я хочу сказать тебе что-то.
И приблизил свое лицо так, что мое лицо ощутило тепло, идущее от его золотистой кожи.
— Скажи, — сказала я.
— Это что-то очень важное.
— Я слушаю.
— Эти три кило, от которых ты намерена все равно избавиться…
— Да?
— Ты бы не могла дать их мне?
Я не сразу поняла. Я смотрела на него, и он смотрел на меня. Его лицо было серьезным и сосредоточенным. Потом я прыснула со смеху.
— Я так люблю, когда ты смеешься от моих слов, — сказал он. — От твоего смеха мне делается хорошо во всем теле.
— Мне тоже, — сказала я. — Во всем теле. И не только в моем теле. Мне приятно и в твоем теле. Я чувствую.
— Так что ты скажешь?
— Насчет трех кило или насчет смеха?
— О семидесяти кило, которые останутся.
— Они тоже твои.
— Когда?
— Сейчас, хорошо?
— Это очень хорошо.
Он снова погладил мое бедро и сказал:
— Запомни, что мы начали здесь, с твоего бедра. И что слово «бедро» было первым в нашем общем словаре.
Мы обнялись с открытыми глазами и поцеловались с открытыми глазами, и это был наш первый раз, на берегу пруда — светлого, спокойного, молчаливого, «который отражает все и в котором отражается все», так я записала потом для памяти. Точнее, процитировала. Конечно же из Бялика[105]. При всей моей любви к стихам Альтермана я не могу не признать, что, когда Бялик хорош, он лучше всех. Я писала: «С глазами, которые ни разу не моргнули, чтобы все время видеть лицо любимого. С переполненным сердцем. С сознанием правильности происходящего — голода, который нужно насытить, и жажды, которую нужно утолить. Со всей торжественностью первого раза и надеждой на следующие разы, и со странным и приятным пониманием, очень подлинным, хотя и неверным, что ты первый раз с мужчиной, с которым уже была многие предыдущие разы».
Глава двадцать восьмая
— Если не ошибаюсь, Варда, я вам уже рассказывала, что Эйтан ждал, пока мне исполнится сорок, и много раз об этом говорил. Так вот, настал день, когда это произошло. Я помню: я проснулась рано, женщина сорока лет, доброе мне утро, я одна в постели. Я подождала немного. Ничего нового. Тогда я оделась, спустилась в питомник и предстала перед своим супругом.
— Эйтан, — сказала я, — мне исполнилось сорок лет. Поздравляю!
Он не отреагировал. Продолжал свое — тащить, переносить, работать. Делал то, что велел ему делать дедушка Зеев. Есть ситуации и есть мужчины, которые нуждаются в тяжелой физической работе, а не в психотерапевте.
— Эйтан, — позвала я. — Это я. Такая, какой ты всегда хотел меня видеть. Мне ровно сорок лет. Именно сегодня.
Он не ответил и не посмотрел на меня, и я не удивилась. Я много раз приходила известить его о чем-то, и он не реагировал.
— Разве тебе не жалко? — Я встала перед ним, перегораживая ему дорогу. — Не жалко, что мне сорок лет, а ты уже больше не с нами?
Он не сказал ни слова. Положил тяжелый мешок, который нес в руках, и сделал то, что делал в нескольких предыдущих подобных случаях: обнял меня обеими руками и поднял, как перышко. В первое мгновенье это было приятно, а потом у меня остановилось дыхание. Каким сильным сделала его эта проклятая работа! Он мог встать на колени, охватить руками горшок с деревом восьми, скажем, лет, подняться с ним в руках и отнести в другое место. Вы себе представляете, сколько весит такой саженец? А там ведь еще нужно снова встать на колени, медленно-медленно, чтобы этот саженец не повредить, и спокойно поставить на землю, и потом снова подняться, и вернуться, и принести еще один. Каждый раз, когда приезжал грузовик с саженцами, он вот так, в одиночку, разгружал его и расставлял весь товар на складах или на выставочной площадке.
У нас здесь есть, кстати, старые железнодорожные шпалы, мы их используем для дорожек и ступенек, и их он тоже переносил с того места, где они лежали, туда, куда указывал дедушка Зеев, а потом обратно, порой уже на следующий день. Я видела однажды, как он шея с такой шпалой на плече — ее конец тащился за ним, оставляя борозду в земле. Вы наверняка понимаете, какие мысли вызывает такая картина…[106]
Вначале я еще кричала на него, свирепела, плакала: «Посмотри на себя, Эйтан. Посмотри, как ты выглядишь. Принюхайся к себе. Ты весь провонял навозом и поташем». А однажды я встала у него на пути: «Может быть, хватит, Эйтан? Может быть, хватит надрываться на этой работе?» И вдруг, даже без обычной своей саморежиссуры, начала кричать: «Хватит! Помойся, наконец! Смени одежду! На тебя невозможно смотреть. Не смей себя так запускать!» И тогда тоже — он встал на колени, положил то, что нес, обнял и поднял меня и переставил в сторону, как переставляют куклу во время игры. От этого становилось страшно. Вы видите, я крупная женщина, не легкая во всех отношениях. Он поставил меня сбоку и вернулся к своей работе.
И с Довиком он однажды поступил таким же манером. Довик — он друг, он шурин, и он мужчина, и вдобавок ко всем этим недостаткам он еще и не самый умный человек на свете. Так вот, он однажды набросился на Эйтана и буквально тряс его с криком: «Довольно, Эйтан! Даже если он велел тебе делать это, то хватит уже! Сколько времени ты будешь так наказывать себя и нас?» Так он и Довика обнял, и поднял, и отнес в сторону, но, судя по цвету Довикова лица, его Эйтан прижал сильнее, чем меня, и, когда он его отпустил, Довик просто упал и долго кашлял, отплевывался и охал.
— Ты в порядке? — спросила я.
— Какой там порядок? — простонал он. — Я не мог вдохнуть. Он стал такой сильный, что может кого-нибудь задушить до смерти.
Потом я все-таки нашла способ: я брала в рассаднике шланг для поливки и просто обливала его водой, и тогда у него уже не было выбора — он менял одежду и по этому торжественному поводу немного споласкивался. Но от него ужасно несло сигаретами, которые он снова начал курить после похорон. Эта беда наделила нас обоих дурными привычками. Он вернулся к курению, а я начала выпивать, чтобы алкоголь помог мне уснуть и прогнал от меня сновидения. Когда-то, до беды, Эйтан приходил в нашу кровать, как Руфь приходила к Воозу, — праздничный, и пахучий, и чистый, проделав все эти «умылась, и смазалась, и надела на себя нарядные одежды, и пришла, и легла»[107], — достаточно гендерно для вас, Варда? — золотая кожа была у него тогда, кожа, которая светилась в темноте, и мы были вместе, а потом засыпали вместе. А вот сейчас я каждый вечер не засыпаю без выпивки и, кажется, немного даже привыкла.
— Вы начали рассказывать о своем сороковом дне рождения, Рута…
— Да. Спасибо за напоминание. Я сообщила ему, что мне исполнилось сорок, он сдвинул меня со своей дороги и поставил сбоку. И все. Так он отпраздновал мой день рождения, которого так ждал…
— И что произошло потом?
— Я вернулась в дом, и тут мне позвонила учительница из школы. Я думала, что она хочет попросить, чтобы я подменила ее в каком-нибудь деле, но нет — она и несколько подруг, сказала она, решили вытащить меня куда-нибудь в честь моего дня рождения. Понимаете?! «Давайте вытащим бедняжку Руту, она уже столько лет без своего мальчика, и с Эйтаном в этом его состоянии, а сегодня у нее к тому же круглая дата, она разменяла очередную свою десятку, так давайте порадуем ее немножко…»
Я сказала спасибо, пошла на работу, вернулась, немного выпила, немного поела — вечером меня ждет еда, — немного вздремнула, проснулась, помылась, оделась и пошла в подругами в ресторан.
Еда была очень хорошей. От женщин я получила куда меньше удовольствия. Я, кажется, уже говорила вам, что у меня никогда не было настоящей задушевной дружбы — ни исповедальных отношений, ни женского плеча, на котором поплакать. Может, это потому, что я не только женщина, но и немного мужчина, а может, потому, что я, как истинный член семьи Тавори, не обо всем рассказываю, и не все законы и коды поведения мне ясны, и уж точно — законы и коды поведения в женской среде. Но это не мешает мне проводить время с женщинами, и со времени нашей беды это происходит в основном в ресторанах. С одной стороны, это вполне солидно, потому что ведь и осиротевшие матери должны время от времени кушать, а с другой стороны — это кайф, потому что я действительно получаю удовольствие от хорошей еды. Я праздную. Я наслаждаюсь, как тридцать свиней. Это сравнение, кстати, тоже принадлежит моему первому супругу. «Как тридцать свиней» обозначало у нас максимальное удовольствие, какое только может быть. Эйтан спрашивал — и не только о еде, о самых разных вещах: «Ну, Рута, как сколько свиней ты сегодня получила удовольствие?» — и я отвечала. Иногда — как десять, иногда — как двенадцать, даже как двадцать семь. Чтобы получить удовольствие, совсем не обязательно лакомиться икрой из хрустальной чашки, поданной на серебряной тарелке. Иногда достаточно красивого пейзажа или хорошего фильма — например, «Простой истории» Дэвида Линча или «Амаркорда» Федерико Феллини. Быть одним телом: Эйтан во мне, я в нем. Иногда просто картофельного пюре, как только я умею готовить. Но мне не для кого было готовить, поэтому я ела себе с удовольствием одна и без всяких мыслей типа: «Стыдись, Рута! Эйтан и Нета умерли, а ты тут пьешь и жрешь, учительница-воительница ты этакая, буйная и непокорная»[108].
На самом-то деле я вовсе не обжора, я как раз люблю маленькие порции, и еще я люблю читать кулинарные рецепты и ресторанную критику. Иногда я даже вырезаю из газеты, в основном из статей доктора Эли Ландау[109] — господи, какие рецепты есть у этого доктора! Если он так лечит, как готовит, я готова немедленно заболеть.
Ну вот, мы пошли, и ели, и разговаривали, и шутили, как мы умеем шутить, и сквернословили, как мы умеем сквернословить, и ни одна не жаловалась на свои болячки, и не выкладывала на стол весь мешок своих неприятностей, и не сравнивала свои беды с чужими, потому что идея была в том, чтобы порадовать меня, а не показать, что и другие тоже страдают. Я получила также несколько симпатичных подарков, но что касается удовольствия, то удовольствие я получила, как девять свиней, самое большее. В течение всего вечера меня не покидало это щемящее чувство в сердце. «Щемящее» — это еще мягко сказано: мое сердце было сжато в кулак, моя диафрагма обвилась вокруг него.
Это ощущение возникло еще до того, как они пришли за мной, потому что, когда я одевалась и собиралась, я через окно снова увидела Эйтана. Во дворе уже начало темнеть, и я в доме просто начала плакать. Я вспомнила, как он придумал лозунг: «Скорей сороковей!» — именно об этом дне, с этим словом «сороковей», которое изобрел он, а должна была изобрести я, — и продолжала реветь.
Извините меня на минутку. Мне и сейчас нужно передохнуть. Немного подышать, пройтись. Нет, нет, не пугайтесь, это сейчас пройдет. Я женщина большая и сильная, я внучка дедушки Зеева, и я — это самое лучшее, что со мной произошло. Если бы я была другой женщиной в том же положении, было бы очень плохо. Но иногда я — со всем своим ростом и своими генами — на самом деле такая маленькая… Ведь это все — пустота. Всего лишь скорлупа и только. Я, как те плоды пассифлоры, в которых мы в детстве делали дырку, высасывали и выбрасывали. Смешно, я так давно не ела их таким манером. Сегодня их разрезают и подают с ложечкой, да еще с мороженым. Ну, не важно. Я увидела Эйтана и решила дать моим сороковинам еще один шанс. Я вытерла лицо, открыла окно и позвала его.
Он не ответил. И не повернул ко мне головы.
— Эйтан, посмотри на меня. Мне сорок лет. Как ты всегда хотел. Давай ляжем в постель, вместе, зэ ту оф ас голые в кровати.
Он не ответил. Окно в кухне Довика и Далии, открывшееся было на миг, снова захлопнулось со стуком. Послышался гудок машины. Подруга приехала забрать меня и сообщала, что она возле дома и ждет. Я вытерла свой мейкап. Обычно я не накладываю макияж, а если накладываю, то очень слабо, но и то немногое, что я положила, стерлось от слез. Я торопливо перекрасилась снова и вышла на улицу.
Когда я вернулась, очень поздно, немного пьяная от излишка джина с тоником и довольно вонючая от сигарет, которые не я курила, он уже лежал на кровати в бывшей комнате Неты, замаскированный по всем правилам своей маскировочной библии: не двигаясь, потому что глаз улавливает движение, и слившись с окружением — белизна простыни маскирует белизну тела.
Я разделась, легла возле него и прижалась к нему.
— Поздравляю, Эйтан, мне сорок лет, — сказала я ему кто знает в который раз за этот день.
Он открыл глаза. Я положила руку ему на живот и сказала:
— Мы много времени ждали этого дня, разве нет?
И подумала: а что сейчас? Оставить руку на простыне или подложить под него? И куда продолжить оттуда? Вверх и расставить пальцы? Вниз и охватить? Вправо и помять ему левое бедро? Влево и помять ему правое бедро? Я вернула руку и просто влезла на него, легла на него вся целиком, обняла его, спрятала голову в его шею, прижала к его телу свой лонный бугорок, мой слишком пухлый холмик, от которого мой первый супруг сходил с ума и из-за которого я плаваю не в купальнике, а в коротких штанишках, — и вдруг — о чудо: я почувствовала, что он отвечает мне объятием. На миг у меня перехватило дыхание, но я сразу поняла, что это не от радости и не от любви, а просто из-за того, что я легла на него всей своей тяжестью, и тогда он снова сделал то единственное, что умел делать: сел на кровати, поднялся, обхватил меня, отнес в другую комнату, которая когда-то была нашей, и положил в кровать, в которой мы когда-то спали вдвоем, а потом вернулся в кровать, которая была кроватью Неты, а теперь стала его.
Я прокашлялась, дождалась, пока ко мне вернулась способность дышать, встала. Улыбнулась себе, «ибо семь раз упаду и встану»[110], и, несмотря на уровень джина с тоником, подошла к морозилке и налила себе добрую порцию лимончелло производства моего брата Довика. Я выпила спокойно и с удовольствием, а потом встала и посмотрела в зеркале на пьяную женщину в нем. Ибо если не я с Эйтаном, то хотя бы мы с ней тут голые и вдвоем — обе высокие и худые, плечи широкие и костлявые, ключицы торчащие и сильные, слишком сильные, я бы добавила, и глаза расставлены слишком широко. Мы вдвоем, зэ ту оф ас голые и пьяные, но не в кровати. В промежутке между ее маленькими грудями можно видеть выступы ребер, совсем как у меня. Ступни ее ног большие, как у мужчины, бедра длинные, и в месте их встречи — тот выпуклый промежуток, который есть только у выдающихся особ — у нее и у меня. И у нас у обеих одинаково мускулистые икры и — неожиданность! — круглые, даже слегка полноватые, как у ребенка, коленки. К счастью, я не унаследовала ноги и сиси моей матери. Ноги я унаследовала от бабушки Рут, а сиси — у дедушки Зеева, и я очень этим довольна. Все мои удостоенные грудями подруги, которые всегда смеялись над моими девичьими бутонами, поняли наконец, что Ньютон был прав: сила притяжения есть, и она очень большая. «Первыми падают слишком выросшие», — как сказал поэт. Сегодня у каждой из них ее некогда знаменитое вымя висит до полу, а мои маленькие сиси всё на том же исходном месте: «Сёмка, Шломка — каждому своя котомка», — точно там, где Господь и я помыслили и решили их расположить, чтобы и здесь был порядок. Это, кстати, один из немногих вопросов, в которых Господь и я согласны друг с другом: пусть я буду при последнем издыхании, но мои сиси будут радоваться в небесах.
«Вот и все, Эйтан, — сказали мы ему обе. — Нам сорок лет, а тебя здесь нет. И этим я возвещаю конец нашего праздника».
Глава двадцать девятая
— Что это, Рута?!
— Ничего. Я просто приблизила свое лицо к вашему лицу. Не пугайтесь. Я не кусаюсь и не собираюсь запечатлеть поцелуй на ваших губах. Я просто хочу, чтобы вы посмотрели. У меня совсем мало морщин и всего лишь два седых волоса. Видите? К ним еще не прибавились другие. И это при том, что такая беда, как моя, может сразу сморщить лицо женщины и выбелить все ее пряди.
Как-то раз на родительском собрании одна из мамаш сказала мне, что она и ее дочь говорили об этом по дороге — о том, как хорошо выглядит учительница Рута, несмотря на ее беду и все такое прочее. И я сказала ей: «Спасибо» и «Как это мило с вашей стороны». И заметила, что, возможно, Господь таким манером воздает компенсацию Своим жертвам. А она сказала: «Мы никогда не знаем, чего хочет Всевышний. Я хожу на курсы каббалы, и там мне сказали, что это так, и даже показали в гематрии»[111].
Я вдруг почувствовала себя очень усталой. Тупоумие меня утомляет, а когда я вижу или слышу тупость, я ее сразу опознаю. У меня в классе немало таких, и я уже знаю, что из них выйдет, задолго до того, как они сами это понимают. Но абсолютная Господня справедливость меня тоже утомляет. Очень. Почти также, как люди, которые в нее верят.
Я улыбаюсь, правда? Иногда, если я не приказываю себе улыбнуться, я не улыбаюсь. Или же улыбаюсь, но не ощущаю этого. Это потому, что бывают дни, когда я здесь — просто исполнительница роли. Получила главную роль в пьесе о женщине, которая в один и тот же день потеряла и мужа, и сына, двух своих единственных парней. Но если не считать этого, Варда, у меня не такая плохая жизнь. У меня есть любимая работа, которую я выполняю добросовестно, и есть композиторы, которые пишут для меня песни, чтобы я могла подпевать им вторым голосом, и есть писатели, которые пишут для меня книги, чтобы я могла их читать и редактировать, если надо. И еще я люблю и умею быть одна, а главное — я умею себя занять.
Неудобно сказать, но я иногда получала удовольствие от жизни и после моей беды. Иногда я вдруг слышала, что смеюсь. А случалось, что какой-нибудь мужчина пытался поймать мой взгляд. И не то чтобы из этого что-то получалось, потому что мне нравилась роль этакой Пенелопы, ждущей возвращения супруга из его странствий, а в нашем с Эйтаном случае — из его перетаскиваний. Многое разрушено — но не все. И жизнь на самом-то деле не окончена. Я говорила себе: «Радуйся, Рута, что ты жива. Радуйся, что ты не такая тупица, как эта мамаша с ее каббалой».
Ладно, доктор Варда Канетти, историк поселений вы этакий, мы опять отвлеклись от темы, пора возвращаться. Это метод, которому когда-то научил меня Эйтан, когда мы были молодыми и много гуляли, и он пробовал научить меня, как прокладывать дорогу и что делать в случае ошибки. Прежде всего, говорил он, нужно самому себе признаться в этой ошибке. Это трудно, но это очень важно и совершенно необходимо. Надо признать свою ошибку и не насиловать карту, а тем более — реальность, не воздвигать горы, где их нет, и не сглаживать холмы, где они есть. И тогда, с этим «оптимистическим чувством поражения», так он говорил, надо вернуться к последнему месту, которое ты нашел и на карте, и на местности, и оттуда начать сначала.
Это именно то, что я делаю сейчас, — возвращаюсь к последней ясной точке нашей беседы. Я — Рут Тавори. Все называют меня Рута. Я внучка Зеева Тавори, земля ему пухом, который вырастил меня и моего старшего брата по имени Довик. Я жена Эйтана Тавори, который исчез из моей жизни на целых двенадцать лет, но все-таки вернулся назад, и я мать Неты Тавори, который умер от укуса змеи, когда ему было чуть больше шести лет. И еще я преподавательница Танаха и воспитательница выпускного класса в этой мошаве. Интересно, кстати, как мы себя определяем, правда? Через семью и работу, а не через душевные склонности, желания, разочарования или внутреннюю сущность. А что до меня, то кроме того, что я внучка такого-то, и мать такого-то, и преподавательница того-то, и воспитательница тех-то, я еще люблю и умею петь, а если нужно, могу нырнуть и задержать дыхание на четыре минуты. Вот и все. Мы вернулись немного назад, чтобы я подытожила себя. Сейчас вы знаете все.
Кстати, о песнях. Я вовсе не имела в виду так называемое коллективное пение. Это я оставляю своим соседям — Хаиму Маслине и его жене Мири, а также нашей Далии. Я имею в виду настоящее пение. Раньше, до нашей беды, я пела в районном хоре, и мы выступали во многих местах, один раз пели даже на фестивале в Абу-Гош. Но с певцами в хоре, да будет вам известно, случается, что у них иногда текут слезы, а у меня, со времени беды, были такие места в песнях, что перехватывало дыхание, и после того, как это случилось со мной дважды, причем как раз тогда, когда я получила соло — «из жалости», как процедил кто-то сквозь зубы, — когда это случилось, я перестала выступать, а потом и приходить на репетиции.
И так было не только с хором. Много чего исчезло или сошло на нет: друзья, развлечения, любовь, сладкий сон после нее, долгий и глубокий. Я была ласкающей-ласкаемой, любящей-любимой, усыпляющей-усыпляемой, и все это одной блаженной непрерывной чередой. Мы были царями сна, Эйтан и я, мы засыпали соединенными, но не как ложечки, а как ветряные мельницы. Ну, не важно. Несколько лет назад одна из тех подруг, которые пытались помочь мне, включила меня в экскурсионную группу, в которой состояла сама: постоянный экскурсовод, история, природа, археология, культура. В основном в нашей стране, но иногда и в соседних — Египет, Иордания, Турция. Самой дальней точкой, куда мы добрались, была Италия. Это была приятная группа, большинство из окрестных мест, но один раз кто-то привел с собой подругу из Кфар-Сабы, и я узнала, что эта новенькая — тоже осиротевшая мать, но, в отличие от меня, просто матери, у которой умер просто сын, она была матерью солдата, то есть той, кто здесь у нас, на Святой земле, считается настоящей осиротевшей матерью, осиротевшей в полном смысле этого слова. С днем поминовения, и с сиреной напоминания, и с минутой молчания, и так далее и так далее.
По правде говоря, она-то сама вела себя вполне прилично. Не расписывала свою потерю, как это делают иногда родители погибших солдат, для которых слово «осиротевший» — не только состояние души, но также своего рода звание и даже профессия. Но вот та женщина, которая привела ее, — та не переставала капать о ней в каждое возможное ухо, полагая, видимо, что таким манером что-то из этого величия и достоинства перепадет и ей самой. И очевидно, потрудилась рассказать и ей о моем несчастье — может, мы захотим познакомиться и поговорить, и тогда она сможет рассказать другим своим подругам, как она помогла нам двоим сразу.
Поймите меня правильно. Поначалу я и сама хотела с ней поговорить. Верно, такое несчастье каждый переживает по-разному, даже у двух родителей это может быть по-разному — посмотрите на меня и на Эйтана, что случилось с ним и что со мной. Но ребенок это ребенок, не важно, в каком возрасте он погиб, а мать это мать, верно? Так вот, это не так. Мы начали говорить, и уже через пару минут я поняла: даже если она действительно приличный человек — и поверьте, у меня не было и нет к ней никаких претензий, — в этой стране, когда дело доходит до нас двоих и до наших детей, она — главнее меня, она «Главная Осиротевшая». И даже если она сама ведет себя хорошо — вежливо, отзывчиво, «эмпатично», как нынче говорят, — все равно: она смотрит на меня сверху вниз. И что еще хуже — я тоже подчиняюсь этим законам. Я вдруг почувствовала, что я и сама смотрю на нее снизу вверх, — явление для меня очень редкое, как по причине роста, так и по складу души. Тогда я решила, что с меня хватит. Не для меня эта торжественная важность кладбища: «что налево, что направо, всюду здесь герой и слава»[112], — и не для меня эта несчастная женщина, что каждый год слушает о «величии юности и жажде мужества»[113] своего сына. И знаете, что мне было во всем этом всего мучительней? Что вдобавок ко всей славе у нее было также кого винить в гибели своего сына — от командира взвода до главы правительства. А я — мне некого обвинять, кроме Эйтана и самой себя. Я даже к Богу перестала предъявлять претензии, потому что сомневаюсь, что Его уши, настроенные на частоту шофаров[114] и молитв, услышат частоту моего голоса.
Короче, я отказалась от участия в этих экскурсиях, которые и без того мне изрядно надоели, — душный автобус, и все поют одни и те же песни, и рассказывают одни и те же истории, и всегда находится какой-нибудь идиот, который завладевает микрофоном экскурсовода и начинает травить анекдоты. И это постоянное ощущение наблюдающих и испытующих взглядов и необходимость постоянно быть начеку. А кроме того, я вдруг почувствовала, что независимо от того, куда мы едем, я все время тоскую по дому и хочу вернуться. И тоска-то эта — самая что ни на есть дурацкая, этакое неясное чувство, когда тоскуют, не зная, по кому, и по чему, и отчего именно. А у меня на эту тоску налагалось еще и беспокойство, что во время моего отсутствия дома случится что-нибудь страшное у Эйтана, или из-за Эйтана, или с самим Эйтаном. Ведь и во время нашей беды меня тоже не было с ними, они были там только вдвоем.
— Извините, что я вас перебиваю, Рута, но что значит «уснуть сложенными, как ветряные мельницы»?
— Бедняжечка вы моя, вы только об этом и думаете все это время?! Я тут выворачиваю наизнанку свое нутро, обливаюсь перед вами кровью, а вы, оказывается, меня совсем не слушаете и об истории поселенчества тоже забыли, потому что как «спать сложенными, как ложечки», вы понимаете, а теперь вы пробуете представить себе, что значит «спать сложенными, как ветряные мельницы», чтобы вечером прийти домой и сказать своему Иоси или как его там зовут, вашего счастливого мужа — простите, вашего счастливого партнера, выражаясь по-гендерному… он не Иоси?.. хм, я почему-то думала, что у женщин по имени Варда большинство мужей называются именно Иоси… ну, не важно, — сказать ему: «Слушай, какую штуку я сегодня узнала симпатичную! Оказывается, уснуть сложенными, как ветряная мельница, означает, что тот, кто был вверху, остается на том, кто снизу, но их тела слегка повернуты этак по диагонали, как буква X, и все четыре руки и четыре ноги раскинуты, и тот, кто смотрит на нас сверху — как правило, Господь, — говорит себе: „Какая красивая ветряная мельница получилась, почему бы ее не покрутить? Приди, дух, и дохни, дохни на эти сухие крылья, чтобы немного полетали“»[115].
Глава тридцатая Прогулка с козой
1
За час до убийства вдоль низкого хребта, что разделял два соседних вади, летела большая сойка. Она летела с запада на восток, летела и громко кричала.
Крики разного рода — это не только язык соек, он сама их сущность, и эта сойка кричала, не переставая, чтобы известить весь мир о том, что в тех двух вади, где лишь изредка можно увидеть людей, она видит сразу несколько человек, а самих идущих по вади людей известить о том, что они обнаружены, что мужественная и бдительная сойка увидела их, что она их не боится и наблюдает за ними с высоты своего полета.
В том вади, что тянулось с запада на восток чуть южнее, сойка видела трех мужчин, которые медленно шли друг за другом. Первым шел молодой, высокий, плотного сложения парень в короткой кожаной куртке. Его подошвы то и дело оскальзывались на камнях, и тогда с его губ срывалось громкое проклятье. Замыкал группу толстый, низкорослый человек лет пятидесяти: на носу очки, на голове светлая шляпа, за спиной рюкзак. А между ними шел высокий, худощавый мужчина, рот которого был заклеен широкой липкой лентой. Колени мужчины подгибались, и капли пота срывались с носа от напряжения, потому что на плечах у него лежало туловище мертвой козы. Сойка снизилась немного, чтобы убедиться в том, что она не ошиблась.
Трое идущих поднялись по склону вади, миновали его крутой изгиб и подошли к росшему за ним большому харуву. То было на редкость большое дерево, из тех диких деревьев, которым повезло, — им не пришлось расти на скудном, тонком слое почвы, подостланном одним лишь камнем, да сушью, да голодом. Толстый, сытный слой земли достался этому дереву, и оно вросло в него всеми своими корнями. Кто-то или что-то — то ли руки пастухов, то ли челюсти телят — когда-то уже поработали здесь, лишив этот харув нижних ветвей и сделав его похожим скорей на зонт, чем на ту гигантскую беседку или шатер, какими большие харувы обычно любят издали казаться. Теперь под ним можно было стоять во весь рост, и его густая листва защищала от осенних дождей и дарила прохладную тень в летние хамсины. Под ним и вокруг него лежали большие валуны, похожие на окаменевшие тела древних быков, медленно жующих известняки и века, а небольшие кучки пепла, окурки былых сигарет, копоть на камне, эти остывшие останки былых костров, свидетельствовали о давних, редких посещениях людей. Сойка знала, что пришедшие к харуву люди тоже усядутся под большим харувом, и надеялась, что и они, подобно их предшественникам, тоже оставят по себе вкусные объедки.
В северном вади, что тянулось в ту же сторону параллельно южному, сойка видела одного-единственного путника — медленно идущего старика с маленькой сумкой на плече и толстой палкой в руке. Один его глаз был закрыт повязкой, второй смотрел на землю. Старик шел, то и дело отставляя палку и опускаясь на колени и даже на четвереньки, чтобы лучше высмотреть что-то на земле среди растений.
Сойка спустилась на камень неподалеку от старика и мягко поквохтала ему — поступок, для соек необычный. Сойки умеют и кричать, и вопить, и подражать, в особенности плачу ребенка и мяуканью кошки, но квохтанье они издают крайне редко. Старик покосился на нее своим единственным глазом, выпрямился и шагнул в ее сторону, и тогда она вспорхнула, пролетела метров двести и села снова, на самой кромке хребта, который разделял оба вади. Теперь она резко выделялась на фоне неба и видна была глазу так явно, как в иной день никогда бы не посмела себе позволить.
Старик повернул в ту же сторону. Он поднимался по склону по диагонали, спокойно и размеренно, искупая слабость своего тела разумностью ног и знакомством с тропой. Он знал, что в параллельном вади, которое тянется чуть южнее от него, высится тот большой харув, который он всегда навещает, чтобы отдохнуть в его тени и поесть в свое удовольствие. Чего он не знал — так это того, что через час будет убит и что его будущие убийцы уже сидят под этим самым деревом.
Те три человека, которые сидели в тени большого харува, тоже не знали, что им предстоит убить этого старого одноглазого человека, который сейчас приближается к ним. Так происходит каждый день: какие-то люди двигаются навстречу друг другу или рядом друг с другом, сознавая это или не сознавая, по улице или по полю, пешком или в машине, тот своим путем, а этот своим, тот по своей долине, а этот по своей, и каждый к своей цели и со своим грузом, и своей причиной, и расчетом, и воспоминаниями, — но с ними ничего не случается, и уж точно не случается то, чему вот-вот предстояло произойти здесь, в этом вади.
Люди в тени харува были заняты тем, ради чего сюда пришли. Человек в шляпе — широкополой панаме, украшенной, как ни странно, розовой ленточкой, — вытащил из кармана куртки револьвер и велел худощавому положить мертвую козу на землю. Вместо этого худощавый — быстрый, гибкий и, видимо, сильный, несмотря на худобу, — внезапно швырнул мертвое туловище прямо в человека в панаме и подался вперед в попытке броситься на него. Однако парень в кожаной куртке тотчас прыгнул на него сзади и, навалившись всей тяжестью, повалил на землю и начал бить кулаками по голове. Упавший свернулся, словно разом утратив все свои силы, и покорно сложил руки за спиной. Парень в куртке быстро связал их обрывком веревки. Все это время человек в шляпе продолжал спокойно целиться в упавшего.
Между тем старик с палкой уже поднялся по склону и начал спускаться в проход, ведущий в то вади, где рос большой харув. Сойка снова вспорхнула, пролетела еще несколько десятков метров и там села на другой камень. Она опять поквохтала и посмотрела на старика, словно желая проверить, следует ли он за ней.
В нескольких сотнях метрах от них, под большим харувом, человек в шляпе с розовой ленточкой положил револьвер рядом с собой, извлек из рюкзака газовую горелку и чайник и поставил их между валунами, где они были бы защищены от ветра. Потом он снял шляпу, вытер вспотевшую голову, разжег горелку золотой зажигалкой, которую достал из кармана, и уселся на камень под харувом, похожий на большое кресло. Он был низкого роста и в больших очках, но человек с острым зрением сразу понял бы — по его шее и суставам рук, — что он очень силен, а по его повадкам и речи, что он главный в этой группе и что в этих местах он не впервые.
Теперь в тени харува были два живых человека, одна мертвая коза и связанный мужчина, которого привели сюда, чтобы он тоже стал мертвым. Ноги связанного были подтянуты к самому животу, его профиль выдавал предельную усталость, а из-под краев клейкой ленты, закрывавшей его рот, виднелись концы грязной белой тряпки. Когда он моргал, его веки двигались медленно-медленно, как будто он хотел немного удлинить промежуток между собой и тем, что ему предстоит. Он уже ходил в прошлом в такие «прогулки с козой», но на этот раз она лежала на его собственных плечах.
Парень в кожаной куртке сидел чуть поодаль, там, где тень харува кончалась. Его маленькие, близко посаженные глазки зорко следили за долиной. Небольшой и на вид недавно приобретенный животик натягивал складки ткани, тянувшиеся от пуговичных петель рубашки. Человек в соломенной шляпе поднялся с каменного кресла, глянул на чайник и погасил горелку. Воцарилась полная тишина, как перед открытием занавеса, — тишина, приятная слуху, но предвещающая беду. Но старик на склоне не слышал ничего. Он продолжал медленно идти по проходу в сторону второго вади, и, когда приблизился к сойке, та вспорхнула снова и опять перелетела чуть подальше.
Человек в шляпе вынул из рюкзака два стеклянных стакана, проверил против солнца их чистоту, налил в них чай и торжественно объявил:
— Прогулка на природе. На просторах родины чудесной. Как в экскурсиях нашего движения в старину, когда мы были еще молоды, и красивы, и полны идеалов и надежд.
— Не были мы в никаком движении, — сказал парень в кожаной куртке. Он подошел поближе и взял было себе один из стаканов, но человек в соломенной шляпе остановил его легким движением указательного пальца и угрожающей интонацией.
— Никогда не бери, пока я не взял, понял? — сказал он.
Парень поставил стакан на место. Человек в шляпе взял другой стакан, сделал маленький глоток, с удовольствием вздохнул и выплеснул оставшийся кипяток в лицо лежавшего на земле мужчины.
— Вот сейчас и ты можешь попить, — сказал он парню в кожаной куртке. — А ты, — обратился он к связанному человеку, — ты пить не будешь, потому что твой рот, разболтавший о нашем деле, теперь забит тряпкой, а твои руки, которые хотели указать на нас, связаны крепкой веревкой.
Он снова наполнил свой стакан и сделал еще глоток.
— Теперь мы с тобой вдвоем! — сказал он. — У меня когда-то была книга с таким названием, «Мы вдвоем», я читал ее своему сыну, когда он был маленький, но я вполне могу рекомендовать ее и взрослым тоже[116]. Так вот, да будет тебе известно, мы вдвоем — это больше, чем просто я и ты, и мы с тобой вдвоем уже достаточно времени вместе, чтобы понять, зачем эта коза тоже присоединилась к нашей прогулке, верно?
Он наклонился над связанным человеком и продекламировал:
Вышли на прогулку двое ребят, Поднялись на холм и спустились долиной. Вдруг видят — рога на дороге лежат: То ль живая коза, то ли труп козлиный![117]И снова выпрямился:
— А сейчас мы вытащим тряпку из твоего рта, потому что у меня есть к тебе вопросы, а у тебя есть право голоса. Мы с тобой немного побеседуем, спокойно и культурно, а если ты вздумаешь кричать, мы тебя придушим вместе с твоим криком.
Парень в кожаной куртке подошел к связанному человеку, резко рванул ленту с его губ и вытащил тряпку из его рта. Мужчина судорожно закашлялся и внезапно издал громкий, протяжный вопль, который отозвался эхом по всей долине.
Сойка в ужасе взлетела над камнем, понеслась и скрылась среди ветвей дуба, стоявшего на противоположном склоне, рядом с раскидистым фисташковым деревом. Но старик, который шел следом за сойкой, продолжал невозмутимо идти. Казалось, что он по-прежнему ничего не слышит.
Парень в куртке бросился на связанного человека, стиснул левой рукой его орущее горло, а кулак правой сунул прямо в распахнутый в крике рот. Но тот отдернул голову и резко, по-змеиному, вонзил зубы в душившую его руку. Парень крикнул от боли и с силой ударил связанного по голове. Человек в шляпе оглянулся, потом взял с камня золотую зажигалку, которой поджигал горелку, и поднес ее к мочке уха связанного мужчины. Запах паленого мяса поднялся в воздух. Нечеловеческий сдавленный вой вырвался меж сжатых челюстей.
— Кончай орать, — сказал человек в шляпе. — Безмозглый пес! Открой рот, иначе я убью тебя, медленно сожгу этой зажигалкой.
Связанный открыл челюсти и нагнул голову, словно ожидая удара. Парень в куртке выпрямился, разглядывая следы укуса на ладони.
— Что с тобой? — спросил человек в шляпе, снова кладя зажигалку рядом с горелкой. — Почему ты не поберегся?
С противоположного склона послышался крик сойки. Короткий, хриплый, пугающе неожиданный крик
— Посмотри, что там такое? — сказал человек в шляпе. — Отчего эта птица так орет?
Молодой парень вышел из тени харува и посмотрел в глубину долины.
— Кто-то идет сюда по оврагу, — негромко сказал он. — Но еще далеко.
Человек в шляпе напрягся:
— Немедленно заткни ему рот!
Парень сунул тряпку в рот связанного человека и быстро заклеил его клейкой лентой. Потом опять вернулся на наблюдательный пост.
— Этот кто-то, который там идет, каков этот кто-то? — спросил человек в шляпе и, покопавшись в рюкзаке, протянул молодому маленький бинокль.
— Какой-то старик. Волосы седые, идет с палкой в руке и одет в рабочее, как в кибуцах. Давай я спущусь, кину на него глаз?
— Что значит «кину глаз»? Что это за выражения у тебя: «Кину глаз»? «Я посмотрю»…
— Ты сам хочешь посмотреть?
— Да нет же, идиот!
— Так что, таки мне кинуть глаз?
— Ну полный идиот, — пробормотал про себя человек в шляпе. — Безнадежный случай.
И, обращаясь к парню, сказал:
— Подождем немного, может, он сам свернет. Какая палка у него в руке?
— Палка, как палка. Как у старого араба.
— Соль земли нашей идет. Он тебе и кибуцник в робе, он тебе и старый араб с палкой.
— Сейчас он поднял голову, — сказал парень, слегка подкрутив бинокль, — и ты не поверишь, что у него на глазу! Прямо настоящий пират! Как это называется, ну, вроде как Моше Даян?..
— Вроде как у Моше Даяна?
— Во-во!
— Повязка это называется, идиот! «Вроде как Моше Даян», надо же…
— Ага, повязка! Хорошо, теперь я упомню…
— Упомни, упомни, безнадежный ты случай, — сказал человек в шляпе. — Так что мы имеем на данный момент? И араб, и кибуцник, и пират, и старик? Сколько же примерно лет всей этой компании?
— Много. Голова совсем седая. И идет медленно, согнувшись.
— Согнувшись, потому что ищет что-то, или согнувшись, потому что ему тяжело?
— Согнувшись вроде ищет. Ну, старый, чего там. И без глаза, только с палкой.
— Не пренебрегай, — сказал человек в шляпе. — В этой стране есть и старые киллеры, упаси нас Господь! — Он усмехнулся: — Если он живой и ходит, подумай о том, кто выбил ему глаз, какова была его участь. — И добавил: — Ты видишь: седые волосы, палка в руке, тяжелая походка. Но есть вещи, которые даже самый хороший бинокль не может нам показать. Вот смотри — наш приятель здесь: кусается, как собака, а лежит на земле связанный, как агнец для заклания. Он увидел меня — низкорослого, пожилого, с небольшой, как говорит мой врач, проблемой излишней тучности, очки громадные, как донышко бутылки, а под шляпой растет на удивление симпатичная лысина, — и он решил, что сможет сделать со мной все, что угодно. Однако, как говорится, «много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом»[118]. И вот, я тут стою, пью чай с шалфеем, а он лежит в пыли рядом с мертвой козой и знает, что очень скоро будет лежать под ней в яме. Как это было в той моей книге? «Нет пастуха и хозяина нет, стоит и листья жует на обед. Взяли ребята козу — и вперед, идут теперь трое, веселый народ…»
— Очень красивый стих, — сказал парень в куртке. — Это ты сам придумал?
— Бестолочь ты безграмотная, — сказал человек в шляпе. — Посмотри лучше, что там происходит внизу в вади? Где этот старикашка сейчас?
— Исчез куда-то, — сказал парень. — Не видно его, в общем.
Он зашел за ствол харува, расстегнул брюки и стал мочиться, глядя при этом не на свою струю и не на место ее падения на землю, как это делает любой мужчина, когда мочится, а вдаль — в ту точку, где исчез из виду старик с повязкой и палкой. Закончив, он застегнул брюки, машинально понюхал кончики пальцев, слабо улыбнулся про себя и опять вернулся на место наблюдения.
Связанный человек вдруг начал дергаться. Его глаза широко раскрылись, изо рта вырвались сдавленные звуки.
— Ты опять за свое? — спросил человек в шляпе. — Тебе хочется, чтоб я пощекотал зажигалкой и второе твое ухо?
Но связанный продолжал извиваться, мычать и стонать. Теперь глаза его были устремлены на что-то за спиной парня в куртке, и в них читались боль и мольба. Его мучители в недоумении оглянулись и увидели старого человека, неожиданно вышедшего из-за деревьев совсем рядом с ними и со связанным мужчиной. Сначала над валунами появилась седая голова, а затем — и все большое, слегка сгорбленное старческое тело в синей поношенной рабочей одежде, с сумкой через плечо, толстой палкой в руке и с повязкой на левом глазу — неуместно веселой, цветной повязкой, словно принадлежащей другому человеку: голубой лоскут, в центре которого вышит черно-красный цветок мака.
— Ну вот, пожалуйста. Наш приятель, которого ты приметил в бинокль, явился нас навестить, — сказал человек в шляпе молодому напарнику. — Ты его за человека не считал, а он вот он — подошел к нам так, что мы даже и не почуяли.
— Я следил, как ты мне велел, пока он не исчез у меня из виду, а потом ты еще сказал, что он, может, свернет куда-нибудь, а он вдруг взял и заявился, понятия не имею откуда.
Старик подошел к ним вплотную и остановился. Его единственный глаз уставился на связанного человека на земле. Тот продолжал извиваться и мычать. Взгляд старика перешел на мертвую козу, потом на парня в кожаной куртке, который, кривясь от боли, массировал свою правую ладонь, миновал, не задерживаясь, револьвер на камне и остановился на человеке в шляпе, который ответил на этот взгляд вежливой улыбкой.
Сойка, которая все это время наблюдала за людьми из веток нависавшего над ними дуба, внезапно вспорхнула и полетела прочь.
2
— Доброе утро, — сказал старик.
— Мир вам, — церемонно ответил человек в шляпе и склонился в несколько театральном жесте.
— Секундочку, простите, — сказал старик. — Я не очень хорошо слышу.
Он достал из кармана рубашки маленький футляр, извлек из него слуховой аппарат и вставил себе в ухо.
— Что ты сказал?
— Я ответил тебе — доброе утро.
— Доброе утро. Обычно я не встречаю здесь людей. Гуляете?
— Прогулка на природе. Ты тоже гуляешь?
— Я собираю семена растений.
Его единственный глаз снова обошел всех вокруг, но лицо не изменило выражения, и рот не открылся в вопросе.
— Какие семена?
— Ты интересуешься растениями?
— Интересуюсь растениями? Нет, вы только послушайте! Интересуюсь ли я растениями? — Человек в шляпе громко рассмеялся. — Сейчас я расскажу тебе, какими растениями я интересуюсь. Орхидеями я интересуюсь. У меня большая коллекция орхидей. Из Таиланда у меня есть, и из Коста-Рики, и из Эквадора. Такая оранжерея, что многие люди сами хотели бы расти в ней. С таймерами, с датчиками, с измерителями влажности и кислотности, с рассеивателями тумана, и с поливом снизу. Дистиллированной водой.
— Это твое растение не из здешних, — сказал старик, усаживаясь на один из валунов. — Так же как и вы сами.
— Так что, ты, значит, услышал, как мы здесь разговариваем, и пришел посмотреть, кто это сюда пожаловал?
— Нет, я ничего не слышал. Ты же сам видел — мой слуховой аппарат был не в ухе, а в кармане. Я просто всегда прихожу к этому дереву, немного отдыхаю в его тени, а потом опять иду собирать.
— А это разрешается — собирать семена?
— Ну, знаете, как это: вы не расскажете обо мне, я не расскажу о вас.
Человек в шляпе усмехнулся:
— Хорошо сказано. Выпьешь с нами чаю?
— Нет, спасибо. Я лучше пойду дальше. Я еще не успел собрать все, что хотел. Не буду вам мешать. Всего хорошего.
— А как ты возвращаешься отсюда домой? Хочешь, мы тебя подвезем?
— Да нет, не стоит. Я подожду на дороге, за мной должны приехать.
Человек в шляпе кивнул молодому, и тот снял с шеи бинокль и положил его в рюкзак.
— Посиди немного с нами, поговорим, — сказал человек в шляпе. — Мне скучно с этими двумя. Этот не говорит, потому что ему нечего сказать, а тот не говорит, потому что, как ты, наверно, заметил, у него заклеен рот.
Старик не ответил.
— Могу я тебя спросить, что случилось с твоим глазом? Израильские войны?
— Нет. Жена выбила.
Человек в шляпе снова рассмеялся:
— Ну ты даешь!
— Это правда.
— Как же это случилось?
— Она ударила меня обломком сухой ветки.
— Такого мужчину?
— Если попасть в нужное место, можно обойтись и без твоего револьвера, и без моей палки. Простой тонкой ветки достаточно.
— Что же ты ей такого сделал?
— Мы много чего сделали друг другу, так что я получил по заслугам. Она изменила мне, а я убил ее любовника.
— Слушай, я всего лишь хотел немного поболтать с тобой. Вовсе не обязательно рассказывать мне обо всех твои делах.
— Ничего. Мне давно хотелось рассказать кому-нибудь эту историю. Жаль только, что услышать ёе удостоилось такое дерьмо, как ты.
— Ну, ты же знаешь, как оно в таких случаях. Если ты рассказываешь мне такие истории, под конец тебе приходится меня прикончить.
— Неплохая идея.
— Судя по тому, что ты уже успел мне рассказать, между нами нет особенной разницы.
— Ты прав. Меня тоже следовало бы прикончить. Всем было бы от этого только лучше.
— Может, покажешь мне какие-нибудь семена, которые ты успел собрать сегодня?
— Они в сумке. Ты сможешь потом сам их посмотреть.
— Я предпочитаю сейчас, если ты не возражаешь, — сказал человек в шляпе.
Взгляд старика еще раз пробежал по лицам окружающих, и вдруг глаз его сузился, пальцы сомкнулись на палке, а челюсти друг с другом. Но человек в шляпе, заметивший все это, с неожиданной скоростью и силой выбросил вперед руку, схватил палку в тот момент, когда она уже приподнялась, выдернул ее из руки старика и отбросил далеко в сторону.
— Было время, — безучастно сказал старик, — когда никто не смог бы сделать со мной такое. Но с тех пор, как я перевалил за девяносто, я слегка ослабел.
— Семена, пожалуйста. Я не люблю ждать.
— Они в сумке, в бумажных пакетиках. Можешь достать, открыть и посмотреть. Если ты собираешься взять их себе, не перекладывай их в нейлоновые мешочки или в закрытую коробку, там они сгниют. — Он снял сумку с плеча и протянул собеседнику. — Бери, тварь, чего ты боишься?
Парень за его спиной быстро нагнулся и поднял с земли камень величиной с большой грейпфрут. Старик почувствовал движение и повернулся, но встать уже не успел. Парень занес руку и ударил его камнем в висок. Большое тяжелое тело упало боком на землю.
— Оставь его, как он лежит, — сказал человек в шляпе. — А этот камень положи ему под голову. И проследи, чтобы кровь на камне оказалась точно под раной.
Парень уложил тело и сунул камень под голову убитого.
— Что теперь? — спросил он. — Он сказал, что за ним должны приехать.
— Вот именно. Приедут, не найдут его на дороге, поищут, придут сюда, ведь он сказал, что это его излюбленное место. Ну вот, они придут сюда — ой-ой-ой, что тут случилось? — дедушка лежит мертвый! Позовут полицию, полиция скажет — столетний старец пошел погулять, упал и разбил голову. Что вы за семья такая, что разрешаете такому старому человеку гулять здесь в одиночку? А вот и камень со всей его кровью, точно под головой…
— Это я положил его, чтобы он так выглядел, — горделиво сказал парень в кожаной куртке.
— Но кое-что ты все-таки забыл.
— Что?
— Его слуховой аппарат. Хорошо, что он был в другом ухе, не в том, по которому ты ударил. Вытащи его, почисть, вложи в футляр, а футляр верни в карман его рубашки. И побыстрей, пожалуйста, нам уже пора линять отсюда.
Парень быстро упаковал футляр. Человек в шляпе повернулся к связанному.
— Ну, — сказал он ему, — ты не оставил мне выбора.
И, повернувшись к парню, сказал:
— Подержи ему ноги, а то он будет дергаться. Еще, пожалуй, нас ударит.
Он схватил связанного человека за горло, сдавил его и не ослабил хватку даже после того, как тот перестал биться. Минуту спустя он разжал наконец руки и сказал парню в кожаной куртке:
— Теперь в яму.
Они вдвоем отнесли труп в маленькую пещеру на склоне, неподалеку от харува. В глубине пещеры был старый колодец, до половины заполненный камнями и сухими ветками. Они бросили туда человека с заклеенным ртом, затем парень спустился следом, прикрыл его тело камнями, вылез наружу, принес мертвую козу и тоже бросил ее в колодец.
— Проверь, чтобы козу было видно сверху, даже если не спускаться, — сказал человек в шляпе.
— Видно, — сказал парень.
— А его?
— Его не видно.
— Теперь последняя проверка — мы ничего здесь не забыли?
— Я уже проверил.
— И это у тебя называется «проверил»? А где его толстая палка?
— Там, куда ты ее бросил.
— Болван! А что скажут потом те, которые его найдут? Как это — человек перед смертью сначала отбрасывает свою палку на пять-шесть метров в сторону и лишь потом падает и умирает? Положи ее рядом с ним, и давай пошли отсюда, выйдем через параллельное вади.
Они стали взбираться на низкий хребет. Человек в шляпе впереди, а молодой, оскальзываясь и проклиная, сзади.
— Почему ты пришел в этих туфлях? — сказал человек в шляпе. — Ты же знал, что мы отправляемся совершить прогулку на природе. Мог прийти в более подходящей обуви.
Глава тридцать первая
— Утром того дня Довик отвез дедушку Зеева в его вади, попрощался было с ним, но тут же вернулся и сказал, что ему хочется немного пройтись с ним.
— Не нужно, — сказал дедушка Зеев. — Тебе пора на работу. Увидимся здесь же, как обычно, в три.
— У меня еще есть немного времени, — возразил Довик и пошел с ним. Я думаю, он припомнил давние времена наших приятных детских прогулок с дедом.
— И ты не побоялся оставить его там? — спросила я его назавтра. — У тебя не было никаких предчувствий?
— Ни малейших. Мы с ним столько раз так делали. Да и ты сама ведь тоже иногда подвозила его туда и оставляла без всяких опасений. С чего вдруг беспокоиться о таком человеке, как он, да еще в таком месте, которое для него, как второй дом?
Они прошли немного вместе, разговаривая по пути, и дедушка спросил Довика, помнит ли он те растения, о которых он ему рассказывал.
— Нет. Только некоторые. Рута помнит лучше.
Потом они расстались. Довик оставил его там, с его палкой и с его сумкой, и после работы, как обычно, в постоянное условленное время, в три часа пополудни, вернулся на их постоянное условленное место: у мостика над дорогой. Но на этот раз дедушка Зеев, человек всегда пунктуальный, не ждал его там. Довик забеспокоился. Он не знал, что делать. Он хотел спуститься к харуву, поискать его, но боялся, что дедушка может прийти на место встречи с другой стороны.
Он покричал несколько раз: «Дед! Дед!» — и, не получив ответа, все-таки спустился, в конце концов, к харуву и нашел его лежащим там в луже крови, с разбитой головой.
Он тут же позвонил мне, и меня потрясло не только его сообщение, что дедушка погиб, но и сама форма этого сообщения, потому что он употребил в точности те же слова, что двенадцать лет назад, когда сообщил мне о смерти Неты.
— Рута, — сказал он мне, — я должен сообщить тебе что-то ужасное. Дедушка умер. — И добавил: — Он, очевидно, упал, разбил голову о камень, прямо под своим харувом. Поговорим подробней потом, сейчас я должен позвонить в полицию.
Через две минуты он позвонил снова:
— В полиции сказали, что выезжают ко мне, чтобы я вышел на дорогу и проводил их к месту происшествия. Но я сказал им, что не оставлю дедушку, так что ты подъезжай, пожалуйста, чтобы их встретить.
Я бросилась к Далии, рассказала ей все и попросила подвезти меня в их машине, потому что сама я не в состоянии сейчас вести. И в эту минуту на пороге вдруг появился Эйтан и спросил:
— Что случилось?
В первый момент я даже не сообразила, что это первые слова, которые он произнес после двенадцати лет своего молчания и добровольной каторги. Я машинально ответила:
— Довик нашел дедушку в вади, мертвым, я еду туда с Далией.
— Я тоже поеду, — сказал он, и только тогда я вдруг осознала. И не просто осознала, но и испугалась. Ведь то были не только его первые за двенадцать лет молчания слова — это был его первый выход из дома со времени смерти Неты.
Он сел на заднем сиденье. Далия удивленно спросила:
— Что случилось, Эйтан, что ты вдруг начал говорить? Что такое случилось, что ты решил с нами поехать?
Он не ответил.
Мы поехали. Невольно — может быть, потому, что Эйтан сидел сзади, — я вспомнила наши былые прогулки, когда мы ездили двумя парами развлекаться. Довик за рулем, Далия рядом с ним, мы с Эйтаном позади. Довик то и дело говорил ему: «Ты разве не знаешь, что в нашем поселке мужчины сидят впереди, а женщины позади? Весь поселок будет говорить, что у нас вместо зятя появилась зятиха».
Это были очень веселые поездки. Обычно — поесть мороженое на перекрестке или сходить в кино в городе. Я помню, как однажды на светофоре на главной дороге к нам подошел молодой солдатик, ловивший попутку домой, и спросил, куда мы едем. Эйтан высунулся в окно и сказал ему: «Мы едем к Эллис вернуть ей шарф, который она у нас забыла в пятницу, а потом к двоюродной сестре Далии на кофе. Это тебе подходит?» Бедный солдатик так смутился, что Эйтану пришлось выйти из машины и пригласить его: «Садись, садись, мы просто пошутили, мы подвезем тебя домой. Мы сами тоже когда-то служили. Ты только садись и скажи, куда ехать».
На въезде в вади уже стояла полицейская машина, и офицер с рядовым полицейским как раз выходили из нее. Я сказала им:
— Да, это здесь, но надо пройти немного вдоль вади — вот по этой тропе.
Они подозрительно уставились на нас.
— Я сестра того человека, который вам звонил, — сказала я. — А тот, кто погиб, приходится нам дедушкой.
— А эти кто?
— Мой муж и моя невестка. Брат нам сообщил по телефону. Мы знакомы с местностью и точно знаем, где он, поэтому мы вас проводим. Вот она, эта тропа.
Офицер спросил:
— Ты говоришь, что это твой муж?
— Да.
— Так почему ты говоришь вместо него?
Я сказала, что мой муж неразговорчив. Что, я должна была рассказывать ему о нашей беде?
Офицер повернулся к Эйтану:
— Где ты работаешь?
Я сказала:
— Он работает в нашем семейном питомнике.
Офицер пожал плечами:
— Ладно, поговорим об этом позже. Кто будет показывать дорогу, тоже ты?
— Да.
Он велел полицейскому остаться на дороге, подождать, пока приедут из судебной экспертизы, и проводить их к нам. А мне сказал:
— Веди. Я за тобой.
Мы пошли. Все молчали. Слышно было только сиплое, как у заядлого курильщика, дыхание офицера да стук обуви по камням.
Минут через десять он спросил:
— Далеко еще?
Я сказала:
— Таким шагом — примерно десять минут.
Он спросил:
— Откуда ты знаешь эту тропу? Она не обозначена.
Я сказала, что в детстве мы много гуляли тут с нашим дедушкой.
— С тем, который сейчас умер?
— Да.
— Так что дедушка делал тут один?
Я почувствовала, что меня мутит. Как из-за боли под диафрагмой, которой пока еще удавалось сдерживать мои рыдания, так и потому, что я терпеть не могу, когда кто-то называет чужого родственника просто «дедушка» или «отец» вместо «твой дедушка» или «твой отец». Что случилось? Ты вдруг тоже стал его внуком? И потом — откуда он знает, что мой дедушка был здесь один? А может, он вовсе не был здесь один? Может, он был здесь с кем-нибудь? Может, этот кто-нибудь видел что-нибудь или даже сам его убил? Глупый следователь — это последнее, в чем мы сейчас нуждаемся.
— Не беспокойся, — сказал офицер, который, видимо, был интеллигентней, чем я думала. — Мы просто принимаем во внимание все возможности. — И спросил: — А как ты знала, что нужно вести нас именно сюда?
— Потому что брат сказал мне по телефону, что он нашел его возле большого харува. А я уже сказала тебе, что мы с ним много раз бывали в этом вади и хорошо знаем это дерево.
А в душе я почувствовала, как эти слова — «вади» и «харув» — словно подводят всему окончательный итог, как будто я издавна уже знала, что однажды это произойдет и что дедушка умрет именно на этом месте, как и подобает умирать таким мужчинам, как он.
Я шла первой, офицер шел за мной, за ним Далия, а Эйтан шел последним. Через несколько сот метров Эйтан вдруг свернул, поднялся на северный склон вади и пошел там параллельно нашему курсу.
— Что он там делает? — раздраженно сказал офицер. — Скажи ему, чтобы шел с нами.
— Эйтан, — крикнула я, — вернись, пожалуйста, иди с нами!
Он спустился по склону. Его шаги показались мне вдруг куда более легкими, словно мой первый муж на миг выглянул из второго, — но только на один короткий миг. Он не спотыкался и не скользил на камнях, как Далия и офицер, но то не был и его давний «голос-возлюбленного-моего-вот-он-идет-скачет-по-горам-прыгает-по-холмам»[119].
«Жаль, что мы не позвали его пойти в эти места раньше, — подумала я. — И жаль, что для этого понадобилась смерть дедушки. Может, мы боялись, что все, что напомнит ему о походе с Нетой, будет для него слишком тяжело. А кроме того — он ведь не просил. А еще кроме того — кто же мог его уговорить? Только дедушка мог наказать ему, что делать».
— Вот, — сказала я, — уже виден харув, а тот человек возле него — мой брат, который вам звонил.
Я видела, как Довик беспокойно ходит там — то сядет на «тронное кресло» под харувом, то встанет с него, то снова сядет. Мы подошли ближе, и тогда я увидела дедушку Зеева, лежащего в крови на земле. Довик поднялся и сказал офицеру:
— Меня зовут Дов Тавори. Я его внук.
Офицер посмотрел на тело:
— Сколько ему было лет?
— Девяносто два, — ответила я.
— А повязка на глазу, это что?
— Это повязка на глазу. В чем именно вопрос?
— Сколько времени она у него?
— Очень давно. Раньше, чем родились все присутствующие.
— Повязка с цветком? Почему не черная?
— Он любил цветы. Я вышила ему.
Офицер нагнулся, снова посмотрел и сказал, что картина довольно очевидна: очень старый человек, к тому же слепой на один глаз, ходит без сопровождающих в диком месте. Наверняка споткнулся, упал, ударился головой о камень. Вот об этот камень, посмотрите сами — вся кровь прямо у него под головой.
Все посмотрели, а Эйтан даже встал на четвереньки, припал к земле и стал рассматривать камень вблизи, точно собака, вынюхивающая что-то.
Офицер спросил его, в чем дело, но он не ответил. Офицер велел ему ничего не трогать и добавил, что старики падают даже у себя дома, где все знакомо и надежно, так почему бы ему было не упасть на какой-то забытой Богом козьей тропе, где камни, и валуны, и всякие подъемы и спуски.
— Как это вы позволили ему бродить здесь одному? — недоумевал он вслух, давая нам понять, что семья, которая позволяет такому старому человеку ходить одному по такой пересеченной местности — так он во внезапном приступе высокопарности назвал дедушкино вади, — эта семья безответственная.
— Человек в таком возрасте — как маленький ребенок, — провозгласил он. — Как младенец. И если бы это на самом деле был ребенок, я бы немедленно задержал вас за преступную небрежность.
Я почувствовала, что кровь бросилась мне в голову, но решила до времени молчать. К счастью, Эйтан отошел куда-то в сторону, что-то искал среди камней и ничего не слышал. Но Довик взорвался. Он не сказал офицеру, что у нас и в самом деле был ребенок, который погиб на прогулке, но сообщил ему, что сейчас не время для уроков по выращиванию стариков, и, если он считает, что мы нарушили закон, он может нас задержать, но не читать нам нотации.
— И я попрошу тебя не забывать, что помимо вашего расследования мы сейчас в трауре, — сказала Далия.
Офицер сказал:
— Я понимаю ваше горе, но у меня есть свои обязанности, и я их выполняю. А вам запрещается дерзить полицейскому при исполнении. Это тоже нарушение закона.
— Ладно, — сказала Далия.
— А этот, что он все время там крутится? — офицер показал на Эйтана, который в эту минуту нагнулся, рассматривая что-то возле ствола харува. — Ну-ка, давай, уходи оттуда, слышишь? Ты загрязняешь место преступления! — И, снова проникшись подозрениями, добавил: — Вы, как я понимаю, знакомы с этим местом, бывали здесь в прошлом, так?
Довик сказал:
— Мы были тут много раз, по нескольку раз в год, на протяжении многих лет. Это место, где наш дед любил гулять и собирать. И он знал эти места как свои пять пальцев. Мы даже прозвали это вади «дедушкиным» и этот харув — его харувом.
А я сказала:
— Я уже говорила вам — дед водил нас сюда, когда мы были еще маленькими детьми.
Далия в очередной раз изрекла свое: «Как это символично», — и поскольку глупость — болезнь слегка заразительная, то Довик, которого длительная близость к жене сделал еще туповатее, чем он был в оригинале, сказал:
— Ты права, Далия. И может быть, это как раз та символичность, в духе которой дедушка хотел умереть.
— Что тут символичного? — спросил офицер.
— Ну, может, не символично, но факт, что круг замкнулся, разве нет?
Я вдруг почувствовала, что я здесь одна наедине с дедушкой: я, и его тело, и его большой харув, — и что на какой-то миг все это видится мне откуда-то сверху, а в следующее мгновенье — уже с уровня земли. Я была птицей в небе и муравьем в траве. У меня по щеке стекла слеза, но я не заплакала. Никто не плакал. Нас не учили плакать, тем более — в присутствии чужих людей.
— А вот и парни из «моржка»[120], — сказал офицер так, словно мы друзья этих парней и должны знать, как на полицейском сленге называется их отдел.
По тропе спускался полицейский, которого оставили на дороге ждать судебно-медицинских экспертов, и двое в штатском. Штатские раскрыли небольшой чемоданчик, который принесли с собой, и начали фотографировать и снимать отпечатки, как показывают в кино. Офицер натянул перчатки, которые они ему дали, вынул кошелек дедушки из кармана его рабочих штанов и проверил его содержимое.
— Здесь триста пятьдесят шекелей, — сказал он. — Это обычная сумма для него?
— Нормальная сумма, — сказал Довик.
Офицер вынул из кармана дедушкиной рубашки маленький, хорошо нам знакомый футляр.
— А это?
— Это его слуховой аппарат, — сказала я.
— Он не включал его, когда ходил?
— Не всегда, — сказала я. — Он и дома не всегда его надевал.
— Ты посмотрел в его сумку? — спросил он Довика.
— Я ни к чему не прикасался.
Офицер открыл наплечную сумку.
— Здесь есть и вино, — сказал он со странной интонацией.
— Он всегда запивал свой обед белым вином, — сказала я.
— Это даже хорошо для здоровья, — вмешалась Далия, — стакан вина в день.
— Вино посреди дня? — пробурчал офицер. — Чего же удивляться, если он после этого валится головой на камень? Поверьте мне, если я не велю этим людям немедленно складывать свои приспособления и кончать с этим делом, так только ради протокола. Мы тут зря время теряем, а нас там ждут другие дела.
Люди из «моржка» долго возились и шарили среди валунов и в конце концов сказали, что тело можно увозить.
— Увозить — это значит отправить в Институт судебной медицины, — объяснил офицер. — Сейчас время заявить, есть ли у вас возражения против вскрытия.
— У нас нет, — сказала я.
В своем добавочном мозгуя недоумевала: «Что еще они надеются открыть в этом старом теле? Какие еще секреты?»
— Где твой муж? — спросил офицер. — Куда он вдруг исчез?
— Он спустился вниз, к проходу между двумя вади, — сказал Довик.
— Что он там делает?
— Он отошел, чтобы помочиться, — сказал Довик.
Я подумала, насколько это похоже и насколько непохоже на мою поездку с Довиком в пустыню, где Нета встретился со змеей: там акация, а тут харув, там желтое, а здесь зеленое, там сын, а тут дедушка, там укус, а здесь — иди знай, может быть, действительно неловкий шаг, случайное падение. И тут, и там камни — тот, на который упал дедушка, и тот, которым Эйтан разбил голову эфы.
— Я его не вижу, — сказал офицер.
— Может, он зашел в пещеру, — сказала я. — Там есть пещера, которую мы называем жилищем древнего человека.
Офицер не поленился спуститься к пещере и заглянуть в нее.
— Его здесь нет, — крикнул он. — Но тут какая-то коза упала в колодец. Лежит дохлая на камнях внутри.
Довик подошел тоже.
— Несчастная, — сказал он. — Наверно, хотела попить из колодца. Тут вокруг ходят стада. Хорошо, что это случилось недавно, иначе вонь была бы жуткая.
Эйтан вдруг появился из самого неожиданного места среди деревьев. Его тяжелые шаги стали еще легче, как будто ноги вспомнили старый забытый танец. Я поняла, что в эту минуту что-то происходит. Обычно, когда идешь с кем-то по вади, сразу видишь, кто привык ходить «по пересеченной местности», а кто нет. Те, кто не привычен, смотрят все время себе под ноги, проверяют, куда наступить, и идут слишком близко к другим. А есть такие, как мой первый муж, которые живут в мире с тропой, и с камнем, и с землей, и могут идти даже ночью, как будто у них есть глаза на пальцах ног.
Он подошел к офицеру и спросил:
— Вы пришлете специалиста по следам?
— Так ты у нас, оказывается, умеешь говорить. Замечательно. Зачем тебе специалист по следам?
— Потому что здесь нужен кто-нибудь, кто умеет читать местность.
— Ты собираешься учить нас, что мы должны делать?
— Упаси Бог, — сказал Эйтан, повернулся к мне и сказал: — Я иду обратно на дорогу.
Я была ошеломлена. А Довик сказал офицеру, что на данном этапе у нас больше нет вопросов, и если у него их тоже нет, то мы хотели бы уехать, потому что мы должны еще приготовиться к похоронам и к неделе траура.
Офицер велел полицейскому посторожить труп, пока не прибудет «скорая», а я поспешила следом за Эйтаном, потому что меня уже начало беспокоить, куда он так заторопился и что его остановит и где — ведь его тело все еще было неуклюжим телом моего второго мужа, а походка стала уже легким шагом первого. Двенадцать лет со дня смерти Неты, двенадцать лет, в течение которых он не выходил из питомника и ходил только по его мощеным дорожкам с пятьюдесятью килограммами на спине или в руках, — и вот теперь он ходит здесь, как когда-то на наших прогулках, тех, с Нетой на плечах…
Офицер пошел с людьми из судебной экспертизы, которые говорили с ним приглушенными голосами, а потом присоединился к нам и выразил сожаление по поводу этого несчастного случая и даже извинился за несколько слов, сказанных раньше.
— Поймите, — сказал он, — пока специалисты не скажут, что это действительно несчастный случай, а не убийство, у нас все на подозрении и в основном — это члены семьи. Но в данном случае ясно, как Божий день, что это несчастный случай.
Я сказала ему, что все в порядке, и он объяснил нам, как и когда мы можем получить дедушкино тело после вскрытия, чтобы приготовить его к похоронам.
Когда мы дошли до дороги, то увидели Эйтана, который ждал нас возле машины. Мы попрощались с офицером и поехали домой. Как только мы немного отдалились, Довик спросил Эйтана, что он искал и нашел ли что-нибудь, и, к нашему большому удивлению, Эйтан соизволил ему ответить. Правда, в том, что он сказал, не было ничего особенного, но в его случае каждое произнесенное слово уже было большим достижением.
Приободренная нашими успехами, я спросила, что же он все-таки искал, и, очевидно, то был особенный день — День Говорливого Эйтана, — потому что он ответил и на мой вопрос, впрочем — тем же ничего не значащим словом.
У меня перехватило дыхание. Я уже ждала, что и мое имя, Рута, прозвучит в конце его ответа: «Ничего, Рута», — но моего имени он не произнес.
Мы поняли, что больше мы из него ничего не вытянем, и перешли к другим, более срочным делам. Позвонили разным родственникам и всем, кому полагалось, в поселковом Совете, и, когда мы вернулись домой, на автоответчике уже было первое сообщение. Невестка покойного, то есть моя с Довиком мамаша, извещала, чтобы мы не ждали ее на похороны. Она постарается приехать на неделю траура.
— Она вообще не приедет, — сказал Довик.
— Как ей не стыдно! — сказала Далия. — Впрочем, когда это кто-нибудь из вашей семьи чего-нибудь стыдился?
— Не беспокойся, — сказал ей Довик, — до уровня твоей матери на нашей с тобой свадьбе мы пока не добрались, так что нам еще есть к чему стремиться.
И ушел, рассердившись, в свою контору, чтобы оттуда продолжить звонки.
Мы с Далией начали обсуждать угощенье для гостей, которые придут на траурной неделе, — «трапезу для утешителей», как напыщенно сказала она, поскольку полагала, что «трапеза» звучит более торжественно, чем просто «угощение», а кроме того, ей нравилось выражение собственного лица, когда она произносила слово «утешители».
Я сказала, что как по мне, то достаточно подать немного крекеров, печенье, нарезанные овощи и легкие напитки и поставить большой чайник с одноразовыми стаканами для чая и кофе, но она возразила, что, хотя траур это траур, а не, упаси Боже, какой-нибудь там праздник, можно предвидеть, что придет много людей, потому что это не только семейное, но и общественное событие. Именно так она и сказала: «предвидеть», и «событие», и «общественное», а кроме того — обратите внимание, Варда, потому что это была ее самая сильная фраза, я даже разрешаю вам ее использовать, — а кроме того, она сказала, что «одноразовые стаканы — это особенно символично для недели траура, потому что напоминает о том, что наша жизнь тоже одноразовая». И добавила, что хорошо бы Эйтан приготовил что-нибудь в его чугунках, в этих его «пойке».
— Кстати, а где он вообще? — вдруг удивилась она. — Опять исчез?
— Двенадцать лет прошло, — сказала я, — не только Эйтан, но и его «пойке» забыли, наверно, что такое варить…
Но Далия сочла, что это не смешно, и вообще — где он? — повторила она свой вопрос.
Я не ответила. Я уселась с книгой Экклезиаста, чтобы написать что-нибудь для похорон, и назавтра перед вечером мы похоронили дедушку Зеева возле его «добродетельной жены», бабушки Рут, «матери своих детей…» и так далее. Пришло много людей. Но позже осталась группа поменьше, более близкие друзья и более далекие и суровые двоюродные братья из Галилеи, которые рассказывали разные истории о дедушке и о его мошаве, и Довик, слегка опьяневший, вдруг сказал:
— Берегитесь Руты, она в последнее время начала писать рассказы, так она может написать о вас тоже и украсть у вас ваши истории.
А Эйтан вдруг улыбнулся и сказал:
— Почему бы тебе не почитать нам что-нибудь, Рута?
И я не просто обалдела: он говорил тем же тоном и в том же стиле, что мой первый муж.
Я принесла свою тетрадь и прочла им рассказ о древнем человеке, который написала для Неты, и все воодушевились и сказали: «Надо напечатать!» И тогда я прочла им — с небольшими изменениями — также историю об одном парне из поселка, которого отец привел в публичный дом, и Эйтан опять сказал, как будто наслаждаясь вернувшейся к нему способностью произносить мое имя:
— Рута, ты должна писать еще.
Глава тридцать вторая Доказательство
1
Зеев Тавори не следил за женой, не доискивался и не проверял. Когда правда открылась, она открылась помимо его намерения или желания. Только случай привел его к месту, где находились его жена и ее любовник. Но случайность случая не меняет сути дела. Он отправился тогда в соседний лес, чтобы высмотреть какой-нибудь мертвый дуб, который можно было бы срубить на дрова. Закончив со своим делом, он вдруг услышал громкие крики соек — те крики, которыми эти птицы созывают сородичей на сборища, на празднества или по тревоге. Им овладело любопытство. Он пошел дальше в глубь леса и, пройдя метров двести, услышал человеческие голоса — мужской и женский.
Он бесшумно приблизился к прогалине и увидел там пару, которая предавалась любовным занятиям на одеяле, расстеленном на траве. Мужчина лежал на спине, а женщина — с того места, где он стоял, он видел ее со спины — сидела на нем. Они терлись, как мельничные жернова: ее бедра, верхний жернов, были прижаты к его бедрам, и двигались по ним как по нижнему жернову. Ее затылок скрывал его лицо. Но одеяло Зеев узнал тотчас, потому что это было то вышитое одеяло, которое мать послала ему в телеге. И сапоги мужчины — сапоги из Стамбула, подобных которым не было во всем поселке, — тоже были там. Стояли рядом с одеялом и ждали с терпением слуг, которые ничего не видят, но все знают.
Зеева удивила не только открывшаяся ему картина, но и собственная реакция, точнее — ее отсутствие. Именно потому, что он был такой сильный, решительный и задиристый и никогда не медлил, если нужно было занести кулак или палку, — именно поэтому он не мог понять, почему сейчас во всем его теле разлилась такая пугающая слабость. Он отступил, какое-то мгновенье постоял за деревом, а потом начал очень тихо и очень осторожно продвигаться большими кругами, чтобы убедиться, действительно ли это его жена. В тот момент, когда он увидел ее профиль и уже не мог защититься от правды с помощью незнания или сомнения, Рут наклонилась вперед, спрятала лицо в шее Нахума и обняла его, а когда она выпрямилась, чтобы вдохнуть, Нахум протянул ласковую руку и погладил ее груди с той нежностью, которая указывала на любовь, насчитывавшую уже столько времени, что она успела создать свой язык и свой мир.
Эта картина потрясла Зеева до глубины души. И в то же время в ней было что-то красивое и влекущее — наверно, потому, что эти двое выглядели совсем как женщина и ребенок, играющие в поле. Женщина, его жена, с ее ростом, с ее широкими плечами и бедрами, с ее набухшей грудью и уже немного выдавшимся животом, и ребенок — Нахум Натан, его сосед и друг, со своими тонкими руками, с гладкой кожей, с телом, на котором ничто еще не оставило следов. С телом, которое с детства не знало тяжелой работы, не огрубело и не зарубцевалось, не получало и не наносило ударов.
И тут произошло нечто устрашившее Зеева еще больше. Рут повернула голову в его сторону, и ему показалось, что она задержала свой взгляд на нем. Прошло несколько секунд, прежде чем он понял, что она не может видеть его, что она только смотрит в ту сторону, где он стоит. Но до того как он это понял, в эти считанные секунды, он был уверен, что она видит его и знает, что он видит ее, — и его тело застыло от страха. Он, который с детства знавал тяжкий труд, раздавал и получал удары, знал, как пнуть сапогом атакующую собаку, смять руками затылок вора и дать пощечину оскорбившему человеку, — именно он не знал сейчас, что делать. Его кости и мышцы, не понимая этой душевной слабости, умоляли о приказе. А его душа — ее покинули все силы, как вода покидает треснувшую бочку. Он закрыл глаза и замкнул в них эту ужасную картину, надеясь, что она не перейдет из них в его память, потому что оттуда он уже не сможет ее вырвать.
Секунду он стоял так, застыв, а потом Рут повернула голову к Нахуму, и тогда Зееву удалось отвернуться и броситься прочь. Его ноги все шли и отдаляли его от страшного места, но прежде чем деревья окончательно заслонили обоих, он еще раз повернулся и бросил на них последний взгляд. И совсем неожиданно, почти пугающим образом, увиденное пробудило в нем тоску и любовь к жене, которую он никогда не видел такой. И столь же странным образом тело Нахума пробудило в нем какое-то едва ощутимое возбуждение, какого он никогда не испытывал. И это так усилило его гнев, что он понял, что ошибался, что давно подозревал их обоих, что его спокойные ночи были бессонными, а его сны не были снами, что вот уже месяцы он мается на своей постели и видит именно эти картины, и не в душе, не в мозгу, не сведенным животом, не сжатыми пальцами, а внутри глазных яблок, чьи зрительные нервы обезумели настолько, что рисуют на зрачках образы, приходящие изнутри, а не снаружи. Образы, которые повторяются снова и снова, пока не вырываются наружу и становятся реальными.
Он ускорил шаги. Его окаменевшее сердце колотилось, а тело ослабело так, что чуть ли не парило над землей и почти падало в ее выбоины. Он помнил, что твердил ему отец во все дни его детства и юности и повторил в свадебную ночь, когда он вышел из спальни и увидел, что тот сидит во дворе, курит трубку и потягивает шнапс из бутылки: мужчина, который позволяет другим вторгнуться в свои владения, мужчина, на лошадь которого садятся, не спросив разрешения, с чьим оружием играют, за чьим столом домашние начинают есть до него, о котором соседи говорят у него за спиной, с которым чужие ведут себя так, будто они его друзья, — такой мужчина должен объявить войну и силой утвердить законы и навязать факты. Тем более мужчина, жена которого спит с другим мужчиной. Он должен отомстить, преподать урок, сделать больно, наказать. Но не сейчас, сказал он себе. Не в эту минуту. Сначала он должен вернуть и умножить свои силы.
2
Осенним днем тысяча девятьсот тридцатого года, того самого, когда у нас в поселке покончили самоубийством двое мужчин, Зеев отправился в тот барак, который тогда служил поселковой синагогой, отпраздновать вместе с другими праздник Шавуот. Там он увидел Нахума Натана, который на удивление хорошо танцевал, топоча в своих стамбульских сапогах, и развлекал присутствующих приятными мелодиями сефардских молитв. Зеев почувствовал, что он уже «не властен над духом своим»[121]. Он незаметно выбрался из синагоги, а прийдя домой, свернул сначала к складу рабочих инструментов во дворе, взял там большую пилу и только затем вошел в дом. Рут, которая покинула синагогу в тот миг, когда заметила, что он уходит, и вошла в дом за несколько секунд до него, сделала вид, что занята чем-то на кухне. Она увидела, что он свернул в их спальню, и испугалась. Выражение его лица, походка, пила в руке — все это побудило ее поспешить за ним.
Зеев рывком сдернул оба матраца с их супружеской кровати — той самой, что была соединена из двух кроватей, его и ее, которые были у них в родительских домах, оперся на доски левым коленом, сунул зубчатое лезвие пилы в тонкую щель между ними, стиснул зубы и несколькими сильными, точными движениями распилил первую соединительную доску, тут же продвинул пилу по щели к следующей доске и распилил ее тоже.
— Что ты делаешь? Что ты делаешь, Зеев?
— То, что надо было сделать уже в ту первую ночь.
Еще несколько движений пилы, и он рассек также третью доску и окончательно отделил кровати друг от друга. Одну половину он подтолкнул к стене и бросил на нее один матрац, а другую половину и второй матрац подхватил на руки и понес прочь из спальни. Он шел вслепую, натыкаясь на ходу на стулья, расталкивая их, срывая плечом висевшие на стене картинки, волоча за собой упавший с окна занавес.
Выбравшись из дома, он направился прямиком к сараю, поставил там вторую кровать, бросил на нее свой матрац, потом вернулся в дом, подошел к жене, вплотную приблизил к ней свое лицо и прошипел:
— Теперь я буду спать в сарае! Не с тобой!
— Почему, Зеев? Почему?
— Ты знаешь почему, и я тоже знаю.
И так оно стало. Каждый вечер с наступлением темноты он уходил в сарай и каждое утро, еще до восхода солнца, возвращался в дом, чтобы никто его не заметил. Но он знал, и Рут знала, и Нахум Натан, который подкрадывался, подслушивал и подсматривал, тоже знал. Знал и понимал, что и он должен что-то сделать, прежде чем придет большая беда.
Спустя десять дней, в ту ночь, когда пошел первый осенний дождь года, Нахум дождался, пока в сарае Зеева погаснет керосиновая лампа, прокрался в его двор, переступая между лужами и маленькими канавками, которые дождь уже успел прорыть в земле, и постучал в окно спальни. Рут открыла дверь, но он ступил лишь на порог, стал на входе и начал шепотом убеждать ее, что она должна разойтись с мужем, выйти замуж за него и родить их ребенка.
Рут ответила, что не может этого сделать.
— Он убьет нас обоих, — сказала она.
— Давай убежим, — предложил Нахум.
— Он бросится за нами, догонит и убьет. И тебя, и меня, — сказала Рут. — Ты не знаешь его семью. Это не такие люди, как в нашей мошаве, и тем более не такие, как ты и тебе подобные.
— Порт недалеко, — сказал Нахум, — а там мы сядем на корабль и поплывем к моему отцу. Стамбул красивый город.
Но Рут повторила, что не может.
— Так что же нам делать? — спросил Нахум. — Ведь через несколько месяцев тебе рожать…
— Я не знаю. Меня он точно убьет, а тебе, может быть, удастся убежать с девочкой.
— С девочкой? — спросил Нахум, и его сердце наполнилось нежностью и любовью. — Откуда ты знаешь, что это девочка?
— Это девочка, — сказала Рут. — Девочка, которая намного лучше своей матери.
Он снова попытался уговорить ее, но безуспешно. Наконец он отчаялся и тихо прикрыл за собой дверь. Несколько минут он стоял под дождем, раздумывая, не лучше ли все-таки постучаться к ней еще раз и умолять до тех пор, пока она поймет и согласится. Но тут свет в ее окне погас, а дождь все усиливался, с моря надвигалась настоящая буря с молниями и громами, и он решил вернуться к себе. Его мучила мысль, что скажет отец, если он вдруг появится с беременной женщиной. Сын, заявившийся с чужой женой? С женщиной, которая вынашивает его байстрюка? Сможет ли он просить отца о помощи?
Когда он подошел к забору, перед ним выросла огромная фигура. Человек выступил из темноты и потоков дождя с ружьем в руке.
— Что ты делал в моем доме? — спросил Зеев.
— Говорил с Рут, — сказал Нахум, весь дрожа.
— О чем?
— О нас, — сказал Нахум. — О нас двоих. Я просил ее оставить тебя и стать моей женой.
— Меня никто не может оставить, — сказал Зеев.
— Это было бы лучше и для тебя тоже, — сказал Нахум. — У тебя будет другая жена, которая будет тебя любить, и тебе не придется спать одному в сарае.
— Ты будешь указывать мне, с кем спать? — процедил Зеев со сдержанной яростью. — Ты будешь указывать мне, что будет для меня хорошо?
Он направил на него ружье. Нахум крикнул:
— Нет!.. Нет!.. — и тут заметил свет керосинового фонаря, приближавшегося к ним из соседнего двора, и закричал: — На помощь! Он хочет меня убить!
Зеев ударил его кулаком в висок, а потом в грудь. Нахум потерял сознание и упал, и тогда Зеев наклонился над ним и выстрелил ему в рот. Рут, лежавшая дома, в спальне, зарывшись лицом в подушку и сотрясаясь от рыданий, заполнявших все пространство ее головы, не услышала ничего. Громы и молнии, разрывавшие ночную тьму, залпы дождя, звуки рыданий и грохот выстрела — все смешалось в один непрестанный, общий шум. И хотя убийство произошло у нее под окнами, и убитый был ее возлюбленным, а убийца — ее мужем, она была последней, кто узнал об этом.
И даже после восхода солнца, когда слух уже перелетал из дома в дом, и испуганные люди поднимались, и выходили, и собирались кучками возле лежащего на земле тела, а коровы, которых они оставили посреди дойки, громко мычали в своих стойлах, Рут все еще спала в своей постели. Она всегда спала глубоким сном, а отчаяние сделало его еще глубже. Суета и крики людей, бегущих на место происшествия, не разбудили ее. Она поднялась сама, а поднявшись, увидела, что за окном разливается серый осенний свет, и, поскольку по крыше барабанил сильный дождь, она решила сначала сварить кашу, а на работу во дворе выйти уже потом.
Только через несколько минут она почуяла какую-то тревогу снаружи, необычную беготню людей, их гул и перешептывания, которые постепенно стали разделяться на слоги и собираться в слова, а выйдя, увидела английского полицейского, который подъезжал к их двору на черной машине, и еще до того, как поняла, что видит, к ее горлу хлынула волна тошноты. Она даже не успела броситься в дом, как ее вырвало на землю, и она поняла, что это не просто рвота беременной женщины.
Она сполоснула лицо и рот и неуверенно прошла в толпу. Собственные шаги удивляли ее нерешительностью и страхом, который в них ощущался. «Чего я боюсь? — недоумевала она. — Что это вызвало у меня такую слабость и страх?»
Ее уши слышали, как люди в толпе переговариваются друг с другом, ловили слова «несчастный» и «сломался», а также «измена» и «месть». Взгляды людей впивались в нее, и слова «из-за нее» она тоже слышала, и еще шепотки, которые нельзя было разобрать, но чей тон был ей понятен, и ей сразу все стало ясно. Она уже собралась было повернуть обратно, поискать укромное место, где можно было бы кричать, наглухо закрыв рот ладонью, но перед нею вырос ее муж.
— Наш сосед покончил с собой, — негромко сказал он, приблизившись к ней и глядя на нее тяжелым испытующим взглядом.
Она промолчала.
— Ты не хочешь знать, какой сосед?
— Я знаю, — сказала она.
— Совершенно верно, — сказал Зеев. — Он застрелился. Пустил себе пулю в рот.
Рут молчала.
— Из моего ружья, — добавил Зеев. — Он выкрал его у меня. Вот и Ицхак Маслина видел, как это случилось.
Рут начала пятиться, и он шагнул вперед, словно подталкивая ее своими шагами.
— Из моего ружья, — повторил он низким голосом. — Как это мужчина осмеливается брать ружье другого мужчины?
Его взгляд продолжал пытливо изучать ее лицо, холодный и выжидающий, как взгляд змеи, которая проверяет, можно ли укусить. Он добавил:
— Как это человек вообще осмеливается взять то, что принадлежит другому человеку? — И прошептал: — Трусливый пес. Может быть, ты знаешь, почему он совершил такой подлый поступок?
Ее ноги подогнулись, она почувствовала тяжесть своего живота и кислоту оставшейся во рту рвоты и поняла, что впереди ее ждут еще иные беды, куда более тяжкие беды, чем все случившееся сейчас.
— Зайди в дом, — сказал Зеев. — Люди смотрят. Сейчас они только перешептываются, но еще немного, и они заговорят в голос.
Она вошла в дом. Зеев проводил ее тяжелым взглядом и вернулся к собравшимся. Некоторые из них по-прежнему продолжали обсуждать различные предположения, другие тихо переговаривались, а остальные просто замкнулись в тревожном молчании, как будто предчувствуя, что это еще не конец.
Из последних сил Рут подняла свое тело по трем ступенькам и, войдя в дом, тотчас начала плакать — поначалу давясь слезами, чтобы ее рыдания не вырвались громким воплем, а когда почувствовала, что это ей не удастся, бросилась на кровать, прижала лицо к подушке и попыталась уснуть, чтобы провалиться в такой же глубокий сон, каким спала минувшей ночью, когда ее муж убивал ее возлюбленного.
Многое прояснилось ей за эти несколько последних дней: что она беременна, что человек, от которого она беременна, погиб, что он не покончил с собой, а был убит, что его убийца — это ее муж. Она снова поднялась и принялась ходить по дому. Ее сердце трепетало от страха, спрашивало себя и отвечало, предчувствуя злое. Как сложится теперь ее собственная судьба и судьба малютки, растущей в ее животе?
В полдень английский полицейский сел в свою машину и отправился назад в город. Спустя несколько часов Нахум Натан был погребен на маленьком кладбище мошавы. На похороны пришли считанные люди. А еще через несколько дней председателя Совета вызвали в полицию. Там ему сказали, что, как установило следствие, умерший действительно покончил с собой. Прошло еще время. Мошава, которая все знала, продолжала молчать. Рут, растерянная и обезумевшая от страха, поняла, что должна бежать. Несколько дней спустя, в попытке спасти свою душу и душу своего будущего ребенка, она собрала маленькую сумку, спрятала ее и стала поджидать удобной минуты для побега.
3
В тот день, в половине шестого утра, Зеев Тавори вышел из сарая, обул сапоги, пересек двор, снял сапоги и вошел в дом. Он приготовил себе стакан сладкого чая и два толстых ломтя хлеба с брынзой. Он выпил чай, поел, снова обулся и отправился в поле. Через несколько минут после него вышла и Рут, неся свою сумку на спине, а свою дочь — во чреве, и торопливо направилась к винограднику. Низко пригнувшись, она пробежала меж двух рядов, пересекла топкое дно вади, вскарабкалась на четвереньках на его противоположный склон и скрылась в дубовом лесу.
Примерно через полчаса она услышала приближающиеся крики Зеева и стук копыт его лошади, то бьющих по твердой земле, то тяжело ступающих по грязи. Ее охватил ужас. Она легла на землю, надеясь спрятаться за кустом. Она лежала, зарывшись лицом в землю, чувствовала, как сжимается под нею ее живот, и дрожала всем телом. Стук копыт приближался и усиливался с каждой секундой.
Ее рука, как будто сама собой, пошарила вокруг. Пальцы нащупали упавшую ветку и схватили ее, пытаясь найти в ней защиту и силы. Она лежала, опершись лбом о руку, и видела перед собой маленькую черную букашку, которая ползла среди стебельков травы, ошеломленная столь непривычным соседством. Глаза Рут следили за нею. «Сестра ты мне, — сказала она ей мысленно. — Что ты делаешь здесь на траве? Ведь весна еще не пришла».
Она слышала, как стук копыт приблизился вплотную, как голос Зеева велит лошади остановиться и как его ноги опускаются на землю, делают три шага и останавливаются возле нее.
Он наклонился над нею:
— Вставай!
Она не сдвинулась с места.
— Вставай и идем домой!
Она продолжала лежать.
— Меня не бросают. Вставай и идем домой, иначе я убью и тебя тоже.
Она не ответила. С высоты, на которой парила ее душа, она видела лес, в котором лежала. Только они были там — Зеев и его лошадь, которая опустила голову и мирно щипала траву. Ее тело наполнилось покоем. Полосы и точки света мелькали под ее веками. Его рука стиснула ее затылок. Она еще сильнее сжала ветку, рывком занесла ее назад, открыла глаза и ткнула изо всех сил.
Глава тридцать третья
— Несколько дней назад вы рассказывали мне о фотоаппарате Эйтана, который Довик привез из пустыни. Что с ним произошло?
— Прекрасно, Варда, вы уже запомнили наши имена. Еще немного, и мы сможем присоединить вас к нашей семье.
— И вы еще говорили тогда, что в нем была пленка.
— Верно.
— Так что вы с ней сделали?
— Вначале ничего. Аппарат лежал в доме, целых четыре года, а я все не решалась подступиться к нему. И вдруг набралась смелости и дала его Оферу, чтобы он проявил для меня эту пленку.
— Оферу? Кто это?
— Офер, я вам о нем уже не раз рассказывала. Мой ученик. Тот, который чуть не утонул в Кинерете. Тот, который снял сверху весь поселок и потом сделал выставку. Вот снимок нашего дома с воздуха, я вам его тоже уже показывала.
— Верно. Тот ученик, которого вы любили. Теперь я вспоминаю. И что, вы просто попросили его проявить для вас пленку, даже не зная, что на ней?
— Вроде того. Это было на родительском собрании. Он пришел со своим отцом, этим недоумком Хаимом Маслиной. Помню, я еще сказала ему тогда, что он единственный отец, который пришел с сыном, обычно приходят только матери, и это делает ему честь.
— Это из-за тебя, Рута, — усмехнулся он. Прямо так, не стесняясь, и Офер смутился. — Если бы это была другая учительница, я бы не пришел.
Ну, не важно. Я сдержалась, перешла к делу, рассказала ему, что его сын — удачный мальчик и хороший ученик, что он, правда, не всегда полностью участвует в том, что происходит в классе, но зато отличается пониманием и оригинальностью, и с трудом остановила себя, чтобы не добавить, что этим он выделяется и на фоне своей семьи тоже.
Офер сказал:
— Спасибо, учительница. Хорошо, что вы говорите это при отце, он обо мне так не думает.
А его гордый отец напыжился и сказал:
— Это неправда, Офер и дома хорошо себя ведет, помогает мне и работает по дому, а кроме того, у него есть хобби. Расскажи ей, — добавил он, повернувшись к сыну.
— Оставь, папа.
— Расскажи, расскажи, — настаивал отец. — Расскажи учительнице, какое у тебя хобби.
— Не нужно, папа. Это не имеет никакого отношения к школе.
— У Офера есть фотолаборатория, — гордо сообщил Хаим. — Он проявляет, и печатает, и вообще проводит там чуть не весь день.
— Ты только сейчас надумал? — спросила я. — Во всем мире уже переходят на цифровую съемку.
Офер так и загорелся:
— У нас дома, учительница Рут, нашлась масса старых пленок и негативов, которые остались от папиного дедушки, и я уже кое-что проявил и напечатал. А мама уговорила папу отдать мне наш старый сарай под темную комнату и дать денег, чтобы купить все химикалии, и бумагу, и бачки, и увеличитель. Я выбросил из сарая весь хлам, и смотрите, что я там нашел, учительница. — Он вытянул ноги. — Вы видели когда-нибудь такие сапоги? Правда, красивые?
— Очень красивые, — сказала я. — Но немного старые, нет?
— А мне нравится. Правда, пришлось немного их почистить и смазать. Вот только это пятно ни за что не хочет сходить.
— Я говорил ему, — сказал Хаим. — Это пятно от крови.
— Папа говорит, что это были сапоги его дедушки, — продолжал Офер, — но потом, когда я напечатал старые негативы, — он посмотрел на отца, — я увидел на одном из снимков эти же сапоги на ногах у кого-то другого. — Он вынул из кармана рубашки снимок: — Видите этих трех парней? Это папин дедушка Ицхак, справа. А этот слева, это Зеев Тавори, ваш дедушка, еще с двумя глазами, видите? А сейчас — вот они, те сапоги, которые я сейчас ношу. На ногах у третьего парня, пониже, который стоит между ними. Я специально взял с собой эту фотографию, чтобы вы мне помогли. Может быть, вы знаете, кто это?
— Нет, — сказала я, и вся кровь во мне застыла и превратилась в лед. — Почему бы тебе не спросить своего отца?
— Он спрашивал, но я не знаю, — сказал Хаим.
— Может быть, вы спросите своего дедушку? — попросил Офер.
— Оставь мне этот снимок, и я спрошу его.
Я показала снимок дедушке Зееву.
— Ты выглядишь немного странно с двумя глазами, — сказала я.
Он не ответил. Долго смотрел на фотографию и не сказал ни слова.
— Тебя и Ицхака Маслину я узнаю, но кто это? — спросила я и указала на невысокого парня в сапогах.
Он спросил, откуда у меня эта фотография, и когда я сказала свое «не важно», он сказал:
— Это, наверно, семья Маслины, подонки, это они тебе принесли. От кого еще ждать такой мерзости!
— Так кто этот парень? — повторила я свой вопрос.
Дедушка Зеев молчал. Он не любил, когда слишком много говорили об определенных событиях и определенных временах его жизни.
— Так кто же это? — еще раз спросила я.
— Он был нашим соседом здесь в первые годы.
— И что с ним случилось?
— Он покончил с собой. У нас тогда трое покончили с собой за один год. Было очень трудно.
— Я знаю эту версию самоубийств, дедушка, — сказала я.
— Если знаешь, зачем спрашиваешь?
— Как его звали?
— Кого?
— Этого парня, который покончил жизнь самоубийством, того, что посередине. Перестань притворяться.
— Нахум. Нахум Натан или Натан Нахум, я уже не помню.
— Так как же его сапоги попали к моему ученику Оферу, правнуку Ицхака Маслины?
Он поднялся.
— Я что, отвечаю в этом поселке за обувь? Здесь был английский полицейский, и он тоже подтвердил, что это было самоубийство.
Я рассказала Оферу, что он носит сапоги человека по имени Нахум Натан, который покончил самоубийством много лет назад, и сказала, что теперь у меня тоже есть просьба. К нему.
— Все, что вы попросите, учительница.
— Если среди твоих негативов попадутся еще какие-нибудь снимки членов моей семьи, сделай мне, пожалуйста, копии, особенно если это будет что-то, связанное с моей бабушкой Рут.
— Хорошо.
И тут я решилась.
— И еще маленькая просьба, — сказала я. — У меня есть старый пленочный фотоаппарат. Сейчас им уже никто не пользуется, но, может быть, там осталась заснятая пленка. Ты можешь вытащить ее и проявить для меня?
— Конечно. Я могу попробовать.
— Я тебе заплачу.
— Ну вот еще. — Он улыбнулся. — Я заключу с вами обменную сделку, учительница.
У меня разгорелись щеки. Я почувствовала, что краснею.
— Вы сказали, что у вас уже никто не пользуется этим старым фотоаппаратом. Так отдайте его мне.
— Он твой, не о чем говорить.
— Так договорились?
— У меня есть еще одно условие, — сказала я. — Я хочу быть с тобой в темной комнате, когда ты будешь это делать. Я хочу видеть.
— Нет проблем. В субботу?
В субботу, когда я пришла к ним с фотоаппаратом в руках, напротив их дома стояли две машины того сорта, который у нас до сих пор называется «гости из города». Мири и Хаим сидели под своим пеканом с двумя парами гостей, угощая их орехами с дерева, как у нас обычно угощают гостей из города. Угощают и говорят: «Ешьте, ешьте, это с нашего дерева», — что на нашем языке означает: «Ешьте, пожалуйста, и ешьте как можно больше, потому что у нас у самих эти пеканы уже лезут из всех отверстий, а выбрасывать жалко».
Кстати, Варда, вам, как специалистке по истории еврейских поселений, стоит знать, что для этого мы и приехали в Страну Израиля, и высушили здесь болота, и воевали, и пахали, и строили, и воздвигали, и так далее — именно для того, чтобы в конечном счете еврейский народ мог сидеть «каждый под виноградником своим и под смоковницей своею»[122] и объедаться пеканами.
— Мне почему-то кажется, Рута, что вы все время пытаетесь меня поддразнить, но продолжайте, меня это не задевает.
— Я вошла во двор Маслины с фотоаппаратом в руках. Мири Маслина встретила меня кислой гримасой, но Хаим поднялся мне навстречу, и их приторная семейная улыбка буквально стекала ему на подбородок.
— Какая гостья, чему обязаны? — А гостям сказал: — Это Рута Тавори, учительница нашего Офера. Она живет в соседнем доме и никогда не заходит проведать соседей. Посмотрите на нее. Во всех школах в вашем Тель-Авиве нет такой учительницы. — И крикнул: — Офер, иди быстрее сюда! К тебе важная гостья!
Офер вышел из старого сарая — приветливый и рассудительный парень, который никогда не забудет мою безумную вспышку, случившуюся через несколько минут. Это произошло не сразу, когда я вошла с ним в сарай, и не тогда, когда он зажег красный свет, и открыл мой фотоаппарат, и вынул из него пленку, и не тогда, когда он проявлял ее, а потом, когда он погрузил фотобумагу в свою жидкость, и бумага покрылась пятнами, и пятна стали скалами, и камнями, и деревьями акации, и высохшим руслом, и маленьким плотным телом шестилетнего мальчика с чуть серьезным лицом. Вот он ты, Нета. Где ты был все эти четыре года? Где ты был? Куда ушел?
Он смотрел на меня из маленькой бездны лотка с проявителем, а я, чемпионка по нырянию — уже не четыре минуты, а четыре года под водой, — не вытащила его.
У меня подкосились колени. Я почувствовала себя почти так же, как в тот вечер, когда Довик вошел и сказал: «Рута, я должен сказать тебе что-то ужасное». Такой слабой, что должна была опереться на другого человека, и именно это я и сделала. Оперлась на первого попавшегося человека, который оказался рядом. Охватила его сильно-сильно, схватилась за него, как утопающая. Не так, как хватаются за колесо или опору, а как цепляются за живое существо — теплое, дышащее, вливающее силы и кровь.
Я схватилась за него, за этого смущенного славного мальчика, обняла его и начала кричать и вопить. Мои крики выходили не из горла, а из внутренностей, из-под диафрагмы, из самого чрева. Я кричала, и плакала, и обнимала, и целовала, и плакала, и кричала снова и снова. Это было ужасно, ужасно. Ученик не должен видеть своего учителя в таком виде. Мальчик не должен видеть взрослого в таком виде. Человек не должен видеть и слышать другого человека в таком состоянии. Поверьте мне, Варда, все это заняло не больше десяти секунд. Мгновение ока для такого историка, как вы, но десять секунд могут быть очень длинными, и я выплакала и выкричала за эти десять секунд все, что не выплакала и не выкричала за те четыре года, которые Нета был внутри этого фотоаппарта. Потому что обычно я не особенная плакса, совсем нет. Десять секунд я кричала, и плакала, и обнимала, а потом оторвалась от него, и замолчала, и нашла дверь, и выбежала наружу, и бросилась домой. Даже не выбежала на улицу, а бросилась из их двора прямиком в наш двор.
Я помню: бежала, как безумная, свет и слезы слепили мне глаза, но я видела. Мири и Хаим Маслина по-прежнему сидели за садовым столом с гостями из города и своими пеканами. Лица у всех у них были потрясенные, испуганные. Мои крики опередили меня. Они вырвались из сарая раньше, чем выбежала я, трудно было их не услышать.
Я ничего не сказала и ничего не стала объяснять. Я бежала. Эти бедные гости наверняка не поняли, что произошло. Ведь гости из города всегда думают, что в деревне, со всем ее «пением цветов и цветением птиц», как говаривал мой первый муж, живут люди спокойные и счастливые, с садовыми столами, с садовыми стульями, с самим садом и стриженой травой, с гостями, пеканами, крекерами и сырными шарами. Вы помните эту церемонию — угощение гостей сырными шарами? Так вот, у нас в поселке она все еще сохранилась. Если есть что-нибудь хуже пеканов, так это сырный шар, а хуже него только сырные шарики — один со вкусом перца, один со вкусом кунжута, один со вкусом сладкого перца и еще один со вкусом базилика, самый отвратительный из всех, настоящий казус белли, Варда, повод для войны.
Назавтра ко мне пришел Хаим, приполз, как говорит Танах, «на чреве своем»[123], держа в руке коричневый конверт.
— Мы были рады, что Офер помог вам со снимками, — вкрадчиво сказал он.
— Мне очень жаль, — сказала я.
— Не страшно. Со всеми случается.
— Я, наверно, смутила вас перед вашими гостями.
— Ну, мы, конечно, немного удивились, но потом, когда увидели фотографии Неты, поняли все. Мы даже позвонили нашим гостям. Они, кстати, поднялись и ушли через несколько минут.
— Что же вы объяснили?
— Что у учительницы Офера был мальчик и что у нее случилось несчастье, а сейчас Офер проявил ей его фотографии. Только правду, Рута.
Он протянул мне конверт.
— Вот они, Офер напечатал их. А вот и негативы. У нас ничего не осталось. Все твое. И Офер тоже сожалеет и просил передать, что он просит прощения, а также вернет тот фотоаппарат, который ты ему дала. Его надо немного починить и почистить внутри, он все это сделает и вернет. И извини, если в первый момент нам в голову пришли неправильные мысли.
— Чего это вдруг вернет? И за что прощение? — сказала я. — Он не должен просить прощения. Это я должна. А фотоаппарат пусть оставит себе, я обещала ему его. Он помог мне, и я прошу прощения за то, что произошло.
Но Хаим не успокоился на этом. В жизни каждого дерьма есть такой момент, когда он понимает, что он дерьмо, и решает так себя и вести.
— Когда мы услышали твои крики из его лаборатории, мы не знали, что и подумать, — сказал он. — Но потом Офер нам все объяснил, и мы всё поняли. Так что с нашей стороны теперь все в порядке, правда, все в порядке, Рута.
Я не ответила, и тогда он, хотя его не приглашали, вдруг уселся на стуле.
— Рута, — сказал он, — наши семьи живут рядом уже много лет. Соседи и в хорошем, и в плохом уже семьдесят — восемьдесят лет. Я знаю разные истории, и ты знаешь разные истории, они не обязательно одинаковы, но я просто испугался, что здесь, не дай Бог, начинается еще одна ужасная история.
Я не поняла, к чему он ведет.
— Я еще раз говорю тебе, — сказала я, — что я сожалею о том, что произошло. И, по правде говоря, я знала, что могу увидеть Нету на этих снимках, и приготовила себя к этому. Четыре года этот фотоаппарат с пленкой внутри ждал у меня в доме, и я не осмеливалась выбросить его и не осмеливалась прикоснуться к нему. Он был как еще одна его могила, понимаешь? Как можно открыть могилу сына? Ведь он там, внутри нее. Но когда ты сказал мне на родительском собрании, что у Офера есть это хобби и фотолаборатория, я решилась попросить у него проявить эту пленку. А потом я увидела, как лицо Неты возникает на бумаге, а ведь в этом появлении есть иллюзия движения, жизни, возвращения, и мне на минуту показалось, что он ожил и тут же умер снова, стал мертвой картинкой. А может, это еще и потому, что частично все происходило в воде и в темноте, при красном свете. Как будто я попала в ад. Я потеряла власть над собой.
— Но Офер сказал, что ты его обнимала и целовала.
— Бог с тобой, Хаим, это было совсем не так, как может показаться. Я должна была на кого-нибудь опереться, а Офер был единственным, кто был рядом со мной. Мне нужна была опора, мне нужна была человеческая близость.
— Жаль, что это не я там стоял, — усмехнулся он.
Я не поняла. Я, видно, не хотела понимать.
— Я знаю, что это нехорошо, — сказала я. — Знаю, что я учительница, а он мой ученик, что я взрослая женщина, а он молодой парень, но поверь мне — там ничего такого не было. Верно, я его обняла, но обняла так, как утопающий хватается за своего спасителя.
— Интересно, что ты упоминаешь утопающего и спасителя — в точности, как было у вас на Кинерете во время экскурсии.
Я вдруг напряглась всем телом. Я почувствовала, что начинаю закипать.
— Что ты хочешь сказать, Хаим? К чему ты клонишь?
— Я ни к чему не клоню. Тебе кажется, что я к чему-то клоню? Я просто спрашиваю. Это мой сын, что, мне нельзя спросить?
— Ты хочешь сказать, что я не должна была тогда его спасать?
— Нет, нет, — торопливо сказал он, — и мы уже благодарили тебя за это, но родители говорили и другие учителя тоже, и вся эта история с самого начала была какой-то странной, это соревнование, которое ты там организовала, кто дальше нырнет, и это твое пари…
— Да, — сказала я, — очень странно. И соревнование, и это пари, и вообще, сама учительница Рута, если ты спросишь меня, какая-то странная женщина. Очень странная. А сейчас, если ты извинишь, я должна заняться контрольными работами, в том числе и твоего сына. Передай ему спасибо за фотографии и скажи, что фотоаппарат, который я обещала ему, остается у него. А если у него будут еще какие-нибудь вопросы по поводу тех старых снимков, которые он нашел, то мой дедушка готов ему помочь. Я с ним говорила.
Но Хаим не выявил ни малейшего намерения кончить этот разговор. Напротив, он уселся удобнее и даже немного откинулся назад.
— Как ты выдерживаешь? — спросил он. — В такой ситуации?
— В какой ситуации? — насторожилась я.
— Ну, в такой ситуации, что твой Эйтан целые дни напролет таскает мешки и камни в питомнике, а ночами ходит вокруг него и сторожит. У тебя, в сущности, вроде как бы и нет мужа. Такая красивая молодая женщина, как ты, мы ведь ровесники, и выглядишь ты так хорошо, и все эти годы без мужчины, или так, по крайней мере, это выглядит.
— Я думаю, Хаим, что ты лезешь в такие дела, которые выше твоего понимания, — сказала я.
— Смотри, — сказал он, — деревня наша маленькая, люди все видят, и говорят между собой, и слухи ходят…
— Ты можешь говорить с кем угодно. Но со мной у тебя разговор закончен.
— Если ты чувствуешь себя одинокой, скажи, не стесняйся. Дай только знак. Я совсем близко, за твоим забором, ты же знаешь.
— Послушай, — сказала я, — ты ведь знаешь, что случилось когда-то с моим дедушкой и твоим дедом, верно?
— Конечно, — сказала он, — кто же из старожилов этого не знает?
— Мой дедушка был когда-то человек жестокий, злобный, примитивный. Он стал человеком только после того, как взял к себе нас с Довиком. Мы были его искуплением, исправлением, превращением, если твои скудные мозги понимают, о чем я говорю. Но твой дед как был, так и остался мелким паскудником до своего последнего дня. Трусом и ничтожеством. Мы ведь оба с тобой знаем, как сапоги Нахума Натана оказались на ногах твоего сына, и знаем, что весь ваш нынешний шикарный коровник начался с той коровы, которую Ицхак Маслина получил от Зеева Тавори за свои ложные показания.
— Почему ты так говоришь? — обиженно сказал он. — И почему ты во всем винишь только мужчин? Все знают, что сделала твоя бабушка, и знают, что она получила по заслугам. Мой дедушка тоже так говорил: Рут Тавори заслужила то, что получила.
— Твой дедушка был и остался мелким гаденышем, — сказала я, — а сейчас я вижу, что его замечательные качества тоже перешли по наследству.
Молчание. Иногда я бываю страшной.
— И поберегись, — добавила я, — потому что в нашей семье характер тоже переходит из поколения в поколение. И «маузер» моего дедушки еще дома, и сам дедушка тоже еще здесь, и я могу позвать его. Мне достаточно крикнуть, и он появится.
Он изобразил удивление:
— Ты мне угрожаешь?
— Я только говорю, что как ты похож на своего деда, так я могу иногда походить на своего. — И добавила: — Апропо о генетике. Я не понимаю, как из такого пустого места, как ты, мог получиться такой замечательный мальчик, как Офер. И я говорю это не только в качестве вашей соседки, но и в качестве его учительницы. Как ты это объясняешь, Хаим? Может, и в твоей семье женщины рожают от какого-нибудь соседа? Знаешь ведь, как у нас здесь — деревня маленькая, люди все видят, и говорят между собой, и слухи ходят.
Он мрачно поднялся, прикусив нижнюю губу, сказал:
— Ты еще обо мне услышишь, — повернулся и вышел.
На мгновенье мне показалось, что передо мной ожил его дед. Та же сутулая худоба, та же особая походка. Как у мангуста. Знаете, как это бывает: едешь по дороге и вдруг видишь мангуста — ползет, виляя всем телом, ползет, как змея, будто у него нет ног, пересекает дорогу и исчезает на другой стороне в зарослях. Вот так он уходил.
Глава тридцать четвертая
— Офер, Офер, Офер, Офер! Пришло время поговорить об Офере. Я уже разбросала там и сям приманки и намеки, как говорят — раскинула наживки, уже приближалась, коснулась концом палки и даже попробовала, но испугалась и отступила. А вот теперь все, отступления больше нет.
Офер. Ученик, которого я ждала, — ждала, чтобы он вырос и стал моим возлюбленным после того, как мой первый муж умер, а второй меня не хотел. Не так хорош собой и не так весел, как Эйтан, и мужчина не такой, как Эйтан, но немного похож на него, и кое в чем даже очень похож, а что самое опасное — похож немного и на Нету. Возможно ли? Все возможно. Офер старше Неты на несколько лет, но Эйтан тоже крутился в наших краях задолго до того, как мы с ним слюбились и поженились. Разве я знаю, что и с кем он делал за эти несколько лет? Кто-нибудь вообще знает все о своем напарнике или напарнице, о его детях, о своих детях, о своем отце или матери? Мири Эльбаум, ныне Мири Маслина, уже была здесь в те годы, совсем рядом, за забором, и кто знает, Варда, может, она тоже положила на него глаз на свадьбе Довика и Далии?
— Это можно опустить, Рута. Это не относится к предмету моего исследования, и я вовсе не заинтересована знать о вас все.
— Не беспокойтесь, Варда. Я не сделаю вас соучастницей неприглядного поступка, потому что поступка не было. Я была учительницей, он был моим учеником, а я не делаю таких глупостей. Да, у меня просыпалось иногда желание, не отрицаю. Десятая заповедь — это приказ, которого никто не может выполнить, и я в том числе. Но греховное желание, которое обуревало меня, было лишь в моем уме, а не на повестке дня. И довольно об этом, Варда, довольно с меня вашего критического, осуждающего взгляда. Я была и осталась абсолютно благонравным учителем. Да, у меня просыпалось желание, но я сдерживала себя и ждала. Ждала, что пройдет время, и он закончит школу, и уже не будет моим учеником. А тем временем проявляла и печатала снимки в фотолаборатории собственной головы — фотографии того далекого замечательного дня, когда я увижу, как он идет по нашей улице с ее особой игрой света и тени, по самой красивой и своеобразной улице нашей мошавы, с самыми большими в ней деревьями и самыми тяжелыми воспоминаниями, — увижу и выйду из наших ворот и заберу его, как та медведица, я вам уже говорила, которая выходит из леса и хватает себе ребенка и уносит в лес. Я предпочла бы взять его так, как Эллис взяла Эйтана со свадьбы своей дочери, но в данном случае больше подходила история с медведицами.
Ну, не важно. Вы ведь ходите по этому поселку и интервьюируете его жителей, и наверняка уже поняли, что обо мне и о моей семье рассказывают немало разных историй, и по большей части справедливых. Но я прошу одного, Варда, — что бы ни рассказывали вам, знайте: с того дня, как я впервые принадлежала Эйтану, я всегда принадлежала только ему. Я была женщиной одного-единственного мужчины, и если бы не та наша беда, оставалась бы только с ним. Но тот Эйтан ушел, исчез, и вместо него появился второй мой супруг, который не говорил со мной, и не лежал со мной, и не спал со мной. Который навязал мне такое же воздержание, как то, к которому приговорил самого себя. Не об этом мужчине молилась я[124], не за этого выходила замуж. Этому мужчине я не была обязана ничем.
Короче, Варда, через несколько лет такого состояния, как изящно выразился этот недоумок Хаим Маслина, я решила, что мне положено еще немного любить и быть любимой. Пусть не совсем то бяликовское «Будь мне», которое было у меня когда-то, но еще немного кожи, прижавшейся к чужой коже, еще немного губ, касающихся других губ, и глаз, глядящих в другие глаза, и улыбки, отвечающей другой улыбке, и одного тела на двоих. А кроме того — как бы сказать повежливей и поделикатней? — кроме того, мне это уже стало нужно. Я слышала, что есть женщины, которые могут долгое время жить без этого, но я, как вы уже знаете, немного и мужчина тоже, и я стала чувствовать это во всем теле, особенно тот момент близости, когда боль и наслаждение приходят из одного и того же места. Я не сомневаюсь, что и моя бабушка, чья кровь течет в моей крови и чьим именем я названа, чувствовала в точности то же самое. Ведь она тоже отдалась другому мужчине только после того, как ее муж перестал спать с ней. Но у нее все было иначе. У нее так было с самого начала, и она ждала намного меньше, чем ждала я, и к тому же она была совсем молодая и неопытная девушка, которая не так уж остерегалась, ни в каком смысле не остерегалась, и вы не можете себе представить, Варда, какой из-за этого получился кавардак. Гендерная история первого сорта, во всех поселениях Барона не было более гендерной истории. Я писала о ней, но рассказывать вам мне не хочется. И уж конечно, не сейчас. Сейчас вы услышите то, что мне хочется вам рассказать, а потом, может быть, я расскажу вам то, что вы хотите от меня услышать.
Так вот, в один прекрасный день я решила, что это произойдет, что мне позволено. Потому что кому я тут, в сущности, изменяю? Если моему первому Эйтану, то его уже, как говорится, нет с нами. А если моему второму Эйтану, то если он приговорил себя к пожизненным каторжным работам, а свой пенис, извините меня, отправил на пенсию, это не значит, что его монашеский обет обязывает и меня тоже.
Ну, не важно. После того как Офер окончил шкалу, я тоже ничего не предпринимала. Ждала терпеливо. Однажды он появится — может, после демобилизации, а может, еще в форме — и пойдет мне навстречу по светотени нашей улице, и мы встанем друг против друга. Я спрошу его со всем радушием: «Офер, где ты пропадал?» — а он ответит мне с улыбкой: «Здравствуйте, учительница Рута, вот, я пришел». И так это, в конце концов, и случилось, кроме одной детали, важной, но ничего не меняющей, — вместо армии он пошел на национальную службу.
Мне это как раз понравилось, но в мошаве все до единого его осуждали. Я вам, кажется, уже говорила, что наша мошава известна — и гордится — тем, что поставляет армии товарное количество парней в разные элитные части, на курсы пилотов и в подразделения особого назначения. И каждый год председатель нашего Совета публикует в газете сообщение о наших новых новобранцах и свою фотографию рядом с ними. У некоторых ребят уже на этом снимке лица затушеваны, из соображений безопасности. Если вас интересует мое мнение, то у нас есть мальчики, о которых уже в десятом классе нельзя сказать, кто они, потому что у них на лицах вместо подростковых прыщей — пиксели.
Ну, не важно. Мне было ясно, что Офер не из таких. Я думала, что он будет фотографом в военной авиации или в армейской пресс-службе, но он не пошел и туда. Он решил, что предпочитает национальную службу. И послушайте, как смешно: один из тех офицеров, которые перед мобилизацией ходят по школам и вербуют кадры для своих частей, как-то читал лекцию в моем классе. Говорил и говорил на своем армейском сленге, и вдруг Офер поднимает руку и заявляет, что, по его мнению, работать в учреждении для проблемных детей куда важнее, чем служить в его отборной части.
Поднялся шум. Некоторые из ребят начали кричать на него, офицер стал их успокаивать, а когда успокоил, сказал Оферу:
— Ты ошибаешься.
А Офер сказал ему:
— Недостаточно сказать «Ты ошибаешься». Ты объясни мне, почему, по твоему скромному мнению, я ошибаюсь.
Не только сам офицер, но и большинство моих учеников не уловили колкость, но меня охватил истерический смех от этого его «по твоему скромному мнению», и я даже рассердилась на себя, как в случае Эйтанова «сороковее», что не придумала этого выражения сама. Короче, был шум и споры, и однажды, когда его товарищи, которые тренировались перед призывом, сказали ему, что армия это армия, а национальная служба — это увиливание от армии. Так они ему и сказали:
— Ты для нас вроде дезертира.
Он только улыбнулся и сказал:
— Нехорошо так говорить о религиозной девушке[125].
Я услышала это и поняла, что его голова еще более нестандартна, чем я думала до сих пор. Мне нравятся нестандартные головы. У меня самой такая голова, и у первого Эйтана была такая голова, и у моего дедушки, к добру это или ко злу, особенно ко злу, тоже была такая голова. И напротив, у Довика и у Далии нет такой головы. У большинства людей ее нет. У них у всех одна и та же голова, и они даже одалживают ее друг другу при необходимости.
— Ну и что же в конечном счете случилось?
— Случилось то, что это случилось. Я улыбаюсь, правда? Каждый раз, когда я вспоминаю эту картину, я чувствую, что у меня поднимаются уголки губ. Я как раз возвращалась с могилы Неты и шла домой. Вышла на нашу улицу, увидела за забором питомника моего второго мужа, который переносил эти свои мешки отсюда туда и оттуда сюда, и вдруг почувствовала, что я больше не могу. Просто не могу больше видеть его таким и не иметь возможности войти и быть с ним вместе, и рассказать ему, что происходит на могиле нашего сына, и спросить его, когда уже он даст себе помилование и тоже пойдет туда, и не могу больше слышать в ответ его молчание, как во все прошлые разы.
Мои глаза наполнились слезами. Я чувствую, что это и сейчас происходит. Смотрите — только что я чувствовала, что улыбаюсь, а сейчас чувствую, что у меня мокрые глаза. Любопытно, как наше тело сообщает нам о своем состоянии: мне холодно, мне жарко, мне голодно, я волнуюсь, мне скучно, я полна желания, мне грустно, я устало. Но я велела себе продолжать, сказала себе, как режиссер на постановке: «Рута проходит мимо ворот и продолжает идти дальше», — и, как послушная актриса, миновала ворота в питомник и продолжала идти дальше, и сразу же за домом Мири и Хаима увидела Офера.
Он шел мне навстречу меж пятен света и тени на тротуаре, у него были длинные волосы, собранные пучком на затылке, и он нес в руках щенка лабрадора — толстенького, светлого и предвещающего доброе впереди.
Мы начали улыбаться друг другу еще издали. И, улыбаясь ему, я почувствовала, что из моего левого глаза вытекла слезинка и сползает куда-то вбок, в те морщинки, которые улыбка вытягивает из угла глаза. Задним числом мне кажется, что именно так я поняла, что улыбаюсь — по направлению слезинки. Ну, не важно. В улыбках людей есть что-то удивительное и в двух из них — особенно прелестное. Первая — это улыбка ребенка в возрасте нескольких недель, когда одним ничтожным усилием — маленькое, слабое растягивание губ — он клеймит родителей на пожизненное рабство: «Люблю сына моего и дочь мою, не пойду на волю»[126]. И вторая — улыбка мужчины и женщины, которые идут навстречу друг другу, как они видели это в ее чаянии и в его мечте, идут по улице, знакомой до оскомины, где их шаги — единственное, что в ней есть нового. Это красиво: «в ее чаянии и в его мечте», — правда? — я уже не помню, читала я где-то эту строчку или придумала только что. Ну, не важно. Так они идут навстречу друг другу и улыбаются друг другу, и вначале каждый чувствует только свою улыбку, а потом улыбку другого, и тогда они останавливаются.
— Офер, куда ты исчез? Что с тобой?
— Здравствуйте, учительница Рута. Как приятно увидеть вас.
Мне понравилось, что он назвал меня «учительница Рута». Я сказала ему об этом. Он сказал: «Но ведь это — то, что вы есть», — а потом мы немного поговорили. Он рассказал мне о детях, которыми он занимается в школе-интернате для проблемных детей в Хайфе, и сказал:
— Я хочу, чтобы вы знали, учительница Рута, что хотя это дети проблемные и тяжелые, а вы учите серую заурядность, вроде меня, но многому из того, что я делаю с ними, я научился у вас.
Я спросила, что именно он с ними делает. Он немного рассказал. В основном — как он использует животных. У них есть там старый осел, который знавал плохие и суровые времена, и они заботятся о нем, и еще у них есть полудрессированный ворон, и ежи, и черепахи, а сейчас я принесу им этого щенка, сказал он и добавил:
— Щенок лабрадора пробуждает в людях их самые хорошие качества.
Мне было приятно говорить с ним. Он был серьезней и интересней всех тех бравых вояк, которые вышли из моего класса и приходили в школу по пятницам, на большую перемену, чтобы произвести впечатление своей формой, и крылышками, и оружием, и беретами. Мы разговаривали, и через несколько минут я предложила ему — может быть, зайдем ко мне домой вместо того, чтобы говорить на улице? Мы сели здесь, на кухне, там, где мы сейчас сидим с вами. Я выжала лимоны и приготовила свежий лимонад на льду, и уже не помню, кто кого коснулся первым, но через пять минут после прихода мы поцеловались, это всегда интересно, как происходит первый поцелуй, вернее, что ему предшествует, и сразу же после этого я уже лежала на своей кровати в платье, задранном до груди, и все тут. Снаружи Эйтан таскал свои мешки и камни по дорожкам питомника, Довик заключал сделки в конторе, Далия трудилась на своей работе в Совете мошавы, Нета лежал в своей могиле на кладбище, дедушка Зеев, единственный, кого я боялась, собирал семена в своем вади, а я была под Офером, и Офер был во мне, и его рука закрывала мне рот, чтобы никто не слышал моих рыданий, и только маленький щенок лабрадора тихонько скулил, а как потом выяснилось — даже оставил лужицу.
Так это началось. Я не повезла его на свою квартиру для любовных свиданий в Тель-Авиве, потому что у меня нет такой квартиры, и не выбирала и не покупала ему одежду, потому что предпочитаю, чтобы каждый выбирал себе по своему вкусу. И не ставила ему музыку, и не готовила ему лакомства, которые он любил, и не мешала ему уходить, и не задерживала его в своем доме и в своем теле, а также не выбросила его через полтора месяца, потому что у меня не было друга-капитана, который завтра возвращается из кругосветного плавания. Это он оставил меня в конце концов. И только когда это случилось, я подумала, что ни разу не сказала ему: «Я тебя люблю», — и он тоже не сказал. Это примерно так, как у родителей, которые нарочно не дают детям имен, пока не убедятся, что этим детям уже не угрожает никакая опасность, что они будут жить. Так и любовь не называют любовью, пока она не дышит собственным дыханием.
Что это за физиономия, Варда? Вы разочарованы, что мы расстались? Вы осуждаете, что мы вообще затеяли это? Увы. Но знаете — здесь у нас не Тель-Авив, эта ваша великолепная анонимная Гоморра, битком набитая людьми, которые не знают и не хотят знать друг друга. Здесь у нас — старая мошава, и всем известная семья, и знакомые рты, и глаза, и имена, и указующие персты. А кроме того, я ниже классом, чем Эллис. Ничего не поделаешь. Такой класс, как у нее, впитывают с молоком матери, а в моей семье впитывают кровь и горечь, яд и полынь. Такой женский класс я видела только у нее одной, и именно поэтому так радовалась каждый раз, когда она приезжала нас навестить. И каждый раз с удовольствием смотрела и отмечала, как она всегда изысканно, спокойно одета и как всегда без макияжа — максимум какое-нибудь одно небольшое украшение, а не вешалка для драгоценностей и не беспорядочная каша цветов.
Вначале она приезжала раз в месяц, проведать Далию и Довика, потом раз в неделю, посмотреть на Дафну и Дорит, которые вообще-то выглядели, как близняшки, но как только появлялась их бабушка, сразу становились разными, и видно было, что только одна из них похожа на нее, а другая нисколько не похожа. Она всегда дружески улыбалась мне и всегда заводила разговор и, конечно, была приглашена на нашу с Эйтаном свадьбу. Далия сказала: «Надеюсь, с этой свадьбы она уже не заберет его к себе домой», — но Эллис вела себя образцово-показательно и преподнесла нам замечательный подарок — огромную сетку против комаров в рамке из индийского красного дерева, которую ее престарелый друг-капитан привез из какой-то дальневосточной гавани. Он, кстати, тоже был на нашей свадьбе — седые волосы, красный нос, но без колокольчика развозчика керосина. Он здесь никого не знал, но всем улыбался и ходил, слегка покачиваясь от избытка алкоголя и волн, который накопился в его теле.
Эллис пропускала многие наши семейные празднества и встречи, но всякий раз, когда соизволяла появиться, мне доставляло удовольствие видеть ее и разговаривать с ней. Она старела красиво и продолжала хорошо выглядеть и после того, как ее английский капитан отдал концы, — всегда элегантная и тонкая, но тонкая в самую меру, не какая-нибудь тощая костлявая старуха, но и не какая-нибудь толстая дряблая старуха, а изящная, как цветок гладиолуса. Но тогда на нашей с Эйтаном свадьбе, когда она сказала мне Мазаль тов и Good choice[127] и расцеловала меня в обе щеки, я ненароком положила ей руку на талию, как Эйтан клал, бывало, руку на мое бедро и при этом всегда говорил: «Как приятно трогать тебя, моя любимая». Вот так же и я рассеянно положила руку ей на талию, а может, и не рассеянно, а вполне нарочно, потому что мне захотелось прикоснуться к телу, которое так очаровало моего мужа, и почувствовать, осталось ли в нем что-то от того очарования. Я коснулась и, очевидно, неосознанно, слегка погладила, и еще прежде, чем я поняла, что делаю и что чувствую, она сказала с улыбкой:
— Мне знакомо это прикосновение. Хорошо, когда женщина похожа на своего мужчину. — И засмеялась: — Берегись, Рута, как бы на этой свадьбе ты не оказалась тем парнем, которого я уведу к себе домой.
И я тоже засмеялась:
— Я не уверена, что откажусь, — и вдруг почувствовала себя такой же взрослой и опытной, как она, — наконец-то не тот мальчик на посылках, каким я была, а та женщина, которая в этом мальчике ждала-ждала и вот теперь наконец-то вышла из куколки. Запишите себе, что у многих людей, — не у всех, но у многих — есть кто-то такой внутри, но не всем выпадает удача выйти и расправить крылья.
И тут я увидела Далию, которая уставилась на нас. Я уверена, что она ничего не слышала, но ей явно было не по душе то, что она видела. Она уже тогда весила на двадцать килограммов больше, чем ее мать, и по-прежнему не переставала ее обвинять. В жизни не видела женщину, которая так завидовала бы своей матери, — тому, как она следит за собой, тому, как она уверена в себе, тому, как она не считается ни с чем и ни с кем, кроме самой себя. Как-то раз она даже сказала:
— Что, она не могла передать и мне несколько своих генов, эта стерва, которая называется моей матерью?
— Она-то как раз предлагала их тебе, — сказал Довик. — Это ты не захотела их взять. Испугалась.
— Она действительно хорошо выглядит, эта моя мамаша, — гнула свое Далия. — Но что ее сохраняет? Ее эгоизм и черствость, вот что. — Она сделала еще один маленький осторожный глоток лимончелло и добавила: — Она просто заспиртована в абсенте.
Красивое выражение: «заспиртована в абсенте». Привалила человеку удача. Я даже разозлилась, что это Далия изобрела его, а не я. Ну ладно, Эйтан изобрел «сороковее», а Офер придумал «по твоему скромному мнению». Но Далия?! Откуда она вообще знает слово «абсент»? Ну, не важно. Несколько лет назад Эллис умерла, и мы, Далия, Довик и я, поехали на ее похороны. Я не так уж люблю похороны, как вы сами понимаете, но я хотела посмотреть, будут ли там другие «Иth’н», которых она увела с других свадеб. Может, возьму себе одного из них по наследству. Но их не было, а моего (и ее) «Иth’н» не было тоже. Он не приехал и не проявил никакого интереса накануне, когда я сообщила ему о ее смерти.
Помню каждую деталь: я тогда спустилась в питомник и стала перед ним на дорожке. Он остановился, обнимая пятидесятикилограммовый мешок с гравием, как обнимают толстого и усталого ребенка.
Я сказала ему:
— Ты помнишь Эллис, мать Далии?
Он не ответил. Обнимал свой мешок и молчал.
— Она умерла.
Он не ответил. Сдвинулся вбок, обошел меня и понес свой мешок дальше.
Я пошла за ним:
— Эллис! Та, которая забрала тебя в свой дом в день свадьбы Довика и Далии.
Он молчал. Сколько сил собралось в этих руках, обнимающих и несущих такую тяжесть с такой легкостью!
— Так она умерла, ты слышишь?
Он не ответил.
Я сказала:
— Иth’н, мы едем на ее похороны. Может быть, ты помоешься, переоденешься и поедешь с нами? Я думаю, она это заслужила.
Он положил мешок возле тех, которые уже перенес, и повернулся, чтобы пойти за следующим. Я смотрела на него и не видела даже намека на какую-нибудь судорогу в его лице. Оно оставалось точно таким же, каким стало со времени нашей беды. Не злым, не встревоженным, не радостным, конечно, но и не грустным. Никакой перемены вообще. Физиономия занавески. Не темной занавески, но и не прозрачной тоже. Вот и все. Он остался отбывать свое наказание, свои каторжные работы, а я представляла его на ее похоронах. Ей причиталось. Она действительно сделала ему только хорошее и научила его тем вещам, которые потом сделали хорошее мне: варить мне, подавать мне, занимать меня, смешить меня, касаться меня — где, и когда, и как. Найдутся такие, которые скажут вам, что каждая женщина в этом плане особенная в своем роде: одной нужно в одном месте, а другой — в другом, одной подай трепетанье бабочкиных крылышек, а другой — энергичный натиск, одна — «не прекращай», а другая каждые полминуты — «не двигайся», и каждая со своим «теперь здесь» и «теперь там». Но в общем все мы довольно похожи. Скажу вам так, Варда, — ни одна еще не кончила от того, что кто-то ей погладил колено.
Я не ошибаюсь? Вы улыбаетесь? Вы даже смеетесь? Прекрасно. Теперь у меня будет письменное доказательство, что я еще могу кого-то рассмешить. Самой смеяться мне как раз удается, но только если меня удивляют. Я на миг забываю, что печальна, а потом, через секунду, мне становится больно. Как в анекдоте о том человеке в лесу, когда все вокруг него лежат мертвые, а он выжил, вот только нож торчит в животе. Ладно, оставим это, а то я еще, чего доброго, начну плакать от слишком сильного смеха.
Глава тридцать пятая Нета и Ангел Смерти (сказка для Неты Тавори, написанная для него матерью после его смерти)[128]
1
Был у меня когда-то мальчик по имени Нета.
Когда Нете исполнилось четыре года, он начал задавать мне вопросы:
— Почему темнота всегда приходит ночью?
А где она днем?
И:
— Какая разница между Ничто и Ничего?
И:
— Что такое Ничто?
И:
— Почему есть Ничего и нет Дачего?
И:
— Когда уже у меня будет маленькая сестричка?
И:
— Кто будет больше на нее похож — я, или ты, или папа?
И:
— Почему у дедушки Зеева нет жены, а у папы есть ты, а у дяди Довика тетя Далия?
2
На все вопросы я отвечала ему без труда, но над последним вопросом я думала немного больше, потом еще немного, и потом еще, и, наконец, ответила:
— У дедушки Зеева тоже была когда-то жена. Ее звали бабушка Рут.
3
Нета обратился к дедушке Зееву:
— Дедушка?
— Да, Нета?
— Где твоя жена, которую звали Рут?
— Ангел Смерти забрал ее к себе, — сказал дедушка Зеев.
Нета спросил:
— Что, теперь она его жена?
— Хватит, Нета, — сказал дедушка Зеев. — Есть вещи, о которых не следует говорить. А ты задаешь слишком много вопросов.
4
Назавтра, по дороге в школу, Нета спросил своего отца:
— Кто такой Ангемерти?
— Анге — кто? — спросил отец.
— Ангемерти, — повторил Нета.
— Понятия не имею, — сказал отец. — Я не знаю такого имени.
— Дедушка Зеев сказал, что Ангемерти забрал бабушку Рут, — сказал Нета.
— А-а! — сказал отец. — Он имел в виду Ангела Смерти. Это тот ангел, который забирает к себе людей, когда им приходит время умереть.
— Настоящий ангел? — обрадовался Нета. — С большими белыми крыльями? Он забирает их полетать с ним?
— Нет, — сказал отец. — У этого ангела нет крыльев, а уж тем более белых. У него есть громадная острая коса и черный балахон с большим черным капюшоном, который скрывает его лицо.
— Но если у него нет крыльев, как же он летает?
— Он не летает, — сказал отец. — Он просто появляется. Появляется себе вдруг, и никто его не видит и не знает, только тот, кого он пришел забрать.
— Вот бы он появился сейчас тут, — мечтательно сказал Нета. — Мне хочется увидеть его балахон с капюшоном и его косу.
5
— Хватит вам говорить об этом! — рассердилась я. — Есть вещи, о которых не говорят, и ты задаешь слишком много вопросов.
— А о чем говорить? — спросил Нета.
— Скоро твой день рождения, — сказала я. — Может быть, ты скажешь нам, какие подарки ты хочешь?
— А вы дадите мне все, что я попрошу? — спросил Нета.
— Если ты попросишь слона, тогда нет, — сказал отец.
— Очень хорошо, — сказал Нета. — Я хочу громадную острую косу и длинный черный балахон с большим черным капюшоном.
Я была недовольна его просьбой.
Но отец сказал:
— Я обещал. А мы, мужчины, должны выполнять обещания.
Он купил черную ткань и сшил из нее балахон с капюшоном.
А дедушка Зеев вытащил из сарая старую косу и почистил ее от ржавчины.
И в субботу мы устроили Нете день рождения, и мужчины дали ему этот подарок.
6
Нета надел балахон.
Покрыл голову капюшоном, посмотрел в зеркало и сказал себе:
— Я настоящий Ангел Смерти.
Он схватил косу, и вышел на улицу, и увидел людей, и побежал за ними вдогонку.
Все испугались, все разбежались, все раскричались:
— Ой, мамочка, Ангел Смерти пришел!
— Сейчас он нас всех заберет!
— И мы все умрем!
7
Нета положил на землю косу, которую до этого держал на весу.
Потом отбросил свой черный капюшон и снял с себя свой длинный балахон.
А потом что есть силы закричал:
— Извините, если я вас всех напугал. Пожалуйста, успокойтесь, тети и дяди! Это я просто в таком наряде. Прошу вас, пожалуйста, поверьте, я мальчик Нета, а не Ангел Смерти.
Так он выходил на улицу день за днем.
И на пятый день люди уже не разбегались.
А на шестой день все ему улыбались.
А на седьмой день — потому что у Ангела Смерти нет выходных — они уже просто смеялись:
— Он вовсе не Ангел Смерти! Он просто он и больше ничего.
8
Но в понедельник, когда Нета вышел опять, набалахоненный, закапюшоненный и очень косоватый, кого он встретил, тоже в балахоне с косой?
Ну конечно, настоящего Ангела Смерти!
— Поди сюда, мальчик, — сказал он Нете. Вернее, прошептал. Потому что у Ангела Смерти голос похож на шипенье змеи. — Подойди поближе, не бойся. Еще ближе… и еще… и еще. Вот так. Теперь стой. И объясни мне, что здесь случилось и что это все означает?
— Это просто игра, — сказал Нета. — Сейчас я просто играю в тебя. Как хорошо, что ты пришел! Теперь мы сможем поиграть вместе.
9
— Играть вместе? — прошептал Ангел Смерти. — Я и ты? Тебе до смерти этого хочется?
— Конечно, — сказал Нета. — Будет кайфово, ты обхохочешься.
— Я не играю в игры! — сказал Ангел Смерти. — Ни с людьми, ни сам по себе.
И рассердился:
— Из-за тебя ко мне перестали относиться серьезно.
И сказал печально:
— Теперь они все думают, что я просто мальчик, который нарядился Ангелом Смерти. А сейчас — извини меня, Нета, — у меня много неотложной работы.
10
— Как? — удивился Нета. — Ты знаешь, как меня зовут?
— Конечно, — сказал Ангел Смерти. — Я знаю все имена. И все сроки. И все адреса. И твой адрес тоже.
— Откуда? — спросил Нета.
— Я уже бывал здесь не раз. И я очень аккуратный ангел. Так что не делай больше глупостей и до свиданья, до следующей нашей встречи.
И он исчез, как будто его и не было и не будет опять.
И только слова остались:
«До следующей встречи».
И:
«Я уже бывал здесь».
И:
«Нета».
И:
«До свиданья».
Глава тридцать шестая Роды
1
За несколько дней перед родами в поселок приехали две женщины. Они спустились с телеги, которая медленно тащилась по топкой дороге, и пошли пешком по тропке через поля.
Вначале они казались просто двумя черными точками, большой и маленькой, потом превратились в две человеческие фигуры — взрослого человека и подростка, если судить по размерам, или двух взрослых, если судить по походке, — и наконец стали двумя женщинами среднего возраста. Одна оказалась высокой, костлявой и широкоплечей, а вторая — маленькой и полной, но, несмотря на это и на совершенно разную одежду, походку и телосложение (большая была матерью роженицы, еврейкой родом из Румынии, а маленькая — бедуинской акушеркой из вади Эль-Тамасиах), были очень похожи друг на друга: обе веселые и болтливые и у обеих широко расставленные глаза и грубые ладони. Заметно было, что совместная поездка уже сблизила их, потому что они обменивались только им понятными взглядами и жестами и время от времени взрывались дружеским смехом, который постороннему человеку мог бы показаться лишенным всякой причины и полным каких-то загадочных намеков.
В их приезде, как со временем выяснилось, не было никакой нужды, потому что роды, хоть и были первыми, прошли легко и быстро, словно роженица знала, что настоящие муки ждут ее лишь потом. Она даже не кричала, только стонала от большого напряжения, и лоб ее покрылся испариной. Может быть, она хотела, чтобы никто не услышал ее и не понял, что происходит. А может, действительно не чувствовала боли, потому что, как и ее муж, знала, что забеременела не от него, и поэтому страх смерти наполнял все ее существо, вытесняя всякое иное чувство.
Она не размышляла ни о том, какого пола ее ребенок, потому что была уверена, что это будет девочка, ни о том, будет ли она здоровой и сколько будет весить, ни о том, что вот-вот станет матерью, — она думала только о нем, о своем муже, и о том, что он с ней сделает.
С последним ее стоном крошечный ребенок выскользнул в руки акушерки, и новая бабушка, улыбнувшись, сказала:
— Поздравляю, Рут. Ты была права. У тебя родилась дочь. Теперь надо выбрать ей имя.
Но Рут — так звали роженицу — сказала:
— Я еще не думала об имени, мама, — потом шепнула: — Нет, еще не надо, имя может подождать, — и вдруг вскрикнула: — Пусть еще не плачет, мама, пусть еще не кричит! Пусть она ее не шлепает!
Но опытная рука акушерки словно бы сама собой уже опустилась на маленькую попку, и ребенок заплакал первым плачем всех новорожденных, которого ничто не может ни остановить, ни утишить. А мгновенье спустя раздался громовой удар в дверь, едва не сорвавший ее с петель, и в комнату ворвался муж роженицы. Вместе с ним в спальню ворвался и дневной свет, очертив темноту его могучего тела сверкающим прямоугольником дверной рамы и пройдя меж его широко расставленных ног. Его огромная дрожащая тень нарисовалась на стене в изголовье кровати.
— Не нужно врываться с такой силой, — испуганно сказала мать роженицы. — Еще несколько минут, и мы бы сами пригласили тебя войти. — И хотя сердце говорило ей, что не все здесь так просто, рот ее продолжал выговаривать те слова, которые всегда говорят в таких случаях: — Поздравляю, Зеев, у тебя родилась дочка.
Зеев — так звали мужа роженицы — сделал еще один шаг вперед, и тогда Рут в ужасе закричала: «Дайте ее мне! Дайте ее мне!» И, несмотря на боль, приподнялась на кровати, широко распахнув руки. Акушерка, которая уже приготовила было тазик с теплой водой и две пеленки, сухую и мокрую, чтобы помыть и высушить новорожденную, испугавшись, протянула ей ребенка, как он был, — в каплях крови и родовой жидкости. Но Зеев молча шагнул к кровати, схватил маленькое тельце за ногу и вырвал его из рук акушерки. Девочка, закачавшись вниз головой в его руке, на миг замолчала, но тут же снова зашлась в отчаянном плаче.
Зеев повернулся, все так же держа ребенка в одной руке, рванул дверь и вышел наружу. Его теща, которая ничего не знала и не поняла, что происходит, бросилась следом за ним, восклицая:
— Что ты делаешь, Зеев?! Младенца нельзя так нести! — Но, видя, что он идет и не оборачивается, со страхом закричала: — Верни ее матери, девочке нужна грудь!
Большая и быстрая, она в три шага догнала зятя и схватила его за полу куртки. Но Зеев гневно обернулся, с силой толкнул ее так, что она упала, и страшным голосом закричал:
— Ни за что!
По-прежнему неся ребенка в руке, он прошел к сараю, что стоял на задах двора, к тому деревянному сараю, в котором он уже несколько месяцев подряд спал один, без жены, и положил девочку, которая все еще захлебывалась в плаче, на свою застеленную кровать. Не бросил ее и не швырнул, а положил мягко и осторожно, как отец укладывает своего младенца, но не из отцовской любви, а для того, чтобы она не ударилась или не поранилась. Ибо в те длинные бессонные ночи, когда лежал на этой кровати, задыхаясь от ненависти и продумывая отмщение, он назначил ей другую судьбу.
2
Малютка кричала и захлебывалась в плаче. Зеев укрыл ее, достал с полки жестяную коробку, которую приготовил себе незадолго до родов, и вынул из нее хлеб, горсть маслин, помидор и арабский сыр — тот соленый и твердый сыр, который можно хранить долгое время, а для еды нужно размачивать в воде. Все это он разложил на деревянной доске. У него были еще две джары с питьевой водой, несколько пит, овощи, несколько банок консервов — сардин и мяса, банка тхины и бутылка оливкового масла[129]. Все это он приготовил себе заранее, чтобы иметь под рукой достаточно еды и не нужно было бы отлучаться из сарая.
Он взял свое ружье и верную палку, вышел, запер за собой дверь и уселся на большом деревянном ящике, который поставил перед своим сараем за несколько дней до родов. Тогда никто не понял, что он замышляет, и никто не знал, что находится в этом ящике, но теперь Зеев вытащил из него большую вышитую подушку и подложил ее под себя. Подушка цвела радостными птицами и растениями и тоже была приготовлена заранее — для долгого и удобного сидения.
Стоял теплый весенний день. Ружье и палку Зеев прислонил возле себя, а деревянную доску положил себе на колени. Потом он принялся есть и пить. Солнце грело его кожу, и приятный запах цветения стоял в воздухе. Но ребенок за его спиной, в сарае, заходился от крика и слез, и деревянные стены нисколько не приглушали эти звуки, потому что голос ребенка, который жаждет еды или прикосновения, — голос пронзительный, он проникает сквозь стены и слышен на большом расстоянии.
Мать роженицы поднялась тем временем с земли и беспомощно металась по двору, ломая пальцы от ужаса и горя. Потом, словно на что-то решившись, снова подошла к зятю и тихо сказала: — Что ты делаешь, Зеев? Ведь это твоя дочь и твоя жена. Что случилось? — И, помолчав, прошептала: — Девочка должно сосать грудь. Ей нужна мать… — А затем вдруг схватила его за руку, потянула изо всех сил и закричала: — Встань! Открой немедленно свой сарай! Я хочу отнести ее к матери. Это моя внучка. Ты слышишь?!
Зеев снял с колен деревянную доску, отложил ее в сторону, медленно встал, снова с силой толкнул тещу на землю и опять опустился на вышитую подушку.
— Ты права. Это твоя внучка, — сказал он. — Но это не моя дочь! Это дочь другого мужчины, порождение распутства! Это выблядок, а не моя дочь.
— Но это всего лишь младенец! Чем она виновата? Что она тебе сделала, эта малютка? Она же только что родилась! Дай ей сначала пососать, а потом мы все выясним и все уладим.
— Это порождение распутства! Пусть себе орет и плачет в сарае. А ты, и твоя дочь, и вся мошава пусть знают, почему и за что.
Он затолкал себе в рот хлеб с сыром и маслину, откусил острый перец и принялся неторопливо жевать.
С трудом поднявшись с земли, бедная женщина выбежала со двора на улицу с криком: «Спасите! Помогите! Он забрал младенца!» Из дома ей отвечали страшные рыдания Рут. Несколько человек выскочили на шум из своих домов и бросились за нею ко двору Тавори. Но, увидев Зеева, сидящего с ружьем у входа в сарай, они тут же повернули обратно. Несчастная мать побежала вдоль улицы, бросаясь от дома к дому и призывая на помощь. Но никто уже больше не вышел ей помогать. Только там и сям выглядывало из-за сдвинутой занавески чье-нибудь лицо, да кое-где мелькала прячущаяся спина и слышался стук испуганно захлопнутой двери. Не докричавшись, она в конце концов вбежала во двор к соседу. Соседа она нашла в коровнике. Он кормил красавицу телку, которую недавно родила ему голландская корова, купленная им по дешевке минувшей осенью на зависть всему поселку.
— Помогите, скорей! — взмолилась она. — Моя Рут родила девочку, а Зеев забрал у нее ребенка. Он просто спятил. Он запер малютку в сарае и не дает ей сосать материнскую грудь.
— Поздравляю вас с внучкой, — сказал сосед. — Но мы здесь не суем нос в дела других семей.
— Но я умоляю! — закричала она в отчаянии. — Он не дает мне подойти к сараю! Он хочет убить свою дочь!
— А ты уверена, что это его дочь? — спросил сосед.
Рот ее онемел. Колени подогнулись. Ей с трудом удалось доковылять обратно. Но когда она вошла во двор, Зеев грубо схватил ее и втолкнул в дом к дочери. Потом силой выволок оттуда акушерку и крикнул ей:
— Чтоб твоего духу здесь не было!
И бедуинка тотчас исчезла.
Зеев закрыл обе двери и все окна в доме, вернулся к своему сараю и снова сел на ящик. Он сидел перед сараем на ящике, заряженное ружье в одной руке, верная палка в другой, и молча ждал своего часа.
3
Этот плач, который длился — кто бы мог себе представить? — целую неделю подряд, слышала вся мошава. Слышала — и молчала. Сначала люди думали, что девочка поплачет день-другой, пока Зеев придет в себя и вернет ее матери. Но она все плакала и плакала, день за днем, и первый день, и второй, и третий, и четвертый, и пятый, и мошава слушала, слышала и молчала. Молчала, но не забыла.
И еще видела: мужчина сидит на большом ящике, на вышитой подушке, с ружьем и палкой, перед закрытой дверью сарая. Видела, слышала, молчала и не забыла. Из сарая часами раздавались жуткие голодные крики ребенка, взывающего к материнскому молоку, к материнским рукам и к материнскому теплу, а из дома им вторили жуткие крики молодой матери. В один из дней ей удалось наконец выбраться из запертого дома, и она бросилась на своего мужа, пытаясь его ударить. Но он поднялся, схватил ее одной рукой за затылок и поволок к дому, слабую и измученную родами, ужасом и виной. Никто из мошавных не пришел к ней на помощь. Муж силой втолкнул ее в дом, и там она упала на кровать и провалилась в глубокий сон.
Младенец — ему даже имени не успели дать — плакал и кричал. Мошава — у которой имя уже было и есть по сей день — слышала и молчала.
Но вопли умирающего от голода ребенка привлекли внимание соек, которые издавна жили в этих местах.
Эти крылатые обитатели близлежащей рощи уже успели за минувшие годы понять все выгоды соседства с людьми и, будучи существами смелыми и дерзкими, начали регулярно навещать новое человеческое поселение и высматривать любые остатки пищи, которые можно было бы склевать или унести. И когда подросли деревья, посаженные людьми вокруг своих домов, они построили на них свои гнезда и стали выращивать там новое поколение. Прошло немного времени, и они совсем перестали бояться человека и начали вести себя, как хозяева. Они орали, воровали, дразнили животных и людей и, как свойственно сойкам, научились подражать крикам взрослых, свисту подростков, визгу кошек и лаю собак, не переставая радоваться тому переполоху, который этими своими подражаниями поднимали.
Теперь несколько соек появились над домом Зеева Тавори. Они расселись на ближайших деревьях, прислушались к крикам и плачу ребенка и через полчаса начали кричать и плакать в точности таким же голосом. Вначале они кричали неуверенно, словно пробуя силы, но потом их крики и плач обрели абсолютное подобие. Дети стали швырять в них камни, но птицы перелетали с дерева на дерево и уклонялись от попаданий. И все это время они продолжали кричать голосом младенца. Под конец от них негде уже было укрыться. Казалось, что ребенок кричит в каждой кроне и над каждой крышей, — и мошава все это слышала — слышала и молчала.
На третий день, когда сойки снова завели свои детские крики, Зеев Тавори поднял свое ружье и двумя точными и быстрыми выстрелами свалил на землю двух птиц. Их товарки тотчас в страхе взметнулись в воздух. А когда они успокоились и, вернувшись, снова взялись за свое, он убил еще двух, и тогда остальные исчезли совсем и больше уже не появлялись. С этого времени в мошаве слышны были только крики умиравшего в сарае ребенка, да и эти звуки с каждым днем становились все слабее. В субботу, в полдень, ровно через пять дней после родов, они сменились непрерывным слабым попискиванием, а когда и оно перестало слышаться тоже, жители мошавы стали собираться у забора Зеева Тавори, выжидая, что произойдет сейчас. До той минуты они держались подальше от этого дома и даже от этой улицы, и только один человек все время оставался там — сосед, владелец великолепной голландской коровы и ее новорожденной телки. Этот сосед время от времени приносил Зееву Тавори кувшины кипящего чая и даже куски пирога, сидел возле него, как собака сидит возле хозяина, и охранял за него, когда Зеев засыпал на несколько минут или уходил по нужде.
4
Мало-помалу крики ребенка прекратились, и снова воцарилась тишина. Зеев Тавори сидел на своей вышитой подушке, прикрыв глаза, с ружьем на коленях, его сосед сидел рядом с ним, то и дело поглядывая вокруг, а по улице проходили люди, и одни убыстряли свои шаги, а другие, напротив, останавливались в ожидании у забора. Прошла уже неделя, и всем было ясно, что этому кошмару вот-вот придет какой-то конец.
Солнце поднималось, укорачивая тени на стене сарая, и, когда его лучи легли на веки Зеева Тавори, он открыл глаза, встал, подошел к поилке для коров и сполоснул лицо. Потом он снова сел, и, когда прошло около получаса, а голос ребенка по-прежнему не был слышен, он встал опять, вынул ключ, открыл замок и распахнул дверь сарая. Но не успел он войти, как из глубины сарая послышался еще один громкий крик — последний. Сойки ответили на него из леса страшным хором умирающих младенцев. Вскрики ужаса и жалости послышались среди собравшейся у забора толпы. Люди стали переступать на месте, но никто не отважился шагнуть вперед и никто не произнес ни слова.
Зеев Тавори на мгновенье отшатнулся, словно от удара. Но он тут же пришел в себя и исчез внутри сарая. Несколько минут спустя он вышел оттуда, неся в правой руке мешок, а в левой — лопату. Он оседлал лошадь, вскочил в седло и ускакал. Через час он вернулся, вошел в дом и, не обращая внимания на людей, все еще стоявших у забора, силой выволок из дома свою несчастную тещу.
— Возвращайся домой, — сказал он ей. — И лучше помолчи, иначе и там все узнают, какую дочь ты вырастила для меня.
Рут сидела неподвижно на кровати, не говоря ни слова. Зеев поел и отправился на работу, а вечером перенес свою кровать из сарая в дом, поставил ее в кухне, лег и стал ждать.
Целый год подряд они жили вдвоем в одном доме, ночь за ночью спали в нем и не говорили друг другу ни слова. Двенадцать месяцев подряд, день за днем, Зеев вставал раньше Рут, готовил ей завтрак — нарезанные овощи, маслины и сыр, крутое яйцо, иногда открывал также коробку сардин, оставлял все это на столе и уходил на работу во дворе или в поле. А каждый вечер, закончив работу, возвращался домой, убирал в кухне, наводил порядок и раз в неделю подметал пол. И каждый день Рут выходила из дома и всюду, где кто-нибудь пахал или рыл яму или траншею, останавливалась и смотрела — не здесь ли ее муж похоронил ее маленькую дочь?
Так прошел год, и как-то ночью Зеев Тавори поднялся со своей постели, вошел в комнату Рут, лег в ее кровать и поднял ночную рубаху на себе и на ней. Рут не шевельнулась и не издала ни звука. В ту ночь она забеременела их старшим сыном, а еще через два года — вторым. Она родила ему двух сыновей, которые выросли и поторопились покинуть отчий дом, как только смогли это сделать. Один из них позже стал моим отцом и умер преждевременной смертью, когда я была еще маленькой девочкой.
А тем, кто недоумевает, как я могла сочинить такой страшный рассказ, скажу: вы были бы вправе задать мне этот вопрос, если бы я его выдумала. Будь этот рассказ детищем моего воображения, мне было бы легче его написать. Но эта страшная история — история подлинная: Зеев Тавори — это мой дед, Рут — это моя бабка. Таков мой ответ.
Глава тридцать седьмая
— Когда Нете исполнилось пять лет, мы пригласили детей из его садика, их родителей и даже ухитрились уговорить дедушку Зеева, в порядке исключения, надеть в честь праздника повязку, на которой я вышила Микки-Мауса. Нета попросил, чтобы мы подарили ему длинный черный балахон. «С капюшоном, который скрывал бы лицо», — так он уточнил. Понятия не имею, откуда у пятилетнего ребенка слово «капюшон», но в любом случае балахон мы ему не купили, а подарили ящик для работы, как у его деда и отца, с настоящими инструментами внутри. Не с теми детскими игрушечными подобиями из пластика, а с настоящими рабочими инструментами, как подобает внуку дедушки Зеева и сыну Эйтана: маленьким степлером для забивания скоб, и такими же маленькими пассатижами, и настоящим, но маленьким молотком, и ключами разного размера, и кучей гаек и винтов. Ничего режущего или колющего, разумеется, потому что Эйтан сказал — какой грустной иронией это звучит сегодня: «С детьми нужно быть осторожней, у них в руках любой предмет может стать опасным».
Я помню, с какой радостью Нета раскрыл свой подарок. На какое-то время он даже забыл о черном балахоне, который он у нас просил, потому что тут же принялся что-то строить, собирать, завинчивать и развинчивать и был этим совершенно увлечен. Можно было видеть, сколько в этом ребенке терпения и серьезности, сколько доверия к правилам окружающего мира и его орудиям. Не слепого, наивного доверия, а доверия, покоящегося на уверенности. Конечно, эту уверенность он получил от нас с Эйтаном, но ведь в каждом ребенке есть и что-то новое, не унаследованное от отца с матерью, и уверенность Неты была спокойнее и серьезнее нашей.
Я не знала Эйтана ребенком, и это до сих пор вызывает мое любопытство. И я уже не узнаю Нету юношей или мужчиной, и это для меня мучительно. Я, естественно, представляю себе, что он был бы похож на Эйтана — того Эйтана, каким я его увидела впервые, на свадьбе Довика и Далии. И не только в силу генетики, но и потому, что он хотел походить на отца, а я уверена, что такое желание влияет на характер. Я видела все это в его походке, в той смешинке в глазах, которая выдавала семейную склонность к подражанию, в том, как они вместе орудовали этими маленькими детскими инструментами.
Нета следил за Эйтаном, всматривался в него, учился быть таким, как он, почти во всем. Я помню, как Эйтан учил его разжигать костер — крайне важное умение в нашей семейной пещере. Не помню, говорила ли я вам, а если говорила, то насколько убедительно, но в семье Тавори мой первый муж был Прометеем, который каждое утро приносил нам огонь. Я помню: зимой наш двор по утрам просыпался от ударов топора — это он рубил дрова для наших комнатных печей. Наших с ним, дедушки Зеева и Довика с Далией. Далию этот грохот раздражал, Довик говорил, что это самый приятный из всех существующих будильников, а дедушка Зеев изрекал: «Для настоящего мужчины работа — это еще и утренняя зарядка». Наш дедушка, кстати, терпеть не мог зарядку как таковую, саму по себе. Точно так же он терпеть не мог велосипедистов, которые приезжают сюда каждую субботу в своей смехотворной одежде, и фитнес-клуб, который основали у нас в поселке две дамы, одна из наших и одна из Тель-Авива: «Тьфу на них! — говорил он. — Настоящему мужчине все эти глупости ни к чему».
Я любила смотреть на Эйтана из окна нашей спальни, на его точные движения, на идеально законченный круг, который описывало лезвие, поднимавшееся из-за его спины и затем опускавшееся с огромной скоростью на полено. Я стояла в окне, полураздетая — сиськи наружу, и он кричал мне: «Накинь что-нибудь, даже отсюда видно, как тебе холодно!»
Наколов дрова, он разжигал огонь в яме для своих котелков, и примерно через полчаса там уже были угли для всех наших печей. Он появлялся в дверях, балансируя багровой шипящей кучей на лопате:
— Привет, красотка, я принес огня, чтобы тебе было хорошо и тепло, пока я снаружи.
Он бросал угли в печь, укладывал на них несколько брусков, сосновые шишки, две ветки и деревянное полено, закрывал железную дверцу и выпрямлялся:
— Когда разгорится как следует, закрой дымоход наполовину.
Еще одну лопату углей он приносил в дом Довика и Далии, а третью — дедушке Зееву, где его уже ждала чашка черного кофе, ломоть хлеба, брынза и Нета, который прибегал туда, чтобы сидеть с отцом и дедом и смотреть на пламя, взвивавшееся над углями, как только на них клали дрова.
— Ну, что ты скажешь, Эйтан? — спрашивал дедушка Зеев. — Не пришло ли время научить и нашего Нету разжигать огонь, как ты думаешь?
— А не слишком ли он мал еще? — отвечал Эйтан с интонацией, которая говорила: «Ты совершенно прав, но давай немного его подразним».
— Я совсем не мал, — очень серьезно и слегка обеспокоенно возражал Нета.
— Ну, раз так, я научу тебя, только не здесь в комнате. Сделаем это в яме возле шелковицы.
Самое главное, — объяснял он ему во дворе, — это приготовить все заранее, до того, как зажигать спичку.
И они вместе — опять это их проклятое «вместе»! — начинали готовить бумагу, и щепки, и хворост, и ветки, средней толщины и потоньше, и совсем толстые поленья, и все это — сложенное и готовое присоединиться к огню именно в этом порядке, каждое в свое время и каждое в свой черед.
— Хорошо начинать с сосновых щепок, — объяснял Эйтан. — Щепки очень легко загораются. Потом мы кладем тонкие бруски и сосновые шишки, они быстро схватывают пламя и дают очень большой жар. А уже тогда можно класть толстые поленья. Будь мы с тобой сейчас в пустыне, то положили бы еще несколько сухих веток ракитника. Как-нибудь я возьму тебя в пустыню и покажу тебе его. Ракитник дает самый сильный жар, какой только бывает. А потом мы вернемся домой к маме, и ты сможешь рассказать ей, что мы там делали.
Он скомкал несколько газетных страниц, положил на них несколько тонких щепок, поверх них — хворостинки, а на хворост водрузил строение из досок, когда-то устилавших площадку для разгрузки товаров, которую он разобрал.
— Можно построить это в виде маленькой палатки, а можно так, как я сейчас сделал, видишь? Это называется «алтарь»[130]. И обязательно нужно оставлять промежутки для воздуха. Огню нужен воздух. Он дышит, как мы.
Глаза Неты были прикованы к лицу Эйтана. Им очень подходило слово «изумленные».
— Потрогай свою кожу, Нета. Чувствуешь, какая она теплая? Потрогай меня. Ты чувствуешь, какие мы с тобой теплые? Это от огня, который горит у нас внутри. Для этого мы дышим. Чтобы у нашего огня был воздух, чтобы он не погас вдруг. Не бойся, наш огонь не такой, как огонь костра. Он не такой горячий, а кроме того, его не видно. Огонь костра горит быстро и умирает тоже быстро, а мы горим медленно и живем много лет.
Глаза изумленные, серьезные, горящие верой, той верой, больше которой не бывает, — верой ребенка в своего отца. Я помню: «Идем, Нета, я поведу нас до вершины вон того холма, а ты поведешь нас обратно». Я записываю: «Идем, Нета, поднимемся по диагонали и сядем там, чтобы нас не увидел тот, кто не должен нас видеть».
— Сейчас мы зажжем наш костер, но при одном условии: ты пообещаешь мне, что никогда не зажжешь огонь один, без того чтобы сначала сказать мне и попросить у меня разрешения. Обещаешь?
— Да.
— Ни дома, ни во дворе и ни в каком другом месте, да?
— Да.
Эйтан зажег спичку, поднес ее к комку бумаги. Появился язычок пламени, сопровождаемый тонким завитком дыма, который зачернил и сморщил бумагу, скользнул меж щепок, обвился, посветлел, поднялся к более толстым поленьям.
— Он всегда поднимается вверх. Видишь, как он пробирается? От тонкого к толстому.
Глаза Неты, подобно глазам великого множества детей до него, от древних детишек в пещере, что в нашем вади, и до него самого сейчас, в пещере нашего дома, неотрывно следят за танцем маленьких язычков пламени. Он берет палку и двигает ею одну из горящих веток, чтобы ее огонь приблизился к другому концу постройки, и Эйтан улыбается — еще один мальчик попал в древнюю мужскую ловушку.
— Еще немного, и все упадет, — сказал он. — И если мы построили наш костер правильно, все упадет в маленькую кучку углей внизу, и тогда уже все займется огнем и загорится без труда, даже дубовые дрова, и тебе останется только кормить его дровами. Потому что огонь любит поесть.
— Как дядя Довик, — сказал Нета, и Эйтан засмеялся.
Почему-то именно этот обычай — приносить нам всем угли каждое утро зимой — сохранился и после нашей беды, но уже безо всяких разговоров. Я однажды устроила засаду у дедушки — посмотреть, молчит ли он в его комнате так же, как в нашей. Эйтан пришел, все с той же пылающей лопатой в руках, бледный, с онемевшими губами, положил угли в печь и собрался уйти.
— Ты мне не разожжешь печь? — спросил дедушка.
Эйтан не ответил, но дедушка Зеев сказал мне, и Эйтан это слышал:
— У него внутри еще остался огонь. Угли под его пеплом живы. Ты еще увидишь, Рута, как что-нибудь разожжет его. Нужно только, чтобы кто-нибудь дунул. — И, помолчав, добавил: — Кто-нибудь или что-нибудь. Что-нибудь, что может дунуть.
Эйтан не сказал ни слова.
— Спасибо за угли, Эйтан, — сказал дедушка Зеев. — Иди в питомник и продолжай работать, я приду попозже посмотреть.
Он встал и открыл ему дверь, и Эйтан вышел и отправился отбывать свое наказание: двигать, и носить, и нагружать, и перетаскивать, и полоть, и чистить. Ладно, хватит! Все это уже закончилось. Достояние прошлого, не хочется больше говорить об этом. Вернусь лучше к тому дню рождения Неты. Это был удачный день рождения, а вечером, когда все разошлись, мы стали рассматривать подарки, и я сказала Эйтану, что довольна, что мы купили ему ящик с инструментами, но не потому, что, мол, есть подарки для мальчиков и есть подарки для девочек, и не из-за всех этих дурацких разговоров о мужественности и женственности и всего такого прочего, а потому, что он как раз в том возрасте, когда можно научиться получать кайф от работы и наоборот, и постепенно у нас развернулась беседа, которая перешла от ящика с инструментами к коробкам с игрушками, а от них — к ящикам с боеприпасами, оттуда — к оружию у нас дома, и так мы подошли к возможным домашним происшествиям и несчастным случаям вообще, и под конец я спросила Эйтана:
— Чего ты больше всего боишься из всех тех страхов, которые преследуют родителей маленького ребенка?
Эйтан сказал:
— Почему нужно вообще думать об этом?
Я сказала:
— Потому что это нормально. И конечно же у тебя в душе тоже есть такие страхи.
— Я боюсь обычных вещей, — сказал он. — Дорожная авария, пожар в доме, педофил, которого я убью, болезнь, игра с оружием, о чем мы говорили раньше, хулиган, балующийся на пляже с квадроциклом, которого я тоже убью, утонул в море, упал с дерева. Мало, что ли, возможностей?
Я сказала:
— Ты забыл добавить, что срубишь это дерево.
Он засмеялся.
— Тебе не хватает воображения, Эйтан, — сказала я. — Ты думаешь только о внешних причинах, которые могут повредить твоему сыну. А как насчет внутренних причин? Что это за идея у него — нарядиться в Ангела Смерти? Может быть, это что-то такое, что сидит в нем самом, такое, что само сигналит изнутри Ангелу Смерти: «Я здесь, я здесь!» Как те приборы самонаведения, которые устанавливали ты и твои товарищи. Я очень рада, что мы не купили ему этот балахон, и капюшон, и косу, которые он просил.
А через год с небольшим, когда наш ребенок погиб и погиб таким способом, которого ни я, ни Эйтан не могли себе и представить, я вспомнила об этом разговоре. Мне уже не с кем было обсудить его, но к тому времени я достаточно усовершенствовала умение говорить сама с собой. Может быть, он нарочно протянул руку змее, как будто играя с ней, дразня и соблазняя ее? Может быть, он этим как бы навязал ей желание укусить? Я вспомнила, как за несколько месяцев до того у нас в рассаднике появилась змея, и вдруг все всплыло в моей памяти. Кто-то обнаружил тогда гадюку среди ящиков с цветами, кто-то другой закричал: «Змея, змея!» — и сразу позвали Эйтана, потому что кого же звать, как не его? Эйтан пришел, встал над змеей, которая уже напряглась и даже слегка приподняла голову, и велел мне привести Нету, потому что представился случай показать ему, как подходить к змеям и как их убивать.
Я даже не подумала сказать «нет». И не спросила, зачем показывать маленькому мальчику такое зрелище. Я пошла и привела его.
— Идем, Нета, отец хочет тебе что-то показать, — сказала я ему.
— Что?
— Как он убивает очень опасную змею.
— Правда?
— Идем.
Эйтан стоял над гадюкой. Нета остановился чуть позади, но рядом, и я видела, что он хочет поучиться у него, хочет, чтобы отец был им доволен, но в то же время весь дрожит от страха. На нем были тогда — я вдруг вспомнила — те короткие штанишки, которые я залатала ему. на коленках, на одной — заплаткой в виде глаза, на другой — в виде сердца, и тогда я еще не знала, что однажды увижу их на маленьком и симпатичном русском мальчике, которого встречу с матерью на нашей улице.
Я не боялась, потому что однажды уже увидела, как Эйтан убивает гадюк во дворе. Одну или две в год. Он всегда говорил, что на природе не следует никого убивать, даже ядовитую змею, но дома, во дворе — это другое дело. Я не боялась, но тут вдруг испугалась и сказала ему:
— Может, не стоит, Эйтан? Мне не нравится, что Нета так близко к ней.
А Эйтан сказал:
— Это так легко — убить гадюку. Гадюка — змея жирная и медленная, не то что черный аспид, — тот такой быстрый, что человек не может догнать его даже бегом. Гадюка только кусает быстро, и все, что нужно, — это сохранять определенную дистанцию. — И повернулся к Нете: — Так на каком же расстоянии от змеи нужно стоять, Нета? На таком, которое больше ее тела. Обрати внимание: моя рука — отсюда досюда, рукоятка мотыги — отсюда досюда, вместе это длиннее, чем змея. Достаточно двух ударов, причем первый — даже не важно куда, вот так, видел? Сейчас она уже никуда от нас не убежит, а второй раз мы ее ударим прямо по шее, как можно ближе к голове. Не бойся, Нета, змеи продолжают немного извиваться и после того, как умирают. Вот, дадим ей еще раз, для надежности. А сейчас давай приподнимем ее, и я покажу тебе, как она открывает свои ядовитые зубы. Как перочинный ножик, видишь? Давай напугаем маму.
После ужина, когда гадюку уже съели сойки, а Нета уже спал, я спросила Эйтана:
— Зачем это нужно было, все это представление?
— Какое представление, Рута?
— Это представление с гадюкой — сегодня, в питомнике. Зачем ты учишь его таким вещам? Ты что, хочешь, чтобы к следующей гадюке он подошел без всякого страха? Ему же всего пять лет!
— Он не подойдет ни к какой змее без меня, — сказал Эйтан. — Нив пять лет, ни в десять. Но на определенном этапе, когда он вырастет, — тогда да. Он вырастет, и он подойдет, и еще как! И конечно, без страха. Надо просто дерзнуть.
— Надоели мне эти ваши мужские лозунги, — сказала я.
Он улыбнулся:
— Мы мужчины. Такие уж мы уродились.
— Хочешь услышать кое-что интересное? — спросила я. — Пару месяцев назад я прочла в газете о новом исследовании. Оказывается, большинство животных, которых находят раздавленными на дороге — шакалы, лисы, кошки, — имеют нечто общее. Ну-ка, попробуй угадать, что именно.
— Что они умирают.
— Прекрасно, Эйтан. Два очка. А что-нибудь поинтересней? Может быть, для разнообразия что-нибудь осмысленное?
— Не знаю, учительница.
— Общее у них то, что почти все задавленные — самцы.
— Действительно? — сказал он. — Так вот, я тоже провел небольшое исследование и выяснил, что это происходит потому, что все животные по другую сторону дороги — это самки.
— Нет, не потому. А потому, что эти задавленные тоже полагают, что нужно просто дерзнуть. Все это — те смельчаки, которых отец учил дерзать, пока его самого не раздавили из-за избытка дерзаний. Самки — те осторожней. У них всегда есть ребенок — или в пузе, или дома, или в сердце, или в памяти. Потому они и не дерзают.
— Это очень интересное исследование. — Он наконец посерьезнел.
— Ответственный родитель, тот, который всерьез заботится о своем ребенке, не учит его убивать змей и разжигать костры. Ответственный родитель учит его поведению за столом, китайскому и английскому языку и вдобавок организует ему дополнительный паспорт, кредитную карточку, флешку с фотографиями семьи и кисточки семян крестовника, чтобы улететь от нее как можно дальше.
Эйтан подвинулся ближе ко мне, и я почувствовала тепло его кожи.
— Ядовитая змея — это ядовитая змея. Если она приползает к тебе во двор, как эта гадюка, ты что, будешь говорить с ней по-китайски? Начнешь показывать ей семейные фотографии? Змею, которая заползает к тебе во двор или приближается к кому-нибудь из твоей семьи, нужно попросту убить, как убивают бешеную собаку или вырывают сорняк.
Знаете, Варда, есть такие мужчины, которым раз в какое-то время необходимо что-то убить, иногда даже кого-то. Иначе они просто сходят с ума. Вот и все. Это очень просто.
Глава тридцать восьмая «Это месть»
1
Сначала появилась голова, осторожно выглядывая из-за скалы на срезе склона. Потом поднялся ствол ружья, а за ним — весь человек. Молодой худощавый мужчина, вооруженный винтовкой М-16 с телескопическим прицелом. Он вышел на склон, соскользнул по нему и скрылся за кустом.
Спустя несколько минут он вышел из-за куста и спустился к большому харуву. Осмотрелся вокруг и поднялся к фисташковому дереву, которое прижалось к дубу на противоположном склоне. Эйтан, который прятался там, наблюдал за приближающимся человеком. Его легкий шаг, столь отличный от шагов парня, пришедшего утром искать зажигалку, был по-хозяйски уверенным. И выбор дерева был таким же логичным, как выбор самого Эйтана. Было ясно, что он собирается спрятаться за фисташкой и оттуда прикрывать того, кто подойдет к харуву через несколько минут. Эйтан присел в своем тайнике между ветками с дедушкиным «маузером» в руках.
Снайпер поднялся к фисташковому дереву и лег за ним, совсем рядом с Эйтаном, невидимым внутри фисташки, потом направил свою М-16 в сторону харува, а когда он начал устраиваться поудобней, Эйтан тихо сказал ему:
— Не шевелись, я целюсь тебе в голову.
Человек застыл.
— Кивни головой, что ты понял.
Человек кивнул.
— Брось свою винтовку в сторону.
Человек исполнил приказ.
— Положи голову лбом на землю, а руки держи за спиной.
Эйтан вышел из своего тайника и ударил человека по затылку прикладом «маузера». Потом связал ему руки за спиной, привязал к щиколоткам и хорошенько натянул веревку. Заклеил ему рот клейкой лентой, разорвал его рубашку, обернул ею его голову, а рукава завязал вокруг шеи. Затем поднял его и положил за дубом, а сам снова спрятался в своем укрытии.
2
Человек в шляпе появился четверть часа спустя. Он уселся в тени харува, снял с плеча сумку, глотнул воды из бутылки и огляделся вокруг, пытаясь понять, откуда придет его противник и где прячется его помощник. Минуты две Эйтан разглядывал его, а потом вышел из-за фисташкового дерева и спустился к харуву, направив свой «маузер» на сидящего.
Человек в шляпе не шелохнулся, только молча сопровождал взглядом его шаги. Дождался, пока Эйтан подойдет к харуву, и сказал:
— Опусти свое ружье. У меня здесь за деревом снайпер. Ты у него на прицеле.
— Мы уже встретились, — сказал Эйтан, — я и твой снайпер.
— Ты принес? — спросил человек в шляпе.
— Что?
— То, что здесь нашел.
— Что именно ты имеешь в виду?
— Золотую зажигалку.
Эйтан вынул зажигалку из кармана:
— Вот она.
— Сколько ты хочешь?
— За зажигалку или за твою жизнь? — спросил Эйтан.
— Не отвечай мне вопросом на вопрос, — сказал человек в шляпе.
— Ты не в том положении, чтобы указывать мне, что делать и что не делать, — сказал Эйтан. — А сейчас встань и подними руки, чтобы я мог тебя обыскать.
Человек секунду помедлил и поднялся. Эйтан взял «маузер» в правую руку — один палец на предохранителе, другой — на шейке приклада, срез дула под челюстью человека в шляпе — и левой рукой ощупал его тело.
— Твой пистолет в сумке?
— А ты бы хотел, чтоб я ходил с пистолетом на поясе, как идиот? — сказал человек. И добавил: — Это смешно. Не собираешься же ты в меня стрелять. Твой выстрел будет слышен по всей округе.
— Здесь не Тель-Авив, — сказал Эйтан. — Я уже пристрелил сегодня того парня, которого ты прислал утром, и никто не пришел выяснять, кто это тут стреляет.
— Но второй выстрел подряд скорее привлечет внимание. Даже здесь, у вас.
— Хорошо, — сказал Эйтан. — Ты меня убедил. Сделаем это тихо, без второго выстрела.
Он уронил ружье на землю, обхватил человека в шляпе руками и стиснул его изо всех сил.
Человек ответил с такой силой и стремительностью, наличие которых в нем нельзя было заподозрить, судя по его виду. Вцепившись руками в спину Эйтана, он стал колотить его ногами по ногам и попытался боднуть в лоб и в лицо своим затылком. Но Эйтан еще сильнее сжал объятья, и человек понял, что этот захват — нечто большее, чем просто силовой прием. Его движения стали судорожными. Потом он услышал, как трещат его ребра — два сломанных ребра. Эйтан тоже услышал этот хруст и слегка ослабил хватку.
— Видишь, — сказал он, — никакого шума. Никаких выстрелов. Никто ничего не слышит. А если кто-нибудь увидит нас издалека, то подумает, что я очень тебя люблю.
Человек глубоко втянул в себя воздух. Сломанные ребра укололи его легкие, и он готов был вскрикнуть от боли, но в эту секунду Эйтан снова стиснул его в руках и на сей раз в полную силу.
— Я дал тебе вдохнуть немного воздуха, — сказал он, — чтобы ты успел перед смертью услышать несколько важных вещей.
Лицо человека побагровело, глаза вылезли из орбит. Он понял, что сейчас произойдет, и его охватил страх смерти. Не страх смерти от потери крови и не страх смерти от жажды или голода, а самый первозданный из всех видов страха — страх удушья.
— Это месть, — сказал ему Эйтан, приблизив рот к его уху. — Я убиваю тебя из мести за старика, которого ты убил здесь вчера камнем.
Он снова ослабил свои объятья. Человек втянул воздух в мучительном судорожном усилии и простонал:
— Можно договориться. Скажи, чего ты хочешь…
Но тут его лицо из багрового сделалось фиолетовым и глаза вылезли еще больше, потому что Эйтан опять сжал руки.
— Я хочу, чтобы ты умер с сознанием того, что это тебе положено, и с пониманием, что ты идиот.
Он снова немного отпустил, и человек простонал:
— Он сам упал и сломал себе шею…
Эйтан снова стиснул руки.
— Это месть, — повторил он, вдавив подбородок в шею человека в шляпе, и его губы прошептали тому в ухо: — Вы приходите сюда, мерзавцы, и думаете, что все тут знаете. Но у этого места есть свои порядки и своя логика. Тут живут другие люди, и тут у каждого камня есть сторона темноты и сторона света. И если такие идиоты, как ты, кладут камень темной стороной вверх, то полицейские, возможно, этого не заметят, но мы тут заметим легко.
И снова сжал. На этот раз — со всей силой, которая накопилась в нем за двенадцать лет молчания и каторги.
Человек в шляпе хотел было крикнуть и взмолиться, но не мог ни вдохнуть, ни выдавить звук из горла. Лицо его почти почернело, и кровь уже лилась из носа. Только один, последний вопрос еще пылал в его мозгу: «Откуда у этого парня такая сила и такая преданность?» В его легких уже не оставалось воздуха. Его руки обессилили от беспомощных ударов. Брюки намокли от мочи. Только ноги все еще продолжали дергаться в последних судорогах. Эйтан сжимал его еще несколько минут, а потом, все так же прижимая к груди человека в шляпе с болтающимися в воздухе ногами, понес его к пещере за поворотом вади. Когда он разомкнул свои смертельные объятья над колодцем в пещере, мертвое тело со стуком упало вниз, прямо на труп козы, брошенный туда накануне.
Он вернулся к харуву, взял шляпу и сумку убитого, опять вошел в пещеру и спустился в колодец. Там он разбил его мобильник, бросил осколки на мертвое тело, положил шляпу и сумку ему на грудь и забрал его кошелек. Покрыв труп камнями, он вытащил из-под него и положил сверху мертвую козу. Потом вышел из пещеры и поднялся к харуву. Снова проверив, что не оставил никаких следов, он поднялся к своему фисташковому дереву.
Лежавший под деревом снайпер извивался там, пытаясь освободиться от стягивавшей его голову рубашки. Эйтан встал над ним:
— Успокойся. Тебе не стоит меня видеть. Это тебе не на пользу. — Он наклонился и похлопал его по плечу: — Твой босс уже на том свете. Я думаю, ты сумеешь как-нибудь докатиться до дороги, а по пути успеешь придумать подходящую историю, чтобы рассказать ее тому, кто тебя подберет.
Он порылся в его карманах, взял оттуда связку ключей, вытащил затвор из его винтовки, а потом стал собирать свои вещи, вычеркивая один за другим пункты на вынутой из кармана бумажке. Потом снял с обрубков веток кусочки зеленой клейкой ленты, положил их в рюкзак, завернул «маузер» в одеяло и, перевязав его, взвалил на плечо.
Когда он вышел на дорогу, пикап стоял на том же месте, где он оставил его накануне. Он снял с него полотнище и положил в ящик. Потом отогнал пикап на боковую тропу, взял грабли, стер следы, которые не заметил во вчерашней темноте, сел в машину, снял овечьи туфли и выехал на дорогу, ведущую к мусорной свалке.
Там он остановился, поднял валявшуюся на земле тряпку, вытер ею затвор М-16 и зашвырнул его и связку ключей подальше от дороги. Кошелек, полотнище, куски клейкой ленты и овечьи туфли бросил на кучу мусора, приготовленную к сожжению, осторожно плеснул на них немного солярки из своей запасной канистры и поджег. Заметив на своей рубашке пятна крови, он снял ее и тоже швырнул в огонь, подождал, пока все сгорит дотла, а потом пошел к машине, натянул на себя майку, лежавшую в кабине, и сел за руль.
Он выехал с другой стороны свалки на дорогу, ведущую к банановым и авокадовым рощам соседнего кибуца, и двинулся по ней медленно, чтобы не поднимать пыль и не привлекать к себе внимания. И вдруг почувствовал, что насвистывает. Сначала с трудом, потому что вот уже двенадцать лет не складывал губы на такой манер — ни для свиста, ни для поцелуя, ни для произнесения звуков речи, — но уже через несколько минут его свист стал более уверенным и точным. Он проехал рощи, тянувшиеся за оградой, потом еще несколько километров полевыми дорогами и только тогда снова поднялся на мощеную дорогу и прибавил скорость.
На его лице появилась улыбка. Третья за последние сутки. Она тоже была кривоватой — улыбка губ, забывших и это занятие, — и все же это была улыбка. Он сделал то, что должен был сделать. Может быть, теперь станет немного легче, подумал он.
Двенадцать лет прошли и кончились, и еще один день ожидал его впереди — день похорон дедушки Зеева. День, когда он попрощается со своим старым и самым лучшим другом, за которого только что отомстил. День, когда он в первый раз придет на кладбище мошавы и увидит там памятник своему сыну.
Глава тридцать девятая Сарай
1
Однажды вечером, через несколько месяцев после дедушкиных похорон, мы сидели вчетвером, Довик и Далия, Эйтан и я, и ели салат, приготовленный Далией, и яичницу Эйтана, и маслины, которые засолил и оставил нам в наследство дедушка Зеев. И Далия, именно она, вдруг сказала:
— Может быть, сейчас, когда он уже умер и уже ясно, что он не вернется, мы наконец поломаем этот его старый сарай, который уродует нам весь двор?
— Ты права, — сказала я, чуть не в первый раз за все время, что я ее знаю, и, повернувшись к Довику, повторила: — Твоя жена совершенно права. Давно пора снести эту развалюху.
— Почему снести? — спросил Довик, который прежде времени усвоил консерватизм и скаредность старого крестьянина и стал походить на людей, над которыми в молодости насмехался. — Чем он вам не нравится?
— Всем, — сказала я. — Все в нем отсырело, пол прогнил, вода течет внутрь, а воспоминания — наружу. Надо выбросить все, что там есть, сломать его, залить бетонный пол вместо прогнивших досок и поставить на этом бетоне новый сарай. Сегодня продаются готовые сараи из пластмассы, которые и задачу свою выполняют, и выглядят очень хорошо.
— Как символично, — сказала Далия, и я второй раз за время нашего с ней знакомства признала ее правоту:
— Наконец-то ты нашла символику там, где она действительно есть.
— Я имела в виду, как символично, что люди переходят от деревянных сараев к сараям из пластмассы, — сказала Далия.
— Конечно, — сказала я. — Извини, что я заподозрила у тебя символику другого сорта.
— Но зачем выбрасывать то, что там лежит? — спросил Довик.
— Я разрешаю тебе проверить это старье перед тем, как его выбросить, и оставить себе из него все, что ты хочешь, — сказала я.
— Хорошо, — сказал Довик. — Я привезу рабочего из Чайна-тауна.
«Чайна-тауном» у нас в поселке называют небольшое здание на краю квартала коммунальных домов. Там обитает дюжина китайских рабочих, которые работают на стройках. Они выращивают у себя во дворе уток и овощи и кроме своего основного дела нанимаются также на любую другую работу и ко всем желающим. Внимательные и неприметные, они тенями проходят по нашим улицам и, хотя выучили несколько ивритских слов, ни с кем не вступают в контакт. Но хозяин нашего мини-маркета заметил, как они беспомощно смотрят на полки его магазина, и начал заказывать себе для них китайскую лапшу, красные и черные соусы, экзотические консервы и дешевое, но очень крепкое пиво. Он помогает им находить случайный приработок, и те из мошавы, кому нужен работник, идут теперь прямо в мини-маркет.
— Китаец или не китаец, но взять работника — это плохая идея, — сказала Далия. — Кому-то из нас придется следить за ним. Кто знает, какие вещи наш замечательный дед там спрятал, — какие-нибудь тайные бумаги, ручные гранаты, золотые монеты…
— Хорошо, — сказал Эйтан, — я буду следить.
Он позвонил товарищу, который торговал стройматериалами, — еще одна лампочка вспыхнула в их потайной сети, — и заказал у него сетки, проволоку, мешки с известью, цемент и гравий.
Назавтра он встал рано утром и поставил кастрюлю на огонь, а Довик отправился в Чайна-таун и привез оттуда работника — маленького, худого китайца, ладони которого, казалось, принадлежали человеку куда большего роста, — и они вместе освободили сарай от его содержимого: старых банок с краской, тряпок, ржавых прутьев и ржавой проволоки.
В тот день уроки у меня начинались в одиннадцать, и вместо того, чтобы проверять домашние задания и контрольные, я обнаружила себя во дворе, созерцающей разграбление и разрушение старого сарая. Эйтан порылся в развалинах, нашел там складную лопату — видимо, принадлежавшую какому-то британскому солдату — и вернул ее к жизни с помощью растворителя ржавчины и наждака. А Довик нашел и забрал молоток и большой деревянный ящик, в котором, к его большому разочарованию, не было ни ручных гранат, ни золотых монет, а только старая пыльная подушка. Он ударил ее о ствол дерева, и поднялось удушливое серое облако. Подушка расцвела вышитыми цветами и птицами, бутонами и почками.
— Хочешь эту подушку, Рута?
— Честно говоря, совсем не хочу. Спасибо.
— Вот и все, — сказал Эйтан. — Больше тут ничего нет. Он может работать без надзора.
Разрушить сарай оказалось очень легко. Как только китаец вытащил дверные косяки, все части обрели свободу и развалились с легким громыханием. Казалось, что сарай и сам рад был рассыпаться, словно ему опротивело все, что в нем было, и все, что в нем произошло.
Я вернулась в дом, чтобы собраться на работу. Потом выглянула в окно и увидела, что Эйтан размечает кольями и проволокой границы ямы, которую надо выкопать под бетонное основание для нового сарая. Закончив, он дал китайцу мотыгу, лопату и деревянную доску шириной сантиметров двадцать, чтобы отметить ею глубину ямы. В это время на улице раздался гудок, и во двор въехал шикарный грузовик, а за ним втянулся тяжело нагруженный прицеп. Приятель, торговавший стройматериалами, доставил все, что Эйтан заказал, и еще добавил от себя вибратор для уплотнения грунта и маленькую бетономешалку.
Он вышел из машины, принюхался к воздуху, сел под шелковицей и стал ждать, пока закипит «пойке». Довик и Эйтан присоединились к нему у огня. Я смотрела на них из окна — кто я, как меня зовут? Иезавель? Мелхола? Мать Сисары?[131] — и видела моего супруга, моего первого мужа: вот он — говорит, улыбается, как бывало, и его руки движутся в воздухе прежними широкими движениями, колдуют над костром, ворошат горящие поленья.
Он показал приятелю старую военную лопату, которую нашел в сарае, и они втроем, счастливые, как щенята, складывали и открывали ее и по очереди втыкали в землю. Потом они закончили есть, разгрузили прицеп, приятель объяснил, как запускать вибратор и бетономешалку, и уехал.
2
Довик и Эйтан отправились по своим делам в питомник, китаец продолжал свою работу, а я вместо того, чтобы поторопиться в школу, продолжала смотреть на него. У него были размеренные, экономные, приятные глазу движения опытного рабочего, но я чувствовала, что мой взгляд прикован к лопате, которая раз за разом врезалась в мягкую землю, нагружалась и отбрасывала в сторону все новые и новые комья.
Наконец он перестал копать и начал разравнивать дно ямы перед тем, как рассыпать по нему известь и уплотнить ее. Я помню: внезапно зазвонил телефон — вероятно, школьная секретарша, — но я не ответила. Я зачарованно следила за лезвием лопаты, которое размеренно двигалось, разравнивая дно ямы, и вдруг услышала странный звук: словно плач ребенка вырвался откуда-то из кроны нашей шелковицы, плач младенца.
Китаец выпрямился, удивленно уставился на свою лопату, потом повернулся и посмотрел на фикус, который рос на улице рядом с нашим двором, потому что и оттуда вдруг донесся такой же плач и сразу следом за ним — еще один, со стороны соседского пекана. Он, конечно, не мог знать, что слышит первых соек, вернувшихся в поселок после долгих лет изгнания. И сомнительно, знал ли он вообще, что имеет дело с сойками, потому что китайские сойки совершенно непохожи на наших, я специально проверяла потом и прочла, что хвосты у них длинные, а туловища черно-белые и что китайцы называют их «веселыми птицами», в то время как наши сойки имеют хохолок на голове, синие пятна на каждом крыле и вовсе не веселые, а сварливые и нахальные. Но и те и другие — и сойки в Китае, и сойки в Израиле — способны подражать человеческим звукам, и плач младенцев тоже одинаков в обеих странах.
Китаец пожал плечами, снова взялся за лопату и продолжил работу, но тут сойки раскричались еще громче, их вопли уже доносились с каждого дерева на улице, и каждый такой вопль сверлил, и тревожил, и мучил душу звуками, которые способен извлечь из горла только младенец.
Я открыла окно и высунулась наружу. Теперь я их видела — они метались с дерева на дерево, исчерчивая воздух синими вспышками и наполняя его пронзительными воплями. Китаец снова посмотрел на них с любопытством и опаской и опять вернулся к своему делу. Лезвие лопаты скользнуло по дну ямы, снаружи послышались новые вопли, лезвие загребло тонкий слой земли, и к хору присоединились новые сойки — прилетели из далеких рощ, из дубового леса, с холмов и из вади, расселись на деревьях нашей красивой и тихой улицы и завопили вместе со всеми.
Довик крикнул из питомника:
— Рута, что там происходит? С чего они так разорались, эти мерзкие птицы?
Но я не обращала внимания ни на птиц, ни на его крики — мой взгляд был прикован к рабочему, который вдруг отбросил лопату, опустился на колени, встал на четвереньки и начал всматриваться во что-то на дне ямы.
Потом он повернул голову и увидел, что я стою в окне и смотрю на него. Я выбежала наружу, наклонилась над ямой и увидела, что он что-то там ощупывает — кусочек какого-то маленького купола, выступающий над землей.
Я тоже опустилась на колени и присмотрелась. Сойки кричали, как безумные, и мое тело поняло и застыло еще до того, как мой мозг осознал и понял.
— Что там происходит? — снова крикнул Довик. — Почему Эйтан не стреляет в них?
Китаец поскреб вокруг, очистил сильными пальцами и осторожными дуновениями. Поначалу очищенный кусок показался мне обломком глиняного кувшина или, может быть, миски, но он копнул дальше, и в этом куполе вдруг открылись два больших круглых отверстия и глянули прямо на него и на меня.
— Стой, стой! — закричала я, но китаец продолжал осторожно работать пальцами, и мало-помалу маленький череп открылся полностью. Он поднял его на руке. Пустые глазницы глянули на нас жутким человеческим взглядом, и, когда он положил его обратно, череп покатился по дну ямы, и его глазницы то появлялись, то исчезали, как у куклы, которая то открывает, то закрывает глаза. Вот она я — мертвая дочь Нахума Натана и бабушки Рут. Вот она ты — девочка, которую ее мать искала во всех других местах, только не в сарае собственного дома, где она была похоронена, — в нашей земле, прямо рядом с нами.
— Довик! — завопила я. — Довик!
— Что случилось?! — крикнул он из конторы.
— Иди сюда! Быстро!
Китаец спокойно и сосредоточенно продолжал раскапывать. Он соскреб еще немного земли, поковырялся в ней и вытащил еще несколько косточек, маленьких и тонких. Если бы не череп и не вся история деда, можно было бы подумать, что это скелет какой-то птицы. Китаец расстелил на земле мешок и стал укладывать на него появлявшиеся из земли косточки, одну за другой, и поскольку мозг всегда ищет во всем законченные формы и во всем хочет найти — и находит — порядок и смысл, эти кости сделались рукой, и бедром, и маленькой грудной клеткой, и крошечными кистями рук. Челюсть, на которой еще не выросли зубы, присоединилась к черепу и к глазницам, и все они вместе сделались лицом. Вот ты, мертвая малютка Нахума Натана и бабушки Рут! Что, и Нета так выглядит после двенадцати с половиной лет, проведенных в земле?
Довик встал рядом со мной, посмотрел и сразу все понял.
— Он похоронил ее внутри сарая, а потом вышел и сел на лошадь, взяв с собой ту лопату, которую мы нашли, когда рушили сарай, — сказал он спокойно и вполне логично, но потом добавил чуть громче: — Целое представление устроил для мошавных, чтобы они думали, что он собирается похоронить ее в каком-то другом месте. — И вдруг затопал ногами и закричал страшным голосом: — Тебе мало было всего, что ты сделал, да?! Тебе хотелось еще видеть, как бабушка всю жизнь ее ищет? Ищет и не находит, ищет и не находит, ищет и не знает, что она здесь, у нас в сарае, в двух метрах от своей матери!
Он буквально сломался, развалился на части. То ли опустился, то ли упал на колени, встал на четвереньки над маленькими косточками и кричал страшней, чем Эйтан на похоронах Неты, плакал так, как я не осмелилась плакать тогда.
— Как же ты мог растить нас в этом доме, гнусная ты тварь! Как же ты посмел заставить нас ходить по этой земле, с бабушкиной девочкой у нас под ногами? — Он ударил ногой тачку и перевернул ее: — Вот вам все его семена, и саженцы, и цветы! Вот, что он на самом деле посадил и посеял здесь!
Я никогда не видела его в таком состоянии. Я даже на миг обрадовалась, что дедушка уже умер, потому что, будь он жив, Довик вполне мог бы сейчас броситься на него с кулаками.
Люди стали собираться у нашего забора. Костей они не видели, но услышали крики. Семейство Тавори, по своему обыкновению, снова устроило представление, а мошава, по своему обыкновению, снова слышала и молчала.
— Вон отсюда! — завопил Довик. Пена кипела на его губах. Он наклонился в поисках камня, доски, чего-нибудь, что можно было бы бросить в этих зевак. — Вон отсюда! Здесь вам не театр!
Китаец в смущении отступил в сторону, а я наклонилась и смешала рукой скелет младенца, который он только что собрал на мешке, чтобы из ребенка недельного возраста превратить его снова в неприметную и случайную груду неопознанных костей. Эйтан, стоявший рядом со мной, тоже наклонился и молча стал собирать эти кости в маленькую картонную коробку. Потом поставил ее рядом, сразу же завел вибратор, с большим шумом утрамбовал землю, взял лопату, быстро рассыпал поверх щебень, разровнял его и утрамбовал снова.
Его движения были быстрыми и уверенными, какими только и могли быть движения моего первого супруга. Утрамбовал. Расстелил нейлоновые полотнища. Положил на них несколько камней, а поверх них сетки. Включил мешалку, нагрузил в нее цемент, песок и щебень, добавил воды и, когда все было готово, начал заливать бетон.
— Быстрей, — сказал он рабочему, — быстрей! — и тот схватил лопату и стал длинными, широкими движениями разравнивать застывающую массу.
Прошло всего несколько минут, а уже появился новый пол, который вот-вот высохнет и затвердеет и станет новым полом нашего нового сарая, в котором никто не сможет уморить, или захоронить, или найти еще одного ребенка.
Китаец разгладил бетон несколькими последними движениями лопаты и закончил работу каким-то другим, незнакомым мне орудием — такая деревянная дощечка с ручкой.
— Вот и все, — сказал Эйтан. — Теперь нужно только немного подождать.
Он уплатил рабочему и отправил его домой.
3
Солнце зашло, и через несколько часов, когда воцарилась полная темнота, мы — Эйтан, Довик и я — взяли маленькую картонную коробку и нейлоновый мешок с четырьмя большими луковицами морского лука и пошли на кладбище. Далия не присоединилась. Она сказала, что не хочет иметь отношения ко всей этой истории, и добавила:
— Радуйтесь, что я не пошла в полицию, в такой семейке давно пора было это сделать.
Мы не испугались. Семья Тавори не боится таких людей, как наша Далия. А Довик, который тем временем уже успокоился, сказал ей:
— Пережили деда, переживем и тебя[132].
Мы пошли на кладбище. Эйтан выкопал узкую и глубокую яму в небольшом промежутке между могилой Неты и могилой бабушки Рут — похоронить там кости. Он копал молча, орудуя своей маленькой киркой и той лопатой, которую мы нашли в сарае до того, как его снесли, и, когда углубился сантиметров на шестьдесят, положил туда коробку, засыпал ее слоем земли, а в землю воткнул две луковицы. С другой стороны могилы Неты он посадил две другие луковицы — все четыре с почками первых зеленых листьев, которые морской лук выпускает осенью, — на случай, если кто-нибудь удивится, увидев, что здесь недавно что-то копали. Довик полил луковицы, и мы отправились домой. Дома Эйтан сказал, что нужно глянуть на новый пол, начал ли он уже затвердевать. Он протянул туда освещение, посмотрел, пощупал и сказал, что если кто-нибудь хочет запечатлеть в этом бетоне свою ладонь, то сейчас для этого представляется последняя возможность. Довик позвал Далию, и так мы и сделали: Довик впечатал в бетон свою ладонь, Далия поспешила явиться и отпечатала свою ладонь так, чтобы отпечаток ее мизинца касался отпечатка его мизинца, а за ними — Эйтан и я, две ладони, сходные по размеру и рядом друг с другом.
— Отличный пол, Эйтан, — сказала я. — Ты только что залил его, а я уже забыла, что здесь когда-то стоял тот ужасный сарай.
— Для тебя, госпожа моя, — сказал он. — Чтобы найти благоволение в глазах твоих.
— Я благоволю.
— Я полью его немного, — сказал совсем уже успокоившийся Довик. — Чтобы бетон не потрескался.
— Не нужно, — сказал Эйтан. — Меня только что шлепнула по голове капля дождя.
— И меня, — сказала я.
Капля, другая, и небо враз потемнело, и хлынул первый осенний дождь. Сильный, как всегда в наших местах. Разверзлись, согласно указаниям Библии, хляби небесные, ударили первые капли, молнии прорезали темноту, гром прогрохотал и покатился вдаль, небо стало обиталищем ревущих чудовищ.
Довик и Далия бросились к себе домой, а мы с Эйтаном пошли к себе. Мы стояли у окна, плечо к плечу, и смотрели. Эйтан обнял меня и положил голову на мое плечо. Дождь все усиливался, пробуждая семена и воспоминания, прорывая новые каналы, стирая свидетельства былого.
Эйтан сказал:
— Забавно, Рута, — человек должен был проделать весь путь из Китая сюда, чтобы найти здесь этого несчастного младенца.
Я сказала:
— Это не забавно, но в этом есть очень большая правда.
4
Та зима была очень дождливой. Непрерывно громыхала громами, полосовала небо молниями, завывала холодными ветрами. Трясогузки возвещали приход очередной грозы, малиновка плясала меж капель. Дожди переходили в ливни, лужи разливались озерами, град стучал по крышам. Это была зима, которая получила название «та зима».
И когда «та зима» кончилась и мы пошли на первую весеннюю прогулку в дедушкино вади, но уже без дедушки, нас ожидал подарок от него. Под харувом, в том месте, где никогда ничего не росло, расцвела небольшая, но густая и ликующая группа маков, люпинов и синих васильков, окруженная листиками лютиков и цикламенов.
Далия сказал:
— Как это символично! Это его настоящий памятник!
— Еще одна такая фраза, Далия, — сказала я, — и ты получишь от меня камнем по голове.
Довик засмеялся, а Далия сказала:
— Тогда как ты объяснишь, что именно в том месте, где он умер, расцвели те цветы, которые он любил? Разве это не символично?
Довик сказал:
— Это именно потому, что он здесь упал, потому что, когда он упал, те семена, которые он собрал, тоже упали на землю, и вот так они тут расцвели.
— Я так люблю, Довик, когда мы мне все объясняешь, — сказала Далия и взяла его за руку.
Глава сороковая Лето, которое пришло после «той зимы» (черновик)
Я пишу:
То лето было очень жарким. С утра до вечера — раскаленные ветра. Дни медленно текли за днями, стекались в месяцы и высыхали один за другим. Цикады и сойки сопровождали то лето, каждая в отдельности и шумными стаями: пришли с ним вместе, были с ним вместе, ушли с ним вместе. То лето уходило медленно.
Скупыми были слова. И ни одного о годах, что прошли, о той змее, что укусила, о том, что Эйтан сделал, как я предполагала, там, в вади, около большого харува, после смерти дедушки Зеева. Ни одного из тех слов, которые хотели бы и могли бы облегчить, или объяснить, или упрятать.
Я рассказываю.
В то лето ко мне вернулся мой первый муж. Вернулся, точно младенец, родившийся сам собой. Вот — родился и рос себе, и — как у всех младенцев — каждый день что-то хорошее: первая улыбка, новое слово, уже сидит, уже ходит, уже говорит. Разжигает огонь. Пытается рассмешить. Улыбается. Вспоминал ли все это? Придумывал ли заново? Не важно. Важно, что он снова со мной. Здесь.
Я вижу:
Он похудел. Еще немного, и он вернется к своей прежней форме. Однажды я повезла его к нашему водоему, уже не такому тайному. Мы разделись, стоя напротив друг друга. Под определенным углом зрения и падающих лучей солнца я увидела, что он чуть-чуть позолотился. Это хорошо. Вернувшись, мы вместе пошли на кладбище.
Я лежу:
С ним.
Только с ним.
Я беседую:
С моим братом. Его зовут Довик. В честь дяди Дова, который привез нам в своей телеге ружье, и корову, и черный камень суровый, и дерево тут, и бабушку Рут.
— Ничто ни изменилось в этой семье, — говорю я ему. — Мы были и остались тем базальтовым камнем, что вделан в стену дедушкиного дома. Он сам, и Эйтан, и ты, и я — все мы такие. Но камень не выломаешь, как мы сломали сарай, потому что если выломать этот камень, рухнет весь дом.
Довик молчит. Опускает ложку в кастрюлю, в которой смешивает лимончелло, пробует и протягивает мне ложку — чтобы я тоже попробовала и оценила.
Я отворачиваю голову. Нет.
— Да и какая разница? — продолжаю я. — Главное, что Эйтан вернулся. Вернулся домой, ко мне. Хотя бы он…
Довик не отвечает.
— И что смешно во всей этой несмешной истории, — говорю я, — смешно в ней то, что не моя любовь спасла его и не мое терпение вылечило, а все это сделал дедушка Зеев. Та работа, которую он взвалил на него, и его завет с той стороны смерти, — завет мести.
Довик не отвечает. Как и дедушка Зеев, он тоже не любит, когда слишком много говорят о некоторых вещах и о некоторых временах.
И я умолкаю. Я вспоминаю: я ведь тоже такая.
Примечания
1
Все главы романа, имеющие названия, — это рассказы, сочиненные главной героиней книги, Рутой Тавори, на основе семейных воспоминаний, слухов и домыслов, то есть, по сути, они составляют «книгу в книге», своеобразный «семейный миф», который она постепенно создает. Те же главы, которые не имеют названий, — это записи интервью главной героини, где она рассказывает об эпизодах семейной истории, которым сама была свидетелем и в которых сама участвовала. (Здесь и далее — примеч. переводчиков.)
(обратно)2
Вади — безводное русло пересыхающей реки или весеннего водостока, порой в десятки километров длиной, иногда долина бывшей реки, заросшая деревьями или травой.
(обратно)3
Харув — рожковое дерево.
(обратно)4
Йала (араб.) — ладно, хорошо.
(обратно)5
1 Цар. 25, 13 и далее.
(обратно)6
Мошава (мн. число — мошавот): один из видов ранних еврейских сельскохозяйственных поселений в Палестине. В отличие от кибуцев и мошавов, в мошаве люди только живут в одном поселке, но все остальное (земля, производство, сбыт, снабжение и потребление) остается частным. Мошава ближе всего к русскому пониманию старой деревни, и она была первым по времени типом еврейских поселений в Палестине.
(обратно)7
Руф. 1,11–12.
(обратно)8
Ханука, или Праздник огней, — еврейский праздник в честь освобождения Иерусалима от захватчиков-селевкидов и очищения Храма от идолов (164 г. до н. э.). Начинается 25 кислева (ноябрь-декабрь).
(обратно)9
Гранола — прессованные овсяные хлопья с добавлением меда.
(обратно)10
Танах — аббревиатура названий трех книг: Тора, Невиим (книги Пророков) и Ктувим (Писания), составляющих еврейскую Библию.
(обратно)11
Барон Эдмон де Ротшильд (1845–1934) — еврейский филантроп, в конце XIX и начале XX в. создавший около двух десятков еврейских поселений в Палестине.
(обратно)12
Хамула — на языке средиземноморских арабов расширенная семья или клан, основная ячейка арабского общества.
(обратно)13
Пекан — разновидность орехового дерева, плоды которого, напоминающие грецкий орех, но без перегородок внутри, идут в пищу и применяются при изготовлении сладостей.
(обратно)14
Измененная цитата из песни «Бикурим» («Первые плоды»), посвященной празднику дарования Торы: «Принесли мы первых плодов роскошных целую корзину».
(обратно)15
Комиссия Пиля — британская королевская комиссия под руководством лорда Пиля, назначенная в 1936 г. для решения арабо-еврейского конфликта в Палестине (находившейся тогда, по мандату Лиги Наций, под управлением Великобритании). В 1937 г. комиссия предложила сторонам разделить страну и обменяться населением, но арабская сторона отвергла это предложение.
(обратно)16
«Зажечь факел вызывается такой-то или такая-то» — принятая в Израиле формула вызова человека для зажигания факела в День независимости.
(обратно)17
Рут Моавитянка — героиня библейской Книги Руфи (на иврите Книги Рут), девушка из земли Моав, ставшая женой Вооза; Библия считает ее прабабушкой царя Давида. На иврите она именуется Рут а-Моавия, и это дает героине Шалева основание и ее называть Рута (РутаМоавия).
(обратно)18
Выражение из Притч Соломоновых (31,10).
(обратно)19
Natives — местные жители, туземцы (англ.).
(обратно)20
Прит. 22, 24.
(обратно)21
Халуц (ивр.) — первопоселенец, пионер.
(обратно)22
«Шатер Иакова», «пустыня Измаила» и «поле Исава» — в Библии о первенце Авраама Измаиле (изгнанном вместе с его матерью Агарью в пустыню) сказано, что он «вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука» (Быт. 21, 20), а первенец Исаака Исав (продавший первородство за чечевичную похлебку) именуется «человеком, искусным в звероловстве, человеком полей» (Быт. 25, 27). Этим кочевникам противопоставляется оседлый человек Иаков (прародитель всех двенадцати колен Израилевых), который, по Библии, был «человеком кротким, живущим в шатрах» (Быт. 25, 27). Но в Талмуде этот «шатер Иакова» толкуется уже не только как жилище, но и как символ «дома учения», где Иаков учился «мудрости Божьей».
(обратно)23
Братья Иосифа пасли скот на пастбищах Шхема (Сихема), и Иосиф нашел их в Дотане (Дофане), где они кинули его в яму, перед тем как продать в рабство.
(обратно)24
Шойхет — резник, знающий правила ритуального убоя скота и обработки мяса; миква — бассейн для ритуального омовения.
(обратно)25
Имеется в виду барон Эдмон де Ротшильд.
(обратно)26
Миньян — установленное законами иудаизма минимальное число взрослых мужчин для групповой молитвы; тфилин — накладываемые во время молитвы коробочки на ремешках с вложенным в них текстом Торы; кашрут — предписанные законами иудаизма правила приготовления пищи.
(обратно)27
Первая алия — утвердившееся названия для первой волны еврейской иммиграции в Палестину (1882–1903 гг.).
(обратно)28
Втор. 19, 15.
(обратно)29
Из библейского рассказа об Иосифе (Быт. 37, 33).
(обратно)30
В Библии о таком случае и его возможных последствиях сказано: «Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему» (Исх. 22,2).
(обратно)31
Из того же библейского рассказа об Иосифе — слова, с которыми братья Иосифа, принесшие домой окровавленную одежду младшего сына, обращаются к отцу, Иакову (Быт. 37, 32).
(обратно)32
Из обращения Ровоама, сына Соломона, к взбунтовавшимся израильтянам: «Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами» (3 Цар. 12, 11).
(обратно)33
«Хевра кадиша» («Святое братство», ивр.) — объединение людей, которые оказывают последние почести умершему, готовят его к погребению и проводят обряд похорон.
(обратно)34
Быт. 50.25.
(обратно)35
То есть имя, данное в галуте («изгнании»), за пределами Палестины.
(обратно)36
Иона 3, 4.
(обратно)37
Проколотое ухо — символ добровольного и пожизненного рабства. Эта символика восходит к библейским временам, когда закон (Исх. 21, 2–6) обязывал хозяина отпускать раба-еврея на волю после шести лет рабства, но раб, который провозглашал: «Люблю господина моего… не пойду на волю» — становился добровольным вечным рабом, и в знак этого его подводили к косяку двери и прокалывали ухо шилом.
(обратно)38
На иврите «мой муж» (а также «мой господин») — это «баали», тогда как «мой супруг» — это «иши», но в русском (синодальном) переводе это различение пропадает и «иши» тоже переводится как «мой муж», а слова «супруг твой» появляются в синодальном переводе лишь один раз (Ис. 54, 5).
(обратно)39
Быт. 2, 24.
(обратно)40
1 Цар. 16, 21.
(обратно)41
2 Цар. 11, 15.
(обратно)42
1 Цар. 18, 27.
(обратно)43
Обыгрывание библейских фраз: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1, 31); «И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна» (Быт. 49, 15).
(обратно)44
Обыгрывание библейских фраз: «Они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей» (2 Цар. 17, 8); «Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои» (Пс. 101, 8–9); «Не заграждай рта волу, когда он молотит» (Втор. 25, 4); «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже» (Пс. 41, 2).
(обратно)45
Так оформлена восьмая глава в книге (прим. верстальщика).
(обратно)46
Намек на талмудическое описание рабби Иоханана бен Нафха: «Кто хочет понять красоту рабби Иоханана, пусть возьмет гравированный серебряный стакан, и наполнит его зернами красного граната, и украсит его сверху красной розой, и поставит между солнцем и тенью, и это и есть сияние красоты рабби Иоханана» (трактат «Баба Меция»),
(обратно)47
Ce passé — это прошлое (фр.).
(обратно)48
Парафраз библейского: «Мука в кадке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю» (3 Цар. 17, 14).
(обратно)49
Парафраз библейской заповеди, запрещающей «закалать» (убивать) корову или овцу «в один день с порождением ее» (Лев. 22, 28).
(обратно)50
Божий приговор Змею: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3, 15).
(обратно)51
3 Цар. 8:37.
(обратно)52
Виды наказаний, упомянутые в различных библейских книгах (Иер. 49, 19; 4 Цар. 2, 24; Пс. 77, 49; Иис. Н. 10,11; Числ. 16, 32).
(обратно)53
Парафраз Книги пророка Иеремии (2, 2).
(обратно)54
Быт. 28, 14.
(обратно)55
Насмешливый парафраз обетования Измаилу: «Руки его на всех и руки всех на него» (Быт. 16, 12).
(обратно)56
«Черный сентябрь» — палестинская террористическая организация 1970-х годов, совершившая, в частности, нападение на израильских спортсменов на Мюнхенской олимпиаде 1972 г.
(обратно)57
Федаины, фидаи (букв. «жертвующие») — участники арабских и других национально-освободительных движений, часто террористического толка.
(обратно)58
Арабский (или Иорданский) легион — название регулярной армии Трансиордании и Иордании в 1920–1956 гг.
(обратно)59
В израильской армии существуют 9 медицинских профилей, соответствующих состоянию здоровья призывника; профили 31 и 45 могут служить, но не в боевых частях.
(обратно)60
Отголосок библейского: «И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своею в Фимнафу, и когда подходили к виноградникам Фимнафским, вот, молодой лев, рыкая, идет навстречу ему» (Суд. 14,5). «Медведи из леса» — из рассказа о пророке Елисее (4 Цар. 2, 24).
(обратно)61
Рахель Блувштейн (1890–1931) — еврейская поэтесса, автор многочисленных лирических стихов, очень популярных в современном Израиле; подписывалась только своим именем.
(обратно)62
Берл Кацнельсон (1887–1944) — один из руководителей и идеологов Рабочего движения в сионизме.
(обратно)63
4 Цар. 2, 24. В ивритском оригинале Библии дословно сказано: «И вышли из леса две медведя…» В русском (синодальном) переводе эта ошибка исправлена и написано: «Две медведицы», но в ивритском оригинале она осталась до сих пор, потому что по еврейским правилам священные книги не подлежат исправлениям. Мы тоже попытались сохранить ее — в виде «Двое медведиц». Интересно, что, когда автор Меир Шалев вынес эту ошибку в ивритское заглавие романа, его поступок побудил Академию языка иврит выступить с разъяснением, что в древности числительные мужского и женского рода различались не очень четко. (Автор, кстати, с этим разъяснением не согласился, полагая написание «двое медведиц» ошибкой, хотя и «красивой».)
(обратно)64
Нахум Гутман (1898–1980) — израильский художник-пейзажист, скульптор, иллюстратор и график, детский писатель, лауреат премии Ханса Кристиана Андерсена за вклад в детскую литературу.
(обратно)65
Ис. 3, 16.
(обратно)66
«Stabat Mater dolorosa» («Стояла мать скорбящая») — средневековая католическая молитва, много раз переложенная на музыку; Иоганн Адольф Гассе (1699–1783) — немецкий композитор; Габриэль Форе (1645–1924) — французский композитор.
(обратно)67
Речь идет о романе Сола Беллоу «Герцог».
(обратно)68
Кир — алкогольный коктейль с черной смородиной, во Франции употребляется как аперитив перед обедом.
(обратно)69
Песн. П. 5,2.
(обратно)70
Весь диалог построен по мотивам истории жертвоприношения Исаака (Быт. 22).
(обратно)71
Прит. 30, 19.
(обратно)72
Парафраз из Быт. 22, 3.
(обратно)73
Быт. 22, 2.
(обратно)74
Парафраз «семи тощих лет в земле Египетской» (Быт. 41, 30).
(обратно)75
Парафраз библейского: «на одной из гор, о которых Я скажу тебе» (Быт. 22, 2).
(обратно)76
«Гнилая капля» — так еврейский мудрец Акавья бен Махалалель (I век) назвал каплю семени: «Помни о трех вещах, и не согрешишь: знай, откуда ты пришел, и куда ты идешь, и перед Кем тебе предстоит держать ответ на суде. Откуда ты пришел, из гнилой капли. Куда ты идешь, в обитель праха, гнили и червей…» (трактат «Пиркей Авот».)
(обратно)77
Парафраз библейского: «Есть ли что невозможное для Меня?» (Иер. 32, 27)
(обратно)78
Кус — арабское название женского полового органа.
(обратно)79
1 Цар. 17.
(обратно)80
Парафраз библейского «Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя» (Пс. 90, 7).
(обратно)81
Быт. 19, 11.
(обратно)82
Парафраз на библейское «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные» (Быт. 9, 2).
(обратно)83
Здесь и далее — парафраз описания, как «отходит человек в вечный дом свой» (Еккл. 12, 3–7).
(обратно)84
Иис. Н. 14, 6; Числ. 13, 31.
(обратно)85
Пурим — карнавальный еврейский праздник, установленный согласно библейской Книге Есфири в память об избавлении евреев от полного истребления во времена одного из древних персидских царей.
(обратно)86
Бат-мицва («дочь заповеди») — праздничная церемония в честь достижения девочкой религиозного совершеннолетия, которое наступает в 12 лет.
(обратно)87
Тут — шелковица (ивр.).
(обратно)88
Вариации на тему стиха из Песни песней (8, 7): «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее».
(обратно)89
Арава — длинная окаймленная горами пустынная долина, тянущаяся вдоль границы с Иорданией от южной оконечности Мертвого моря до Эйлата; мошав Паран находится в этой долине.
(обратно)90
«Вождь воинства», или «Вождь воинства Господня» — так назвал себя загадочный «человек с обнаженным мечом», который явился на помощь Иисусу Навину под Иерихоном (Иис. Н. 5, 13–15); он похож на того ангела, который был послан свыше на помощь Израилю во время его странствий в пустыне после исхода из Египта. Этих «вождей воинства» иногда отождествляют с архангелом Михаилом (Дан. 12,1), хранителем израильского народа.
(обратно)91
Песах (Пасха) — весенний праздник, Шавуот (праздник дарования Торы) — осенний, в пору урожая.
(обратно)92
Из «Песни восхождения Давида» (Пс. 132, 1): «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!»
(обратно)93
Парафраз библейского перехода через расступившееся Красное море (Исх. 14, 21–22).
(обратно)94
Суккот, или Праздник Кущей — семидневный еврейский осенний праздник в память о жизни евреев в шатрах («кущах») во время их сорокалетних блужданий по Синайской пустыне после исхода из Египта.
(обратно)95
Быт. 41, 18–19.
(обратно)96
4 Цар. 2, 24.
(обратно)97
Исх. 20, 5.
(обратно)98
Глава оформлена в книге как глава восьмая (прим. 45).
(обратно)99
Быт. 24, 31.
(обратно)100
Руф. 3, 4.
(обратно)101
Насмешливое обыгрывание сионистского лозунга: «Вернуться в свою страну, чтобы преобразить ее и преобразиться самим».
(обратно)102
Быт. 37, 3.
(обратно)103
События происходят во времена британского управления Палестиной согласно мандату Лиги Наций (1920–1947 гг.).
(обратно)104
Шармута (араб.) — буквально: старая, ни на что не пригодная тряпка; в сленге — шлюха.
(обратно)105
Из стихотворения Бялика «Заводь».
(обратно)106
По-видимому, имеется в виду ассоциация с образом Иисуса, несущего крест.
(обратно)107
Парафраз наставлений, которые Ноеминь дала Руфи, отправляя ее к Воозу (Руф. 3, 3): «Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои». И далее (Руф. 3, 7): «И она пришла тихонько, открыла у ног его, и легла».
(обратно)108
«Если у кого будет сын буйный и непокорный…» (Втор. 21, 18).
(обратно)109
Эли Ландау — израильский кардиолог и одновременно известный кулинар.
(обратно)110
Парафраз библейского «Ибо семь раз упадет праведник, и встанет…» (Прит. 24, 16).
(обратно)111
Гематрия — один их методов выявления так называемого «скрытого смысла» библейских слов и фраз посредством приписывания каждой букве алфавита определенного числового значения. Широко применяется в каббалистических текстах. Суть метода заключается в предположении, что сумма численных значений всех букв слова дает «ключ» к его «потаенному смыслу», и потому если какие-то слова имеют одинаковые суммы (гематрии), то между ними существует скрытая связь.
(обратно)112
Парафраз популярной среди первопоселенцев песни «Что направо, что налево, всюду здесь песок да небо» (слова Якова Фихмана).
(обратно)113
Слова из поминальной молитвы по павшим героям сионистского движения в Палестине в 1920-е гг., ставшей впоследствии официальной молитвой в день поминовения погибших солдат Армии обороны Израиля.
(обратно)114
Шофар — ритуальный духовой музыкальный инструмент, сделанный из рога животного.
(обратно)115
Парафраз пророчества Иезекииля о «сухих костях»: «От четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут» (Иез. 37, 9).
(обратно)116
Речь идет о книге А.А. Милна «Now we are six», которая в ивритском переводе получила название «Анахну шнейну», то есть «Мы вдвоем».
(обратно)117
Слегка измененная цитата из стихотворения «На горе» (в ивритском переводе «Втроем») известной поэтессы, прозаика и драматурга Кадии Молодовской (1894–1975), писавшей на идише.
(обратно)118
Прит. 19, 21.
(обратно)119
Песн. П. 2, 8.
(обратно)120
«Моржок» — на полицейском сленге морг или бюро судебно-медицинской экспертизы.
(обратно)121
Еккл. 8, 8.
(обратно)122
«И жили Израиль и Иуда спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницею своею, от Дана до Вирсавии, во все дни Соломона» (3 Цар. 4, 25).
(обратно)123
Быт. 3, 14.
(обратно)124
Парафраз библейского «О сем дитяти молилась я» (1 Цар. 1, 27) — слова Анны, сказанные ею, когда у нее, наконец родился Самуил, будущий пророк.
(обратно)125
В Израиле в организациях национальной службы работают в основном религиозные девушки.
(обратно)126
Парафраз библейского установления о рабах, которые не хотят на волю: «Но если раб скажет „Люблю господина моего, жену мою и детей моих; не пойду на волю“, то пусть господин… проколет ему ухо шилом, и он останется рабом его навечно» (Исх. 21, 5–6).
(обратно)127
«Поздравляю» (ивр.), «Хороший выбор» (англ.).
(обратно)128
Глава оформлена в книге как глава восьмая (прим. 45).
(обратно)129
Джара — глиняный сосуд для хранения жидкости или зерна; пита — круглый, плоский хлебец; тхина — густая паста из молотого кунжутного семени.
(обратно)130
Этот вид костра похож на древние алтари-жертвенники, на которых сжигались животные. В таких кострах поленья укладываются слоями, но каждый следующий слой несколько уже предыдущего, так что вся постройка сужается кверху, напоминая ступенчатую пирамиду.
(обратно)131
4 Цар. 9, 30; 2 Цар. 6, 16; Суд. 5, 28.
(обратно)132
Парафраз ставшего поговоркой выражения из песни израильского поэта и композитора Меира Ариэля: «Пережили фараона, переживем и это».
(обратно)
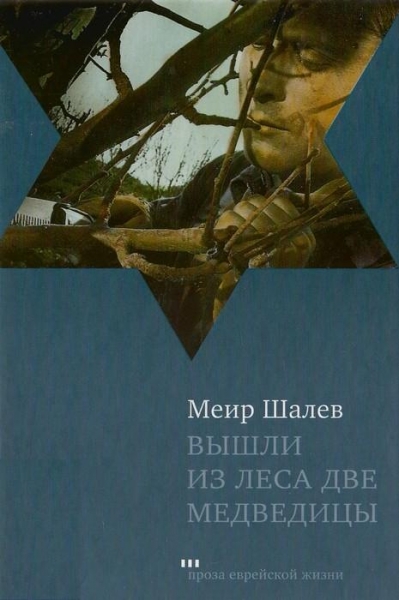
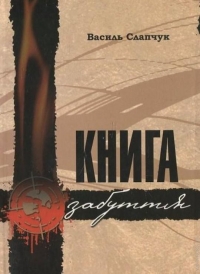






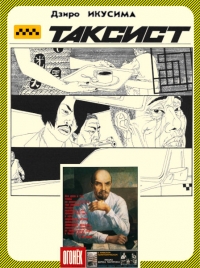
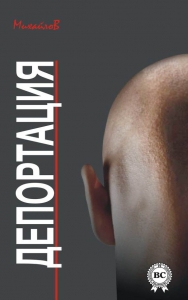


Комментарии к книге «Вышли из леса две медведицы», Меир Шалев
Всего 0 комментариев