Пол Бенджамин Остер Невидимый (Invisible)
I
В первый раз я пожал ему руку весной 1967 года. Я был тогда студентом второго курса, ничего-еще-не-знающий парень с книжным голодом и идеей (или заблуждением), что однажды смогу назвать себя поэтом, и, поскольку я читал поэзию, я был уже знаком с его фамилией из поэмы Данте — мертвец из последних строф двадцать восьмой песни Ада. Бертран де Борн, провансальский поэт двенадцатого столетия, держащий свою отрубленную голову за волосы и размахивающий ею во все стороны, будто лампой, — пожалуй, один из самых забавных персонажей в этом длиннющем каталоге галлюцинаций и пыток. Данте был верным защитником писаний де Борна, но, все-таки, приговорил его к вечному проклятию за то, что тот присоветовал Принцу Генри восстать против своего отца Короля Генри II, и тем де Борн превратил сына и отца в смертельных врагов. В наказание гениальный Данте разделил самого де Борна. Вопящее от боли тело в книге спрашивало флорентийца — возможна ли б́ольшая боль, чем та, которую оно испытывало…
Когда он представился Рудольфом Борном, мое внимание тут же обратилось к тому поэту. Родственники с Бертраном? спросил я.
А, ответил он, то бедное создание, потерявшее голову. Хорошо бы, но вряд ли. Не думаю. Нет де. Должен быть дворянин для этого, но, грустная правда, я кто угодно, только не дворянин.
Я не помню, почему я был там. Кто-то, скорее всего, попросил меня пойти туда, но кто это был, совершенно испарилось из моей памяти. Я даже не помню, где была эта вечеринка — в какой части города, в чьих апартаментах — и почему я вообще принял приглашение быть там, поскольку в то время я стеснялся большого скопления публики с его шумом болтовни, стыдясь того, что моя стеснительность внезапно станет видна всем незнакомым людям. Но той ночью, неожиданно для меня, я согласился и пошел с моим забытым знакомым туда, куда он повел меня.
Я помню лишь: в один момент я был один в углу комнаты.
Я курил сигарету и смотрел на людей, десятки молодых тел, набившихся в эту комнату, слушал беспорядочный рокот слов и смеха, удивляясь, каким образом я очутился здесь, и думал, что, пожалуй, это было время для моего ухода. Пепельница стояла на батарее слева от меня, и я повернулся к ней, чтобы потушить сигарету, и увидел направляющуюся ко мне задницу и, оберегающую ее, мужскую ладонь. Не замечая меня, они сели на батарею — мужчина и женщина, оба старше меня, без сомнения старше любого в этой комнате — ему было около тридцати пяти, она — лет на пять-семь моложе его.
Они были несочетаемой парой, мне показалось, Борн в мятом, местами испачканном пятнами белом костюме и в такой же мятой белой рубашке под пиджаком и женщина (чье имя оказалось Марго), одетая во все черное. Когда я поблагодарил его за придвинутую пепельницу, он быстро и вежливо кивнул мне головой и сказал Мое почтение с небольшим иностранным акцентом. Француз или немец, я не смог сразу определить, поскольку его английский был почти безукоризнен. Что же еще я увидел в те первые мгновения? Бледная кожа, непричесанные рыжеватые волосы (постриженные короче, чем обычно стриглись мужчины в то время), широкое, привлекательное лицо без особых примет (обычное лицо, такое, что затерялось бы в любой толпе) и спокойные коричневые глаза человека, не боящегося ничего. Не тонкий и не толстый, не высокий и не низкий, но с присутствием физической силы, скорее всего, из-за крепких рук. Что касается Марго, она сидела, не пошевелив ни единым мускулом, уставившись куда-то в пустоту, будто бы главной ее целью было — казаться скучающей. Очень привлекательная, на мой двадцатилетний взгляд, с ее черными волосами, черной водолазкой, черной мини-юбкой, черными высокими кожаными ботинками и черным тяжелым гримом вокруг зеленых глаз. Хотя и не красавица, но притягательна искусственной красотой стиля и манерой поведения женщины ее возраста.
Борн сказал, что он и Марго хотели уже уходить, но увидели меня, стоящего одиноко в углу комнаты, и потому, что я выглядел ужасно несчастливым, они решили подойти ко мне и подбодрить — так, на всякий случай, чтобы я не закончил эту ночь, перерезав свое горло. Я даже и не знал, что сказать ему в ответ на эти слова. То ли он хотел посмеяться надо мной, то ли он действительно хотел подбодрить печальную молодую душу? Слова, сами по себе, были веселыми и неопасными, но взгляд глаз Борна при этом был холоден и отстранен, и я не смог отделаться от чувства, что он испытывает меня, совершенно не понимая его причин для этого.
Я пожал плечами, слегка улыбнулся и сказал: Верите иль нет, а мне тут нравится.
Тогда он встал, пожал мою руку и назвал свое имя. После вопроса о Бертране де Борн, он представил меня Марго; улыбнувшись без слов, она продолжила свое занятие — разглядывать пустоту.
Судя по возрасту, сказал Борн, и судя по знанию давно забытых поэтов, я полагаю, что Вы студент? Изучаете литературу, без сомнения. Нью-Йоркский университет или Колумбийский?
Колумбийский.
Колумбийский, вздохнул он. Какое скучное место.
Вы там были?
Я преподаю с сентября на факультете Международных Отношений. Профессор по приглашению на один год. Хорошо, что сейчас апрель, и я вернусь в Париж уже через два месяца.
Так Вы француз?
По обстоятельствам, склонностям и паспорту. Но швейцарец, по рождению.
Французский швейцарец или немецкий? Я слышу оба языка в Вашей речи.
Борн прищелкнул языком и посмотрел мне в глаза. У Вас чувствительное ухо, он сказал. На самом деле, я и есть оба — гибридный продукт немецко-говорящей матери и франко-говорящего отца. Я вырос между двух языков.
Не будучи уверен, что ему сказать в ответ, я помолчал немного и задал совершенно невинный вопрос: А что Вы преподаете в нашем мрачном университете?
Бедствия.
Звучит, как наука обо всем?
Если поточнее, бедствия французского колониализма. Я преподаю курс потери Алжира и еще один курс потери Индокитая.
Веселая война нам досталась от вас в наследство.
Нельзя недооценивать важность войн. Они — чистейшее, самое живое проявление человеческой души.
Вы начинаете звучать, как тот безголовый поэт.
Да?
Похоже, Вы его не читали.
Ни строчки. Я только знаю о нем от Данте.
Де Борн был хороший поэт, даже, наверное, превосходный поэт — но очень проблемная личность. Он написал несколько очаровательных любовных поэм и трогательное посвящение на смерть Принца Генри, но его настоящей страстью в жизни была война. Он абсолютно наслаждался ею.
Вижу, сказал Борн мне с ироничной улыбкой. Началась охота на меня.
Я имею в виду, наслаждаться видом разбитых черепов, горящих и разрушенных замков, проткнутых пиками человеческих тел. Это слишком кроваво, поверьте, но де Борн даже и не моргнул, глядя на все это. Даже простая мысль о битве приводила его в отличное настроение.
Похоже, у Вас нет никакого интереса стать военным.
Нет. Я скорее пойду в тюрьму, чем во Вьетнам.
И, предполагая избежать и тюрьму и армию, у Вас есть план?
Нет. Просто продолжать заниматься тем, что я делаю, и надеяться, что все обойдется.
И чем же Вы занимаетесь?
Писательство. Великое искусство корябания по бумаге.
Я так и думал. Когда Марго увидела Вас издалека, она сказала мне: Посмотри на этого молодого человека с печальными глазами и опущенным лицом — спорим, он поэт. Ну, так Вы и есть поэт?
Пишу стихи, да. А также книжные рецензии для Спектэйтор.
Та газетенка.
Где-то же надо начинать.
Интересно…
Не так уж и ужасно. Половина людей, которых я знаю, тоже хотят стать писателями.
Почему Вы говорите хотят? Если Вы уже пишете, это уже не будущее. Это уже настоящее.
Потому что еще слишком рано, чтобы я мог сказать, что я хороший писатель.
Вам платят за статьи?
Конечно, нет. Это же университетская газета.
Когда Вам начнут платить за Вашу работу, тогда Вы и узнаете, насколько Вы хороши, как писатель.
Упреждая мой ответ, Борн неожиданно повернулся к Марго и заявил: Ты была права, мой ангел. Твой молодой человек — поэт.
Марго подняла свой взгляд на меня, бесцветно и оценивающе, она заговорила в первый раз с начала нашей беседы, проговаривая слова с иностранным акцентом, оказавшимся более заметным, чем у ее приятеля, — явный французский акцент. Я всегда права, сказала она. Ты должен уже это знать, Рудольф.
Поэт, продолжил Борн, все еще адресуя свою речь к Марго, иногда книжный обозреватель, и студент скучнейшего замке-на-горе — похоже, мы обитаем где-то близко. Но без имени. По крайней мере, я еще не был посвящен в это.
Уокер, я представился, осознав, что не назвал себя, когда мы пожали друг другу руки. Адам Уокер.
Адам Уокер, повторил Борн, отворачиваясь от Марго и посылая мне одну из своих загадочных улыбок. Хорошее, крепкое американское имя. Сильное, обычное, надежное. Адам Уокер. Одинокий охотник за приключениями в кино-Вестерне, пробирающийся сквозь пустыню с ружьем и револьвером на верном коне. Или честный, прямой хирург в дневной мыльной опере, трагично влюбленный в двух женщин одновременно.
Звучит, конечно, крепко, ответил я, но ничего нет в Америке такого уж крепкого. Фамилию мой дедушка получил, когда высадился на острове Эллис в тысяча девятисотом. Получилось так, что официальный представитель нашел фамилию Валшинский слишком трудной для бумаг, так что они назвали его Уокер.
Что за страна, сказал Борн. Безграмотные чиновники украли у человека его личность простой закорючкой ручки.
Нет, не личность, ответил я. Только фамилию. Он работал тридцать лет кошерным мясником в нижнем Ист-Сайде.
В том разговоре было больше, чем просто разговор, прыгающий с одной темы на другую. Вьетнам и растущая оппозиция войне. Разница между Нью Йорком и Парижем. Убийство Кеннеди. Американское эмбарго к Кубе. Безличностные темы, да, но у Борна всегда было очень устойчивое мнение по любой теме, иногда совершенно непривычное, неортодоксальное, и, слыша его манеру разговора, полу-шутя, слегка снисходительно, я не смог бы определить, насколько он был серьезен. В некоторые моменты он звучал, как политический ястреб правого крыла; в другие моменты он выдвигал идеи бомбометателей анархистов. Испытывал ли он меня, я спрашивал себя, или эти идеи были естественными для него, небольшим развлечением субботнего вечера? В это же время непроницаемая Марго оторвалась от своего гнезда на батарее, чтобы взять сигарету у меня, и после продолжала стоять, совершенно не участвуя в разговоре, но изучая меня каждый раз, когда я начинал говорить, и ее глаза излучали при этом неморгающее любопытство ребенка. Признаюсь, мне было приятно быть наблюдаемым ей, даже если иногда мне и становилось немного неловко. Что-то глубоко эротичное ощущал я тогда в ее взгляде, но я был совершенно неопытен в то время, чтобы знать наверняка, смотрела ли она на меня, стараясь подать какой-то знак или без всякого тайного умысла. Сказать правду, я никогда не встречал раньше подобных людей, и поскольку те двое были для меня совершенно непостижимой парой, то, чем дольше я говорил с ними, тем более нереальными они становились для меня — будто придуманные персонажи в истории, затевающейся в моей голове.
Не могу вспомнить, пили ли мы, но если все же эта вечеринка была в Нью Йорке, то там определенно должны были быть бутылки дешевого красного вина и горы бумажных стаканчиков, так что, похоже, мы все-таки потихоньку пьянели, продолжая разговаривать. Было бы хорошо, если бы я смог еще что-нибудь выцарапать из моей памяти, но 1967 год — это так далеко, и как бы я ни старался вспомнить ускользающие из памяти интонации слов и жестов того разговора, я видел лишь бесцветные провалы. Все же несколько живых моментов показались в тумане памяти. Борн, протягивающий руку ко внутреннему карману пиджака, к примеру, и вытаскивающий окурок сигары, которую он ту же прикурил, заявив, что это Монтекристо, лучшая кубинская сигара — в то время запрещенная для продажи здесь, как, в прочем, и сейчас — которую он смог получить через очень личную связь с кем-то работающим во французском посольстве в Вашингтоне. Далее он заговорил о Кастро — тот же самый Борн, несколько минут ранее защищавший Линдона Джонсона, МкНамару и Уэстморлэнда за их героическую деятельность в борьбе с коммунизмом во Вьетнаме. Я помню, что было очень забавно наблюдать за видом взъерошенного политолога с окурком сигары, и сказал ему, что он напоминает мне хозяина южно-американской кофейной плантации, слегка помешавшегося от долгого пребывания в джунглях. Борн засмеялся над моей репликой и быстро добавил, что я не был далек от правды, он провел часть детства в Гватемале. Когда я стал расспрашивать его об этом, он отмахнулся от меня словами в другое время.
Я расскажу всю историю, сказал он, но только когда будет значительно тише вокруг. Всю историю моей невероятной жизни. Вы все услышите, мистер Уокер. Однажды, Вы даже начнете писать мою биографию, я это Вам гарантирую.
Сигара Борна, тогда, его слова о моей будущей роли биографа и спутника, вроде канонического Джеймса Босуэлла, а также образ Марго, касающейся моего лица правой рукой и шепчущей: Не забывай о себе. Наверное, все это уже случилось ближе к концу, когда мы собрались уходить или уже уходили, спускаясь по лестнице, но у меня совершенно не осталось никаких воспоминаний о расставании и прощании. Все исчезло, стерлось за сорок лет. Они тогда были два незнакомца, которых я встретил на шумной вечеринке весенней ночью в Нью Йорке моей юности, Нью Йорке, которого уже больше не существует, только и всего. Так или не так, но мы даже не обменялись телефонами на прощание.
Я полагал, что больше не встречусь с ними никогда. Борн преподавал в Колумбийском университете уже семь месяцев, и если я не встретился с ним за это время, то я вряд ли бы встретился с ним еще раз после нашей случайной встречи. Но лучше забыть о теории вероятности, когда дело касается действительности, и если что-то может не случиться, это не означает, что оно не случится на самом деле. Через два дня после той встречи, после моих занятий я пошел в бар Уэст Энд, надеясь встретить кого-нибудь из моих знакомых. Уэст Энд был тусклой, пещерного вида дырой с парой десяток кабинок и столиков, с широченной продолговатой стойкой бара в центре и небольшим открытым помещением возле входа, где можно было купить плохого качества обед или ужин — мое место для встреч с друзьями — а также любимое место студентов, пьяниц и местных жителей. Был теплый, наполненный солнцем полдень, и, потому, не так уж много посетителей было в то время. Когда я уже заканчивал поиск знакомых лиц, я увидел Борна, сидящего в кабинке в глубине бара. Он сидел один и читал немецкий журнал (Шпигель, вроде бы), курил одну из тех самых кубинских сигар и, казалось, совершенно забыл о полупустом стакане пива, стоящем слева от него на столике. И, опять, он был одет в белый костюм — может, и не тот же, поскольку пиджак выглядел чище и был не так уж мят по сравнению с субботним костюмом — но белой рубашки уже не было, на смену ей пришло нечто красноватое, цвета кирпича и малины.
Любопытно, но мое первое чувство при виде его было повернуться и уйти безо всяких приветствий. Очень интересно было бы изучить причины моего замешательства, и, похоже, ее появление говорило, что я каким-то образом понял, что было бы лучше для меня держаться подальше от Борна, и что любое сближение с ним вело к проблемам. Откуда я это понял? Я провел меньше часа в его компании, но даже за это короткое время я заметил в нем что-то отталкивающее. Я не отрицал его других качеств — обаяния, ума, чувства юмора — но глубоко под ними клубилось нечто темное и циничное, от чего мне было немного не по себе, и от чего я почувствовал, что он не был человеком, которому можно было бы доверять. Стал бы я думать по-другому о нем, если бы не презирал его политические взгляды? Трудно сказать. Мой отец и я не соглашались почти ни в чем, когда речь шла о политике того времени, но наши разногласия никак не влияли на мое отношение к нему, как к человеку порядочному и, по крайней мере, неплохому. Но Борн таким не был. Он был умен и эксцентричен и непредсказуем, но его суждение, что война есть самое настоящее выражение человеческой души, автоматически выводит любого сказавшего это за пределы порядочности. И если бы он сказал эти слова, как шутку, провоцируя антимилитаристски настроенного студента, чтобы тот опровергнул его суждения — это было бы лишь игрой в дразнилки.
Мистер Уокер, сказал он, отвлекаясь от своего журнала и приглашая меня у своему столику. Как раз тот человек, кто мне нужен.
Я мог бы придумать причину и сказать ему, что я опаздываю куда-нибудь, но я этого не сделал. В этом присутствовала и другая часть сложной формулы моего отношения к Борну. Хоть я и был немного настороже к нему, я был также и очарован этим неординарным, непредсказуемым человеком, и то, что он был по-настоящему рад столкнуться со мной, притушило огни моего тщеславия — невидимого котла, в котором бурлили, как и у всех, самоуверенность и амбиции. Хоть я и видел его отрицательные качества, какие бы сомнения не глодали мою душу по поводу его личности, я все равно бы не смог удержать себя от желания понравиться ему, чтобы он не думал обо мне, как об ограниченном, обычном недоучившемся студентике, чтобы он смог увидеть то, чего я достоин, но в чем я сомневался каждые девять из десяти минут моей просыпающейся жизни.
Только я сел в ту кабинку, Борн пристально посмотрел на меня, выдохнул объемистое облако дыма сигары и улыбнулся. Вы произвели очень приятное впечатление на Марго той ночью, сказал он.
Она произвела на меня впечатление тоже, ответил я.
Вы наверняка заметили, что она не так уж много говорит.
Ее английский все же не так уж хорош. Очень трудно выразить себя, если есть проблемы с языком.
Ее французский превосходен, но она и по-французски много не говорит.
Ну, слова — это не все.
Странный комментарий от человека, мечтающего стать писателем.
Я говорил о Марго…
Да, Марго. Конечно. Так вот, к чему я это. Женщина, склонная к длительным молчаниям, болтала неумолкая, когла мы возвращались с субботней ночной вечеринки.
Интересно, сказал я, не понимая куда вел нас этот разговор. И что же могло развязать ее язык?
Вы, юноша. Вы начинаете очень нравиться ей, но Вы также должны знать, что она ужасно беспокоится о Вас.
Беспокоится? Отчего она должна беспокоиться? Она же совсем не знает меня.
Может, и нет, но она вбила себе в голову, что Ваше будущее под угрозой.
Будущее каждого под угрозой. Особенно американца в возрасте двадцати лет, как Вам должно быть известно. Но пока я не бросил университет никакой армейский набор мне не страшен до окончания учебы. Не могу быть полностью уверен, но, возможно, война будет закончена тогда.
Я бы не стал в это верить, мистер Уокер. Эта кутерьма протянется еще много лет.
Я закурил Честерфилд и кивнул головой. Хоть в чем-то могу с Вами согласиться, сказал я.
В любом случае Марго не говорила о Вьетнаме. Да, Вам может грозить тюрьма — или цинковый гроб через два-три года — но она имела в виду не войну. Она верит в то, что Вы слишком правильны для этого мира, и посему, мир когда-нибудь Вас раздавит.
Я не понимаю, почему она так считает.
Она думает, Вам нужна помощь. У Марго, может быть, не самая светлая голова во всем Западном мире, но она видит юношу, который говорит, что он поэт, и первое слово, пришедшее ей на язык это — «голод».
Это абсурд. Она не знает, о чем она говорит.
Простите за несогласие, но когда я спросил Вас, какие у Вас планы, Вы сказали — никаких. За исключением, конечно, неясных амбиций в поэзии. Сколько зарабатывают поэты, мистер Уокер?
Большинство из них — ничего. Если повезет, когда-нибудь кто-нибудь что-нибудь заплатит.
По мне это — голод.
Я никогда не говорил, что я планирую зарабатывать на жизнь писательством. Я должен буду найти работу.
Например?
Трудно сказать. Я мог бы работать в издательстве или в редакции журнала. Я мог бы переводить книги. Я мог бы писать заметки, рецензии. Что-нибудь одно из этого, или все сразу. Слишком рано, чтобы точно сказать, и, пока я еще учусь, я не вижу смысла в бессонных ночах, размышляя об этом.
Нравится Вам или нет, но Вы уже не просто только учитесь, и чем скорее Вы к тому же научитесь заботиться о себе, тем лучше будет для Вас.
Откуда такая внезапная забота? Мы же только что познакомились, и почему это Вам так интересно, что происходит со мной?
Потому что Марго попросила меня об этом, и, поскольку она чрезвычайно редко просит меня о чем-нибудь, я считаю своим долгом следовать ее просьбам.
Скажите ей спасибо, но совершенно нет никакой нужды в этом. Я могу справиться со всем сам.
Упрямец, да? Борн сказал, кладя почти выкуренный окурок сигары на край пепельницы, и наклонился ко мне так близко, что его лицо было лишь в нескольких сантиметрах от моего. А если я предложу Вам работу, то Вы тоже откажетесь?
Зависит, какая работа.
Остается ее только определить. У меня есть несколько идей, но я еще не решил. Может быть, Вы поможете мне.
Я не понимаю, о чем Вы?
Мой отец умер десять месяцев тому назад, и вышло так, что я унаследовал серьезную сумму денег. Недостаточно, чтобы купить замок или самолетную компанию, но вполне достаточно, чтобы что-то оставить после себя. Я могу предложить Вам написать мою биографию, конечно, я понимаю, это немного преждевременно. Мне еще только тридцать шесть, и совершенно бессмысленно оценивать жизнь человека до его пятидесятилетия. Тогда что? Я подумывал и об издательстве, но у меня нет уверенности, что я потяну долговременные проекты, которые обязательно появятся. Журнал, с другой стороны, кажется мне более интересен. Ежемесячный, или хотя бы ежеквартальный, что-то свежее и вызывающее, выпуски, вызывающие шумиху и полярные мнения. Что Вы об этом думаете, мистер Уокер? Работа в журнале могла бы быть Вам интересна?
Конечно, могла бы. Один вопрос: почему меня? Вы же возвращаетесь во Францию через несколько месяцев, и, я полагаю, Вы говорите об издании журнала во Франции? Мой французский не так уж плох, но и не так уж хорош для журнала. И, кроме того, я учусь в университете здесь, в Нью Йорке. Я не могу просто собрать вещи и переехать.
Кто сказал что-нибудь о переезде? Кто сказал что-нибудь о французском журнале? Если бы у меня была здесь отличная команда, я бы появлялся здесь лишь иногда, посмотреть, как и что, но я бы не стал влезать в их дела. Мне неинтересно руководить журналом. У меня есть работа, моя карьера, и у меня просто не было бы времени для руководства. Моей частью в этом деле было бы вложить деньги — и, надеюсь, получить прибыль.
Вы политолог, я студент. Если Вы хотите затеять политический журнал, то не надейтесь на меня. Мы — на противоположных сторонах забора, и если бы я стал работать на Вас, все бы кончилось крахом. Но если Вы говорите о литературном журнале, тогда да, мне было бы очень интересно.
Только потому, что я преподаю международные отношения и пишу о правительстве и публичном праве, совершенно не значит, что я бесчувственный остолоп, филистимлянин. Я люблю искусство точно так же, как и Вы, мистер Уокер, и я ни за что не предложил бы Вам работу в журнале, если бы он не был литературным.
Откуда Вы знаете, что я смогу там работать?
Не знаю. Но у меня есть предчувствие.
Все равно непонятно. Вы предлагаете мне работу и не прочитали ничего написанного мной.
Это не так. Этим утром я прочитал четыре Ваших стихотворения в последнем номере Коламбия Ревью и шесть Ваших статей в студенческой газете. Стихотворение о Мелвилле было замечательно, на мой вкус, и мне понравилось еще одно небольшое, о могилах. Сколько еще надо мною / небес, пока не исчезну я? Потрясающе.
Очень рад, что понравились. А я поражен Вашей стремительностью.
Да, я такой. Жизнь слишком коротка, чтобы мешкать.
Мой учитель в третьем классе говорил то же самое — точь-в-точь, те же слова.
Замечательное место, эта Ваша Америка. У Вас прекрасное образование, мистер Уокер.
Борн засмеялся над своей высокопарностью, глотнул пива и откинулся назад, обдумывая сказанное.
Что мне нужно от Вас, он произнес наконец-то, это план, проспект. Напишите произведения, которые могли бы быть в журнале, об объеме выпусков, об обложках, дизайне, количестве номеров, названии журнала и так далее. Оставьте в моем офисе, когда закончите. Я посмотрю, и если мне понравится — за работу.
Хоть я и был достаточно молод, я все же понимал, что Борн мог просто забавляться разговором со мной. Как часто Вы входите в бар, встречаете человека, которого видели до этого только однажды и уходите с возможностью издания журнала — особенно, когда Вы сомневаетесь в своем Я двадцатилетнего юноши, ничего еще не доказавшего самому себе? Слишком нереально, чтобы поверить в такое. В любом случае казалось, что Борн дал мне надежду только затем, чтобы растоптать ее позже, и я ожидал, что мой проспект журнала окажется в мусоре, и он скажет, что ему это все неинтересно. Хотя при этом, совершенно не надеясь на то, что он честно сдержит свое обещание, я чувствовал, что должен попробовать. Да что я терял при этом? День раздумий и писанины, по большому счету, и если Борн в конце концов отвергнет мой проект, ну что ж, так тому и быть.
Готовый к будущему провалу, я засел за работу той же ночью. После листа с десятком имен авторов, однако, дело далеко не прошло. Не потому, что я не знал, что делаю, и не потому, что у меня не было никаких идей, но только по простой причине — я забыл спросить Борна, сколько денег он предполагает вложить в журнал. Весь проект держался на сумме его инвестиции, и, не зная его возможностей, как мог я из сотен возникших вопросов решить для себя, хоть, один: качество бумаги, объем и частота выпусков, способ скрепления бумаги, возможность использования иллюстраций и сколько (если возможно) он мог заплатить авторам? Литературные журналы в то время выходили в различных форматах и видах, начиная от напечатанных на простейших копирах и прошитых бумажными скрепками подпольных публикаций молодых поэтов Ист Виллиджа до флегматичных академических ежеквартальников, от коммерческих проектов вроде издания Эвергрин Ревью и до роскошных выпусков Objets d’Art, существовавших на деньги неведомых финансовых ангелов, терявших тысячи на каждом номере. Я должен был опять поговорить с Борном, и тогда, вместо описания проекта, я написал ему письмо о моих проблемах. Это было смешное жалкое послание — мы должны поговорить о деньгах — отчего я решил вложить в конверт что-то еще, что могло убедить его в моей полноценности. Обмен репликами о Бертране де Борне субботней ночью дал мне идею послать ему одну из поэм этого средневекового поэта. У меня была антология трубадуров — в английском переводе — и поначалу я хотел просто отпечатать одну из поэм книги. Когда я начал читать стихи, меня поразила неловкость и неумелость перевода, совершенно непередающего странную и некрасивую силу поэзии, я решил, совершенно не зная ни слова по-провансальски, попробовать сделать получше перевод, используя французскую версию. Наутро я нашел, что искал в Библиотеке Батлера: издание сочинений де Борна с оригинальным провансальским написанием и прямым переводом на французский на другой стороне книги. Работа заняла несколько часов (если я точно помню, я даже пропустил лекцию), и вот, что получилось:
Мне мило ликование весны И распускание цветов, листвы, И наслаждаюсь птичьим пеньем В покоях гулкия лесов; Приятны сердцу вид лугов, На них — палатки и шатры; И большее из всех наград Мне — видеть те поля, на них — Оружье, рыцари и кони. И взбудоражен видом тех солдат, Прогнавших всех мирян от поля боя; И рад я видеть тех, бегущих От марширующих дружин; И мое сердце бьется птицей, Когда я вижу замки под осадой; Их валы крошатся песком и тленом; Войска столпилися на краю рва. И замерло все В предвкушении великой битвы. И также, полон наслажденья, Я вижу, как барон ведет войска, На лошади своей, в оружье и без страха, Тем силу придавая всем солдатам — Вот мужество и честь. И только битва началася, каждый Готов быть должен Следовать приказу; Мужчина может стать мужчиной Лишь в битве, получив удар И тут же отвечая. И в самой гуще боя мы увидим Мечи, булавы и щиты, и разукрашенные шлемы Разбиты и расколоты, И верные солдаты, бьющие налево и направо, И лошади, несущие убитых, Бредут бесцельно по полю. Как только начинается сражение, Пусть каждая душа лишь думает о том, Чтобы убить другую душу — уж лучше мертвым быть, Чем быть живым и побежденным. Я вам скажу, что ни еда, ни питие, ни сон Не дали мне такого наслажденья, как слышать крик «Вперед!» со всех сторон, и слышать Крики «Все на помощь!», и видеть Сильного и слабого, упавших вместе На траву и далее — в канаву, видеть Трупы, все в следах от стрел, мечей и копей. Бароны, лучше прокутите Все ваши замки и селенья, Но только не проигрывайте войны.Вечером я запустил конверт с письмом и переводом под дверь офиса Борна на факультете Международных Отношений. Я надеялся на быстрый ответ, но прошло несколько дней, пока он не объявился, и его молчание в это время постоянно мучило меня мыслью, что журнальный проект был лишь минутной прихотью, уже себя изжившей — или, хуже того, его обидело стихотворение, как бы намекая сравнением с Бертраном де Борном на его милитаристские взгляды. В конце концов, мои волнения были напрасны. Когда мой телефон зазвонил в пятницу, он извинился за свое молчание, объясняя свое отсутствие поездкой в Кэмбридж, где он читал лекцию в среду, и он появился в своем офисе лишь двадцать минут тому назад.
Вы абсолютно правы, продолжил он, и я был совершенно глуп, что проигнорировал деньги, когда мы говорили. Как Вы сможете предоставить мне проект, если Вы не знаете его бюджета? Вы должно быть думаете, что я глупец.
Ничуть. Я — тот человек, который должен винить себя в своей глупости, поскольку не спросил Вас. Но мне было трудно разобраться, насколько серьезны были Вы тогда, и я не хотел давить на Вас.
Я был абсолютно серьезен тогда, мистер Уокер. Признаюсь, я люблю пошутить, но только о малых, незначительных вещах. Я никогда не стал бы шутить по Вашему поводу.
Рад услышать это.
Ну что ж, отвечая про деньги… Я надеюсь, у нас все получится, конечно, но, пускаясь в подобный проект, здесь присутствует огромный процент риска, и, честно говоря, я должен быть готов потерять всю мою инвестицию. Что ведет к вопросу: Сколько я могу позволить себе потерять? Сколько из моего наследства я могу выбросить на ветер, не создавая проблем для моего будущего? Я думал об этом, начиная с понедельника, и мой ответ будет — двадцать пять тысяч долларов. Это мой предел. Журнал будет выходить четыре раза в год и будет стоить пять тысяч на один номер, плюс дополнительно пять тысяч Вам на годовое жалованье. Если мы не прогорим в конце года, я продолжу выпуск и на следующий год. Если мы заработаем деньги, я положу прибыль в журнал, чтобы покрыть будущие расходы. Если мы потеряем деньги, тогда выпуск журнала на следующий год будет весьма проблематичным. Предположим, мы потеряем десять тысяч за первый год. Тогда я дам пятнадцать тысяч и ничего более. Понимаете принципы работы? Двадцать пять тысяч долларов я могу прокутить, но не потрачу ни одного доллара больше, чем эта сумма. Что Вы думаете? Честное предложение или нет?
Очень честное и очень щедрое. За пять тысяч долларов на номер мы сможем выдать такой первоклассный журнал, каким можно будет и гордиться.
Я могу бросить все деньги в Ваши объятия завтра, хотя, конечно, это не совсем то, что нужно Вам сейчас? Марго очень беспокоится о Вашем будущем, и если Вы сможете раскрутить этот журнал, тогда Ваше будущее будет в полном порядке. У Вас будет приличная работа с приличной зарплатой, и в нерабочее время Вы сможете писать любые стихи по желанию, пространные эпические поэмы о тайнах человеческого сердца, короткую лирику о ромашках и лютиках, неистово восставать против жестокости и несправедливости. До тех пор, пока Вы не угодили в тюрьму или не свели счеты с жизнью, но мы не будем, конечно, надеяться на такой исход.
Я не знаю, как благодарить Вас…
Не меня. Благодарите Марго, Ваш ангел-хранитель.
Надеюсь, что увижу ее очень скоро.
Конечно, увидите. Как только Ваш проект будет утвержден мной, Вы будете видеться с ней столько, сколько захотите.
Я очень постараюсь. Но если Вам нужен журнал, чтобы вызвать шумиху и споры, сомневаюсь, что литература будет более всего пригодна для этого. Надеюсь, Вы понимаете, о чем я.
Я понимаю, мистер Уокер. Мы рассуждаем о качестве… о превосходных, редких вещах. Искусство для избранных.
Или, как сказал бы Стендаль: искусству не для всех.
И Стендаль и Морис Шевалье. Кстати… о нашем кавалере, спасибо за стихи.
Стихи. Я забыл о них.
Те, что Вы перевели для меня.
Как Вам они?
Нашел их весьма достойными. Мой якобы предок был настоящим сумасшедшим самураем, да? По крайней мере, он был смел в своих суждениях. И, по крайней мере, он знал, за что бороться. Как мало изменился мир с того времени, как бы мы и не пытались думать по-другому. Если журнал все же взлетит, я думаю, мы должны опубликовать стихи де Борна в первом номере.
Я чувствовал себя одновременно и ободренным и сбитым с толку. Несмотря на мои скорбные предчувствия, Борн говорил о журнале, как будто он почти вышел, и что мой план был лишь пустой формальностью. Неважно, какой проект я предложил бы ему, казалось, он уже был готов утвердить его. И все же, пусть и довольный мыслью созидания дорогого журнала, и, вдобавок, получения превосходного жалованья, я никак не мог понять, что двигало Борном. Действительно ли Марго была причиной внезапной вспышки альтруизма и слепой веры в неизвестного юношу безо всякого опыта в редакционно-издательских делах, и который был им совершенно незнаком всего неделю назад? И даже если это и было так, почему вопрос моего будущего так заботил ее? Мы лишь чуть-чуть поговорили на вечеринке, и, хоть, она очень внимательно разглядывала меня и слегка погладила мою щеку, она была для меня неразгаданной загадкой, непроницаемостью. Я не мог представить, что она могла сказать такого Борну, чтобы он тут же решил рискнуть предложить мне двадцать пять тысяч долларов. Пока я лишь видел его безразличие к судьбе журнала и то, что он хотел загрузить меня полностью на издании. Когда я начал размышлять о нашем понедельничном разговоре в Ист Энде, я понял, что он почерпнул идею журнала от меня. Я упомянул в разговоре, что я мог быть заинтересован работой в издательстве или в журнале по окончании университета, и, минуту спустя, он заявил мне о своем наследстве и его размышлениях о создании издательства или журнала на его внезапные деньги. А если бы я сказал, что хотел делать тостеры? Ответил бы он мне, что размышляет об инвестициях в производство тостеров?
Закончить проект заняло немного больше времени, чем я предполагал — четыре-пять дней, вроде бы, но только потому, что я хотел очень тщательно сделать этот проект. Я хотел произвести впечатление на Борна своей прилежностью, и потому, я не только выработал план содержимого каждого номера (поэзия, проза, эссе, интервью, переводы, а также раздел критики книг, фильмов, музыки и изобразительного искусства), но и привел совершенно измотавший меня финансовый план: стоимость печати, бумаги, переплета, возможность распространения, варианты тиража, оплата сотрудников, цена для розничной продажи, цена для подписки и за- и против- возможности опубликования рекламы. Все это потребовало времени и поисков, телефонных звонков печатникам и переплетчикам, разговоров с редакциями других журналов, нового взгляда на жизнь, поскольку я никогда до этого не сталкивался с коммерцией. Размышляя о названии журнала, я привел лист возможных, предлагая сделать выбор Борну, но моим предпочтением был Стайлус — в честь Эдгара По, пытавшегося запустить журнал с таким же названием незадолго до своей смерти.
В этот раз Борн ответил мне на следующий день. Я принял это, как знак одобрения, подняв трубку телефона и услышав его голос, но, честно говоря, было немного странно, когда он не стал тут же говорить о моем проекте. Полагаю, было бы слишком просто, слишком плоско, слишком прямо для такого человека, как он, так что он поиграл со мной несколько минут, продлевая мое напряжение, задав при этом кучу ненужных и несвязанных между собой вопросов, из-за чего я начал думать, что он тянет время, чтобы несильно обидеть меня своим отказом.
Думаю, что у Вас отменное здоровье, мистер Уокер, сказал он.
Да, ответил я. Пока еще не подхватил никакой заразы.
Никаких симптомов.
Нет. Чувствую себя прекрасно.
А как Ваш живот? Не испытываете дискомфорта?
Сейчас нет.
И аппетит нормальный.
Очень нормальный.
Помню, Ваш дедушка был мясником в кошерной лавке. Так Вы еще живете по тем древним законам или уже нет?
Я никогда не следовал тем законам.
Никаких диетных ограничений?
Нет. Ем, что хочу.
Рыбу или дичь? Говядину или свинину? Ягнятину или телятину?
А что с ними?
Что Вам нравится?
Я люблю все.
Другими словами, Вы не так уж щепетильны.
Нет, если Вы про еду. С другими вещами — да, но только не с едой.
Тогда Вам все равно, что Марго и я выберем для еды.
Не уверен, что понимаю Вас.
Завтра в семь вечера. Или Вы заняты?
Нет.
Хорошо. Тогда приходите к нам на квартиру на ужин. Праздновать, как подобает, как Вы считаете?
Не уверен. А что мы празднуем?
Стайлус, дружище. Начало того, что, я полагаю, будет долгим и плодотворным сотрудничеством.
Так Вы приняли решение?
Я должен повторяться?
Вы говорите, что Вам понравился проект?
Расслабьтесь, юноша. Почему я стал бы праздновать то, что мне не по нраву?
Я помню свои колебания по поводу, что принести с собой — цветы или бутылку вина — и выбор пал на цветы. Я не смог бы себе позволить купить довольно хорошее вино, чтобы произвести впечатление, и, подумав об этом, я решил, что было бы очень самонадеянно предложить вино французской паре. Если бы я выбрал не то вино — скорее всего так бы и случилось — я выглядел бы невежей, и я не хотел начинать вечер со своего позора. Цветы, с другой стороны, были бы более прямым доказательством моей благодарности Марго, поскольку цветы всегда дарились хозяйкам дома, и если Марго нравились цветы (в чем я не был уверен), тогда бы она поняла, что я выражаю ей мою признательность за просьбу перед Борном. Вчерашний телефонный разговор с ним оставил меня в легком замешательстве, и даже, когда уже шел к их жилищу, я все еще чувствовал себя чрезвычайно взволнованным невозможной удачей, упавшей на мою голову. Помню, что по такому случаю я даже надел костюм и галстук. Так парадно я не одевался уже очень давно, и, вот он, я — мистер Сама Важность — иду по кампусу Колумбийского университета с огромадным букетом цветов в правой руке, иду прямиком к моему издателю, чтобы отужинать и обсудить общие дела.
Он снимал квартиру у какого-то профессора, взявшего годовой отпуск; помещение было огромным, но забитым мебелью, в здании на Морнингсайд Драйв, неподалеку от 116-ой Стрит. Кажется, это был третий этаж, и сквозь французские, составленные из множества небольших окошек, окна гостевой открывался вид на парк Морнингсайд и огни испанской части Гарлема. Марго открыла дверь, когда я постучал, и хотя я до сих пор помню ее лицо и улыбку, проскользившую по ее губам, когда я подарил ей цветы, но я совершенно не помню, во что она была одета. Могло быть опять что-то черное, но, скорее всего, нет, поскольку у меня осталось послевкусие неожиданности, подразумевавшее, что в ней было что-то отличное от той, с первой встречи. Мы постояли немного возле двери, пока она не пригласила меня внутрь, и тут же Марго сообщила мне, понизив голос, что Рудольф был не в духе. Что-то неприятное произошло во Франции, и ему завтра предстояло уехать в Париж, по крайней мере, на неделю. Он был сейчас в спальне, она добавила, на телефоне с Эйр Франс, договаривался о своем полете, и, наверное, будет еще занят несколько минут.
Войдя в их квартиру, я был сражен наповал запахом, идущим с кухни — непередаваемо вкусный запах чарующего аромата, никогда до этого невстречавшегося мне. Кухня была на нашем пути — найти вазу для цветов — и, взглянув на плиту, я увидел большую, покрытую крышкой кастрюлю, издававшую этот экстраординарный аромат.
Я даже не представляю, что могло быть там, сказал я, указывая на кастрюлю, но если мой нос хоть что-нибудь различает, три человека сегодня будут очень довольны.
Рудольф сказал, что Вам нравится ягнятина, сказала Марго, и я решила приготовить наварин — густой суп с картофелем и навет.
Репа.
Я никогда не запомню это слово. Оно какое-то некрасивое, мне кажется, даже больно говорить его.
Хорошо. Тогда мы запретим его использование.
Марго понравилась моя шутка — достаточно, чтобы вновь улыбнуться мне — и тут же она занялась цветами: положила их в кухонную раковину, сняла с них белую оберточную бумагу, достала вазу с полки, подрезала стебли ножницами, поставила цветы в вазу и наполнила ее водой. Мы не сказали ни единого слова, пока она проделала все это; и я наблюдал за ней, пораженный тем, как медленно и методично она работала с цветами, будто бы все это требовало предельной осторожности и концентрации.
После чего мы оказались в гостиной с питьем в руках, сидя рядом на диване, куря сигареты и разглядывая небо сквозь ажурные стекла. Сумерки сгущались, но Борн до сих пор еще не показался, при этом вечно-спокойная Марго нисколько не была озабочена его отсутствием. Когда мы встретились в первый раз, я был немного напряжен ее долгим молчанием и отстраненным поведением, но сейчас я знал, что ожидать от нее, и я также знал, что она была не против моей компании — слишком хорош для этого мира — и от того мне стало спокойно находиться с ней. О чем мы говорили, пока ее спутник не присоединился к нам? Нью Йорк (она считала его грязным и депрессивным); ее амбиции стать художником (она брала уроки на факультете Искусств, хотя и знала, что у нее нет таланта, и что была слишком ленива, чтобы учиться); как долго она знала Рудольфа (всю жизнь); и что она думает о журнале (скрестила на счастие пальцы). Когда я попытался поблагодарить ее за помощь, она просто кивнула головой и попросила меня не преувеличивать: она ничего не сделала для этого.
Только я хотел спросить ее, что она имела в виду, как Борн зашел в комнату. Вновь мятые белые брюки, вновь торчащие во все стороны волосы, но без пиджака и в другого цвета рубашке — бледно зеленого цвета, если я точно помню — с обрубком потухшей сигары, зажатой между большим и указательным пальцами правой ладони, казалось, он даже позабыл о том, что было в его руке. Мой новоприобретенный благодетель был зол, кипя раздражительностью о каком-то кризисе и о поездке в Париж завтра, и, не утруждая себя приветствием, глубоко игнорируя обязанности хозяина праздника, он начал сыпать тирады, адресованные то Марго, то самому себе, то ли мебели в комнате или стенам вокруг него, миру вообще.
Глупые мудозвоны, сказал он. Хныкающие бездари. Заторможенные чинуши с картофельным пюре вместо мозгов. Университет в огне, а они сложили руки и любуются пожаром.
Спокойная, слегка удивленная Марго сказала: Вот почему ты им нужен, дорогой. Потому что ты король.
Рудольф Первый, ответил Борн, светлая голова с большим членом. И что я должен сделать, это лишь спустить штаны, помочиться на огонь, и проблема решена.
Правильно, подтвердила Марго, впервые улыбнувшись широко.
Мне это надоело, Борн пробормотал сквозь зубы, идя к бару с напитками, положил сигару и налил себе полный фужер неразбавленного джина. Сколько лет я отдал им? он спросил, отпивая на ходу. Занимаешься этим, потому что веришь в определенные принципы, но никому нет до этого дела. Мы проигрываем сражение, друзья. Корабль идет ко дну.
Это был совсем другой Борн, по сравнению с тем, кого я знал до этого — злой, насмешливый, ликующий от того, что видел и знал, шут заменил беспечного дэнди, основавшего литературный журнал и пригласившего двадцатилетнего юношу к себе на ужин. Что-то яростное вызревало в нем, и, увидев другую сторону его личности, я почувствовал себя отдаляющимся от него, готового взорваться в любую минуту и на самом деле наслаждающегося своим гневом. Он отхлебнул джина и впервые за этот вечер обратил свой взгляд на меня. Я не знаю, что он увидел в моем лице — потрясение? замешательство? напряжение? — что бы то ни было, но мое выражение лица заметно погасило его пыл. Не беспокойтесь, мистер Уокер, сказал он, пытаясь улыбнуться. Я просто выпускаю пар.
Постепенно он вылез из своего настроения, и, когда мы уселись поужинать за стол через двадцать минут, шторм, похоже, уже ушел. Или так мне показалось, когда он похвалил Марго за превосходный ужин и вино, купленное ею к еде, но вышло так, что затишье было временным, и, позже, новые шквалы посыпались на нас, вконец расстроив наше празднество. Не знаю, джин или бургундское вино повлияли на настроение Борна, но без сомнения он употребил в тот вечер хорошую порцию алкоголя — почти в два раза больше, чем Марго и я вместе взятые — или плохие новости подстегнули его плохое настроение. Похоже, эта была комбинация и того и другого, или что-то еще вдобавок, но во время ужина произошел малозначительный момент, о последствиях которого я даже и не предполагал.
Началось с того, что Борн поднял бокал с тостом на рождение нашего журнала. Его речь была безукоризненна, мне казалось, но когда я поддержал беседу, упомянув несколько фамилий авторов, которых я хотел бы пригласить к сотрудничеству, Борн оборвал меня на полуслове и сказал, чтобы я никогда не обсуждал вопросы бизнеса во время еды, как это было бы вредно для пищеварения, и что я должен научиться вести себя, как взрослый. Сказано это было грубо и невежливо, но я скрыл свою обиду, сделав вид, что согласился с ним и принялся вновь за еду. Немного времени спустя Борн отложил свою вилку и сказал мне: А Вам нравится, мистер Уокер?
Нравится что? спросил я его.
Наварин. Похоже, Вы едите его с большим наслаждением.
Наверное, самая лучшая еда, какую я ел когда-нибудь.
Другими словами, Вам нравится еда Марго.
Очень, чрезвычайно вкусно.
А сама Марго? Вам она нравится?
Она же сидит с нами за столом. Это же некрасиво говорить о ней, будто ее здесь нет.
Она не против, правда, Марго?
Нет, сказала Марго. Совсем ничуть.
Видите, мистер Уокер? Совсем ничуть.
Хорошо, тогда, ответил я. По моему мнению, Марго — очень привлекательная женщина.
Вы избегаете вопроса, сказал Борн. Я не спросил Вас, привлекательна ли она. Я хочу знать, Вам нравится она?
Она же Ваша жена, профессор Борн. Как я могу ответить на Ваш вопрос? Не сейчас и не здесь.
Марго не моя жена. Она мой лучший друг на все времена, но мы не женаты и не планируем никаких женитьб в будущем.
Вы живете вместе. Это так же, как быть женатыми.
Перестаньте. Не будьте чистюлей. Забудьте, что я знаком с Марго, хорошо? Мы говорим абстрактно, гипотезой.
Ладно. Как гипотеза, я мог бы, говоря гипотетически, быть увлеченным Марго, да.
Превосходно, сказал Борн, потирая ладони и улыбаясь. Мы к чему-то приближаемся. Быть увлеченным насколько? Чтобы смогли поцеловать ее? Желать ее обнаженного тела в Ваших руках? Хотеть переспать с ней?
Я не могу ответить на подобные вопросы.
Хотите сказать, что Вы девственник?
Нет. Я просто не хочу отвечать на Ваши вопросы, только и всего.
Понимаю ли я правильно, что если бы Марго бросилась к Вам и попросила заняться с ней любовью, Вы бы отказались? Это то, что Вы говорите? Бедная Марго. Вы даже не представляете, как Вы ее обидели.
О чем Вы говорите?
А Вы спросите ее?
Внезапно Марго протянула свою руку через стол и положила на мою руку. Не расстраивайтесь, сказала она. Рудольф просто забавляется. Вы ничего не должны делать, что Вам не нравится.
Способ Борна забавляться совершенно не имел ничего общего с моим взглядом на это, увы, тогда я не был вооружен для подобных забав Борна. Нет, я не был девственником. Я спал несколько раз с девушками, влюблялся и разочаровывался, два года тому назад страдал от неразделенной любви и, как большинство молодых мужчин, постоянно думал о сексе. Сказать правду, я был бы на верху блаженства, если бы переспал с Марго, но я отказался подчиниться Борну в этом признании. Разговор не был гипотетический. Похоже, он действительно предложил ее мне, и какую бы сексуальную свободу в своих отношениях они бы и не поддерживали, какие бы флирты не допускались с другими людьми, я воспринял предложение слишком некрасивым, бесстыдным и нездоровым. Наверное, я должен был сказать об этом, но я боялся — не Борна, конечно, но того, что он мог легко отменить свое решение по поводу журнала. Я отчаянно возжелал этот журнал, и пока Борн поддерживал меня в моем начинании, я согласен был вытерпеть многое. Потому я и решил не терять моего самообладания, вытерпеть в битве, получив удар, не упав при этом с коня, отбиться и умиротворить его в то же самое время.
Я разочарован, сказал Борн. До сих пор я принимал Вас за любителя приключений, бунтаря, того, кто мог бы залезть в свой нос, сидя на важном собрании, но по сути Вы такой же, застегнутый на все пуговицы, буржуазный болванчик. Какая жалость. Вы прыгали вокруг меня с этими провансальскими поэтами и возвышенными идеями, дрожа от страха перед повесткой в армию, и этот жалкий галстук, и Вы до сих пор думаете, что Вы представляете из себя нечто исключительное, но то, что я вижу сейчас — это лишь избалованный мальчик, живущий на папины деньги, позер.
Рудольф, сказала Марго. Довольно. Оставь его в покое.
Я понимаю, что я немного перегнул палку, Борн обратился к ней. Но молоденький Адам и я — партнеры, и я должен знать, что он из себя представляет. Сможет ли он выдержать честный вызов или разлетится в клочья?
Вы выпили очень много, сказал я, и, судя по всему, у Вас был тяжелый день. Похоже, мне пора. Мы можем вернуться к нашему разговору, когда Вы вернетесь из Франции.
Чепуха, ответил Борн, стукнув кулаком по столу. Мы еще не закончили суп. Потом есть салат, после салата — сыр, а после сыра — десерт. Вы уже обидели Марго насколько можно за один вечер, так что нам остается сидеть здесь и доесть ее замечательный ужин. В это время Вы могли бы рассказать нам что-нибудь об Уэстфилде, что в Нью Джерси.
Уэстфилд? Удивился я тому, что Борн знал, где я вырос. Как Вы узнали об Уэстфилде?
Не представляло труда, сказал он. Как Вы видите я премного изучил Вас за прошедшее время. Ваш отец, к примеру, Джозеф Уокер, пятьдесят пять лет, более известен как Бад, владеет магазином Шоп-Райт на Мэйн Стрит и работает в нем. Ваша мать, Марджори, или Мардж, сорока шести лет, родила трех детей: Вашу сестру Гвин в ноябре сорок пятого; Вас в марте сорок седьмого; и Вашего брата Эндрью в июле пятидесятого. Трагедия. Маленький Энди утонул, когда ему было семь лет; легко представить, как невыносима была эта потеря для вас всех. У меня была сестра, она умерла от рака почти в том же возрасте, и я знаю, какие ужасные последствия может принести смерть всей семье. Ваш отец нашел утешение, работая по четырнадцать часов в день, шесть дней в неделю; в то же самое время Ваша мать ушла в себя, борясь с депрессией лекарствами и посещениями два раза в неделю психотерапевта. Это просто чудо, по-моему, как Вы и Ваша сестра выдержали перед лицом такого бедствия. Гвин — красивая и талантливая девушка, на последнем курсе университета Вассар, планирует защититься по англо-язычной литературе здесь, в Колумбийском, этой осенью. А Вы, мой юный образованный друг, мой вежливый кузнец слов и переводчик забытых средневековых поэтов, оказывается, были превосходным бейсболистом в старших классах, одним из капитанов, никак не меньше. В здоровом теле — здоровый дух. И ко всему прочему, мои источники сообщают, что Вы высоко-моральная личность, сама скромность, надежа и опора тех, кто в отличие от большинства студентов, не погрязли в наркотиках. Алкоголь — да, но никакого тумана в голове — даже ни одного облачка марихуаны. Почему, мистер Уокер? Со всей силой пропаганды в наше время освобождения сознания галлюциногенами и наркотиками, Вы почему-то ни разу не уступили соблазну поиска новых, волнительных горизонтов?
Почему? Сказал я, все еще отходя от потрясшего меня рассказа Борна о моей семье. Я скажу Вам почему, но, во-первых, я бы хотел узнать, как Вам удалось накопать столько обо мне за такое короткое время.
Что-то не так? Какие неточности были в моем рассказе?
Нет, не было. Просто я немного ошарашен, вот и все. Вы не полицейский и не агент ФБР, хотя профессор факультета международных отношений может как-то быть связан с разведывательными организациями. Это так? Вы шпион ЦРУ?
Борн расхохотался над моими словами так, будто никогда не слышал ничего смешнее до сих пор. ЦРУ! Раскатистый хохот. ЦРУ! Какого черта француз будет работать на ЦРУ? Простите мой смех, но сама идея невозможно смешна. Боюсь, я не смогу остановиться.
Хорошо, как Вы все это узнали тогда?
Я очень тщательный человек, мистер Уокер, который ничего не начнет делать без подготовки, и если я хочу предложить двадцать пять тысяч долларов кому-то, кто почти мне незнаком, я должен изучить его как можно лучше. Вы будете поражены, узнав, какое эффективное устройство для этого — телефон.
Марго встала и начала собирать тарелки со стола для новой порции еды. Я попытался встать, чтобы помочь ей в этом, но Борн знаком усадил меня назад на стул.
Ну, что же, вернемся к нашему вопросу? спросил он.
Какому вопросу? я спросил его в свою очередь, потеряв способность следовать за ходом его мысли.
По поводу нет — наркотикам. Даже очаровательная Марго покуривает иногда, и скажу Вам прямо, мне тоже нравится это делать. А вам, вот, нет. Любопытно, почему?
Потому что я их боюсь. Два моих знакомых со школы ушли на тот свет от героиновой предозировки. На первом году университета парень, с кем я делил комнату, сошел с катушек и бросил учиться. Снова и снова, я видел людей, бросающихся на стенки, отходя от таблеток ЛСД — кричали, тряслись, были готовы убить себя. Я не хочу быть таким, как они. Пусть, хоть весь мир сядет на наркотики, мне они совершенно безразличны.
И при всем этом — алкоголь.
Да, сказал я, поднимая свой бокал и отпивая глоток вина. С безграничным удовольствием, должен добавить при этом. Особенно, в такой компании.
Мы занялись салатом, потом перешли к сыру и далее — к испеченому ранее Марго десерту (яблочный пирог? малиновый пирог?), и через полчаса пожар драмы, так бурно полыхавший в начале трапезы, потихоньку сошел на нет. Борн опять был вежлив со мной, и, хотя он так же продолжал вливать в себя бокал за бокалом, я начал обретать уверенность в том, что наш ужин не закончится еще одной выходкой оскорблений капризного хозяина. Потом он открыл бутылку брэнди, закурил одну из его кубинских сигар и завел разговор о политике.
К счастью, не такой неприятный, как был ранее. Борн уже был по уши в брэнди, и после многочисленных глотков огненного напитка он был далек от того, чтобы вести разумную беседу. Конечно, он тут же опять назвал меня трусом за мое уклонение от Вьетнама, но, в целом, он говорил лишь сам с собой, погружаясь в длинные бурлящие монологи о совершенно несочетаемых между собой вещах; я сидел, молча слушая его, а Марго мыла посуду на кухне. Невозможно составить целой картины его разглагольствований, но я помню ключевые моменты, особенно его воспоминания сражений в Алжире, где он провел два года во французской армии, допрашивая грязных арабских террористов и теряя постепенно веру в справедливость. Внезапные провозглашения, дикие обобщения, горькие признания о коррупции всех правительств — прошлого, настоящего и будущего; левые, правые и центристские — и так называемые наши цивилизации были не более, чем тонкая ширма, маскирующая бесконечные атаки варварства и жестокости. Человеческие существа всегда были животными, он сказал, и мягкотелые эстеты, вроде меня, были не полезнее детей, отвлекающиеся на малозначащие философии искусства и литературы, вместо того, чтобы встретиться лицом к лицу с настоящей правдой существующего мира. Только сила имела значение, и закон жизни гласил — убить или быть убитым, повелевать или пасть жертвой дикости монстров. Он рассуждал о Сталине и миллионах жизней, погибших во времена коллективизации тридцатых. Потом он начал говорить о нацистах и о войне, и перешел к теории, что восторженное отношение Гитлера к США вдохновило его на поход в Европу, взяв американскую историю, как модель. Посмотрите на похожесть, заявил Борн, без всяких натяжек: уничтожение индейцев превратилось в уничтожение евреев; вторжение на Запад в поисках природных ресурсов стало вторжением на Восток по тем же причинам; использование чернокожих рабов для снижения стоимости работ перешло в порабощение славян для тех же целей. Да здравствует Америка, Адам, воскликнул он, наливая очередной бокал себе и мне. Да здравствуют темные силы в нас.
Слушая его проповеди, я начал чувствовать растущую жалость к нему. Хотя его речи и были ужасны, я не смог отделаться от сочувствия, которое вызывал этот человек, ушедший в пессимизм настолько, что потерял всякую возможность увидеть красоту и благородство в другом человеческом создании. Борну было только тридцать шесть лет, но душа его уже была выжжена дотла на разбитых обломках личности, и там, в самой его сердцевине, я представил, он жил в постоянной боли, израненный лезвиями отчаяния, отвращения и самоуничтожения.
Марго вошла в комнату, и когда она увидела его — с налитыми кровью глазами, бессвязной речью, чуть не выпадающим из его кресла — она положила свою руку ему на спину и мягко сказала ему по-французски, что вечер окончен, и ему пора в кровать. Удивительно, но он не протестовал. Качая головой в знак согласия и постоянно бормоча merde, он позволил Марго поднять его на ноги, и вскоре она вывела его из комнаты в коридор, и далее — в глубину квартиры. Сказал ли он мне что-то на прощание? Не могу сказать. Некоторое время я еще продолжал сидеть на стуле, ожидая возвращения Марго, чтобы пожелать ей спокойной ночи, но поскольку она так и не показалась, я поднялся и пошел к выходу. Тогда я увидел ее — выходящую из спальни в конце коридора. Я ждал ее в дверях, пока она не подошла поближе, потом положила руку на мое предплечье и извинилась за поведение Рудольфа.
Он всегда такой, когда выпьет? спросил я.
Нет, почти что никогда, сказала она. Сегодня он очень расстроен, и к тому же у него слишком много разных забот.
По крайней мере, не было скучно.
Вы вели себя с большим тактом.
Как и Вы себя. И спасибо за ужин. Я никогда не забуду Ваш наварин.
Марго улыбнулась мне одной из своих еле заметных, скользящих улыбок и сказала: Если Вам захочется еще моей еды, только попросите. Мне будет приятно приготовить что-нибудь пока Рудольф будет в Париже.
Отлично, сказал я, прекрасно осознавая, что никогда не найду смелости позвонить ей, хотя и было очень приятно услышать ее приглашение.
И вновь, ее улыбка, и потом два легких поцелуя в щеки. Спокойной ночи, Адам, сказала она. Я буду о Вас думать.
Я не знаю, думала ли она обо мне или нет, но сейчас, когда Борна не было рядом, я стал думать о ней, и следующие два дня я не мог остановиться в своих мыслях. С первого взгляда на той вечеринке, когда Марго пристально смотрела на меня и изучала мое лицо с внезапным напряжением, и до того неприятного разговора, спровоцированного Борном во время ужина, волнующее сексуальное напряжение установилось между нами, и, несмотря на то, что я был на десять лет моложе ее, ничто не могло остановить мое воображение от представления ее со мной в постели, от желания быть с ней в постели. Было ли ее предложение приготовить еду скрытым намеком или просто жестом щедрости, невинным желанием помочь молодому студенту, выживающему дешевыми обедами и разогретыми консервированными спагетти? Я был слишком робок, чтобы знать наверняка. Я хотел позвонить ей, но каждый раз, беря трубку телефона, я понимал всю невозможность. Марго жила с Борном, и, пусть он настойчиво отвергал возможность их женитьбы в будущем, она уже была с кем-то, и я не мог заставить себя надеяться на ее благосклонность.
И тогда она позвонила мне. Прошло три дня после того ужина, в десять утра телефон зазвонил в моей комнате, и это была она — на другом конце провода; ее голос был немного обиженный, разочарованный тем, что я не позвонил; в ее слегка приглушенной манере речи звучало больше чувств, чем я когда-нибудь слышал от нее.
Простите, врал я, но я хотел позвонить Вам чуть позже. Буквально через пару часов.
Смешной, сказала она, видя мое неловкое вранье. Можете не приходить, если не хотите.
Я хочу, ответил я. Очень хочу.
Сегодня вечером?
Сегодня вечером — будет превосходно.
Вам не стоит беспокоиться о Рудольфе, Адам. Его нет, и я могу делать то, что я хочу. Мы все. Никто не владеет никем. Понимаете?
Да.
Как Вы относитесь к рыбе?
Рыбе в море или рыбе на блюде?
Поджаренный морской язык. Картошка и choux de Bruxelles на гарнир. Вы не против, или Вам хочется что-нибудь другое?
Нет. Я уже мечтаю об языке.
Приходите в семь. Не беспокойте себя покупкой цветов. Я знаю, они слишком дорого стоят.
Разговор закончился, и я провел девять часов в пытках ожидания и в мечтах все мои классы, размышляя о загадках телесного влечения и стараясь понять, что в Марго могло вызвать мое возбуждение. Первое впечатление от нее не было каким-то особенным. Она показалась мне довольно странным и блеклым созданием, вызывающем даже сочувствие, загадочным, но безжизненным; женщиной, потерявшейся в мутном внутреннем мире и отключившейся от окружающихся, будто бы она была молчащим пришельцем с другой планеты. Через два дня, когда я встретился с Борном в Уэст Энде, и когда он передал мне ее впечатление от нашей встречи, мое отношение к ней начало меняться. Выходило так, что я понравился ей, и она была озабочена моим нынешним благосостоянием; и если Вам говорят, что Вы нравитесь кому-то, Ваш инстинктивный ответ будет тем же самым чувством. Потом был ужин. Ее томность и точность жестов, когда она обрезала цветы и поставила их в вазу, что-то изменили во мне; и простое наблюдение за ней в тот момент привело меня в состояние чарующего гипноза. Я увидел бездну чувствительности в ней; и простая, неинтересная женщина безо всяких особенных способностей оказалась более проницательной, чем я ожидал. Она, по крайней мере, дважды приходила ко мне на помощь в разговоре с Борном и точно тогда, когда разговор мог перейти в нечто большее. Спокойная, всегда спокойная, с речью чуть громче шепота, но каждое ее слово было абсолютно точным. Отбиваясь от хлестких словесных атак Борна и полагая, что он пытался заманить меня в какую-то игру — наблюдать за мной и Марго в постели? — я подумал, что и она принимала участие в этой игре, и потому отказался от его предложения. Но сейчас Борн был на другой стороне Атлантического океана, и Марго все так же хотела увидиться со мной. И, выходило, только для одного. Я понял, что ее желание началось с того момента, когда она увидела меня на вечеринке. Вот почему Борн накинулся на меня на ужине — не потому, что ему захотелось устроить сексуальные игрища, но потому, что он был зол на Марго за ее чувства ко мне.
Она варила ужины пять вечеров, и пять ночей мы спали вместе в спальне в конце коридора. Мы могли спать в другой спальне, та была больше и более удобной, но никто из нас не хотел быть вместе там. Другая спальня была комнатой Борна, его околокроватным миром, и потому пять ночей мы создавали наш, спя в маленькой комнатке с крошечным окном на узкой кровати, названной кроватью любви, хотя трудно было назвать любовью то, что происходило с нами пять ночей. Мы не влюбились друг в друга, как это говорится обычно, мы вошли друг в друга и недолго жили в том, глубоко спрятанном от всех месте, совсем недолго; и нашим единственным занятием было удовольствие. Удовольствие еды и питья, удовольствие секса, удовольствие бессловесных разговоров на языке взглядов и прикосновений, укусов, вкуса и поглаживаний. Мы, конечно, не молчали совсем, но наши разговоры были сведены к минимуму, и более всего о еде — что мы будем есть завтра? — и слова, которыми мы обменивались во время ужина, были коротки и просты, совершенно незначительны. Марго никогда не спрашивала меня ни о чем. Она не любопытствовала о моем прошлом, ей были безразличны мои взгляды на литературу и политику, и ее совершенно не интересовало, чему я учился. Она просто приняла меня тем, кем я был в ее сознании — выбор мгновения, существо ее желания — и каждый раз, глядя на нее, я чувствовал — она впитывала меня, как если бы меня в ее объятих было бы совсем недостаточно. Что же я узнал о Марго в те дни? Совсем немного, почти что ничего. Выросла в Париже, была самой молодой из трех детей в семье, с детства знала Борна, как дальнего родственника. Они были вместе два года, и она не была уверена, что смогли бы прожить вместе еще столько же времени. Похоже, она начала надоедать ему, сказала Марго, точно так же она начала уставать от самой себя. Марго пожала плечами, и когда я увидел ее выражение лица при этом, мне показалось, что она считала себя уже наполовину мертвой. Я перестал приставать к ней с моими расспросами. Довольно было того, что мы вместе; и я съежился от мысли — я мог причинить ей боль случайным прикосновением.
Марго без макияжа была мягче и более земной, чем тот женский образ, который она одевала на улицу. Марго без одежды была тонкой, почти плоской, с небольшими, будто девичьими, грудками, и узкими бедрами. Полногубый рот, плоский живот со слегка выступающим пупком, нежные руки, гнездышко волос в паху, ровные ягодицы и чрезвычайно белая кожа, такая гладкая, какой я никогда не касался до этого. Особенности тела, милая чепуха, драгоценные моменты. Я был очень нерешительным в начале, совершенно не представляя, что ожидать, чуть удивленным тем, что я был с женщиной, гораздо опытнее, чем я, новичок в руках ветерана, неумеха, стесняющийся своей наготы и занимавшийся любовью до этого лишь в полной темноте под одеялом с такими же неловкими и стесняющимися девушками, но Марго была совершенно естественна во всем, в ее знании искусства любовных прикосновений, в ее жажде изучить меня руками и языком, бросаясь на меня, падая в изнеможении, отдавая себя безо всякого стыда и нерешительности, что очень скоро я сдался ей. Все, что хорошо, не несет вреда, сказала однажды Марго, и это был ее подарок мне в конце пятидневного обучения. Она научила меня не бояться самого себя.
Я жаждал продолжения. Жить в таком необычном раю со странной, непостижимой Марго было самым лучшим, самым невозможным событием в моей жизни, но Борн возвращался из Парижа вечером следующего дня, и у нас не оставалось выбора. Тогда я представлял себе, что грядет лишь временное затишье. Когда мы попрощались утром, я попросил ее не беспокоиться, что раньше или позже мы найдем возможность для продолженья наших встреч; несмотря на мою решительность и убежденность, Марго выглядела грустной; и, покидая квартиру, я увидел, как ее глаза внезапно залились слезами.
У меня плохое предчувствие, сказала она, я не знаю, почему, но что-то говорит мне — это конец, это последний раз я вижу тебя.
Не говори так, ответил я, я живу через несколько блоков отсюда. Ты можешь прийти ко мне, когда захочешь.
Я попробую, Адам. Я попытаюся, но не жди многого от меня. Я не такая сильная, как ты думаешь.
Не понимаю.
Рудольф. Когда он вернется, я знаю, он выбросит меня на улицу.
Если он это сделает, ты можешь перебраться ко мне.
И жить с двумя студентами в одной грязной комнате? Я не в том возрасте.
Мой сосед совсем не такой. И наша комната всегда в порядке.
Я ненавижу эту страну. Я ненавижу здесь все, кроме тебя, но тебя недостаточно, чтобы я здесь осталась. Если Рудольф не захочет оставить меня, я соберу свои вещи и уеду домой в Париж.
Ты говоришь, будто этого хочешь, будто ты уже запланировала наш разрыв.
Не знаю. Может, и так.
А я? Наши дни ничего не значат для тебя?
Конечно, значат. Мне было очень хорошо с тобой, но наше время вышло, и в тот самый момент, когда ты выйдешь отсюда, ты поймешь, что я тебе больше не нужна.
Это неправда.
Правда. Ты этого еще не знаешь.
О чем ты говоришь?
Бедный Адам. Я не решение всех проблем. Ни для тебя — возможно, ни для кого.
Печальный конец того, что было так важно для меня, и я вышел на улицу разбитым, озадаченным и, пожалуй, злым. В течение нескольких дней после этого я все время возвращался к нашему последнему разговору, и чем больше я размышлял над ним, тем меньше понимал. С одной стороны, Марго была в слезах, когда я уходил, признавшись, что боится потерять меня. Получалось, что она была не против наших отношений, но, когда я предложил ей встречаться у меня, она заколебалась, ссылаясь на невозможность. Но почему? И никаких объяснений — только, что она не настолько сильная, как мне казалось. Я не понимал, что все это означает. Потом она начала говорить о Борне и тут же скатилась в болото противоречий и борющихся желаний. Она беспокоилась, что Борн мог выставить ее из квартиры, но, секунду спустя, похоже, она как раз этого и хотела. И, более того, она хотела взять инициативу разрыва в свои руки и уйти от него первой. Ничего тут не добавишь. Она хотела быть со мной и не хотела быть со мной. Она хотела быть с Борном и не хотела быть с Борном. Каждое слово у нее опровергало сказанное раннее, и, в конце концов, не было никакой возможности узнать, что она на самом деле чувствовала. Скорее всего, она и сам не знала. Это было для меня самым правдоподобным объяснением — Марго в разладе с самой собой — но после тех пяти ночей, проведенный с ней, я не мог отделаться от чувств обиды и одиночества. Я старался приободрить себя — надеялся, что она позвонит, надеялся, что изменит решение и бросится ко мне — но в глубине я знал, что все ушло, и что ее страх никогда не увидеть меня был на самом деле ее предвидением, и что она покинула мою жизнь навсегда.
В это же время Борн вернулся в Нью Йорк, но прошла неделя, а я так и не услышал ничего от него. Чем дальше длилось его молчание, тем явственнее становилось понимание того, как я не хотел его звонка. Рассказала ли Марго ему о нас? Были ли они опять вместе, или она уже была во Франции? После нескольких дней молчания я решил, тщетно надеясь, что он забыл обо мне, и я больше никогда его не увижу. Не будет журнала, конечно, да я уже не сильно и желал его. Я предал Борна, переспав с его подругой, и, пусть он так или иначе даже подталкивал меня к этому, не было ничего доблестного в том, что я натворил — особенно после того, как Марго сказала мне, что она не будет нужна мне, что, понятно, означало, что я не нужен ей. Я сам заварил эту кашу, каким бы трусом я не был, для меня было бы лучше спрятаться под кроватью, чем встретиться с ними.
Но Борн не забыл про меня. Только я начал верить, что вся история забылась, он позвонил мне вечером и попросил прийти к нему на квартиру поболтать. Это было его слово — поболтать — и я был поражен, каким веселым он был на телефоне, прямо таки излучая энергию и прекрасное настроение.
Извиняюсь за отсутствие, сказал он. Тысяча пардонов, Уокер, был занят, очень занят, жонглировал тысячью вещами, за все прошу тысячу пардонов, заняло немало времени, и наступил момент сесть и заняться делом. Я должен Вам выдать чек на первый номер, и после нашей болтовни, предлагаю Вам пойти потом где-нибудь поужинать. Столько времени прошло, и, мне кажется, нам надо разобраться с нашими новостями.
Я не хотел идти к нему, но пошел. Не без ожидания неприятностей, не без панического холодка в моем животе, но, в конце концов, у меня не было выбора. Чудом журнал все еще оставался в наших отношениях, и если он хотел поговорить об этом, и если он был готов выписать чек в поддержку издания, я не видел причины не принять его приглашения. Нам надо разобраться с нашими новостями. Нравится или нет, но мне придется узнать, было ли Борну известно, что творилось за его спиной — и, если да, что он предпринял.
Он был опять в белом: костюм с рубашкой с распахнутым воротником, но в этот раз чистый и не мятый, вылитый аристократ. Свежевыбритый, с приглаженными волосами, подтянутый и собранный, каким я еще его ни разу до сих пор не видел. Добрая улыбка на его лице, открывая дверь; крепкое пожатие ладони, когда я зашел внутрь; дружеское похлопывание по моему плечу по пути к бару, где он предложил мне выбрать напиток; но без Марго, ни единого знака ее присутствия, что могло означать что угодно, но я начал подозревать худшее. Мы сели возле окон с видом на парк, я — на софе, он — в большом кресле напротив меня, кофейный столик — между нами; Борн ухмыльнулся такой довольной улыбкой, такой счастливой, будто его поездка в Париж была чрезвычайно успешной, и он развязал все узлы запутанных проблем его коллег. Позже, после малозначительных вопросов о моем обучении и книгах, прочитанных недавно мной, он откинулся в кресле и сказал между прочим: Я хочу поблагодарить Вас, Уокер. Вы сделали для меня очень важную работу.
Благодарить? За что?
За то, что выявили правду. Я Вам чрезвычайно благодарен.
Все равно не понимаю, о чем Вы говорите.
Марго.
А что с ней?
Она меня предала.
Как? Я спросил, прикидываясь непонимающим, но чувствуя, что выгляжу смешно, съежившись под грузом стыда от бесконечной улыбки Борна.
Она переспала с Вами.
Это она Вам сказала?
Чтобы она не натворила, Марго никогда не врет. И, если я прав, то вы провели пять ночей с ней — прямо здесь, в этой квартире.
Простите, сказал я, уставившись в пол, избегая взгляда Борна.
Не надо просить прощения. Я честным образом подтолкнул Вас к этому, не правда ли? Если бы я был Вами, я бы сделал то же самое. Очевидно, что Марго хотела переспать с Вами. Каким образом здоровый молодой человек откажется от такой возможности?
Если Вы хотели от нее этого, отчего же Вы говорите о предательстве?
Э-э, но я этого не хотел. Я только притворялся.
И почему же Вы притворялись?
Проверить ее порядочность, вот почему. Шлюшка взяла наживку. Не беспокойтесь, Уокер, мне очень хорошо без нее, и я должен благодарить Вас за ее отсутствие.
Где она сейчас?
Париж, я полагаю.
Это Вы ее выставили, или она сама ушла?
Трудно сказать. Возможно, и то и другое. Назовем, как развод по обоюдному согласию.
Бедная Марго…
Чудесный повар, чудесный секс, но внутри — просто очередная безголовая шлюха. Не надо ее жалеть, Уокер. Она того не стоит.
Жестокие слова от того, кто был с ней целых два года.
Может быть. Как Вы уже заметили, мой язык иногда — сам по себе. Но факт остается фактом, и факт этот — я не молодею. Пора задуматься о женитьбе, и ни один мужчина в здравом уме не примет решения жениться на девушке, подобной Марго.
У Вас уже есть кто-то на примете, или это лишь заявление о будущих намерениях?
Я помолвлен. Две недели тому назад. Еще одно дело, законченное в Париже. Вот, почему я сегодня в прекрасном настроении.
Поздравляю. А когда наступит счастливый день?
Еще не определено. Некоторые осложнения, так что свадьба не может состояться до следующей весны, по крайней мере.
Какая жалость — ждать так долго.
Ничего не поделаешь. По правде говоря, она все еще замужем, и мы должны подождать, пока закон не сделает свое дело. И это стоит того. Я познакомился с этой женщиной, когда я был Вашего возраста; и она превосходный человек, партнер на всю жизнь.
Если Вы так говорите о ней, почему же Вы были с Марго два года?
Потому что я не был уверен в моей любви, пока вновь не увидел ее в Париже.
Марго ушла, пришла жена. Ваша кровать долго не пустует?
Вы меня недооцениваете, молодой человек. Хоть я бы и хотел съехаться с ней прямо сейчас, мне необходимо подождать, пока мы не женимся. Вопрос принципа.
Настоящий рыцарь.
Точно так. Настоящий рыцарь.
Совсем, как наш старый знакомый из Перигора, благородный миролюбивый Бертран.
Упоминание имени поэта ошарашило Борна. Merde! сказал он, шмякнув ладонью о свое колено, я совсем забыл. Я же должен Вам деньги, правда? Сидите здесь, пока я схожу за чеком. Не пройдет и минуты.
После этих слов Борн выскочил из своего кресла и скрылся в глубине квартиры. Я встал, разминая ноги, и только подошел к обеденному столу, стоящему в паре метрах от софы, как Борн вернулся. Порывисто подвинув стул к себе, он сел, открыл чековую книжку и начал писать — зеленой чернильной ручкой, помню, с толстым пером и темно-синими чернилами.
Я даю Вам шесть тысяч двести пятьдесят долларов, сказал он. Пять тысяч за первый номер, плюс тысяча двести пятьдесят, чтобы покрыть четверть Вашего оклада. Не спешите, Адам. Если Вы соберете материалы вместе… скажем… к концу августа или к началу сентября, то будет вовремя. Меня уже тогда здесь не будет, конечно, но мы можем общаться друг с другом письмами, а если что-нибудь срочное случится, то Вы всегда можете позвонить мне за мой счет.
Это был самый большой чек в моей жизни, и когда он оторвал его от чековой книжки и протянул его мне, я посмотрел на сумму, и от ее вида у меня закружилась голова. Вы точно хотите дать мне этот чек? спросил я. Это же куча денег.
Конечно, я хочу дать Вам этот чек. Мы заключили сделку, и теперь Ваша очередь собрать самый лучший первый номер.
Но Марго уже здесь нет. Вы совершенно не обязаны делать это.
О чем Вы?
Это же идея Марго, помните? Вы дали мне работу, потому что она попросила Вас.
Ерунда. С самого начала это была моя идея. Одна вещь, чего хотела Марго, это залезть к Вам в постель. Ей было совершенно до лампочки работа в журнале и Ваше будущее. Если я и сказал Вам, что она попросила меня, только затем, чтобы мне не было неловко за мое предложение.
А зачем Вы вообще предложили мне?
Сказать по правде, сам не знаю. Но я вижу в Вас что-то, Уокер, что мне нравится, и по непонятным причинам мне захотелось поставить на Вас ставку. Я ставлю на то, что Вы добьетесь успеха. Докажите мне, что я неправ.
Был теплый весенний вечер, мягкий и прекрасный вечер с безоблачным небом над нами, с запахом цветов в воздухе и совершенно безветренный, ни малейшего дуновения. Борн решил повести меня в кубинский ресторан, расположенный в Даунтауне города на углу Бродвея и 109-ой Стрит (идеал, его любимое место), но как только мы покинули университетский кампус, он предложил мне сначала дойти до Риверсайд Драйв, где бы могли полюбоваться видом на Гудзон, и оттуда, краем парка, добраться до ресторана. Это такая ночь, сказал он, и мы никуда не торопимся, так что почему бы нам не прогуляться подольше и насладиться прекрасной погодой? Мы шли, дыша приятным весенним воздухом, говорили о журнале, о женщине, на которой Борн собирался жениться, о деревьях и кустах парка Риверсайд, о геологических отложениях на нью-джерсийском берегу реки напротив, и я был счастлив и умиротворен моим благополучием, и все недобрые чувства к Борну растаяли без следа, или, по крайней мере, исчезли на время. Он не винил меня за соблазнение Марго. Он только что дал мне чек на невероятную сумму денег. Он не атаковал меня своими жалящими политическими идеями. Хоть один раз за все время он выглядел расслабленным и спокойным, и, похоже, он действительно был влюблен, похоже, его жизнь повернула колеса в новое, лучшее для него, направление; и только за этот вечер, в любом случае, я был готов простить ему любые прегрешения.
Мы перешли на восточную часть Риверсайд Драйва и направились в Даунтаун. Не все уличные фонари горели на улице, а как только мы добрались до угла 112-ой Стрит, то тут же очутились в квартале, полностью погруженном во мрак. Ночь уже входила в свои владения, и было трудно видеть дальше, чем пару-тройку метров от нас. Я зажег сигарету и во вспышке зажженой спички заметил темный силуэт человеческой фигуры, выходящей из подъезда. Секунду спустя Борн схватил меня за руку и сказал только одно слово: Стоп. Я уронил спичку и выбросил мою сигарету. Фигура приближалась, без сомнения направляясь в нашу сторону, и после нескольких его шагов я увидел, что это был чернокожий подросток, одетый в темного цвета одежду. Невысокий, не старше шестнадцати-семнадцати лет, но после следующих его трех-четырех шагов к нам я, наконец, понял, отчего Борн схватил меня за руку, потому что увидел то, что Борн увидел первым. Подросток держал в левой руке пистолет. Оружие было направлено на нас; и тут же, одним скачком секундной стрелки часов, вселенная вокруг меня изменилась. Подросток уже не был живым существом. Он был пистолетом и только им, пистолетом ночного кошмара в воображении каждого жителя Нью Йорка, бессердечный, бесчеловечный пистолет с одной целью — однажды найти тебя на пустой улице и отправить тебя в могилу. Ценное наружу. Все из карманов. Молчать. Мгновение до этого я был на вершине мира, а сейчас, внезапно, я был напуган, как никогда в моей жизни.
Подросток остановился в полуметре от нас, целясь пистолетом в мою грудь, и сказал: Не двигаться.
Он стоял так близко, что я разглядел его лицо, полное неуверенности, даже страха. Откуда я понял это? Похоже, что-то было в его глазах, или я заметил, как дрожала его губа — трудно сказать. Страх ослепил меня, и эти впечатления, должно быть, вошли сквозь мою кожу, на клеточном уровне, как говорится, бессознательное знание; и я был почти уверен, что он был новичок, может, в своем втором выходе, а, может, и в первом.
Борн, стоящий слева от меня, сказал: Что тебе надо? Легкое волнение читалось в его голосе, но, по крайней мере, он заставил себя говорить, чего я бы не смог сделать в ту минуту.
Ваши деньги, сказал подросток. Ваши деньги и часы. Оба. Сначала кошельки. И побыстрее. Я не буду ждать целую ночь.
Я залез в свой карман за купюрами, но Борн неожиданно решил дать отпор. Глупость, подумал я, сопротивление могло кончиться тем, что нас могли убить, но тут я никак не мог вмешаться в происходящее.
А если я не захочу отдать мои деньги? спросил Борн.
Тогда я тебя застрелю, мистер, сказал подросток. Я застрелю тебя и все равно заберу ваши кошельки.
Выдох Борна был долгим и драматическим. Ты пожалеешь, малыш, сказал он. Почему бы тебе не уйти сейчас и оставить нас в покое?
Почему бы тебе не заткнуться и дать мне твой кошелек? ответил подросток, помахав пистолетом пару раз для наглядности.
Как хочешь, сказал Борн. Только не говори, что тебя не предупредили.
Я продолжал смотреть на подростка, видя Борна лишь боковым зрением, но в последнюю секунду я слегка повернул мою голову налево и увидел, как он доставал что-то из внутреннего кармана пиджака. Я был уверен, что он доставал деньги, но, когда его рука покинула карман, в кулаке, казалось, было спрятано нечто другое. Я даже не успел подумать, что это могло быть. В одно мгновение я услышал кликающий звук, и лезвие ножа выпрыгнуло наружу. Жестким ударом снизу вверх Борн вонзил лезвие в подростка — прямо в живот, смертельное ранение. Подросток охнул от удара, схватился за живот правой рукой и медленно осел на землю.
Блин, мужик, сказал он. Он даже не заряжен.
Пистолет выпал из его руки и скатился на мостовую. Я с трудом начинал осознавать происходящее. Слишко многое случилось за короткое время, слишком нереальное. Борн подобрал пистолет и положил его к себе в боковой карман. Подросток начал стонать, обхватив живот обеими руками и крутясь во все стороны по асфальту. Было слишком темно, чтобы видеть все, но мне показалось, что я увидел кровь, сочащуюся на землю.
Мы должны доставить его в госпиталь, наконец я заговорил. На Бродвее должны быть телефонные будки. Подождите здесь, я сбегаю позвоню.
Не будь идиотом, сказал Борн, схватив меня за пиджак и встряхнув изо всех сил. Никаких госпиталей. Он умрет, и мы здесь ни при чем.
Он не умрет, если медицинская помощь будет здесь через десять-пятнадцать минут.
А если он выживет, тогда что? Хочешь провести следующие три года жизни в суде?
Мне все равно. Уходите, если хотите. Идите домой, выпейте бутылку джина, но я бегу на Бродвей, чтобы позвонить.
Замечательно. Будь по-твоему. Мы прикинемся добрыми паиньками, и я буду сидеть здесь с этим отребьем и ждать, когда ты вернешься. Это то, что ты хочешь? Ты что думаешь, я глупец, Уокер?
Я не стал ничего отвечать ему. Я развернулся и побежал по 112-ой Стрит к Бродвею. Я отсутствовал десять, может, пятнадцать минут, но, когда я вернулся туда, где оставались Борн и раненый подросток, их обоих уже не было. Лишь кровавое пятно свернувшейся крови на мостовой и более ни единого знака, что они были здесь.
Я пошел домой. Не было никакого смысла ждать медицинскую помощь, поэтому я вернулся на Бродвей и побрел в сторону Даунтауна. Мое сознание было опустошено — ни одной различимой мысли, и, когда я зашел в свою комнату, я обнаружил себя плачущим, и, похоже, плачущим уже несколько минут. К счастью, моего соседа не было в комнате, и не нужно было объяснять никому ничего. Я плакал; и, когда, наконец, мои слезы закончились, я разорвал чек Борна и положил обрывки в конверт, отправленный ему наутро. Там не было никакого сопровождающего письма. Я был уверен, что этот жест говорил сам за себя, и он поймет, что я разрывал любые отношения между нами и больше не хотел иметь ничего общего с его грязным журналом.
Позже днем выпуск Нью Йорк Пост напечатал, что тело восемнадцатилетнего Седрика Уилльямса было найдено в парке Риверсайд с многочисленными проникающими ранениями в области груди и живота. Никакого сомнения для меня не было в том, что Борн был замешан в этом. В тот момент, когда я оставил их, убежав позвонить, он подобрал кровоточащее тело Уилльямса и оттащил его в парк, чтобы закончить начатое в переулке. Если принять во внимание количество машин, проезжающих по Риверсайд Драйв, я нашел, правда, невероятным, чтобы никто не смог заметить Борна, переходящего дорогу с телом в руках, но, судя по статье в газете, у сыщиков не было ни единой зацепки.
Безусловно, я просто был обязан позвонить в местное отделение полиции и рассказать им о Борне, ноже и Уилльямсе, пытавшемся нас ограбить. Я наткнулся на эту статью в газете, когда пил кофе в Лайонс Ден, закусочной в студенческом центре, и вместо того, чтобы позвонить в полицию с ближайшего телефона, я решил пройти до 107-ой Стрит и позвонить оттуда. Никто еще не знал, что случилось со мной. Я хотел позвонить сестре — ей одной я мог открыться — но ее не было на месте. Зайдя в свое общежитие, я забрал почту перед тем, как подняться в лифте. Для меня было одно лишь письмо: без марки, без печати отправления, с моей фамилией наискосок, сложенное в три сгиба и так запихнутое в щель моего почтового ящика. Я открыл письмо в лифте по дороге на мой девятый этаж. Ни слова, Уокер. Помни: у меня есть нож, и я не побоюсь им воспользоваться.
Письмо было неподписано, да это было и не нужно. Дерзкая, наглая угроза, но после того, как я видел Борна в деле и был свидетелем пределов его жестокости, я был уверен — он не замешкается пустить в дело нож. Он мог бы найти меня, если бы я его выдал. Если бы я не стал этого делать, он, наверняка, оставил бы меня в покое. Я все еще хотел позвонить в полицию, но прошел день, прошло еще несколько дней, я так и не смог заставить себя совершить телефонный звонок. Страх заткнул мне рот, но только страх мог защитить меня от встречи с ним, а мне было того и достаточно: держаться от Борна подальше всю мою жизнь.
Мое бездействие было самым постыдным поступком в моей жизни, самым глубоким падением моей человеческой натуры. Я не только позволил убийце скрыться, но также, оказавшись лицом к лицу со слабостью моих принципов, я осознал, что я никогда не был тем, кем казался самому себе — не так уж хорош, не так уж силен духом, не так храбр, как представлял. Ужасная, неумолимая правда. Моя трусость ослабила меня, да как же и не бояться-то ножа? Борн воткнул его в живот без малейших угрызений совести и сожаленья, и если первый удар можно было бы объяснить само-защитой, то остальные двенадцать ударов в парке — как хладнокровное убийство? После моих мучений, длившихся неделю, я все-таки нашел мужество позвонить моей сестре; и после того, как я вылил все на Гвин за два часа разговора, я понял, что мне не отвертеться. Я должен был сбросить этот груз. Если бы я не позвонил в полицию, я перестал бы уважать себя; и стыд преследовал бы меня до конца жизни.
Я до сих пор считаю, они поверили в мой рассказ. Я дал им записку Борна, хоть и не подписанную, в которой говорилось о ноже; угроза была налицо, и если какие-нибудь сомнения еще могли существовать, то любой эксперт по почерку мог бы легко подтвердить руку Борна. Также было пятно крови на мостовой возле угла Риверсайд Драйв и 112-ой Стрит. Существовал мой телефонный звонок, зарегистрированный медицинской помощью, и в дополнение ко всему я им сказал, что никого не было в момент прибытия помощи. Поначалу они неохотно восприняли факт, что профессор факультета Международных Отношений Колумбийского университета мог совершить подобное ужасное преступление прямо на улице, а теперь запросто гуляет с выбрасывающимся лезвием ножом, но, в конце концов, они уверили меня в своем намерении разобраться до конца. Я покинул полицейский участок совершенно убежденный, что это дело будет разрешено очень скоро. Шел конец мая, так что оставалось две-три недели до окончания семестра; и после моего недельного молчания, я подумал, что Борн мог увериться в моем молчании под угрозой. Но я был неправ, глупо и трагично неправ. Как они и обещали, полицейские решили расспросить Борна, но администратор факультета заявил им о раннем отъезде профессора Борна в Париж. Его мать внезапно скончалась, и теперь оставшиеся часы учебы и экзамены будут преподаваться другим учителем. Другими словами, профессор Борн не сможет вернуться.
Он опасался меня. Несмотря на записку, он решил, что угроза не остановит меня, и я, рано или поздно, пойду в полицию. Да, я пошел — но не так скоро, как я был должен, и поскольку я предоставил ему дополнительное время, он воспользовался случаем и скрылся, уехав из страны и избегнув юрисдикции законов Нью Йорка. Я знал, что история со смертью матери была ложью. Во время первого разговора на вечеринке в апреле он рассказал мне, что его родители уже неживы, и если только его мать внезапно не воскресла после этого, я не знал, как могла она умереть во второй раз. Услышав новости от детективов, позвонивших мне, я окаменел; я был раздавлен и унижен. Борн победил меня. Он показал мне нечто отвратительное внутри меня, и в первый раз в моей жизни я понял, что это такое — ненавидеть кого-то. Я никогда не смогу простить его — и я никогда не смогу простить себя.
II
В далекие времена моей юности Уокер и я были друзьями. Мы поступили в Колумбийский университет вместе в 1965 году, два восемнадцатилетних новичка из Нью Джерси, и в течение четырех лет мы жили в одних обстоятельствах, читали одни книги и желали одного и того же от будущего. Потом мы выпустились, и я потерял с ним связь. В ранние семидесятые я случайно встретился с кем-то, кто рассказал мне, что Адам живет в Лондоне (или в Риме, не совсем уверен), и это был последний раз, когда я слышал его имя. Следующие тридцать с чем-то лет я очень редко вспоминал его, при этом всегда удивляясь его полному исчезновению. Из всей молодой поросли нашей компании в колледже Уокер был как раз тот, чье будущее, как мне казалось, было самым многообещающим; я был уверен, что, рано или поздно, я услышу о книгах, написанных им, или о его публикациях в журналах — поэмы или романы, рассказы или рецензии, возможно, переводы его любимых французских поэтов — но ничего этого не произошло; оставалось сделать только один вывод, что молодой человек с судьбой, предназначенной литературе, слишком был занят самим собой.
Около года тому назад (весной 2007) пришла посылка на мой адрес в Бруклин. В ней были рукопись истории Уокера о Рудольфе Борне (глава I этой книги) и письмо от Адама.
Дорогой Джим,
Прости за внезапное вторжение после столь долгого молчания. Если память меня не подводит, прошло тридцать восемь лет с тех пор, когда мы в последний раз говорили друг с другом, но недавно я услышал, что ты будешь по делам в Сан Франсиско в следующем месяце (я живу недалеко, в Оуклэнде), и хотел бы узнать, если бы у тебя было свободное время для меня — если хочешь, ужин в моем доме, к примеру — поскольку мне очень нужна помощь, и выходит так, что ты и есть только тот человек из всех моих знакомых, кто может мне помочь. Я говорю об этом заранее не для того, чтобы предупредить тебя, но только потому, что безмерно уважаю твои труды, книги — они позволили мне гордиться тобой и тем, что ты когда-то мог назвать меня своим другом.
В преддверии нашей встречи я посылаю тебе незаконченную черновую версию первой части книги, которую я пишу. Мне бы очень хотелось закончить ее, но, похоже, я потерял вдохновение и уткнулся в стену борьбы с самим собой и неопределенностью — страх, может быть, правильное слово — и я надеюсь, что разговор с тобой придаст мне мужество преодолеть это препятствие. Должен добавить (на всякий случай), что история в книге невыдумана.
Хоть это и звучит мелодраматично, но я должен открыть тебе, что я в плохой форме и медленно умираю от лейкемии; был бы счастливчиком, если бы протянул еще один год. Просто — чтобы ты знал, с чем тебе придется иметь дело, если, конечно, захочешь. Я выгляжу страшилищем (нет волос! тоньше соломинки!), но в моем мире больше нет места тщеславию, и я сделал все, что мог, чтобы победить эту болезнь. Пару столетий тому назад шестидесятилетние воспринимались стариками; никто из нас в молодости и не думал, что мы проживем больше тридцати лет, так что достичь такого возраста — уже, наверное, неплохо?
Я могу еще написть о многом, но не смею более занимать твое время. Послать рукопись было непростым для меня решением (должно быть, тебе уже надоело читать бесконечное письмо от больного и несостоявшегося писателя), и я буду очень рад поговорить с тобой о прошедших почти сорок лет, если ты решишь принять мое предложение — о чем горячо надеюсь. Что касается прочтения рукописи, подожди до своей поездки в Калифорнию, если ты сейчас занят. Прочитать все — хватит и часа.
Надеюсь на ответ.
Твой друг,
Адам Уокер
Наша дружба не была такой уж крепкой — ни тайных секретов, ни задушевных разговоров, ни писем друг другу — но я всегда относился к Уокеру очень хорошо и никогда не сомневался, что и он, в свою очередь, относился ко мне, как к равному, никогда не теряя ко мне ни уважения ни дружеского отношения. Он был немного стеснительным, помню; черта характера немного странная для человека таких способностей и, к тому же, выглядящего очень привлекательно — симпатичный, как звезда кино, так описала его мне моя тогдашняя подружка. Но лучше быть стеснительным, чем наглым, я полагаю, лучше слиться со всеми, чем распугать окружающих бессердечным совершенством. Он предпочитал одиночество, но становился дружелюбным и забавным, когда покидал свой кокон, с острым, необычным чувством юмора; и что я больше всего уважал в нем — это широченный круг интересов, его способность рассуждать о Кавальканти, или, скажем, Джоне Донне, и потом, с той же рассудительностью и знанием, повернуть разговор к бейсболу и рассказать нечто новое, о чем я никогда не слышал. Хотя, о его внутренней, частной жизни я ничего не знал. Кроме того, что у него была старшая сестра (удивительная красавица, надо сказать, ставшая поводом для подозрений, что в крови Уокеров есть гены ангелов), я не знал ничего ни о его семье, ни о его прошлом, и совершенно ничего о смерти младшего брата. А сейчас Уокер умирал, едва перевалив шестидесятилетний рубеж, и перед смертью он затеял последние приготовления; прочитав его нерешительное, волнительное письмо, я никак не мог отделаться от мысли, что наше поколение светлых голов и молодых душ постарело и скоро совсем сойдет на нет. Вопреки совету Адама повременить с чтением до полета в Калифорнию, я тут же сел и прочитал его рукопись.
Как описать мои впечатления? Увлекательно, интересно, нарастающее чувство тревоги, и потом — ужас. Если бы я не знал, что это была невыдуманная история, я, скорее всего, принял бы присланную мне рукопись за плод писательского воображения (писатели иногда вводят персонажей со своими именами в их придуманный мир), и тогда бы конец повествования мне показался бы неправдоподобным — или, по крайней мере, слишком внезапным — но поскольку я с самого начала чтения знал об автобиографичности сюжета, признания Уокера потрясли меня и глубоко опечалили. Бедный Адам. Он был слишком беспощаден к самому себе, к своим слабостям, полон отвращения к прошлым юношеским порывам и устремлениям и разочарован неспособностью распознать монстра в своем окружении; да кто бы смог обвинить двадцатилетнего юношу в этих прегрешениях, если бы сам столкнулся с хитрым и обманчивым Борном? Он показал мне нечто отвратительное внутри меня. Но что Уокер совершил плохого? Он позвонил в медицинскую помощь той ночью, и потом, после некоторого колебания, он обратился в полицию. В тех обстоятельствах никто не смог бы совершить большего. Какое бы отвращение Уокер и не испытывал к самому себе, это не должно было быть вызвано тем, как он вел себя в конце истории. Это было начало истории, чем он был взволнован, простейший факт, что он был легко соблазнен, затянут; от того он и мучился до конца своей жизни — до такого предела, что даже сейчас, когда жизнь покидала его, он чувствовал себя обязанным вернуться в прошлое и рассказать историю свою постыдного поступка. Из письма вытекало, это была лишь первая часть. Интересно, что могло произойти потом.
Я написал ответ Уокеру тем же вечером, подтвердив, получение посылки; в письме я рассказал о моем сочувствии и озабоченности состоянием его здоровья, написав, что, несмотря ни на что, я был очень рад услышать вести от него после стольких лет, и о его добрых словах в адрес моих книг, и т. п. Да, я обещал, я изменю расписание моей поездки, чтобы попасть к нему на домашний ужин, и могу обсудить проблемы со второй частью его мемуар. У меня не осталось копии моего письма, но я помню, какие слова я написал ему в поддержку, называя прочитанную часть превосходной и будоражещей, или чем-то очень похожим, и говоря о необходимости довести этот проект до конца. Я не должен был написать ничего более, но любопытство во мне взяло верх, и я добавил в конце несколько фраз, которые могли легко сойти за дерзость. Прости за то, что спрашиваю, написал я, но я не уверен, что смогу дождаться до следующего месяца, чтобы узнать, что случилось с тобой, после того, как мы виделись в последний раз. И если ты не против, я буду ждать от тебя еще одного письма до того, как посещу твой дом. Не день за днем, разумеется, но самую суть, что ты захочешь мне рассказать.
Беспокоясь за точность доставки, я решил отправить письмо не обычной почтой, а скоростной. Два дня спустя, той же экспресс-почтой пришел ответ.
С благодарностью ожидаю следующего месяца.
Отвечая на твой вопрос, я буду рад рассказать тебе, но, боюсь, моя история покажется тебе скучной. Июнь 1969 года. Мы пожали друг другу руки на прощание, помню, поклялись не терять связи друг с другом и разошлись в разные стороны, так больше и не встретившись. Я вернулся в родительский дом в Нью Джерси, надеясь провести лишь пару дней, напился с моей сестрой той же ночью, поскользнулся, слетел с лестницы и сломал ногу. Плохой знак, на первый взгляд, но, в конце концов, это было самое лучшее, что могло случиться со мной тогда. Десять дней спустя, поздравляю!, пришла повестка на прохождение армейского медицинского экзамена. Я приковылял в комиссию на костылях, получил отсрочку по сломанной ноге, а, когда моя нога зажила, от обязательной службы правительство перешло к лотерее набора. Мне достался номер, неприлично большой номер (346), очень далекий от попадания в армию, и, внезапно, в одно мгновение, то, чего я так опасался, исчезло навсегда из моего будущего.
За исключением этого дара небес, я жил ни шатко ни валко, пытаясь сохранить душевный баланс между приступами оптимизма и периодами ослепляющего отчаяния. Никому ненужный, раздраженный, вызывающий раздражение. Осенью 1969 я переехал в Лондон — не затем, что стремился попасть в Англию, но только лишь потому, что я больше не хотел жить в Америке. Яд Вьетнама, слезы Вьетнама, кровь Вьетнама. Мы все были тогда не в себе, правда? Доведенные до безумства войной, которую были не в силах остановить. Так что я покинул нашу страну, нашел поганую квартирку в Хаммерсмите и провел четыре года, болтаясь на «помойках Граб Стрит» — кропая бесконечные книжные рецензии и переводя все, что ни попадя, французские книги, в основном, даже парочку с итальянского, переваривая на английский язык и скучнейшую академическую историю Ближнего Востока и антропологическое исследование обрядов вуду и криминальное чтиво. В то же время я продолжал писать мои гневные, обращенные к небу стихи. В 1972 году моя книга вышла в одном неприметном издательстве в Манчестере тиражом триста-четыреста копий; одна рецензия в подобном неприметном журнальчике; продалось где-то пятьдесят экземпляров — напомнило забавную шутку из Последней пленки Крэппа Самюэля Бекккета (тебе очень нравилась эта пьеса): «Семнадцать копий продано, из которых одиннадцать за свою цену ушли в бесплатные библиотеки за океан. Обо мне узнали.» Обо мне узнали, в самом деле.
Я барахтался так еще год, и, после горьких отчаянных споров с самим собой, я заключил, что никуда не продвинулся и решил перестать писать. Не из-за того, что мои труды никуда не годились. Бывали вспышки озарения; несколько стихов, похоже, звучали свежо и призывно, их строками я был по-настоящему горд, но, в целом, результат был посредственный; перспектива моей будущей жизни, как посредственность, остановила все мои потуги.
Время в Лондоне. Мрачные откровения выброшенных на помойку надежд, бесчувственный секс в кроватях проституток, одна короткая связь с английской девушкой Дороти, испуганно исчезнувшей после того, как она узнала, что я еврей. Но, поверишь или нет, несмотря на то, как печально звучит мое описание, я думаю, я начал становиться сильнее, наконец повзрослев и обретя уверенность в том, как я должен жить. Я закончил мое последнее стихотворение в июне 1973, торжественно сжег его в кухонной раковине и вернулся в Америку. Ранее я поклялся, что не вернусь, пока последний солдат США не покинет Вьетнам, но теперь у меня был другой план и совершенно не хватало времени, чтобы обращать внимание на подобную высокопарную чушь. Я решил броситься в окопы и сражаться голыми руками. Прощай, литература. Добро пожаловать, вещь-в-себе, сознание реальности.
Беркли, Калифорния. Три года в правовом колледже. Толчком к этому была идея совершить что-то хорошее, работать с бедными, отверженными обществом, быть вместе таким же оплеванным обществом и невидимым и увидеть — смогу ли я защитить их от жестокости и безразличия американского общества. Еще одна высокопарная чушь? Некоторые скажут, да, но я никогда так не считал. От поэзии к справедливости. Поэзия справедливости, если угодно. Но досадный факт оставался фактом: в этом мире больше поэзии, чем справедливости.
Сейчас, когда болезнь остановила мою работу, у меня появилось достаточно времени, чтобы разобраться в мотивах выбора моей жизни. Твердо уверен, что все началось той ночью 1967 года, когда я увидел, как Борн ударил ножом Седрика Уилльямса в живот — и после, когда я убежал позвонить за помощью, отнес его в парк и добил его там. Без причины, без никакой причины, и тогда же, самое худшее, ему ничего не было за это после того, как он покинул страну и скрылся от правосудия. Невозможно представить, как я ужасно переживал случившееся, как я продолжаю переживать. Справедливость обманута. Злость и разочарование не покинули меня до сих пор; и, если чувство справедливости это то, что ярче всего горит во мне, тогда я точно уверен в правильности моего пути.
Двадцать семь лет в судопроизводстве, волнения в черных районах Оуклэнда и Беркли, забастовки съемщиков квартир, процессы против различных корпораций, случаи полицейского произвола, и так далее. По большому счету, я не думаю, что добился много. Несколько замечательных побед, да, но страна не стала менее жестокой, чем была тогда, даже более жестокой, чем никогда, и, все равно, ничего не делать с этим для меня было бы невозможным. Как если бы я жил, обманывая сам себя.
Я начинаю звучать, как самоуверенная сволочь? Надеюсь, нет.
Доходы были незначительными, конечно. Моя работа была не для прибыли. Существовали семейные активы, перешедшие ко мне — и моей сестре тоже — после смерти родителей (матери в 1974, отца в 1976). Мы продали дом и магазин отца за немалую сумму; и, поскольку Гвин умная и практичная женщина, она инвестировала все деньги очень удачно, так что у меня всегда хватало на жизнь (по скромным меркам), не беспокоясь слишком много о доходах с работы. Быть в системе, чтобы победить ее. Выгляжу ханжой, я полагаю, но каждому нужна еда на столе, и каждому нужна крыша над головой. Увы, медицинские счета пробили огромную дыру в моих сбережениях в последнее время, но я думаю, у меня еще осталось достаточно средств до конца моих дней — предполагаю, не так уж долго и осталось.
Что касается сердечных дел, я все время по-глупому, по-идиотски шарахался в разные стороны столько лет, забираясь и выползая из стольких постелей, влюбляясь и разочаровываясь в стольких женщинах, но никогда не испытывал желания жениться, пока не достиг возраста тридцати шести лет, когда я встретил женщину, которую вряд ли бы кто смог представить вместе со мной, она была социальным работником, Сандра Уилльямс — да, та же фамилия, что и у убитого парня, фамилия рабов, обычная фамилия сотен тысяч, если не миллионов, афро-американцев — и, хотя междурасовые свадьбы несут много социальных проблем (с обоих сторон), я никогда не считал цвет кожи препятствием; правду говоря, я любил Сандру, любил с первого дня и до последнего. Умная женщина, смелая женщина, душевная и прекрасная женщина, всего на шесть месяцев моложе меня, рано вышедшая замуж и уже разведенная, с двенадцатилетней дочкой Ребеккой, моя приемная дочь, сейчас у нее своя семья и двое детей; и те девятнадцать лет, проведенных вместе с Сандрой, сделали меня гораздо лучше, чем я когда-нибудь был, лучшим, чем если бы я был один или с кем-нибудь еще; а сейчас ее нет (она умерла от рака позвоночника пять лет тому назад), и не проходит дня, когда бы я не тосковал о ней. Мне очень жаль только одного, что у нас не было общих детей, но рожать детей — задача не по силам тому, кто был рожден стерильным.
Что еще добавить? За мной ухаживает домработница (она приготовит для нас ужин в твой приезд); я вижусь с Ребеккой и ее семьей; я говорю с сестрой по телефону почти каждый день; у меня много друзей. Когда позволяет здоровье, я глотаю книги (поэзия, история, проза и среди них твои книги — с самого первого дня их публикаций), люблю смотреть бейсбол (это точно неизлечимая болезнь) и запоем ухожу в просмотр фильмов (спасибо ДВД-проигрывателю, доброму другу одиноких душ в этом мире). Но, более всего, я думаю о прошлом, прошедших днях, о том годе (1967), когда столько много произошло со мной, во мне и вокруг меня, о неожиданных поворотах и открытиях того года, безумии того года, отправившего меня в ту жизнь, которую я прожил, хорошо ли, плохо ли. Ничего не помогает лучше смертельной болезни прояснить мозги, подбить все счета, подвести все итоги. Мой план — написать книгу из трех частей, трех глав. Недлинная книга, несложная книга, но написанная правильно; и то, что я застрял уже на второй главе, стало для меня ужасной неприятностью. Само собой разумеется, я не жду от тебя, что ты решишь все проблемы. Но у меня есть подозрение, возможно и беспочвенное подозрение, что разговор с тобой пнет меня в нужное место. Кроме этого приглашения поучаствовать в моих микроскопических родах, мне будет очень приятно вновь увидеть тебя…
Я надеялся на ответ от него, но никак не ожидал, что он напишет мне больше, чем пару абзацев, что он захочет потратить столько времени и усилий на такое откровенное послание — мне, кто стал почти что незнакомцем для него за это время. Много друзей или нет, он должно быть одинок, подумал я, он должно быть более чем никогда одинок, и пока я пытался понять, почему моя персона привлекла его откровения, он своими письмами приблизился ко мне настолько, что было совершенно невозможно даже и подумать об отказе ему в помощи. Как быстро меняется погода. Умирающий друг опять вошел в мою жизнь после сорока лет отсутствия, и, неожиданно, у меня появились обязанности перед ним. Но как я мог ему помочь? Его книга доставляла ему проблемы, и по каким-то неведомым мне соображениям он заставил себя думать, что только я обладаю магией волшебного слова, которое вернет его к написанию книги. Он ждал от меня рецепта на таблетки, исцеляющие писателей от заблокированного воображения? Только ли это он ждал от меня? Слишком ничтожный повод для просьбы приехать, Уокер был достаточно умен; и если его книга должна была быть написана, он бы нашел возможность довести ее до конца.
Это были приблизительно те слова, что я написал ему в следующем письме. Не сразу, поскольку надо было выразить свое отношение к другим событиям в его жизни (мою горечь на смерть его жены, мое удивление выбором профессии, мое восхищение его работой и победами в делах), но после вступительных слов, я написал почти напрямую, что, мне кажется, он сможет найти свой путь закончить книгу. Страх — нужная вещь, я продолжал, повторяя слово из его письма, страх — это то, что заставляет нас рисковать и выходить за пределы наших возможностей, и каждый писатель, считающий себя уверенно стоящим на земле, ничего не напишет ст́оящего. А что касается стены, упомянутой им в первом письме, я написал, что всем достаются эти стены, и, чаще всего, эта ситуация — от несовершенства писательского сознания — другими словами, он не до конца понимает, что он хочет сказать, или точнее, он находится на неправильном пути написания. Как пример я рассказал ему о своих проблемах, с которыми столкнулся, когда писал одну из моих ранних книг — также мемуары (вроде того), разделенные на две части. Первая часть была написана от первого лица, и потом, когда я начал Вторую часть (еще более обо мне, чем предыдущая), я продолжил стиль изложения от первого лица, но недовольство книгой все более росло во мне, пока я не остановился. Пауза длилась несколько месяцев (трудных месяцев, мучительных месяцев), и однажды решение пришло ко мне. Мой подход был неправилен, понял я. Тем, что я писал о себе от себя, я уничтожил свою личность и сделал себя невидимым, от чего я и потерялся в поисках результата. Мне нужно было разделить себя от написанного себя, отступить и вырезать расстояние между мной и персонажем (тоже мной); и тогда я вернулся ко Второй части и начал писать в третьем лице. Я стал Он, и этот маленький сдвиг позволил мне закончить книгу. Похоже, он (Уокер) страдал тем же, предположил я. Похоже, он был слишком близок к происходящему. Похоже, материал был слишком травмирующим и персональным для него, чтобы написать об этом от первого лица. О чем он подумал? Был ли шанс, что новый подход к книге вернет его к работе?
Когда я послал письмо, еще оставалось шесть недель до моей поездки в Калифорнию. Уокер и я уже договорились о дате и времени нашего ужина; он послал мне инструкцию, как добраться до его дома; и я совершенно не ждал еще одного письма от него до моего отправления. Месяц прошел, пожалуй, немного дольше, чем обычно, и тогда, когда я меньше всего ждал этого, я вновь услышал о нем. Не письмом, в этот раз, а телефоном. Прошли годы после нашего последнего разговора, но я сразу узнал его голос — и в то же время (как бы это сказать?), совершенно другой голос, или тот же самый, но немного добавленный или чего-то лишенный; тот же голос в немного другой тональности: Уокер, отстраненный, беспомощный, больной, говорящий мягко, медленно, с еле заметным придыханием в словах, покидавших его рот, будто он собирал всю свою силу, чтобы своим выдохом протолкнуть звуки в телефонную трубку.
Привет, Джим, сказал он. Надеюсь, не помешал твоему ужину.
Нет, ответил я. Мы сядем ужинать лишь через двадцать-тридцать минут.
Хорошо. Тогда это время напитков. Полагаю, ты еще их пьешь.
Все еще пью. Как раз, что мы сейчас делаем. Моя жена и я только что открыли бутылку вина, и постепенно начинаем румяниться, будто курица в духовке.
Радости домашней жизни.
А ты? Как у тебя?
Лучше не бывает. Небольшая задержка в прошлом месяце, но теперь все в порядке; и я работаю, не покладая рук. Я хочу, чтобы ты это знал.
Работаешь над книгой?
Работаю над книгой.
Значит, ты преодолел.
Потому и звоню. Поблагодарить за твое последнее письмо.
Новый подход?
Да, помог невероятно.
Хорошая новость.
Надеюсь. Жестокие вещи. Чему у меня долго не было силы и желания посмотреть прямо в глаза, но я преодолел их и сейчас яростно разрабатываю третью главу.
Значит, вторая глава уже закончена?
Черновик. Закончил десять дней тому назад.
А почему не прислал мне?
Не знаю. Слишком волнуюсь, наверное. Не совсем в себе уверен.
Не будь смешным.
Я думаю, что, может быть, к лучшему подождать, пока вся вещь не будет закончена.
Нет, нет, пошли мне вторую главу сейчас же. Мы поговорим о ней, когда я тебя увижу в Оуклэнде на следующей неделе.
После прочтения ты можешь и не захотеть меня увидеть.
Ты о чем?
Это отвратительно, Джим. Каждый раз, когда я об этом думаю, меня тянет блевать.
Все равно пошли. Не важно, какая будет моя реакция, я обещаю, что приду на твой ужина. Я хочу с тобой встретиться.
И я тоже хочу.
Хорошо. Решено. Двадцать пятого в семь вечера.
Ты слишком добр ко мне.
Я ничего такого не сделал.
Больше, чем ты знаешь, добрый человек, больше, чем ты знаешь.
Следи за своим здоровьем, хорошо?
Постараюсь.
Увидимся двадцать пятого тогда.
Да, двадцать пятого. Как стукнет семь.
Как только закончился наш разговор, я внезапно ощутил, насколько взволновала меня эта беседа. Я был уверен в одном, что Уокер лгал о своем здоровье — оно было плохим, очень плохим, и, без сомнения, становилось хуже и хуже с каждой минутой — легко было понять, почему он старался скрыть всю правду от меня, избежав любой повод для жалости с моей стороны, и отвечал мне напускной бравадой (Лучше не бывает!), несмотря на это, я услышал (удивительный парадокс) в его голосе интонацию жалости к себе, будто с начала и до конца разговора он старался не заплакать, удерживаясь из последних сил от рыданий в телефонную трубку. Его здоровье было в смертельной опасности, но сейчас я начал волноваться о его сознании. В один момент нашей беседы он начал говорить, как человек на краю нервного срыва, человек, еле удерживающий себя распадающимися нитями и жилами. Возможно ли, что вторая глава настолько истощила его силы? Или что-то еще скрытое, и не одно? Уокер умирал, в конце концов; и просто знание этого факта наступающей смерти, разъедающий ужас неизбежной смерти стали слишком непереносимыми для него. И все же, дрожащая, слезливая интонация в его голосе могла также легко быть вызвана реакцией на лечение, сторонним эффектом какого-нибудь лекарства, сохраняющего ему жизнь. Я точно не знал. Я не знал ничего, но после столь яркого, откровенного изображения самого себя в первой главе книги и двух ясных и довольно отважных писем, посланных мне, я был немного озадачен тем, насколько отлично от них звучал он живьем. Я представил, какой вечер я мог бы провести в его компании, закупоренный в мире его разрушающегося сознания, и, в первый раз после принятия приглашения к встрече, начал жалеть об этом.
Через два дня после телефонного разговора вторая часть его книги прибыла в мой дом срочной посылкой. Короткое сопроводительное письмо гласило, что он нашел название книги, 1967, и каждая глава бдует названа временем года. Первая была — Весна, глава, прибывшая сейчас — Лето, и последняя, над которой он работал — Осень. Я все еще помнил описание по телефону прибывших страниц, и со словами жестокие, отвратительные в моей памяти я собрался с духом, чтобы прочитать нечто трудновыносимое, историю более тревожную и откровенную, чем Весна.
ЛЕТО
Весна перешла в лето. Для тебя это лето после весны Рудольфа Борна, но для всех остальных — это лето Шестидневной войны, лето расовых волнений в сотнях городов Америки, лето Любви. Тебе — двадцать лет, и ты закончил второй курс университета. Когда вспыхнула война на Ближнем Востоке, ты раздумываешь о поступлении в израильскую армию солдатом, хоть ты всегда был при этом признанным пацифистом и никогда не интересовался Сионизмом, но только ты принял решение об армии, война неожиданно закончилась, и ты остался в Нью Йорке.
Несмотря на это, ты все время хотел покинуть эту страну, быть где-нибудь, только не здесь, и поэтому ты поговорил со студенческим деканом и решил подать документы на Программу годового обучения за пределами страны (после продолжительных разговоров с твоим отцом, давшего разрешение с большим трудом). Ты выбрал Париж. Ты едешь туда не потому, что без ума от него после поездки два года тому назад, но потому, что нацелен на то, чтобы совершенствовать французский язык, еще не достигнув желаемого результата. Ты знаешь, что Борн в Париже, или, по крайней мере, полагаешь — он там, но, взвесив все возможности, решаешь, что шансы на встречу с ним совершенно незначительны. И, даже если такое случится, ты знаешь, как вести себя при этом, как держаться. Разве это будет так трудно пройти мимо него, отвернув голову? Так говоришь ты себе, но в самой глубине сердца ты проигрываешь себе сцену, когда ты не отворачиваешься от него и бросаешься к нему прямо посереди улицы и удавливаешь его простыми голыми руками.
Ты живешь в двух-комнатной квартире в здании на Уэст 107-ой Стрит между Бродвеем и Амстердам Авеню. Твой сосед по квартире только что закончил университет и уезжает из города, и для роли компаньона, делящего траты с тобой, ты уже пригласил сестру занять пустующую комнату — к общей удаче; ее обучение в университете Вассар подошло к концу, и она приступает к выпускной работе на факультете Английского языка в Колумбийском университете. Ты и твоя сестра близки друг другу — лучшие друзья, со-хранители памяти о мертвом брате, студенты одного братства литературы, доверенные лица друг друга — и все складывается замечательно, как никогда. Это только лишь на лето, правда, поскольку ты отправляешься в Париж в сентябре, но часть июня и весь июль и август вы будете вместе после стольких лет расставания. Потом, когда я покину страну, сестра перепишет договор на квартиру на свое имя, а после найдет какого-нибудь другого соседа.
Твои родные в порядке; дом не полная чаша, конечно, не богачи по стандартам богатства, но твой отец расщедрился на покрытие расходов на поездку; тебе все же нужны деньги на книги и пластинки, если захочешь купить, на билеты в кино, сигаретные расходы, так что ты начинаешь искать работу на лето. Твоя сестра уже нашла такую. Она лишь на шестнадцать месяцев старше тебя, но ее поступки всегда были более осмысленные и точные, чем твои, и, только разузнав о будущем расписании занятий и месте жизни вместе со мной, она уже нашла работу, совпадающую с ее свободным временем и интересами. Очевидно, она нашла варианты заранее, и, прибыв в Нью Йорк, она тут же приступила к обязанностям ассистента редактора в одном большом коммерческом издательстве. А ты, с другой стороны, по своему беспорядочному, бестолковому обычаю не начинал никаких поисков до самой последней минуты, и, поскольку сама идея провести сорок часов в неделю в офисе с галстуком на шее никогда не была тебе близка, ты решил заняться любым, первым попавшимся делом. Знакомый уехал на лето из города, и ты подал документы на его место работы в библиотеке Батлера кампуса университета. Зарплата была почти в два раза меньше, чем у сестры; успокаивало только одно, что ты мог прийти на работу и уйти с нее пешком, не давясь дважды в день в вагоне метро, забитом потными пассажирами.
Сначала тебе предлагается пройти тест на работу. Старший библиотекарь дает тебе стопу карточек, около восьмидесяти, или ста, на каждой написано название книги, имя автора, год издания и специальный библиотечный номер, код Дьюи, определяющий место книги на полках. Библиотекарь — высокая, недовольная женщина около шестидесяти лет, самоуверенная мисс Гриир; и она уже полна подозрений о тебе и не настроена изменить свое мнение ни на йоту. Из-за того, что она только увидела тебя и совершенно не знает, на что ты годен, ты представляешь, что она также подозрительна ко всем молодым людям — ее принцип — и потому она видит не тебя, а еще одного партизана в войне против начальства, неуправляемого захватчика, не имеющий никакого права ни на что, вторгаясь в ее святыню и прося о работе. Вот такие настали времена, для меня и для нее. Она дает указания, как раскладывать карточки по порядку, а ты уже чувствуешь, как она горячо желает твоего провала, как счастлива она будет, отказав тебе; но поскольку с таким же желанием ты хочешь получить эту работу — будь добр, не провали свой тест. Через пятнадцать минут ты возвращаешь ей карточки. Она садится и начинает просматривать их одну за одной, одну за одной, до самого конца стопки, и, как только ты замечаешь ее выражение лица из скептического становится озадаченным, ты понимаешь, что не провалился. Каменное лицо выдает легкую улыбку. Она говорит: Никто не делал этого без ошибок. Первый раз за тридцать лет моего пребывания здесь.
Ты работаешь с десяти утра до четырех часов дня, с понедельника до пятницы. Ты привычно приходишь вовремя, идя по широкому и претенциозному псевдо-классическому зданию, Джеймс Гэмбл Роджерс спроектировал его, в твоих руках — бумажный пакет, в котором обед. Напыщенное здание каждый раз производит на тебя впечатление не своей величиной и масштабностью, но вершиной идиотизма — именами великих мертвецов, выбитых на фасаде здания, Геродота, Гомера, Платона и многих других — и каждое утро я представляю, насколько библиотека выглядела бы по-другому, если бы на ней были другие имена: имена джазовых музыкантов, например (Фатс Уоллер, Чарли Паркер, Бенни Гудман), или богинь кино (Ингрид Бергман, Хеди Ламарр, Джин Тирней), или позабытых, редко вспоминаемых бейсболистов (Гас Зерниал, Уэйн Тервиллиджер, Клайд Клаттц), или, просто, имена твоих друзей. Так начинается день. Ты входишь через входную дверь, тяжелую входную дверь с полированными бронзовыми украшениями, поднимаешься по мраморной лестнице, мимо портрета Эйзенхауэра (бывший президент университета, потом — президент детства) и входишь в небольшую комнату направо от двери, где ты говоришь доброе утро мистер Гойнс, твой начальник, небольшого роста человек с совиными очками и выпирающим животиком, который загружает тебя заданиями до конца дня. Вообще-то, у меня бывает только две работы. Или я раскладываю книги назад на полки или посылаю заказанные книги к библиотекарям грузовым лифтом. У каждой из них есть преимущества друг перед другом, и обе могут быть выполнены любым человеком с мозгами мухи.
Когда расставляешь книги по полкам, ты должен убедиться и еще раз убедиться, что код Дьюи книги, которую ты ставишь, на единицу больше стоящей слева и на единицу меньше стоящей справа. Книги загружаются в деревянные тележки на четырех колесах, от пятидесяти до ста книг за один проход; и, управляя этим передвижным средством сквозь лабиринты стеллажей, ты все время один, беспрерывно один; поскольку хранилище книг напрямую недоступно читателям, то другое человеческое существо, которое ты сможешь здесь увидеть, это такой же библиотечный паж, стоящий возле грузового лифта. Каждый этаж идентичен другому: широченное безоконное пространство, заполненное рядами возвышающихся серых металлических стеллажей, забитых до предела книгами, тысячами книг, десятками тысяч книг, сотнями тысяч книг, миллионами книг, после чего даже ты, влюбленный в книги, как никто на свете, начинаешь приходить в ужас до тошноты, понимая сколько миллиардов слов, сколько триллионов слов находится в тех книгах. Ты отрезан от мира на несколько часов каждый день, живя, как ты его называешь, в безвоздушном пузыре; воздух там, конечно же, есть, потому что ты можешь дышать, но это мертвый воздух, воздух без жизни, без движения; и в этом удушающем окружении ты часто становишься сонным, отравленным до состояния полу-сознательности, и должен постоянно бороться с неистребимым желанием лечь тут же на пол и заснуть.
И все же, походы к стеллажам иногда ведут к неожиданным открытиям, и облако скуки, запеленавшее тебя, мгновенно улетучивается. Находка издания 1670 года Потерянного Рая, например. Это не было первое издание 1667-го, но очень близко, и экземпляр был отпечатан во времена Мильтона, книга, которую мог держать в своих руках поэт, и ты благоговейно смотришь на этот том, не спрятанный в сейфе редких книг с контролируемой температурой и просто стоящий, открытый для всех, на вонючей полке. Почему подобные находки были так важны для тебя, почему твои руки начинали дрожать, открыв книгу и проглядывая страницы? Потому что ты провел несколько месяцев до этого, погрузившись в Джона Мильтона, изучая Мильтона более глубоко, чем других поэтов. Во время мучительной весны Рудольфа Борна ты был одним из студентов, посещавших класс Эдварда Тайлера, знаменитый курс отличного учителя, и лекции его и семинары, осторожно пробираясь сквозь Ареопагитика, Потерянный Рай, Возвращенный Рай, Самсон-Борец и его небольшие произведения, и, полюбив его творчество, превосходившее работы современников, ты чувствуешь внезапный прилив счастья, наткнувшись внезапно на эту книгу, эту трехсотлетнюю книгу во время печальных кругов по бибилиотеке.
К сожалению, такие моменты счастья нечасты. Не то, чтобы ты был несчастлив, находясь здесь, на работе в библиотеке, но с течением времени часы, проведенные тут, накапливаются, и становится чрезвычайно трудно для тебя сохранять свежими мозги, какой бы глупой деятельностью они не были бы заняты. Чувство нереального вторгается в тебя каждый раз, когда ты идешь между беззвучными стеллажами, чувство, что тебя, по-настоящему, здесь нет, и что ты заключен в тело, переданное тебе. Однажды, после обеда, спустя две недели, как ты заслужил работу библиотечного пажа блестящей сдачей экзамена, ты ковыряешься на одной из полок в проходе средневековой истории Германии, и тебя едва не сносит с катушек от того, что кто-то стучит пальцем по твоему плечу. Ты инстинктивно разворачиваешься с кулаками — без сомнения кто-то прокрался незамеченным в запретную зону, чтобы ограбить первого попавшегося — и, к твоему облегчению, это мистер Гойнс, печально смотрящий на тебя. Не говоря ни слова, он поднимает правую руку, сгибает указательный палец и нетерпеливым знаком приглашает следовать за ним. Этот человечек утиной походкой ковыляет в конец прохода, поворачивает направо, проходит один ряд стеллажей, потом другой и делает еше один правый поворот к книгам средневековой истории Франции. Ты с твоей тележкой только что был там двадцать минут тому назад, положив несколько книг о жизни в Нормандии десятого века; и, как раз, мистер Гойнс идет прямиком туда, где ты был. Он указывает на полку и говорит, Посмотрите на это, и ты, наклонившись, смотришь. Сначала ты не замечаешь ничего необычного, но затем мистер Гойнс вытаскивает две книги, разделенные между собой тремя-четыремя томами. Твой начальник придвигает эти две книги прямо к твоему лицу, чтобы ты наверняка увидел их коды Дьюи, отпечатанные на корешках, и только тогда ты замечаешь свою ошибку. Ты перепутал их места друг с другом. Пожалуйста, говорит мистер Гойнс, чуть высокомернее, чем обычно, больше не делайте этого никогда. Если книга стоит не на своем месте, она может быть потеряна для всех двадцать лет или больше, может, и навсегда.
Конечно, это ерунда, но ты все равно унижен своей неряшливостью. Не то, чтобы эти две книги могли быть потеряны (они стояли на одной полке, почти рядом друг с другом), но ты понимаешь, на что мистер Гойнс пытался указать; и, хотя ты недоволен выкомерным тоном, ты извиняешься и обещаешь, что будешь более тщательным в будущем. Ты думаешь: Двадцать лет! Навсегда! Ты заворожен этими словами. Поставь что-то не на свое место, и, даже если это что-то и существует — прямо перед твоим носом — оно может исчезнуть навсегда.
Ты возвращаешься к своей тележке и продолжаешь расставлять книги на полках средневековой истории Германии. До сих пор ты и не знал, что за тобой следят. От этой мысли появляется неприятный вкус во рту, и ты говоришь себе, чтобы был осторожен, всегда наготове, даже в самых сонных уголках университетской библиотеки.
Экспедиции по расстановке книг съедают почти половину рабочего времени. Другая половина проходит за небольшим столом на одном из верхних этажей в ожидании, когда по пневматической трубе в небольшом контейнере из внутренностей здания придет лист заказанных книг. Контейнер издает характерный клацающий звук на всем пути к месту назначения, и ты легко можешь узнать о посланном заказе с самого запуска. Трубы равномерно расходятся по этажам хранилища, а ты всего лишь один из пажей, сидящих на своих этажах, и тебе никак не узнать, движется ли очередной контейнер с листом заказа к тебе или к какому-то другому работнику. Ты не знаешь этого до самой последней секунды, когда металлический цилиндр вылетает из отверстия в стене позади тебя и приземляется в коробке с глухим стуком, отчего загораются несколько десяток красных лампочек на потолке, расположенных по всему этажу. Эти лампочки необходимы, если, как это бывает часто, ты отойдешь от своего стола в поисках книги, и, когда прибывает заказ, то свет на потолке об этом сообщит тебе. Если ты не ушел никуда, тогда ты вынимаешь лист из цилиндра, находишь книги, возвращаешься к рабочему столу, закладываешь лист между томами (убедившись, что верх высовывается наружу из книг), закладываешь заказ в грузовой лифт в стене позади стола, и нажимаешь кнопку второго этажа. Завершая сию операцию, ты возвращаешь пустой контейнер, запихивая его в отверстие в стене. Ты слышишь желаемое вуущь, издаваемое затянутым вакуумом цилиндром, и часто ты остаешься здесь на короткое время, чтобы послушать звуки клацающей ракеты, удаляющейся от тебя к нижним этажам. После этого ты возвращаешься к своему столу. Ты усаживаешься на стул. Ты сидишь и ждешь очередного заказа.
На первый взгляд, ничего особенного. Что может быть проще, чем погрузка книг в грузовой лифт и нажатия кнопки? После тоскливой процедуры расстановки книг, ты мог бы подумать, что сидение за столом будет для тебя долгожданным отдыхом. Если нет никаких заказов (а было много дней, когда труба присылал лишь три-четыре контейнера), ты можешь заниматься чем угодно. Ты можешь читать или писать, например, ты можешь прогуляться по этажу и засунуть нос в эзотерическую литературу, ты можешь рисовать картинки, ты даже можешь на недолго и заснуть. И, поначалу, ты всем этим и занимался или пытался делать что-то подобное, но вокруг тебя настолько давящая атмосфера, что чрезвычайно трудно сохранять внимание продолжительное время на книге, которую читаешь, или стихотворении, которое ты пишешь. Ты чувствуешь, будто находишься в каком-то инкубаторе, и постепенно приходишь к мысли, что библиотека годится только для одного: пуститься во все тяжкие в сексуальных фантазиях. Ты не помнишь, отчего это с тобой происходит, но чем больше времени ты проводишь в неживом воздухе, тем больше твоя голова наполняется образами обнаженных женщин, прекрасных обнаженных женщин, и ты можешь думать только об одном (если слово думать годится для такого описания) — быть в постели с прекрасными обнаженными женщинами. Не в каком-нибудь обставленном томном будуаре, не на каком-нибудь пасторальном лужке, но прямо здесь, на библиотечном полу, страстно катаясь в потном забытии под дождем пыли миллионов книг. Ты — с Хеди Ламарр. Ты — с Ингрид Бергман. Ты — с Джин Тирней. Ты — с блондинками и брюнетками, с чернокожими и азиатками, со всеми женщинами твоих грез, с одной, с двумя, с тремя. Время тянется долго, и сидя за своим столом на четвертом этаже библиотеки Батлера, ты чувствуешь, как твердеет член. А сейчас он тверд, как никогда, и каждый раз тверд, как никогда; и бывают времена, когда давление становится таким невыносимым, что ты покидаешь рабочее место, скрываешься в мужском туалете и освобождаешься. Ты тут же презираешь себя. Ты поражен быстротой сдачи себя желаниям. Застегиваясь, ты клянешься, что больше не случится; ты уже клялся в этом двадцать четыре часа тому назад. Стыд долго еще остается с тобой по возвращению к столу, и ты сидишь, раздумывая, есть ли что-то еще неиспорченное в тебе. Ты решаешь, что ты одинок, что ты самый одинокий человек в этом мире. Тебе кажется, что ты теряешь рассудок.
Твоя сестра спрашивает тебя: Что ты думаешь, Адам? Должны мы уехать домой на выходные или остаться потеть здесь в Нью Йорке?
Давай останемся, отвечаешь ты, рисуя в воображении картину автобусной поездки в Нью Джерси и долгих часов разговоров с родителями. Если будет слишком жарко в квартире, говоришь ты, мы всегда можем сходить в кино. Идут хорошие фильмы в Нью Йоркере и в Талии в субботу и воскресенье, и там всегда работают кондиционеры.
Ранний июль, ты и твоя сестра делите квартиру уже две недели. Все твои друзья исчезли на лето, у тебя остается только одна живая душа — Гвин — люди, с которыми ты работаешь в бибилиотеке, не в счет, они почти что не в счет. У тебя нет подруги (Марго была твоей последней женщиной), твоя сестра разорвала отношения с молодым профессором, с которым была вместе последние полтора года. Посему, вы предоставлены друг другу, и в этом нет ничего плохого, в конце концов, ты даже доволен тем, как все складывается после того, как она въехала в твою квартиру. Тебе очень спокойно в ее компании, ты можешь открыто говорить с ней о чем угодно, и ваши отношения совершенно бесконфликтны. Иногда, правда, ей надоедает, что ты забываешь помыть посуду или оставляешь туалет неприбранным, но каждый раз ты клянешься ей исправить неистребимые привычки, и потихоньку ты меняешься к лучшему.
Как ты и представлял в самом начале, идея совместного вашего проживания была замечательная; и пока ты неторопливо тащишь бремя работы в Замке Зевоты, ты понимаешь, что делить квартиру с сестрой безусловно помогает тебе оставаться в здравом уме, только она может облегчить бремя отчаяния в тебе. С другой стороны, факт, что вы вместе, приносит совершенно иные плоды, которые ты не предвидел, обсуждая возможность ее переезда в Нью Йорк. И теперь ты спрашиваешь себя, как ты был слеп. Ты и Гвин — брат и сестра, вы из одной семьи, и поэтому это совершенно естественно, что во время разговоров друг с другом вы начинаете говорить и о семейных отношениях — о родителях, о прошлом, воспоминания мелких деталей детства — и от того, что во время недели эти темы нечасто всплывают наружу, ты начинаешь думать об этом, даже когда ты один. Ты не хочешь думать, но ты думаешь. Последние два года ты прожил, сознательно избегая родителей, делая все, что угодно, лишь бы удержать их на расстоянии; и ты приезжал в Уэстфилд только тогда, когда точно знал, что Гвин тоже будет там. Ты любишь своих родителей, но тебе не нравится быть вместе с ними. Ты пришел к этому выводу, когда сестра уехала учиться, оставив тебя один на один с ними на долгих два года школы, и, когда ты, наконец, тоже поступил в университет, ты поймал себя на чувстве выходящего на свободу из тюрьмы. Конечно, этим чувством нельзя гордиться — в действительности ты также удивлен своей холодностью и отстраненностью от них — и при этом постоянно ругаешь себя за деньги, взятые у отца, оплачивающего твои расходы, но тебе необходимо закончить университет, чтобы оставаться от них подальше; у тебя нет собственных доходов, твой отец зарабатывает больше, чем положено для того, чтобы получать стипендию, так что ж тебе остается как только стыдливо не замечать двусмысленности твоего положения? Так что убегай, беги не на жизнь, а на смерть, и если ты не сможешь сохранить дистанцию между тобой и родителями, ты завянешь и умрешь, как твой брат Энди умер, утонув в Эхо-озере 10 августа 1957 годе, небольшом озере в Нью Джерси с таким зловещим напоминанием о невечности всего; и после того, как утонул ее любимчик Нарцисс, от нее остались лишь мешок костей и нескончаемый плач.
Ты не хочешь об этом думать. Ты не хочешь думать о своих родителях и тех восьми годах, закупоренных в доме скорби. Тебе было десять лет на время смерти Энди, и вы оба, ты и Гвин, были тогда в летнем лагере в штате Нью Йорк, то есть вас обоих не было, когда это случилось. Ваша мать проводила недельный отдых с семилетним Энди в небольшом приозерном дачном домике, купленном отцом в 1949 году, когда ты и твоя сестра были совсем крошками, в месте семейного летнего отдыха, в месте пахнущих костром ужинов и комариных закатов; ирония случившегося заключалась в том, что родители решили продать этот дом после последней поездки на Эхо-озеро, буквально в часе езды от нашего дома, но это спокойное место начинали окружать постройки новых домов; и в отсутствии двух детей мать в ностальгии о прошлых летах решила отвезти Энди к озеру, несмотря на то, что отец был слишком занят для их компании. Энди не научился еще плавать, хотя и старательно барахтался; в нем всегда горел огонек лихачества, и в постоянных поисках приключений он вечно проявлял такую дьявольскую изобретательность, что все знали, он был предназначен добиться совершенства в искусстве Шуток и Розыгрышей. На третий день отдыха, около шести часов утра, пока мать спала в своей комнате, Энди взбрело в голову пойти искупаться. Перед уходом семилетний искатель приключений написал короткую полуграмотную записку — Дарагае Мам явозире пака Энди — потом на цыпочках прокрался на улицу, прыгнул в воду и утонул. Явозире.
Ты не хочешь об этом думать. Ты избегаешь этого, и у тебя нет никакого желания возвращаться в тот дом всхлипов и молчания, слышать, как твоя мать воет в спальне наверху, открыть аптечку и сосчитать бутылочки успокоительных лекарств и антидепрессантов, думать о докторах и о ее кризисах и о попытке самоубийства, и о долгом ожидании в госпитале, когда тебе было двенадцать лет. Ты не хочешь вспоминать глаза отца, и как он все время смотрел сквозь тебя, и его расписании робота, встающего каждый день в шесть утра и возвращающегося только после девяти вечера, и его отказ упоминать имя погибшего сына. Ты редко видел его, и с твоей матерью, неспособной ухаживать за домом и приготовить еду, ритуал семейных ужинов сошел на нет. Заботы уборки и приготовления еды взяли на себя так называемые работницы, всегда обшарпанные чернокожие женщины в возрасте пятидесяти-шестидесяти лет; и, поскольку твоя мать предпочитала есть свою еду в одиночестве, за розовым пластиковым столом на кухне сидели только ты и твоя сестра. Когда твой отец ужинал — было вечной загадкой. Ты представлял себе, что он ходил в рестораны, может, в один и тот же ресторан, но он никогда не обмолвился словом об этом.
Неприятно думать о таких вещах, но сейчас, с присутствием сестры рядом, ты не можешь остановить поток воспоминаний, ринувшихся на тебя против твоего желания; ты садишься за работу над длинной поэмой, начатой в июне, и вдруг обнаруживаешь себя остановившимся на полу-слове, смотрящим бесцельно в окно и вспоминающим детство.
Сейчас ты понимаешь, что твой уход от них начался гораздо раньше. Если бы не смерть Энди ты, возможно, остался бы помогающим, заботливым сыном до самого времени отъезда в университет, но как только дом начал разрушаться — с уходом твоей матери в вечное самобичевание скорбью и с постоянным отсуствием твоего отца — ты должен был найти какую-то замену семейным отношениям. В обстоятельствах детства какую-то означало школу и бейсбольные поля, на которых ты играл с друзьями. Ты хотел превзойти всех во всем, и, поскольку природа наградила тебя здравым умом и крепким телом, твои отметки были всегда среди лучших, и ты преуспел во многих видах спорта. Ты никогда не размышлял об этом тогда (был слишком молод), но успехи в школе и в спорте помогли тебе уберечься от вечного траура в доме; и чем больше ты добивался успехов, тем больше ты отходил от матери и отца. Разумеется, они желали тебе добра, они ни в чем не препятствовали тебе, но наступил момент (в возрасте около одиннадцати лет), когда ты начал желать восторгов друзей так же, как ты желал родительской любви.
Через несколько часов после того, как твою мать отвезли в психиатрическую больницу, ты поклялся памятью брата до конца своих дней оставаться хорошим человеком. Ты был один в туалете, вспоминаешь ты, один в туалете, пытаясь остановить слезы, и под хорошестью ты подразумевал честность, доброту и щедрость, ты подразумевал не смеяться ни над кем, не унижать никого и никогда не драться. Тебе было двенадцать лет. Когда тебе стало четырнадцать, ты провел первое (из трех последующих) лето, работая в магазине отца (клал покупки в пакеты, расставлял товары, стоял за кассой, подписывал накладные, убирал мусор — превосходный опыт, чтобы добиться высот работы библиотечного пажа). Когда ты достиг пятнадцати лет, ты влюбился в девочку по имени Патти Френч. Позже этим годом ты сказал сестре, что станешь поэтом. Когда тебе стало шестнадцать, Гвин покинула дом, а ты удалился во внутреннюю ссылку.
Без Гвин ты бы ничего не добился. Сколько бы ты не хотел окунуться в жизнь за пределами твоей семьи, дом всегда был твоим местом жизни, а без помощи Гвин ты был бы уже раздавлен, уничтожен, выгнан действительностью на край рассудка. Самые первые воспоминания о ней начинаются с возраста пяти лет; ты помнишь, как вы оба сидите голышом в ванне, твоя мать моет голову Гвин, шампунь на ее голове пенится белыми брызгами и странными волнами, и она откидывает голову назад, смеясь, а ты смотришь на все зачарованно. Уже ты любишь ее больше всех в мире, и до семи лет ты думаешь, что будешь жить вместе с ней всегда, что вы будете мужем и женой. Не будем добавлять о ссорах с ней и неприятностях, доставляемых друг другу иногда, потому что они случаются совсем не так часто, как это бывает с детьми в семьях. Вы оба похожи, темные волосы и серо-зеленые глаза, стройные, с небольшими ртами, похожи так, что могли бы пройти, как образцы мужского и женского пола одного человека; и тут внезапно появляется Энди с его черными кудряшками и коротким, пухлым телом, и с самого начала вы принимаете его, как персонаж для шуток, хитрый карлик в мокрых подгузниках, который появился в семье только для одной цели — забавлять окружающих. В его первый год вы относились к нему, как к игрушке или собачке, но, когда он начал говорить, тогда вы пришли к общему мнению, что он тоже человек. Живой человек, но в противовес тебе и сестре, соблюдающим приличия поведения, его настроение менялось со скоростью кружащегося танцора, и шумный и молчаливый, подверженный внезапным рыданиям и долгим приливам обезьяннего хохота. Наверное, ему было нелегко — войти в семью, торопясь успеть за старшими сестрой и братом — но дистанция между нами с его взрослением уменьшалась, его плачи постепенно ушли, и, вскоре, плакса вырос в неплохого мальчугана — с ветром в голове (Явозире), но все равно неплохого.
Перед рождением Энди твои родители переселили тебя и сестру в две комнаты на третьем этаже дома. Совершенно другая реальность открылась вам на такой верхотуре, почти что отрезанные от происходящего внизу, и после событий на Эхо-озере в августе 1957 года, она стала вашим убежищем, единственным местом в крепости печали, где ты и твоя сестра могли спрятаться от скорбящих родителей. Конечно, вы тоже грустили по Энди, но по-своему, по-детски, даже более торжественнее; и много месяцев ты и твоя сестра мучались угрызениями совести перечислением всех не-совсем-добрых вещей, когда-то сделанных вами с Энди — дразнилки, обзывания, когда не давали ему говорить, шлепки и толчки, иногда слишком сильные — будто какая-то тень чувства вины заставляла вас заниматься самобичеванием, каяться в своей неправоте бесконечным перечислением своих ошибок за все годы. Эти церемонии всегда проходили ночью, в темноте спален; вы говорили друг с другом через открытую дверь между комнатами, или кто-нибудь перебирался в другую спальню, ложились вместе и смотрели в потолок. Тогда вам казалось, что вы осиротели, и привидения родителей блуждают на нижних этажах; и спать вместе стало привычкой, простым успокоением, средством от слез и горя, так часто появлявшихся в доме после смерти Энди.
Близость подобного рода была несомненной основой твоего отношения к сестре. Она началась давным-давно, с самых первых воспоминаний; и ты не можешь вспомнить хоть один эпизод из жизни, когда ты вдруг застеснялся или испугался ее присутствия. Маленькими детьми вас купали вместе, вы изучали ваши тела в играх в «доктора»; а в дождливые дни, когда вы оставались в доме, любимым занятием Гвин было прыгать вместе голыми по кровати. Не для удовольствия прыжков, как она говорила, но потому, что ей нравилось наблюдать, как твой пенис шлепал верх-вниз, хоть он и был совсем маленький в то время; ты радостно соглашался с ней, она же всегда смеялась при виде его, а что же еще принесет тебе большую радость, чем смех сестры? Сколько было вам лет? Четыре? Пять? Постепенно дети уходят от откровенного нудизма младенчества и, достигнув возраста шести-семи лет, воздвигают внутри себя барьеры целомудрия. По каким-то причинам этого с нами не случилось. Более нет совместных купаний, нет докторских игр, прыжков по кроватям, но открытость тела осталась. Дверь общего для вас туалета часто оставалась незапертой, и много раз ты проходил мимо и видел оправляющую нужду Гвин, а сколько раз она замечала тебя, выходящего без полотенца из душа? Нам казалось это совершенно нормальным — видеть голое тело друг друга; и сейчас, летом 1967 года, отложив ручку в сторону и смотря в окно, погруженный в думы о детстве, ты раздумываешь об отсутствии стыда и решаешь, что это было от того, что ты думал — твое тело принадлежит ей, и что вы принадлежите друг другу, и невозможно представить наши отношения как-то по-другому. Правда, со временем, вы стали отдаляться друг от друга, но все равно, даже начавшиеся изменения в ваших телах не помешали близости отношений. Ты помнишь, как Гвин вошла в твою комнату и задрала блузку, чтобы показать тебе ее небольшие припухлости вокруг сосков, первые знаки растущей груди. Ты помнишь, как показал ей твои первые волосы в паху и одну из первых твоих эрекций, и ты также помнишь ее в туалете, она смотрит на кровь, стекающую по ее ногам, когда появились ее первые месячные. Никто из вас даже и не подумал бы пойти к кому-нибудь другому с рассказом об этих чудесах. События, меняющие жизнь, нуждаются в свидетелях, и кто же еще может быть в этой роли?
Затем была ночь великого эксперимента. Ваши родители уехали на выходные, решив, что вы достаточно взрослые, чтобы быть без надзора. Гвин было пятнадцать лет, а тебе — четырнадцать. Она была уже почти что женщина, а ты только что начал вылупляться из своего мальчишества, но вы оба еще оставались в агонии подросткового отчаяния, постоянно думая о сексе с утра до вечера, бессмысленно мастурбируя, вне себя от желания; ваши тела горят похотливыми фантазиями в ожидании, чтобы кто-нибудь прикоснулся, кто-нибудь поцеловал, голодные и опустошенные, возбужденные и одинокие, пруклятые. За неделю до отъезда родителей вы откровенно обсудили дилемму, великое противостояние взрослого желания против юного возраста. Мир сыграл злую шутку, предназначив вам жить в середине двадцатого века, гражданами самой развитой страны, никак не меньше; и если бы вы родились в каком-нибудь племени Амазонии или Южных морей, вы бы уже потеряли свою невинность. Так возник наш план — сразу после разговора — но вы решили дождаться убытия родителей прежде, чем приступить к делу.
Прежде всего, это будет однажды, только один раз. Это должен быть эксперимент, не новый образ жизни; и, как бы вам не понравилось, вы не станете продолжать после этой одной ночи, потому что, если бы вы продолжили дальше, вещи могли бы выйти из-под контроля, вы могли бы позабыться, и могла возникнуть проблема окровавленных простыней, и даже могло бы произойти самое смешное, непроизносимое вслух, о чем вы вообще не хотели говорить ни слова. Ничего и все, решили вы, но никаких проникновений, весь спектр возможностей и позиций, сколько бы вам захотелось, но это будет ночь секса без проникновения. Поскольку никто из вас не имел опыта в этом, возможность настолько взбудоражила вас, что дни перед отъездом родителей прошли для вас в лихорадке ожидания — напуганные до смерти смелостью плана, будто в бреду.
Это была возможность впервые сказать Гвин, как ты ее любил, сказать, какая она красивая, прикоснуться языком к ее рту и поцеловать ее так, как ты об этом мечтал. Вы оба дрожали, снимая одежду, дрожали с ног до головы, залезая в постель, ощутив объятия ее рук вокруг твоего тела. В комнате было темно, но ты видел блестящие глаза сестры, контуры ее лица, очертания ее тела; и, когда ты прокрался под покрывало и почувствовал обнаженность ее тела, ее кожу пятнадцатилетней сестры, прижавшейся к твоей коже, ты вздрогнул, почти захлебнувшись напором чувств, захлестнувших тебя. Вы лежали, обнявшись некоторое время, сплетясь ногами, щека к щеке, застыв в ожидании и надеясь, что твой партнер не бросится бежать, объятый страхом. Потом Гвин провела руками по твоей спине, приблизила свой рот к твоему и поцеловала тебя, поцеловала сильно, с неожиданной для тебя агрессией, и ее язык вошел в твой рот, и ты понял, что нет на свете ничего лучшего, чем быть поцелованным так, как она целовала тебя, и что ради этого стоило быть живым. Вы целовались, довольно урча и царапая друг друга, и ваши языки переплетались, и слюна стекала с ваших губ. Наконец, ты собрал все мужество и положил ладони на ее грудь, на ее маленькую, невыросшую до конца грудь, и впервые в твоей жизни ты сказал себе: я касаюсь девичьей груди. После касаний руки ты начал целовать места прикосновений, обходя языком вокруг сосков, целуя их, и вы оба были удивлены, как они становились все тверже и все больше точно так же, каким становился твой пенис с самого начала поцелуев. Это было слишком много для тебя; обряд посвящения в чудеса женского тела выбросил тебя за пределы терпения, и без никакой помощи от Гвин ты неожиданно кончил в первый раз за эту ночь, яростный выброс прямо на ее живот. Благодарение небесам, чувство стыда было недолгим, еще ты истекал семенем, а Гвин рассмеялась и, подбадривая тебя, радостно растерла свой живот.
Длились часы. Вы оба были нстолько молоды и неопытны, настолько заведены и неугомонны, настолько голодны друг другом, что, помня об обещании одного раза, никто из вас не хотел окончания этой ночи. Вы продолжали и продолжали. Со всей силой и неутомимостью четырнадцатилетнего подростка, ты очень скоро отошел от быстрого выброса, и в то время, как твоя сестра нежно обхватила твой возродившийся пенис (совершенно невыразимое наслаждение), ты погрузился в урок анатомии, обратив руки и рот вокруг ее тела. Ты открыл вкуснейшие мягкие части шеи и внутренних бедер, незабываемые рельефы спины и ягодиц, почти невыносимое наслаждение целуемого уха. Удовольствие прикосновений, и запах духов Гвин, и скользкие от пота ваши тела, и маленькая симфония звуков, исходивших от вас той ночью: стоны и вздохи, и потом, когда Гвин дошла до экстаза конца в первый раз (поглаживая свой клитор), звук воздуха, покидающий ее ноздри, усиливающееся дыхание и радостный выдох в конце. В первый раз, потом еще два раза, и даже, наверное, еще один. Потом была рука сестры, обхватившая твой пенис, рука, двигавшаяся вверх и вниз, пока ты лежал на спине в тумане приближающихся эмоций; и потом был ее рот, также двигавшийся вверх и вниз, ее рот с твоим возбудившимся пенисом; и потом было глубокое чувство интимности, возникшее после твоего очередного оправления — соки твоего тела перешли в другое тело, соединяя души в нечто единое. Потом твоя сестра легла на спину, открыла ноги и сказала тебе коснуться ее. Не там, сказала она и взяла твою руку и привела в то место, где она хотела, место, где ты никогда не был, и ты, незнающий ничего до этой ночи, постепенно начал свое человеческое образование.
Шесть лет спустя, ты сидишь на кухне квартиры, которую ты делишь с сестрой на Уэст 107-ой Стрит. Ранний июль 1967 года, ты только что сказал ей, что хочешь остаться на выходные в Нью Йорке, что тебе неинтересно тащиться к родителям на автобусе. Гвин сидит за столом напротив тебя, одетая в голубые шорты и белую футболку, ее длинные черные волосы собраны в пучок на голове из-за жары, и ты замечаешь, что ее руки покрыты загаром, и, несмотря на ее офисную работу, она все же проводит достаточно времени на улице, чтобы ее кожа стала светло-коричневой, странно напоминая тебе цвет блинов. Шесть тридцать вечера, четверг; и вы оба вернулись с работы, пьете пиво из банок и курите Честерфилд без фильтра. Через час вы пойдете поужинать в недорогой китайский ресторанчик — больше за прохладным воздухом, чем за едой — а пока ты просто сидишь и занимаешься ничегонеделанием, отдыхая от очередного нудного дня в библиотеке, называемую тобой Замком Зевоты. После твоей реплики, что ты не хочешь ехать в Нью Джерси, ты нисколько не сомневаешься в том, что Гвин затеет разговор о твоих родителях. Ты уже готов к этому и поддержишь разговор, но, все равно, надеешься, что разговор будет недолгим. Глава номер девять миллионов в длиннющей саге про Мардж и Бад. Когда, интересно, ты и твоя сестра стали называть своих родителей по их именам? Точно и не вспомнишь, приблизительно тогда, когда Гвин уехала учиться. Они все еще Мама и Папа, когда вы с ними, но Мардж и Бад, когда только вы с сестрой. Небольшое преувеличение, конечно, но помогает в мыслях создать иллюзию дистанции, какой-то самостоятельности, как раз то, что вам нужно, повторяешь себе, то, что нужно, более, чем что-нибудь еще.
Я не понимаю, говорит сестра. Ты никогда больше не хочешь поехать домой.
Если бы я хотел, отвечаешь ты, пожимая плечами, но каждый раз, как я захожу в дом, я начинаю чувствовать, будто меня засасывает прошлое.
Неужто так плохо? Не говори, что помнишь только плохое. Это смешно. Смешно и неправда.
Нет, нет, не только плохое. И хорошее и плохое вместе. Но, странная вещь, когда я там, я начинаю думать лишь о плохом. Когда я здесь, в основном, думаю о хорошем.
Почему я так не думаю?
Не знаю. Может, потому, что ты не была мальчиком.
Какая разница?
Энди был мальчиком. Нас было двое, а сейчас только я — кто спасся с затонувшего корабля.
И что? Лучше один, чем никого, слава Богу.
Это их глаза, Гвин, выражение на их лицах, когда они смотрят на меня. Одна минута, и я чувствую, будто я на суде. Почему ты? Будто спрашивают они меня. Почему ты живешь, а твой брат — нет? А в следующую минуту их глаза покрываются нежностью, заботливой надоедливой любовью. Тут же хочется скрыться с их виду.
Ты преувеличиваешь. Никакого нет суда, Адам. Они очень гордятся тобой; ты бы лучше послушал, что они говорят, когда тебя нет. Бесконечные гимны чудесному мальчику их крови, коронованному принцу династии Уокер.
Теперь ты начала преувеличивать.
Ничуть. Если бы я не относилась к тебе хорошо, я бы тебе завидовала.
Не знаю, как ты можешь быть с ними. Видеть их, я имею в виду. Каждый раз я гляжу на них и все время спрашиваю себя, почему они до сих пор не развелись.
Потому что они хотят быть вместе, вот почему.
Никакого нет смысла. Они даже не разговаривают друг с другом.
Они прошли сквозь такое пламя вместе, что если они не хотят говорить, то они не говорят. До тех пор, пока они вместе, не твое дело разбираться в их совместной жизни.
Она была такой красивой.
Она все еще красива.
Она слишком печальна, чтобы быть красивой. Ни один печальный человек не может быть красивым.
Ты замолкаешь на минуту, чтобы переварить произнесенное. Потом, отвернув глаза от сестры, с трудом подбирая слова, ты добавляешь: Мне ее очень жаль, Гвин. Я не могу тебе сказать, сколько раз я хотел позвонить домой и сказать ей, что все в порядке, что она должна перестать ненавидеть себя, что она слишком далеко зашла в этом.
Ты должен был позвонить.
Я не хотел обидеть ее. Жалость это такое ужасное, бесполезное чувство — ты должен закупорить ее в бутылку и спрятать глубоко в себе. Только ты достанешь ее для других, и сразу все испортится.
Твоя сестра улыбается, глядя на тебя, может, и немного не к месту, кажется тебе, но, взглянув внимательно на ее лицо и заметив печальный меланхоличный взгляд в ее глазах, ты понимаешь, что она очень надеялась на то, что ты скажешь нечто подобное, и ей стало легче, услышав слова не высокомерного и бессердечного человека, каковым ты себя иногда рисуешь, и все еще тебе не чуждо простое сочувствие. Она говорит: Хорошо, братец. Оставайся потеть в Нью Йорке, если тебе нравится. Но, для твоей информации, каждое путешествие домой приносит какие-нибудь открытия.
Какие?
Такие, как коробка под моей кроватью, в последний приезд.
И что там было?
Много чего, на самом деле. Там была наша пьеса из школьных лет.
Я пожимаю плечами, вспоминая…
Король Убю Второй.
Перечитала?
Не смогла удержаться.
И?
Ничего особенного, боюсь. Там были, правда, смешные места, и две сцены меня даже рассмешили. Когда Убю арестовывает свою жену за рыгание за столом, и когда Убю объявляет войну Америке, чтобы вернуть ее назад индейцам.
Подростковая чепуха. Но было хорошо, правда? Я даже помню, как катался по полу и так смеялся, что заболел живот.
Мы по очереди писали, мне кажется. Или сразу речами?
Речами. Не могу поклясться, правда. Может, я и не прав.
Мы были веселыми, точно? Оба — такие, скажем, веселые, ты и я. Никто не мог догадаться. Они все думали, что мы благополучные, приличные дети. Люди смотрели на нас, завидовали, а мы были такие веселые, как два сумасшедших. Ты снова смотришь в глаза сестры и чувствуешь, что она хочет заговорить о том великом эксперименте, о чем никто из вас не заикался с тех времен. Стоит продолжать, раздумываешь ты, или лучше перевести разговор в другое русло. Опережая твое решение, она говорит:
Я говорю о той ночи, было полное сумасшествие.
Так думаешь?
А ты?
Не совсем. Мой член болел неделю после этого, но, все равно, лучшая ночь в моей жизни.
Гвин улыбается, разоруженная обычностью моей интонации к тому, что большинство людей назвали бы преступлением против природы, смертельным грехом. Она говорит: Ты не жалеешь?
Нет. Ни тогда, ни сейчас. Я полагал, что и ты так же думаешь.
Я хотела бы сожалеть. Я говорю себе, что я должна, но, сказать тебе правду, ничуть не жалею. Вот почему я думаю, мы были сумасшедшими. Потому что мы прожили это безо всякого ущерба.
Ты не можешь сожалеть о содеянном, если ты не думаешь, что совершил что-то неправильное. То, что было с нами, не было неправильным. Мы никого не обидели, правда? Мы не заставляли друг друга делать то, чего не хотели. Мы не дошли до конца. То, что было с нами, всего лишь подростковый эксперимент. И я рад, что он был. Честно говоря, я жалею только о том, что он больше не повторился.
А, ты также думал об этом, что и я.
А почему не сказала?
Была напугана, полагаю. Слишком напугана, если бы мы продолжали, могли бы появиться настоящие проблемы.
И ты нашла тогда парня. Дэйв Крайер, король всего живого.
А ты — Патти Френч.
Что было, то было, товарищ.
Да, что было, то было, да?
Ты и твоя сестра продолжаете говорить о прошлом и о молчаливой семейной жизни ваших родителей, о погибшем брате, о написанной вдвоем на весенних каникулах пьесе, но все эти воспоминания лишь часть времени, проведенного вместе. Еще одна часть посвящена коротким разговорам о бытовых заботах (покупки, уборка, приготовление еды, денежные проблемы оплаты квартиры и коммунальных услуг), но большинство слов между вами тем летом посвящены настоящему и будущему, войне во Вьетнаме, книгам и писателям, поэтам, музыкантам, кинорежиссерам и, конечно, историям разных случаев с ваших многоуважаемых работ. Ты и твоя сестра всегда беседуете между собой. Вы двое постоянно находитесь в диалоге с раннего детства, и это желание поделиться мыслями и идеями, пожалуй, более всего определяет вашу дружбу. Выходит так, что вы соглашаетесь друг с другом почти во всем и при этом умеете обходить ваши разногласия. Незначительные стычки происходят от отличающихся оценок различных писателей и художников и, в общем-то, довольно комичны, хотя, при этом редко, когда одному удается убедить другого изменить свое мнение. Пример: вы оба считаете Эмили Дикинсон лучшим американским поэтом девятнадцатого века, но при этом тебе нравится Уитман, которого Гвин полностью не принимает, как напыщенного и примитивного фальшивого пророка. Ты читаешь вслух одно из его коротких стихотворений (Игрище орлов), но она не меняет своего мнения, говоря, извини, стихи об орлах, сношающихся в воздухе, совершенно далеки от нее. Еще пример: она ставит Миддлмарч Джорджа Элиота выше других романов, а, когда ты признаешься ей, что никогда не смог перейти пятидесятой страницы книги, она настаивает на том, чтобы ты вновь начал читать, и опять ты так и не доходишь до пятидесятой страницы. Еще один пример: ваши взгляды на войну и американскую политику почти идентичны, только когда набор в армию дышет тебе в затылок, ты становишься более нетерпимым, чем она, и каждый раз, когда ты начинаешь сыпать проклятиями в адрес администрации Джонсона, Гвин просто улыбается тебе, затыкает уши пальцами и ждет, пока ты не прекратишь.
Вы оба любите Толстого и Достоевского, Готорна и Мелвилла, Флобера и Стендаля, но в этом возрасте ты не выносишь Генри Джеймса, а Гвин утверждает, что он гигант среди гигантов, и по сравнению с ним все прозаики пигмеи. Вы полностью согласны о величинах Кафки и Бекетта, но, когда ты говоришь ей, что Селин должен быть в их компании, она смеется над тобой и называет его фашиствующим маньяком. Уоллес Стивенс — да, но следующий по рангу у тебя Уильям Карлос Уилльямс, никак не Т.С. Элиот, чьи стихи Гвин может цитировать по памяти. Ты защищаешь Китона, она — за Чаплина, и в то же время оба в восторге при виде братьев Маркс, а твой многообожаемый Дабл-Ю Си Филдс не выжмет и одной улыбки у нее. Трюффо в лучших его работах близок вам обоим, но Гвин находит Годара претенциозным, а ты — нет; и пока она превозносит Бергмана и Антониони как властелинов вселенной, ты неохотно сообщаешь ей, что они оба наводят на тебя скуку. Никаких конфликтов по поводу классической музыки, с Бахом — на самом верху листа, но тебе становится интересен джаз, а Гвин все еще без ума от рок энд ролла, который для тебя перестал быть чем-то значительным. Ей нравится танцевать, тебе — нет. Она больше тебя смеется, а курит — меньше. Она свободнее, счастливее, чем ты, и, когда бы ты ни был с ней, мир кажется ярче и доброжелательнее, местом, где твое недовольное, интровертное я начинает чувствовать своим домом.
Разговоры продолжаются все лето. Вы говорите о книгах и фильмах, о войне, вы говорите о ваших работах и планах на будущее, вы говорите о прошлом и настоящем, и вы говорите о Борне. Гвин знает о твоих страданиях. Она понимает, что ты еще не отошел, снова и снова она терпеливо слушает твою историю, снова и снова ту же самую историю, надоедливую историю, прокравшуюся червем в твою душу и ставшую ее частью. Она пытается убедить тебя в твоей правильности, что ты ничего другого не смог бы сделать, и, хоть ты и соглашаешься, что не смог бы никак предотвратить убийство Седрика Уилльямса, ты знаешь, что трусливые раздумья перед звонком в полицию позволили Борну избежать наказания, и ты никак не можешь простить себя за это. Сегодня пятница, первый вечер июльских выходных, когда вы оба решили остаться в Нью Йорке, и ты и твоя сестра сидите за кухонным столом, пьете пиво и курите сигареты, и разговор опять переходит на Борна.
Я подумала об этом, говорит Гвин, и полностью уверена, что все началось, потому что у Борна было к тебе сексуальное влечение. Это была не только Марго. Это были они оба вместе.
Ошарашенный теорией сестры, ты замолкаешь на время, раздумывая о правдоподобии ее слов, безрадостно обследовав запутанную ситуацию с Борном с новой точки зрения, но в конце концов ты говоришь нет, ты не согласен.
Подумай, настаивает Гвин.
Я и думаю, ты отвечаешь. Если бы это было правдой, тогда бы он приставал ко мне. Но он этого не сделал. Он никогда не пытался дотронуться до меня.
Все равно. Возможно, он даже не знал о своем чувстве. Но ни один человек не выдаст несколько тысяч долларов двадцатилетнему незнакомцу потому, что он беспокоится о его будущем. Он может сделать это только исходя от внутреннего влечения. Борн влюбился в тебя, Адам. Знал ли он об этом или нет — неважно.
Ты все равно меня не убедила, но если ты об этом заговорила, я бы хотел, чтобы он стал приставать ко мне. Я бы треснул его в рожу и послал бы подальше, и тогда я никогда не пошел бы с ним прогуляться по Риверсайд Драйв, и этот Уилльямс был бы жив.
Кто-нибудь пробовал с тобой такое?
Какое такое?
Другой мужчина. Когда-нибудь другой мужчина приставал к тебе?
Помню разные взгляды на меня, но никто никогда ничего не сказал.
Значит, ты не пробовал.
Пробовал что?
Секс с другим мужчиной.
Боже, нет.
Даже когда был маленький?
Ты о чем? Маленькие дети не занимаются сексом. Они не могут заниматься сексом — по простой причине, они еще маленькие.
Я не имею в виду совсем маленькие. Я говорю о пубертантном возрасте. Тринадцать, четырнадцать лет. Я думаю, что все мальчишки любят мастурбировать друг с другом.
Не я.
А эти пресловутые члены по кругу? Ты должно быть участвовал в таком?
Сколько лет мне было, когда я съездил в последний раз в летний лагерь?
Не помню.
Тринадцать… Должно быть тринадцать, потому что я начал работать в Шоп-Райт, когда мне было четырнадцать. Да, в последнее лето лагеря несколько парней в моем домике занимались этим. Шестеро или семеро их было, но я был слишком застенчивый для этого.
Слишком застенчивый или слишком отвратительно?
Скорее всего, и то и другое. Вид мужского тела всегда отталкивал меня.
Не своего собственного, надеюсь.
Я говорю о других телах. У меня нет никакого желания трогать их и никакого желания видеть их обнаженными. Сказать правду, я все время удивляюсь, почему женщины тянутся к мужчинам. Если бы я был женщиной, я бы, возможно, стал лесбиянкой.
Гвин улыбается в ответ на мою абсурдную мысль. Потому что ты мужчина, говорит она.
А ты? Была ты когда-нибудь увлечена другой девушкой?
Конечно. Девушки всегда увлечены друг другом. Это совершенно естественно.
Я говорю о сексуальном влечении. Не хотела ли ты когда-нибудь переспать с девушкой?
Я только что провела четыре года в женском колледже, помнишь, да? Всякое бывает в такой замкнутой атмосфере.
Правда?
Да, правда.
Ты никогда не рассказывала об этом.
Ты никогда не спрашивал.
Должен был? А что случилось с договором о Никаких-Секретов тысяча девятьсот шестьдесят первого года?
Это не секрет. Это совершенно незначительно, чтобы стать секретом. Откровенно говоря — чтобы ты не подумал ничего лишнего — это случилось дважды. Первый раз я была накуренная. Второй раз я была пьяная.
И?
Секс как секс, Адам, любой секс нормален, если оба хотят этого. Тела желают быть обласканы и обцелованы, и, если закроешь глаза, небольшая разница, кто тебя трогает и целует.
Принципиально говоря, полностью согласен. Я просто хотел знать, было ли тебе приятно, и если да, то почему только два раза.
Да, приятно. Но не настолько, как от секса с мужчиной. Вопреки тебе, я обожаю мужское тело и особенно те места, которых мы лишены. Короче говоря, приятно быть с другой девушкой, но нет в том энергии доброго старомодного разнополого соития.
Не стоит тех денег.
Точно. Низшая лига.
Лига Кустов и Зарослей, как бы.
Гвин фыркает смехом, хватает пачку сигарет, замахивается ею на тебя и притворно кричит в гневе: Ты невозможен!
Это совершенно точно: я невозможен. В тот самый момент, как слова вылетают изо рта сестры, ты тут же жалеешь о грубой шутке, и весь оставшийся вечер и следующий день ты не можешь отделаться от слов сестры, ставших заклинанием, безжалостным приговором кто ты и что ты. Да, ты невозможен. Ты и твоя жизнь невозможны, и ты сам удивляешься тому, как ты попал в этот тупик отчаяния и мизантропии. Только ли Борн виноват в этом? Может ли один случай трусости так повредить твоему я, что ты потерял веру в свое будущее? Несколько месяцев тому назад ты был готов покорить мир своей неповторимостью, а сейчас ты обзываешь себя глупцом и болваном, идиотской мастурбирующей машинкой, болтающейся в мертвом воздухе ненавистной работы, нулем. Если бы не Гвин рядом, ты бы, наверное, лег в госпиталь. Она лишь тот человек, с которым ты можешь говорить, и кто поддерживает в тебе интерес к жизни. И, все-таки, хоть ты и счастлив быть рядом с ней, ты знаешь, что нельзя перекладывать на нее слишком много, и что не должен ждать от нее превращения в божественного целителя, кто разрежет твою грудь и починит твое плачущее сердце. Ты должен помочь себе сам. Если что-то внутри тебя сломалось, ты должен починить это что-то своими руками.
После двадцати четырех часов унылого самосозерцания агония потихоньку стихает. Настроение меняется к лучшему в субботу; выходные второй недели в июле вы решили провести в Нью Йорке. После ужина ты и твоя сестра доезжаете на 104-ом автобусе по Бродвею до кинотеатра Нью Йоркер и заходите в прохладу темного зала, чтобы посмотреть фильм Карла Дрейера 1955 года Слово. Обычно, тебе не очень интересны фильмы о христианстве и вопросах религиозной веры, но режиссура Дрейера настолько точна, что история быстро захватывает тебя, каким-то образом представляясь тебе музыкальным произведением, будто фильм был снят для иллюстрации двухчасовой композиции Баха. Эстетика лютеранства, ты шепчешь в ухо Гвин, но, поскольку она совершенно не понимает, о чем ты, удивленно смотрит на тебя в ответ.
Небольшое пояснение к запутанностям нашей истории. Собрав все возможные повороты сюжета, они всего лишь одна история из бесконечного числа историй, один фильм из множества фильмов, но, если бы не конец, Слово не произвело бы на тебя бульшего впечатления, чем другие замечательные киноленты, виденные тобой. Это из-за конца фильма с тобой произойдет нечто неожиданное, вошедшее в тебя мощью удара топора по дереву.
Деревенская женщина, умершая при родах, лежит в открытом гробу, а ее убитый горем муж сидит рядом с ней. Сумасшедший брат мужа, считающий себя вторым пришествием Христа, входит в комнату, держа за руку молодую дочь брата. Скорбящие родственники и друзья смотрят на его появление, ожидая, какое богохульство может случиться в этот печальный момент; этот будто-бы-Иисус-из-Назарета умиротворенно обращается к женщине. Встань, говорит он ей, поднимись из гроба и вернись в мир живых. Секунду спустя руки женщины начинают двигаться. Ты думаешь, что это галлюцинация, что это взгляд мужа умершей женщины. Но нет. Женщина открывает глаза и садится, вернувшись к жизни.
В зале много зрителей, и половина их разражается смехом, видя чудесное воскресение. Ты прощаешь им их скептицизм, ведь, для тебя — это момент откровения, и ты сидишь схватив сестру за руку, и слезы текут по твоим щекам. Что не могло случиться — произошло, и ты потрясен тем, что видел.
Что-то меняется в тебе после этого. Ты не уверен, что, но слезы при виде вернувшейся к жизни женщины, похоже, вымыли тот яд, накопленный в тебе. Проходят дни. В разные моменты ты думаешь, что слезы в кинотеатре были как-то связаны с твоим братом Энди, или если не с Энди, то с Седриком Уилльямсом, или с ними обоими. В другие моменты ты убежден, что странным образом произошла эмоциональная подмена персонажа, и ты чувствовал, будто ты видел себя, восставшего из мертвых. Через пару недель облегчение приходит к тебе. Ты все еще для себя обречен, но ты начинаешь думать, что когда придет твой час взойти на эшафот, ты сможешь сам подняться и рассказать при этом шутку или просто обменяться словами с твоим палачом в капюшоне.
Каждый год после смерти брата ты и твоя сестра праздновали его день рождения. Только вы, без родителей, родственников и никаких гостей. Первые три года, когда вас посылали в летние лагеря, вы праздновали тот день на улице; на цыпочках вы выбирались из своих комнат посереди ночи и бежали через бейсбольное поле на луг по краю лагеря, а потом мчались в лес, освещая себе дорогу сквозь деревья и кусты фонариками — каждый из вас держал при этом печенье или пирожное, стащенные из столовой во время ужина. Три лета после летних лагерей вы работали в магазине отца, и тогда вы могли быть дома 26 июля и праздновать день рождения брата в комнате Гвин на третьем этаже. Два года после этого были самые трудные для совместного празднования, поскольку вы оба путешествовали в это время и были далеко друг от друга, но, все равно, смогли отпраздновать укороченную версию дня рождения по телефону. В прошлом году ты приехал на автобусе в Бостон, где Гвин обитала со своим другом, и вы оба пошли в ресторан, чтобы поднять бокал в честь безвременно ушедшего Энди. А сейчас еще один 26 июля на подходе; и впервые за столько лет вы, снова вместе, собираетесь устроить маленькое парти на кухне квартиры на Уэст 107-ой Стрит.
Это не празднование, по большому счету. За прошедшие годы ты и твоя сестра создали строгий протокол ритуала, и с небольшими отклонениями, завися от того, сколько вам было лет, каждое 26 июля — повторение всех предыдущих прошлых десяти лет. По сути, день-рожденный ужин — это разговор, поделенный на три части. После еды и по окончании трех-частной беседы появляется небольшой шоколадный торт с одной свечкой в центре. Вы не поете песню. Вы проговариваете слова в унисон, чуть слышно, почти шепотом, но не поете. И не задуваете свечку. Она догорает до основания, до того, как вы услышите шипение пламени, гаснущего в шоколадном потеке. После поедания куска торта вы открываете бутылку виски. Алкоголь — сравнительно новое добавление с 1963 года (последенее лето, проведенное в отцовском магазине, когда тебе было шестнадцать лет, а Гвин — семнадцать), но за последние два года вы не были вместе, и потому не пили, а в прошлый год вы провели этот день в публичном месте, так что надо было следить за тем, что пили. В этот год, в Нью-Йоркской квартире, вы оба решаете хорошенько поесть и выпить.
Гвин кладет макияж на себя к ужину и появляется к столу с золотыми серьгами и одетая в светло-зеленые летние тона, что делает ее серо-зеленые глаза более живыми. Ты — в белой рубашке с коротким рукавом и застегнутым воротничком, и вокруг твоей шеи — твой единственный галстук, тот самый, насмешивший Борна прошедшей весной. Гвин смеется при виде твоего парадного одеяния и говорит, что ты выглядишь, как мормоны — те упорные молодые люди, стучащиеся во все двери и раздающие свои книжки, посвятившие себя святой миссии. Ерунда, отвечаешь ты. Мои волосы совсем не так подстрижены, и они совсем не светлые, так что никто не сможет спутать меня с мормоном. Все равно, говорит Гвин, ты выглядишь очень, очень странно. Если не как мормон, продолжает она, тогда, наверное, как новичок-бухгалтер. Или студент-математик. Или будущий космонавт. Нет, нет, подхватываешь ты — борец за гражданские права на Юге. Хорошо, говорит она, ты выиграл; и тут же ты снимаешь и галстук и рубашку, уходишь с кухни и переодеваешься во что-то другое. Когда ты возвращаешься, Гвин улыбается, но ничего не говорит о твоей одежде.
Стоит жара, и потому, чтобы не поднимать еще температуру на кухне, вы не пользовались плитой и приготовили летнюю еду, состоящую из холодного супа, подноса холодной закуски (ветчина, салями, запеченная говядина) и зеленого салата с помидорами. Буханка итальянского хлеба и бутылка охлажденного кьянти в соломенной плетенке (дешевое вино, популярное среди студентов в то время). После холодного супа вы начинаете трех-частевой разговор. Это и есть смысл всего постановочного торжества. А все остальное — еда, торт, свечка, пожелания, алкоголь — лишь обрамление.
Часть I: вы говорите об Энди в прошлом времени, выкапывая из себя все, что вы помните о нем, живом. Всегда — самая долгая часть ритуала. Вы вспоминаете прошлые годы, но все время находятся какие-то дополнения в закоулках ваших мемуар. Вы стараетесь сохранить настроение легким и негрустным. Это празднование не смерти, а веселья, и смех при этом допускается всегда. Вы вспоминаете его неправильные слова: хангбургер вместо хэмбургер, челдовек вместо человек, друкдрука вместо друг друга — как Они поцеловали друкдрука — и совершенно забавное Мамыями о городе, где родилась ваша мать — Майами. Вы говорите о его коллекции насекомых, его плаще Супермена и его сражении с краснухой. Вы вспоминаете о его неприязни к гороху. Вы вспоминаете его первый день в школе (слезы и мучения), его ободранные локти и его забавное икание. Всего семь лет жизни, но каждый год ты и Гвин приходите к одному: список безграничен. И, все равно, каждый год вы никак не можете отделаться от ощущения, что часть его исчезает, несмотря на ваши усилия, все меньше и меньше брата остается в вас, что вы бессильны остановить его постепенное исчезновение.
Часть II: вы говорите о нем в настоящем времени. Вы представляете, каким человеком он мог бы стать, если бы был живой. Десять лет он живет в тени вашего существования внутри вас, призрак, выросший в другом измерении, невидимый, но дышащий, дышащий и думающий, думающий и чувствующий; и вы следовали за ним с его восьми лет, и чем больше лет он остается с вами, сейчас семнадцатилетний, расстояние между вами сокращается и становится незначительным; и это поражает вас, тебя и твою сестру одновременно, что в свои семнадцать он уже не девственник, что любит покурить косяк и уже пробовал алкоголь, что он уже бреется и мастурбирует, водит машину, читает сложную литературу и раздумывает, в какой бы колледж ему отправиться, и вскоре он станет совсем ровней с вами. Гвин начинает плакать, говоря, что она больше не в силах вытерпеть, что она хочет прекратить этот разговор, но ты просишь ее потерпеть еще несколько минут, и вы больше никогда не вернетесь к этому — это самое последнее день рождения Энди в ваших жизнях, но ради Энди ты должна потерпеть до конца.
Часть III: вы говорите о будущем, о том, что могло бы случиться с Энди к следующему дню рождения. Самая легкая часть, самая радостная, и за последние годы ты и Гвин фантазировали об этом с большим энтузиазмом и живостью. Но не в этот год. Прежде, чем ты приступаешь к третьей и последней части, твоя сестра закрывает рот рукой, вскакивает со стула и выбегает из кухни.
Ты находишь ее в гостиной, плачущей на диване. Ты садишься рядом, обнимаешь ее за плечи и говоришь с ней как можно мягче. Успокойся, говоришь ты. Все в порядке, Гвин. Прости… прости, что зашли далеко. Я виноват.
Ты ощущаешь тонкость ее вздрагивающих плеч, хрупкость костей под ее кожей, ее ребра прижаты к твоим, ее бедро — к твоему бедру, ее нога — к твоей ноге. За все года знакомства с ней ты вряд ли видел ее настолько жалкой, настолько разбитой печалью.
Это неправильно, наконец, говорит она; ее глаза смотрят вниз, слова адресованы полу. Я потеряла контакт с ним. Его уже нет, и мы никогда больше не найдем его. Через две недели будет десять лет. Это половина твоей жизни, Адам. На следующий год — половина моей жизни. Слишком долго. Расстояние растет. Время накапливается, и с каждой минутой он удаляется все дальше и дальше от нас. Прощай, Энди. Пошли нам когда-нибудь открытку, хорошо?
Ты ничего не говоришь. Ты просто сидишь, обняв сестру, и слушаешь ее плач, зная, что бесполезно прерывать, и что она должна выговориться. Сколько это длится? Никакого понятия, но наступает момент, когда ты замечаешь, что слезы остановились. Левой свободной рукой ты берешь ее за подбородок и поворачиваешь ее лицо к себе. Ее глаза покраснели и набухли. Потеки туши на щеках. Из носу течет. Ты отпускаешь ее лицо и достаешь из заднего кармана носовой платок. Ты чистишь ее лицо. Потихоньку осушаешь слезы, ее нос, вытираешь тушь; и все это время твоя сестра терпеливо сидит. Наблюдая за тобой, ее глаза отходят от нахлынувших чувств; она сидит абсолютно недвижима, пока ты очищаешь последствия шторма. По окончании ты встаешь и говоришь ей: Время выпить, мисс Уокер. Я пойду за скотчем.
Ты отправляешься на кухню. Минуту спустя, когда ты возвращаешься в гостиную с бутылкой Катти Сарк, двумя бокалами и кувшином льда, она сидит так же, как ты оставил ее — на диване, голова откинута на подушку, глаза закрыта, ровное дыхание, успокоившаяся. Ты ставишь то, что принес, на один из трех, перевернутых дном вверх, деревянных молочных ящиков, стоящих рядом с диваном; однажды ты принес их с бывшим соседом с улицы, и теперь они служат заменой кофейному столику. Гвин открывает глаза и улыбается изможденной бледной улыбкой, будто прося прощения за свой срыв, но здесь нет ничего такого, за что нужно извиняться, не о чем говорить, ничего против нее; и ты наливаешь виски и кладешь лед в бокалы; тебе легко от того, что разговоры об Энди позади, и что больше не будет день-рожденных празднований ушедшего брата в будущем, и что ты и твоя сестра навсегда покончили с детскими привычками.
Ты даешь Гвин ее бокал и садишься рядом с ней. Несколько минут никто не промолвит ни слова. Прихлебывая скотч и уставившись в стену напротив вас, вы оба знаете, к чему все идет, и эта уверенность в вашей крови, но вы также знаете, что необходимо расслабиться и позволить алкоголю сделать свою работу. Когда ты наклоняешься вперед, чтобы налить скотча для второго захода, Гвин начинает рассказывать тебе о размолвке с Тимоти Крэйл, тридцатилетним ассистентом-профессором, кто вошел в ее жизнь восемнадцать месяцев тому назад и вышел в минувшем апреле, почти в то время, когда ты пожал руку Борну в первый раз. Учитель ее класса поэзии модернистов, он рисковал своей работой, заведя роман с ней, а она влюбилась в него без памяти, особенно, в самом начале, в первые страстные месяцы тайных свиданий и выходных поездок в отдаленных мотелях неприметных городков. Ты видел его несколько раз и понял, что Гвин нашла в нем; очевидно, что Крэйл был привлекательным и неглупым молодым человеком, но ты также почувствовал что-то сухое внутри него, некую отстраненность от людей, отчего тебе было трудно войти с ним в какой-нибудь человеческий контакт. Неудивительно, что однажды Гвин отвергла его предложение о женитьбе и разорвала с ним отношения. Она сказала ему, что слишком молода и не готова посвятить себя кому-нибудь на долгий срок, но настоящая причина отказа была не в этом, объясняет тебе Гвин, она оставила его потому, что он не был с ней нежным. Да, да, говорит она, она знает, что он любил ее настолько, насколько мог, но она нашла его слишком эгоистичным в постели, невнимательным, слишком заботящимся о своих нуждах; и она не смогла представить себя вместе с таким человеком до конца своей жизни. Она поворачивается к тебе и со взглядом, полным серъезности и убеждения, говорит об ее представлении о любви, желая узнать, если ты думаешь также. Настоящая любовь, говорит она, это когда ты получаешь удовольствие от того, что кто-то получает столько же удовольствия от тебя. Что ты думаешь, Адам? Я права или нет? Ты говоришь, что она права. Ты говоришь ей, что ее слова — самые точные из того, что когда-либо она говорила.
Когда это начинается? Когда мысль сознания находит свое воплощение в действии? Посреди третьего напитка, когда Гвин наклоняется вперед и ставит свой бокал на кофейный столик. Ты даешь обещание себе, что не начнешь первым, что удержишь себя от того, чтобы первым коснуться ее, и лишь тогда ты будешь знать, что не обманулся в своих догадках о ее желаниях. Ты слегка пьян, но не настолько, что мог бы потерять контроль над своими действиями, и понимаешь важность того, к чему все идет. Ты и твоя сестра уже больше не невежественные, неловкие глупыши той ночи великого эксперимента, и ваше притяжение друг к другу — серьезное нарушение, тяжкая и греховная вещь по законам людей и Бога. Но вам все равно. Простейшая правда: вы не стыдитесь ваших чувств. Ты любишь свою сестру. Ты любишь ее больше, чем кого-либо ты знал в своей жизни или еще встретишь на этой проклятой земле; и, поскольку ты уезжаешь через месяц из страны и будешь отсутствовать почти год, это лишь единственный шанс, один лишь шанс для вас обоих, потому что необратимо появится новый Тимоти Крэйл в жизни Гвин, пока тебя здесь не будет. Нет, ты не забыл о клятве, когда тебе было двенадцать лет, обещании жить жизнью доброго человека. Ты хочешь быть им, и каждый день ты стараешься следовать клятве памятью мертвого брата, но в то время, как ты видишь сестру, ставящую свой бокал на столик, ты говоришь себе, что любовь — вне морали, желание — вне морали; и до тех пор, пока ты не причинил никому зла, ты сохраняешь верность своей клятве.
Момент спустя, ты тоже ставишь свой бокал на столик. Вы откидываетесь на спинку дивана; и Гвин берет твою руку, скрестив ее пальцы с твоими. Она спрашивает: Ты боишься? Ты говоришь ей — нет, ты не боишься, ты совершенно счастлив. Я тоже, говорит она; и тогда она целует тебя в щеку легким прикосновением, будто слабым воздушным дыханием, простой близостью ее губ к твоей коже. Ты понимаешь, что все должно произойти неспеша, потихоньку, что какое-то время между вами будет танец решений да и нет; а вам того и хочется, чтобы у каждого оставался шанс перестать и позабыть о случившемся. Чаще всего то, что родилось в фантазии, остается там же; и Гвин, помня об этом, знает, что расстояние между мыслями и действиями может быть огромным, пролив величиной с жизнь. Потому вы пробуете воду осторожно, шаг за шагом, слегка касаясь губами друг друга, но не открывая рта; и в то же время вы сидите крепко обнявшись в полной недвижимости. Проходит полчаса; но знаков нежелания продолжать нет между вами. Тогда твоя сестра открывает свой рот. Тогда и ты открываешь свой рот; и вы падаете лицом в ночь.
Больше нет правил. Великий эксперимент был лишь однажды, а сейчас вам уже больше двадцати лет, и строгости подростковых игр больше не сдерживают вас; и вы погружаетесь в секс друг с другом на долгие тридцать четыре дня до твоего отъезда в Париж. Твоя сестра принимает противозачаточные мази, презервативы — у тебя, и вы оба уверены в своих намерениях предохраняться, так что непроизносимое не должно случиться; и потому вы можете делать все, что заблагорассудится, без страха испортить жизнь друг другу. Вы даже не обсуждаете это. Кроме короткого обмена словами на дне рождения брата (Ты боишься? Нет, я не боюсь.) вы больше не говорите о ваших отношениях, не желая исследовать последствия вашей месячной связи, вашей месячной семейной жизни, а сейчас, в конце концов, вы — молодожены, парочка, затерявшаяся в спазмах постоянного, непобедимого желания — похотливые животные, любовники, лучшие друзья: последние две живые души во всей вселенной.
А для всех вы живете также. Пять дней в неделю будильник будит вас рано утром, и после минимального завтрака апельсиновым соком, кофе и бутербродом с маслом вы убегаете из квартиры и направляетесь на свои работы, Гвин — в офис на двенадцатом этаже стеклянного здания в Манхэттэне, а ты — к унылому Дворцу Обезличения. Ты бы хотел видеть ее, хоть издалека, все время и был бы очень доволен, если бы она не расставалась с тобой даже на минуту, но эти необходимые расставания хоть и доставляют тебе боль, но из-за них ты начинаешь скучать по ней; и это неплохо, решаешь ты, чтобы провести рабочее время в плену удушающего ожидания, возбужденным и считающим часы до того времени, как ты сможешь увидеть и обнять ее. Напряжение. Это то слово, каким ты описываешь себя. Ты напряжен. Твои чувства напряжены. Твоя жизнь становится нарастающим напряжением.
На работе ты больше не мечтаешь об Ингрид Бергман и Хеди Ламарр. Иногда эрекция все же угрожает твоим штанам, но у тебя больше нет нужды в бегствах в мужской туалет в конце корридора. Это же библиотека, в конце концов, и мысли об обнаженных женщинах — неизбежная часть работы, но сейчас обнаженное тело, о котором ты думаешь, принадлежит твоей сестре; настоящее тело настоящей женщины, с которой ты делишь ночи, а не продукт воображения, существующий только в твоих мозгах. Без вопросов, Гвин так же прекрасна, как Хеди Ламарр, даже, скорее всего, еще прекраснее — несомненно более прекрасна. Это очевидный факт, и за последние семь лет ты видел столько мужчин, терявшихся при виде ее на улице, наблюдал, как стремительно поворачивались восхищенные головы, сколько скрытых взглядов в метро, в ресторанах, в кинозалах — сотен и сотен мужчин, и каждый из них — все с тем же вожделением, туманом в обалдевших глазах. Да, у нее лицо тысяч надежд, лицо тысяч ночных вожделений; и, пока ты ожидаешь за рабочим столом очередной заказ из гремящей трубы со второго этажа, ты видишь это лицо в своей голове, ты смотришь в ее большие, живые серо-зеленые глаза, и они смотрят на тебя в ответ; ты наблюдаешь, как она расстегивает свое белое летнее платье, соскальзывающее по всей длине ее стройного тела.
Вы сидите вместе в ванной. Это новая традиция после работы, и вместо того, чтобы провести этот час на кухне, как это было на дне рождения брата, вы сейчас потягиваете пиво и пускаете сигаретные облачка, пока наслаждаетесь прохладной ванной. Вода не только спасение от тяжести собачьей жары, но, благодаря ей, у вас есть возможность лицезреть ваши обнаженные тела, никогда не уставая от этого занятия. Вновь и вновь, ты говоришь сестре, как тебе нравится смотреть на нее, что ты обожаешь каждый сантиметр ее волнующей, светящейся кожи, и что кроме скрытых женских мест, о которых грезят мужчины, ты боготворишь ее локти и колени, ее запястья и щиколотки, ее руки и длинные тонкие пальцы (тебе никогда не понравилась бы женщина с короткими пальцами, ты скажешь ей об этом однажды — абсурдное, но честное признание); и вы оба удивлены и зачарованы загадкой, каким образом ее хрупкое тело может в то же самое время быть сильным, будто лебедь и тигр в одном теле волшебного существа. Ей удивительны волосы, растущие на твоей груди (недавнее проявление за последний год), и у нее бесконечный интерес к переменчивой натуре твоего пениса: от болтающегося скукоженного члена в учебнике биологии до выросшего до титанических размеров в моменты экстаза и до усохшего, выдохшегося малыша, спрятавшегося после совокупления. Она называет его концертом многих исполнителей. Она говорит, что в нем находятся несколько личностей. Она заявляет, что усыновит его.
Сейчас вы живете с ней настолько интимной жизнью, что Гвин кажется тебе человеком совершенно отличным от того, кого ты знал до этого всю свою жизнь. Она более веселая и более ненасытная, чем ты ее представлял, более вульгарная и эксцентричная, более чувственная, более забавная; и ты удивлен, видя с каким наслаждением она произносит неприличные слова и слова любовных игр. Гвин редко ругается в твоем присутствии. Она — образованная, начитанная девушка и может говорить связано и понятно, и, за исключением ночи великого эксперимента, ты не знал ничего о сексуальной стороне ее характера, и не смог бы догадаться никогда, что она вырастет в женщину, обожающую и секс и разговоры о нем. Обычные слова двадцатого столетия не интересны ей. Она избегает выражения заниматься любовью, к примеру, используя более простонародные, смешные описания, как опа-опа, насосаться и трахнуться. Оргазм называется потрясти костями. Ее зад — трамдадам. Ее пах — писька, мохнатка. Ее груди — титьки, титечки, двойняшки. И в разное время твой пенис становится колокольчиком, мечом, мокроделом, древком, сверлом, огнетушителем, захватчиком, ланцелотиком, молнией, Чарльзом Диккенсом, вводилой и малышом Адамом. Эти слова возбуждают и забавляют ее, и, как только ты узнал о ее страсти к названиям, те же слова начинают нравиться и тебе. В приходе оргазма, все же, она возвращается к современным терминам, к простейшим грубым словам английского языка, чтобы выразить свои эмоции. Cunt, pussy, fuck. Fuck me, Адам. Вновь и вновь. Fuck me, Адам. Целый месяц вы заложники этого слова, добровольные пленники этого слова, воплощение этого слова. Вы живете в стране плоти, и чаша ваша полна. Благословление и милость будут дарованы вам до конца дней ваших.
И все равно, ты и твоя сестра не говорите о происходящем между вами. Вы даже не обсуждаете, почему вы не говорите. Вы живете в пределах секрета, и стены, охраняющие его, построены из молчания, безумного молчания, нарушив которое будешь наказан. Вы сидите в прохладной ванне, вы омываете друг друга мылом, вы занимаетесь любовью на полу перед ужином, вы занимаетесь любовью в постели Гвин после ужина, вы засыпаете, как убитые, и рано утром будильник возвращает вас в реальность. На выходных вы гуляете в Центральном парке, еле сдерживаясь от желания обняться и поцеловаться при всех. Вы идете в кино. Вы идете в театры. Стихотворение, начатое тобой в июне, не продвинулось ни на строчку после дня рождения Энди, но тебе наплевать — твое внимание на другом; и время проносится стремительно, все меньше и меньше дней остается до твоего отъезда, а тебе хочется провести каждое мгновение с ней, взять как можно больше из вашего сумасшествия до конца отпущенного вам времени.
Наступает последний день. Последние семьдесят два часа вы живете в атмосфере нарастающего хаоса, надвигающейся тоски. Ты не хочешь уезжать. Ты хочешь отменить поездку и остаться в Нью Йорке с твоей сестрой, но в то же самое время ты отдаешь себе отчет в том, что этому не бывать, что месяц, прожитый с ней в неправедном браке, случился лишь от того, что на это было отпущено чуть больше месяца, что существуют пределы кровосмесительной страсти; и, зная то, что все закончилось, ты чувствуешь себя разбитым и ограбленным, очерствевшим от печали.
Хуже всего то, что ты проводишь свой последний день в Нью Йорке с родителями. Бад и Мардж приезжают на своей огромной машине в город для прощального обеда в дорогом ресторане в центре — и после отвозят в аэропорт для прощального поцелуя, объятия и пожелания доброго пути. Ваша нервная, наглотавшаяся лекарств, мать почти не говорит ни о чем во время еды, но ваш отец находится в отличном, непривычно для вас, настроении. Он все время называет тебя сын вместо имени, и, пока ты видишь, что этим он не хочет обидеть тебя, тебе начинает действовать на нервы это слово, поскольку начинает казаться, что тебя превращают в какой-то объект, вещь. Не Адам, а Сын; как мой сын, мое порождение, моя родня. Бад говорит, что завидует твоим приключениям в Париже, намекая о столице мира одиноких женщин и ночных непристойностей (ха, ха, подмигивая глазом), и хоть у него никогда не было такой возможности, не смог учиться в колледже, и тем более, провести почти год учебы за рубежом, он чрезвычайно горд собой за предоставленную возможность тебе путешествия в Европу, символ хорошей жизни, жизни богатых, эмблема успеха Америки среднего класса, прямиком из Уэстфилда, штата Нью Джерси. Ты съеживаешься и терпишь, желая быть сейчас лишь с Гвин. Как всегда, твоя сестра спокойна и собранна, внимательна ко всеобщему напряжению, но упорно предпочитающая не замечать его. По дороге в аэропорт вы вместе сидите на заднем сиденье машины. Она берет твою руку и сильно сжимает ее, не ослабевая захвата все сорок пять минут поездки, но это всего лишь один знак того, как она чувствует себя в этот ужасный день, день всех дней; а все равно — этого недостаточно, этой руки сжавшей твою руку — недостаточно, и, начиная с этого дня, ты знаешь, что ничего никогда не будет достаточно в твоей жизни.
Перед воротами на посадку твоя мать обнимает тебя и начинает плакать. Она не может вынести мысли, что не сможет видеть тебя целый год, говорит она, она будет скучать, она будет волноваться и днем и ночью, и, пожалуйста, не забывай вовремя есть, пиши письма, звони, когда хочешь, я всегда буду ждать. Ты обнимаешь ее крепко, думая, моя бедная мама, моя бедная сломанная мама, и говоришь ей, что все будет нормально, но ты сам в это не веришь, и твои слова лишены убежденности, ты слышишь, как дрожит твой голос. Через плечо матери ты видишь наблюдающего за тобой отца с далеким, зашторенным взглядом в его глазах, и ты понимаешь, что он совершенно не знает, кто ты, что ты всегда был загадкой для твоего отца, непостижимый человек, но сейчас, первый раз в твоей жизни, ты находишься в такой же ситуации, что и отец, по правде говоря, ты тоже не знаешь, кто ты, и — да, даже для себя, ты — непостижимый человек.
Последний взгляд на Гвин. Слезы в ее глазах, но ты не можешь сказать, для кого они — для тебя или для твоей матери, от отчаяния или от вида женщины, плачущей в сыновьих объятиях. Вот и конец, и ты желаешь Гвин страдать настолько, насколько страдаешь ты. Боль — то, что удерживает сейчас вас вместе, и если ее боль не такая же, как твоя, тогда ничего не останется от крохотной прекрасной вселенной, в которой вы жили прошлый месяц. Невозможно узнать, о чем она сейчас думает, и в присутствии ваших родителей, стоящих в метре от вас, ты не можешь ее спросить. Ты обнимаешь ее и шепчешь: Я не хочу уезжать. Ты вновь говоришь это: Я не хочу уезжать. А потом, ты отходишь от нее, опускаешь голову и идешь.
III
Неделю спустя после прочтения Лето, я был в Оуклэнде, Калифорния, стоя возле дома Уокера и звоня в его дверь. Я не написал и не позвонил ему о том, как я воспринял вторую часть книги, но и он также не написал и не позвонил мне. Я подумал, что было бы лучше воздержаться от всех комментариев до того, как я увижусь с ним, и, зная об установленной нами дате встречи, скоро мне предоставится такая возможность. Мне трудно объяснить, почему это было так важно для меня, но я хотел видеть его глаза, когда сказал бы ему, что мне не было противно читать написанное им, и я не нашел текст жестоким или отвратительным (цитируя его слова), и моя жена, также прочитавшая обе части книги, была полностью со мной согласна. Такова была моя речь, заготовленная пока я ехал в такси по мосту из Сан Франсиско в Оуклэнд, но я так и не сказал того, что хотел. Вышло так, что Уокер умер через день после отправления мне своей рукописи, и в то время, когда я подходил к двери его дома, его останки находились в земле уже трое суток.
Ребекка рассказала мне обо всем, та Ребекка, о которой Адам писал во втором письме, его тридцатипятилетняя приемная дочь, высокая, широкая женщина светло-коричневого цвета кожи, с пронзительными глазами и привлекательным, хоть и не на каждый взгляд, лицом; она называла белого мужа матери не приемным отцом, а просто отцом. Мне было радостно услышать это слово и узнать, что Уокер смог разделить свою любовь и преданность с ребенком, несвязанным с ним общей кровью. Это одно слово рассказало мне все о его жизни, проведенной в этом небольшом доме в Оуклэнде с Сандрой Уилльямс и ее дочерью, после смерти матери оставшейся такой же близкой к нему.
Ребекка поведала мне печальную новость сразу же после того, как открыла мне дверь в дом. Я не должен был быть удивлен этой вестью, но я был. Пусть я и почувствовал слабость и страх в его голосе во время телефонного разговора, хоть я и знал, что конец его жизни был очень близок, я никак не мог подумать, что его смерть могла наступить так скоро; я предполагал, у него еще было время — достаточно для нашего ужина, в любом случае, и, наверное, для окончания книги. Когда Ребекка сказала Мой отец ушел на тот свет шесть дней тому назад, я был потрясен настолько и настолько не готов принять ее слова за случившееся, что внезапно потерял опору под ногами и попросил ее о помощи. Она провела меня к стулу в гостиной, а потом вышла на кухню за стаканом воды. По возвращении она извинилась за свою глупость, хотя в этом не было никакой необходимости — она была какой угодно, только не глупой.
Я узнала о запланированном ужине отца с Вами только час тому назад, сказала она. После похорон я прихожу в этот дом и разбираю вещи, и моя глупая голова не додумалась до шести часов вечера сегодняшнего дня о том, чтобы открыть отцовский ежедневник и посмотреть о каких-нибудь назначенных встречах. Когда я увидела ужин в семь, я тут же позвонила Вам в Бруклин. Ваша жена дала мне номер телефона Вашего отеля в Сан Франсиско, но когда я дозвонилась до них, мне сказали, что Вас уже нет в номере. Я поняла, что Вы — на дороге сюда; я позвонила мужу, сказала, чтобы он накормил детей, а я буду ждать Вашего появления. Вы, наверное, не знаете, но Вы позвонили ровно в семь часов.
Таков был уговор, сказал я. Я обещал быть здесь ровно по часам. Хотел удивить его моей точностью.
Он, конечно, был бы, ответила она огорченно.
Прежде, чем я начал говорить о чем-нибудь еще, она сменила тему разговора и вновь извинилась за то, что не нуждалось в извинениях. Я хотела позвонить Вам и до сегодняшнего дня, сказала она. Ваше имя было на листе звонков, я прошу прощения, что не смогла этого сделать ранее. У отца было много друзей, куча друзей. Позвонить им, потом — организация похорон, и миллион других вещей; я полагаю, Вы можете сказать обо мне — завалена делами. Я не жалуюсь. Лучше быть постоянно занятой, чем сидеть и ныть, правильно? Но мне действительно очень жаль, что я не связалась с Вами раньше. Отец был очень рад, когда Вы написали ему письмо в прошлом месяце. Он постоянно говорил о Вас, насколько я помню, и, кажется, будто я знаю Вас всю мою жизнь. Университетский друг, сделавший свое имя известным в этом мире. Мне очень почетно наконец встретиться с Вами. Не самые лучшие обстоятельства, я знаю, но я все равно рада видеть Вас здесь.
Я тоже, сказал я, постепенно приходя в себя от ее проникновенного, успокаивающего голоса. Ваш отец писал что-то, продолжил я. Что Вы об этом знаете?
Он говорил об этом. Книгу под названием 1967.
Вы ее читали?
Нет.
Ни строчки?
Ни одной. Пару месяцев назад он сказал мне, что если он умрет раньше, чем закончит, он хотел, чтобы я уничтожила весь текст с его компьютера. Стереть и позабыть, сказал он, совершенно неважно.
Вы стерли?
Конечно, стерла. Грех — не послушаться последней воли умирающего.
Хорошо, подумал я. Хорошо, что она не увидела рукописи Уокера. Хорошо, что она не должна была узнать его секретов, которые могли бы причинить ей боль, огорчить ее. Я мог бы посмотреть текст, и то лишь потому, что я не был его родственником. Но представить, чтобы его дитя прочитала те страницы — нельзя.
Мы сидели друг напротив друга в гостиной в мягких потертых креслах. Минимальная обстановка, пара плакатов в рамках на стене (Брак, Миро), другая стена заставлена полками книг от пола и до потолка, полотняный коврик в центре комнаты, и теплая калифорнийская пыль снаружи окон комнаты, окрашивающая содержимое комнаты в желтовато-приглушенные тона: удобно и скромно, как Уокер писал о своей жизни. Я допил воду, принесенную Ребеккой, и поставил стакан на круглый невысокий столик между нами. Потом я сказал: А что с сестрой Адама? Я знал ее немного в шестидесятые и часто задавался вопросом, где она.
Тетя Гвин. Она живет на востоке, так что я ее хорошо не знаю. Но она всегда нравилась мне. Щедрая, веселая женщина, она и моя мама были очень близки, не разлей вода. Она приезжала на похороны, конечно, ночевала здесь и уехала домой сегодня утром. Смерть отца очень потрясла ее. Мы все знали, что он был болен, мы все знали, что он долго не протянет, но она не была здесь в его конце, и она не видела, как он уходил от нас, так что она совсем не ожидала такого быстрого ухода. Она очень сильно плакала на похоронах, очень сильно огорчилась и рыдала, я даже держала ее за руку и сама пыталась не зарыдать, как она. Мой малыш Адам, она повторяла. Мой бедный малыш Адам.
Бедная Гвин.
Да и мы все, сказала Ребекка, и ее глаза внезапно заблестели. Через несколько секунд слезинка из ее левого глаза соскользнула по щеке, но она не обратила на нее внимание.
Она замужем?
За архитектором по имени Филип Тедеско.
Слышал это имя.
Да, он очень известен. Они женаты долгое время, и у них две взрослые дочери. Одна из них такого же возраста со мной.
Последний раз, когда я видел Гвин, она заканчивала университет по специальности английская литература. Стала она доктором филологии?
Точно не знаю. Что я знаю — она работает в издательском бизнесе. Она — директор университетского издательства где-то в районе Бостона. Большого, известного университета, но я никак не могу вспомнить сейчас названия. Черт возьми. Может, вспомню позже.
Не беспокойтесь. Это не важно.
Машинально я залез в карман и достал жестяную коробку голландских сигар, которые курил с молодости. Я только хотел открыть крышку, но увидел смотрящую на меня Ребекку и остановился. Предупреждая мой вопрос о разрешении курить, она вскочила из кресла и сказала: Я принесу Вам пепельницу. Наконец-то, одна из последних американцев, не присоединившихся к табачной полиции нравов. Потом она добавила: Мне кажется, в отцовском кабинете есть одна — и тут же шлепнула себя ладонью по лбу и пробормотала в сердцах: Боже мой, я даже не знаю, что со мной сегодня.
Что случилось? Спросил я, удивленный ее реакцией.
У меня есть что-то для Вас, сказала она. На отцовском столе, и я забыла про все на свете до этой минуты. Я хотела послать Вам почтой, но когда я увидела в ежедневнике, что Вы приезжаете сегодня сюда, я сказала себе, что должна передать Вам лично в руки. Но, клянусь, если бы я не вспомнила про кабинет, я Вас так бы и отпустила без ничего. Наверное, я старею.
Я прошел с ней в кабинет, среднего размера комнату на первом этаже с деревянным столом, еще одной стеной забитой книгами, бумажными завалами, лаптопом и телефоном — не так уж и много для адвокатского офиса, как ожидалось, легкое напоминание о поэтических годах Уокера. Большой коричневый бумажный пакет лежал на выключенном компьютере. Ребекка подняла его и передала мне. Моя фамилия была написана наискосок печатными буквами, и, чуть ниже, курсивом, я прочитал: Заметки для Осени.
Отец дал мне это за два дня до смерти, сказала Ребекка. Было около шести вечера, потому что я помню, я пришла с работы в госпитале проведать его. Он сказал, что говорил с Вами по телефону два часа тому назад, и если в случае, я не хочу говорить это слово, в случае того-самого, я должна была передать пакет Вам как можно скорее. Он выглядел очень изможденным… таким усталым, когда попросил меня, я сразу увидела, что надвигается худшее, и силы покидают его. Такими были два его желания. Стереть 1967 с его компьютера и передать Вам конверт. Вот он. Не представляю, что там за заметки для Осени, а Вы?
Нет, соврал я. Ни малейшего понятия.
Вернувшись в отель, я открыл конверт и вытащил короткое, написанное от руки письмо Уокера и несколько десяток страниц заметок, набранных на компьютере и отпечатанных для меня. Письмо гласило:
Спустя пять минут после нашего телефонного разговора. Глубокая благодарность за поддержку. Первым делом завтра утром я попрошу домработницу послать тебе вторую главу экспресс-почтой. Если ты найдешь ее отвратительной, боюсь так и будет, пожалуйста, извини. Страницы в этом конверте — наброски для третьей главы. Написаны в спешке — сокращенно — но помогают быстро вернуть воспоминания, поток впечатлений, и сейчас, когда наброски закончены, я не уверен, что успею заключить их в причитающую форму прозы. Чувствую себя выдохшимся, в страхе, пожалуй, немного не в себе. Я положу наброски в конверт и дам дочери, чтобы она послал тебе в случае, если я не смогу встретить нашу знаменитость и поговорить за ужином. Очень ослаб, так мало во мне осталось, уходит время. Мне не встретить старость. Стараюсь не жалеть об этом, но иногда трудно удержаться. Жизнь — дрянь, я знаю, но я хочу только одного — жить дольше, как можно дольше на этом проклятом свете. Можешь делать, что пожелаешь с моими страницами. Ты — мой дружище, лучший среди всех, и я доверяю твоему мнению. Пожелай мне удачи. С любовью, Адам.
Чтение письма наполнило меня глубочайшей безграничной скорбью. Несколько часов тому назад Ребекка оглушила меня новостью, что Уокер умер, а сейчас он вновь говорил со мной, мертвец говорил со мной; и мне показалось, как долго я держал письмо в моей руке, и как долго слова письма были перед моими глазами, так долго, будто бы воскресший, он мгновенно стал опять живым в словах, написанных мне. Странное ощущение, пожалуй, несомненно глупое ощущение, но я был слишком расстроен, чтобы контролировать свои чувства; и я прочел письмо шесть или семь раз, десять раз, двенадцать раз, достаточно, чтобы заучить каждое слов на память, прежде, чем у меня нашлось достаточно мужества отложить листок в сторону.
Я подошел к холодильнику, налил себе скотча и вернулся к кровати, где и сел с третьей и последней главой книги Уокера.
Бегло. Незавершенно. От начала и до конца, так и написано. Идет в магазин. Ложится спать. Зажигает сигарету. Все в третьем лице в этот раз. Третье лицо, настоящее время; и потому я решил следовать его манере и оставить так, как было — третье лицо, настоящее время. Можешь делать, что пожелаешь с моими страницами. Он разрешил мне, и я не думаю, что перевод его зашифрованных, будто кодом Морзе, строк в полное предложение можно назвать каким-то предательством. Несмотря на мое редакцию, в глубине, в самой сердцевине того, что получилось, лежит история, каждое слово Осени, написанной Уокером.
ОСЕНЬ
Уокер прибывает в Париж за месяц до начала учебы. Он уже решил не заселяться в студенческое общежитие и потому должен заняться своим обустройством. На следующее утро после перелета через Атлантический океан, он возвращается в отель, где жил несколько недель в свой первый приезд в Париж два года тому назад. Он планирует использовать номер, как базу, в поисках лучшего жилья; но полу-пьяный с двухдневной щетиной на лице менеджер отеля вспоминает его по прошлому приезду, и, когда Уокер говорит о желании остаться на целый год, менеджер предлагает ему месячную оплату не более двух долларов за ночь. Все дешево в Париже 1967 года, но, даже по стандартам того времени, цена чрезвычайно низка, почти что даром, и Уокер тут же решает принять предложение. Они жмут руки, и менеджер ведет его внутрь отеля, чтобы отметить сделку бокалом вина. Десять утра. Уокер берет бокал, отпивает терпкое vin ordinaire и говорит себе: До свидания, Америка. К лучшему иль худшему, но ты сейчас в Париже. Только держись.
Hоtel de Sud — древнее, рассыпающееся на глазах здание на rue Mazarine в шестом районе, неподалеку от станции метро Odéon на Boulevard Saint-Germain. В Америке здания в таком состоянии были бы давно снесены, но здесь — не Америка, и все еще тоскующий Уокер начинает обживать номер в историческом здании, воздвигнутом в семнадцатом столетии, он так считает, может, даже и ранее; и, несмотря на грязь повсюду и следы разрушения, несмотря на скрипящие, стершиеся ступени перекосившейся винтовой лестницы, в его жилище все же есть какое-то очарование. Пусть его комната и выглядит, будто после стихийного бедствия, с отходящими от стены обоями и треснутым полом, кровать — древняя конструкция из пружин с провалившимся матрацем и твердыми, как камень, подушками, небольшой стол качается, стулья — самые неудобные стулья во всей Европе, и одна дверь платяного шкафа отсутствует, но, кроме этих неудобств, комната довольно просторна, свет свободно льется сквозь два широких окна, и ни один шум не доносится с улицы. Когда менеджер открывает дверь и пропускает его в комнату, Уокер мгновенно чувствует — эта комната будет прекрасным местом для сочинения стихов. По большому счету, номер нужен ему только для этого. В таких комнатах должны творить поэты, подобные помещения подавляют дух и вызывают тебя на постоянный бой с самим собой; и, как только Уокер ставит чемодан и пишущую машинку возле кровати, он дает клятву тратить не менее четырех часов в сутки на сочинения, принимаясь за работу с еще бульшей устремленностью и концентрацией. И пусть нет телефона, и общий туалет в конце корридора, и негде принять ванную или душ, и все вокруг него — старье. Уокер — молод, и в этой комнате он станет совсем другим.
Надо завершить все приготовления к учебе, нудные консультации с директором Программы годового обучения, выбор предметов, заполнение форм, посещение обязательных обедов-встреч с другими студентами, приехавшими в Париж на год. Всего шесть студентов (три девушки из университета Бернард и три парня из Колумбийского), и все они выглядят серъезными и настроенными дружественно, и готовы с удовольствием принять его в свой круг, Уокер принимает решение держаться от них как только можно подальше. У него нет никакого желания присоединиться к ним и не хочет тратить свое время в разговорах на английском языке. Цель приезда в Париж — это совершенствовать его французский. Чтобы заняться этим, робкий и замкнутый Уокер должен собраться с решимостью и пойти на контакт с местными жителями.
Внезапно он решает позвонить родителям Марго. Он помнит, что Жоффруа живут на rue de l’Université в седьмом районе, что не так уж далеко от его отеля, и он надеется, они скажут ему, где найти ее. Почему он должен снова увидеть Марго — трудно сказать, но пока Уокер даже и не задумывается об этом. Он в Париже уже шесть дней и, говоря правду, ему становится одиноко. Чтобы не нарушить свой план держаться подальше от своих студентов, он с решимостью уходит в свое одиночество, проводя каждое утро в своей комнате за шатающимся письменным столом, сочиняя и правя стихи; а потом, когда голод выгоняет его на улицу в поисках еды (чаще всего в студенческую кафетерию на углу rue Mazet, где он покупает безвкусный, но сытный обед за один-два франка), он проводит остаток дня бесцельно слоняясь по городу, проглядывая книжные магазины, читая на скамейках парков, впитывая окружение, но еще немного чужой, все такой же, нельзя сказать, несчастный, но понемногу слабеющий от постоянного одиночества. За исключением Борна, Марго — единственный человек в Париже, с кем у него было хоть какое-то общее прошлое. Если она и Борн вновь вместе, тогда он должен и будет ее избегать, но если окажется, что они более не вместе, что их разрыв до сих пор в силе за последние три с небольшим месяца, тогда какой возможный вред от того, что они встретятся за дружеской чашечкой кофе? Он сомневается в ее желании продолжить их связь, но если это случится, он будет рад подобному шансу. В конце концов, это была непредсказуемая Марго, кто вызвала эротический ураган в нем, завершившийся так жестоко прошедшим летом. Он убежден в связи всех событий между собой. Без влияния Марго, без тела Марго, повлиявшей на его запутавшееся в сомнениях сердце, история с Гвин никогда не случилась бы. Бесстрашная Марго, молчащая Марго, неразгаданная Марго. Да, ему очень хотелось бы снова увидеть ее, даже только за невинной чашкой кофе.
Он идет в кафе на углу, покупает телефонный jeton у бармэна и спускается вниз по лестнице к телефонному справочнику за номером Жоффруа. Сердце замирает, когда он слышит первый сигнал в трубке — и, поразительно, Марго отвечает на звонок.
Уокер настаивает на продолжении разговора на французском языке. Весной они говорили между собой иногда по-французски, но в большинстве по-английски, и, хоть Марго никогда не была многословной, Уокер знает, ей было бы намного легче изъясняться на ее родном языке. Сейчас, в Париже, он хочет увидеть Марго-француженку, и он не уверен, покажется ли она ему другой в ее родной стране. Настоящая Марго, если угодно, дома, в городе, где родилась и без комплекса чужака в Америке, которую она еле выносила.
Обычная цепочка вопросов и ответов. Каким образом он здесь? Как дела? Случайность ли, что она подняла трубку, или она живет с родителями? Чем она сейчас занимается? Есть ли у нее время для чашечки кофе? Она колеблется некоторое время, а потом удивляет его ответом: Почему бы и нет? Они решают встретиться в La Palette через час.
Четыре часа дня, и Уокер приходит первым за десять минут до встречи. Он заказывает чашку кофе и потом сидит, ожидая, полчаса, все более и более склоняясь к тому, что она не придет, но только он решает уйти, появляется Марго. Той же медленной отвлеченной походкой, с еле заметной улыбкой на ее губах, целуя его в обе щеки, она садится на стул напротив. Она не извиняется за опоздание. Марго — совсем не такой человек, а он и не ждет этого от нее; он никогда и не думал, чтобы она вдруг начала жить по чужим правилам.
En franзais, alors? говорит она.
Да, отвечает он по-французски. Потому я и здесь. Практиковать мой французский. Поскольку я знаю только одного человека здесь, кто говорит по-французски, я надеялся, что смогу практиковаться с тобой.
А, вот как. Хочешь, чтобы я продолжила твое обучение.
Образно говоря, да. Но не только для разговора. Мы не должны только и делать, что говорить, если ты не желаешь.
Марго улыбается и меняет тему разговора, спросив у него сигарету. Прикурив для нее Gauloise, Уокер смотрит на Марго и неожиданно понимает, что никогда не сможет отделить ее в своем сознании от Борна. Странная мысль, но она вдребезги разносит игривое настроение. Глупец, что позвонил ей, говорит он себе, глупец, что думал увлечь ее в кровать, будто ничего не случилось весной. Даже если Марго более не часть жизни Борна, она всегда будет с ним в памяти Уокера, и взгляд на нее равносилен взгляду на Борна. Не в силах остановиться, он рассказывает ей о прогулке по Риверсайд Драйв майским вечером после ее отъезда из Нью Йорка. Он рассказывает ей об ударе ножом. Он говорит ей прямо, что Борн, без сомнения, убийца Седрика Уилльямса.
Он осторожно наблюдает за лицом Марго во время рассказа кровавых подробностей той ночи и последующих дней, и, наконец, она начинает казаться для него нормальным человеком, живым существом с таким же сознанием и возможностью испытывать боль, и, несмотря на нежные чувства к Марго, он обнаруживает, что испытывает наслаждение, причиняя ей боль, уничтожая ее веру в человека, с которым она жила два года, и которого она, скорее всего, любила. Марго плачет. Может ли быть так, что он старается причинить ей боль сейчас от того, как она обращалась с ним в Нью Йорке. Месть ли это за то, что он был брошен ею безо всякого предупреждения в самом начале их связи? Нет, не похоже. Он говорит с ней так, потому что понимает — он не сможет видеть ее без вида Борна, и сейчас он видит ее в последний раз, и ему хочется рассказать ей всю правду перед их расставанием. Когда он заканчивает рассказ, она встает и убегает в туалет.
Он не уверен, если она вернется назад. Она забрала свою сумку, а погода на улице теплая, на ней не было ни плаща ни куртки, когда она вошла в кафе, так что ничего не осталось от нее за их столом. Уокер решает подождать пятнадцать минут, и, если она не вернется за это время, он встанет и уйдет. А пока она просит официанта принести ему питье. Нет, в этот раз, не кофе, говорит он. Пиво.
Марго отсутствует уже десять минут. Когда она вновь появляется на ее стуле, Уокер замечает ее набухшие веки, матово блестящие глаза, но косметика вновь на месте, и ее щеки более не покрыты потеками маскары. Он думает: тушь Гвин в ночь дня рождения Энди; тушь Марго сентябрьским днем в Париже; потеки маскары смерти.
Прости меня, она говорит приглушенно. Эти вещи в твоем рассказе… я не знаю… я не знаю, что и думать.
Но ты веришь мне, да?
Да, я верю тебе. Никто не придумал бы такой истории.
Извини. Я не хотел огорчать тебя, но я подумал, ты должна знать о случившемся — на всякий случай, если вдруг надумаешь вернуться к нему.
Странным образом, я не сильно удивлена…
Борн бил тебя?
Однажды. Пощечина. Тяжелая, злая пощечина.
Только однажды?
Только однажды. Но в нем всегда была жестокость. Под всем его обаянием и резкими шутками — настоящая злость, настоящая жестокость. Тяжело признаться, но мне это нравилось в нем. Никогда не знать — верить ему или нет, никогда не знать — что он будет делать. Тогда он ударил меня только однажды, но дрался несколько раз, когда мы были вместе, с другими мужчинами. Ты видел его гнев. Ты знаешь, каким он становится, когда выпьет. Я думаю, он такой с армии, с войны, от того, что происходило во время войны. Пытки заключенных. Однажды он признался мне, что пытал заключенных в Алжире. На следующий день он все отрицал, но я не поверила ему, хоть и сделал вид. Первый рассказ был правдой, я знаю это.
А что за нож в его кармане? Это тебя не пугало?
Я принимаю людей, какие они есть, Адам. Я не задаю много вопросов. Если он хотел носить нож в кармане, я поняла, так надо. Он сказал, мир опасен, и мужчина должен суметь защитить себя. После того, что случилось с тобой той ночью в Нью Йорке, ты не будешь спорить с этим, да?
У моей сестры есть теория. Не знаю, правильная или нет, но она думает, что Борн затеял разговор со мной на вечеринке потому, что почувствовал сексуальное влечение. Гомоэротичное влечение, скажем так. А ты что думаешь? Права она или нет?
Возможно. Все возможно.
Когда-нибудь он говорил с тобой о влечении к мужчинам?
Нет. Но это ни о чем не говорит. Я не могу сказать тебе о том, что он делал до того, как я стала жить с ним. Я даже не могу знать всего и после того, как мы стали жить вместе. Кто знает, какие скрытые желания внутри каждого? До тех пор, пока этот человек не исполнит их или не скажет о них, у тебя нет ни малейшего понятия. Я могу говорить только о том, что видела своими глазами — и вот, что было. В самом начале нашей связи, у нас была любовь втроем. Эта была моя идея. Рудольф согласился, чтобы доказать, он способен на все для меня. Другим мужчиной был мой старый знакомый, с кем я когда-то спала, очень привлекательный человек. Если бы Рудольф увлекся им, он бы поцеловал бы его, правда? Он бы полез к его члену и обсосал бы его. Но ничего такого не было. Ему нравилось наблюдать за мной и Франсуа, я видела, как он возбудился, когда член Франсуа вошел в меня, но он не касался его сексуально. Подтверждает мой рассказ что-нибудь? Я не знаю. Все, что могу тебе сказать, когда мы увидели тебя на вечеринке в Нью Йорке, я сказала, что ты был одним из самых красивых молодых людей, встречавшихся в моей жизни. Он согласился со мной. Он сказал, что ты выглядишь, как страдающий Адонис, лорд Байрон на грани нервного срыва. Означает ли это, что ты ему понравился? Может, да, может, нет. Ты — отдельный случай, Адам, и то, что делает тебя исключением — ты сам не замечаешь впечатления, которое ты производишь на окружающих. Выглядит вполне правдоподобно, чтобы мужчина мог влюбиться в тебя. Может быть, это как раз то, что случилось с Борном. Но я не могу точно знать, потому что даже если он и влюбился, он никогда не сказал и слова об этом.
Он женится. Знаешь ли ты об этом? По крайней мере, он сказал о своем намерении в последний раз, когда я его видел.
Да, я знаю. Я знаю все об этом. Был последний довод покончить с нашей связью. До свиданья, шлюха Марго, привет ангелу Хелен Жуэ.
Похоже, ты все еще обижена…
Нет, не в обиде. Никак не пойму. Я знаю ее, видишь ли, я знала ее долгое время, и это не укладывается в моей голове. Хелен старше Рудольфа на пять-шесть лет, у нее есть восемнадцатилетняя дочь, и все, что я могу сказать о ней — она скучная, она обычная и очень порядочная. Хороший человек, конечно, хороший, многоработающий буржуа, с трагичной судьбой, но я не понимаю, что он находит в ней. Рудольф должно быть сходит с ума от скуки с ней.
Он сказал, любит ее.
Может, и любит. Но это не значит, что он должен на ней жениться.
Трагичная история. Что-то случилось с мужем, да? Я так до конца и не понял из его рассказа.
Жуэ — близкий друг Рудольфа. Шесть или семь лет тому назад он попал в автомобильную аварию. Сильно разбился, расколотый череп, разные повреждения внутренностей, но каким-то образом выжил. Или почти выжил. Он находится в коме с того случая, мозги не работают, на искусственной поддержке в госпитале. Уже столько лет Хелен не теряет надежду, но его состояние не улучшается; и, в конце концов, ее друзья и родственники убедили ее в разводе с ним. Когда все закончится следующей весной, она может снова выйти замуж. Для нее, наверное, к лучшему, но последний мужчина, о котором я могла подумать для нее, был бы Рудольф. Я провела много обедов с ними двумя, и я никогда не замечала никаких особенных чувств с обоих сторон. Дружба, да, но нет… нет… как же это слово?
Искры.
Точно. Нет искр.
Ты все еще о нем скучаешь, да?
Больше нет. После того, что ты мне рассказал сегодня.
Но скучала.
Да, скучала. Не хотела, но скучала.
Этот человек — маньяк, ты же знаешь.
Правда. Но какой закон запрещает любить маньяков?
Они оба замолчали — меньше слов, больше дум. Марго смотрит на ее часы, и Уокер представляет, как она скажет, что опаздывает на другую встречу и должна уходить. Вместо этого, она спрашивает его, есть ли у него планы на ужин сегодня, и, если нет, пойдет ли он с ней в ресторан? Она знает хорошее место на rue des Grands Augustins и с радостью разделит оплату, если у него недостаточно денег. Уокер хочет сказать ей, что это невозможно, что он не может больше видиться с ней, что они должны покончить с их знакомством, но у него нет сил для этих слов. Он слишком одинок, чтобы отказать ей, слишком слаб для отказа единственной знакомой ему здесь душе. Да, говорит он, он бы очень хотел поужинать с ней, но сейчас еще рано, нет шести часов, и чем бы они могли заняться? Чем угодно, говорит Марго, имея в виду буквально все, чего он хочет, а, поскольку более всего он хочет — лечь с ней в постель, он предлагает ей пройти в его отель, чтобы показать его до смешного задрипанную комнату. Мысли о сексе всегда близки Марго, и она быстро понимает намерения Уокера и демонстрирует согласие легкой улыбкой.
Я не была слишком добра к тебе в Нью Йорке, да? говорит она.
Ты была очень доброй ко мне. По крайней мере, некоторое время. Но потом, не очень.
Прости, я причинила тебе боль. Было плохое время для меня. Я не знала, что делать, а потом, внезапно, я захотела только одного — покинуть Нью Йорк. Не держи на меня зла.
Я не держу. Признаюсь, я был зол пару недель, но не более того. Я перестал винить тебя в моих бедах уже давно.
Мы будем друзьями, да?
Надеюсь.
Невозможно быть все время в напряжении, запомни. Каждую минуту, каждый день. Я не готова к этому. Я не уверена, что буду когда-нибудь к этому готова. Но сейчас мы здесь — друг для друга. Может быть, к лучшему.
По пути в отель Уокер понимает, что женщина рядом с ним — более не та Марго, которую он встретил весной в Нью Йорке. Он был прав, подумав об ее перемене в нынешних обстоятельствах — жизни в родном городе, трауре ее разрыва с Борном; и, после разговора в кафе, он видит ее более откровенной, более открытой и более уязвимой, чем он представлял ее до этого себе. И все равно, в предвкушении того, что произойдет в отеле — поднимаясь по винтовой лестнице, вставляя ключ в дверь, снимая одежды, видя обнаженное тело Марго, прикасаясь своей кожей к ее — он не уверен, что не совершил огромной ошибки.
Поначалу все идет не так гладко. Марго ничего не говорит о его комнате потому ли, что она слишком вежлива или безразлична к окружению, но Уокер не может остановиться от представления, что видит она, и он переполняется чувством позора, стыдя себя за то, что притащил ее в такое дешевое дрянное место. У него тут же портится настроение, и, когда они садятся на кровать и начинают целоваться, он теряет свой пыл. Марго отстраняется и спрашивает, если что-то было не так. Не пугай меня странностями, Адам, говорит она. Все должно быть легко, помнишь?
Он не может ничего сказать ей о своих чувствах к Гвин, что в тот момент, когда соединились их губы, он внезапно вспомнил последний поцелуй с сестрой, и, продолжая целовать Марго сейчас, у него лишь одна мысль в голове — он уже никогда не будет с сестрой.
Я не знаю, что со мной, говорит он. Мне грустно, отчего-то очень грустно.
Может быть, я пойду, говорит Марго, слегка касаясь его спины. Секс не должен быть обязательным, в конце концов. Мы попробуем в другой раз.
Нет, не уходи. Я не хочу, чтобы ты ушла. Подожди, я сейчас, обещаю.
Марго не спешит с уходом и постепенно он выходит из своей меланхолической тины, не до конца, может быть, но вполне достаточно, чтобы ощутить мужское начало, когда она стягивает свое платье, и он обнимает ее тело, достаточно, чтобы заняться любовью с ней, чтобы войти в нее и во второй раз; и в паузе они пьют красное вино прямо из горлышка бутылки, принесенной им ранее днем. Марго продолжает раздразнивать его рассказами об ее приключениях с другими женщинами, об ее страсти касаться и целовать большие груди (ее слишком малы), целовать и играть с женскими гениталиями, проникать языком в женские промежности; и, пока Уокеру трудно разобраться, если ее истории правдивы или лишь придуманы для его члена, он просто наслаждается ее рассказом, как раннее наслаждался постельной болтовней с Гвин в квартире на Уэст 107-ой Стрит. Он раздумывает над мыслью, что, может, слова не обязательны для секса, может, болтовня по сути лишь форма касания, и, может, образы, танцующие в наших головах, совсем не так уж и важны, чем тело в объятиях. Марго говорит ему, секс в ее жизни — единственное, ради чего стоит жить, что если бы она не могла им заниматься, то, скорее всего, покончила бы с собой от скуки и однообразия жизни. Уокер не отвечает ей, но, после второго соития, он понимает, что полностью согласен с ней. У него страсть к сексу. Даже в самые черные дни отчаяния он готов заниматься сексом. Секс — повелитель и искупитель, единственное спасение на свете.
Они так и не добираются до ресторана. После бутылки вина они засыпают и забывают об ужине. Рано утром, перед рассветом, Уокер открывает глаза и обнаруживает, что он один в своей постели. Кусочек бумаги лежит на подушке рядом с ним, записка от Марго: Извини. Кровать слишком неудобная. Позвони мне на следующей неделе.
Он спрашивает себя, найдет ли мужество для звонка. Потом, точнее, он спрашивает себя, найдет ли мужество, чтобы не позвонить, удержаться от желания снова увидеть ее.
Два дня спустя он сидит в уличном кафе на Saint-André des Arts, попивая пиво из бокала и делая записи в небольшой тетради. Шесть часов вечера, конец еще одного рабочего дня, и сейчас, когда Уокер начал чувствовать ритм Парижа, он знает, что это время — самое энергичное, время перехода с работы домой, улицы забиты мужчинами и женщинами, спешащими к своим семьям, к друзьям, к своим одиноким жизням; и ему нравится быть на улице с ними, окруженный огромным выдохом, заполнившим весь воздух вокруг. Он только что написал короткое письмо родителям и длинное письмо Гвин, а сейчас он пытается написать что-нибудь разумное о работах обожаемого им Джорджа Оппена, современного американского поэта. Он переписывает строки из последней книги Оппена:
Невозможно сомневаться в мире: он виден нам И потому что он навеки Он непостижим, и верю я, что этот факт смертелен.Он собирается выложить какие-то соображения по поводу строк, но в это время тень ложится на страницу тетради. Он смотрит вверх, и там, прямо перед ним, стоит Рудольф Борн. Прежде, чем Уокер решает что-нибудь предпринять, будущий муж Хелен Жуэ садится на пустой стул рядом с ним. Пульс Уокера учащается. Он начинает безмолвно задыхаться. Это не должно было так случиться, говорит он себе. Если бы они случайно встретились, Рудольф, он должен был быть тот, кто заметит Борна, не наоборот. Он должен был идти в толпе, отвести глаза и скрыться незамеченным. Так он всегда видел себя, а сейчас он здесь, открытый, беззащитный, просиживающий свой глупый дурацкий зад, без никакой возможности притвориться, что Борна нет рядом, пойманный в ловушку.
Белого костюма нет, на его месте — желтоватого цвета пиджак и шелковый платок на шее зелено-голубой палитры в тон светло-голубой рубашке — как всегда, видавший виды дэнди, думает Уокер, все с той же ироничной ухмылкой.
Ну-ну, говорит Борн, фальшиво шутя, растягивая слова, чтобы усилить еще больше фальшь в его интонации. Какая встреча, Уокер. Какой сюрприз.
Уокер знает, что он должен начать говорить, но, как раз в это время, у него нет ничего сказать.
Я надеялся, что встречусь с Вами, продолжает Борн. Париж — маленький город, и это должно было случиться рано или поздно.
Кто сказал Вам, что я здесь? говорит наконец Уокер. Марго?
Марго? Я не говорил с Марго несколько месяцев. Я даже и не знал, что она здесь.
Кто же это был тогда?
Вы забыли, что я преподавал в Колумбийском университете. У меня там есть связи, и глава вашей Программы, так получается, — мой друг. Я ужинал с ним, и он рассказал мне о Вас. Он сказал, что Вы обитаете в какой-то блошиной дыре на rue Mazarine. А почему Вы не живете в общежитии? Комнаты, возможно, не такие большие, но, по крайней мере, там нет насекомых.
У Уокера нет никакого желания продолжать обсуждение его жизнеустройства с Борном, никакого интереса тратить время на разговор. Игнорируя вопрос, он говорит: Я не забыл. Я все еще помню.
Помню что?
Что Вы сделали с тем подростком.
Я ничего с ним не сделал.
Пожалуйста…
Один удар и все. Вы же были там. Вы видели, что случилось. Он собирался выстрелить. Если бы я не атаковал его первым, мы оба были бы мертвы.
Но пистолет был незаряжен.
Мы же этого не знали, да? Он сказал, что он выстрелит, а когда кто-то нацеливает на меня пистолет и говорит, выстрелю, я ему верю.
А парк? Двенадцать ран. Зачем Вы это сделали?
Я ничего не делал. Я знаю, Вы мне не верите, но у меня нет ничего общего с этим. Да, я отнес его в парк после того, как Вы убежали, но, когда я принес его туда, он был уже мертв. Зачем бы я стал бить ножом мертвеца? Все, что я хотел тогда — убраться оттуда чем скорее, тем лучше.
И кто же сделал это?
Ни малейшего понятия. Какой-то больной. Ночной гоблин. Нью Йорк — зловещее место, в конце концов. Мог быть кто угодно.
Я пошел в полицию. Несмотря на Ваше ненавязчивое предупреждение.
Я знал, что Вы пойдете. Потому и уехал так быстро.
Если Вы были невиновны, почему же Вы не остались на суд?
Зачем? Они оправдали бы меня в конце концов, а я не мог позволить себе потратить столько времени на защиту самого себя. Он должен был умереть. Он умер. Только и всего.
Никаких сожалений.
Никаких сожалений. Абсолютно никаких. Я даже не виню Вас ни в чем. Вы сделали то, что считали правильным. Ошибочно, конечно, но это уже Ваша проблема, не моя. Я спас Вам жизнь, Адам. Запомните это. Если оружие было бы заряжено, Вы бы до сих пор благодарили бы меня за все. Факт, что пистолет был незаряжен, ничего не меняет, правда? Пока мы думали, он заряжен, он и был заряжен.
Уокер решает согласиться с его словами, но все еще остается вопрос о парке, вопрос — как и когда тот подросток был убит; и у него нет никаких сомнений, что версия Борна о порядке событий неправдива — только из-за того, что все произошло не так быстро. Один удар ножом в живот может привести к гибели, но к медленной и немгновенной, что означает — Уилльямс был жив, когда Борн попал в парк, и потому дополнительные раны, добившие парня, могли появиться только от Борна. Только так. Почему кто-то другой станет связываться с ударами ножом по мертвому телу? Если Уилльямс все еще был живой, когда Борн ушел из парка, одна лишь вероятность, почему мог быть другой человек — слишком натянуто, но все же — если целью было взять деньги, а полицейские сказали Уокеру тогда весной, что ограбления не было. Кошелек парня был найден в его кармане, в нем — шестнадцать нетронутых долларов, отчего напрочь пропадает мотив денег. Зачем бы я стал бить ножом мертвеца? Потому что он не был мертв, а ты продолжал бить его ножом, пока не убедился в его смерти; и, даже тогда, закончив, ты продолжал бить его, разъяренный гневом, потому что ты был не в себе и наслаждался убийством.
Я не хочу больше об этом говорить, отвечает Уокер, доставая из кармана монеты, чтобы заплатить за пиво. Мне надо идти.
Как угодно, отвечает Борн. Я надеялся, что мы помиримся и вновь станем друзьями. Я даже думаю, что Вам понравилось бы проводить время с дочерью моей будущей жены. Сесиль — умная, образованная восемнадцатилетняя девушка — студентка литературы, прекрасная пианистка, как раз тот человек, кто Вам понравился бы.
Спасибо, нет, говорит Уокер, вставая из-за стола. Мне не нужны свахи. Вы уже один раз сосватали меня, помните?
Ну, если поменяете свое мнение, позвоните. Буду счастлив представить ее Вам.
В этот момент, как только Уокер поворачивается к уходу, Борн достает из нагрудного кармана его пиджака визитную карточку с адресом и телефоном. Вот, говорит он, протягивая карточку Уокеру. Все мои координаты. На всякий случай.
На короткое мгновенье Уокером обуревает желание тут же порвать визитку и выбросить на землю — так же, как он порвал чек в Нью Йорке — но решает не делать этого, не позорясь дешевыми жестами жалкого оскорбления. Он кладет карточку в карман и прощается. Борн молча кивает головой в ответ. Уокер уходит; солнце выстреливает лучами с неба и взрывается мириадами заноз расплавленного света. Эйфелева башня падает ниц. Каждое здание в Париже покрывается пламенем. Конец первого акта. Занавес.
Он поставил себя в неустойчивое положение. До тех пор, пока он не знал о местоположении Борна, он мог бы жить в неопределенности потенциального столкновения, убеждая себя в том, что удача с ним и надеясь на невозможность встречи, или намного позжей встречи, такой поздней, что его пребывание в Париже не было бы испорчено страхом будущей встречи, будущих встреч. А сейчас это произошло, произошло рано, гораздо раньше, чем он надеялся; и он находит невыносимым держать адрес Борна в кармане и не пойти в полицию с требованием его ареста. Ничего не принесет ему больше счастья, чем увидеть убийцу Седрика Уилльямса под судом. Даже если они отпустят его, он должен будет пройти через траты и унижение судом, а, если дело не дойдет до суда, ему все равно предстояло бы вытерпеть все неудобства допросов в полиции, тягости нахождения под следствием. Но, не имея возможности схватить Борна и переправить его в Нью Йорк, что же еще остается Уокеру? Он бьется с решением этой ситуации до конца дня и всю ночь, и потом идея осеняет его, совершенно дьявольская идея, настолько жестокая и нечестная, что он сам поражен, как такая мысль могла появиться в его воображении. Борн не попадет в тюрьму, увы, но его жизнь будет далека от приятной; и если Уокеру удастся довести свой план до конца, то будущий муж Хелен Жуэ потеряет самое драгоценное в этом мире. Уокер одновременно и рад и отвратителен самому себе. Он никогда не мстил никому, никогда не хотел причинить кому-нибудь боль, но Борн — особый случай. Борн — убийца, Борн заслуживает наказания; и в первый раз в своей жизни Уокер жаждет крови.
Плану требуется хороший лжец, мастер точного искусства двуличия, а, поскольку Уокер ни тот и ни другой, он знает, худший кандидат на эту роль — это он. С самого начала он заставит себя быть другим, снова и снова оступится и упадет и все же вновь вернется на поле битвы, идущей в его сознании; и, несмотря на все опасения, он на следующее утро марширует к Cafii Conti за очередным jeton для телефона и начинает свою операцию. Он поражен своей смелостью и решимостью. Когда Борн отвечает после третьего гудка, удивление в его голосе нескрываемо.
Адам Уокер, говорит он, с трудом маскируя свои чувства. Последний человек на планете, который бы мне позвонил.
Простите за вторжение, говорит Уокер. Я просто хотел Вам сказать, что очень много думал после вчерашнего разговора.
Интересно. И к чему пришли?
Я решил помириться.
Вдвойне интересно. Вчера Вы обвинили меня в убийстве, а сегодня Вы прощаете меня и забываете обо всем. Отчего такой поворот?
Потому что Вы убедили меня в своей правоте.
Принять за искренное извинение — или Вы задумали вытащить что-то из меня? Вы не стали вновь мечтать о возрождении мертвого журнала, к примеру?
Конечно, нет. Это все в прошлом.
Мне было очень неприятно после того, что Вы сделали, Уокер. Разорвать чек на мелкие кусочки и послать мне назад без единого слова. Вы меня глубоко оскорбили.
Если я и обидел Вас как-нибудь, прошу прощения. Я был в шоке после случившегося. Я не понимал, что делал.
А теперь понимаете, что делаете?
Думаю, да.
Думаете, да. А скажите мне, молодой человек, что Вы хотите?
Ничего. Я позвонил Вам, потому что Вы попросили меня об этом. В случае, если поменяю свое мнение.
Вы хотите встретиться. И все? Вы говорите мне, что хотите возобновить нашу дружбу.
Да. Вы упомянули о встрече с Вашей невестой и ее дочерью. Я подумал, что это хороший повод для начала.
Хороший. Что за безвкусное слово. У вас, американцев, настоящий талант к банальностям, правда?
Без сомнения. Мы также очень хороши в том, что можем извиняться за свои неправильные поступки. Если Вы не хотите встречаться, так и скажите. Я пойму.
Извините меня, Уокер. Я опять был наглым. Боюсь, это у меня в крови.
У нас, у всех, бывают моменты.
Это точно. А сейчас Вы хотите преломить хлеб с Хелен и Сесиль. Согласно моему приглашению. Считайте, что Вы его получили. Я позвоню Вам в отель, как только устрою все.
Время ужина назначено на завтра в Vagenende, дорогом ресторане, ровеснике века, на Boulevard Saint-Germain. Уокер, как и было оговорено, прибывает в восемь, первый гость к ужину, и его ведут к столу Борна; он слишком нервничает и совершенно не обращает внимания на окружающую обстановку: темные дубовые стены, бронзовые украшения, белоснежные скатерти и салфетки, приглушенная речь, серебряные приборы, звенящие о фарфор. Тридцать четыре часа прошло после его невозможного, унизительного разговора с Борном, и вот, что принесла ему ложь: бесконечный страх, беспокойное самоунижение и бесценную возможность встретиться с будущей женой и приемной дочерью Борна. Все завязано на Хелен и Сесиль. Если он сможет установить отношения с ними, с любой из них, отношения, независимые от Борна, тогда, рано или поздно, ему представиться возможность открыть правду о Риверсайд Драйв; и, если Уокеру удастся убедить их принять его сторону в рассказе об убийстве Седрика Уилльямса, тогда появится шанс, даже больше, чем шанс, что свадьба будет расстроена, и Борн будет отвергнут его почти-женой. Только и всего, что нужно Уокеру: разбить их отношения до свадьбы. Не такое же равное наказание за убийство, хотя, в нынешних обстоятельствах, и достаточно суровое. Отвергнутый Борн. Униженный Борн. Борн, корчащийся в страданиях. Уокер ненавидит свое прошлое с фальшивыми извинениями и неискренним предложением дружбы, но понимает, что у него нет выбора. Если Хелен и Сесиль не примут его убеждений, тогда он забросит свой план и молча признает свое поражение. Но только если и только тогда, а до тех пор — он решительно настроен на игру в карты с чертом.
Поначалу не так уж и много ему удается узнать. Пока и мать и дочь скромны и замкнуты, нелегки на разговор, и, поскольку Борн главенствует в самом начале вечера представлением друг другу, в объяснениях и прочем разговоре, сказано очень мало. Когда Уокер рассказывает о своих первых днях в Париже, Хелен хвалит его французский язык; позже Сесиль мягко интересуется, как ему нравится жизнь в отеле. Мать — высокая блондинка, хорошо одетая, трудно назвать красивой (ее лицо немного вытянуто, решает Уокер, напоминает лошадиное), но, как многие француженки среднего класса определенного возраста, она ведет себя уверенно и убежденно — согласно стилю одежды, наверное, или храня какую-то скрытую тайну женского начала галльских предков. Дочь, ей только что исполнилось восемнадцать лет — студентка Lyciie Fiinelon на rue de l’Iperon, в пяти минутах ходьбы от отеля Уокера. Она — меньше матери и не так самоуверенна, короткая стрижка коричневых волос, тонкие запястья и узкие плечи, и внимательные острые глаза. Уокер замечает, что она иногда прищуривает свои глаза и догадывается (правильно, как выяснится позже), Сесиль носит очки и просто решила не одевать их на время ужина. Нет, не симпатичная, почти, как мышка, но, несмотря на это, с интересным лицом: небольшой подбородок, длинный носик, круглые щеки, выразительный рот. Иногда этот рот чуть искривляется затаенным смехом, не переходя в улыбку, но явно показывая у нее хорошо развитое чувство юмора, ожидая продолжения шутки или ситуации. Без сомнения, она очень образованна (последние четыре минуты Борн расписывал ее превосходные оценки по литературе и философии, ее страсть к игре на фортепиано, ее интерес к древней Греции), но, с продолжением разговора о ней, Уокер с горечью замечает, что она не нравится ему, по крайней мере, не в том направлении, как бы ему хотелось. Она — не его тип, говорит он себе затасканные слова, что, в общем-то, описывет все бесконечные сложности физического желания. Но тогда, что такое его тип? интересуется он. Его сестра? Вечно голодная сексом Марго, к тому же старше его на десять лет? Что бы ни было, это не Сесиль Жуэ. Он смотрит на нее и видит ребенка, работа в прогрессе, пока не сформировавшийся человек; и в это время ее жизни она еще слишком замкнута на себя, чтобы разбрасывать эротические сигналы, вдохновляющие мужчин на приближение. Это не означает, что он не будет стараться подружиться с ней, но — никаких поцелуев или касаний, никакой романтической бредятины, никаких попыток затащить ее в постель.
Ему противно размышлять об этом, смотреть на невинную Сесиль, как на лишь сексуальный объект, потенциальную жертву его обаяния соблазнителя (полагая, что у него есть подобное), но в то же время он знает, он — на войне, на подпольной партизанской войне, и этот обед — первая схватка в этой войне; и, если он сможет выйти победителем, соблазнив будущую приемную дочь врага, он без промедления пойдет и на это. Но юная Сесиль — не кандидат на соблазнение, и потому он перейдет к более незаметной тактике достижения цели, переключившись с отчаянной атаки дочери к двойному нападению на мать и дочь — попытаться сблизиться с ними и потихоньку перетащить их на свою сторону. И все это должно произойти под неустанным наблюдением Борна, в невыносимом удушающем пребывании с человеком, на которого он с трудом может смотреть. Хитрый, скептичный Борн, без сомнения, в глубине подозревает о двуличии Уокера; и кто знает, если он лишь сделал вид о принятии извинений, чтобы посмотреть, что у этого молодого проходимца на уме? В его голосе слышна еле заметная жесткость, замаскированная приятной болтовней и лживой дружеской атмосферой; и возбужденный натянутый тон подтверждает его настороженность. Будет неумно встретиться с ним опять, говорит себе Уокер, от чего для него становится чрезвычайно важным установить сепаратный мир с семьей Жуэ сегодня, до того, как закончится ужин.
Женщины находятся на другом конце стола. Он сидит напротив Сесиль, а Борн, слева от него — напротив Хелен. Уокер изучает глаза Хелен во время ее взглядов на жениха и тоже, как и Марго, поражается отсутствию хоть какой-нибудь искры между ними. Другие чувства проскальзывают в ее глазах — меланхолия, доброта, горечь — но не любовь, совсем немного счастья и чуть-чуть радости. Но как кто-то может быть счастливым в положении Хелен, проведшей шесть или семь лет в скорби и ожидании малейшего движения ее полу-мертвого супруга в госпитале? Он представляет себе Жуэ в коме, простертого в кровати, к его телу подключены бесконечные провода и узлы трубок — одинокий пациент в огромной, позабытый всеми камере, живой, но уже не живой, мертвый, но еще не мертвый; и, внезапно, он вспоминает фильм, который видел с Гвин два месяца тому назад, Слово, фильм Карла Дрейера, сидя рядом с сестрой на балконе кинотеатра Нью Йоркер, и мертвую жену крестьянина, лежащую в гробу, и слезы в глазах, когда она поднялась и вернулась к жизни; но, говорит он себе, эта была лишь история, будто-на-самом-деле история в будто-на-самом-деле мире, а этот мир не такой, и в этом мире не бывает чудесных воскрешений для Жуэ, муж Хелен никогда не поднимется и не вернется к жизни. От кровати Жуэ в госпитале сознание Уокера перепрыгивает к другой кровати; и, прежде, чем он остановит свое воображение, ему видится отвратительная сцена, рассказанная Марго два дня тому назад: Марго в постели с двумя мужчинами, Борном и кем-то другим, как его звали, Франсуа, Марго в постели с Борном и Франсуа, трое голых сношающихся тела; и сейчас он видит Борна, наблюдающего за Франсуа, входящим в Марго, и вот он, Борн, голый, с толстым обвисшим телом, в спазмах возбуждения, мастурбирует, глядя на свою подругу с другим мужчиной…
Уокер улыбается Сесиль, чтобы развеять эти образы, и она улыбается ему в ответ — немного удивленная, но довольная его вниманием — интересно, думает он, как этот случай может объяснить желание Борна жениться на Хелен. Он постоянно борется со своими желаниями, сопротивляясь грязным жестоким порывам, а она для него — возможность быть респектабельным, стена, отделяющая его от безумия. Уокер замечает, как подчеркнуто вежливо он относится к Хелен, обращаясь к ней на Вы вместо интимного Ты. Этот язык графов и графинь, язык семьи верхних кругов высших классов создает дистанцию между собой и миром, а также и служит защитой от него. Нет, не любовь нужна Борну, а спокойствие. Чувственная Марго вызвала в нем все худшее. Сможет ли спокойная и замкнутая Хелен превратить его в нового человека? Мечтай-мечтай, говорит Уокер себе. Человек твоего ума должен быть намного мудрее.
После заказа блюд Уокер узнает, что Хелен работает речевым патологом в клинике в Четырнадцатом районе. Она в этой профессии с начала пятидесятых годов — другими словами, задолго до несчастного случая с мужем — и, хотя она полностью зависит от своей работы, как источника денег на содержаниее ее небольшой семьи, Уокер очень скоро понимает — она полностью посвящена своей работе, и ее карьера приносит ей огромное удовольствие и является, возможно, самой важной частью ее жизни. Если погрузишься в море проблем, только работа сможет стать спасительным плотом. Уокер читает это в ее глазах и поражен, как заметно они начинают блестеть при упоминании Борном о ее работе; и, внезапно, предоставляется шанс приблизиться к ней с уместным разговором. Честно говоря, Уокеру в самом деле интересно то, чем она занимается. Он читал Якобсона и Мерло-Понти об афазии, потере речи, и обучении языку, думал об этих проблемах, и поэтому он совершенно не чувствует себя обманщиком или заговорщиком, когда начинает бомбардировать ее вопросами. Поначалу его энтузиазм отталкивает Хелен, но как только она распознает искренность в его вопросах, она начинает рассказывать о речевых заболеваниях детей, об ее методе лечения в клинике шепелявящих, заикающих подростков, при этом она занимается не только с детьми, но и со взрослыми тоже, стариками, жертвами инфарктов и различных головных травм, утративших способность к речи или запоминанию слова или даже произношению слов настолько, что слово ручка становилось бумагой, а дерево превращалось в дом. Существуют несколько видов афазии, узнает Уокер, каждая зависит от того, какая часть мозга повреждена — афазия Брока, афазия Вернике, сенсорная афазия и так далее — разве это может быть неинтересным, говорит Хелен, улыбаясь в первый раз за все время присутствия в ресторане, по-настоящему улыбаясь, разве это может быть неинтересно, что мысли не существуют без языка; и, поскольку язык — функция мозга, мы могли бы сказать, что язык — возможность постижения мира через символы — в какой-то мере физическое составляющее человеческой сущности, что доказывает, старомодная дуальность тело-сознание — чепуха, не правда ли? Прощай, Декарт. Тело и сознание едины.
Он открывает для себя лучший способ узнать их — предоставить их себе, спрашивать вопросы, а не давать ответы, и пусть они сами расскажут о себе. При этом Уокер не настолько силен в манипуляциях человеческим общением и замирает тут же в неудобном молчании, когда Борн врезается в разговор с недовольными комментариями об отказа израильской армии уйти с Синайского полуострова. Уокер догадывается, что тот хочет втянуть его в спор, но, на самом деле, он разделяет позицию Борна и, избегая согласия с ним, просто молчит, ожидая окончания комментариев, и замечает, что рот Сесиль вновь искривился от какого-то скрытого от всех веселья. Он, может быть, заблуждается, но, похоже, она находит забавным активность Борна. Через пару минут речь Борна сходит на нет появлением закусок. Воспользовавшись случаем, Уокер прерывает наступившее молчание вопросом к Сесиль об ее интересе к древним грекам. Греция не была предметом для изучения в школе, говорит он, и завидует ее возможности. У него осталось в университете только два года обучения, и, похоже, слишком поздно для того, чтобы начать.
Вообще-то нет, говорит она. Как только выучишь алфавит, это совсем нетрудно, как поначалу кажется.
Некоторое время они говорят о греческой литературе, и потом Сесиль рассказывает ему об ее летнем проекте — нереальный, совершенно амбициозный план, на который ушли три месяца безуспешных попыток и разочарований. Бог знает, что вселилось в нее, говорит она, но в ее голове возникла идея перевести на французский язык книгу-поэму самого трудного, какого можно было представить, поэта. Когда Уокер спрашивает, кто этот поэт, она пожимает плечами и говорит, что он не слышал его имени, что никто о нем не слышал, и, в действительности, когда она называет имя поэта, Ликофрон, живший около 300 д.н. э., Уокер соглашается с ней. Поэма о Кассандре, продолжает она, дочери Приама, последнего царя Трои — о бедной Кассандре, в которую, к ее несчастью, влюбился Аполлон. Он предложил ей дар предвидения, но лишь в обмен на ее девственность. Поначалу она согласилась, потом отказалась, и оскорбленный Аполлон отомстил ей, отравив дар тем, что никто никогда не поверил бы в предсказания Кассандры. Действие поэмы Ликофрона происходит во время Троянской войны, и Кассандра находится в тюрьме, уже обезумевшая, осужденная Агамемноном на смерть, выкрикивающая бесконечные, будто в бреду, видения будущего языком невероятно сложным, наполненным метафорами и аллюзиями, почти бессмысленным. Эта поэма криков и вздохов, Сесиль говорит ему, великая поэма по ее мнению, дикая и совершенно модернистская поэма, но при этом настолько сложная и труднопереводимая, настолько за пределами ее возможностей, что многочисленные часы, проведенные ей за переводом, вылились лишь в сто пятьдесят строк. Такими темпами, говорит она, смешливо скривив свой рот, она закончит перевод только за десять или двенадцать лет.
Несмотря на ее самоунижающую манеру разговора, Уокер восхищается смелостью девушки, взявшейся за такую неподъемную поэму, он бы и сам захотел прочесть эту поэму, и спрашивает ее, существуют ли какие-нибудь переводы на английский язык. Она не знает, говорит она, но с радостью поищет их для него. Уокер благодарит ее и потом добавляет (любопытства ради, никакого заднего смысла), что он хотел бы прочесть ее переведенные строчки. Но Сесиль против этого. Совершенно неинтересно, говорит она. Полная ерунда. И тогда Хелен касается руки дочери и говорит ей, не будь к себе несправедливой. Борн тут же подключается и обращается к Сесиль: Адам — тоже переводчик. Прежде всего поэт, но и переводчик поэзии. С прованского языка, никак не меньше. Он однажды показал мне перевод моего будто-бы-тезки Бертрана де Борна. Потрясающего человека, старины Бертрана. Иногда он терял свою голову, время от времени, но при этом превосходный поэт, и Адам сделал прекрасный перевод.
Да? говорит Сесиль, глядя на Уокера. Я этого не знала.
Не уверен в прекрасности, говорит он, но я занимался немного переводами.
Хорошо, отвечает она, в этом случае…
И вот так, без предупреждений, без дьявольских ухищрений, Уокер обнаруживает себя, назначившим встречу с Сесиль завтра в четыре часа дня, чтобы ознакомиться с ее манускриптом. Небольшая победа, пожалуй, но чересчур внезапно он добился всего, чего хотел от этого вечера. Установлены будущие контакты с Жуэ, а Борна поблизости и не будет.
На следующее утро он сидит за своим шатающимся столиком с ручкой в руке, разглядывая написанные стихи и становясь все более и более недовольным ими, раздумывая — заняться отделкой, отложив на время для позднего рассмотрения или просто выбросить в мусорную корзину. Он поднимает голову, взгляд в окно: серо и сумрачно, горы облак собираются на западе, очередные перемены в вечно-меняющемся небе Парижа. Ему нравится быть грустным в комнате — успокаивающая грусть, будто дружеская грусть, которой можно посвятить себя несколько часов. Он откладывает ручку в сторону, чешет голову, вздыхает. Непрошенная, забытая фраза из Экклезиаста захватывает его сознание. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость… Он быстро записывает эти слова на краю стихов, похоже, это самое честное, что написано им о себе за многие месяцы. Слова могут быть и не его, но он чувствует их, как свои.
Десять тридцать, одиннадцать часов. Бутылкообразная лампа на столе светит желтым светом. Капающий кран, отходящие от стен обои, царапанье ручки о бумагу. Он слышит звук шагов вдалеке. Кто-то приближается, медленно поднимается по винтовой лестнице на его этаж, верхний этаж, и поначалу он решает, что это — Морис, вечно полупьяный менеджер отеля, доставляющий ему телеграмму с утренней почты, приветливый Морис Петильон, человек тысяч историй о ни о чем, но нет, это не Морис, Уокер различает в шагах цокающий звук высоких каблуков — должно быть женщина; и, если там женщина, кто еще может быть, как не Марго? Уокер рад, чрезвычайно рад, совершенно оглупевший от счастья возможной встречи с ней. Он вскакивает со стула и бежит, чтобы открыть дверь до того, как она постучит.
В ее руках — небольшой кондитерский пакет, наполненный свежевыпеченными круассанами. В обычных обстоятельствах человек, принесший такой подарок, должен выглядеть счастливым, но Марго — угрюма и недовольна, с трудом выдавив из себя улыбку и холодно поцеловав Уокера в губы. Когда Уокер обнимает ее, она выскальзывает из его объятий и проходит в комнату, бросает пакет на стол и затем садится на неприбранную кровать. Уокер закрывает дверь, подходит к столу и останавливается.
Что случилось? говорит он.
Ничего не случилось со мной, отвечает Марго. Я хочу знать, что случилось с тобой.
Со мной? Почему что-то должно было случиться со мной? Ты о чем?
Прошлой ночью получилось так, что я гуляла с знакомым по Boulevard Saint-Germain. Было восемь тридцать или девять часов вечера. Мы прошли мимо ресторана, тот самый, старый стильный ресторан Vagenende, и безо всякой причины я, глупая дурочка, или потому что родители часто брали меня в детстве с собой туда, посмотрела в окно. И кого я там увидела?
Да, говорит Уокер, чувствуя будто получил пощечину. Не надо мне говорить, я знаю ответ.
Что ты затеваешь, Адам? В какую извращенную игру ты влезаешь?
Уокер садится на стул позади стола. Воздуха не хватает в его легких; а голова почти отделилась от тела. Он избегает взгляда Марго, чьи глаза безотрывно смотрят на него, и начинает теребить пакет с круассанами.
Ну? говорит она. Что скажешь?
Скажу, наконец отвечает он. Все расскажу.
Так начинай?
Потому что я не знаю, если я могу тебе полностью доверять. Ты не скажешь никому ни слова, понимаешь это? Ты должна обещать мне.
Кто я, по-твоему?
Не знаю. Кто-то, в ком я однажды разочаровался. И кто мне очень нравится. С кем я хочу быть вместе.
Но ты думаешь, я не смогу хранить секрет.
Сможешь?
Никто не просил меня об этом. Как я узнаю, если не пробовала?
По крайней мере, ты честна.
Тебе решать. Я не могу заставить тебя рассказать, если ты этого не захочешь. Но если ты не расскажешь, Адам, я встану и уйду, и ты больше никогда меня не увидишь.
Это шантаж.
Нет, не шантаж. Это просто правда, только и всего.
Уокер испускает долгий вздох поражения, затем встает со стула и начинает вышагивать взад и вперед перед Марго, наблюдающей за ним с кровати в молчании. Проходит десять минут, и за это время он рассказывает ей, что произошло за прошедшие дни: случайная встреча с Борном, сейчас он сомневается в ее случайности, лживые опровержения Борна в убийстве Седрика Уилльямса, приглашение встретиться с Хелен и Сесиль, визитная карточка, чуть было не разорванная им, вынашивание плана устранения Борна от женитьбы на Хелен, примирительный телефонный звонок, чтобы запустить план в действие, ужин в Vagenende, назначенная встреча с Сесиль сегодня в четыре часа. Когда Марго выслушала его до конца, она похлопывает левой рукой по кровати, приглашая Уокера сесть рядом с ней. Уокер садится, и в момент, когда его тело касается матраса, Марго хватает его за плечи, поворачивает к себе, приближает его лицо к своему и говорит очень тихо с глубоким убеждением в голосе: Брось, Адам. У тебя нет и шанса. Он нарежет тебя на кусочки.
Слишком поздно, говорит Уокер. Я уже начал и не остановлюсь, пока не дойду до конца.
Ты говоришь о доверии. Почему ты думаешь, что можешь доверять Хелен Жуэ? Ты же только что встретился с ней.
Я знаю. Займет какое-то время, чтобы узнать ее. Но мое первое впечатление от нее — неплохое. Она, похоже, честный человек; и я не думаю, что она настолько принадлежит Борну. Она благодарна ему, он добр к ней, но никакой любви к нему.
В ту самую минуту, как ты расскажешь ей о происшедшем в Нью Йорке, она отвернется от тебя и бросится прямиком к Борну. Я тебе это обещаю.
Может быть. Даже если и бросится, что может случиться со мной?
Разные вещи.
Борн может попробовать меня избить, но без ножа.
Я не говорю о ноже. У Рудольфа есть связи, сотни влиятельных связей, и, прежде чем ты станешь играть с ним, ты должен знать, с кем ты имеешь дело. Он совсем непрост.
Связи?
С полицией, с военными, с правительством. Я ничего не могу доказать, но я всегда чувствовала — он не просто университетский профессор.
А кто?
Я не знаю. Секретная служба, шпионаж, какая-нибудь грязная работа.
И почему ты в этом уверена?
Телефонные звонки посередине ночи… загадочные, необъяснимые отсутствия… люди, с которыми он знаком. Из кабинета министров, армейские генералы. Сколько молодых профессоров ходят ужинать с верхушкой правительства? Рудольф с ними, и от этого он становится еще опаснее для тебя. Особенно здесь, в Париже.
Немного надуманно, по-моему.
Помнишь ужин в нашей квартире в Нью Йорке весной?
Очень. Как я смогу забыть это?
Он был на телефоне, когда ты пришел. Потом он вышел — злой, весь в ярости, истеричный. Сколько лет я отдал им? Что он хотел сказать этим? Принципы! Сражения! Корабль идет ко дну! Что-то происходило в Париже, и я могу тебе сказать сейчас, что у этого что-то не было ничего общего с учебной работой или собственностью его отца. Это было связано с правительством, с его секретной жизнью в какой-он-там-состоит агенстве. Вот почему он так завелся, когда ты начал говорить о ЦРУ. Не помнишь? Он рассказал тебе о твоей семье, и ты был поражен, ты не мог поверить, как он смог накопать столько информации о тебе. Ты сказал, он должен быть агентом чего-нибудь. Ты был прав, Адам. Ты почувствовал что-то в нем, и он тут же начал высмеивать тебя, он свернул все в шутку. Вот тогда я поняла, как я права.
Может быть, но это лишь догадки.
А почему он так и не рассказал мне, в чем была проблема в Париже? Он даже не придумал никакой причины. Тебя не касается, сказал он, не задавай много вопросов. Улетает в Париж, и, когда возвращается, он уже помолвлен с Хелен Жуэ, а меня — за дверь.
Они продолжают обсуждать еще пятнадцать-двадцать минут, и чем более уверенной становится Марго в своих подозрениях о тайных операциях, о заговорах правительства, о психологическом давлении от двойной жизни, тем более Уокер, как кажется, становится беззаботным. Марго заинтригована его безразличием. Она называет его отношение к разговору нездоровым, нелогичным, но Уокер объясняет, что чем занимается Борн — совершенно неинтересно ему. Только одно важно для него — убийство Седрика Уилльямса, и даже если Борн окажется главой всей французской шпионской системы, не будет иметь никакого значения для него. В один момент его внимание полностью переключается на разговор после вскольз брошенной реплики Марго о прошлом Борна — что-то о проведенном детстве в большом доме за городом, где она впервые встретила его в возрасте трех лет. А Гватемала? спрашивает Уокер, вспоминая слова Борна о детстве в Гватемале.
Он просто поддакивал тебе, отвечает Марго. Рудольф никогда не был в тех местах.
Так я и думал. Но почему Гватемала?
А почему бы и нет? Ему нравится придумывать истории о себе. Водить людей за нос, врать чуть-чуть — любимые забавы Рудольфа.
Хоть и не так уж много настоящей информации всплыло в разговоре (слишком много догадок, недостаточно фактов), несмотря на все, эта беседа становится поворотным пунктом в его отношениях с Марго. Она беспокоится о нем, беспокоится за него, и, видя волнение и заботу в ее глазах, он при этом испытывает двойственное чувство успокоенности (проблема доверия ей снята с повестки дня) и непонятной тревоги. Она становится ближе к нему, ее чувства к нему становятся более видимыми, более искренними; и даже нечто материнское появляется в ее волнении, мудростью лет снисходительно улыбаясь, глядя на ошибки молодости; и в первый раз за все время знакомства с ней он ощущает разницу в их возрастах, разрыв в десять лет стоит между ними. Он надеется, с течением времени все пройдет. Марго нужна ему сейчас. Она — единственный его союзник в Париже, а быть вместе с ней — единственное средство от мрачных размышлений о Гвин, от тоски по Гвин. Нет, он не расстроен тем, что она увидела его в ресторане прошлой ночью с Борном и Жуэ. И не расстроен тем, что только что открыл ей всю свою душу. Ее слова подтверждают — он что-то значит для нее, и он не просто еще одно тело для постельных утех; но в то же время он понимает, что у ее отношения к нему есть границы, и Марго не может быть с ним до самого конца. Потребуешь от нее бульшего, и она в праве обидеться или даже покинуть его.
Не притронувшись к круассанам на столе, они выходят на улицу в сырую пасмурную погоду в поисках места перекусить. Марго молча держит его за руку всю дорогу, а через десять минут они сидят друг напротив друга за угловым столиком в Restaurant des Beaux-Arts. Марго покупает ему обильный обед их трех блюд (отказав ему в оплате счета и настояв, чтобы он взял десерт и кофе), а потом они идут по rue de l’Université. Квартира семьи Жоффруа находится на пятом этаже шестиэтажного дома; и, как только они втискиваются в размером с птичью клетку кабинку лифта, Уокер обнимает Марго и покрывает ее лицо отрывистыми чувственными поцелуями. Марго рассыпается в смехе; она продолжает смеяться, доставая ключ из сумочки и вставляя его в дверь. Квартира оказывается роскошным местом, более шикарным, чем Уокер мог себе представить, огромное пространство комфорта, отражающее богатство на шкале, никогда не виденной им. Марго однажды сказала ему, ее отец работал в банке, но забыла добавить при этом, что он был президентом банка; а сейчас она ведет Уокера короткой экскурсией комнат с толстыми персидскими коврами, с позолоченными зеркалами, с хрустальными люстрами и антикварной мебелью — новый взгляд на недовольную собой, вечно ускользающую Марго. Она выглядит чужой обстановке, в которых выросла, чужой, но без бунтарства (здесь она лишь на время, в поисках нового места); и, похоже, каким разочарованием для родителей должно быть то, что она в свои тридцать лет до сих пор незамужем, как и ее робкие попытки стать художником тоже не добавляют покоя этому владению буржуазной респектабельности. Переменчивая Марго с ее любовью к приготовлению еды и вечным желанием секса все еще ищет свое место в этом мире, все еще несвободна.
Приблизительно так залезает в дебри своих мыслей Уокер, следуя за ней на кухню, а, минуту спустя, он понимает, что нарисованный им ее портрет более сложен. Марго не живет здесь со своими родителями. Ее комната — наверху, небольшая комната служанки, купленная ее бабушкой в подарок, когда ей исполнилось двадцать один год; и она зашла в квартиру Жоффруа только лишь за пачкой сигарет (найденные в ящике стола рядом с раковиной). Экскурсия была небольшим бонусом, добавляет она, теперь Уокер может представить, как и где она выросла. Когда он спрашивает ее, почему она предпочитает жить в крошечной chamber de bonne вместо того, чтобы с комфортом проживать здесь, Марго улыбается и говорит: найди причину сам.
В ее комнате, размером с треть его номера, довольно спартанская обстановка. Небольшой столик и стул, небольшая раковина, небольшая кровать с бельевыми ящиками под матрасом. Непотревоженная чистота, никакого декора нигде — будто они вошли в келью набожной монашки. Одна книга лежит на полу рядом с кроватью: сборник стихов Поля Элюара Capitale de la douleur. Тетради для зарисовок небольшой горкой лежат на столе, стакан, заполненный карандашами и ручками, несколько холстов на полу, прислоненных к стене оборотом наружу. Уокеру очень хотелось бы повернуть их к себе лицом, но Марго не предлагает ему посмотреть на них, и он не решается тронуть холсты без ее согласия. Он потрясен простотой ее комнаты, случайным проникновением во внутренний мир Марго. Скольким людям она разрешила войти сюда? интересно Уокеру.
Он бы хотел думать, что только ему.
Они проводят два часа в узкой кровати Марго, и, когда Уокер все же уходит, он уже опаздывает на встречу с Сесиль Жуэ. Конечно, виноват он; и, говоря правду, он просто позабыл о встрече. С того момента, как он начал целовать Марго, рандеву в четыре часа испарилось из его памяти, и если бы не Марго, посмотревшая на часы и сказавшая ему: А не должен ли ты быть где-то через пятнадцать минут?, он бы так и лежал рядом с ней — уж лучше, чем вскакивать с постели, запрыгивать в одежду и выкатываться наружу.
Он озадачен ее словами. Несколько часов назад она была твердо настроена против его плана, а сейчас она ведет себя как его соучастник. Передумала ли она свое отношение к плану, спрашивает он себя, или решила посмеяться над ним, проверяя, насколько он глуп, что готов сам пойти в западню? И подозрения говорят в пользу, скорее всего, последнего, но, даже и так, он благодарит ее за напоминание о встрече, и потом, на выходе у открытой двери, покидая крохотную комнатенку, он второпях говорит Марго, что любит ее.
Нет, ты не любишь, отвечает она, качая головой и улыбаясь. Но мне приятно, что ты так думаешь. Ты сумасшедший, Адам, и каждый раз я вижу тебя, ты становишься все более сумасшедшим. Скоро ты станешь таким, как я.
Он входит в La Palette в четыре двадцать пять, опоздав почти на полчаса. Он не удивился бы, если бы Сесиль уже не было там, гневно вылетая оттуда и клянясь вылить на него тысячи проклятий при следующей случайной встрече. Но нет, она все еще там, спокойно сидит за столом в задней комнате, читает книгу; полувыпитая бутылка прохладительного напитка стоит перед ней; в этот раз — в очках, а на голове — маленькая темно-синяя шляпка, похожая на берет. Пристыженный, запыхавшийся от бега, в мятой одежде, все еще пахнущий сексом, со словом сумасшедший все еще в голове, Уокер подходит к столу, репетируя на ходу различные извинения, и тут Сесиль смотрит на него и улыбается — совершенно незаслуженная улыбка прощения.
И все же, садясь на стул, Уокер рассыпается в извинениях, изобретая небылицу о длинной, почти часовой очереди на почте, чтобы позвонить в Нью Йорк, но Сесиль пожимает плечами, говоря ему, не волнуйся, никаких проблем, он не должен объяснять ничего. Затем, держа себя за левое запястье, она постукивает по наручным часам указательным пальцем правой руки и говорит: У нас в Париже есть правило. Когда люди встречаются, кто пришел первым, тот ждет другого полчаса — никаких вопросов при этом. Сейчас — четыре двадцать пять. По моим подсчетам, ты пришел раньше на пять минут.
Хорошо, говорит Уокер, пораженный такой логикой, выходит, я кипячусь по-напрасну, да?
Что я пытаюсь тебе сказать.
Уокер заказывает кофе, шестой или седьмой за день, и тогда, с характерной гримасой, Сесиль указывает на книгу, которую она читала — зеленый переплет без суперобложки, очевидно, старое издание, побитая, вытертая годами книга, будто только что спасенная от мусорной корзины.
Я нашла ее, говорит она, уже не контролируя, расплывшийся во всю ширь улыбки, рот. Ликофрон на английском языке. Отпечатан в Гарвардском университете. В тысяча девятьсот двадцать первом. С переводом — (она переворачивает страницу к заглавию) — А.У.Мэйр, профессор Эдинбургского университета.
Надо же как быстро, говорит Уокер. Как же ты смогла найти ее?
Извини. Не могу сказать.
Да? А почему?
Секрет. Может быть, расскажу, когда ты вернешь мне эту книгу, но только потом.
В смысле — я могу взять ее почитать?
Конечно. Держи у себя сколько хочешь.
А перевод? Ты посмотрела на него?
Мой английский не так хорош, но, похоже, перевод сухой и педантичный, боюсь, скорее старомоден. Хуже того, это — перевод в прозе, так что вся поэзия отсутствует. По крайней мере даст тебе хоть какое-то представление — вот почему у меня с ним столько забот.
Сесиль открывает книгу на второй странице поэмы и показывает пальцем на линию тридцать один, где начинается монолог Кассандры. Она говорит Уокеру: Почитай мне немного вслух? Потом сам поймешь.
Уокер берет книгу и стремительно вгрызается в текст: Увы! Несчастная кормилица моя, сожженая впоследствии военными кораблями льва, рожденного за три вечера, кого сторожевой пес старого Тритона с зубами лезвий проглотил живьем. Но он, живой, мясник, сам в мясе у чудовища, кипящий паром чаши в сердце без огня, разорвал всю щетину главы чудовища; он, убийца своих детей, разрушитель моей отчизны; кто вонзил смертельную стрелу в грудь своей второй матери неуязвимой; кто также посредине лошадиных скачек схватил в свои объятия коня неподалеку от крутых холмов Кронуса, где страшащая лошадей могила землерожденного Исхена; кто также убил злую сторожевую собаку, охраняющую узкий пролив Авсонийского моря, рыбача рядом с ее пещерой, львицу, загрызшую быков, однажды уже возвращенную к жизни ее отцом; она, кто не страшилась Лептинитов, богиня подземного мира…
Уокер кладет книгу в сторону и улыбается. С ума сойти, говорит он. Я совсем потерялся.
Да, ужасный перевод, говорит Сесиль. Даже я слышу это.
Это не только перевод. Я не понимаю, о чем идет речь.
Потому что Ликофрон говорит намеками. Ликофрон непонятный. Вот почему его так прозвали.
Все равно…
Ты должен знать все обстоятельства. Кормилица — женщина по имени Илиос, к примеру, а лев — Геракл. Лаомедон обещал заплатить Посейдону и Аполлону за строительство стен Трои, но потом не стал платить, тогда явилось водное чудовище — пес Тритона — чтобы проглотить его дочь Гесиону. Геракл залез к монстру в живот и разорвал его на части. Лаомедон сказал, что наградит Геракла за убийство чудища, подарив ему лошадей Трои, но опять нарушил свое слово, и разозлившийся Геракл в наказание сжег Трою. Вот, о чем повествуют первые строки. Если ты не знаешь обстоятельств, ты обречен на то, чтобы потеряться.
Как будто перевести Джеймса Джойса на мандаринский язык.
Ну да. Вот почему мне это все так надоело. Каникулы кончаются на следующей неделе, а моему летнему проекту — капут.
Сдаешься?
Когда я пришла вчера домой после ужина, я еще раз прочитала мой перевод и выбросила в мусор. Он был ужасен, очень ужасен.
Ты не должна была делать этого. Я хотел прочитать его.
Было бы стыдно.
Ты же обещала. Потому мы и сидим здесь — ты хотела показать мне свой перевод.
Сначала я так думала, а потом все поменяла.
Поменяла на что?
Чтобы дать тебе книгу. Хоть одно дело закончу сегодня.
Не уверен, что она будет мне нужна. Книга принадлежит тебе. Ты должна оставить ее у себя, как память о твоем лете безуспешных попыток.
Но мне она тоже не нужна. Только взгляну, и сразу мне нехорошо.
И что мы тогда с ней сделаем?
Я не знаю. Отдадим кому-нибудь.
Мы во Франции, помнишь, да? Кому во всей Франции будет интересно прочитать нечитаемую греческую поэму, переведенную плохим английским языком?
Правда. Может, выбросим?
Чересчур. К книгам надо относиться с уважением, даже если от их вида и становится нехорошо.
Тогда просто оставим ее. Прямо здесь, на скамейке. Подарок от неизвестного неизвестному.
Отлично. И как только расплатимся по счету и уйдем из кафе, мы больше никогда не будем говорить о Ликофроне.
Так начинается дружба Уокера с Сесиль Жуэ. Во многих отношениях она очень далека от его идеала. Она постоянно елозит и дергается, она грызет свои ногти, она не курит и не пьет, она — воинствующий вегетарианец, она постоянно воздвигает для себя какие-то требования (напр. выброшенный перевод), и в то же самое время — ребенок ребенком (напр. глупый ответ на вопрос, где она раздобыла книгу, ее девчоночья зацикленность на секретах). А с другой стороны — она без сомнения очень яркая личность из всех когда-либо встречавшихся ему. Ее сознание — поразительный инструмент, и она может рассуждать с ним на любые темы, поражая его знанием литературы и искусства, музыки и истории, политики и науки. Но при этом она — не просто запоминающая машина, расхожий тип начитанных учеников со способностями переварить огромные объемы нефильтрованной информации. Она чувствительна и точна, ее мнения оригинальны, и, при всей ее застенчивости и неуверенности, она упрямо держится за свои доводы. Шесть дней подряд Уокер встречается с ней за обедом в студенческой кафетерии на rue Marzet. Они проводят послеобеденное время вместе, болтаясь по книжным магазинам, кинотеатрам, галлереям, сидя на скамейках набережной Сены. Он облегченно понимает, что у него нет никакого телесного влечения к ней, о чем радостно доверяется Марго (она проводит одну ночь с ним в отеле во время тех шести дней) и отсутствующей Гвин, которая всегда с ним рядом. Несмотря на иногда доходящие до крайностей черты характера Сесиль, он наслаждается компанией ее ума настолько, чтобы позабыть о любых мыслях о ее теле, и он радостно сохраняет с ней дистанцию.
Соблюдая осторожность, он не задает ей прямых вопросов о Борне. Он хочет знать, что она думает о нем, хочет знать, как она чувствует о предстоящем замужестве матери со старым другом семьи, но впереди у него еще столько времени — развод не будет оформлен до следующей весны, и он предпочитает повременить, пока их дружба не обросла крепкими корнями, прежде, чем углубляться в частную жизнь. Несмотря на это, ее молчание красноречиво, верит он, если бы она не была против Борна или если бы полна ожиданий свадьбы, она несомненно бы заговорила об этой теме, но Сесиль молчит, и потому, заключает он, что у нее есть сомнения в материнском решении. Возможно, она видит в этом предательство отца, считает он, но это слишком деликатная тема для обсуждения, и до тех пор, пока Сесиль не упомянет об этом сама, он будет продолжать делать вид, что ничего не знает о человеке в госпитале, о все еще живом отце, хоть и вечно спящем.
На пятый день их шатаний Сесиль говорит ему, что ее мать хотела бы знать, если у него есть свободное время для завтрашнего ужина в их квартире, в последний день перед началом ее занятий в школе. Первый порыв Уокера был отклонить предложение, опасаясь новой встречи с Борном в их компании, но получается так, что Борн сейчас находится в Лондоне по семейным делам (семейные дела?), и ужин будет лишь для троих — Сесиль, Хелен и он. Конечно, говорит он, он будет рад пойти на такой ужин. Большие скопления народа доставляют ему неудобства, а провести тихий вечер с матерью и дочерью Жуэ — звучит превосходно. Когда он говорит превосходно (formidable), лицо Сесиль внезапно озаряется сияющей, неподдельной радостью. В эту же секунду Уокер внезапно понимает — приглашение пришло не от Хелен, а от Сесиль, она настояла на том, чтобы мать пригласила его к ним на квартиру и, по всей вероятности, долбила ее об этом несколько дней. До сих пор Сесиль была очень осторожна в своем поведении, постоянно избегая открытого выражения своих эмоций, и этот выброс счастья на ее лице — повод для беспокойства. Последняя вещь в его желаниях, чтобы она влюбилась в него.
Они живут на rue de Verneuil в седьмом районе, их улица расположена параллельно rue de l’Université, но в отличие от роскошной резиденции семьи Марго, квартира Жуэ невелика и обставлена довольно просто, без сомнения отражение ограниченных финансовых возможностей Хелен, последствие аварии мужа. Но их место очень ухожено, замечает Уокер, все находится на своих местах, убрано, чисто, аккуратно, начиная стеклянным, без единого пятнышка, кофейным столиком и заканчивая начищенным паркетным полом, как бы сохраняя порядок, она защищает свое место от вторжения хаоса и непредсказуемости мира. Кто бы смог обвинить Хелен в черезмерности? думает Уокер. Она пытается сохранить себя в руках. Она пытается удержать себя и Сесиль вместе, и, находясь под грузом тяжелой ноши, кто знает, может, поэтому она и решила развестись с мужем и выйти замуж за Борна: чтобы освободиться от бремени и вновь начать дышать полной грудью?
Без Борна на горизонте, Уокер находит Хелен более мягкой и более приятной, чем та женщина в ресторане несколько дней тому назад. Она все еще замкнута, все еще захлопнута в воздухе правил и приличий, но когда она встречает его у входной двери и пожимает ему руку, он удивлен, как живо выглядят ее глаза, радостные его появлению здесь. Может, он сделал не то, поддавшись на уговоры Сесиль и приняв ее приглашение. После всего сказанного и увиденного, может, Хелен сама предложила эту идею: Что это за странный американский парень болтается постоянно с тобой, Сесиль? Почему бы тебе не пригласить его на ужин, так что я смогу задать ему пару вопросов?
Снова Сесиль выбрала не одевать очки к ужину, но, в отличие от того вечера в ресторане, она уже не щурится. Уокер полагает, она начала одевать контактные линзы, но не решается задать вопрос об этом, чтобы не смущать ее. Она выглядит еще более тихой, чем обычно, думает он, более уравновешенной и контролируемой себя, от того ли, что она сознательно выбрала такой стиль поведения, или от того, что ей спокойно находиться с ним в присутствии матери. Блюдо за блюдом, еда появляется на столе: для начала паштет с корнишонами, потом отварное мясо с овощами, салат, три вида сыров, крем карамель на десерт. Уокер рассыпается в комплиментах после каждого блюда, но при этом, хоть и наслаждаясь каждым кусочком еды, он знает, ее еда далека от качества еды Марго. Бесконечные вопросы заданы о бесполезных вещах. Школа и работа, погода, разница между метро в Париже и Нью Йорке. Разговор значительно оживляется, когда он и Сесиль затевают разговор о музыке, и, по окончании еды, он ухитряется убедить ее (после скольких пламенных отказов?) сыграть что-нибудь для него, для него и для ее матери. Небольшое пианино стоит в комнате — и гостиная и столовая — Сесиль встает из-за стола и, подходя к инструменту, спрашивает: Что-нибудь на выбор? Бах, отвечает он без малейшего колебания. Двух-частевую композицию Баха.
Она неплохо исполняет заказ, она играет все ноты музыкальной пьесы с упорной точностью, динамизм ее исполнения устойчив, и, хоть, музыкальные фразы страдают механичностью, и она не достигает быстроты заезжего гастролера, кто обвинит ее в том, как она играет? Она — не профессиональный музыкант. Она — восемнадцатилетняя школьница, играющая на пианино для собственного удовольствия; и она исполняет Баха собранно, подвижно и с большим чувством. Уокер вспоминает свои неловкие попытки научиться игре на фортепиано в детстве, и какое разочарование постигло его тогда, обнаружив у себя полное отсуствие способностей к этому. Оттого он аплодирует Сесиль с большим воодушевлением, хваля ее старание и говоря, как превосходна, по его мнению, она. Не так уж хорошо, говорит она с надоедливой скромностью. Сойдет. Но при этом Уокер видит ее веселящуюся гримаску на лице, как она еле удерживается от радостной улыбки, и понимает, сколько значат для нее его слова.
Мгновение спустя, она извиняется и уходит в коридор (без сомнения, в туалет), и, в первый раз за вечер, Уокер остается наедине с ее матерью. Поскольку Хелен знает, что Сесиль вернется очень скоро, она сразу приступает к делу, не колеблясь ни секунды.
Будьте осторожны с ней, мистер Уокер, говорит она. Моя дочь — непростое, хрупкое создание, и у нее нет опыта общения с мужчинами.
Мне очень нравится Сесиль, отвечает он, но не в этом направлении. Мне нравится просто быть с нею. Как друг.
Да, конечно, она Вам нравится. Но без любви, и проблема заключается в том, что она начинает испытывать к Вам особые чувства.
Это она Вам сказала?
Она не должна говорить мне ничего подобного. Я это вижу.
Нет, она никак не могла влюбиться в меня. Я знаком с ней только неделю.
Год, неделя, какая разница? Вещи случаются, и я не хочу, чтобы она страдала. Пожалуйста, будьте осторожны. Я Вас умоляю.
Опасения сбываются. Невинность становится виной, а слово надежда рифмуется с отчаяньем. Во всем Париже люди выбрасываются из окон. Метро затоплено человеческими экскрементами. Смерть выползает из могил. Конец второго акта. Занавес.
Третий акт. Уокер покидает квартиру Жуэ и входит в прохладную сентябрьскую ночь; никакого сомнения в том, что Хелен сказала ему правду. Он и сам подозревал это, а сейчас его подозрение подтвердилось; он понимает, пора менять стратегию. Для начала — больше не будет праздных дневных шатаний с Сесиль. Хоть ему и приятно проводить с ней время, он должен быть осторожен (да, Хелен была права), он должен быть очень осторожен с ней. Но что означает осторожен? Разорвать полностью отношения с ней выглядит чересчур жестоким, и все же, продолжая видеться с ней, может ли она воспринять продолжающиеся встречи за знак одобрения? Нет простого решения этой дилемме. Факт тот, что он должен видеться с ней, возможно, не так часто, как раньше, возможно, не столько часов вместе, но он должен видеться с ней, с кем он решает разделить свои мысли, кому он расскажет об убийстве Седрика Уилльямса. Сесиль поверит в его историю. Если он сначала пойдет к ее матери, тогда, скорее всего, Хелен не поверит. Но если Сесиль примет его сторону, тогда появятся и шансы, что и Хелен изменит свое мнение, поскольку, похоже, она доверяет во всем своей дочери.
Он звонит Марго на следующее утро, надеясь отвлечься от тины неопределенностей, проведя время в ее компании — зависит от ее настроения, конечно, и того, если она свободна.
Забавно, говорит Марго. Я как раз хотела позвонить тебе в отель.
Рад, отвечает Уокер. Означает, что мы думаем друг о друге в одно время. Телепатия — лучший индикатор крепких отношений между людьми.
Ты говоришь иногда странные вещи…
Хочешь сказать, почему ты хотела позвонить мне, или я должен рассказать тебе первым?
Сначала ты.
Очень просто. Я очень хочу тебя увидеть.
Я бы тоже очень хотела встретиться с тобой, но не могу. Вот, почему я хотела поговорить с тобой.
Что случилось?
Нет, ничего. Я уезжаю на неделю и хотела сказать тебе об этом.
Уезжаешь?
Да, в Лондон.
Лондон?
Почему ты все время повторяешь меня?
Извини. Но сейчас в Лондоне кто-то находится.
А также десять миллионов других людей. Ты о ком говоришь?
Я думаю, ты его знаешь.
А поточнее?
Борн. Он уехал в Лондон три дня тому назад.
И какая связь со мной?
Ты едешь на встречу с ним, да?
Не смеши меня.
Если ты действительно едешь на встречу с ним, я тебе этого не прощу.
Что в тебя вселилось? Конечно, я не еду к нему на встречу.
Тогда почему ты едешь?
Не надо, Адам. У тебя нет никакого права задавать мне такие вопросы.
Я думал, есть.
Я никому ничего не должна — по крайней мере, тебе.
Прости, веду себя как идиот, да? Снимаю свой вопрос.
Если хочешь знать, я еду к своей сестре. Она замужем за англичанином и живет в Хэмпстэде. Ее сыну исполняется три года, и я приглашена на празднование. Также — чтобы закончить всю картину — моя мать едет со мной.
Могу ли я тебя увидеть до отъезда?
Мы уезжаем в аэропорт через час.
Плохо. Я буду скучать по тебе. Очень, очень скучать.
Только восемь дней. Держись, малыш. Скоро вернусь.
После такого разговора с Марго он возвращается в свою комнату в отель и проводит несколько часов в тоске, совершенно без никаких сил для работы за письменным столом и без никакой возможности сконцентрироваться на чтении (Жорж Перек Les Choses: Une Histoire des années soixante), и прежде, чем он вновь возвращается к мыслям о Сесиль, он вспоминает, что сегодня — первый день ее учебы, и она, совсем недалеко от того, где он сейчас, сидит в классе и слушает разглагольствования какого-нибудь учителя о поэтическом метре Мольера, теребя пенал заточенных карандашей. Он будет сторониться ее некоторое время, говорит себе, и, когда его классы начнутся через восемь дней (в тот же день возвращается и Марго), тогда у него будет законный повод видеться с ней гораздо реже; и чем меньше времени они проведут вместе, тем быстрее пройдет ее увлечение им.
Следующие три дня он упорно придерживается режима молчания. Ни с кем не видится, ни с кем не разговаривает, и понемногу он начинает чувствовать себя увереннее в своем одиночестве, будто ограничение, напущенное им на себя, очистило его каким-то образом, вернуло его в состояния человека, каковым он представлял себя ранее. Он пишет две короткие поэмы, в которых появляется что-то стоящее (хорошо бы все, да только мечта о другом / хорошо б ничего, да только мечта не об этом), проводит всю вторую половину дня в размышлениях о сцене возрождения в фильме Дрейера и сочиняет длинное, очень эмоциональное письмо к Гвин о переменчивости неба Парижа, взглядом из окна его комнаты: Жить здесь означает стать знатоком облак, метеорологом капризов. Потом, на четвертый день, после того, как только что проснулся, пригубив первый глоток растворимого кофе, приготовленного им каждым утром на плитке позади кровати, раздается стук в дверь.
Еще не до конца проснувшийся, еще разомлевший от тепла постели, взъерошенный неодетый Уокер натягивает штаны и идет к двери, переступая носками босых ног и стараясь не зацепить занозу от торчащих дощечек пола. Вновь он думает, что это Морис, и вновь это не так, и, ожидая Мориса за дверью, он даже не удосуживается спросить, кто там.
Сесиль стоит перед ним. Она взволнованна, она кусает нижнюю губу, она то и дело вздрагивает, будто электрический разряд время от времени проходит через ее тело, и будто она готова оторваться от земли и взлететь.
Уокер говорит: Ты же должна быть в школе?
Не беспокойся о школе, отвечает она, проходя в дверь без приглашения. Это более важно, чем школа.
Ладно, это более важно, чем школа. Насколько?
Ты не позвонил мне ни разу после того ужина. Что произошло?
Ничего. Я был очень занят, только и всего. И я подумал, ты тоже. У тебя только что начались уроки на этой неделе, и ты по уши, наверное, в домашних заданиях. Я хотел предоставить тебе несколько дней, чтобы ты втянулась в учебу.
Это не так. Это совсем не так. Моя мать говорила с тобой, вот почему. Моя глупая мать говорила с тобой и напугала тебя. Хорошо, чтобы ты знал, моя мать не знает ничего обо мне. Я сама могу о себе позаботиться, спасибо за заботу.
Подожди, Сесиль, говорит Уокер, поднимая правую руку и оставнавливая ее речь открытой ладонью — жестом полицейского, регулирующего движение. Я встал три минуты назад, продолжает он, и все еще пытаюсь проснуться. Кофе. Вот, что я делал. Я пил кофе. Хочешь немного?
Я не люблю кофе. Ты знаешь это.
Чай?
Нет, спасибо.
Ладно. Ни кофе, ни чая. Пожалуйста, сядь хотя бы. А то я начинаю волноваться.
Он жестом приглашает ее сесть на стул, затем отодвигает этот стул для нее, и в то время, как Сесиль идет, он берет чашку кофе и подходит к постели. Он усаживается, провалившись в матрас в тот же самый момент, как она садится на скрипучий стул. Отчего-то это совпадение кажется ему смешным. Он глотает уже не горячий кофе и улыбается ей, надеясь, их совместное приземление было так же смешно и ей, но у Сесиль нет повода для смеха, она не улыбается ему в ответ.
Хелен, говорит он. Да, она говорила со мной. Это случилось, когда ты вышла из комнаты после пианино, и разговор длился пятнадцать-двадцать секунд. Она говорила, я слушал, но ничуть не напугался.
Нет?
Конечно, нет.
Точно?
Абсолютно.
Тогда почему ты исчез?
Я не исчез. Я хотел позвонить тебе в субботу или в воскресенье.
Правда?
Да, правда. Прекрати. Больше никаких вопросов, хорошо? Никаких сомнений. Я твой друг, и я хочу быть твоим другом.
Но лишь…
Хватит. Я хочу быть твоим другом, Сесиль, но не могу им оставаться, если ты мне не веришь.
Верить тебе? Ты о чем? Конечно, я тебе верю.
Не совсем. Мы провели вместе много времени, мы говорили о многом — книгах и философах, искусстве и музыке, фильмах, политике, даже обуви и шляпках — но ты никогда не рассказала мне о себе. Ты не должна скрывать ничего от меня. Я знаю, что такое проблемы. Я знаю, что бывает в семьях, когда что-то не так. В тот день, когда я рассказал тебе о моем брате Энди, я думал, что ты тоже расскажешь о себе, но ты не промолвила ни слова. Я знаю, что случилось с твоим отцом, Сесиль, я знаю, в каком аду ты и твоя мать живете, я знаю о разводе, я знаю о свадебных планах твоей матери. Почему ты даже не упомянула об этом? Мы же друзья. Мы же здесь, чтобы разделить боль, помочь друг другу.
Мне очень тяжело, говорит она, опуская глаза и разглядывая свои руки. Вот почему я так счастлива, когда с тобой. Потому что я не должна думать об этих вещах, потому что я могу позабыть о том, какой грязный и ужасный мир вокруг нас…
Она говорит, но он уже не слышит ее, его внимание на другом из-за внезапной мысли, пришедшей ему в голову, и он раздумывает, может быть, сейчас как раз и есть тот самый момент, чтобы рассказать ей его историю, историю Борна и Седрика Уилльямса, убийства Седрика Уилльямса, тот самый правильный момент, потому что после всех его уверений в дружбе она сможет внимательно выслушать его рассказ, спокойно воспринять описание жестокого поступка Борна, без последствий для хрупкого создания, как ее назвала мать, для этой дрожащей, грызущей ногти, ранимой Сесиль, в то же время проведшей лето за переводом поэмы столь жестокой, будто из ночного кошмара, что даже он был потрясен монологом-воем Кассандры о разорванных в клочья монстрах и сожженых городах и убийствах родных детей, но все это — в мире воображаемого насилия мифа давних от нас лет, а Борн при всем при этом — реальный человек, живущий, дышащий человек, кого она знает всю свою жизнь, человек, решивший жениться на ее матери, и неважно — за или против она этой женитьбы, что случится с ней, когда она узнает о том, на что способен этот человек, когда он расскажет об убийстве, виденном им своими собственными глазами, и, хоть и решив, что сейчас — самое лучшее время для разговора о случившемся в Нью Йорке прошедшей весной, он медлит, он никак не может собраться с силами, он не должен этого делать, он не сделает этого, и так выходит, он не будет вовлекать Сесиль, чтобы донести эту историю до ее матери, он сам пойдет к Хелен, и это лучшее решение, самое честное решение, и если при этом он даже и не добьется ничего, все равно — он не должен и не расскажет Сесиль ничего.
Все в порядке, Адам?
Колдовство ушло. Уокер смотрит на нее, качает утвердительно головой и улыбается ей короткой извинительной улыбкой. Прости, говорит он, я просто задумался.
О чем-то важном?
Нет, совсем нет. Я вспомнил ночной сон. Ты знаешь, как это бывает после пробуждения. Твое тело проснулось, а сознание все еще там, в постели.
Так ты не злишься на меня за то, что я пришла?
Совсем нет. Я рад, что ты пришла.
Я тебе нравлюсь, хоть чуть-чуть, да?
Это что за вопрос?
Ты думаешь, я некрасивая или страшная?
Не говори глупостей.
Я знаю, я некрасивая, но я и не уродина, да?
У тебя замечательное лицо, Сесиль. Деликатное лицо с красивыми, живыми глазами.
А почему ты никогда не прикасался ко мне и не пробовал поцеловать меня?
Что?
Ты слышал меня.
Почему? Я не знаю. Потому что я никогда не хотел просто использовать тебя, я полагаю.
Ты думаешь, я девственница, да?
Сказать честно, я вообще не думал об этом.
А я — нет. Чтобы ты знал, я уже не девственница и никогда уже не буду.
Поздравляю.
Это случилось прошлым месяцем в Бретани. Его звали Жан-Марк, и у нас было три раза. Он хороший человек, Жан-Марк, но я его не люблю. Ты понимаешь, о чем я?
Вроде.
И?
Дай мне немного времени.
Это что-то значит?
Это значит, что я все еще по уши влюблен в кого-то из Нью Йорка. Она порвала со мной прямо перед моим отъездом в Париж, и я все еще не отошел от этого, все еще пытаюсь как-то все это прожить. Я не готов ни к чему такому прямо сейчас.
Я понимаю.
Хорошо. Все становится гораздо проще.
Не проще — гораздо сложнее. Но ничего не изменится в самом конце.
Да?
Когда ты меня узнаешь получше, ты увидишь, у меня есть одно особое качество, чем я отличаюсь от всех остальных.
И что это за качество?
Терепение, Адам. Я самый терпеливый человек в мире.
В субботу, решает он. Хелен не работает. У Сесиль пол-дня учебы, и потому суббота — единственный день в неделе, когда он сможет пойти на квартиру Жуэ, зная, что там только одна Хелен. И он решает устроить встречу сейчас же, чтобы поговорить с ней, пока Борн все еще в Лондоне, и только сейчас нет никакого риска, что Борн может войти к ним прямо на середине разговора. Он звонит Хелен в клинику. Он говорит, что хочет поговорить с ней о чем-то важном о Сесиль. Нет, ничего страшного, говорит он, скорее наоборот, но ему нужно поговорить с ней, и будет лучше для всех, если Сесиль не будет присутствовать при разговоре. Тогда сама Хелен приглашает его прийти в субботу утром к ним на квартиру. Сесиль будет тогда в школе, и если он появится около девяти утра, они смогут закончить разговор до ее прихода. Что Вам приготовить? спрашивает она. Кофе или чай? Круассаны, бриоши или тосты? Кофе и тосты, говорит он. Йогурт? Да, йогурт будет как раз. На том и остановимся тогда. Он придет на завтрак в субботу утром. Голос Хелен услужлив, полон приветливости и соучастия; и Уокер меняет свое мнение о ней по окончании разговора. Похоже, она замкнута только с незнакомцами, но после какого-то времени она перестает быть навзводе и начинает выказывать ее истинные качества. И они все более и более нравятся ему. Хелен, очевидно, неплохо относится к нему, и, честно говоря, он к ней — тоже. Все больше поводов избавиться от Борна и чем скорее, тем лучше. Если это возможно. Если у него получится убедить ее.
Rue de Verneuil, субботнее утро. Первые полчаса Уокер говорит о Сесиль, пытаясь успокоить волнения Хелен из-за чувств дочери к нему и убедить, что ситуация не такая уж и отчаянная, как она могла подумать. Он рассказывает ей о разговоре с Сесиль в четверг (умолчав, что состоялся утром, когда она должна была быть в школе) и говорит об открытости их отношений. Сесиль знает, что его сердце все еще не здесь, что он все еще переживает разрыв с кем-то в Нью Йорке и совершенно не в состоянии начинать новые романтические отношения ни с кем.
Это правда, спрашивает его Хелен, или Вы просто придумали это, чтобы не обидеть ее?
Я не придумал, говорит Уокер.
Бедняжка. Трудное время для Вас.
Да. Но это не значит, что я не заслужил этого.
Не обратив внимания на загадочную фразу, Хелен продолжает: А что она сказала, когда Вы рассказали о Вашей… ситуации?
Она сказала, что поняла.
И это все? Не было никаких сцен?
Нет. Она была очень сдержанна.
Поразительно. Совсем непохоже на нее.
Я знаю, внутри — она вся натянута, мадам Жуэ, я знаю, она чувствует себя очень ужасно, но она — поразительный человек; и мне кажется, она гораздо сильнее, чем можно предположить.
Это, конечно, лишь Ваше мнение, но я хотела бы надеяться, что Вы правы.
Еще одно, и это будет Вам интересно, Вы сказали мне, что у нее нет никакого опыта общения с мужчинами — это неправда.
Надо же. И где у нее приключился этот опыт?
Я и так сказал слишком много. Если хотите знать больше, спросите сами у Сесиль. Я не шпион, в конце концов.
Я бестактна. Вы абсолютно правы. Простите за этот вопрос.
Я хотел сказать, что Сесиль взрослеет, и, похоже, Вы должны принять это. Вы не должны больше так беспокоиться о ней.
Это невозможно — не беспокоиться о ней. Это моя работа, Адам. Я беспокоюсь о Сесиль. Я беспокоюсь о ней всю мою жизнь.
[После слова жизнь в рукописи Уокера — разрыв, и разговор внезапно заканчивается. До этого места заметки были непрерывными, страницы плотно написанных без пропусков кусков текста, но здесь появляется пустое место величиной с четверть страницы; и, когда текст возобновляется ниже пустого места, интонация повествования меняется. Не так уж много и осталось в этой истории (мы на 28-ой странице сейчас, в трех страницах от конца), но Уокер отходит от тщательного, детального рассказа и быстро прописывает последние события повествования. Я могу только предположить, что он был на середине разговора с Хелен, закончив работу на день, и, когда он проснулся на следующее утро (если и спал вообще), его здоровье сильно ухудшилось. Это были последние дни его жизни, не забудьте, и он должно быть чувствовал себя слишком опустошенным, слишком вымотанным, слишком слабым, чтобы продолжать рукопись. Даже ранее, в первых двадцати восьми страницах, я заметил медленное, но нарастающее колебание его силы, потерю внимания к деталям, но сейчас он настолько обессилел для работы, что смог лишь перечислить последующие события. Он начинает Осень пространным описанием отеля, он упоминает, во что был одет Борн на их первой встрече в кафе, но понемногу описания исчезают, уступая место внутренним мыслям. Он прекращает говорить об одежде (Марго, Сесиль, Хелен — ни одного слова, во что они были одеты), и, только считая очень важным для смысла, он утруждает себя описанием окружения (пара фраз об атмосфере в Vagenende, пара фраз о квартире Жуэ), но в большинстве своем история состоит из мыслей и диалогов, о чем думают люди и о чем говорят. На последних трех страницах приход его кончины неостановим. Уокер исчезает из мира, он чувствует, как жизнь медленно покидает его тело, и, все же, он собирается с последними силами, садится за компьютер и доводит историю до конца.]
У. и Х. за обеденным столом. Кофе, хлеб и масло, чашка йогурта. Осталось совсем немного для разговора о С. Чтобы успеть, он должен подтолкнуть Х. в нужном направлении, начать говорить об ее муже, о Борне. Должен убедиться во всем перед разговором. Борн говорил о свадьбе весной, М. повторила это с добавлением информации о разводе, С. не опровергает, но с Х. еще не затронули эту тему. Как начать? Он начинает, упоминая Рудольфа, описывая их встречу в Нью Йорке в апреле, ничем не выдавая, что они далеко не друзья, затем рассказывает о возвращении Борна из Парижа в мае и как тот был воодушевлен, когда объявил о женитьбе на ней. Это правда? Х. кивает головой. Да, правда. Затем она говорит, что это было самое трудное решение в ее жизни. Захлебываясь словами, она начинает говорить об ее муже, рассказывает об автомобильной аварии в Пиренеях, неосторожный поворот, и машина падает в пропасть, госпиталь, страдания прошлых шести с половиной лет, подавленная происшедшим С. — поток слов, затем поток слез. У. с трудом продолжает разговор. Слезы стихают. Она извиняется стыдливо. Как странно, что она доверяет свою душу ему, говорит она, молодому человеку из Нью Йорка, который чуть старше ее дочери, еле знакомому. Но Рудольф очень высокого мнения о Вас, и Вы так добры к С. — может быть, это и есть причины для ее откровений.
Он уже почти отказывается от продолжения. Закрой свой рот, говорит он себе, оставь бедную женщину в покое. Но не может. Его злость слишком велика, чтобы совладать с ней, и он бросается с обрыва и начинает рассказывать ей о Седрике Уилльямсе и Риверсайд Драйв — сожалея тут же, ненавидя себя за сказанное, но остановиться уже невозможно. Х. слушает в потрясенном молчании. Его слова как удары топором, прямо по ее голове, он добивает ее.
Нет сомнения, она верит ему. Он видит это в ее взгляде на него — он говорит правду. Все равно. Он разрушает ее жизнь, и у нее нет никакого другого пути, как защитить себя. Как смеете Вы возводить такие ужасные обвинения — без доказательств, без ничего, что могло подтвердить сказанное Вами?
Я был там, говорит он. Доказательства в моих глазах, в том, что я видел.
Но она не принимает этого. Рудольф — состоявшийся профессор, интеллектуал, выходец из превосходнейшей семьи и т. д. он — ее друг, он помог прожить ей годы страданий, нет мужчины в мире, который бы сравнился с ним.
Твердый взгляд. Больше нет слез, нет жалости к самой себе. В гневе своей правоты.
У. встает, чтобы уйти. Больше нечего добавить. Только одно, что он и говорит перед самым уходом.: Я был обязан рассказать это. Остыньте от услышанного и Вы поймете, что для меня нет никакого смысла врать Вам. Я хочу, чтобы Вы и Сесиль были счастливы — только и всего — и я думаю, Вы совершаете ужасную ошибку. Если Вы не верите мне, тогда, сделайте одолженье, спросите Рудольфа — почему он постоянно носит в кармане этот нож.
Воскресное утро. Стук в дверь. Заспанный, небритый Морис, еще не отошедший от субботней попойки. Телефонный звонок для Вас, jeune homme.
У. спускается вниз к стойке портье и берет трубку. Голос Борна говорит: Я слышал, Вы рассказываете плохие вещи обо мне, Уокер. Я думал, мы понимали друг друга, а выходит так, что Вы отвернулись и ударили меня в спину. Как все евреи. Как все вонючие евреи со всеми вашими фальшивыми англо-саксонскими именами и лживыми грязными ртами. Вы знаете, есть законы. Вранье, лживые обвинения, распространение лживых обвинений. Почему бы Вам не уехать домой? Собирайте вещи и убирайтесь из Парижа. Заканчивайте Программу и вон отсюда. Если останетесь, то Вы пожалеете, Уокер, я это Вам обещаю. Я поджарю твою задницу так, что ты больше не сможешь сидеть на ней до конца твоей жизни.
Понедельник. День. Он стоит напротив Lyciie Fiinelon, ожидая выхода Сесиль. Когда она, наконец, выходит в окружении других школьниц, она смотрит на него и тут же отворачивается. Она уходит. У. бежит вслед за ней. Он хватает ее за локоть, но она сбрасывает его руку. Он вновь хватает ее, заставив ее остановиться. Что случилось? говорит он. Почему ты со мной не разговариваешь?
Как ты мог? отвечает она, кричя на него. Рассказать все эти ужасные вещи моей матери. Ты свихнулся, Адам. Ты отвратителен. Твой язык должен быть вырван из твоего рта.
Он пытается успокоить ее, чтобы она выслушала его.
Я не хочу больше тебя видеть.
Он пытается в последний раз переубедить ее.
Она начинает плакать. Затем плюет ему в лицо и уходит.
Понедельник. Ночь. Объемистая, жующая жвачку шлюха на rue Saint-Denis. Первый опыт постели с проституткой. Комната воняет средством против насекомых, потом и следами рвоты.
Вторник. Он проводит весь день, гуляя по Парижу. Он видит пастора, играющего со школьниками в Luxembourg Gardens. Он дает десять франков бродяге на rue Monge. Темное небо позднего сентября сгущается вокруг него, становясь из голубого темно-синим. У него больше нет никаких идей.
Вторник. Ночь. В три часа утра раздается громкий звук. Он спит, вымотанный длительным марафоном по городу. Кто-то стучит в дверь. Даже не кто-то один, а несколько. Армия кулаков долбится в его дверь.
Два полицейских в униформе, молодые французские жандармы с пистолетами в кобурах. Пожилой человек в деловом костюме. Пьяный Морис болтается возле двери. Они спрашивают, если зовут Адам Уокер — Уолк-эйр. Они спрашивают его бумаги, подразумевая его паспорт, и, когда он передает его одному из жандармов, они его не возвращают. Затем пожилой человек приказывает жандармам обыскать комод. Нижний ящик открыт, и оттуда извлекается огромный пакет, завернутый в алюминиевую фольгу. Жандарм передает пакет пожилому, который тут же начинает разворачивать фольгу. Гашиш, говорит он. Два с половиной килограмма, может, и все три.
Тонкая ирония в мести Борна. Тот, кто никогда не принимал наркотиков, обвинен в их хранении.
Они забирают его. На заднем сидении У. говорит пожилому человеку, что он невиновен, что кто-то подложил ему пакет, пока он гулял. Тот отвечает ему — заткнись.
Они ведут его в здание, оставляют в комнате и запирают на замок. Он не знает, где он находится. Лишь только, что он сидит в небольшой пустой комнате где-то в Париже с наручниками на запястьях. Он арестован? Не похоже. Никто не сказал ему и слова об этом, и, странным образом, его не сфотографировали и не взяли отпечатков пальцев, и он сидит в этой небольшой пустой комнате, а не в камере какой-нибудь тюрьмы.
Он сидит так почти семь часов. В десять тридцать его выводят из здания и везут в Palais de Justice. Наручники сняты. Он заходит в кабинет и говорит с мужчиной, назвавшим себя juge d’instruction. Он может быть и тем, кем назвался, но У. сомневается в этом. Он все более и более убеждается, что все происходящее — фарс, срежиссированный Рудольфом Борном, и все мужчины и женщины лишь актеры.
Судебный служитель, допустим, что он и есть судебный служитель, говорит У., что он очень счастливый молодой человек. Обладать таким огромным количеством запрещенных наркотиков — серьезное преступление во Франции, наказуемое Х-сколько годами тюрьмы. Большая удача для У., что один человек с влиятельными связями в правительственных кругах выступил в его защиту, прося прощения для него, опираясь на незапятнанное прошлое обвиняемого. Министерство Юстиции решило заключить сделку с У. Они снимают все обвинения в ответ на его согласие быть депортированным. Он никогда не будет допущен вновь на территорию Франции, но при этом останется свободным человеком в своей стране.
Juge d’instruction выдвигает ящик своего письменного стола и достает паспорт У. (держа в правой руке) и билет на самолет (в левой руке). Это одноразовое предложение, говорит он. Соглашайтесь или нет.
У. соглашается.
Хорошо, говорит человек. Мудрое решение. Самолет вылетает в три часа дня. У Вас будет достаточно времени, чтобы вернуться в отель и собрать вещи. Офицер будет сопровождать Вас, конечно, но как только самолет взлетит и покинет территорию Франции, дело будет закрыто. Мы надеемся на то, что это последний раз, когда можем видеть Вас. Приятного путешествия, мистер Уокер.
Так заканчивается краткое пребывание У. в стране галлов — выгнан, унижен, под запретом на всю жизнь.
Он больше никогда не вернется туда, и он больше не увидится снова ни с кем.
Прощай, Марго. Прощай, Сесиль. Прощай, Хелен.
Сорок лет спустя они не более реальны, чем призраки.
Они все сейчас призраки, и У. тоже скоро будет с ними.
IV
Полет назад в самолете из Сан Франсиско в Нью Йорк я провел в поисках в моей памяти того самого момента, когда я впервые заметил Уокера осенью 1967 года. Я и не знал, что он уехал учиться в Париж на год, но после нескольких дней в семестре, когда у нас состоялось первое редакционное совещание Коламбия Ревью (Адам и я были тогда в редакции), я заметил его отсутствие. Что случилось с Уокером? я спросил кого-то, и тогда я узнал, что он был в Европе, участвуя в Программе годового обучения за пределами страны. Очень скоро после этого (неделя? десять дней?) он внезапно снова появился. Я ходил на лекции Эдварда Тайлера о поэзии шестнадцатого и семнадцатого веков (Уайетт, Серрей, Рэйли, Гревилл, Херберт, Донн), тот самый Тайлер, преподававший прошедшей весной Мильтона. Уокер и я были в том классе вместе, и мы оба считали тогда, что Тайлер без сомнения был лучшим преподавателем на факультете Английского языка. К осенним лекциям, в основном, допускались лишь выпускники, и потому я был на седьмом небе, получивший разрешение третьекурсник, и я отрабатывал как только мог для умного, ироничного, немногословного, эрудированного Тайлера, мечтая заслужить одобрительное уважение этого требовательного, всеми обожаемого человека. Лекции шли два раза в неделю по полтора часа, и на третьей или четвертой лекции безо всякого объяснения появился Уокер, тринадцатый слушатель в классе, официально ограниченном двенадцатью студентами.
Мы поговорили в коридоре после лекции, но Адам выглядел очень рассеяным, неохотно отвечающим на вопросы о его внезапном возвращении в Нью Йорк (теперь я знаю, почему). Он упомянул, что Программа в Париже оказалась полным разочарованием для него, что предметы, к которым он был допущен, были недостаточно интересны (только грамматика, никакой литературы), и, чтобы не терять год в подвале французской образовательной бюрократии, он предпочел вернуться. Его скоропалительный уход из Программы принес ему ожидаемые трудности, но Колумбийский университет отреагировал на происшедшее с необычным дружелюбием, так ему показалось, и, хоть классы уже начались, когда он покинул Париж, после долгой беседы с одним из деканов он был восстановлен в своем студенчестве — ему не надо было опасаться набора в армию, по крайней мере следующие четыре семестра. Единственной проблемой для него было отсутствие жилья. Он делил свое предыдущее жилье с сестрой в июле и августе, но после убытия, как он думал на целый года, она нашла — с кем разделить квартиру, и теперь у него не было ни кола и ни двора. Некоторое время он ночевал у разных друзей пока искал себе новый адрес. Как раз, сказал он, бросив взгляд на свои часы, у него была назначена встреча через двадцать минут, чтобы ознакомиться с небольшой студией на 109-ой Стрит, и ему пора уходить. Пока, сказал он и поспешил к лестнице на выход.
Я знал, что у Адама была сестра, но это было первый раз, когда я услышал о ней, живущей в Нью Йорке — в Морнингсайд Хайтс, никак не меньше, и заканчивающей свое обучение по английскому языку выпуском в Колумбийском университете. Спустя две недели я увидел ее в кампусе. Она шла мимо статуи мыслителя Родена по пути в Философи Холл, и, увидев ее очень сильное, почти невероятное сходство с ее братом, я тут же догадался, что эта молодая женщина, проходящая мимо меня, и есть сестра Уокера. Я уже писал, как красива она была, но, просто сказав, не значит ничего по сравнению с тем, какое впечатление она произвела на меня. Гвин сияла красотой, светилась ею, вызывая бурю эмоций у любого мужчины, посмотревшего на нее; и увидеть ее в первый раз — было одним из замечательных событий в моей жизни. Я возжелал ее — с первой секунды — и со страстной упрямостью мечтателя я решил с ней познакомиться.
Ничего не произошло. Я был знаком с ней лишь чуть-чуть, мы встретились за кофе пару раз. Я попросил пойти со мной в кино (она отказалась), я пригласил ее на концерт (она отказалась), и потом, случайно, встретились однажды вечером в большом китайском ресторане и побеседовали полчаса о поэзии Эмили Дикинсон. Через некоторое время я вызвался проводить ее через Риверсайд Парк, попытался поцеловать ее, но был остановлен. Не надо, Джим, сказала она. У меня уже есть кто-то. Я не могу так.
Вот и все. Несколько взмахов бейсбольной битой, не попал по мячу, игра закончена. Мир раскололся, потом мир сам по себе собрался, а я поплелся дальше. К моему великому везению, я живу с одной и той же женщиной почти тридцать лет. Я не могу представить мою жизнь без нее, и все равно, каждый раз, когда Гвин возникает в моей голове, признаюсь, начинаю чувствовать волнение. Она была самой невозможной, самой недостижимой, самой неземной — призрак страны под названием Если.
Невидимая Америка лежит молча в темноте внизу. Сидя в салоне реактивного самолета, летящего из Сан Франсиско в Нью Йорк, возвращаясь к черным дням прошлого 1967 года, я понимаю, что должен буду написать ей письмо моих соболезнований на следующее утро.
Оказалось, что Гвин решила связаться со мной первой. Когда я вошел в дверь моего дома в Бруклине, моя жена порывисто обнял меня (я позвонил ей из Сан Франсиско, она знала о смерти Адама) и затем сказала, что сегодня до моего приезда было оставлено сообщение на телефоне женщиной по имени Гвин Тедеско.
Похоже, это та Гвин? спросила она.
Я позвонил ей в десять тридцать на следующее утро. Ранее я хотел написать письмо, чтобы выразить мои чувства на бумаге, чтобы выразить ей не пустые затасканные клише, часто используемые в такие времена, но ее сообщение звучало немного тревожно, какое-то важное дело она хотела обсудить со мной, так что я позвонил ей, не написав ни строчки.
Ее голос был тот же, поразительно тот же, очаровавший меня сорок лет тому назад. Притягивающий приветливостью, кристальное произношение, явный средне-атлантический акцент ее детства. Голос был тот же, но Гвин была уже не той же, и в продолжение разговора я начал проецировать в своей голове различные изображения ее, прикидывая — к лучшему или к худшему время изменило ее лицо. Ей было шестьдесят один год, и, внезапно, я понял, что у меня нет никакого желания вновь увидеться с ней. Я был бы только разочарован, и я не хотел уничтожить мои волнительные впечатления прошлого видом настоящего.
Мы обменялись обычными банальностями, поговорили несколько минут об Адаме и его смерти, о том, как тяжело было для нее принять случившееся, о жестоких ударах судьбы, заготовленных жизнью для нас. Затем мы поделились своим прошлым, рассказывая о наших семьях, наших детях и наших работах — комфортабельная болтовня, очень дружеская с обоих сторон, настолько, что я даже спросил ее, если она помнит тот день в Риверсайд Парке, когда я попытался поцеловать ее. Конечно, помню, сказала она, рассмеясь впервые за время нашего разговора, но как она могла знать, что тот хиляк Джим-студент вырастет в Джеймса Фримена? Я все еще студент, сказал я. И я все еще Джим. Уже не такой хилый, но все еще Джим.
Да, разговор был очень любезный, и, несмотря на то, что мы исчезли из вида друга друга на несколько десятков лет, Гвин говорила, будто ничего или почти ничего не прошло с последней нашей встречи, будто все десятилетия уложились в какие-то месяц или два. Ее дружеский тон усыпил меня, и пока моя оборона сладко спала, когда она подошла к тому месту в разговоре о деле, когда она наконец объяснила, зачем она позвонила мне, я совершил ужасную ошибку. Я сказал ей правду, я должен был соврать.
Адам послал мне электронное письмо, сказала она, длинное письмо, написанное за несколько дней до… за несколько дней до конца. Это было прекрасное письмо, прощальное письмо, сейчас я понимаю это, и в одной из частей, в конце, он упомянул, что пишет что-то, что-то вроде книги, и, если бы я захотела прочесть это, я должна была бы связаться с тобой. Но только после его смерти. Он очень настаивал на этом. Только после смерти. Он также предупредил меня, что я могу быть очень огорчена рукописью. Он извинился за будущее, прося прощение, если книга как-нибудь обидит меня, а затем он сказал нет, не беспокойся, забудь обо всем. Он выражался очень путанно. В следующем предложении он вновь написал мне, что если я захочу, то у меня будет право увидеть это, и если я действительно захочу, я должна найти тебя, поскольку копия была только у тебя. Я никак не поняла эту часть. Если он напечатал рукопись на компьютере, почему он не записал ее в память?
Он сказал Ребекке стереть, объяснил я. В компьютере уже ничего нет, и только одна копия, напечатанная им, была послана мне.
Значит, книга существует…
В каком-то виде. Он даже хотел написать три части. Первые две — в более-менее приличной форме, но он не смог закончить третью. Только заметки, наброски.
Он хотел, чтобы ты помог ему опубликовать?
Он никогда не говорил о публикации, не впрямую, в любом случае. Все, что он хотел, чтобы я прочитал рукопись, а потом решил, что делать с этим дальше.
Ты решил?
Нет. Сказать правду, я даже и не думал еще об этом. До тех пор, пока ты не упомянула о публикации, идея даже не приходила в мою голову.
Я думаю, я должна посмотреть, да?
Не уверен. Тебе решать, Гвин. Если хочешь прочитать, я сделаю копию и пошлю экспресс-почтой сегодня.
Я огорчусь?
Возможно.
Возможно?
Не из-за всего, но из-за пары вещей, да.
Пара вещей. Вот как.
Не волнуйся. В настоящее время я передаю ответственность в твои руки. Ни одного слова из книги Адама не будет напечатано без твоего согласия.
Посылай, Джим. Пошли сегодня. Я уже не маленькая и знаю, как проглотить пилюлю.
Как было бы проще, если бы я не подтвердил существование книги или сказал бы ей, что каким-то образом потерял ее, или что Адам обещал послать мне, но так никогда и не сделал этого. Я был пойман врасплох и не смог быстро придумать правдоподобное вранье. Хуже того, я сказал Гвин о трех частях книги. Только вторая могла потенциально причинить ей боль (и пару ремарк в третьей, легко было бы избавиться от них), и если бы я сказал, что Адам написал только две части, Весна и Осень, она была бы избавлена от возвращения в прошлое, в квартиру на Уэст 107-ой Стрит и вновь прожить события того лета. Но сейчас она ожидала три части, и, если бы я послал ей только две, она бы тут же позвонила мне и спросила бы о недостающих страницах. В общем, я сделал копию всего — Весна, Лето и заметки для Осени — и послал на ее адрес в Бостон во второй половине дня. Не самое лучшее, что я мог сделать для нее, но у меня не было выбора. Она хотела прочесть книгу брата, а единственная копия в мире была только у меня.
Она позвонила через два дня. Я не знал, что ожидать от ее звонка, но я уже был готов к бурным эмоциям — слезы злости, угрозы, стыд от открытых миру тайн — но Гвин была ненормально спокойна, скорее бесчувственна, чем оскорблена, я думаю, как если бы она была озадаченная, оглушенная книгой.
Я не понимаю, сказала она. Большинство описано у него очень точно, абсолютно правильно, и там же есть совершенно придуманные вещи. Не понимаю.
Какие вещи? спросил я, прекрасно понимая, о чем она.
Я любила своего брата, Джим. Когда я была юной, он был самым близким мне человеком. Но я никогда не спала с ним. Не было никакого великого эксперимента в детстве. Не было никаких кровосмесительных отношений летом 1967 года. Да, мы жили в одной квартире два месяца, но у нас были раздельные спальни, и между нами никогда не было секса. Что написал Адам — чистейший вымысел.
Возможно мой вопрос неуместен, но почему он вдруг выдумал подобное? Особенно, если остальная часть его истории — правда.
Я не знаю, если все остальное — правда. По крайней мере, я не могу проверить, насколько правдиво. Но все остальное совпадает с тем, что Адам рассказал мне тогда, сорок лет тому назад. Я никогда не видела Борна или Марго, Сесиль или Хелен. Я не была с Адамом в Нью Йорке той весной. Я не была с ним в Париже той осенью. Это он рассказал мне о тех людях, и все рассказанное о 1967 годе совпадает с тем, что он написал в книге.
Тем более странно тогда, что он выдумал про тебя.
Я знаю, ты мне не веришь. Я знаю, ты думаешь — я стараюсь защитить себя, и что я не хочу признаться в будто бы происшедшем. Но ничего такого не было, клянусь. Я думаю об этом весь день, и один лишь ответ в моей голове — фантазии умирающего человека, мечта о желаемом, но несбывшемся.
Желаемом?
Да, желаемом. Я не отрицаю те чувства, витавшие между нами, но я никогда не хотела принять их. Адам был очень привязан ко мне, Джим. Не очень здоровая привязанность, и после того совместного лета, он начал говорить мне, что он не может смотреть на других женщин, что я была только той женщиной, в которую он мог бы влюбиться, и если бы мы не стали братом и сестрой, то он женился бы на мне в тот же момент. Вроде шутки, конечно, но мне это не понравилось. Если честно, я очень обрадовалась, когда он уехал в Париж.
Интересно.
И потом, как мы оба знаем, меньше, чем через месяц, он вернулся — выгнан с позором, как он объяснил мне тогда. Но у меня уже была соседка, и Адам должен был найти комнату для себя. Мы оставались друзьями, лучшими друзьями, но я начала удерживать его на дистанции, чтобы отдалиться от него для его же блага. Ты много виделся с ним в последние два года университета, но как часто ты видел его со мной?
Стараюсь вспомнить… Совсем немного. Пару раз.
Вот видишь.
Ну, и что теперь с его книгой? Кладем в стол и забываем?
Не обязательно. В таком виде книга непечатаема. Не потому, что неправда — по крайней мере, часть — но если эти страницы всплывут, они могут огорчить многих людей. Я замужем, Адам. У меня две дочери и трое внуков, много родственников, сотня друзей, приемная племянница, я очень люблю ее, и это будет преступлением, если книга будет напечатана, как она написана. Согласен?
Да, да. Я со всем согласен.
А с другой стороны, книга произвела на меня очень глубокое впечатление. Она показала мне брата с совершенно неожиданной стороны, с удивившей меня стороны, и, если мы сможем изменить книгу в более печатное, я не буду против.
Я немного запутался. Как ты собираешься сделать непечатаемую книгу печатаемой?
А здесь поможешь ты. Если тебе это неинтересно, мы позабудем обо всем и больше не будем к этому возвращаться. Но если ты хочешь помочь, тогда вот, что я предлагаю. Ты берешь заметки к третьей части и придаешь им читаемый вид. Для тебя это не будет слишком сложно сделать. Я не смогу, но ты писатель, ты знаешь, как. Затем, самое важное, ты пройдешься по рукописи и изменишь все имена. Помнишь, старое телевизионное шоу в пятидесятых? Имена должны быть изменены, чтобы защитить невиновных. Ты меняешь имена людей и места, ты добавляешь или вырезаешь по твоему вкусу, а потом ты печатаешь книгу под своим именем.
Но тогда это уже будет не книга Адама. Не совсем честно. Будто краду… будто странная форма плагиата.
Нет, если ты все сделаешь правильно. Если ты упомянешь свою благодарность Адаму за места, написанные им — настоящему Адаму под вымышленным именем — тогда ты ничего у него не украдешь, ты выкажешь ему почет.
Но никто не узнает, что это Адам.
Какая разница? Ты и я будем знать, и, по-моему, мы и есть только те, для кого книга будет важна.
Ты забываешь о моей жене.
Ты ей доверяешь, полностью?
Конечно, я доверяю ей.
Тогда трое нас и будут знать все.
Не уверен, Гвин. Мне надо подумать. Мне нужно время, хорошо?
Сколько хочешь. Не торопись.
Ее сторона истории была убедительна, более чем правдоподобна, чувствовал я, и, ради нее, я хотел бы ей поверить. Но я не мог, по крайней мере, до конца, по крайней мере, без сильного сомненья, что текст Лето был прожившим опытом, а не какой-нибудь похотливой мечтой больного умирающего. Чтобы удовлетворить мое любопытство я взял день отдыха от книги, над которой тогда работал, и поехал в Колумбийский университет, где я узнал от администратора факультета Международных Отношений, что Рудольф Борн работал профессором по приглашению в течение 1966-67 учебного года; а потом, после некоторого времени, проведенного в комнате микрофильмов библиотеки Батлера, в том самом Замке Зевоты, где Уокер работал одно лето, я нашел, что тело восемнадцатилетнего Седрика Уилльямса было обнаружено майским утром в Риверсайд Парк с многочисленными ножевыми ранениями в груди и верхней части тела. Другие вещи, как назвала их Гвин, были аккуратно выписаны в рукописи Уокера, и, если эти другие вещи были правдивы, почему он стал утруждать себя фабрикацией неправды, открывая всеобщему обозрению детальное, само-унижающее описание кровосмесительной любви? Возможно, версия Гвин двух летних месяцев правдива, но и также возможно, что она врала мне. И даже если она и врала, кто стал бы обвинять ее в нежелании обнародовать те факты? Кто угодно стал бы врать в ее ситуации, каждый бы врал, ложь была бы единственной альтернативой. По дороге в Бруклин в метро я решил, что происшедшее не важно для меня. Важно ей, но не мне.
Несколько месяцев прошло, и все это время я почти не думал о предложении Гвин. Я трудился над моей книгой, подходя к заключительной части романа, поглотившего несколько лет моей жизни; и Уокер и его сестра стали уходить из моих мыслей, таяли, превращаясь в еле видимые фигуры на далеком горизонте моего сознания. Когда книга Адама случайно появлялась в моей памяти, я был твердо уверен, что не хочу более иметь ничего общего с ней, что эпизод в моей жизни закончен. После этого произошли два события, поменявшие полностью мое отношение. Я закончил мою книгу, что означало — я мог теперь обратить свое внимание на что-то другое, и еще то, что я наткнулся на новую информацию, связанную с историей Уокера, кода, как бы, последняя небольшая глава, новый взгляд для меня — и все сдвинулось.
Я уже описал, как я прошелся по заметкам Уокера к Осени. Что касается имен, они были придуманы по просьбе Гвин, и читатель мог быть уверен, что Адам Уокер это не Адам Уокер. Гвин Уокер Тедеско — не Гвин Уокер Тедеско. Марго Жоффруа — не Марго Жоффруа. Хелен и Сесиль Жуэ — не Хелен и Сесиль Жуэ. Седрик Уилльямс — не Седрик Уилльямс. Сандра Уилльямс — не Сандра Уилльямс, а ее дочь Ребекка — не Ребекка. Даже Борн — не Борн. Его настоящее имя было близко по звучанию к другому провенсальскому поэту, и я решил заменить перевод этого другого поэта не-Уокером своим собственным переводом, так что ремарка об Аде Данте на первой странице книги не существовала в не-Уокерской рукописи. И в самом конце, я полагаю лишним добавить, что мое имя не Джим.
Уэстфилд, Нью Джерси — не Уэстфилд, Нью Джерси. Эхо-озеро — не Эхо-озеро. Оуклэнд, Калифорния — не Оуклэнд, Калифорния. Бостон — не Бостон, и, хоть не-Гвин работает в издательстве, она — не директор университетского издательства. Нью Йорк — не Нью Йорк. Колумбийский университет — не Колумбийский университет, но Париж — это Париж. Только Париж реален. Я решил его оставить, поскольку Hуtel du Sud исчез много лет тому назад, и все записи о пребывании не-Уокере в 1967 году исчезли вместе с отелем.
Я закончил мой роман летом 2007 года. Вскоре после этого моя жена и я решили поехать в Париж (дочь ее сестры выходила замуж за француза в октябре), и разговоры о Париже вернули мне мысли о Уокере. Мне стало интересно, если бы я смог найти кого-нибудь из драмы неудавшейся мести, сочиненной им сорок лет тому назад, и если бы я смог, то захотели бы они поговорить со мной об этом. Борн представлял особенный интерес, но я был бы очень доволен увидеться с кем угодно — Марго, Хелен или Сесиль. Первых трех я не смог найти, но когда я загуглил имя Сесиль Жуэ для поиска на интернете, безмерное количество информации вылетело на мой экран. После моего знакомства с восемнадцатилетней девушкой в рукописи Уокера, я не был удивлен ее бурному росту в литературных науках. Она преподавала в университетах Лиона и Парижа, а последние десять лет она была связана с НЦНР (Национальный Центр Научных Разработок), принимая участие в исследованиях манускриптов французских писателей восемнадцатого и девятнадцатого веков. Ее специальностью был Бальзак, о ком она выпустила две книги, при этом упоминалось бесчисленное количество статей журналов и книг, полный каталог работ за три десятка лет. Неплохо, подумал я. Неплохо и для меня, так что я смогу написать ей письмо.
Мы обменялись двумя короткими посланиями. В моем — я представил себя другом Уокера, рассказал новость об его недавней смерти и спросил ее, если бы было возможным встретиться во время моего будущего визита в Париж. Коротко и ясно, без вопросов о свадьбе ее матери с Борном, ничего о записках Уокера к Осени, лишь просьба о встрече в октябре. Она написала ответ. В моем переводе ее письмо гласит:
Я потрясена смертью Адама. Я знала его короткое время, когда была молодой девушкой в Париже много лет тому назад, но я всегда помнила его. Он был первой любовью в моей жизни, и тогда я грубо обошлась с ним, так жестоко и незабываемо, что до сих пор висит тяжелым грузом на моей совести. Я послала ему письмо извинений после его отъезда в Нью Йорк, но конверт вернулся с пометкой получатель неизвестен.
Да, я с радостью увижусь с Вами по приезду в Париж в следующем месяце. При этом я должна Вас предупредить, что я чудаковатая пожилая женщина и не могу контролировать мои эмоции. Если мы заговорим об Адаме (я понимаю, обязательно случится), я могу заплакать. Но Вы не должны принимать это на свой счет.
Пятьдесят восемь — это не пожилой возраст, конечно, и я сомневаюсь, что Сесиль Жуэ могла быть описана как чудаковатая особа. Чувство юмора, безусловно, никуда не делось, и, добившись успеха в ее узком мире академических исследований, она должна была понимать особенности выбранной ею жизни: одиночество в крохотных комнатах библиотек и хранилищ, разбирая рукописи умерших, карьера, проведенная в беззвучных владениях пыли. В послесловии к письму она добавила, как смешно она выглядит во время работы. Она узнала мое имя, написала она, и если я был тот самый Джеймс Фримен, не желал бы я принять участие в опросе, проводимом ее научной группой, о методах сочинения современных писателей. Компьютер или печатающая машинка, карандаш или ручка, тетрадь или отдельные листы, сколько вариантов для окончательного выбора. Да, я знаю, добавила она, очень нудные вопросы. Но это наша работа в Центре: сделать мир как можно больше нуднее.
Само-ирония была в ее письме, но так же присутствовала и горечь; и я был даже как-то удивлен живостью ее воспоминаний об Уокере. Она знала его лишь пару недель в тех далеких днях ее девичества, и все же их дружба должно быть выявила что-то в ней, изменив ее восприятие самой себя, представив ее впервые перед лицом столкновения с глубинами ее сердца. Я всегда помнила его. Он был первой любовью в моей жизни. Я не был готов услышать такое откровение. В записках Уокера говорилось о проблемах ее растущего чувства к нему, но, оказалось, ее чувство было намного глубже, чем он представлял. И тот плевок в его лицо. В то время она, должно быть, считала себя правой. Он оскорбил Борна, он обидел ее мать, и Сесиль почувствовала себя преданной. Но потом, совсем скоро, она написал ему письмо извинений. Изменила ли она свое мнение? Что-то случилось, доказав правоту Уокера? Это был мой первый вопрос, который я решил задать ей.
Моя жена и я заказали номер в Hуtel d’Aubusson на rue Dauphine. Мы и раньше останавливались там, останавливались и в других отелях Парижа в разное время, но я хотел вернуться на rue Dauphine в этот раз, поскольку он находился в близи от места, где жил Уокер в 1967 году. Hуtel du Sud должно быть уже не существовало, но многие другие места его посещений — все еще были. Vagenende — все еще действовал. La Palette и Cafii Conti — все еще были открыты для публики, и даже кафетерия на rue Mazet — все еще продолжала снабжать голодных студентов несъедобной едой. Очень много изменилось за сорок лет, и, когда-то небогатый район превратился в одно из самых фешенебельных мест Парижа, но большинство мест из рассказа Уокера продолжали существовать. На следующее утро после въезда в отель моя жена и я отправились прогуляться по улицам на несколько часов. Каждый раз, когда я указывал ей на те места, она сжимала мою руку и посылала мне небольшую саркастическую улыбку. Ты неисправим, наконец сказала она. Никогда, ответил я. Просто вживаюсь в атмосферу… готовлюсь к завтрашнему.
Сесиль Жуэ появилась в баре отеля на следующий день в четыре часа, держа в левой руке небольшую кожаную сумочку. По сравнению с описанием Уокера в Осени, ее тело претерпело сильные изменения с 1967 года. Тонкая, узкоплечая восемнадцатилетняя девушка была сейчас круглотелой, пухлой женщиной пятидесяти восьми лет с короткой стрижкой коричневых волос (крашеные, были видны седые корни волос, когда она пожала мою руку и села напротив), немного морщин на лице, слегка выдающийся подбородок и все те же внимательные, проницательные глаза, описанные Уокером при их первой встрече. Ее поведение, пожалуй, было немного застенчивым, но она уже не была более тем дрожащим, грызущим ногти комком нервов, принесшим столько волнений ее матери в прошлом. Теперь она была женщиной, знающей себя, женщиной, прошедшей огромный путь лет с тех пор, когда Уокер знал ее. Через несколько секунд, как она села, я был немного удивлен, увидев ее, достающую пачку сигарет, а потом, через несколько минут, и тем, что она была курильщиком со стажем с глубоким прерывистым кашлем и грубым голосом табачного ветерана. Когда бармэн появился у нашего столика и спросил о наших пожеланиях, она заказала виски. Ничего себе. Тогда уж и мне тоже.
Я был готов ко встрече с эксцентричной, чувственной училкой. Сесиль, может, и была немного эксцентричной, но все-таки женщина, с которой я тогда встретился, была очень земной, веселой, приятной в беседе. Она была одета с простой элегантностью (знак уверенности, я полагаю, знак самоуважения), и, хоть, при этом она не красила ни губ и ни ногтей, выглядела она по-настоящему женственной в ее сером шерстяном костюме — с серебрянными браслетами на запястьях и ярким, многоцветным шарфом вокруг шеи. Во время нашего долгого двух-часового разговора я обнаружил, что она провела пятнадцать лет под лечебным психоанализом (в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет), что она вышла замуж и развелась, вновь вышла замуж за мужчину старше ее на двадцать лет (умер в 1999 году), и что у нее нет детей. К последним словам она добавила: Сожалею — да, но, по правде, я была бы плохой матерью. Нет способностей, Вы поймите.
Первые двадцать или тридцать минут мы, в основном, говорили об Адаме. Сесиль хотела знать все, что я мог рассказать ей об его жизни после того, как она потеряла связь с ним. Я объяснил, что тоже потерял, и поскольку мы возобновили наши отношения лишь перед его смертью, мой ресурс информации исчерпывается письмом, написанным им прошлой весной. Постепенно я рассказал ей об упомянутых Уокером важных моментах — падение с лестницы и сломанная нога в ночь после выпуска из университета, удачный номер в лотерее армейского призыва, переезд в Лондон и годы писаний и переводов, публикация единственной книги, решение бросить поэзию и начать изучать право, его социальная работа в северной Калифорнии, женитьба на Сандре Уилльямс, трудности межрасового брака в Америке, его приемная дочь Ребекка и ее двое детей — и потом я добавил, что если бы она захотела узнать еще больше, она должна была бы встретиться с его сестрой, та с радостью бы дополнила мой рассказ до мельчайших деталей. Как и обещала, Сесиль заплакала навзрыд. Меня тронуло ее знание самой себя, точное предсказание слез, но при этом, зная об их приближении, она не заставляла себя плачем. Это были подлинные, спонтанные слезы, и, хоть я и ожидал их, все равно мне стало очень жаль ее.
Она сказала: Он жил неподалеку, Вы знаете. Всего пол-минуты отсюда, на rue Mazarine. Я прошла то место по пути сюда — я здесь впервые за долгое время. Странно, не правда ли? Странно, что отеля должно быть уже нет, того ужасного, разваливавшегося на части, места, где жил Адам. Но оно все так же живо в моей памяти, как оно может уже больше не существовать? Я была там лишь однажды, один раз на час или два, но я не могу забыть этого, тот день все еще горит внутри меня. Я пошла туда, потому что я разозлилась на него. Однажды утром. Я пропустила школу и пошла в отель. Я поднялась по шатающейся лестнице, я постучала в его дверь. Я хотела задушить его, как я была зла, потому что я любила его. Я была дурой, понимаете, никому ненужным гадким утенком, неловкой дурочкой с очками на носу и вечно дрожащим сердцем; и я безрассудно влюбилась в такого парня, как Адам, в прекрасного Адама; зачем, Боже мой, он вообще заговорил со мной? Он стал близок мне. Он успокаивал меня. Он был добр ко мне, так добр, что моя жизнь была вся в его руках, а он был так добр ко мне. Я должна была знать, каким прекрасным человеком он был. Я не должна была сомневаться ни в одном его слове. Адам. Я мечтала о поцелуе с ним. Все, что я хотела — поцеловаться с Адамом, отдать себя ему — но мое время ушло, а мы так и не поцеловались, мы так и прикоснулись друг к другу, а потом его не стало.
Вот тогда Сесиль и заплакала навзрыд. Прошло две или три минуты, пока она смогла вновь заговорить, и в продолжение разговора она сказала то, что открыло дверь на следующий уровень нашей встречи. Извините, пробормотала она. Я несу чушь, как сумасшедшая. Вы же не знаете, о чем я.
Я знаю, сказал я. Я знаю совершенно точно, о чем Вы говорите.
Откуда Вы можете знать?
Поверьте, я знаю. Вы разозлились на Адама из-за того, что он не звонил Вам несколько дней. Ночью, перед первым днем Вашей школы, у него был ужин с Вами и Вашей матерью в квартире на rue de Verneuil. После десерта Вы сыграли на пианино для него — двух-частевую композицию Баха — и потом, пока Вас не было в комнате, Ваша мать успела поговорить с Адамом с глазу на глаз; и то, что она сказала ему, по-Вашему, напугало его.
Он рассказал Вам это?
Нет, он не рассказывал ничего. Но он написал об этом, а я прочитал написанное им.
Он послал Вам письмо?
Это была небольшая книга, вообще-то. Или попытка написать роман. Он провел последние месяцы жизни, работая над мемуарами о 1967 годе. Это был очень важный год для него.
Да, очень важный год. Кажется, я начинаю понимать.
Если бы не рукопись Адама, я бы никогда не узнал о Вас.
А сейчас Вы хотите узнать, что случилось потом, да?
Я вижу, почему Адам считал Вас умницей. Вы схватываете на лету.
Сесиль улыбнулась и зажгла очередную сигарету. Похоже, у Вас есть преимущество передо мной, сказала она.
В каком смысле?
Вы знаете гораздо больше обо мне, чем я знаю о Вас.
Вас, только восемнадцатилетнюю. Все остальное — неизвестность. Я искал Борна, я искал Марго Жоффруа, я искал Вашу мать, но нашел только Вас.
Потому что все остальные умерли.
О, какая жалость. Извините… особенно Ваша мать.
Она умерла шесть лет тому назад. В октябре — завтра будет ровно шесть лет. Через месяц после 9/11. У нее были проблемы с сердцем, и однажды ее сердце не выдержало. Ей было семьдесят шесть лет. Я хотела, чтобы она жила до ста, но, как Вы знаете, что мы хотим и что получаем — редко совпадает.
А Марго?
Я знала ее совсем немного. Мне сказали, она покончила жизнь самоубийством. Много лет тому назад — еще в семидесятые.
А Борн?
В прошлом году. Похоже. Но я точно не уверена. Еще, возможно, есть шансы, что он живет где-то.
Он и Ваша мать оставались в браке до ее смерти?
Брак? Свадьбы никогда не было.
Никогда не было? Но я думал…
Они об этом говорили, но ее не было.
Из-за Адама?
Частично, я полагаю, но не совсем. Когда он встретился с моей матерью и рассказал о тех диких обвинениях в адрес Рудольфа, она не поверила ему. Я тоже не поверила, сказать честно.
Вы были так разгневаны, что плюнули ему в лицо?
Да, я плюнула ему в лицо. Мой самый худший поступок в моей жизни, и я до сих пор не могу простить себя за это.
Вы написали Адаму письмо извинений. Означает ли это, что Вы поменяли свое мнение об его рассказе?
Нет, тогда еще нет. Я написала, потому что стало стыдно за сделанное, и я хотела, чтобы он узнал, как плохо я думала о себе. Я хотела поговорить с ним, но когда я наконец нашла мужество позвонить ему в отель, его уже там не было. Мне сказали, он уехал назад в Америку. Мне было непонятно. Почему он уехал так быстро? Единственное объяснение я смогла найти в том, что он был очень расстроен моим поступком, и потому не смог больше оставаться в Париже. Как Вам это самовлюбленное объяснение? Когда я попросила Рудольфа поговорить с главой Программы Колумбийского университета и узнать, что случилось, он сообщил мне, что Адам уехал из-за недовольства предметами его курса. Мне сразу стало ясно, что не из-за этого; я была уверена, он уехал и-за меня.
Сейчас Вы знаете больше об этом?
Да, больше. Но прошли годы, пока я узнала правду.
Годы. Это значит, что рассказ Адама не повлиял на решение Вашей матери.
Я бы так не сказала. После отъезда Адама Рудольф все время говорил о нем. Его же, все-таки, обвинили в убийстве, и он был очень зол на Адама, стоял на ушах, и все кипятился и ругал Адама неделю за неделей. Он должен быть посажен в тюрьму на двадцать лет, говорил он. Он должен быть высечен и повешен на ближайшем фонаре. Он должен быть сослан в колонию в Гайане. Его речи были чересчур злы, слишком злы, и моя мать стала уставать от него. Она знала Рудольфа очень долгое время, много лет, почти столько же, сколько знала моего отца, и почти все это время он был очень вежлив с ней — заботливый, чуткий, благородный. И до этого были, конечно, моменты, особенно, когда он начинал говорить о политике, но только и всего, ничего личного о других людях. А сейчас он был в гневе столь долгое время, и, я думаю, у нее стали появляться сомнения в нем. Готова ли была она провести остаток жизни с человеком таких отрицательных эмоций? Через месяц или два Рудольф стал успокаиваться, и к Рождеству его гневные выходки прекратились. Всю зиму он был спокоен, помню я, но потом наступила весна, май шестьдесят восьмого, и вся страна взорвалась. По мне, это был один из самых лучших периодов в моей жизни. Я маршировала на демонстрациях, я участвовала в закрытии нашей школы и неожиданно стала активисткой, революционеркой с горящими глазами, мечтающей покончить с правительством. Моя мать симпатизировала студентам, а для правых взглядов Рудольфа они были отребьем. Он и я затеяли ужасный спор той весной, отчаянные крики словесных поединков о праве и законе, Марксе и Мао, анархизме и восстании; и, впервые, политика уже не была просто политикой, это было уже что-то личное. Моя мать оказалась посередине нас, отчего она становилась все более печальной, более молчаливой и замкнутой. Развод с моим отцом должен был завершиться в июне. Во Франции разводящиеся супруги обязаны предстать перед судьей в последний раз перед подписанием бумаг. Их спрашивают, может, они передумали, изменили свое мнение или все так же готовы завершить свои отношения. Мой отец был в госпитале — думаю, Вы все знаете о нем — и моя мать пошла к судье одна. Когда он спросил ее, если она передумала свое первоначальное решение, она сказала — да, она изменила свое решение и больше не хочет развода. Она защищала себя от Рудольфа, понимаете. Она уже не хотела выходить за него замуж, и, оставаясь в браке с моим отцом, она не могла выйти замуж.
Как реагировал Борн?
С огромным уважением. Он сказал, что понял, отчего она не решилась, что преклоняется перед ней за ее верность и мужество, что он понимает — она экстраординарная и благородная женщина. Совсем не то, что можно было ожидать от него, но это было так. Он вел себя изумительно.
Сколько лет после этого жил Ваш отец?
Полтора года. Он умер в январе семидесятого.
Борн вернулся со своим предложением?
Нет. Он уехал из Парижа после шестьдесят восьмого и начал преподавать в Лондоне. Мы видели его на похоронах моего отца, и через несколько недель после этого он написал моей матери длинное, очень сердечное письмо о прошлом, но это уже был конец. Вопрос женитьбы больше никогда не возникал.
А Ваша мать? Нашла ли она кого-нибудь?
У нее были мужчины, но она так и не вышла замуж.
А Борн уехал в Лондон. Встречались ли Вы с ним когда-нибудь после этого?
Однажды, через восемь месяцев после смерти моей матери.
И?
Извините. Не думаю, что смогу рассказать об этом.
Почему?
Потому что если я начну рассказывать Вам о случившемся, я не смогу объяснить, каким странным и неприятным было это для меня.
Вы хотите меня заинтриговать?
Немного. На Вашем языке, я не смогу рассказать ничего, но Вы сможете прочесть, если захотите.
О, понятно. И где этот Ваш загадочный текст?
В моей квартире. Я веду дневник с двенадцати лет, и я написала довольно много о случившемся в доме Рудольфа. Глазами очевидца, если хотите. Я думаю, Вам будет интересно. Если так, я могу скопировать страницы и принести их Вам сюда завтра. Если Вас не будет в номере, я оставлю копию на регистрации.
Спасибо. Это очень щедро с Вашей стороны. Не могу дождаться, чтобы прочесть их.
А сейчас, сказала Сесиль, широко улыбаясь и доставая из ее кожаной сумки красную тетрадь, давайте перейдем к вопроснику для НЦНР?
На следующий день, когда моя жена и я вернулись в отель после длительного обеда с ее сестрой, меня ожидал пакет. В дополнение к скопированным страницам ее дневника Сесиль приложила короткое письмо. Она благодарила меня за угощение виски, за терпение во время ее гротескных и неприличных слез и за предоставление столь длительного времени для разговора об Адаме. Затем она извинилась за неразборчивый почерк и предложила помощь, если у меня возникнут трудности с расшифровкой. Я нашел ее почерк очень разборчивым. Каждое слово было понятно, ни одно слово, ни один знак не смутил меня. Дневник был написан, конечно, на французском языке, и то, что следует ниже, — мой перевод на английский, предлагаемый с полного разрешения автора.
У меня нет ничего добавить. Сесиль Жуэ — последний человек из истории Уокера, кто еще жив, и потому, что она — последняя, получается, что она и должна сказать последнее слово.
ДНЕВНИК СЕСИЛЬ ЖУЭ
4/27. Пришло письмо от Рудольфа Борна. Шесть месяцев после происшедшего, он только сейчас узнал о смерти Мамы. Сколько времени прошло, когда я видела его в последний раз, слышала о нем? Двадцать лет, кажется, может, и все двадцать пять.
Похоже, он был очень огорчен, потрясен новостью. Почему это произвело на него такое воздействие после стольких лет молчания? Он пишет очень живо о силе ее характера, ее гордом терпении и душевной теплоте, ее способности понимать других. Он никогда не переставал любить ее, пишет он, и с ее уходом из этого мира он потерял часть себя.
Он — на пенсии. 71, неженат, в добром здоровии. Последние шесть лет он живет на Квилии, небольшом острове между Тринидадом и Гренадинскими островами, где Атлантический океан переходит в Карибский залив, чуть севернее экватора. Я никогда не слышала об этом острове. Я должна не забыть посмотреть о нем.
В последнем предложении письма он спросил, что нового у меня.
4/29. Написала ответ Р.Б. Немного откровеннее, чем хотела, но, только я начну говорить о себе, мне трудно остановиться. Когда письмо дойдет до него, он будет знать о моей работе, о замужестве со Стефаном, о смерти Стефана три года тому назад, и как одинока и суха моя жизнь. Кажется, что я написала немного лишнего.
Какие чувства у меня к этому человеку? Очень сложные, неоднозначные, смесь сочувствия и безразличия, дружбы и настороженности, преклонения и непонимания. У Р.Б. много превосходных качеств. Глубокий ум, прекрасные манеры, веселый, щедрый. После аварии с Папой он не отвернулся от нас и стал нашей поддержкой на многие года. Он вел себя очень прилично с Мамой, благородный компаньон, помогающий и обожающий ее, всегда рядом в любых трудностях. Мне не было двенадцати лет, когда наш мир замкнулся, сколько раз он вытягивал меня из трясины печали, ободряя меня, гордясь моими смешными достижениями, прощая мои подростковые страдания? Столько положительных качеств, столько благодарности ему, и, все равно, я никак не могла принять его полностью. Связано ли это было с нашими столкновениями в мае 68-го, теми лихорадочными майскими неделями, когда мы находились в непрекращающейся войне друг с другом, отчего и образовалась между нами трещина? Возможно. Но мне хотелось бы думать о себе, как о человеке, не старающемся помнить плохое и прощающим других — и в глубине я верю, что простила его давным-давно. Простила, потому что я улыбаюсь, когда вспоминаю то время и не чувствую никакой злости. А что во мне — это сомнение, и оно начало вызревать во мне много месяцев ранее — тогда осенью, когда я влюбилась в Адама Уокера. Дорогого моему сердцу Адама, пришедшего к Маме с теми ужасными обвинениями против Р.Б. Невозможно поверить в них, но сейчас, после стольких лет, сейчас, после размышлений и бесконечных раздумий, почему Адам рассказал такое, становится очень трудно верить во что-то одно. Конечно, между Адамом и Р.Б. пробежала кошка, конечно, Адам решил, что будет лучше для Мамы отменить свадьбу, и тогда он придумал историю, чтобы напугать ее и изменить ее решение. Ужасную историю, слишком ужасную, чтобы была правдивой, и тут-то он и просчитался; но Адам был по сути хорошим человеком, и если он думал, что в прошлом Р.Б. было что-то отвратительное, значит, так и было. Отсюда и мои сомнения, усиливающиеся во мне с годами. Но я не могу судить никого на основании лишь моих сомнений. Должно быть доказательство, а если его нет, я должна верить Р.Б. на слово.
5/11. Ответ от Р.Б. Он пишет, что живет вдали от людей, в доме, вырубленном из одного большого камня, с видом на океан. Дом называется Лунным Холмом, а удобства довольно примитивны. Окна — пробитые в камне отверстия без стекол. Ветер беспрепятственно влетает в дом, дождь — тоже, а также — насекомые и птицы, и совершенно нет никакой разницы между нахождением внутри дома и снаружи. У него есть электрический генератор, но машина часто ломается, и половину времени они проводят с керосиновыми лампами. Всего живет четыре человека в доме: смотритель-мастер-на-все-руки Самуэль, старая кухарка Нэнси и молодая служанка Мелинда. В доме есть телефон и радио, но нет телевизора, почта не доставляется, и нет водопровода. Самуэль ходит на почту в город (двенадцать миль), а вода хранится в деревянных хранилищах над раковинами и туалетом. Вода для душа набирается в пластиковые пакеты, которые вешаются на крюк над головой. Пейзаж и цветущий и в то же время бесплодный. Многочисленные растения — повсюду (пальмовые деревья, гевеи, сотни видов диких цветов), и в то же время вулканическая поверхность усыпана торчащими повсюду камнями и булыжниками. Земные крабы гуляют по саду (он описывает их как маленькие танки, доисторические создания, принадлежащие скорее ландшафту луны), и от постоянного нашествия кровососущих насекомых, а так же присутствия тарантул, все спят в кроватях с защитными сетками. Он проводит свое время в чтении (последние два месяца он основательно штудирует Монтеня) и пишет заметки к мемуарам, которые он надеется начать в скором будущем. Каждый вечер он ложится в гамак возле окна в гостиной и снимает на видео закат. Он называет его самым потрясающим представлением на Земле.
Мое письмо вызвало в нем ностальгию, пишет он, и он сожалеет, что позволил удалиться себе от меня. Однажды мы были очень близки, очень хорошими друзьями, но после расставания с моей матерью он решил, что не имеет права оставаться в тех же отношениях со мной. А сейчас, лед отношений был вновь разбит, и у него возникло намерение переписываться со мной — полагая, что и я захочу этого.
Ему было очень жаль услышать о смерти моего мужа, очень жаль узнать о моих трудностях ближайших лет. Но ты все еще молода, добавляет он, чуть за пятьдесят, столько много впереди, и ты не должна терять надежду.
Это были заезженные от постоянного употребления фразы, но я чувствую, что он не кривит душой; да и кто я такая, чтобы отвергать добрые жесты честных намерений? Правда в том — я тронута.
И тогда, внезапное решение. А почему бы и не съездить к нему? Надвигаются праздники, пишет он, и, возможно, внезапный бросок через океан принесет что-нибудь хорошее. В доме есть несколько спален, и найти комнату для меня не представляет трудности. Как он будет счастлив вновь увидеть меня, провести немного времени вместе после стольких лет. Он пишет в письме свой телефонный номер, если мне будет интересно.
Интересно ли мне? Трудно сказать.
5/12. Информации об острове совсем немного. Я прочесала весь интернет, где нашла лишь пару коротких поверхностных историй и немного туристической информации. Плоские описания плохим языком, банальные до абсурдности: сияющее солнце… прекрасные пляжи… самая голубая вода в этом райском уголке.
Я нахожусь сейчас в библиотеке, и выходит так, что нет ни одной отдельной книги, посвященной Квилии — только небольшое количество статей, похороненных в многочисленных томах об этом регионе. Во время до-Колумбовой эпохи остров был населен индейцами Сибонеи, покинувшими это место впоследствии и замененными Араваками, которых в свою очередь вытеснили Карибы. Во время колонизации в 16-ом веке голландцы, французы и англичане проявили интерес к острову. Были столкновения с индейцами, столкновения между европейцами, а, когда начали прибывать чернокожие рабы с Африки, смертей прибавилось. Наконец, в 18-ом веке остров был признан ничейной зоной, поделенной между французами и англичанами, но после Семилетней войны и Парижского соглашения французы покинули остров, и Квилия перешла под контроль Британской империи. В 1979 году остров обрел независимость.
Пять миль в длину. Сельское хозяйство, рыболовство, кораблестроение и ежегодный отстрел одного кита. Население — три с половиной тысячи — в основном, выходцы из Африки, но также и потомки карибов, англичан, ирландцев, шотландцев, азиат и португальцев. Одна книга сообщает, что большая группа шотландских моряков попала на Квилию в 18-ом столетии. У них не было возможности вернуться домой, так что они поневоле остались здесь и перемешались с чернокожим населением. Двести лет спустя, результатом этого смешения стала раса рыжих африканцев, голубоглазых африканцев и африканцев-альбиносов. Как пишет автор: Остров — лаборатория человеческих возможностей. Он опровергает наши устоявшиеся идеи о человеческих расах — и, возможно, полностью разрушает идею расы, как таковой.
Неплохая фраза. Лаборатория человеческих возможностей.
5/14. Трудный день. После обеда я поняла, что сегодня ровно четыре месяца после того, как у меня были последние месячные. Означает, что уже началось? Я ожидала знакомые неприятные ощущения, что буду раздраженной, и что кровь появится как всегда. Я не говорю о способности рожать детей. Я никогда и не хотела этого. Александр почти уговорил меня для этого, но мы разошлись прежде, чем что-нибудь началось. Со Стефаном вопрос о детях не возникал никогда.
Нет, я не о детях. Я слишком стара для этого, даже если бы я и захотела. Это о том, что я больше не женщина, что женственность покидает меня. Сорок лет я была горда своей кровью. Я была рождена под проклятием счастья, разделенного мной с каждой женщиной на свете. А сейчас я отрезана от них, как бы кастрирована. Чувствуется, как начало конца. Женщина в после-менопаузе — сегодня, старушенция — завтра, а потом — могила. Я слишком устала, чтобы плакать.
Наверное, я должна поехать на Квилию, несмотря на все мои сомнения. Мне нужно встряхнуться, вдохнуть свежего воздуха.
5/17. Только что говорила с Р.Б. Странно слышать этот голос снова после стольких лет, но он звучал довольно живо, в полном порядке. Когда я сказала ему о том, что решила принять его приглашение, он начал кричать в трубку. Превосходно! Превосходно! Какая прекрасная новость!
Через месяц (по словам Р.Б.) мы будем пить ромовые пунши Самуэля, по очереди снимать закаты и проводить лучшее время в нашей жизни.
Я закажу билеты завтра. Пять дней в конце июня. Вычесть два дня на дорогу, и остается три дня на Квилию. Если все будет прекрасно, я всегда могу остаться на еще некоторое время. Если будет не так, я полагаю, три дня я смогу выдержать.
6/23. После долгого полета через Атлантический океан, я сижу в помещении для транзитных пассажиров в аэропорту Барбадоса, ожидая одномоторного самолета на Квилию, отбывающего отсюда через два с половиной часа (по расписанию).
Невыносимая жара, повсюду плотный круг жары окружает мое тело, жара тропиков, от такой жары тают все мысли в голове.
В зале аэропорта патрулирует около десятка солдат, вооруженных автоматами. Атмосфера злости и недоверия, враждебность в каждом взгляде. Что происходит? Десяток чернокожих солдат с автоматами в руках и толпы недовольных потных путешественников с многочисленными баулами и хнычащими детьми.
В помещении для транзитных пассажиров почти все — белокожие. Длинноволосые серферы из Америки, пьющие пиво и громко разговаривающие австралийцы, европейцы разных непонятных стран, пара азиатских лиц. Скука. Повсюду кружатся вентиляторы. Приглушенная музыка, переставшая быть музыкой. Место, переставшее быть местом.
Девять часов спустя. Одномоторный самолет был самым маленьким самолетом, на котором я когда-нибудь летала. Я сидела рядом с пилотом, два других пассажира сидели прямо за нами; и, как только мы взлетели, я поняла, что мы зависели от каждого ветра, попавшегося нам на пути, что даже небольшое изменение в воздухе могло изменить направление полета. Мы качались и болтались и ныряли носом вверх и вниз, мой желудок поднялся к моему рту; и все равно я наслаждалась полетом, наслаждалась бесплотностью, ощущая близость вечно-меняющегося воздуха.
Глядя сверху, остров — не больше точки, серо-зеленое пятнышко лавы, выплеснувшей из океана. А вода вокруг него голубая — да, самая голубая вода в этой части рая.
Будет преувеличением назвать аэропорт в Квилии аэропортом. Прежде всего, это — посадочная полоса, лента асфальта, вытянувшаяся у основании высокой, устрашающей горы, и может принять на посадку ничего больше, чем игрушечный самолет. Мы получили наш багаж внутри вокзала — крошечная коробка пемзо-бетона — и затем прошли через таможню и паспортный контроль. Даже в после-9/11 Европе я не подвергалась такому тщательному досмотру моего багажа. Мой чемодан был открыт, и каждый предмет одежды был поднят и осмотрен, каждая книга — встряхнута за корешок, вся обувь — перевернута, заглянута внутрь, обыскана — медленно и методично, как будто эта процедура не могла не пройти ни при каких обстоятельствах гораздо быстрее. Человек в паспортном контроле был одет в отутюженную форму, символ законности и официоза, и он тоже принял участие в пытке надо мной прежде, чем пропустил меня. Он спросил о цели приезда, и на моем средненьком, с большим акцентом, английском я рассказала ему, что приехала провести несколько дней со знакомым. Каким знакомым? Рудольф Борн, ответила я. Это имя было ему знакомо, и тогда он спросил (совсем уж неприлично, я полагаю), как долго я знакома с мистером Борном. Всю мою жизнь, сказала я. Всю Вашу жизнь? Мой ответ, похоже, озадачил его. Да, всю мою жизнь, повторила я. Он был близким другом моих родителей. А, Ваших родителей, сказал он, кивая головой в согласии и, по всей видимости, довольный моим ответом. Я подумала, что мы покончили со всем, но тут он открыл мой паспорт и три минуты разглядывал его подозрительным, терпеливым взглядом эксперта по уголовным делам, внимательно изучая каждую страницу, останавливаясь на каждом штампе, будто все мои прошлые путешествия были ключом к решению загадки моей жизни. В конце концов он достал форму, отпечатанную на узкой полоске бумаги, тщательно расположил ее в соответствии с углами стола и отточенным жестом шлепнул по бумаге. После скрепления формы с моим паспортом, он намочил чернилами резиновую печать, прижал штамп рядом с формой и аккуратно добавил название Квилия к списку стран, разрешенных мне для посещения. Французские бюрократы славятся своей маниакальной точностью и холодной эффективностью. По сравнению с этим человеком они — любители.
Я окунулась в кипящую послеполуденную жару, ожидая встретить Р.Б., но его не было. Моим спутником был Самуэль, смотритель дома, сильный, красиво сложенный, очень привлекательный молодой человек в возрасте около тридцати лет — с чрезвычайно черной кожей, объясняющей, что он — не потомок тех шотландских моряков, заброшенных сюда в 18-ом веке. После моих встреч с высокомерными и молчащими людьми в аэропорту, я с облегчением встретилась с улыбками, обращенными ко мне.
Не заняло много времени понять, почему работа сопровождения меня к Лунному Холму была поручена Самуэлю. Сначала мы ехали в машине десять минут, отчего я подумала, что он мог бы отвезти меня прямиком к дому, но затем Самуэль оставновил машину, и весь остальной путь — мягко сказано, почти весь путь, более часа пути перед нами — мы прошли пешком. Это была непростая дорога, утомительное карабкание по крутой, заросшей корнями тропе, вымотавшей меня и оставившей без дыхания уже через пять минут. Я — человек, работающий в библиотеках, пятидесятитрехлетняя женщина, курящая слишком много и у которой вес немного больше, чем надо, и мое тело не предназначено для подобных упражнений. Я была чрезвычайно унижена моей неспособностью и потом, залившим всю мою одежду, тучами насекомых, танцующих возле моей головы, моими частыми просьбами остановиться и отдохнуть, скользящими подошвами моих сандалий, отчего я падала всю дорогу. Но хуже всего, хуже моих физических испытаний, был стыд от вида Самуэля, идущего впереди меня, стыд от вида Самуэля, несущего мой чемодан на своей голове, мой слишком тяжелый чемодан, заложенный весом ненужных книг, и было невозможно отделаться от образа чернокожего человека, несущего вещи белой женщины на своей голове, ужасов колониального прошлого, жестокостей Конго и Французской Африки, столетий боли…
Я не должна так думать. Я превращаюсь в ничто, и если я хочу прожить это время без последствий, я не должна терять внутреннего равновесия. Реальность в том, что Самуэль выглядел совершенно невозмутимым. Он ходил вверх и вниз по этому склону тысячи раз, он носит вещи на своей голове, как в порядке вещей, и для того, кто был рожден на таком бедном острове, работа в доме Р.Б. должна считаться хорошей работой. Когда бы я ни просила его остановиться, он выполнял это без малейшего неудовольствия. Нет проблем, ма’эм. Потихоньку, полегоньку. Когда дойдем, тогда и дойдем.
Р.Б. дремал в своей комнате, когда мы достигли вершины горы. Странно для чьего-нибудь взгляда, но за время его сна у меня появилась возможность привести в порядок мою комнату (высоко, очень высоко, с видом на океан) и себя. Я приняла душ, одела чистую одежду и управилась с волосами. Хоть это и совсем немного, но, по крайней мере, я избежала чувства стыда быть увиденной в жалком виде. Поход к вершине горы почти уничтожил меня.
Несмотря на мои усилия, я заметила разочарование в его глазах, когда я вошла в гостиную комнату часом позже — первый взгляд через столько лет, и горькое понимание, что когда-то молодая девушка превратилась в неухоженную, уже-не-так-привлекательную, более чем средних лет женщину с менопаузой.
К сожалению — нет, я думаю, что к счастью — разочарование было общим. В прошлом он был для меня очень привлекательным, по-своему неплохо выглядящим и очень близким к идеальному воплощению мужской уверенности и силы. У Р.Б. никогда не было стройной фигуры, но с годами, с последнего раза, когда я видела его, он значительно прибавил в весе, вагон лишних килограммов; и, когда он встал, приветствуя меня (шорты, с голым торсом, без носков и обуви), я была поражена величиной его живота. Огромный, величиной с медицинский шар для физических упражнений, а с потерей большинства волос на голове, его череп стал напоминать волейбольный мяч. Смешное сравнение, я знаю, но сознание всегда лепит странные образы; и то, что я увидела, когда он встал и подошел ко мне: человек, состоящий из двух округлостей — медицинский шар и волейбольный мяч. Сейчас он стал гораздо больше, но не превратился в ожиревшего, болтающегося складками кита — просто больше. Кожа на животе, вообще-то, выглядела плотно натянутой, и, за исключением наслоений вокруг его колен и шеи, он выглядел хорошо для мужчины его лет.
Через мгновение после первого взгляда, разочарование исчезло с его лица. Со всем апломбом опытного дипломата Р.Б. расплылся в улыбке, распростер свои объятия и обнял меня. Какое чудо, сказал он.
Это объятие было самым торжественным моментом вечера. Потом мы пили ромовый пунш, приготовленный Самуэлем (очень неплохой), я смотрела, как Р.Б. снимал закат (по-моему, бессмысленно), и затем мы сели ужинать (тяжелая еда, говядина в густом соусе, совсем неподходящая к такому климату — скорее для середины зимы в Эльзасе). Старая кухарка Нэнси — совсем нестарая, сорок, сорок пять лет — и мне кажется, у нее две работы в этом доме: кухарка днем и партнер в постели Р.Б. ночью. Мелинде чуть больше двадцати лет, и, похоже, слишком молода для второй работы. Она — прекрасная девушка, кстати, так же, как и красив Самуэль, высокая, стройная фигура со скользящей походкой; и с первого взгляда между ними нетрудно догадаться, что они вместе. Нанси и Мелинда принесли нам еду, Самуэль очистил стол и помыл посуду; и по прибытии блюд во мне нарастало чувство неудобности. Мне не нравится, чтобы слуги прислуживали мне. Мне становится не по себе, особенно в такой ситуации, когда трое работают для двоих, трое чернокожих работают для двух белых. Вновь: неприятное эхо колониального прошлого. Ну как тут можно избавиться от ощущения стыда? Нанси, Мелинда и Самуэль отнеслись к работе с холодным спокойствием, и хотя мне досталось много вежливых улыбок от них, они выглядели немного настороже, безразлично. Что они могли подумать о нас? Они, скорее всего, смеются за нашей спиной — и по праву.
Присутствие слуг расстроило меня, да, но не настолько, как сам Р.Б. После его теплого приветствия мне показалось, будто он не знает, что делать со мной. Он продолжал говорить, что я должно быть устала, что дорога вымотало меня, что путешествия — современное изобретение для разрушения человеческого тела. Я не стану опровергать, что я была устала и вымотана перелетом, что мои мышцы ныли от битвы с горой, но я хотела наговориться, чтобы вспомнить прошлые времена, как он написал в письме, но выглядело так, что он не хотел пускаться в воспоминания. Наш разговор за ужином был убийственно скучным. Он рассказал мне историю, как он набрел на Квилию и как купил этот дом, поведал об особенностях местной жизни, а затем прочитал лекцию о флоре и фауне острова. Поразительно.
Сейчас я лежу в кровати, затянутой белой сеткой от насекомых. Мое тело воняет препаратом OFF, противомоскитным средством, пахнущим токсичными и смертельными химикалиями; и зеленые, отгоняющие все живое, угли с обоих сторон кровати медленно горят, выделяя струйки дыма.
Я спрашиваю себя, что я тут делаю.
6/26. Ничего за два дня. Было невозможно писать, невозможно найти спокойный момент, лишь сейчас, когда я покинула Лунный Холм и на пути в Париж, я могу описать всю историю и дойти до горького конца. Горечь — это самое точное слово. Я чувствую горечь от того, что произошло, и я знаю, что эта горечь останется со мной надолго.
Все началось на следующее утро, утро после моего прибытия в дом, 24-го. За завтраком в столовой Р.Б. спокойно поставил свою чашку кофе, посмотрел мне в глаза и попросил меня выйти за него замуж. Это было так далеко от меня тогда, так неожиданно, что я разошлась в смехе.
— Вы шутите, сказала я.
— Почему бы и нет? ответил он. Я здесь совсем одинок. У тебя никого нет в Париже; ты приехала на Квилию и живешь со мной, я сделаю тебя самой счастливой женщиной в мире. Мы прекрасно подходим друг к другу, Сесиль.
— Вы слишком стары для меня, дружище.
— Ты уже была замужем за человеком старше меня.
— Ну и что. Стефан мертв. У меня нет никакого желания вновь становиться вдовой.
— А я не Стефан. Я крепкий. У меня отличное здоровье. Годы и годы жизни впереди у меня.
— Пожалуйста, Рудольф. Я не хочу говорить об этом.
— Ты забыла, как мы обожали друг друга.
— Я всегда хорошо относилась к Вам, но я никогда не была от Вас без ума.
— Много лет тому назад я хотел жениться на твоей матери. Но это был лишь повод. Я хотел жить с ней, чтобы быть поближе к тебе.
— Это смешно. Я была тогда ребенком — неловким, незрелым ребенком. Вы совсем не интересовались мной.
— Я очень хорошо скрывал это. Все почти что случилось, все должно было случиться, все трое хотели, чтобы случилось, а потом приехал в Париж этот американец и все разрушил.
— Нет, не из-за него. И Вы знаете это. Моя мать не поверила в его рассказ, и я тоже не поверила.
— Вы были обе правы, что не поверили. Он был лжец, хитрый злой молодой человек, решивший разрушить мою жизнь. Да, я совершал ужасные ошибки в моей жизни, но убийства того парня в Нью Йорке никогда не было. Я никогда и не прикасался к нему. Твой дружок все придумал.
— Мой дружок? Это смешно. У Адама Уокера были поважнее дела, чем влюбляться в такую, как я.
— И если вспомнить… я же и был тот, кто познакомил тебя с ним. Я думал, что тебе будет лучше. Какой глупый поступок.
— Мне и было хорошо. А потом я оттолкнула его от себя и оскорбила. Я сказала ему, что он свихнулся. Я пожелала, чтобы его язык был вырван из его рта.
— Ты никогда не рассказывала мне об этом. И правильно сделала, Сесиль. Я горд твоим поступком. Он получил, что заслуживал.
— Заслуживал? Что это значит?
— Я говорю об его стремительном отъезде из Франции. Ты знаешь, почему он уехал?
— Он уехал из-за меня. Потому что я плюнула ему в лицо.
— Нет-нет, не так все просто.
— О чем Вы говорите?
— Его выслали. Полиция поймала его с тремя килограммами наркотиков — марихуана, гашиш, кокаин. Не могу вспомнить, что именно. Менеджер того гнилого отеля выдал его. Полицейские обыскали комнату, и тут Адаму Уокеру наступила крышка. Ему оставалось или пойти под суд во Франции или покинуть страну.
— Адам и наркотики? Это невозможно. Он всегда был против их, он их ненавидел.
— Значит, не так, согласно полиции.
— А как Вы об этом узнали?
— Следователь был мой друг. Он рассказал мне об этом деле.
— Какое совпадение. А почему он захотел рассказать Вам о таких вещах?
— Потому что он знал, что я был знаком с Уокером.
— Вы все затеяли, да?
— Конечно, нет. Не смеши меня.
— Вы затеяли. Признайтесь, Рудольф. Вы были тем, из-за кого Адама выгнали из страны.
— Ты не права, моя дорогая. Я не скажу, что мне было жалко, когда он уехал, но я и не отвечаю за это.
— Это же было так давно. Почему же врать и сейчас?
— Клянусь могилой твоей матери, Сесиль. Я не был к этому причастен.
Я не знала, что и подумать. Возможно, он говорил правду, возможно, что и нет, но в тот момент, когда он начал говорить о могиле матери, я поняла, что больше не хочу находиться с ним в одной комнате. Я была слишком расстроена, почти готова расплакаться, слишком огорчена для продолжения разговора. Во-первых, его безумное предложение о женитьбе, затем — гнусные новости об Адаме, и, внезапно, я уже не смогла сидеть с ним за одним столом ни секундой дольше. Я встала со стула, сказала ему, что мне нехорошо и быстро удалилась в мою комнату.
Полчаса спустя, постучался Р.Б. и спросил, мог ли он зайти ко мне. Я замешкалась на мгновение, раздумывая, если у меня остались силы на препирания с ним. Прежде, чем я решила, раздался еще один стук в дверь, громче и настойчивее, чем предыдущие, а затем он просто открыл дверь.
— Я прошу прощения, сказал он, направляясь своей полуголой тушей к стулу в дальнем углу комнаты. Я не хотел, чтобы ты нервничала. Боюсь, это был неправильный подход.
— Подход? Подход к чему?
Пока Р.Б. усаживался на стул, я присела на небольшую деревянную скамейку под окном. Он сидел в метре от меня. Как я хотела, чтобы он не появился так скоро после моего ухода из столовой, но сейчас он выглядел по-настоящему кающимся, и мне показалось, что я смогла бы продолжить разговор.
— Подход к чему? Я повторяю.
— К определенным… как бы это сказать?… к определенным будущим… к определенным возможным домашним приготовлениям в ближайшем будущем.
— Извините, что разочаровываю Вас, Рудольф, но мне неинтересны свадьбы. Ни с Вами, ни с кем угодно.
— Да, вижу. Это ты так думаешь сейчас, но завтра ты можешь поменять свое мнение.
— Сомневаюсь.
— Моя ошибка, что я не поделился моими мыслями с тобой. Я живу с этой идей с тех пор, как получил твое письмо в прошлом месяце, и после долгих раздумий по этому поводу, она стала очень реальной для меня, как будто стоило только произнести слово, и все тут же случится. Похоже, я был слишком одинок последние шесть лет. Иногда я путаю мои мысли об окружающем мире с самим миром. Извини, если я тебя обидел.
— Я не обиделась. Удивилась, наверное, было бы правильным словом.
— В твоей ситуации — в твоей нынешней ситуации — я бы хотел предложить эксперимент. Эксперимент в виде бизнес-предложения. Помнишь о книге, я рассказал о ней в одном из писем?
— Вы упомянули о заметках к мемуарам, которые хотели написать.
— Точно. Я почти готов начать, и я хочу, чтобы ты помогла мне в этом. Я хочу, чтобы мы написали книгу вместе.
— Вы забываете, у меня уже есть работа в Париже. Работа, которая значит очень много для меня.
— Сколько бы ты не получала в Центре, я его удвою.
— Вопрос не в деньгах.
— Я не прошу тебя бросить работу. Все, что ты должна сделать — это взять отпуск за свой счет. Написать книгу займет около года, и если ты не захочешь оставаться со мной, когда мы закончим, — возвращайся в Париж. В то же время ты будешь зарабатывать в два раз больше, чем сейчас — бесплатная комната и еда, кстати — и в процессе написания может статься, что ты выйдешь за меня замуж. Эксперимент в виде бизнес-предложения. Теперь видишь, о чем я?
— Да, вижу. Но почему мне будет интересно работать над чьей-то книгой? У меня есть, чем заняться.
— Когда ты узнаешь, о чем книга, тебе станет интересно.
— Книга о Вашей жизни.
— Да, но что ты знаешь о моей жизни, Сесиль?
— Что Вы — профессор права и международных отношений.
— Среди прочих вещей, да. Но я не только преподавал о государстве, я и работал на него.
— Французское правительство?
— Конечно. Я же, ведь, француз?
— И какую работу Вы делали?
— Секретную.
— Секретную… Вы говорите о шпионаже?
— Грязная работа во всех ее проявлениях, дорогая.
— Что Вы говорите. Я и не знала.
— Для меня это еще началось с Алжира. Я начал молодым и продолжал работать на них до самого конца Холодной войны.
— Другими словами, у Вас есть захватывающие истории.
— Больше, чем захватывающие. Истории, от которых стынет кровь.
— А Вам разрешат опубликовать такие истории? Я думала, что есть законы, предотвращающие обнародывание секретов для тех, кто работал на правительство.
— Если возникнут трудности, мы переделаем рукопись и напечатаем ее в виде романа — под твоим именем.
— Моими именем?
— Да, твоим именем. Я останусь в стороне, а тебе достанется вся слава.
Я больше не верила ни одному его слову. Когда Р.Б. покинул комнату, я была полностью уверена, что он — безумец, что он потерял рассудок и сошел с ума. Он провел столько много лет на Квилии, и тропическое солнце выжгло все его извилины в мозгу и довело его до края здравого смысла. Шпионаж. Женитьба. Мемуары, написанные в форме романа. Он был, как ребенок, отчаявшийся ребенок, придумывавший вещи по ходу жизни, говорящий все, что ни приходило в голову, и сам начинающий верить в эту придумку, и в которой он потом начинал нуждаться — в моем случае, странная, совершенно нереальная идея, что он хочет жениться на мне. Он не хотел жениться на мне. Он и не мог хотеть этого. Но если он даже и хотел, и если он даже и думал, что мог, тогда это все и подтверждает, что он был не в своем уме.
Я притворилась поддакивающей ему, играя роль, будто я восприняла его эксперимент в виде бизнес-предложения серъезно. Испугалась ли я его или просто решила избежать неприятной сцены? Я думаю, немного и того и другого. Я не хотела сказать ничего, чтобы спровоцировать его гнев, но в то же время наш разговор был невероятно выматывающим, и я хотела отделаться от него как можно быстрее. Так ты подумаешь обо всем? спросил он. Да, сказала я, я обещаю подумать обо всем. Но Вы должны рассказать мне больше о книге прежде, чем я решу что-либо. Конечно, ответил он, без вопросов. У меня сейчас есть работа для Самуэля, но мы сможем поговорить во время обеда. Затем он потрепал меня по щеке и сказал: Я так рад, что ты приехала. Мир никогда не выглядел для меня красивее, чем сейчас.
Я не пошла на обед. Я сказала, что плохо чувствовала себя, что было правдой и неправдой. Я смогла бы пойти, если бы заставила себя, если бы я хотела, но я не была настроена на подвиги, и просто не хотела идти. Мне нужно было отдохнуть от Р.Б., и сказать правду — последствия перелета сказались на мне. Я была вымотана, устала. И не снимая одежды, я легла на кровать и проспала три часа. Я проснулась вся в поту, влагой были покрыты все поры моей кожи, мой рот был сух, в голове стучало. Сняв одежду я пошла в ванную комнату, повесила один из пластиковых пакетов на душевой крюк, открыла краник, и вода полилась по моей голове. Прохладный душ посередине полуденной жары. Окно ванной представляло собой вырезанное в камне отверстие, выходящее на вершину отвесной скалы, и внизу не было ничего, кроме огромного, сияющего океана. Мир никогда не выглядел для меня красивее, чем сейчас. Да, сказала я себе, это место без сомнения красиво, но суровой красотой, враждебной красотой, и мне захотелось уехать отсюда.
Я хотела сделать запись в дневнике, но была слишком взволнована для спокойного сидения. И потом ко мне пришла мысль, что я должна отложить все мои записи до окончания поездки. А что, если Р.Б. проникнет в мою комнату и найдет дневник, задумалась я, что, если он увидит вещи, которые я напишу о нем? Мало не покажется. Мне даже может угрожать опасность.
Я пробовала читать, но чтение было за пределами моей сосредоточенности. Все эти ненужные книги, притащенные для солнечных праздников. Романы Бернхарда и Вила-Матаса, стихи Дюпена и дю Буше, эссеистика Сакса и Дидеро — все дорогие мне книги, но ненужные сейчас, когда я добралась до пункта назначения.
Я сидела на стуле возле окна. Я походила по комнате. Я вновь села на стул.
А что, если Р.Б. не сошел с ума? спросила я себя. А что, если он забавляется игрой со мной, предложив руку, чтобы посмеяться от души надо мной? Это было тоже возможно. Все, что угодно, было возможно.
Он пил очень много за ужином той ночью. Парочка высоких бокалов ромовых пуншей, затем приличное количество вина за едой. Поначалу казалось, что он был в полном порядке. Он заботливо поинтересовался, если мне стало лучше, и я ответила — да, сон помог мне; и после этого мы заговорили о незначительных вещах, не упоминая ни слова о свадьбе, ни слова об Адаме Уокере, ни слова о книге, повествующей о скрытой шпионской работе, написанной в форме романа. Хоть мы и говорили на французском языке, я подумала, что он не желает говорить о подобном в присутствии слуг. И я также подумала, может, он впал в старость, в начальную стадию Альцхаймера или слабоумия, или просто забыл о вещах, обсуждавшихся раннее днем. Возможно, мысли пролетали в его голове как бабочки или комарики — эфемерные создания, приходящие и уходящие так быстро, что он не успевал их узнавать.
Через десять-пятнадцать минут после начала еды он начал рассуждать о политике. Не о чем-то конкретном, не об историях из его прошлого, но абстрактно, теоретически, как будто все еще был профессором. Он начал с Берлинской Стены. Все на Западе были так счастливы, когда стена была разрушена, сказал он, все думали о новой эре мира и братской любви, взошедшей над Землей, но в действительности это было самое тревожное событие последних времен. Хоть это может звучать неприятно, но Холодная война удерживала мир вместе за последние сорок четыре года, а сейчас этот простой, черный-белый двоичный мир нас против них ушел; мы вошли в период нестабильности и хаоса, схожего с годами перед Первой Мировой войной. Общее Наступающее Опустошение, ОНО. Раньше существовала угрожающая для всех, да, концепция, но когда одна половина человечества может уничтожить другую половину, и когда другая половина может уничтожить первую, никто не нажмет спусковой крючок. Вечная ничья. Самый элегантный ответ военной агрессии в истории человечества.
Я не перебивала его. Наконец Р.Б. говорил что-то разумное, хотя его доводы и были притянуты. А что с Алжиром и Индокитаем, хотела спросить его я, что с Кореем и Вьетнамом, что с присутствием США в Латинской Америке, убийством Лумумбы и Альенде, советскими танками в Будапеште и Праге, долгой войной в Афганистане? Не было смысла задавать ему это вопросы. Я просидела его лекцию, будто девочка, зная, что перечить Р.Б. не имело никакого смысла. Пусть брюзжит, сказала я себе, пусть выплеснет свои неглубокие мысли, а потом, как он наговорится, вечер и закончится. Таким был Р.Б. в прошлом; и, как только я вошла в его дом, я почувствовала себя в очень знакомых мне обстоятельствах.
Но он не наговорился, и вечер тянулся гораздо дольше, чем я ожидала. Он только разогревался разговорами о Холодной войне, как бы, прочищая горло, и последующие два часа он посвятил мне самую пылкую речь, какую я когда-либо слышала от него. Арабский терроризм, 11 сентября, вторжение в Ирак, цена на нефть, глобальное потепление, нехватка продуктов, массовый голод, мировая депрессия, грязные бомбы, атаки чумой, уничтожение Израиля — о чем он только не говорил, какое только трагичное пророчество он не вывалил на меня? Часть того, что он сказал, было настолько злым и грубым, настолько мерзким в ненависти ко всем, кто не был европейцем с белой кожей, кто не был, в конце концов, Рудольфом Борном, что наступил момент, когда я уже не могла вытерпеть его речи. Прекратите, сказала я. Я не хочу больше слышать ни единого слова. Я иду спать.
Когда я встала с моего стула и пошла к выходу, он все еще продолжал говорить, проповедуя своим пьяным, громким голосом, даже и не заметив, что меня больше нет за столом. Ледовые шапки тают, сказал он. Через пятнадцать лет, через двадцать лет придет потоп. Затонувшие города, разрушенные континенты, конец всего. Ты будешь еще живой, Сесиль. Ты увидишь, как это все случится, и потом ты утонешь. Ты утонешь вместе со всеми, с милиардами других, и это будет конец. Как я тебе завидую, Сесиль. Ты увидишь конец всего.
Его не было к завтраку на следующее утро (вчера). Когда я спросила Нэнси, что с ним, она выдала мне горловой звук, очень похожий на сдавленный внутренний смешок и сказала, что мистер Борн все еще в стране снов. Интересно, как долго он еще продолжал пить, когда я ушла из комнаты.
Спустя четыре часа он возник к обеду, в хорошем настроении, взгляд был свежим и внимательным, готов к работе. В первый раз за мое время пребывания здесь он побеспокоился одеть рубашку.
— Извини за мою эмоциональную речь прошлой ночью, начал он. Я вовсе не хотел говорить и половины сказанного мной — меньше, чем половину, по правде говоря, почти ничего из того.
— Почему Вы тогда сказали то, что не хотели говорить? спросила я, немного удивленная его объяснением. Это так не было похоже на него — объяснять свое поведение, извиняться за сказанное или сделанное — в горячке или нет.
— Я тестировал некоторые идеи, пытаясь завести себя в надлежащее состояние для будущей работы.
— Какой работы?
— Книга. Книга, которую мы напишем вместе. После вчерашней утренней дискуссии я пришел к выводу, что ты права, Сесиль. Правдивая история не будет напечатана никогда. Слишком много секретов, слишком много грязи, слишком много смертей. Франция арестует меня, если я попытаюсь заговорить об этом.
— Вы хотите сказать, что решили бросить свой проект?
— Ни в коем случае. Но, чтобы рассказать правду, мы должны ее разукрасить.
— То, что Вы сказали вчера.
— Я помню. Просто возникло в моей голове, пока мы говорили, а сейчас у меня было время хорошенько подумать, и я верю, что больше нет другой возможности.
— Значит, роман.
— Да, роман. А сейчас, раздумывая о романе, я понимаю, какие безграничные возможности неожиданно открылись для нас. Мы можем рассказать правду, да, но мы также можем что-то и придумать.
— Почему Вы хотите придумать?
— Сделать историю более захватывающей. Мы положим за основу мою жизнь, конечно, но персонаж, исполняющий меня в книге, не может называться Рудольфом Борном. Он должен быть кем-то другим — например, мистер Х. Как только я становлюсь мистером Х, я уже больше не буду самим собой; а как только я — не я, мы можем добавить сколько угодно деталей, как пожелается.
— Например?
— Например… возможно, мистер Х — не тот человек, каким кажется. Мы представим его человеком с двойной жизнью. Миру он известен, как скучный профессор права и международных отношений, преподающий в каком-нибудь скучном институте или университете, но на самом деле он — также и специальный замаскированный агент, борющийся против коммунистических Советов.
— Мы уже знаем об этом. Это — основа книги.
— Да, да — но, погоди. Что, если двойна жизнь — не двойная жизнь, а тройная?
— Не понимаю.
— Он выглядит, как работающий на французской правительство, но на самом деле он работает на русских. Мистер Х — двойной агент.
— Начинает звучать, как триллер.
— Триллер. Какое замечательное слово. Триллер.
— Но зачем мистер Х будет предавать свою страну?
— По многим причинам. После многих лет работы он разочаровывается в Западе и становится близок к коммунистической идее. Или просто он — циник, не верующий ни во что, и русские платят ему много денег, больше, чем французы платят ему, так что он получает в два раза больше, чем если бы он оставался на одной стороне.
— Он не похож на того, кому можно было бы сочувствовать.
— Он и не должен быть таким. Просто — интересно и запутанно. Вспомни май шестьдесят восьмого, Сесиль. Ты все еще помнишь наши жуткие ссоры?
— Я их никогда не забуду.
— Что, если мистер Х, двойной агент, находится в прекрасных отношениях с молодым персонажем Сесиль Жуэ? Что, если ему радостно видеть Францию, погруженную в анархию, с неизбежным падением правительства? Но он также должен позаботиться о своем прикрытии, и для этого он шпионит как раз для другой, противоположной его убеждениям, стороны. Становится еще интереснее, да?
— Неплохо.
— Я подумывал еще об одной сцене. Будет немного трудно объяснить, но если мы будем придерживаться идеи, что мистер Х — двойной агент, то это будет крайне необходимо — один из самых темных, самых откровенных моментов в книге. У мистера Х есть французский коллега, мистер Y. Они были близкими друзьями долгое время, они прожили вместе душераздирающие приключения, но сейчас мистер Y начинает подозревать, что мистер Х работает на Советы. Он ссорится с мистером Х и говорит ему, что если тот не покинет секретную службу немедленно, то он арестует его. Это происходит в начале шестидесятых годов, как мы помним. Высшая мера наказания все еще в действии, и арест будет означать гильотину для мистера Х. Что делать? У него нет выбора, как только убить мистера Y. Не пулей, конечно. Не ударом по голове или ножом в живот, но гораздо тоньше, чтобы избежать возможных подозрений. Лето. Мистер Y и его семья едут отдыхать в горы, где-то на юге Франции. Мистер Х едет туда, прокрадывается к ним посередине ночи и разъединяет тормоза автомобиля. На следующее утро, по пути в местную булочную за утренним хлебом, мистер Y теряет управление машиной и падает с обрыва. Миссия закончена.
— О чем Вы рассказываете, Рудольф?
— Ни о чем. Я рассказываю историю, только и всего. Я описываю, как мистер Х убил мистера Y.
— Вы рассказываете о моем отце, да?
— Конечно, нет. Почему ты так думаешь?
— Вы рассказываете, как Вы хотели убить моего отца.
— Чушь. Твой отец никогда не работал на секретные службы. И ты знаешь это. Он работал в министерстве Культуры.
— Это Вы так говорите. Кто знает, чем он точно занимался?
— Прекрати, Сесиль. Мы просто приятно проводим время.
— Это совсем не приятно. Это менее всего приятно. Вы меня очень огорчили.
— Моя дорогая девочка. Успокойся. Ты ведешь себя, как глупышка.
— Я ухожу отсюда, Рудольф. Я не могу больше оставаться с Вами здесь более ни одной минуты.
— Прямо сейчас, посередине обеда? Прямо вот так?
— Прямо вот так.
— А я думал…
— Мне все равно, что Вы думали.
— Хорошо, уходи, если хочешь. Я и не буду тебя удерживать. Я не сделал ничего, лишь осыпал тебя гостеприимством и вниманием, с тех пор, пока ты здесь, а ты теперь так отвечаешь мне за это. Ты — жалкая истеричка, Сесиль. Жаль, что пригласил тебя в мой дом.
— Жаль, что я приехала.
Я тогда уже стояла, уходя из комнаты, вся в слезах. Прежде, чем я достигла коридора, я повернулась и в последний раз посмотрела на человека, за которого моя мать почти вышла замуж, человека, который просил стать его женой, и вот он был, отвернувшийся от меня, наклонившийся над своей тарелкой, загружающий еду в свой рот. Сплошное безразличие. Я еще не ушла из дома, а уже была выброшена из его сознания.
Я пошла в мою спальню, чтобы собрать мои вещи. В этот раз не будет сопровождающего меня Самуэля, и поскольку я не смогу спуститься с горы с чемоданом в руке — багаж остается здесь. Я переложила чистое белье в ручную сумку, сбросила сандалии и надела спортивную обувь, и затем проверила мой паспорт и деньги — на месте ли. Мысль о том, что я оставляю мою одежду и книги, немного огорчила меня, но это чувство тут же испарилось через пару секунд. Мой план был — прийти в город Сэйнт Маргарет и купить билет на следующий полет в Барбадос. Двенадцать миль пути от дома. Я смогу. А по ровной поверхности я смогу дойти хоть куда.
Спускаться с горы было меньшим испытанием, чем карабкаться наверх. Я была вся в поту, конечно, я подверглась той же воздушной атаке гнуса и комаров, но в этот раз я не упала ни разу. Я шла довольно быстро, не торопилась и не топталась на месте, иногда отдыхая и разглядывая при этом дикие цветы по краям тропы — яркие прекрасные создания, чьи названия были неизвестны мне. Яркий красный. Яркий желтый. Яркий голубой.
Когда я приближалась к подножию горы, я стала слышать нечто, звук или несколько звуков, непонятное моему уху. Сначала я подумала о схожести с чирканьем кузнечиков или цикад, настойчивых механических скрипах насекомых в послеобеденной жаре. Но тогда было слишком жарко для их позывов, и, подходя ближе, я поняла, что звуки были слишком громкими, и что ритмы звуков были слишком сложными, слишком пульсирующими и запутанными, чтобы издаваться живыми созданиями. Деревья загораживали мой взгляд на это нечто. Я продолжала идти, но деревья все не кончались, пока я не дошла до самого основания горы. Дойдя до туда, я остановилась, повернулась направо и, наконец, увидела, откуда доносились эти звуки, увидела то, о чем говорил мне мой слух.
Безжизненное пространство простерлось передо мной, безжизненное пыльное поле, усыпанное серыми камнями различных размеров и форм; а между тех камней в поле были пятьдесят или шестьдесят мужчин и женщин с молотками в одной руке и зубилами в другой, раскалывающие камни на две части, затем раскалывающие получившиеся камни на более мелкие, до тех пор, пока они не превращались в гравий. Пятьдесят-шестьдесят чернокожих мужчин и женщин, ползающих по полю с молотками и зубилами, бьющие по камням точно так же, как солнце било по их телам, без никакой тени вокруг, и пот, блестящий на каждом лице. Я стояла и долго смотрела на них. Я смотрела и слушала, вспоминая, если я когда-нибудь видела что-нибудь подобное в моей жизни. Это была работа, обычно связанная с заключенными, с людьми в кандалах, но на них не было цепей. Они работали, они зарабатывали, они пытались прокормить себя. Музыка камней была витиевата и неповторима, музыка пятидесяти-шестидесяти звенящих молотков, каждый из которых двигался со своей скоростью, каждый из которых придерживался своей каденции, а вместе они образовывали раздражающую, величественную гармонию, звучание, вошедшее в мое тело и оставшееся во мне так надолго, что даже сейчас, сидя в самолете, пересекающем океан, я все еще слышу звон тех молотков в моей голове. Это звучание всегда будет со мной. До конца моей жизни, неважно, где я буду, неважно, чем я буду заниматься, оно всегда будет со мной.

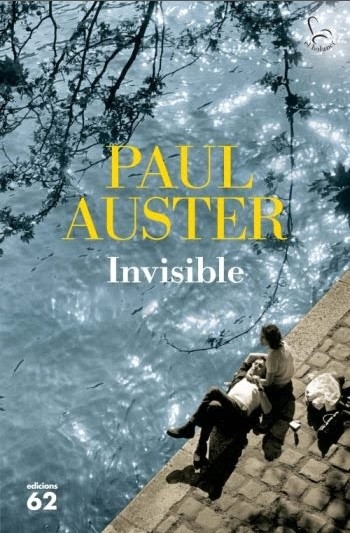



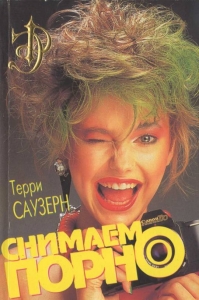

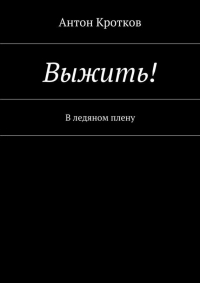
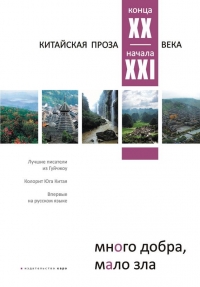
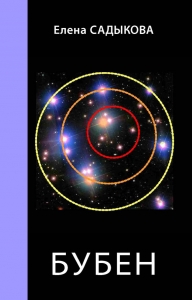

Комментарии к книге «Невидимое (Invisible)», Пол Остер
Всего 0 комментариев