Николай Беспалов Женские истории пером павлина
© Беспалов Н. А., 2015
© Написано пером, 2015
От автора
Наверное, каждый из нас однажды задавался таким вопросом: «Как сложилась бы моя жизнь, появись я в другом месте и вокруг меня оказались бы совсем другие люди? Как бы я жил, если бы выбрал другую профессию? Как бы я поступил, если бы попал в критическую ситуацию?.. Некоторые вообще считают, что человеческая личность вовсе не однозначна и состоит из множества разных персон, каждая из которых может проявиться при определенных обстоятельствах. И героиня повестей – Тамара Инина – фактически проживает четыре разные жизни.
Рисунок в тексте принадлежит автору
Квартирный вопрос
– Я тебе так скажу, подруга, никогда я не жила в коммунальной квартире. Моя школьная подружка Наташка Сизова, та – да. И не просто в коммуналке. Папаша ее работал кем-то в военном училище. Они там жили в одной комнате в офицерском общежитии. Спала она за трехстворчатым шкафом. Она мне рассказывала.
– Ты только послушай, Тамарка, – говорила она мне, когда мы в Зеленогорске готовились с ней к экзаменам, – мне двенадцать лет. Мне уже не надо было лапшу на уши вешать, откуда дети берутся. Я лягу на свою раскладушку, а они тут же приступают к выполнению супружеского долга. Разойдутся и ничего не помнят. Папаша матом кроет, а мамаша так рычит, так рычит. Я в зоопарке такое слышала. Так львица рычит. Потом заместитель командира по АХЧ проникся (так мама говорила и при этом усмехалась, как баба гулящая) и дал нам еще комнату. Точнее, не комнату, а коморку…
Пояснение.
Тамаре в этот момент двадцать. Ее же подруге, когда та поселилась в комнатке-коморке, было пятнадцать. Там, в этой комнате, она и стала женщиной. Курсантам пятикурсникам разрешалось ходить в офицерское общежитие. От кого Наташа заразилась палочкой Коха, не установлено. Вылечили Наташу. Полгода она провела в туберкулезной больнице в Озерках. Там познакомилась с молодым инженером. Там дала свое согласие на брак с ним. Но об этом – позже…
С Наташей мы разошлись надолго. Она заболела, я поступила в институт. Завертело, закрутило. Годы студенческие, годы молодые. Бессонные ночи. Походы на Карельский перешеек.
На пятом курсе я поехала в Казахстан на целину. Мама с папой мои очень переживали, как я там буду. Привыкли, что я всю дорогу рядом.
Кстати, о моих родителях. Папа мой – горный инженер, мама – учитель географии. Предмет «не бей лежачего». Не то что история. Там, что ни год, меняй конспекты. То Сталин – преступник, то он уже великий полководец. То Хрущев – самый прогрессивный из всех руководителей партии, то самодур. Нет, география лучше. Волга не потечет вспять.
Когда я пошла в школу, папу отправили на Новую Землю. Там он строил какие-то шахты. Их использовали для атомных бомб. Потом папа поехал на Шпицберген. Заработал кучу денег. Купил «Москвич», отложил деньги на сберкнижку. И жили мы хорошо. Четырехкомнатная квартира в центре города. Нас тогда было пятеро. Папа, мама, бабушка, брат и я. Комнаты большие. Длинный коридор. Потолки под пять метров. Сосед в одной комнате сделал второй этаж и там спал.
Так жили мы до той поры, пока братик мой не привел в дом жену. Все бы ничего, но жена была с «приданым». Годовалая Анечка была чудесной девочкой. Только ни капли не похожей на брата моего.
Мать с первых минут возненавидела невестку. Что та ни сделает, все ей противно. А вроде интеллигентная женщина мама моя.
Папа весь в работе. Он и ГИП, он и парторг отдела. Мой папа вступил в ВКПб еще в 1944 году.
Папе не до дел семейных. В выходные сядет в свой «Москвич» и уедет на весь день за город. То на рыбалку, то по грибы и ягоды.
Мама тоже дома старалась не задерживаться. Она все больше по пригородам. Пушкин, Павловск, Петергоф. Наберет своих оболтусов – и в путь-дорогу. Дом на бабушке. Я ей иногда помогу сходить на рынок. Люблю ходить на рынок.
Ближе всего к нашему дому рынок на Васильевском острове. Если погода была хорошей, мы туда с бабушкой шли пешком. Идем, бабушка мне о своей молодости рассказывает. Моя бабушка человек странный. Так мне кажется. В войну она на себе вынесла с поля боя почти сотни солдат. За это ее наградили орденом Красной Звезды. В сорок девятом году ее арестовали по «делу врачей». Бабка работала в больничке, где лечились всякие начальники. Пять месяцев ее держали в тюряге.
– Не дай Бог попасть туда! В камере нас пятнадцать человек. Спим по очереди. От параши вонь. Бабы сходят с ума без мужицких рук. Сами себя удовлетворяют. Когда меня выпустили, я чуть в обморок не упала. От свежего воздуха.
Вот и пришли на рынок. Бабушка начинает обход. Если ей надо купить квашеную капусту, то она раза два обойдет ряд, прежде купит. Граммов триста. Как орут торговки! Как орут! Мне смешно. Я тоже напробуюсь всего. Дома есть уже не хочу. Это детство. На лето мы с бабушкой уезжали в Териоки. Так она называла Зеленогорск. У нас комната и веранда. У меня еще и беседка. Там мы с подружками устраивали наши посиделки. Кто что врет. Я слушаю. Это мои «университеты». Там я узнала, что такое эрогенные зоны, менструальный цикл.
Бабушка умерла, когда я поступала в институт. Жара стояла неимоверная. Мы, молодые и здоровые, задыхались. Что же говорить о женщине, перенесшей инфаркт. Когда приехала «скорая», бабушка уже не дышала.
Умерла она – и как будто выдернули из нашей семьи некий стержень. Родители будто с цепи сорвались. Папа иногда не ночевал дома. Мама не отставала. Ни тебе обедов, ни завтраков. В институт уходила с одной чашкой кофе в животе. Братик с женушкой отделились. Отдельный стол на кухне, свои ножи, вилки-ложки. Купили себе холодильник и поставили не на кухне, а у себя в комнате. Это маму сильно раздражало.
– Что же она, – и мама делает кивок в сторону их комнаты, – считает, что мы воры и полезем в ее холодильник? Нужны мне ее пельмени сибирские.
Говорит громко. Так, чтобы невестка слышала. Та слышит и тоже кричит: люди вроде культурные, а туда же! Как узнала, что я вчера купила пельмени?..
Ну и пошло-поехало. Как говорит наш дворник дядя Карим, слово за слово и тем самым по столу. Доходило до битья тарелок. Мама бьет ихние. Невестка наши. Я тогда из дому уходила. Гуляла по Невскому. Там витрины красивые. Особенно мне нравилась витрина ателье по пошиву напротив кино «Баррикада». Стою, мечтаю. Вот такой бы костюмчик, да вот такую юбку мне.
В институте математика, теормех и сопромат. Скукотища. Я себя представляю где-нибудь в большом зале. Много света. Все нарядно одетые. Музыка. И все танцуют. Что это такое? Не знаю. Одно знаю: я там самая красивая и важная.
Устану и иду домой. Там тишина. Они тоже утомились. Так и жили. Что ни день, то скандал. Один раз мама с невесткой сцепились в рукопашную. И, что интересно, в этих битвах мама оказывается победительницей. Невестка уползала к себе с расцарапанной физиономией. Ни папа, ни брат в их драчки не вмешивались. Маленькая Анька ревмя ревет. Соседи стучат в стену.
Ну, разве это жизнь? Хуже, чем в коммунальной квартире.
– Отец, уйми свою жену, – это так у нас начинается утро. – Она уже перешла все границы приличия. Это же какой-то Зощенко.
Невестка стоит у плиты, кашу варит для Анечки. По спине вижу, как она переживает. Актриса. Ермолова. Папаша вошел на кухню и спросонья не врубается:
– При чем тут Зощенко? Его партия осудила. И при чем тут я? – Он достает из холодильника поллитровую банку с холоднющей водой и пьет ее большими глотками.
– Павлик, – вступает невестка, – ты что, не видишь – твой папа с похмелья. Он ничего не соображает.
Наш папа, член КПСС, парторг отдела, ударник коммунистического труда, главный инженер проекта, от такого даже поперхнулся.
– Вы, – он не может откашляться. – Вы, Надежда…
Что сказать дальше, он не знает. Не мастак он в кухонных баталиях. Была бы мама, она бы ответила. Достойно. Я молчу. Зачем мне ссориться с братом? Он ведь мужик хороший. Попал под каблук и не может выскочить…
Матери дома нет. Уже год, как я замечаю: у них что-то не так. Прожили они двадцать девять лет бок о бок. То, что прозвано любовью, испарилось. Это естественно. А уважения ни у папы к маме, ни у нее к нему нет. Не нажили. Как и добра большого. Дети – наше добро, говорил папа, когда мама начинала жаловаться. Мы с братом выросли. Я весной диплом получу и пойду работать на «Большевик». Меня уже туда распределили. Я узнала, там молодым специалистам сразу сто двадцать дают. Не то что на других заводах или КБ. Там сто от силы. А что такое в наше время двадцать рублей? Папа бы пересчитал на поллитровки. Это семь «Московских» и еще пачка «Авроры». Я считаю колготками. Четыре пары импортных. Других мне не надо.
Стою в своей комнате. У брата с семьей – две. У мамы с папой одна. Мне выделили ту, где раньше столовая была. Все равно вместе мы не обедаем, так что в столовой нужды нет. Мама отдала мне свой платяной шкаф. Папа купил тахту. Кресло я взяла из столовой. Бабушкин ковер постелила на пол у тахты. Хорошо, что бабушка не видит и не слышит этих ежедневных скандалов. Чего я говорю-то. Грех это.
– Тамара, чайник вскипел, – зовет папа.
Папа смотрит по телику «Время». Мне не интересно, сколько стали выплавил какой-то завод или где уже начали собирать урожай зерновых. Дождусь спорта. Это ничего еще.
Слышу, на кухне началась возня. Невестка вышла. И что они там с братиком моим не поделили. Нюта подключилась. Какофония!
– Прикрой плотнее дверь, дочка.
– Тут прикрывай, не прикрывай. Все равно она перекричит любую шумозащиту.
Только я закончила выговаривать это мудреное слово, как оттуда трах-бабах. Потом звон. Ну, уж это слишком. Так они в запарке и нашу посуду перебьют.
Вот оно что. Это мать наша подключилась. В таком гвалте голосов не различишь. У невестки рожа уже располосована. Она сидит на корточках у плиты и размазывает сопли, слезы и кровь по лицу. Добавьте еще косметику. Картина маслом.
– Это предел, – театрально вскинув руки, возглашает мой братец. – Этого дальше терпеть невозможно!
Диспозиция же такова. Как я сказала, невестка сидит у плиты, мать стоит у нашего стола, он у окна. Ее темный силуэт хорошо просматривается всем, кто в этот момент заглянет к нам на шум. У нас бельэтаж.
Момент – и банка с майонезом «Провансаль» летит в сына, то есть в моего брата и мужа Надежды. Банка пролетает мимо головы братца и разбивается о стену над плитой. Жирное пятно медленно стекает по штукатурке. Оно еще сыграет свою роль подобно ружью по Чехову.
Что тут началось! Или продолжилось. Невестка вскочила. Как чертик из табакерки. Как заверещит. Как ручками замашет:
– Милиция! Убивают!
Мамаша от испуга даже присела. Тут и папа подоспел.
– Кого убили?
Мать и невестка ретировались. Передохнуть после битвы. На кухне остались трое: папа, брат и я.
– Ты видишь, отец, так больше жить нельзя.
– Так и не живи так. Укороти свою жену!
– Это не она начала. Это твоя жена все. Это она, – братца начало трясти.
– Она моя жена, а тебе – мать.
– Мать хуже мачехи.
И опять в ход пошла «артиллерия». В брата полетела пустая бутылка из-под пива. Она не наделала никаких увечий цели и не оставила таких следов на стене, как майонезная банка. Шуму же от нее было больше.
– Размен! – вскрикнул брат и выскочил из кухни.
– Пойдем, дочь, на улицу. Освежимся.
Морозец, легкая поземка. Пусто. Снежинки вертятся, крутятся вокруг фонарей. Красиво. Я взяла отца за руку, и так мы пошли в сторону Невы. У Медного всадника отец остановился, повернул меня лицом к себе.
– Ты как считаешь, меняться нам?
– Конечно. Мне тебя жалко. Сколько ты хлопотал за эту к вар тиру.
– Это жизнь дочка. Пошли спать!..
В ту ночь я спала плохо. То и дело просыпалась.
Утром меня разбудил звонкий крик девочки Ани. Был тот крик не тревожен, а радостен. Так пищат дети, увидав нечто восхищающее их. Дитя верещать перестало, но вступила его мать:
– Иди, умойся, поросенок. Как ты в садике ешь?!
Слышу звонкий подзатыльник. Наверное, и невестку в детстве били по голове. Вот и выбили все мозги.
Уже бьет девочка кулачками в дверь. Стучит и стучит. Надо вылезать. Дверь вышибет.
День начался. Воскресенье, а радости никакой. Телефон свободен. Быстро набираю 005. Это справочная по кино. В «Октябре» идет «Некоторые любят погорячее». Не хочу смотреть второй раз. А вот в «Художественном» то, что надо, «Мужчина и женщина». Французское кино мне нравится больше американского. Мчусь. А то, что не поела, так то пустяк. В кино и поем. Мне мороженого достаточно. Люблю пломбир с шоколадной крошкой.
На Невском народу – не протолкнуться. Как в трамвае. Морозец и яркое белесое солнце. Изо рта пар. Так и идет народ с паром над головами. Иду, и вдруг в нос такой запах, такой. Что-то жареное. У меня еще три рубля. Хватит на перекус в кафе «Север». Там очередь. Небольшая. Подожду.
– Девушка, как вас зовут?
Хмырь белобрысый. Не противный.
– Одри Хепберн. А что?
– Это здорово. А я Грегори Пек. Устроим римские каникулы?
– На три рубля римские не то, что каникулы не устроишь, поминки – и те не получатся.
– Какие мрачные мысли. А вы знаете закон сложения двух масс? Не математический.
– Вы физик?
– Отнюдь. Я учусь на филфаке в универе. Так что я, скорее, лирик. И зовут меня в мирской жизни Андреем.
– Тамара, – руку протянула. Его рука сухая и сильная.
– Я предлагаю сменить место наших гастрономических притязаний.
– Проще можешь? Куда пойдем. Отстояли уже полчаса.
– Рядом есть столовая. Вполне приличная, и цены наши. Студиозные. Ведь ты студентка?
Вот так я познакомилась с тем, кто скоро станет моим мужем. Изгибы, извивы, выкрутасы судьбы.
Долгим было наше застолье в столовой на втором этаже. Мои три рубля и его пятерик – это сумма. Одно скажу, бутылку вина мы выпили. И закусили хорошо. Мне понравился рубленый бифштекс с яичницей.
– Завтра я буду ждать тебя у входа в Публичку.
– Мне там делать нечего.
– Зато мне там есть чего делать.
Ну и парень! Быка за рога взял.
– Ты чего это раскомандовался? Не нанималась.
– Ты не нанималась, я нанялся. Буду теперь образовывать тебя. Вы, технари, все серые, как штаны пожарного. А мне нужна жена образованная разносторонне.
Тут я совсем онемела. Еще и не целовались, а уже – жена. Так и сказала: ты меня даже не поцеловал.
Договорить не дал. Впечатал такой поцелуй, что, думала, умру тут же.
– Никогда не выражай своего сомнения в моих достоинствах. Я этого не люблю.
Что же, думаю, посмотрим на твои «достоинства». Дай срок.
Стемнело, и народу на улице поубавилось. Мы идем рядом, но не в обнимку и даже не за ручки. Так себе идем и все тут.
– Мой автобус. До завтра! – и прыг на подножку.
Кавалер называется. Черт с ним. Так я и пошла на свидание к этому ненормальному!
– Долго гуляла, дочь, – мамаша одна сидит на кухне и курит свои ментоловые сигареты. Как можно курить такое? Что сигарету выкурил, что зубы почистил. Один вкус.
– А тебе-то что? Гуляла долго – лишь бы вас всех не видеть и не слышать.
– Скоро, скоро ты меня не увидишь. Скоро, – и, что бы думали, при мне выпивает стакан водки. И это моя мать. Женщина, которую от одного ее запаха чуть ли не тошнит.
– Если так пить, то и вправду скоро можно окочуриться.
– Не дождетесь. Я вас всех переживу. Развожусь я с твоим отцом, алкоголиком. Квартиру будем менять. От невестки избавлюсь. Хрен ей отдельная квартира достанется. Поживет в коммуналке – поймет, что это такое.
Тут и сама невестка.
– Я-то проживу как-нибудь. А ты, старая стерва, подохнешь в своих хоромах.
Все. Больше не могу. Сбегу от них к этому чудику. Хоть в Публичку, хоть в районную библиотеку.
Ну, вот теперь скажи мне, не судьба ли это. Я в Бога не верю. В судьбу верю…
Итак, что же произошло дальше? Три месяца к нам ходили всякие личности. Не снимая грязной обуви, они шастали по всей квартире. Бесцеремонно заглядывали во все уголки. И каждый обращал внимание на пятно от майонеза над плитой: это что – у вас протечка? Спрашивали и уходили.
– Так на нашу жилую площадь никто не поедет, – резюмировала невестка. – Надо замазать это пятно.
– Тебе надо, ты и замазывай, – отрезала мамаша.
– Это надо же какая наглость! Она швыряется, а мне замазывать.
– Не доводила бы, я бы не потратила майонез. Замазывай! – развернулась и ушла. Забыла моя бедная мамаша, что банку-то швыряла в сыночка. Столько пить – всякую память отшибет.
Время идет. Пятно расплывается. Люди отворачиваются. В квартире перемирие. Лишь поутру скандальчик. Такой маленький, уютненький. Домашненький котик такой.
Но бывают и в наши дни чудеса. Прихожу как-то рано утречком, чтобы никого не встретить, на кухню, а пятна и нет. У художника Малевича есть картина «Черный квадрат». У нас на стене картина неизвестного художника – «Белый квадрат». Кто замазал пятно, осталось тайной. Я думаю, что это сделала Надежда. Она до выхода замуж работала маляром. Очень профессионально нарисован квадрат.
Экзамены и зачеты я сдала. К Публичке все же пришла. И не пожалела. Андрей имел пропуск в зал, где иностранные журналы. Он занимается своими делами, я смотрю немецкий «Шпигель», французский «Пари-матч» и даже американскую порнушку «Плейбой».
Там и буфет хороший. Дешево и сердито. Так бабушка говорила, когда приходила из магазина и приносила колбасные обрезки. Андрей оказался не такой уж урод. Я имею в виду его характер. Так-то он вполне симпатичный парень.
У меня и у него каникулы. Времени вагон и маленькая тележка. До часу мы сидим в Публичной библиотеке. Там и перекусим. Потом придумываем, чем свои ноги, руки и голову занять. О других частях тела я не говорю. Это уже вечером.
Забыла сказать. Андрей живет с матерью в трехкомнатной квартире на Охте. Я там никогда и не была. Слышать слышала, но не бывала. Живут они с мамой на Большой Пороховской, в доме номер 18, на четвертом этаже.
– Отец мой был главным инженером на заводе имени Карла Либкнехта. Ему эту квартиру от завода дали. Нас тогда четверо было. Бабушка жива еще была. Отец умер год назад. Прямо на работе. Он утром в цеха ходил. В цеху и упал. Инсульт. Какой-то то ли столбовой, то ли стволовой. Вмиг умер.
Это он мне рассказывает в той самой столовой на втором этаже. Мне его рассказ есть не мешает. Спрашиваю о матери, и он меняет тон. Такое впечатление, что начинает говорить о девушке любимой. Мама у него и красавица, и умница, каких среди женщин поискать надо. Она так готовит, что объедение. И шьет-то она лучше, чем в первоклассном ателье. Я слушаю и думаю: сейчас начнет расписывать ее сексуальные достоинства. Он допил компот и, что думаешь, так и брякнул:
– Она похлеще Клеопатры в сексе будет.
– Ври, ври, да не завирайся. Бога побойся!
Тут он соображает, что ляпнул лишнее:
– Пошли уж. Погуляем.
Замял для ясности. Ну, пошли. Мороз. Влажность все 90 %. Ноздри слипаются. Кожа на лице скукожилась. Под юбку дует. Ноги мерзнут. И это гуляние? Уж лучше на наше Куликово поле, чем такая гулянка. Кино мы все пересмотрели. «Мужчину и женщину» я, например, посмотрела три раза.
Денег на кафе нет, так что и мороженого не поешь. Дошли до Казанского собора, и тут мой кавалер говорит:
– Пошли в музей атеизма. Очень часто ты что-то о Боге вспоминаешь.
Это привычка такая у меня. Наверное, от бабушки. Она в субботу в церковь ездила. А была, как и папа, членом партии.
В Казанском соборе хотя бы тепло. А лекция, что тетка прочла, в одно ухо вошла, в другое вылетела. Если бы я была верующей, то имело бы смысл убеждать меня в том, что Бога нет.
Отогрелась пташка. Уже и домой не тянет. Смеркается, а мороз отпускает. Это так всегда. К ночи теплеет. Уже не щиплет в носу и кожа разгладилась.
– Поехали ко мне, – прерывает мои мысли Андрей, – познакомлю с мамой.
Поехали. Промерзший трамвай. Гололед на тротуаре в этой Охте. Тут вам не центр. Люди перемещаются по улицам бегом. Мороз крепчает. Вот открылась дверь в какое-то заведение питейное, и оттуда пар.
Андрей, меня не спросив, затаскивает и меня туда. Дымно, но тепло.
– Займи место, – говорит мой жених незваный, а сам к стойке.
Я к окну. Там у полки вдоль стены есть местечко. Юрк – и зажалась, как боец в окопе. Не выковыряешь. Окно в узорах. В небольшое «оконце» в инее видна улица. Засмотрелась и не заметила, как Андрей сделал две ходки. И вот уже на полке два стакана, тарелка. В стаканах водка, на тарелке бутерброды с килькой.
– Отогреемся немного, подкрепимся и пойдем.
Я так понимаю, что дома у них кушать нечего и холодно. Прошла минута, и в моем животике потеплело. Кильку я не доела. Какая-то склизкая она. Ржаным хлебом закусила – и сыта.
В забегаловке не застоишься. Сидячих мест тут нет. Народу набилось. Каждому хочется причаститься. Это я услышала от папы. Придет с работы выпивший. Мама ворчать начнет, а он ей в ответ:
– Нам, коммунистам, в церковь вход заказан, вот так и причащаемся.
– Идти-то долго? – я хоть и согрелась изнутри, а ноги мерзнут все равно. Пошла на свидание форсу ради не в теплых сапожках, а в легких полусапожках.
– Уже пришли.
Дом семиэтажный. Четыре подъезда. Мы зашли в третий. Удивительно: там чисто. Мочой не воняет. Почтовые ящики не сломаны, и лифт работает. В лифте надпись «Маша + Миша = любовь». Наверное, под воздействием ее Андрей стал целовать меня в рот. Слюняво и торопливо. Хорошо, ехать нам только на четвертый этаж. Иначе не знаю, чем бы это кончилось. Может быть, врезала бы ему по физиономии и не стали бы мы мужем и женой. Я же говорю: судьба.
За дверью великолепная женщина. Это я вам серьезно говорю. Без приколов. Высокая, грудь впереди ее на метр. Шутка. Глаза зеленые, брови черные.
– Проходите, коли пришли.
Ну и голос! Ей бы на плацу командовать.
– Тамара, знакомься, это моя мама. Виолетта Геннадьевна.
– Андрей у меня человек творчества и потому далек от этикета. Он должен представить вас мне, а не наоборот. Так как вас звать?
– Тамара, моя мама долго работала в представительстве МИД. Это оттуда.
Мне плевать, где работала его мамаша, но одно я вижу. Никакая она ему не мамаша. Он белобрыс. Она черна, как цыганка. У нее кость широкая и рост гренадера. Он хоть и тоже высок, но тонок в кости.
– Значит, Тамара, вы решили обрести это чудо? Большую ответственность на себя берете, милочка.
– А я не милочка. Я скоро выхожу на диплом и буду работать на «Большевике». Инженером-конструктором.
Вижу, Виолетта Геннадьевна начинает покрываться краской цвета побежалости. Но сдержалась. Улыбнулась так, что мурашки по спине.
– Что же это мы в прихожей? Проходите на кухню!
Все у них красиво. Чистота невероятная. Так нормальные люди не живут. Ни пылинки, ни соринки.
Отступление.
Сообщим здесь то, что в данный момент Тамара знать не может. Как и Андрей. Родители Андрея погибли в экспедиции, когда ему было три года. Оба они были геологами, что называется, от Бога. Их стихия – работа в поле. Каждое лето, скорее, с ранней весны они отправлялись на поиски руд редкоземельных металлов. В тот год река Северная Сосьва разлилась быстро и бурно. В ней и утонули отец и мать Андрея. Остался мальчик на попечении тетки отца. Так бывает. Тетка была старше племянника, то есть отца Андрея, на три года. В памяти мальчика она укоренилась как мама…
Ужин был тоже какой-то стерильный. Слабый чай с бутербродами. Сыр сухой и соленый. Я молчу. Чего мне? Мне бы поскорее домой. Устала я от Андрея. Виолетта Геннадьевна как будто почувствовала:
– Андрей, Тамаре пора домой. Проводи девушку до трамвая. Я буду ждать.
Такая вот у меня будущая свекровь. Не до дома проводи. До трамвая и все. Скорее под юбку к ней. Андрей ни одним словом не перечит. Послушный мальчик.
На улице пусто. Потеплело, и небо заволокло тучами. До остановки трамвая мы шли молча.
В трамвае я решила. Больше с Андреем не встречаюсь. Что-то неестественное было у них. У него и его мамаши. Все-таки у меня дома лучше. Пусть скандалят, пусть не так красиво и чисто. Но естественно. Просто по-людски. Не спросила, чем эрзац-мамаша занимается сейчас. Андрей сказал, раньше работала в каком-то представительстве. А теперь?
– Девушка, а девушка, – какой-то тип сел впереди и дышит перегаром в лицо.
– Отвали, сажа! Морду искровеню!
Испугался. Алкоголики – трусы. Они чуть что – в штаны напустят. Андрей много пьет. Может стать алкоголиком. Они все импотенты. Мотаю, мотаю мысли, и все они сходится к одному – бросать надо Андрюшу, маменькиного сыночка.
Вожатый будто проснулся и как заорет в переговорник: «Угол Садовой и Ломоносова!» Мамочки! Чуть не проехала.
Дома тепло и тихо. Отгремели бои местного значения. Светится белый квадрат над плитой. В окне – желтый свет фонаря у моста. Никого. Открою форточку и покурю. Болгарские сигареты «Опал» я стала курить недавно. Раньше курила наши. Дешевле.
Выкурила почти всю сигарету. Глаза привыкли к полумраку за окном. Старый деревянный мост снесли и на его месте строят новый. Каменный. С нашего берега строители уже навели один пролет. Везде снег, а на нем нет. Серый горб без перил изогнулся и торчит. Что-то там валяется. Тряпка, что ли, такая большая. Докурила сигарету до фильтра и пошла спать. Вот такая скукота. Что Андрей? Тоже скука.
Закрыла глаза, натянула до подбородка одеяло. Лишь бы эта Виолетта не приснилась.
В восемь утра я вылезла из-под одеяла. С надеждой никого уже не встретить на кухне. Накинула халат – и мигом в ванну. Душ. Зубочистенье. Швырк гребешком по волосам. Все, я готова.
Отец сидит у окна и курит. Это допустимо. Кухня в моем распоряжении.
– Как дела?
Америкашки задают свой вопрос How are you просто так, не ожидая ответа. У нас ждут.
– Тебе развернутый ответ на часик с небольшим или ограничимся сокращенным вариантом?
– Все шуткуешь. А у нас такие тут дела. Такие дела.
– А тебе чего – на работу сегодня не надо?
– У меня местная командировка. Не тороплюсь я. А все умотали. Даже мать твоя ушла.
Странно. Мать работает в ателье. Оно открывается в одиннадцать.
– На мосту нашего дворника убитым нашли.
Так вот что, вернее, кто там лежал ночью. Отец закуривает новую папиросу и продолжает:
– Участковый сказал, что это так называемое бытовое убийство. Дико звучит: бытовое убийство. Будто чайник вскипятить. Чик ножиком по горлу – и всего-то. Еще говорят, они с сыном очень не ладили. Сын как из армии пришел, так стал требовать себе отдельную комнату. Жениться надумал. Отец ни в какую. У него там мастерская. Обувь починяет без лицензии.
Я уже сварила овсянку и теперь ем ее с сыром и чаем.
– А у нас вечером опять скандал был, – продолжает отец. – Метры делили. Мать говорит, что им полагается одна треть. Надежда кричит, она с матерью иначе разговаривать не может. Что половина… А про дворника говорят, что у них в подвале тоже крик был.
– Что же, сын таким образом решил свою жилищную проблему. Теперь и жениться можно.
– Ты думаешь, это он отца-то?
– Ничего я не думаю. Нам бы самим тут друг дружку не поубивать. Больно вы все экспрессивные. Чуть что за посуду хватаетесь, а то и банками швыряетесь, – показала я на белый квадрат и пошла к себе. Наводить марафет на рожу. Реснички, веки, бровки, губки. Кажется, все. А что? Вполне приличная рожица. Мама говорила о себе так: мое лицо лишено классических норм, но весьма привлекательно и обаятельно. Чем я хуже? Вполне обаятельная. Впрочем, лицо не главное. Главное в женщине – ее тело, то есть фигура. Слышу, отец хлопнул входной дверью. Странно это. Он всегда кричит мне: «Пока!»
Прошла минута. Нет. Не ушел отец. С кем-то разговаривает. Второй голос мужской. Еще раз смотрюсь в зеркало. Можно выходить «в свет».
– Тамара, – зовет отец, – Тамара, с тобой хочет поговорить товарищ.
Никакого товарища я не жду, но иду. Товарищ этот – милиционер незнакомый. Участкового мы все хорошо знаем. А то как же! Соседи вызывают, когда у нас разборки особо громкие.
– Вот товарищ лейтенант хочет задать и тебе несколько вопросов.
И началось. Что вы видели, когда это было? Вспомните еще чего. Чего я видела? Тряпку какую-то на стройке. Вот чего я видела ночью. Мне что больше всех надо рассматривать что-то в темноте, да среди ночи? Он не отстает: а что вы делали ночью на кухне и когда пришли домой?
– Это я его зарезала. Не понравился мне, и зарезала.
Тут уж он разошелся:
– Откуда вам известно, что зарезали? И чем он вам не нравился, дворник?
Я просто так сболтнула, а он прицепился. Я рот раззявила и молчу. Мой папа вступился. Врет и не краснеет:
– Дочка полночи провела рядом со мной. Я гипертоник. Давление зашкалило. Вот Тамара и не отходила от меня. Можете поинтересоваться в нашей клинике, – и даже фамилию врача называет.
Милиционер стушевался и стал составлять протокол.
Через месяц мы с папой узнали, что сынишка отмазался. У него алиби. Он в ту ночь провел в вытрезвителе.
Скоро он привел в дом молодую жену. Отремонтировал квартиру, и она стала ничем не хуже других. Свадьбу гуляли цыгане три дня. Умеют они веселиться. Квартирный вопрос решился.
Отступление.
Сколь необходимое, столь и краткое. Старший лейтенант, заместитель начальника районного медвытрезвителя товарищ Пьяных (это не шутка), за ящик водки выдал сыну убитого дворника справку о том, что он находился в подведомственном ему учреждении с такого-то часа по такой-то именно в день убийства.
– Тамара!
Бог ты мой, мне звонит сама Виолетта Геннадьевна.
– Я бы хотела поговорить с вами tet-a-tet и на нейтральной территории. Вам удобно сегодня часа в три дня?
У меня лекции до трех. Так и говорю.
– Тогда в четыре. Вы же учитесь недалеко от Загородного проспекта. Я там работаю. Знаете кондитерскую на углу со Звенигородской?
Знаю я эту кондитерскую. Там и кофе продают. Там мы с ее сыном позавчера объяснились…
– Тамара, весной я сдаю госэкзамены, уезжаю по распределению в школу в Тверскую губернию, а ныне Калининскую область, в селение Конаково. Туда я поеду с женой. Так что завтра в десять я жду тебя у нашего загса.
– Ты меня спросил, хочу ли ехать в этот город и вообще выходить за тебя?
– Первое. В Конаково мы проживем от силы год. Мне нужно собрать материал, и я тут же возвращаюсь в Ленинград. Александр Александрович (я уже знала, что это их завкафедрой) обещал взять меня к себе аспирантом…
Мы договорись так: расписываемся, но ни в какой город я не еду. Он соберет свой материал и тогда все будет по-настоящему. Как мы смеялись, когда он сказал, что наденет на меня пояс верности…
Чего же хочет моя будущая свекровь? Регистрацию нам назначили через месяц. Наверное, хочет отговорить меня от этого шага. Как говорит Леонид Ильич Брежнев, судьбоносного.
– Тамара, я не против тебя, – начала Виолетта Геннадьевна, отхлебнув кофе. – Ты девушка хорошая. Учишься в таком вузе, – мнется она.
– Я не пара вашему умному, тонкому, слабому мальчику. Так?
Она молчит, а я продолжаю:
– Не в этом дело, любезная Виолетта Геннадьевна. Скажите мне откровенно, вы сами по уши влюблены в этого мужчину. И никакой он вам не сын. Так? – бью наотмашь, по наитию.
– Как ты узнала, ведьма?
Люди в кондитерской стали оборачиваться на нас. Я силой увела женщину. Свежий воздух охладил ее.
– Как ты прознала? Как? – не унималась Виолетта Геннадьевна. Мы шли в сторону Московского проспекта. Я думала, как отделаться от этой истеричной бабы, находящейся, вероятно, в пике климакса. Она сама решила этот вопрос.
– Что ты привязалась? – как будто это я пригласила ее. – Отвяжись и запомни: я моего мальчика тебе так просто не отдам. Не для того я его растила, чтобы ты наслаждалась.
Вот оно все и открылось. Патология какая-то. Мы разошлись в разные стороны почти у входа в институт, где я училась.
Нужно было время, чтобы обмозговать происшедшее. Куда идти? Не в кафе же. Устроилась в пустующей аудитории. Уселась на самый последний ярус амфитеатра и закурила. Никого же нет.
Итак, что мы имеем? Мы имеем психически неуравновешенную пожилую женщину, молодого здорового физически и развращенного ею человека. Они вдвоем живут в большой трехкомнатной квартире в отличном доме и хорошем месте. Это с одной стороны. С другой – постоянно скандалящие, на грани рукоприкладства мои родственнички. Жить с ними – это перманентная пытка. Ну, разменяют они нашу старую квартиру. И что? Что достанется мне? Там же, на Большой Пороховской, я смогу сделать так, чтобы у меня была своя жилплощадь. Решено. Регистрирую брак с Андреем и переезжаю на полном праве туда. Опыт жизни в состоянии военного перемирия у меня есть. Мало свекрови не покажется…
– Значит, ты выходишь замуж, – то ли спрашивая, то ли констатируя, говорит отец. Как обычно, мы сидим в моей комнате. Он пьет водку, ест готовые котлеты по сорок копеек за штуку и курит. Я не возражаю. Через неделю я уеду отсюда. Завтра в загс – и тю-тю отсюда.
– Придешь?
– Пригласишь – приду.
– С утра не пей завтра. Потом напьешься.
– Так-то ты об отце. А мать пригласишь?
– Нет. Я ее уже две недели не вижу.
Отец молчит. Он в последнее время все больше и больше пьет. И вот что интересно: пьет и почти не пьянеет. Наше убежище ожило. Аня смеется. Сейчас она начнет плакать. Это мамочка ее любящая приласкает тумаком. Потом мой братец вступит. Будет кричать, что бить ребенка не гуманно. Надежда будет возражать. Пошло поехало.
– Вроде наметился обмен, – отец говорит почти шепотом. До чего довела эта жизнь мужчину. – Нам на троих двухкомнатная квартира высвечивается.
На большее я и не рассчитывала. Ближайшие три года я буду жить в другом месте. Такой срок я определила себе для решения моей жилищной проблемы.
Я уже собралась уходить, когда отец сказал:
– Мать твоя с другим сошлась. Развода требует.
Сказал он это как-то мрачно, отрешенно. Так, будто речь шла не о нем. А я подумала: так и лучше. Для него, во всяком случае…
Наш брак мы с Андреем отметили скромно. За столом были свидетели этого безобразия: мой отец и Виолетта Геннадьевна. Отец не подвел меня. Приехал в загс трезвым. Был чисто выбрит, в белой сорочке и новом галстуке.
Я категорически отказалась облачаться в подвенечные наряды. Всякие там белые до полу платья, фаты, флердоранжи и босоножки на высочайших каблуках. Светлый костюм, кроткая стрижка и брошь на лацкане. Все! Босой я не была. Скромные на небольшом каблучке туфельки на моих ножках. Мой суженый был одет мамочкой-немамочкой в черный костюм из полушерстяной материи. Пара. Мы были единственной такой парой. Вокруг невесты в длинных платьях с фатами на головах и с вениками из цветов в руках.
Так третьего мая, сразу после майских праздников, мы вступили в законный брак. Пятого я переехала к Андрею. Солнце слепило, небо тускнело. Листва распускалась все больше и больше. Девушки, женщины и даже старухи начали обнажать свои телеса. По городу пополз запах свежих огурцов – начали продавать корюшку. А у меня настроение «корюшное». Поймали рыбку в сети.
Пятого мая я на грузовике, произведенном на заводе имени Горького, перевезла свой скарб на Большую Пороховскую. Я отказалась лезть в кабину и поехала в кузове, сидя в бабушкином кресле. Пожалела, что постриглась под мальчика. Как эффектно смотрелась бы с развивающимися волосами на проспектах и улицах города Ленина.
Перед отъездом я для отца устроила отвальную.
– Может быть, брата пригласишь? – робко спросил отец.
– А ты как хочешь? Один он не пойдет, а с невесткой у тебя, мне помнится, вчера была небольшая арабо-израильская войнушка.
На столе у нас было даже празднично. В домовой кухне я купила два салата. Столичный и крабовый. Там же раскошелилась – взяла заливной язык. Сама нажарила картошки и шницелей-полуфабрикатов. Отхватила даже свежих огурцов. Чем не стол?
Начали мы нашу трапезу в пять вечера. Отец пораньше ушел с работы, а у меня нет ничего неотложного в институте. Поели салатов. Выпили по две стопки водки. Одну бутылку я настояла на лимонных корочках. Это на десерт. Поговорили. Отец рассказывал, как работал на Новой Земле. Видел, как взрывают атомные бомбы. Он так красочно все излагал, что мне стало не по себе.
– Вот ты, Тамара, представь. Американцы сбрасывают одну бомбу даже не на сам Ленинград, а в залив. Так волной, что поднимется от взрыва, город снесет. Может быть, останется Исаакий и еще самые крупные и массивные строения.
Выпили за то, чтобы не было ядерной войны, и я пошла разогревать шницеля. Тут и мамаша пришла.
– По какому поводу праздник?
– Наша дочь уезжает, – отвечает папа.
– Что, невестка доняла?
– Тамара вышла замуж.
Что тут случилось с мамашей! Она вскочила со стула и принялась бегать по комнате, причитая:
– Это что же такое, это как же так? Родная мать ничего не знает!
Мы с папой ждем, когда этот спектакль закончится. По опыту знаем, пылу у мамаши хватит ненадолго. Так и есть. С раскрасневшимся лицом и потными подмышками она плюхнулась на стул.
– Все успели выпить. Матери не оставили.
Успокоилась тогда, когда ей налили «штрафную». И что же я услышала?
– В мае замуж выходить – всю жизнь маяться.
Что ж, поживем – увидим.
Слышим, пришла невестка с Анечкой. Тут не спутаешь. С порога в крик: «Боты снимай! Прислуги для тебя нет полы драить». Бедный ребенок. Одни подзатыльники. Это у Надежды называется воспитанием.
Наш вечер закончился. Все угомонились. Одна я не могла заснуть. Двадцать лет я прожила тут. Отсюда я пошла в школу. Здесь болела сильнейшей ангиной. Бабушка ночами не отходила от меня. Отсюда мы проводили ее в последний путь.
Я вспоминала то время, когда папа был в командировке. Как я ждала писем от него! В каждом письме он посылал мне рисуночек. Он хорошо рисовал. Мама говорила, что он писал ей стихи. Подумала: а ведь мне никто стихов не писал. Что там стихи, никто из мальчиков ко мне не приходил. Я боялась матери. Вспомнила мои первые страхи. Так называемые женские. И опять не мама, а бабушка объяснила мне все.
Майские ночи коротки. За окном посветлело, и я наконец-то заснула…
– Милочка (когда-нибудь я за эту «милочку» врежу Виолетте Геннадьевне по ее гладкой физиономии), договоримся сразу. Двух хозяек на кухне быть не может, а коммуналку я тут развести не позволю.
Пятого я переехала. Шестого распаковала вещи. Разговор со свекровью состоялся седьмого. Что ответить этой по-своему несчастной женщине?
– Чаю заварить или кашку сварить мужу тоже тут нельзя?
– Не надо утрировать. Я говорю об отдельных плашках, поварешках. Вы меня поняли, милочка?
– Поняла, милочка. Дурак не поймет, а я не дура.
Поняла мою «милочку» и она. Фыркнула и ушла. Что ж, пусть пока пребывает в приятном заблуждении. Время покажет, кто хозяин в этом доме. Андрей здесь не в счет. Он наукой своей занят. Мне не понятно, какая наука может быть в филологии. Физика, химия, математика – это понятно. Но тут… Не понимаю.
8 мая. Утро началось с того, что Виолетта Геннадьевна (надоело выговаривать ее имя, буду называть коротко – ВГ) устроила мини-скандал. Я не ту конфорку заняла под чайник.
– Поймите, чайнику не нужен пригляд и он может спокойно греться на дальней конфорке. Мне же нужно следить за молоком.
– Переставь и всего-то!
Как ее перевернуло от моего «ты».
– Не сметь говорить мне «ты»!
– Тогда и вы мне не тычьте. Я вам не девчонка.
В результате молоко «убежало». Я впервые услышала из уст мадам мат. Со знанием дела ВГ отослала и меня, и плиту, и само молоко куда надо. Жаль Андрей не слышал. Он в этот момент принимал душ.
Чайник вскипел. Молоко выкипело. Все на «своих местах». Можно завтракать. Не тут-то было.
– Ваши сосиски заняли половину холодильника. И зачем столько покупать? Не в блокаду живем.
– Пошла ты… – и я употребила неформальную лексику. Ей можно, а мне нет? Шалишь развратница! Ничего. Проглотила. Опять фыркнула. Ушла. Поле боя очистилось. Тут и мой муженек подошел.
– А где мама?
– Я тебе слюнявчик подвяжу. На этот раз без мамы обойдемся. Ночью ты же маму не звал помочь тебе.
– Грубо и пошло.
– Ты так думаешь? Ты послушал бы свою маму минуту назад.
Первый наш завтрак закончился быстро. Андрей слинял к себе в университет. ВГ ушла, обронив мне под ноги:
– Ушла в магазин. Буду не скоро.
Я одна. Надо провести легкую разведку. Как все обыватели, ВГ прятала свои сбережения в постельном белье. На легковушку хватит, прикинула я и аккуратно положила на место большой кошель. В ее туалете мне особенно приглянулась одна брошь. Ничего, повременим, и она украсит мою грудь.
Больше тут делать нечего. Пора и мне в институт.
9 мая. ВГ до десяти из своей комнаты не выходила. Я уже стала опасаться, не окочурилась ли. Но характерный шум струи успокоил. Это надо же до такой степени возненавидеть меня, чтобы не выйти в уборную!
Андрей съел гречу с сосисками и умотал. Не стала дожидаться, когда ВГ выползет из своей конуры, и ушла из дома. Все-таки праздник. Быстро доехала до Литейного проспекта и оттуда пошла на Дворцовую площадь. Хотелось праздника.
Группками человек по десять – пятнадцать стояли пожилые мужчины и женщины. Где-то плясали и пели. Слегка пьяные, они были мило веселы и радостны. Обошла Александрийский столп и нос к носу столкнулась с отцом.
– Это ты, Тамара, здорово придумала прийти сюда, – сказал он так, будто ждал меня.
Он был слегка пьян и чем-то встревожен:
– Ты как узнала? Кто тебе сказал?
– Что я должна была знать? Я просто гуляю.
Отец успокоился.
– Это хорошо. Пошли вместе погуляем.
Как обычно девятого мая, в городе было солнечно и тепло. Отчего же не погулять с отцом? Скажу откровенно, я даже соскучилась по нему. Что же с ним произошло? Спрашивать не привыкла. Сам расскажет. Но нет уже того папы, с которым можно пошутить, побалагурить. Идем рядом. Я чуть поотстала. Отец ссутулился и, кажется, стал меньше ростом.
– Посидим где-нибудь. Отметим Победу.
Мы вышли на набережную и пошли к мосту Лейтенанта Шмидта. Я не помню, чтобы в этой части были какие-нибудь злачные места. Повернули на площадь Труда.
– Прикупим кое-чего и пойдем к моему товарищу.
К товарищу так к товарищу. Мне торопиться некуда. А вот и памятный мне магазин. В детстве мы с бабушкой иногда приходили сюда. Помню, как зимой бабушка тут купила телятины. «Вот зимой бьют телят, – сказала она. – Значит, в колхозах бескормица. Летом мяса не будет…»
Отец купил две бутыли «Московской» и бутылку грузинского вина.
– Товарищ сухое вино любит, – пояснил он.
Небо синее-синее. Ни облачка. Ветра нет. Стало даже жарко. На часах – час дня. На площади народу мало. Все или в центре, или уже сидят за праздничными столами.
– Нам сюда.
Мы подошли к дому с арочным входом во двор. Там на детской площадке расположились ветераны и их жены. Под аккомпанемент аккордеона женщины пели песни военных времен. Вошли в подъезд и стали подниматься. Я иду на две ступени ниже и смотрю на спину отца. И опять мне его жалко. Что же произошло с ним за эти дни?
Дверь, обитая искусственной кожей, после звонка открылась почти сразу. Нас ждали:
– Веня, ты не один?
Молодая, лет на пять старше меня женщина хорошо располагающе улыбалась. От нее не только приятно пахло, но исходил некий положительный заряд.
– Наташа, познакомься. Это моя дочь Тамара.
– Как похожа, – и опять улыбка. – Проходите же!
Мы двинулись по коридору, а Наташа все говорила:
– У меня тут одна комната, но большая. Я ее перегородила, и теперь у меня и спальня, и гостиная. Тут уборная, а здесь ванная.
– Тамара, это мой товарищ – Наташа.
– Товарищ по борьбе за свободу угнетенных народов.
С юмором этот папин товарищ Наташа.
Пройдя длинный коридор, мы уперлись в двухстворчатую филенчатую дверь. Первой в комнату вошла Наташа.
В приоткрытое окно в гостиную шел свежий и ароматный от тополиных почек воздух. Были слышны слова песни войны:
Эх, путь-дорожка фронтовая! Не страшна нам бомбежка любая, Помирать нам рановато — Есть у нас еще дома дела.Там же, у окна, стоял круглый стол, покрытый цветастой скатертью. На ней светилась большая хрустальная ваза, полная свежих овощей.
– Это мне мой начальник подарил. У него садовый участок в Назии. Свежие огурчики, редиска и лучок. Все сам выращивает.
Отец мой преобразился. Спина распрямилась, глаза заблестели. Вернулся мой прежний папа. Все встало на свои места. Наташа влюбила сорокасемилетнего мужчину, и теперь у них брачный сезон. Как у лосей. Но отчего же отец был сумеречен там, на Дворцовой?
Хорошо закусили и выпили. Мягко говоря, папа слукавил. Наташа пила водку наравне с ним. Ее приятное лицо разрумянилось. Она много говорила и иногда смеялась. Я видела, что эта молодая, хороша собою, женщина увлечена отцом. То, что он по уши окунулся в омут чувств совсем не отвлеченных, было видно и дураку.
– Будем кушать горячее, – убегая на кухню, объявила Наташа. – Не скучайте! Тамара поставь кассету. Там в углу «Дзинтарас».
Кассет было много, и я долго выбирала. Нашла песни военных лет. Ко времени. Хорошо поет Лев Лещенко. Задушевно выводит слова популярной песни Людмила Гурченко. Я так и представляю ее тонкую фигуру и пластичные руки.
– Твоя дочка – настоящий патриот. Я-то думала, она выберет что-нибудь из этих современных. Твое воспитание. – Наташа поставила на стол большую овальной формы посудину. Таких я раньше не видела. Откинула крышку. Под ней гусь. Какой аромат ударил в нос! Какой аромат!
– Гуся вам тоже начальник подарил? – не удержалась я.
– Вениамин, твой отпрыск – язва превеликая. Я, Тамарка (это мне понравилось: не обидно, а очень по-дружески), – женщина свободного полета. С кем хочу, с тем и дружбу вожу. И тебе советую, – она бросила взгляд на мою правую ладонь, – кольцом себя не ограничивать. Веня, режь птицу! Будем дальше кутить. Да так, чтобы чертям стало тошно.
Вот чего всегда не хватало отцу. Этакой бесшабашности. Сразу вспомнились ежевечерние материнские нотации: «Для тебя работа важнее дома. Картошки в доме нет, а он и не почешется». И прочая, и прочая.
Мы кутили и на часы не смотрели. Все время светло за окном. А то, что пение прекратилось, так что с того? Устали бабенки и ушли промочить глотки. Когда уже опорожнили наполовину и вторую бутылку водки, Наташа встрепенулась:
– Товарищи дорогие, уже почти десять вечера, а мне завтра к семи тридцати в «смену заступать». Давайте прощаться.
Мы с отцом ушли. На улице все так же было тепло, но подул слабый западный ветер. Это у нас к дождю.
– Как тебе Наташа? – спросил отец уже на остановке «двойки».
– Отличная, великолепная женщина. Но почему ты не остался? Это было бы так естественно.
– Давай договоримся, я тебе все расскажу позже, – он как бы что-то посчитал в уме, – через десять дней. Позвони мне на работу восемнадцатого. Договоримся о встрече.
Девятое мая, день для всех советских людей праздничный окончилось для меня ссорой с Андреем. Суть ее, думаю, всем понятна, а образное выражение ее многообразно. Подробности, как шутят некоторые, письмом. Одно скажу. ВГ уползла к себе с большой шишкой на лбу. Нечего ручкам волю давать.
Впереди еще двадцать один день «медового» месяца…
Восемнадцатого числа после долгого и нудного разговора с мужем, то есть с Андреем, и хлопанья дверьми я набрала номер телефона отца.
– Приемная товарища Инина, – ответил мне голос девочки с косичками (так я представила свою собеседницу).
– Отец просил меня сегодня позвонить, – я не врубилась, что мой папа уже начальник и у него секретарь.
– Тамара, я узнала тебя. Это Наташа. Папа сейчас проводит совещание. Скажи, куда тебе позвонить, я соединю сразу.
А что же за смена такая, о которой она говорила девятого? Я вспомнила, что десятое было выходным днем. Как говорил один киногерой, неувязочка.
Необходимое пояснение.
Наталья Петровна Сорокина работала секретарем-машинисткой. А на «смену» она торопилась к матери в больницу. Мать второй месяц лежала, не вставая, после инсульта. Вот Наташа и ездила туда сменить тетку, сестру матери. Наталье двадцать восемь лет. Она была замужем. Развелась. Детей у нее нет. Она имеет высшее образование, но так сложилось, что работает вот уже три года секретарем у начальника отдела предпроектных работ…
– Наташа, вы? – я проглотила язык.
– Я, это я, Тамара. Так куда позвонить?
Сидеть дома и ждать звонка не входило в мои планы.
– Я сама перезвоню. Когда лучше?
– Я доложу Вениамину Николаевичу, что ты звонила. Перезвони минут через сорок.
Сорок минут я ходила по городу и в голове моей вертелось одно. Наташа – секретарь у отца, а он сам – начальник. И ничего, ничегошеньки мне не сказал. Привел в дом к ней и ничего не сказал. Обида ребенка накатывала на меня. Но тут же сменилась тревогой. Отчего мой отец был так расстроен?
– Тамара, завтра мы с тобой должны быть в районном отделе учета, – сказал отец, когда я до него дозвонилась. – Обмен будем оформлять.
Что же. Надо так надо…
Серьезная и толстая тетка долго изучала наши документы. Потом куда-то с ними ушла. Мы все – а это папа, мать, брат, невестка и даже ребенок Анна – сидели, как куры на насесте в грязном коридоре на длинной скамье. Ждали. Через два часа мытарств получили бумагу о том, что наш вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании какой-то комиссии.
В понедельник комиссия утвердила наш обмен. Окончилась эра склок и скандалов. Закончилось время каждодневных выяснений, кто у кого чего спер. Образно выражаясь, закончился период перманентных «шестидневных войн». Мы разъезжаемся в две двухкомнатные квартиры. С доплатой. Вопрос о том, кто будет давать деньги на этот вариант, решался долго и бурно. Но решили все же. По этому поводу даже распили бутылку водки «на мировую».
Переездом в новую квартиру занялся отец. Я только отобрала некоторые вещицы и книги, которые я намерена сохранить на моей части жилплощади в этой двухкомнатной квартире. Нам досталась квартира совсем рядом. Дом после капитального ремонта на углу проспекта Майорова и набережной канала Грибоедова. Окна одной комнаты выходят на канал, а кухни и второй комнаты – во двор.
Мне выделили метры в той, что на канал. Я тут же повесила на окно шторы. Устроила нечто похожее на спальное место и разложила книги.
Так совершился обмен жилой площади по классической схеме.
– Я через неделю уезжаю на работу, – объявил мне муж после исполнения супружеских обязанностей.
– Я смогу поехать с тобой только до начала занятий в институте.
Мужчина – это существо с непредсказуемой реакцией. Андрей, позабыв, что ВГ уже не спит и может, а вернее, определено подслушивает, набросился вдруг на меня, аки лев.
– Устал, бедненький? Отдохни. Я схожу, кофе заварю.
ВГ тут как тут:
– Вы должны понимать, Тамара, что муж, его благополучие, его моральное состояние для вас должны быть выше всех ваших меркантильных интересов. Вспомните жен декабристов.
– Боже ж мой! Мой муж посягнул на устои государства, и его ссылают в Сибирь.
– Не надо богохульствовать. Вы негодная жена.
– Вот тут вы неправы, любезная зиц-свекровь, Андрей иного мнения, и вы могли в этом убедиться минутой раньше. Не так ли? Вон как ухо-то раскраснелось.
Выскочила из кухни быстрее ракеты, быстрее, чем пробка из шампанского.
Мы уехали в это Конаково, вернее, вначале в город имени всесоюзного старосты, в понедельник. ВГ долго и нудно выговаривала Андрею, что отправляться в путь в понедельник к несчастью.
Поезд отошел от перрона минута в минуту по расписанию. ВГ долго бежала за вагоном и неистово махала мокрым от слез платком. Она успела поцеловать Андрея взасос и сунуть ему в карман какой-то сверток. Придет время, и я узнаю, что было в том свертке.
В Завидово (это последняя станция до Калинина) поезд прибыл в пять тридцать. Основная масса пассажиров продолжала спать, когда наша четверка вышла на мокрую от прошедшего ночью дождя платформу.
Мы с Андреем поплелись к автобусной станции. Нам еще ехать и ехать до Конаково. Прошедший все те дороги войны, о которых пели женщины во дворе у папиной Наташи, автобус, скрепя и потрескивая, источая бензиновый чад, повез нас в неведомую мне деревню Конаково. Пыль покрыла мои волосы и налипла на все открытые места моего тела. Больше часа продолжалась эта пытка. Но вот что-то в недрах железного мастодонта омерзительно заскрипело, из-под пола повалил чадный дым и мы, дернувшись, встали. Посреди поля. Пятнами оно рыжело, а в основном зеленело. Шофер приказал пассажирам покинуть салон. Именно так он и выразился:
– Валите отседова моментом к…
Поле оказалось засеяно горохом с еще каким-то растением, которое, как я потом узнала, называлось женским именем Вика. Пассажиры автобуса разбрелись по полю. Кто присел, не таясь в горохе с викою, кто стал жадно поглощать горох. Мы с Андреем отошли далеко в поле и устроили мини-пикник. Водка не успела согреться, и закуска не расквасилась.
Примерно через час шофер объявил, что его колымага готова продолжить пытку.
Наш «Ноев ковчег» въехал в селение, когда самые неугомонные петухи заснули и жители его начали просмотр первых снов.
– Ну, и куда мы теперь денемся? – мы стоим на пылью покрытой площадке. Пассажиры разбрелись. Все они были аборигенами. Автобус, обдав нас на прощание гарью и пылью, укатил вниз по улице и скоро скрылся за бугром.
– Пойдем, попросимся к кому-нибудь на ночлег.
В первой же избе нас встретили такой отборной бранью, что все выражения шофера автобуса показались детским лепетом. Пройдя еще с полкилометра, мы, сбросив нашу поклажу на обочину, рухнули следом за ней.
– Отдохнем и продолжим, – успокоил меня Андрей. Видно было, что он сник. Хмель выветрился, и кураж испарился.
Наверное, мы слегка прикорнули, потому что окрик мужчины заставил нас вздрогнуть.
– А ну брысь отсюда, цыгане! Вот я вам сейчас! – высокий кряжистый мужик в длиннополом то ли пиджаке, то ли полупальто высоко поднял корягу.
– Дурак ты, Осип. Напился до чертей. Какие это цыгане? Городские они. Совсем зенки залил зельем окаянным, – за громадой местного стража порядка мы разглядели тонкую, даже изящную женщину.
– Откуда вы тут взялись? – миролюбиво спросила женщина.
Я, не давая открыть рта мужу, объяснила наше появление в их богоугодном месте. Упоминание Бога окончательно расположило к нам Варвару. Так звали женщину, жену Осипа.
– Нечего тут в пыли валяться. Пошли к нам. Всем места хватит.
Так мы обрели место для ночлега и, как оказалось, для последующего проживания тут.
Спала я без просыпу до третьих петухов. Селенье жило своею жизнью. Позже меня поправят: «Не село мы, давно уже городом именуемся». Звуки провинциального города разительно отличаются от шума мегаполиса. Вот прогрохотал грузовик, и тут же я слышу мычание коровы. Прокукарекал петух. Где-то лязгает ведро, ударяясь о стенки колодца.
Андрея, моего законного мужа и молодого ученого-филолога, рядом на высокой металлической кровати нет. Я еще нежусь под легким пуховым одеялом. Мне же не надо собирать материал для диссертации. Сколько минут прошло с момента моего пробуждения, я не знаю. Но вот я слышу голос мужа:
– Куда воду сливать, Варвара Петровна?
Так вот кто громыхал ведром. Под ложечкой засосало. Еще бы – ела я последний раз более или менее хорошо почти сутки назад. Мой чемодан так и стоит у окна нераспакованный. Не выходить же мне в том, в чем была в поезде. Все провоняло дорогой. Голой (а кого стесняться?) я начала распаковывать чемодан.
– Ты, девка, не в бане. Чего голой жопой сверкаешь?
На пороге Варвара. В руках она держит большой таз.
– Вот тебе вода теплая. Умойся со сна. Баню Осип истопит к вечеру, а пока – в тазу, – медленно, изучающе оглядела меня. – Тело у тебя красивое, молодое. До греха не далеко. Скоро, скоро мужу станешь изменять.
– Тамара! – тут как тут этот самый муженек. – Как не срамно-то тебе? Что люди подумают о нас?
– А ты тоже разденься. Вот тогда люди что-нибудь подумают о нас.
– Ну и семейка! – хмыкнула Варвара Петровна и, еще раз глянув на меня, ушла.
Андрей с ходу начал восторженную песнь о Конаково. Тут и ландшафт самобытный, и люди удивительные, и села близко. Можно пешком дойти, а там, он убежден, он быстро наберет необходимый материал.
– Юноша, а где и чем мы будем завтракать? Я сыта твоим материалом не буду.
Мужа особенно (и отчего только?) возмутило мое обращение к нему:
– Я далеко уже не юноша. Я пришел к тебе зрелым мужем.
Лицо покраснело, руки затряслись. И как я тут же захохотала, когда, не входя в нашу комнату, Варвара сказала:
– Юноша, нечего орать попусту. Идите к столу! Картошка стынет. Нормальные люди-то уже к обеду собираются, а они о завтраке хлопочут.
Молодая картошка, обильно политая сметаной, усыпанная укропом, свежепросольные огурцы, холодное отварное мясо и большая трехлитровая банка молока.
– Хлебушек у нас очень вкусный. Наш пекарь хоть и армянских кровей, но выпекает его по нашим правилам. Кушайте, кушайте. Потом уговоримся, как дальше-то жить будем.
«Уговорились» вечером. Осип истопил баню. Никогда я так не мылась. У Варвары руки сильные. Она буквально истязала мое тело горячим веником. Прохаживаясь по бокам, ягодицам, приговаривала:
– Я – ядрена девка, молодцам услада, – и хрясть по попе.
Осип достал из подпола большущую бутыль с мутноватой жидкостью, Варвара накрыла на стол. Мы с Андреем в это время пили домашний квас на крыльце. Городок затих. Лишь изредка тишину нарушали лай собак и гудки пароходов на водохранилище.
– За постой я с вас буду брать по семьдесят копеек с каждого, – Варвара в доме была полновластной хозяйкой. – За стол, не обессудьте, по рублю. С огорода можешь (это уже персонально ко мне) брать зелень, огурец. В теплицу чтоб ни ногой. А то…
– Чего ты молодую пугаешь? – Осип выпил много, но был трезв и добр.
– Не пугаю. Просто они, городские, в нашем деле простаки. А недаром говорят: простота хуже воровства.
– Вот оно, – вскинулся Андрей. – Ты видишь, Тамара, какой глубинный смысл вложила эта женщина в слово «простота». Простота – это синоним неумения.
– Чего это он? – Варвара от удивления забыла проглотить кусок домашней тушенки и оттого прошамкала.
– Не обращайте внимания. Это бывает с ним.
Осип перекрестился:
– Ох, и тяжело тебе, милая, с больным-то.
Андрей как будто и не слышал их. Он продолжал экзальтировать. Лишь граненый стакан, великое изобретение корсаров, сунутый ему под нос, остановил поток словес пустопорожних. Ох уж эти «лирики»!
Итак, мы определились с бытом, мы выяснили, что собирать материал можно и не отдаляясь далеко от дома. Мы наконец успокоились и попросились спать. Мы – это, естественно, мой муж. Не я же!
Самогонка, настоянная на чесноке, сильна, черт возьми! Градусов пятьдесят. А то и больше.
Я спала одна. Андрея уложили в «холодке» в сенях.
– Проспится, умнее станет, – резюмировал его выступление Осип.
Я хоть и не филолог, обратила внимание, что эти люди употребляют обычные слова в необычном значении. Например, Осип говорил о своем напарнике в кузнице: «С утра он глуп как пень. Может и руку отбить молотом. После обеда он уже не круглый дурак. Сытость ему ума прибавляет. Но ежели в обед чарку примет, то и совсем поумнеет».
У Варвары корова умна, когда ее доят вовремя.
– Наша Пеструшка ума лишается, если я к дневной дойке не поспеваю. Наш Ванька пастух так и говорит: «Дура твоя Пеструшка».
Жизнь в провинции стала налаживаться. Утром следующего дня я оторвала листок календаря – 13 июня.
– Тамара, – с лицом, будто ошпаренным, и голосом трагика из театра Шекспира передо мною, лежащей на раскладушке посреди грядки с огурцами, стоит Варвара. – Тамара, твой-то чего учудил! Чего учудил-то!
– Изнасиловал дочь директора завода? – пошутила я.
– Хуже.
– Убил кого-нибудь?
– Все вам, городским, шутки шутить. Напился пьяным с биндюжниками с пристани и начал танцевать при народе голышом. Срам какой!
Вот вам и воспитание мамы-любовницы-тети.
– Где он?
– Его мужики скрутили и в сарае заперли. Иди, вызволяй мужа! Мужики говорили, я слышала, его в грязи изваляют и по улице поведут домой.
Мои чувства пришли в полный хаос. С одной стороны, все же Андрей муж мне, с другой – так хотелось, чтобы этот глубоко развращенный человек получил урок на всю жизнь.
Солнце печет. На небе ни облачка. Даже птицы укрылись от жары в ветвях деревьев. Мне так хорошо лежать в тени большого орешника. И так не хочется одеваться и тащиться куда-то вызволять мужа.
– Так пойдешь? – Варвара присела на перевернутое ведро и стала громко, смакуя каждый глоток, пить холодный компот. Она его варила каждый день из яблок-падалиц и сливы.
Идет время. Я лежу, она сидит. Забрехал наш цепной пес Есаул.
– Кто-то идет, – лениво говорит Варвара.
– Наверное, мужа приволокли на шесте.
– Это почему же на шесте?
– Так в Америке таскают воров. На шесте и вываленных в грязи и перьях. Я у Марка Твена читала.
– Индейцы и не на то способны, они с голов волосы с кожей снимают.
Есаул замолк. Значит, свои пришли. И тут же слышим голос Осипа:
– Эй, бабы, мужика принимайте!
Отбил Осип моего мужа. Не дал протащить по городу.
Как выглядел Андрей, говорить трудно, даже больно. Из одежды на нем – одни штаны. Чужие. Рваные и грязные. Торс в пятнах то ли крови, то ли краски. В волосах солома. Взгляд бессмыслен, рот открыт. Нижняя челюсть отвисла, а кончик языка высунулся и слегка подергивается.
Отступление.
С Андреем случилось то, что и должно было рано или поздно случиться. С детства он страдал приступами эпилепсии. Его лечили врачи-психиатры и неврологи. Год Виолетта Геннадьевна поила его разными отварами и настойками. Последние были на спирту. В результате со временем он пристрастился к алкоголю.
То, что произошло на пристани, было предтечей белой горячки. Малое умалишение. Никто из окружавших его в тот момент об этом не мог знать.
Мы с Варварой вымыли его тут же на грядках огорода. Одели в нижнее белье Осипа и уложили в сенях на жесткую лавку.
Андрей спал почти сутки. За это время я успела собрать вещи, выпить и поговорить с моими собутыльниками. Осипом и Варварой.
– Ехать тебе надо в Ленинград, пока он в себе, – так рассудили они.
Варвара добавила:
– Я тебе в дорогу дам отвару. Будешь поить его, он спать будет.
22 июня Осип вывел из гаража свой старенький «москвич» и повез нас в Завидово. Чтобы успеть к поезду Москва – Ленинград, мы выехали из Конаково на час раньше начала войны в 41-м.
Почти как собачка, урча, малолитражка со скоростью сорок километров в час повезла нас по знакомой мне дороге. Андрей через несколько минут после того, как выпил Варвариного отвара, уснул. В дорожной сумке у меня три литровые бутылки с этим «эликсиром».
К вокзалу мы подъехали за час до прибытия поезда. В кассе мне продали два билета на места в разных вагонах.
– Девушка, – говорила мне кассирша, изогнув шею и выглядывая одним глазом в маленькое окошко, – других мест нет. Что вы хотите, поезд из Москвы полным идет. Вам еще повезло, что в Калинине люди выходят.
– Не тушуйся, Тамара, – сказал Осип. – Мир не без добрых людей. Поменяешься.
Он долго махал своею большой рукой, и, казалось мне, вот так провожали на фронт. Едва сдерживая слезы. Их я успела заметить.
Мне удалось уговорить мужичка с массой котомок поменяться местами, и уже через пятнадцать минут я, напоив мужа-психопата Варвариным снадобьем, уложила его спать. День прошел спокойно. Когда Андрей просыпался, я его поила, и он опять засыпал. Наш поезд по расписанию прибывал в Ленинград в семь тридцать. За час до этого проводники будят пассажиров. Пора закрывать туалеты.
Начала и я поднимать моего спецпассажира. Андрей долго не мог проснуться. Хоть бы он никогда не просыпался. Что произошло в его мозгах за ночь, одному сатане известно. Ибо то, что началось, Божьим провиденьим назвать никак нельзя.
Глаза его округлились и начали вылезать из орбит. Изо рта пошла пена. Он завыл и стал биться головой о перегородку купе. Втроем – я и еще двое мужчин – с трудом связали его руки и ноги простынями.
Проводница побежала за бригадиром поезда. Через десять минут Обухово. Надо вызвать туда «скорую».
Явился бригадир.
– Я вас должен по правилам ссадить немедля. И не возражайте!
А я и не возражала.
Пассажиры по очереди подходили к нашему купе. Сильна в народе страсть к созерцанию уродства. Андрей мне рассказывал, как в древние времена на ярмарках выставляли для обозрения за плату разных уродов. Волосатые женщины ценились особо.
Не выдержала я и на куске какой-то серой бумаги черной тушью для ресниц написала: «Осмотр урода. 5 минут – 10 рублей». Вмиг отскочили. Жадные и доверчивые людишки.
В Обухово наш поезд простоял больше планового. Карета скорой помощи приехать-то приехала, но наш «больной» каким-то образом умудрился развязать себе руки и устроил такой дебош, что утихомирить его сумели лишь четверо сильных мужиков.
Проводница успела выкинуть наш багаж уже на ходу. На часах было ровно семь утра 23 июня.
Андрея поместили в отделение психиатрии в районную больницу. Дежурный врач долго осматривал его и в конце концов сказал:
– Его диагноз теперь мы установить не в состоянии. Нужны исследования. Вы езжайте домой. Мы вам напишем. Оставьте ваш адрес.
Отобрав вещи Андрея, я сдала их санитарке.
– Не изволь беспокоиться, милая, – сказала она. – Все в сохранности будет.
Хотя я видела, как она приглядывается к новым шерстяным брюкам и чистой шерсти джемперу.
Я шла по незнакомым и чужим до дрожи в коленях улицам города. Вот ведь как. Живу в этом городе с рождения, а о существовании этого Обухово узнала только сейчас. Оказалось, до Московского проспекта отсюда идет обычный городской автобус. За 5 копеек.
Меня разбудили на конечной остановке. На часах было тринадцать часов двадцать три минуты.
Я и мой чемодан оказались на мостовой у забора. Там, за забором, строили что-то посвященное защитникам города. Так писали в газетах. Народу мало. В этом месте нет магазинов, и некому здесь шастать. Как же мне добираться до Большой Пороховской? Мама родная!
Мой организм на пределе. Это я почувствовала лишь тут, на последней остановке автобуса.
– Вам, девушка, – и все-то я девушка, – надо идти на кольцо «третьего» трамвая. Он вас довезет до Невского, а уж оттуда – во все стороны.
И я с перекошенной фигурой и с понурой головой пошагала туда, куда мне указал мужчина в форме цвета антрацита и с серебряным кантом на фуражке.
Прошла метров сто. Моя рука уже почти вышла из плечевого сустава. Я готова бросить чемодан.
– Давайте, я помогу вам, – нагнал меня человек в черной форме. Она напомнила мне недавно виденный фильм о немцах.
– Да не бойтесь вы! Я железнодорожник. Иду со смены.
Идем. Он легко несет мой чемодан. А я сумку дорожную едва-едва. Он идет легко, а я еле передвигаю ноги.
– Вы с автобуса?
Молчу.
– Наверное, отдыхали в санатории?
– Не дай вам Бог такого санатория!
– У меня тоже был рейс – не дай Бог. В Обухово какого-то чудика ссаживали. Пришлось с ним сходить.
Лишь теперь я узнала бригадира поезда. Значит, меня он не узнал. Странно. А может быть, вполне закономерно. Мы все были так взвинчены, что немудрено не запомнить друг друга.
Опять идем и молчим. Народу на улице прибавилось. Вот и кольцо трамваев.
Я хотела поблагодарить и распрощаться, но бригадир предупредил меня:
– Мне тоже надо в центр. Вместе поедем.
Так и поехали. Он с моим чемоданом. Я с дорожной сумкой.
– Вам на автобус надо.
– Спасибо, я знаю. Все же я ленинградка.
Чудной этот железнодорожник. Донес мой чемодан до остановки автобуса № 22. Я так уже свыклась с тем, что мой чемодан несет этот крепкий мужчина, что, грех сказать, подумала, что хорошо бы, чтобы и до дома донес.
Автобуса все не было. Прошел час пик. Железнодорожник не уходит.
– Спасибо вам!
– Я вас до дома провожу. Все одно, делать мне нечего. Один я теперь, – лицо его выразило скорбь.
Заморосило. Автобуса все не было.
– У них в это время пересменок, – и опять молчим.
Так, молча, и приехали на Большую Пороховскую.
– А меня зовут Анатолием.
– А меня Тамарой, – вижу: не хочет он уходить. Стоит, переминается с ноги на ногу.
– Послушайте, пойдемте ко мне. Чаем напою. На больше рассчитывать нельзя. Я долго не была дома.
В квартире запах пыли, затхлости и еще чего-то кислого. Такое впечатление, что тут все это время никто не жил.
Мой гость как встал в дверях, так и шагу дальше не сделал. Я тоже, как овца в гурте, осталась на месте.
– Тамара, вы тут одна живете?
– Жила с мужем и свекровью. А что?
– Мне кажется, тут труп. Давнишний. Чувствуете запах?
Долго так стоять в дверях не можно. Надо было что-то делать. Опять мы молчим. Что за напасть такая с этим мужчиной.
Тик-так, доносится из кухни. Там настенные электрические часы. Гордость мужа.
– Стойте тут, а я пойду посмотрю.
Мне показалось, что не было его целую вечность. Вот такими словами из популярных книжек о любви, верности и измене мыслила я в тот момент.
– Тамара, идите сюда, – раздалось из кухни.
– Там, в дальней комнате, труп женщины. Мумифицированный. Весь месяц не было дождя. Вот он и высох.
Простите великодушно, но тут мне стало просто плохо. Я едва успела дойти до уборной. Но так как я не ела почти сутки, то и вырвало меня одной желчью.
– Что же делать? – задала я вопрос, после того как Анатолий отпоил меня холодной водой.
– Во-первых, скажите мне, кто эта женщина.
– Кто, кто? Разве не понятно? Моя свекровь.
– Вы же не видели труп, а так уверенно говорите.
– Не буду я смотреть. Хотите, чтобы и я тут окочурилась?
– Тогда хотя бы опишите ее.
– Нет нужды, – и полезла в шкафчик в прихожей. Достала пыльную коробку из-под моих сапожек.
– Смотрите, вот моя свекровь Виолетта Геннадьевна.
Долго смотрел на фотографию ВГ, сделанную на нашей свадьбе.
– Там лежит другая женщина.
– Такого быть не может потому, что просто не может быть.
– Чисто женская логика.
– А кто я, по-вашему?
– Простите. Я не хотел вас обидеть.
Я решилась:
– Вы со мною пойдите, пожалуйста. Я покойников боюсь.
В полумраке комнаты тело женщины казалось опущенным в некий туман. Анатолий взял меня за руку и подвел к кровати.
– Это не она, – тихо сказала я и уже хотела повернуться и уйти, как тут мой взгляд выхватил, как при фотовспышке, пясть левой руки. Это ее перстень. Тяжелый с янтарем. ВГ говорила о нем мне: «Мне подарил его один моряк из Риги. Очень сильно был мною увлечен. Но я отказала ему. Все ради Андрея».
Наверное, Анатолий почувствовал дрожь в моей руке:
– Что такое?
– Это она. Но как изменилась. Как изменилась.
Лицо ВГ было светло-коричневого цвета, его черты заострены до филигранности. Веки прикрывали по-врубелевски огромные глазницы. Лоб необыкновенно гладок и высок. Жутковатое и при этом в чем-то красивое зрелище. Мумия ранее знакомого тебе человека.
Анатолий увел меня. На этот раз я вытерпела и не стала пользоваться унитазом.
Крепкий чай без сахара окончательно привел меня в чувство. Анатолий не спешит уходить. Что за человек такой? Часы пробили пять вечера. И опять я задаю ему вопрос: что же делать?
– Знаете что, Тамара. Сегодня и вы, и я очень устали. Оставаться тут нет никакого желания. Возьмем такси и поедем ко мне. У меня нет таких хором, но где выспаться найдется.
– А я вот возьму и поеду.
– Вы как будто угрожаете мне, – лицо его серьезно, но я же вижу, что он смеется.
– Хватит смеяться надо мной!
И тут мы оба расхохотались. Так из нас выплеснулось нервное напряжение.
Оказалось, Анатолий живет от меня недалеко. В доме напротив Финляндского вокзала. Там, где, ну вы знаете, гастроном «Экспресс».
В трамвае мой новый знакомый рассказал о себе.
– Год, как схоронил я жену свою. Два года прожили душа в душу. Я с ней познакомился еще в железнодорожном училище. Окончили его и оженились. Ребенка родить не пришлось. Что-то там у нее по женской линии не так было. Мертвого родила и через пять часов сама отошла. Не знал я, что она до меня сильно хворала.
Трамвай проехал под железнодорожным мостом, когда по нему проходил товарняк. Я загадала желание. Анатолий же продолжал свою исповедь.
– Я до бригадирства-то служил, – он именно так и сказал – «служил», а не «работал», – машинистом электровоза, тепловоза. У меня высшая квалификация. Да вот после смерти Наташи стал злоупотреблять спиртным. Как у футболистов, дисквалифицировали на два года. Доверили бригадирствовать, и на том спасибо. Без людей я бы тоже, как ваша свекровь, покончил с собой.
Приехали. ВГ окончила жизнь самоубийством.
– С чего это вы такое взяли?
– Вот смотрите, – он вынул из кармана форменной тужурки какие-то пакетики.
«Демидрол», – прочла я.
– Это что?
– Снотворное. Я знаю. Жена моя такое принимала часто. Половину таблетки глотала и спала как убитая. Тут три упаковки. Слона можно усыпить.
Трамвай так завизжал на повороте, что я даже вздрогнула. Анатолий понял это по-своему.
– Не надо пугаться. На вас вины нет. Вот что я нашел там, в комнате у ее головы.
Он показал листок из блокнота, где ВГ вела записи о покупках, истраченных деньгах.
Четким почерком с небольшим наклоном вправо написано: «Ухожу сама. Бог простит. Не могу принять измены моего единственного любимого мужчины. Будь проклята она, твоя жена в грехе. Прощай, милый Андрей».
– Послушайте, Тамара, так это тот Андрей, что в психушку попал, а вы – его жена. Боже мой! Как же я вас сразу не признал!
– Я вас тоже сразу не признала. Там такая суматоха была…
Вот и объяснились. У меня как-то спокойнее стало на душе.
Покончила с собой свекровь. Муж надолго залег в больницу. Немного подожду и подам на развод. А там и квартиру разменяю. На фиг мне такая большая, а ученому-филологу хватит и комнаты.
В «Экспрессе» Анатолий накупил прорву всяческой еды. Опять распогодилось. На заводе закончилась первая смена, и магазин моментом заполнился мужчинами с запахом металла. Очередь в отдел «Спиртные напитки» вытянулась, изгибаясь, как змея, по всему залу. Мы с Анатолием с трудом протолкнулись к выходу.
– Пятница, – обронил Анатолий, – вот рабочий народ и спешит до дому достойно отметить ударное выполнение и перевыполнение пятилетнего плана ударной по голове выпивкой.
– Вы шутник. Дошутитесь.
– Шутка жить помогает. У меня на магнитофоне есть запись юмориста из Одессы. Миша, а фамилию позабыл. Вот он шутит. Не посадили. Пока.
Лифт поднял нас на пятый этаж. Дверь в квартиру отворилась, и я сразу увидела большую фотографию в рамке на стене. На меня смотрела моя школьная подруга Наташка Сизова.
Наверное, на моем лице отобразилось нечто такое, что Анатолий испугался:
– Что случилось? Тебе плохо?
От испуга он перешел на «ты».
– Это кто? – я постепенно приходила в себя.
– Жена моя. Наташа.
– Тебе жена, а мне подруга. Школьная, – не стала говорить, что болела Наташа туберкулезом, что в шестнадцать сделала аборт.
– Мир тесен. Значит, Богу было угодно, чтобы мы встретились.
Особая интонация, с которой он произносил слово Бог, навела меня на мысль, что этот сильный физически мужчина под давлением горя пошел к храму.
Я не верила в Бога. Я считала, что к Богу, к церкви обращаются люди, слабые духом, не способные сами решать житейские проблемы. Уходящие от них в церковь. Тут же передо мной с виду сильный мужчина. Мы долго сидели за столом на кухне с видом на вокзал. Приходили и уходили поезда электричек. Вот и вокзал замер. А мы все сидим. Говорим, говорим. Анатолий – хороший рассказчик, да и я умею говорить.
– Устала ты. Глаза слипаются. Я постелю тебе на диване, – мужчина потупил взор. – Сам я сплю на раскладушке. Никак не могу лечь на нашу с Наташей кровать.
Мне стало жалко его. Это плохой признак. Значит, тронул он меня за живое. Из огня да в полымя. Там был чудаковатый филолог, тут – верующий опальный железнодорожник. Чур меня, чур. Довольно экспериментов.
У меня проза жизни – похороны свекрови и больной психически муж.
Утро началось у меня с головной болью. Тело от пяток до загривка ныло. Что-то было? Или ничего и не было?
– Тамара, – голос Анатолия был бодр и весел. Не до веселья мне. – Тамара, завтрак готов. Прошу к столу.
Долго сказка сказывается…
Анатолий помог мне с кремацией, со всеми делами в органах. Я так и жила у него.
Хороший секс «излечил» его. Он больше не уповал на Бога. Его Богом стала я.
Через шесть месяцев Андрей вступил в наследство. Читай – я вступила. Оформить опекунство над умалишенным помог тот же железнодорожник. Он прошел освидетельствование, сдал квалификационные экзамены и вновь встал у рычагов управления локомотивом.
Подытожим. Квартира на Большой Пороховской, сбережения в сберкассе, наличные – те, что я обнаружила еще в первые дни моего замужества, и та брошь. Ее я надевала в особо торжественные дни.
Комнату в двухкомнатной квартире на углу проспекта Майорова и набережной канала Грибоедова после долгих и весьма неприятных объяснений («Папа, – убеждала я отца, – у вас с Наташей есть еще квартира. Я же осталась с носом и сумасшедшим мужем»). Я получила комнату в коммуналке.
Так завершился следующий, последний ли, этап решения моего квартирного вопроса.
На отрывном календаре остался один листок 31 декабря. Больше года продолжался этот процесс…
– Октябрьский районный суд, рассмотрев в открытом заседании иск гражданки Ининой Тамары Вениаминовны к гражданину Григориади Андрею Петровичу, постановил расторгнуть их брак в связи с невозможностью последнего по состоянию здоровья исполнять в полном объеме свои супружеские обязанности. Справка о состоянии здоровья в деле.
Молодая и очень симпатичная судья глянула в мою сторону и едва заметно улыбнулась.
Неделей раньше мы с ней сидели в маленьком ресторане в Петропавловской крепости, и она улыбалась широко и открыто. Тогда она мне сказала:
– Тамарочка, не думаю, что в суде возникнут какие-либо проблемы. У вас же с супругом имущественного спора нет?
– Какой там спор! У Андрея не осталось даже малой толики воли. Инъекции, по пять раз на дню, сильнейших депрессантов свершили то, что мне и нужно было. Личность растворилась…
Долго я сидела на скамье перед зданием нарсуда. Я не замечала мокрого снега. Я не чувствовала холода. В тот момент на меня напал некий ступор. В голове моей проносились картинки из моей жизни. Той, что оказалась за гранью этого только что прозвучавшего решения суда.
Было ли мне жалко Андрея? Была ли во мне хоть малая доля сочувствия к отцу? О матери нет и намека. Скорблю ли я о болезни брата? Не знаю, не ведаю.
Лишь сильный озноб вывел меня из этого состояния. Темно. Где-то в отдалении в Почтамтском переулке мелькали тени редких прохожих. До моих ушей доносились звуки города. Постепенно, капля за каплей ко мне возвращалось былое. Оно заполняло мой мозг, и от этого становилось трудно дышать. Экие сусли. Встряхнулась я и резко поднялась со скамьи. Засиделась. Вот так всегда. Утопила себя в чувствах. Погрязла в быте – вспомнила я слова Гадюки из одноименной повести графа Алексея Толстого.
Отступление.
То, о чем сейчас говорит Тамара, происходило одиннадцатого ноября. А полгода назад, в мае, она вступила в должность ведущего инженера в отделе главного инженера в одном из ведущих КБ города. В так называемом ящике. По долгу службы она много времени проводит в командировках. Ее ценили и за знания, и за умение отстаивать интересы бюро. Там, где ее коллеги-мужчины сдавали позиции, она выигрывала. Вот об этом и вспомнила женщина, час назад разведенная судом.
На сегодня я, что называется, отпросилась. Просто сказала Виктору Ивановичу, что я буду занята в суде.
Опять я тороплюсь. Бегу впереди паровоза. Так говорит Анатолий. Виктор Иванович – наш главный инженер. Это по должности, а для меня к тому же и главный мужчина-советчик. Он бывший полковник-инженер. А бывают ли бывшими настоящие военные служаки? Почти десять лет он служил на Байконуре. Авария на пуске – и вот он в запасе. Вернулся в родной город. Ни кола ни двора. Контейнер с мебелью и другим скарбом в буквальном смысле гниет на Московской товарной станции. Прописали, правда, его постоянно. Но куда? В то самое общежитие, где жила моя школьная подруга и умершая жена Анатолия Наташа.
Жена от Виктора скоро просто сбежала с действующим командиром в Плесецк. Забрала дочь и была такова. Жить в общежитии мужчине в возрасте сорока двух лет не пристало, и он снимает комнату.
Судари и сударыни (от слова «судачить»), не судите меня строго. Да, я помогла ему обстроить быт его. Да, он был благодарен мне. Да… И что дальше? Вот и помолчите. Мое это дело, и нечего призывать парткомы-профкомы! Это у Высоцкого смешно – ну, я с Надькою гулял, с тетей Пашиной. Так, что ли?
Но черт возьми меня с потрохами! Чего я тут высиживаю? Так можно все придатки-отдатки простудить. Скорее, скорее, куда глаза глядят. Лишь бы там было тепло и было чем закусить. Не отметить такое событие грех.
Бегом, бегом. Вот и улица Герцена. Чего это там светится? А светится это фонарь над входом в Дом композиторов. Дай Бог, чтобы на месте оказался его директор, мой хороший приятель Миша.
– Проходите, полковник-инженер, – говорит узнавшая меня вахтерша, – наш директор только что приехал из горкома.
На мой стук в дверь отзывается Миша. Его голос не спутаешь. Недаром, что ли, он почти год учился в консерватории по классу вокала.
– Входи уж, коль пришел, наш странник божий, – это фраза из партии оперы «Иван Сусанин».
– Миша, я к тебе. Один ты сможешь помочь мне, – стебаться, так стебаться.
– Тамарочка, девочка моя, – у него все особи в юбке девочки, – как я рад видеть тебя!
Врет и не краснеет. У него на коленях в юбке мини-мини восседает именно девочка. При виде меня она и не думает слезать с чресел Миши. А Миша продолжает:
– Знакомься. Это Ирочка. Представляешь, она музицирует на альте. Чисто мужской инструмент.
Я-то вижу, на чем она в настоящий момент – ни стыда, ни совести – «музицирует».
– Не буду мешать вам музицировать.
– Тамарочка, душа моя. Ты ничуть не мешаешь. – И девочке: – Побегай, крошка.
Альт-Ирочка спрыгнула, одернула юбчонку – и шмыг за дверь.
Миша – герой дня. Он пробил разрешение торговать в буфете ресторана при Доме композиторов водкой, коньяком и вином.
– Чего желаем, миссис Тайна, – Миша так шутит. Знал бы он, какую тайну я действительно ношу.
– Миша, сегодня для меня великий день. Октябрьский районный суд развел меня с Андреем.
– Это кто же?
– Не надо ерничать! Это мой муж. Единственный. Законный.
Пустопорожняя болтовня мне надоела.
– Прикажи накрыть стол в «гроте». Хочу праздника.
Как добралась до Большой Пороховской, я не помню. Разбудил меня телефонный звонок.
– Тамара Вениаминовна, – мой начальник, – я знаю, какие у вас проблемы, но и мы не без них. Попрошу, собирайтесь и не спеша двигайте в бюро. Есть для вас дело.
Что сказать? Я знаю, какое такое дело у него. Очередная командировка. Ее мне продлевали три раза, а я сидела в трюме новейшего крейсера и «добивала» представителей заказчика.
Лишь двадцать пятого декабря они подписали все необходимые документы. Значит, будет у нас премия. И немалая. Какой заказ сдали!
Все к одному. Я свободная женщина. Дела у меня идут отлично. У меня приличная сумма на сберкнижке. Я живу в хорошей квартире. Отец, слава Богу, пошел на поправку. Врачиха мне сказала:
– Если бы не его жена, не знаю, смог бы он выкарабкаться.
Жена это не мать моя, а Наташа. Она уже не работает секретарем-машинисткой у отца. Она ныне заместитель начальника отдела изобретения и рационализации. Что же. У Наташи все-таки высшее образование.
И все же. И все же. Вот сижу одна. Через двенадцать часов Новый год. В моем холодильнике есть все для праздничного стола. Шампанское я не покупаю, а вернее, не достаю принципиально. Эка загнула. Тоже мне принцип – не пить шампанское.
У меня вместо него отличнейшее вино. Грузинское. Из Тбилиси. Мой товарищ по работе был там в командировке и привез несколько бутылок. Мне досталась бутылка хванчкары.
Ну и что, что открыла баночку икорки? Вот допью эту рюмку и пойду под душ.
Отступление.
Мы записываем это в то время, когда повсеместна мобильная телефонная связь. МегаФон, МТС, Билайн и прочая. Тогда же ничего такого не было, и оттого Тамара Вениаминовна, стоя под струями горячего душа, не услышала звонка телефона.
А звонил ей с трудом разыскавший ее далекий друг детства Женя, что на каникулы уезжал к маме в Куялово.
Подождем и поглядим, что будет дальше.
О том, что пока я наслаждалась водой в душе, недаром я по гороскопу Рыба, мне звонил Женя, я узнаю скоро.
Вы помните, что, опорожнив стопку с водкой, я встала под душ. Надеюсь, ваши головы не так забиты хлопотами подобно моим.
Торопиться мне некуда, и, наскоро высушив волосы феном, я вышла из дома. Может быть, повезет и куплю елку. Вообще-то я не такой уж ярый приверженец этого идущего из веков обряда – наряжать дерево. У нас это ель, на югах – пальма. И все же.
Народ мечется, как ошпаренный. Ну что за напасть такая! Целый год они ждали этого дня. Вырвать, достать, раздобыть всякой снеди и выпивки только для того, чтобы ночью (!) все это съесть и выпить. А утром мучиться изжогой, коликами, тошнотой и синдромом похмелья. Абстиненция им не грозит. Им бы выпить сто граммов водки да «полирнуть» пивком. Потом спать до утра следующего дня и с больной головой отправиться на работу.
Хорошо, что накануне выпал снег и у нас на Охте он еще не размазан в грязную жижу. Купила в ларе блок сигарет и две бутылки лимонада «Дюшес». Во дворе какого-то дома села на скамью и закурила.
Откуда-то сверху из открытого – и это зимой – окна раздалось:
– Убью, сука.
Жизнь прелестна, когда тебя никто не грозится убить. Знаю, тот, кто грозится, не убьет. Так и есть. Вот уже другие слова:
– Лебедь моя, так я же без тебя жить не могу.
Послушайте, граждане, в какое время и где мы живем? Это что – времена Мишки Япончика и это Одесса? Я вас спрашиваю.
– Мадам, – появляется передо мной фигура.
– Чего тебе? – иначе с такими нельзя говорить.
– Мадам позволит присесть рядом?
– Катился бы месье куда подальше.
Не сдвинулся ни на сантиметр.
– Мы вас, мадам, тута раньше не видели. Вы новенькая? Надо бы прописаться.
Куда я попала? Там орут, что убьют. Тут чуть ли не угрожают.
– Это как же? – не брошусь же я наутек от этого типа.
– С вас, учитывая вашу образованность и вид, сгодится четвертинка или ноль семь красненького.
– Вот что, гражданин хороший, валил бы ты отсюда. Не мешай отдыхать!
– Напрасно вы так, – тихий, скромный пьяница ушел семенящей походкой.
Мне бы сорваться с места и нестись отсюда. Нет, я продолжаю сидеть. Даже еще сигарету раскурила.
Через минуту-другую из подъезда, куда скрылся тот мужик, выходят трое. Он и еще три амбала. Бежать поздно.
– Мадам, мы не хотим никаких ненужных терок.
– Что такое терка, я знаю. На ней мне папа тер морковь. И мне в данный момент не нужна терка. Мне просто нечего тереть.
– С понятием дамочка, – сказал самый толстый из них.
– Так что же – так и разойдемся? – пропищал второй толстый.
– С откатом, – выдавил из себя третий.
– С каким таким откатом?
– Она придурошная, – подытожил нашу дискуссию первый.
– Смотри, Гвоздь, какие цацки на ней, – второй толстый ткнул своим пальцем мне в грудь. Там брошь, доставшаяся мне от самоубиенной свекрови.
– Соответствует, – сказал первый и рванул цепочку.
Так я лишилась этой броши. Что же, все справедливо. Не твоя она, Тамара, не тебе в ней и красоваться.
Отступление.
Откуда было знать Тамаре Вениаминовне, что она решила отдохнуть во дворе, где по учету райотдела милиции находился наркопритон. Тот, кого Тамара Вениаминовна называет первым толстым, был там как бы начальником охраны. И принял женщину, вот так просто расположившуюся на скамье прямо под окнами притона, за сексота милиции. Бывало уже такое. Как удалось Тамаре Вениаминовне избежать худшего? Одно объяснение этому. Ее обаяние и предновогоднее настроение бандитов.
Бегом, не разбирая дороги, я помчалась к своему дому. Скорее, скорее за дверь и запереть ее на все замки. Их у меня два. Обычный французский и новинка – самодельный ригельный. Чудо техники.
Не снимая сапожек и всего прочего, я рванула на кухню. Большой глоток водки успокоил мою нервную систему. Мне стало смешно, и я засмеялась. От души. Я остановилась, когда мои глаза увидели часы.
Боже мой! Уже без двадцати минут двенадцать.
Ровно в полночь я выпила фужер хванчкары. В мой дом пришел новый год. А через сорок минут в мою жизнь вернулся Женя, самый первый в моей жизни мужчина. Хотя тогда он был никаким не мужчиной, а моим одноклассником.
Звонок межгорода я различаю, и, прежде чем снять трубку, я несколько мгновений раздумывала. Кто же это может звонить? Мне почему-то вспомнилось Конаково. Осип и Варвара явственно предстали передо мной.
И каково же было мое удивление, когда я услышала, казалось бы, навсегда забытый голос.
Говорили мы ровно три минуты. Лимит. Евгений работает в Западной Германии. Принимает суда, строящиеся для нас. Разговор сумбурный, можно сказать, бестолковый. Я поняла одно. Наше КБ имеет непосредственное отношение к его работе. Там он и узнал обо мне.
– Тамара, – успела я расслышать, прежде чем телефонистка проворковала «Ваше время вышло», – я после десятого буду в Питере.
Вы думаете, что на этом мои новогодние приключения закончились? Ошибаетесь. От такого разговора я, естественно, привела себя в status quo уже фужером водки.
Внеочередное отступление.
Обращаем ваше внимание на то, как и сколько пьет женщина. В одиночку – много. Характерная особенность – не теряет способности рассуждать и ясно излагать свои мысли, а это явный признак зачатков алкоголизма.
Четвертого января уже нового года я стояла у окошка кассы и ждала, когда Таня, наш бухгалтер и кассир одновременно, отсчитает причитающиеся мне командировочные. Я еду теперь на Север. И опять мне предстоит долго, нудно спорить с представителями заказчика. Пить с ними спирт. Они его называют шилом. Спать не в своей кроватке. Есть что ни попадя. Мучиться изжогой. Это все впереди. А пока мне дано два дня.
Как ни старался Виктор подвести меня к мысли отдохнуть эти два дня у него, я осталась верна своей квартире. Не поверите, я забыла о том, что далекий и во времени, и в пространстве Евгений практически назначил мне свидание десятого числа.
Мои мысли об отце. Утром пятого я долго валялась в постели. Курила там же. Настоящее безобразие. Вылезла один раз. В уборную и за сигаретами. Трехсотграммовая бутылочка-фляжечка с трехзвездочной жидкостью у меня в прикроватной тумбочке. Это у меня что-то вроде снотворного.
Лежу. Попиваю и покуриваю. Так скажешь – и, кажется, что не сильно нагрешила. А можно сказать, например, поразвратничаю. Это тоже для вас будет звучать не так резко? А если совсем откровенно и этак по-русски – ***. Смешно.
Ну и накурила. Стерва баба, брысь из-под одеяла и быстро открыла окно! Нечего больше валяться! Душ. Легкая зарядка с эспандером. Чай крепкий и сладкий. Яйцо всмятку и бутерброд с сыром. И… Опять, стервозина, сигарета.
На часиках половина двенадцатого. Ничего себе, сказала я себе. Еду к отцу. По моим расчетам он должен быть дома. Надела уже дубленку и все же решила позвонить.
– Тамарочка, а папа на работе.
Отчего тогда сама Наташа не на работе?
– Как его здоровье?
– Врачи говорят, обошлось на этот раз. Но надо беречься. Я его на цепочку не посажу. Вот взял и сорвался. А я что-то приболела, – все это Наташа сказала на одном дыхании, и я услышала, что голос ее охрип.
Я поздравила ее с Новым годом и пожелала здоровья. Не раздеваться же. Пошла на улицу. Тоска смертная. Снег порыжел. Люди посерели. Немудрено. Столько выпить. За сутки. Начинают-то на работе еще. У нас в бюро уже часов в десять утра начинается колоброжение. Наши «девочки» шастают от одной комнаты к другой. По всему зданию – а оно у нас не маленькое – распространяются кулинарные запахи. От отдельных особей мужского пола начинает исходить амбре. Приняли уже спиртяги, бедолаги. Мой Витенька не отстает.
Предтеча праздника. И отчего всем весело, а мне грустно? Так и в детстве моем было. И сейчас скучно так, что выть хочется. Иду, не замечая дороги. И лишь когда мои ножки почувствовали сырость и холод, меня проняло. Стоп, машина, как говорят на флоте. Там, за углом, есть кафе. Там отогреюсь…
Фи, какая кислятина, это сухое вино! Никаким мороженым его не подсластить.
– Девушка, – за стойкой девица в возрасте, что в дни Ивана Купалы считалась перезрелым яблоком, – а что-нибудь послаще и покрепче у вас не найдется?
– У нас приличное заведение, – ну ни сука ли! – мы только вином торгуем. А слаще – сладкое шампанское.
– Сама пей шипучку! Я предпочитаю водку.
Как преображается лик девы!
– У меня у самой осталось от праздника немного.
– Тогда сам Бог велел это немного употребить в дело. Самой-то тоже, небось, хочется утолить жажду.
Таня (мы уже успели познакомиться) ловко, что ваши бармены из кино, выкинула откуда-то из-за спины бутылку водки. Перебросила с руки на руку. Встряхнула, повертела и вот уже бежит веселая струйка в фужер. Бульк туда же вишенка из компота.
– Держи коктейль «Фрукты в шампанском».
Три таких коктейля – и у меня в мозгах полное прояснение. Все стало на свои места. Отец вышел на работу. Значит, здоров. Наташа с ним.
Братец. Тот как вошел в клинч, так и не выходит. Не я ему судья. Там другая у него муза.
Что касается матери, то у нее своя дорога. Свой муз-муж.
– Сгоняй в магазин, – Тане уже море по колено.
– Не. Мне хватит и тебе тоже. Закрывай свое кафе и пошли ко мне.
На дверях появилась вывеска «Закрыто по техническим причинам». Мы, крепко взявшись за руки, идем ко мне…
Который сейчас час? И кто лежит рядом со мной в моей постели? Ну и рожа!
Выскочила, в чем мать родила, и быстро в ванную. Моя рожа ничуть не лучше. Это надо же так напиться! Все, решаю я, завязываю. Я с ужасом вспоминаю, что завтра мне уже уезжать в далекий, холоднее холодного Североморск.
– Эй, кто-нибудь! – кричит моя «подруга».
– Чего орешь? Иди под душ!
Через час я все-таки выпроводила буфетчицу. И тут же зазвонил телефон. Изобретение какого-то Белла достало-таки меня. А через него меня достал мой начальник Виктор:
– Что с тобой произошло?
Ни тебе здрасьте, ни до свидания.
– А что бы ты хотел, чтобы со мной произошло?
– Я сейчас приду!
Еще чего!
– Я дверь не открою. У меня любовник.
– Твой любовник, как я погляжу, – бутылка. Дверь высажу…
Экзекуции продолжались до вечера. То он запихивает меня под душ. То поит горячайшим чаем с лимоном. Раздев догола, долго и с каким-то садистическим наслаждением мнет мое тело. Это называется атлетически массажом.
– Осталось изнасиловать меня изощренным способом, и ты свою роль исполнишь до конца.
– Теперь ты будешь спать. Утром я сам отвезу тебя на вокзал…
Поезд сообщением Ленинград – Мурманск отошел от платформы, и за его отпотевающими окнами осталось все, что произошло за эти посленовогодние дни. Весь день я спала на верхней полке. Вечером успела в ресторан. Горячий борщ по-московски, жирные котлеты с жареным картофелем и три стакана кофе с молоком. Официантка ничего не сказала. Но, когда я закурила сигарету и, не удержавшись, икнула, она рассмеялась. Хорошо, что в этот поздний час в вагоне-ресторане никого не было. Ночью я спала. Все-таки Виктор достиг желаемого. Мой организм требовал здорового образа жизни.
В Мурманске меня встречал представитель завода «Звезда».
– Поедем на машине. Придется немного подождать. Поезд из Москвы придет через полтора часа.
Приятной наружности мужчина в длинном кожаном пальто и шапке-ушанке из незнакомого мне меха взял мой чемодан и повел меня в привокзальный ресторан.
– С дороги надо поесть. Ехать нам еще долго.
Кормили в ресторане хорошо. Мужчина выпил сто граммов водки. Я отказалась. Сильна память последних дней.
Час пролетел незаметно.
– Вы тут посидите, я встречу и вернусь, – оставил купюру на столе и ушел.
Сижу. Жду. Объявили о прибытии поезда из Москвы. Жду. Время идет. Халдей волнуется. Заказала пятьдесят граммов. Жду. Все, решаю я, хватит. Встала и иду. Наконец-то! Навстречу мне мой встречающий и… Кто бы вы думали? Евгений. Собственной персоной.
– Тамара! – это почти через весь зал.
Я стою в ступоре. Это что же?! Судьба? Намеренное событие? Умысел?
Человек в коже несколько обескуражен:
– Вы знакомы?!
Хотелось мне ответить – и даже очень близко. Но, памятуя нравы, бытующие в этих краях, сказала по протоколу:
– Мы коллеги.
Знаете, что запало в мою память после этой непродолжительной командировки? Ни за что не догадаетесь. Не сложности со сдачей наших систем. Не дни, напролет проведенные в грохочущих цехах. Не споры до хрипоты с представителями заказчика.
Тулома, Лотта, Нота. Эти для меня чарующие названия рек запали в мою память с ощущением свежести ощущений. Все как будто давным-давно прошедшее и вернувшееся. Темнота полярной ночи усугубляла все мои чувства. Тактильные. Вкусовые. Слуховые и зрительные. Ничто не отвлекало.
– Ты не изменилась, – лгал мужчина, и я ему верила.
– Ты все так же юна. И телом и душой, – продолжал он лгать, и я ему верила.
– Ты моя желанная, – предел вранья, а я верю.
Ну, что, скажите, мне делать, если и он, этот мужчина, мне тоже мил и желанен? Как будто вернулось мое детство и отрочество. С их тревогами, страхами и надеждами, граничащими с чувственными вожделениями.
На двадцать первый день моей командировки Евгений объявил:
– Отсюда я уеду только в качестве твоего мужа.
– Ты рассуди: по нашему Закону о браке и семье браки регистрируются по месту жительства одного из брачующихся. Я прописана в Ленинграде, ты – не знаю где. Тут полярный круг. Воспетая бардами шестидесятая параллель. Наш союз своею лапой скрепит белый медведь. Так, по-твоему?
– Имя этого белого медведя, – Женя произнес имя секретаря ЦК партии, депутата Верховного Совета СССР, который приехал на подписание акта сдачи объекта по проекту № 274.
Так, наверное, впервые в Союзе и в единичном случае брак был зарегистрирован не по месту жительства, а по месту командировки жениха и невесты.
Вы когда-нибудь ели строганину и запивали ее азербайджанским коньяком «Агдам» на морозе под тридцать по Цельсию? Вы в своей жизни хоть раз принимали ледяную купель в проруби реки Тулома? Какой фейерверк устроили офицеры по поводу моего крещения в поморки.
Пистолетные выстрелы ПМ тонули в грохоте автоматных очередей из АКМ.
А баня на льду! А изжаренный целиком молочный поросенок. А… А… И еще раз А…
Провожали нас почти все члены приемо-сдаточной комиссии. На двух штабных «Уралах» мы ехали из Североморска в Мурманск. Там, где разместились мы, капитан первого ранга – инженер хорошо играл на гитаре. Пели бардовские песни. Пили шило и ели вяленую рыбу.
Было тепло, весело и непринужденно. Женя и я сидели на мягком сиденье у кабины.
Вы спросите, отчего же мне было тревожно? Почему я не ощущала той уверенности, что была присуща мне до сей поры? Но прочь сомнения и тревоги. Я возвращаюсь в Питер. Там, на гранитом одетых берегах Невы, на запорошенных снегом дорожках парков и садов, в дворах-колодцах его, среди моих сограждан найду я ответ на все вопросы, что мучают меня после встречи с Евгением.
Стучат колеса на стыках. Гомонит вагон. Где-то, чуть фальшивя, звучит гитара, и голос с хрипотцой поет:
Я к мамочке родной, Больной и голодный Спешу показаться на глаза…Когда я слышала эту песню? Когда?! В какой-то момент мне показалось, что, если я не вспомню этого, я сойду с ума.
Лишь шесть месяцев длился «рай на земле». Это так я называю мое замужество с Евгением.
Вы когда-нибудь были в «шкуре» Евы? Вокруг кущи райские, а вы даже яблочка кислого скушать не можете. Вам каждый божий день талдычат одно: «Ты ребро. Не человек полноценный. Ребро и всего-то».
– Тамара, – говорит мне утром мой муж, с которым я была зарегистрирована секретарем ЦК, – я настоятельно прошу тебя помнить, что ты жена ответственного работника, и не пристало тебе…
Дальше можно перечислять по буквам: A, B, C, D…
Так жить, шалишь, Тамара, существовать нельзя. Мне нужен воздух свободы.
Пусть я живу в шикарной квартире в доме обкома, пусть у меня прислуга. Я могу ездить в салон красоты на служебной «Волге». Пусть. Пусть. Я срываюсь на крик…
…Открывается окошко в железной двери и контролер просовывает миски с бурдой тюремной.
Мой квартирный вопрос решен так. Статья Уголовного кодекса, что инкриминируют мне, гласит: до пятнадцати лет заключения в колонии строго режима.
Отступление.
Из протокола осмотра места преступления: «Труп мужчины тридцати – тридцати двух лет лежит лицом вниз. Торс обнажен. На теле множественные следы ножевых ранений. Брюки из джинсовой ткани спущены до колен. Половые органы отрезаны и лежат в десяти сантиметрах от ротового отверстия трупа…» Больше цитировать нельзя.
– Тамара Вениаминовна, вы должны понять, что только признание вас невменяемой на момент совершения преступления спасет вас от более тяжкого наказания, – седовласый еврей, имеющий за своей спиной богатый опыт защиты так называемых воров в законе, сидит напротив меня и курит хорошие сигареты.
Мне он привез дешевую «Приму». Я понимаю, в передачах – других ни-ни. А если и пропустят, то цырики стырят все равно. Но он-то мог. Жмот, жидовская морда.
Предшествующее…
– Тамара, – мой муж уже готов отправиться на службу.
Здесь я прерву его монолог. Именно «моно», а не «диа». Потому что в нашей семье право говорить имеет только он. Мне позволено отвечать на вопросы и задавать их – и при этом в лапидарном виде без лишних слов. Мой муж после командировки в ФРГ стал руководителем одного из ведущих отделов в конструкторском бюро. В этом качестве он и находился в ту зиму в Североморске. За сдачу проекта № 274 получил орден Трудового Красного Знамени и вскоре был утвержден заведующим отделом обкома партии. Я скоро уяснила, не без его помощи, что это самый важный отдел – оборонный. Секрет Полишинеля.
Как изменился Женя! Помню, как он пришел домой после его утверждения в должности. Он пил иногда. Выпьет сто граммов в ужин – и с него будет. Развеселится и еще для кое-чего польза.
Но в этот раз он выпил наверняка все пол-литра. Он был возбужден, но не весел. Его возбуждение было агрессивно. С порога он объявил, что с этого момента наша жизнь изменилась кардинально. Что он приобщен к некому сообществу подобно касте. Долго в тот вечер он говорил. То возбуждаясь и убыстряя печь, то придавая ей фальшивые нотки пафосности. Он больше не пил, хотя я выставила на стол бутылку «Посольской». Что произошло с всегда сдержанным – поверьте мне, я все-таки его жена – Евгением? Какой вирус проник в его организм?
Наш вечер «по поводу» закончился безобразно.
– Ты не достойна быть не только моим соратником. Ты – плохая жена.
И это сказано на седьмом месяце нашего брака. Каков! Простите меня все святые, но я-то знаю, что за животное меня истязает в постели. Садист. Ему бы у Малюты Скуратова в помощниках быть. Заплечных дел мастер был бы доволен.
Он получил достойный ответ. Как говорили во времена трех мушкетеров – сатисфакцию. Бутылка «Посольской» оказалась недостаточно крепка и разлетелась на осколки. Нет. Он не умер от моего удара. Я вовремя остановила кровотечение, обработала рану и перевязала.
А уложив мужа в постель, до частички, до пылинки прибрала все. Потом, как говорят молодые повесы, оттянулась.
Еще раз, проверив мужа и убедившись, что сон его крепок, я вышла из дома. Мне вспомнился тот двор, где один из трех амбалов отобрал у меня брошь. Какой черт вселился в меня в тот момент, но я пошла туда. Время не так уж и позднее.
Вот и тот двор. Пустынно. Лето все ж. Детишки отправлены загород. Кто в пионерские лагеря, кто к бабушке в деревню, а кто и на юга на море.
Вот и лавка та. Села. Достала бутылку, пластмассовый стаканчик, кусочек ветчинки югославской формовой. Неяркий свет от фонаря на высоком столбе освещал мою сирую трапезу. Где-то в отдалении тихо шумел город.
Легкий озноб пробежал по моему телу. Знаю, это верный признак приближающейся опасности. А вот и он. Тот самый тип, что в тот зимний предновогодний вечер пристебался ко мне и привел тех трех бандюганов.
Подошел. Стоит. Молчит.
– Что, хмырь, не признал? Зови своих бандитов. Есть разговор.
Ни слова не проронив, ушел. А вот и они. Все та же троица.
– Эй ты, толстый! Иди сюда!
Понял, к кому я обращаюсь. Подошел.
– Чего тебе?
– Не вспомнил? Брошь куда подевал? Она фамильная. Мне отдай. Заплачу.
– Ты, что ли? – у гидроцефала проснулся разум.
– Я-я. Брошь где?
Я была удивлена, когда он ответил мне:
– Где-где. Марвихеру сбагрил.
– Адрес давай!
– Ты даешь! Где кантуется, покажу, а где живет, мне по фигу, – последнее слово я заменила, щадя ваши уши.
– Пошли, – я все больше поражалась его покорности.
– Пошли, если не шутишь.
И мы пошли. Люди оглядывались на нас. Компания, ничего не скажешь. Вообразите мужика типа известного актера, сыгравшего Бывалого в комедиях с Шуриком, но с безобразной рожей и небритого. О себе я не говорю. Тут и воображать не надо. Перелистайте журнал «Советское кино» – и все.
Кто такой марвихер, я догадывалась. Скупщик краденого. Пред моими глазами встал хитрый и грязный мужлан.
Шли мы недолго.
– Тут, – сказал толстый (я уже выяснила, что его зовут Петя) и показал на пивную.
– Вместе пойдем.
– Ты что, с дуба рухнула? Он же меня потом на перо посадит за то, что тебе его сдал.
– О-обоссался. Мужик ты или нет? Пошли. Вали все на меня.
В пивной, несмотря на ранний час, полно людей, но нет шума, что бывает в таких местах. Такое впечатление, что здесь собрались научные работники и обсуждают высокоинтеллектуальные проблемы.
– Видишь, в углу сидит мужик с бородой, – сказал Петя.
То, что он назвал бородой, было аккуратной бородкой эспаньолка. И красовалась она на лице, черты которого говорили о родовитом происхождении владельца. Облик этого человека из богемы дополняли длинные слегка вьющиеся волосы. Они были красиво уложены локонами. И в довершение – на носу очки в тонкой металлической оправе желтого цвета. Под золото, подумала я, но скоро убедилась, что ошибаюсь.
Петя почтительно склонился к марвихеру. Язык не поворачивается так называть мужчину в очках. Он что-то прошептал и глазами показал на меня. Мужчина кивнул и сделал жест рукой, обозначавший одно: «Вали вон отсюда. Обмен информацией окончен».
– Присаживайтесь, сударыня. Чего желаете? Пиво? Водка? А может быть, сударыня пьет исключительно кальвадос? Так мы мигом. Для такого-то гостя.
Я молчу.
– Так вы по какому вопросу ко мне?
Точь-в-точь как в кино.
– Вы, уважаемый, купили у Пети брошь.
Молчит человек с бородкой. Ни один мускул не дрогнул на его холеном лице.
– Эта брошь мне досталась по наследству, а Петя просто украл ее у меня.
– Это его профессия, – улыбнулся широко.
– Продайте мне ее. Я хорошо заплачу.
– Милая, не имею чести знать, как вас зовут, я марвихер. Покупаю, чтобы продать. Нет твоей броши у меня. И слава Богу. Несчастье она приносит. Кому продал, скажу, а вернуть не могу. Пивка?
Вышла из пивной и стою, как столб. Мою брошь купил мой теперешний муж. Наваждение какое-то. Уважаемый в обществе человек – и пользуется услугами перекупщика краденого…
– Так, я пошел, – я совсем позабыла о Пете.
– Давай, Петя, где-нибудь посидим, выпьем. Есть за что.
– Шутки шутишь, – секунду подумал. – А впрочем, по шли. Знаю я одно место, где я не буду выглядеть как белая ворона.
Кто из обычных граждан знает об этом заведении? Думаю, никто. В полуподвальном помещении разместился кабак. Иначе это назвать нельзя. Низкий сводчатый потолок затянут маскировочной сеткой, столы из толстых досок и лавки подобающие. И, что удивительно, на стенах отличные литографии. Ленинградские пейзажи. И ни на одном нет ни одного человека. Народу в кабаке тоже нет. Петя пояснил – вечером тут свободных мест не будет.
Забыла сказать, пропустили нас по паролю. Этакий андеграундный ресторан. В духе времени.
Как там нас накормили! Думаю, и в ресторане гостиницы «Астория», где отъедаются одни иностранцы, так не кормят.
Пробыли мы с Петей там до тех пор, пока он не сказал:
– Наше время кончилось. Паханы сейчас подтянутся.
Так я сподобилась побывать в притоне. Свой мир со своими правилами. Мой муж кичится тем, что он в числе сильных мира сего. Знает ли он и иже с ним об этом мире? Думаю, они не знают. Кто-нибудь знает, но и эти не смеют внедряться сюда…
История с брошью стала той точкой, от которой мы с Евгением начали путь к трагедии.
– Ты много пьешь. И вот результат. У тебя галлюцинации. Какая брошь?! Какой скупщик краденого?! Ты отдаешь отчет своим словам? Ты забыла, кто я, – тут он переходит в крик, и лицо его искажает гримаса гнева. Но крепка память этого мужлана о бутылке, разбитой о его голову. Сник. Отвел глаза.
На этот раз разошлись мирно. Это надо же! До какого состояния дошла наша совместная жизнь! Года не прожили под одной крышей. Но я терплю. Что держит меня тут? Моя квартира ничем не хуже. Прислуга? Я сама еще не инвалид. Во дворе будка с милиционером? Меня охранять не надо. Я лучше стала жить с материальной точки? Ничего подобного. Я даже не знаю, сколько получает мой муж. Я же вынуждена отчитываться перед ним за каждую истраченную копейку.
Да что это я! Не в моих правилах жаловаться и ныть. Я его дожму. Тот, из подвала, не соврал. Такие не лгут. Дожму, чего бы мне это ни стоило.
Лето прошло. Мой благоверный на три недели улетал с какой-то делегацией в ГДР.
– Нас сам Хонеккер принимал, – важничал он, сидя в одних трусах по колено на табурете у открытой балконной двери.
Что мне этот немец? Хоть Папа Римский вас принимал. Мне от этого ни холодно ни жарко. Он, то есть мой муж, по заграницам мотается, а мне сиди в городе.
Плюнула на все и поехала с Виктором в Карелию. Там у КБ своя база отдыха. Вот где я отдохнула и душой и телом.
Погодка выдалась на славу. Можно было купаться, загорать. Небольшие домики стоят в лесу. Дом на две пары. Там же ниша с газовым таганком. Хочешь – иди в столовый корпус и ешь там. Хочешь – готовь сам. Дают лодку, рыболовные снасти. Есть и телевизор. Наши умельцы соорудили такую антенну, что можно смотреть финские передачи. Ничего сверхинтересного.
Как мы радовались с Виктором, когда кому-либо из нас удавалось поймать рыбешку! Долгие прогулки по лесу не утомляли. Утомляли в хорошем смысле только ночи. Домой я возвращалась в самом наилучшем расположении. Виктор на перроне Московского вокзала обронил:
– Я ведь теперь одинок. Дверь моего дома для тебя открыта и днем и ночью.
Не знала я, что он развелся. Даже партком, наш местный блюститель нравов, обошел этот факт сторонкой. Виктор был все-таки большая величина в своей области.
Что за прелесть августовская пора в Карелии. Как приятны были мне часы и даже минуты, проведенные с Виктором! И настолько же отвратительна была моя встреча с мужем.
Я вернулась в дом в субботу в одиннадцать утра. И что же меня встретило? Первое – это затхлый прокисший запах. Везде, начиная с порога, грязь. Но не это убило меня. Евгений, в трусах по колено и майке, бретельки которой свисали по обе стороны, с бурыми пятнами на груди, сидел на привычном для него месте – на табурете у открытой балконной двери.
– Что, тварь, нагулялась?! – не взглянув на меня, он попытался бросить порожнюю бутылку из-под пива. Рука его вскинулась и тут же опала. – Вот, скажи, что бы ты сделала на моем месте? Устроила бы маленький скандальчик? Мол, я верная жена, а ты пропойца. Да? Так нет же, подруга!
Я села рядом и налила ему в фужер водки. Благо ею он запасся. Удивительное зрелище, не надо ходить в Петровскую кунст камеру. Медленное и верное превращение человека в урода. Я видела, как искажается лицо человека под многократными перегрузками. Это что-то похожее.
У меня было достаточно времени, чтобы распаковать багаж, переодеться, принять душ. Вернувшись на кухню, я застала ответственного партийного работника еще сидящим на табурете. Одно изменилось в этой мизансцене (Данте Алигьери позавидовал бы): Евгений был напрочь гол, и под ним благоухала лужица; он улыбался улыбкой годовалого ребенка.
– Мама, я пи-пи сделал. Прости меня!
Скоренько подтерев мочу, я окатила члена бюро обкома КПСС холодной водой. Он мне был нужен еще некоторое время в сознании.
– Спасибо. Хорошо-то как…
– Что же ты с собой сделал, Женечка? Помнишь, в школе тебя нам ставили в пример. Помнишь, как ты все каникулы проводил у мамы в деревне Куялово?
И тут мне в голову пришло озарение. Опять эта ненормальная, почти патологическая привязанность к матери. Женя, Женя… Именно это исковеркало твою психику. А ведь тогда, почти пятнадцать лет назад, мы были с тобой до бесстыдства привязаны друг к другу. И все ж ты уезжал от меня и не находил времени для встреч со мной. Вот и сейчас ты обращаешься не ко мне, своей жене. Ты жалуешься маме. Что ж, Женечка, выпей еще! Мама разрешает. Он пьет, не ощущая вкуса. Будто и не водка в фужере, а простая вода.
И вот перенасыщение наступило. Я успела подхватить обмякшее тело и медленно опустить его на пол. Обложив по абрису тело тряпками и плотно прикрыв дверь, я ушла из дома.
Семь часов вечера в городе, пожалуй, самое хорошее время. Полумрак и тишина. Народ схлынул с улиц и проспектов. И лишь в магазинах еще томятся в очередях те, кому не хватило выпивки и закуски.
Непроизвольно я иду или ноги мои красивые сами несут меня к тому месту, где человек с бородкой и в очках назвал мне имя моего мужа, купившего брошь свекрови. Надо переехать мост и там еще долго идти.
Вот и эта дверь. Я ищу глазами какую-нибудь кнопку. В темноте черта с два что разглядишь. Но вот над моею головой зажигается фонарь и дверь отворяется. Чудеса. Голос из темноты дверного проема:
– Приходите. Илларион Платонович вас ждут.
Определенно тут царство Аладдина. Дура я, дура. Не заметила маленькой дырочки в двери. Через нее и подсмотрели, кто топчется на крыльце.
Молодой, с фигурой атлета человек провел меня в зал. Тихо, где-то в дальнем углу играли на гитаре и женское сопрано пело старинный романс.
Я запомнила один куплет:
Душистые кудри и черные очи. Когда ж вас забуду? Когда вы не будете мучить Ни в сумраке ночи, Ни в блеске докучном печального дня?– Вам нравится этот романс? – позади и поодаль слева от меня стоял тот, кого поименовали Илларионом Платоновичем. Тот, что в очках и с бородкой эспаньолкой.
– Впервые слышу, но романсы мне нравятся. И еще я люблю джаз.
– Да, это настоящая музыка. Музыка, имеющая глубокие народные корни. И пусть эти корни окрашены в черный цвет Африки, но они искони народны. Это все равно что наши былинные песни или частушки, – он вел меня под руку, и я чувствовала силу руки его в сочетании с осторожностью ловца птиц на силки. – А я, любезная Тамара Вениаминовна, ждал вас. В детстве, годков восьми, я сорвался с деревянных качелей в деревне на берегу Чудского озера. Я сильно ударился головой. Бабка повитуха рассказывала мне, что я почти час лежал в беспамятстве…
Мы подошли к столу, на котором в изобилии были яства и напитки.
– Вы ждете много гостей?
– Нет. Я с некоторых пор никого не жду. Как сядем? Визави или тет-а-тет.
– Давайте сядем рядом.
– Я продолжаю. После того как я сорвался с качелей, я долго страдал головными болями. Отпоили меня настоями и отварами. С тех же пор пробудилась во мне некая сила. Я мог предугадать то или иное событие. Может быть, помните – был такой факт: расшибся при приземлении космонавт. Так вот я предугадал это тогда, когда его корабль только взлетел. Помню даже слова, которыми я пророчествовал: «Этот комар сгорит при посадке. Фамилия у того космонавта была Комаров».
Он говорит и одновременно угощает меня. Все необыкновенно вкусно. И опять зазвучали гитара и голос женщины:
Он говорил мне: «Будь ты моею. И стану жить я, страстью сгорая; Прелесть улыбки, нега во взоре Мне обещают прелести рая…»– Поди, надоел я вам со своими россказнями. Одно скажу, вы для меня с первого раза есть объект вожделения и притязаний чувственных.
Что это? Кто передо мною? Скупщик краденых вещей и драгоценностей? Поэт? Или просто сумасшедший? А он продолжал все также ровно и уверенно:
– Брошь удалось вернуть? Вам непременно надо вновь обрести ее. Имеет она некую энергетику, что благостна лишь для вас.
– Она мне досталась от свекрови.
– Я знаю. Женщина покончила с собой из-за вашего союза с ее любовником. По праву владейте брошью.
Через два часа я рассталась и Илларионом Платоновичем. Уже во дворе дома на Таврической я обнаружила, что несу большой пакет.
– Где ты шляешься, сука?! – муженек отоспался, судя по запаху, умылся и теперь изволил ужинать.
Я развернула пакет. Бутылка ранее не виданной водки, две баночки с икрой и батон сырокопченой колбасы. Все это я молча выставила на стол. И опять сквернословие.
– Так платят тебе за разврат? Кто он! Это надо же такими деликатесами расплачивается, – он вертит бутылку. – Ты знаешь хотя бы, что за водку тебе дали? Такую воду пьют только члены Политбюро.
Он тут же льет себе в стакан и пальцами цепляет черную икру из банки.
Я ушла из кухни и стала в комнате у окна. Ночь накрыла город. Все затаилось. Даже неугомонные вороны и те замолкли. И вдруг я увидела перед собой лицо Иллариона и как будто услышала его голос: «Ты сможешь. Я тебе разрешаю».
Я вернулась на кухню. Заведующий отделом обкома меня не замечал. Он пил и жрал. Иначе не скажешь. Я ждала. Во мне уже засело страшное чувство. Я – вершитель. Я – сама судьба.
Где-то далеко, на том берегу или на самой реке, что-то провыло. Так, наверное, воет выпь на болоте. Это знак – начинай. С каким наслаждением я втыкала острый разделочный нож в тело. Крови отчего-то почти не было. Евгений тихо дергался и подвывал. А выпь все выла. Я не чувствовала усталости. И только после того, как мне не удалось затолкнуть в рот его гениталии, я обмякла. Замолчала и выпь.
Следствие по делу об убийстве гражданина Петрова Евгения Петровича длилось почти три месяца. Дважды менялись следователи. Обком партии давил. Прокурор города мотался туда-сюда, и каждый раз он слышал одно – партбилетом ответишь.
Один адвокат был неизменен: «У вас, Тамара Вениаминовна, один выход. Признание вас в момент совершения убийства невменяемой»…
Какие же они все идиоты. Я не отхожу от параши. И это не оттого, что местная жратва мне не по нутру. Одного я не могу с определенной точностью сказать: чье семя я вынашиваю. Виктора ли. Или все ж Илларионово. Лаг по времени минимальный. Но мне это как-то все едино. Главное – я беременна.
– Слушай, сиделица, ты случаем не тифозная? Все блюешь и блюешь, – сказала смотрящая на хате тетя Вера. Она уже год здесь. И не тоскует. Двойное убийство с отягчающими обстоятельствами.
– Тетя Вера, кажется, я подзалетела.
– Это же просто счастье твое!
– Бабу беременную гноите, сволочи! – заколотила она в дверь. Креста на вас нет!
Ее поддержали все:
– Голодовку, голодовку!
Шум наш услышали в других камерах, и вот уже СИЗО на Арсенальной гремит, подобно канонаде при Курской битве.
Заспанный, помятый сверху донизу начальник оперотдела одним глазом долго наблюдает за нами через смотровое окно и потом только открывает дверь.
– Ты чего бузу устроила, Вера? В карцер захотела?
– Кум, ты вникни. Тамарка с животом. Всю парашу заблевала. Как нам, девочкам, жить в таких условиях? Ей в больничку надо.
Кум стоит. Раздвинул ноги для большей устойчивости. Лоб морщит. Руками в карманный бильярд играет. Долго, очень долго он переваривает информацию. Первое, это надо сообразить, кто такая эта Тамарка. Второе, как так без его участия кто-то из сидельцев забеременел. И третье. Зачем при этом блевать. Ну а уж вопрос о больничке, так это вовсе выходит за рамки разумного. По его мнению.
– Выходи без вещей, – наконец он отличает меня от остальной массы.
Команды привычны:
– К стене! Повернись налево. Вперед. К стене. Направо. Вперед.
Вот и кабинет начальника оперотдела. Окно задернуто непроницаемой для света шторой, в воздухе стойкий запах сивухи и одеколона «Шипр».
Кум молча закрывает на ключ дверь. Так же молча снимает форменную тужурку, отстегивает галстук.
– Раздевайся, сука. Посмотрю, какая ты беременная.
Ну, вот скажите, что делать в этой ситуации. Кричи – не кричи. Никто не откликнется. К крикам в этой комнате все привыкли. Наверное, если бы отсюда раздался смех, то сбежался весь СИЗО.
Долго и как-то лениво кум «апробировал» мое влагалище.
– Пить, гражданин начальник, меньше надо.
– Учить меня будешь, – он подобрел.
Потом мы вместе пьем спирт и заедаем его холодными котлетами из столовой офицерского состава.
– Ты что, и вправду беременна?
– Четвертый месяц.
– Завтра переведу тебя в распоряжение завхоза.
– Пожалуйста, – это слово звучит тут почти как издевка, – не надо к нему. Я уж лучше на хате останусь.
Завхоз славился тем, что заключенные уходили от него прямиком в лазарет. Это считалось наградой. Месяц провести на чистом белье и кушать не баланду, а нечто похожее на еду, – это счастье.
Опять кум морщит лоб.
– Ты точно беременна?
– Я же сказала.
Долго продолжалась умственная работа серого вещества начальника оперативного отдела, а по-нашему кума.
– Будешь в лазарете Наде помогать, – и опять пауза. Я отдыхаю. Не от кума. От хаты. Зазвонил телефон. Еще пять минут я отдыхаю. Наиважнейший вопрос решал майор – где оттянуться вечером.
– А ты чего сидишь? Иди в хату! Завтра утром отведут в лазарет.
Я уже взялась за ручку двери, когда он добавил:
– Адвоката твоего завтра вызову. Ты ему скажи. Он знает, что делать. По его выходит, что тебя в дурку надо. А там житуха хуже нашей. Уж лучше в зону.
Весело встретили меня девочки в камере.
– Уймитесь, девки. Не видите, что ли, у Тамарки все силы ушли на кума. Как кум? Могет еще? А то последний раз так и не получилось у него со мной.
– Пить меньше надо, – обронил кто-то, и мы начали ужинать. У нас в камере коммуна. Все, что в передачах, идет на общий стол.
С утра следующего дня я уже обитала в лазарете. Тоже не сахар. Гнойные перевязки, рвотная масса, уборка за лежачими, вынос их испражнений. Но все же тут и чисто, и свежо. По сравнению с камерой.
На третий день после моего тесного, куда теснее, общения с кумом меня вызвали в комнату для допросов к адвокату.
– Буду писать ходатайство об изменении вам меры пресечения.
Он что-то писал, а я все время задавалась вопросом, от кого ребенок. В конце концов решила: рожу и посмотрю, на кого похож. Мне же хотелось, чтобы был он похож на Иллариона.
Суд состоялся в декабре. Коротким был тот суд. Обвинение поддерживал какой-то средней величины прокурорский чин. Промямлил в пять минут и сел молчком.
Зато мой адвокат распинался долго и витиевато. После его речи судья объявила перерыв до следующего дня.
– Будет советоваться в обкоме партии. До меня дошли сведения, что вашего супруга там не уважали и уже готовили его отставку. Он связался с криминалом. Пил даже в кабинете и не брезговал услугами дешевых проституток.
Мы с адвокатом вышли на набережную Фонтанки и курили. Я забыла сказать, что по его ходатайству я была расконвоирована.
В двенадцать следующего дня суд возобновил свою работу. А уже через десять минут судья зачитала приговор. Меня осудили за непредумышленное убийство, совершенное в состоянии аффекта, к двум годам условно.
Так закончился для меня этот этап решения квартирного вопроса.
Продрогшая, с мокрыми ногами, я вошла в квартиру на Тверской. После суда адвокат буквально затащил меня в ресторан. С непривычки (я не брала ни капли спиртного все это время) я быстро опьянела.
Не снимая пальто, я открыла все форточки. Открыла бы и окна, если бы не мороз под двадцать. В квартире все так же, как было в тот вечер. Во время следствия и суда, когда меня отпустили под подписку о невыезде, я жила в своей квартире.
Сюда же я приехала собрать вещи. Товарищ из обкома уже предупредил меня о том, что я должна освободить эту квартиру в течение трех дней. Что же, милочка, как звала меня свекровь, побаловалась – и довольно.
Тошнота отпустила меня. Врач в женской консультации сказала, что мой организм наконец-то адаптировался к беременности. Токсикоз отступил. Мой живот я скрыла платьем, и никто, кто заранее не знал, не мог и предположить, что я на седьмом месяце.
К десяти вечера я собралась и была готова уйти, чтобы завтра приехать на машине. Прошла на кухню. В праздном любопытстве открыла холодильник. Боже мой, все покрылось плесенью. Только початая бутылка водки была чиста. То опьянение, что было после ресторана, прошло, и я решила «отметить» мой отъезд. Уже наполнена стопка, уже рот мой готов принять спиртное. Звонок в дверь сорвал мой замысел.
Первой моей реакцией было быстро спрятать бутылку. Тюремный синдром. Звонок повторился. Надо идти открыть.
В проеме двери на фоне серой стены стоял Илларион. Но прежде я увидела огромный букет роз.
– Я решился прийти сюда, сударыня. Примите этот букет и можете прогонять меня.
Что за энергия шла от этого человека? Отчего, когда я вижу его, у меня возникает чувство покоя и защищенности? Он же из мира криминала.
– Проходите.
Он проходит, слегка коснувшись меня. Ток пробежал по мне, и молнией пронзила мысль – плод его семени ношу я в своем теле.
– Куда прикажите?
Не успела я показать, куда идти, как он уже шел на кухню. Стало очевидно, что в этой квартире он уже бывал.
– Присядьте, Тамара. Мне надо кое-что вам рассказать, – заговорил Илларион тихо, но четко произнося каждый звук.
Он говорил, и я слушала, поражаясь тому, что он рассказывал. Мой муж Евгений, высокопоставленный партийный работник, давно связан с миром криминала. По долгу службы он сталкивался с уголовными делами разной квалификации и скоро понял, что свое положение он может использовать в корыстных целях.
– Поведаю вам об одном случае, – Илларион закурил фирменную сигарету. – Была арестована группа распространителей наркотиков. Следствие вел опытный следователь горпрокуратуры, и скоро дело должно было быть передано в суд. Я не знаю, что подвигло вашего мужа, – наверное, на моем лице Илларион увидел нечто такое, что сразу извинился, и продолжал, – что подвигло этого человека с положением, но он сделал так, что этого важняка отстранили от дела. Пришел другой, и в суде было уже совсем другое дело. Обвиняемым тогда суд присудил минимальные сроки. Смешные сроки. Вот тогда-то я и познакомился с ним. Мое, так сказать, официальное реноме скупщика краденого – лишь прикрытие. Я возглавляю всю сеть наркодиллеров.
Я впервые слышала это слово, и, видя мое недоумение, Илларион разъяснил мне, что это такое.
– Я работаю под жестким контролем, – продолжал он. – Поверьте, было бы значительно хуже, если бы наркотическое отравление населения вышло бы из-под контроля. С наркотиками борются во всем мире, а результаты самые плачевные. Именно тогда я получил поручение сблизиться с Евгением. Не знаю, успели ли вы познать этого человека достаточно хорошо, но он был буквально пропитан корыстью и стяжательством. Вот вы разыскивали брошь. Вам она дорога как память. Он же видел в ней только золото и бриллианты. Теперь я могу сказать. Нам, – он не уточнил, кому это «нам», – стало известно, что он собирается стать невозвращенцем. В очередной зарубежной командировке в капстрану он намеревался попросить политического убежища.
Я была поражена. Я помнила Евгения последних дней его жизни. Пьянство и блуд. Каждодневные.
– Я не могу поверить. Он пил, как опустившийся пьяница. Он опустился. Какая командировка за границу?!
– Мы, – опять это «мы», – видели это и уже готовили его отстранение, – он сказал «отстранение», а мне послышалось «устранение». – Но вы опередили нас. Так что поставлены все точки над «i».
– Так какого же черта вы, такие могущественные, не вызволили меня из тюрьмы сразу?
– Мы не всесильны. Это раз, и, во-вторых, есть такое понятие, как общественное мнение. Его тоже надо подготовить.
– Оставим это. Я есть хочу, а тут все сгнило.
– Машина внизу. Едем ко мне, – он улыбнулся. – Туда, где состоялось наше знакомство. А вещи мы заберем завтра.
Подвал в этот раз был пуст. Только один официант и кто-то на кухне.
– А гитариста и певички не будет?
– Вы хотите послушать романсы? – не дожидаясь моего ответа, в сторону официанта: – Игорь, вызывай Тамару и Сашу!
И опять ко мне:
– Певица живет над нами. Она заканчивает консерваторию, и я немного помогаю ей. Таким вот образом. Вообще я предпочитаю давать людям удочку для ловли рыбы, а не саму рыбу. Нигде ваша тезка столько не заработает, как тут.
Так вдвоем мы и провели остаток этого дня. Вдвоем в ресторане, вдвоем в его квартире в этом же доме. Я входила в очередной виток спирали, что называется жизнью.
– Я не могу стать твоим мужем в классическом понимании, но я всегда буду рядом. Пока ты этого хочешь. Рожать будешь в институте Отта. Все расходы по ребенку я беру на себя.
Как вы думаете, где проходил этот разговор? В бане на берегу реки Волхов.
– И еще. Родишь – и выходи на работу. Тебя там ждут. Я хочу, и ты это сможешь, чтобы ты стала высококлассным специалистом и в конце концов одним из руководителей бюро. У моего сына мать должна быть важной персоной. Very important person.
Так я впервые услышала ставшее позже распространенным словосочетание…
Шел 1982 год. Я готовилась к совещанию со смежниками, когда в кабинет вошла Маша, моя помощница.
– Тамара Вениаминовна, включите телевизор.
– Маша, мне некогда смотреть телевизор. Лучше скажи мне, где отчеты за полугодие.
– Смотрите!
Диктор на экране зачитывал сообщение о смерти Брежнева.
И что же это такое невезение! На одиннадцатое я назначила небольшую вечеринку для самых близких мне и Иллариона приятелей. Повод был самый подходящий. Илларион был назначен заместителем председателя Комитета по здравоохранению, и, кроме того, это был день его рождения. Мы с ним намеревались объявить там о нашем предстоящем бракосочетании.
Совещание со смежниками я провела быстро. Это мой стиль. Теряется всякий смысл, если такие сборы продолжаются более сорока минут. А тут и смерть генсека сыграла свою роль.
Поразительна психология человека. Такое событие! Казалось бы, все должны омрачиться и сосредоточиться. А тут некая суетная поспешность.
За смертью Генерального секретаря последовали почти загадочные смерти других партийных и государственных руководителей…
Вечер удался. Все были пьяны в пределах приличия. Кстати, были и гитарист, и певица. Она спела несколько романсов и все оставшееся время просидела с бокалом белого вина на софе.
Никто не вспомнил о смерти генсека, никто не предложил помянуть его рюмкой водки.
– Ты не устала? – Илларион подошел неслышно, но его приближение я почувствовала кожей.
– Откровенно говоря, меня такие собрания тяготят. Я предпочитаю меленькие компании.
– Потерпи еще минут двадцать. Я прикажу Тамаре спеть один романс, так сказать, прощальный, и народ разойдется. Это надо мне, – последнее слово Илларион произнес многозначительно.
Заболталась я и позабыла вам сказать, что Илларион уже муж мне. И как сказано в Писании, да убоится жена мужа своего. И опять я растяпа. Вас интересует, а где мой первый муж Андрей. С Евгением все ясно. Я его зарезала. Андрей же долго лечился в психиатрической больнице. Он «потерял лицо», то есть перестал быть личностью. Но одна страсть осталась в нем жить – тяга к алкоголю. Как он исхитрился и достал какую-то спиртосодержащую жидкость, никто не установил. А вернее всего, просто не желали. Он сжег себе пищевод то ли растворителем, то жидкостью для мытья окон. Я похоронила его там, в Обухово.
А моя тезка пела знакомый мне романс: «Он говорил мне: «Будь ты моею…»
Я вышла на балкон-террасу. Ноябрьский несильный мороз бодрил. Где-то внизу двое ругались. Я курила и вспоминала отца, брата, невестку. Моему сыну уже три года. И, слава Богу, он не знает кухонных скандалов, не видит, как швыряются банками и кастрюлями.
Мой квартирный вопрос решен. Мы живем в доме, прошедшем комплексный капитальный ремонт, на втором этаже, что раньше прозывали бельэтажем. Потолки у нас под пять метров. Почти как в той скандально известной квартире. У меня домашняя помощница, а у сына – нянька.
Иллариону по спискам горисполкома дали право купить «Волг у».
– Иди в дом. Тебе нельзя сейчас простужаться.
Мы вместе вошли в гостиную. Пусто. Все ушли. Домашняя моя помощница собирала грязную посуду. Мы с мужем пристроились в углу. Илларион только теперь позволил себе выпить любимый им напиток – шотландское виски.
– Тамара Вениаминовна, а инструмент куда девать? – певица держит обеими руками гитару.
– Давай мне, – ответил Илларион. – Завтра отдам.
Не буду я интересоваться. Где и как. Что да почем. Он муж мне. Знает, что делает. Так думала я, а внутри червь сомнения так елозит, так и ползает: «А что у него с этой певичкой?»
Вот и выпито вино, и выкурена последняя сигарета, и прислуга удалилась к себе. Сын спит и видит сны. Пора и нам в кровать. Впереди пять часов до утра.
Ждете, знаю, ждете, что я тут разоткровенничаюсь. Сколько часов из этих пяти мы будем спать. Не тот случай. Это вам не филолог-алкоголик и не чванливый и жадный функционер. Это мужчина. Что же я буду перед вами полоскать белье? Будь оно чистое или испачканное.
– Я тороплюсь, – Илларион уже прошел «чистилище» ванной и теперь сидит за столом и ждет завтрака. Я тоже готова. – Уезжаю в Москву вечером. Вчера не сказал, момента не было. Там, в столице, сейчас, считай, решается судьба страны.
Я молчу. Мой муж едет в Москву участвовать в таком деле. Невольно язык проглотишь.
– Мне страшно. Когда делят власть, то могут и на тот свет вместо трона отправить.
– Ну, дорогая, где трон, а где я. Мое дело – обеспечение нашего здравоохранения.
Знаю я, откуда опыт в этом деле у мужа моего.
Он к себе в Комитет, я к себе в КБ. Дела, дела. Няня накормит сына, оденет, и они пойдут гулять в Таврический сад. Певица Тамара, это я знаю точно, заварит себе в турке кофе, плеснет в чашку коньяку и до десяти часов будет пить этот напиток, курить и читать Бальзака. Так решен квартирный вопрос не для одних нас. Две женщины тоже не без крыши…
Смена одного умирающего на другого умирающего руководителя государства. Страну начинает «колбасить». Как-то я услышала такое высказывание: «Уровень культуры в стране можно определить по общественным уборным. Уровень благосостояния – по прилавкам винных магазинов».
«Коленвал», «Андроповка». Отчего началась эта чехарда с наименованием водки. Отчего исчезли привычные – «Московская», «Столичная»? Уровень общественного производства падает. В сельском хозяйстве развал. Надо бы на этом сосредоточить силы народные. Нет, пусть у этого народа голова болит от забот о водке.
Я помню прошлые мои командировки на верфи и стапеля. Вы можете себе представить, чтобы в заводском буфете продавали в розлив водку? И не было пьяных. Монтажник корпусов работает на открытом воздухе при температуре минус двадцать, а то и больше. Сто граммов водки согреют его. И только.
– На аппарате гемодиализа долго не протянешь, а уж эффективно управлять страной подавно невозможно, – это все, что сказал Илларион, возвратясь из Москвы.
Год одна тысяча восемьдесят второй. А новый мы втроем встречали на даче в Репино. Наш сын Иван остался дома с няней и моей помощницей.
«Волга» с ошипованными шинами (Илларион привез их из Финляндии) уверено «держала» дорогу, и на всем пути не было машины, чтоб обогнала бы нас.
Вы помните, какая была погода в тот вечер? Вот и я не помню. Помню одно. Ощущение комфорта и покоя. Я достигла того, о чем и не мечтала. У меня муж… Хотела сказать «любимый», но осеклась. Есть ли это так называемая любовь? У нас с Илларионом не было гуляний под Луной, не было приторно сладких объяснений. Цветы в руках Иллариона я видела один раз. Когда он неведомо как оказался в квартире Евгения. И все же я удовлетворена. Не это ли и есть суть счастья?
Мой сын не глуп и, слава Богу, здоров. Я не считаю каждую копейку и могу позволить себе не обычную цирюльню, а салон красоты на Невском проспекте или, на худой конец, парикмахерскую при горисполкоме.
Новогодняя ночь в окружении заиндевевших елей и сосен, при свете пяти разноцветных большущих свечей (их муж тоже привез из Финляндии), с шампанским, которое я не переношу, из «подвалов» дома на Старой площади, и в довершение гусь, испеченный в камине. Что может быть лучше?
Первого января мы уже парились в русской бане на даче полковника КГБ.
Короткое отступление.
Пройдет менее десяти лет, и этот полковник, к тому времени ставший генералом, изменит присяге и станет предателем.
Он, этот полковник и паскудник одновременно, попытался, едва муж закрыл дверь в парной, овладеть моим телом. С каким наслаждением я ошпарила его толстый живот и все, что ниже.
У него хватило выдержки и ума не заорать от боли.
– Погоди, сука, доберусь я до тебя и твоего бандита!
Я бы и словом не обмолвилась при муже об этом, мягко говоря, банном инциденте, но эта фраза буквально взорвала меня. То-то был скандальчик в «благородном» семействе. Мы с Илларионом ушли по-английски. Не попрощавшись с хозяевами.
– Он может навредить?
– Я знаю его давно. Он трус. Есть люди в его ведомстве и покруче. Обломают рога. Не бери в голову.
Я добавила привычной шуткой – бери на метр ниже. Мы оба рассмеялись.
1991 год. Я уже не работаю в КБ. Илларион не служит в комитете. Михаил Сергеевич сделал все, что требовалось по плану, разработанному в недрах Госдепа США. Развалены ВПК, армия и флот, уничтожено крупнотоварное сельское хозяйство. Повылазили, как грибы поганки, всякого рода ООО, ЗАО, ОАО. Откуда ни возьмись, появились посконные миллионеры. На прилавках продмагазинов – импорт со сроками реализации не позже окончания Второй мировой войны. Ножки Буша, спирт «Роя л»…
Этот разговор произошел у нас с Илларионом ранним майским утром. Он торопился на какую-то встречу – вернулась лексика прошлых его криминальных лет – на стрелку.
– Сегодня никуда не уходи. Ивана тоже в школу не отпускай. Я вернусь не позже часа дня. Не будет меня, уматывай, – так он не выражался никогда, – отсюда быстро. За моим столом кейс. Того, что там, вам с Ваней должно хватить на первое время. Езжай на мою заимку. Там жди меня семь дней и, если меня не будет, езжай самоходом в Финляндию. К кому там обратиться, найдешь в кейсе.
Я видела, что задавать вопросов в этот миг нельзя. Я жила одной надеждой. Я верила мужу. Ни на йоту я не сомневалась в успехе всех его дел.
Не знала я, не ведала, как изменился мир криминала. И его проела ржа отступничества и предательства.
Ровно в два дня я, подхватив заранее собранный чемодан на колесиках и кейс, позвала Ваню.
– Иван, ты уже большой. Все позже поймешь, а теперь мы поедем с тобой за город.
– Не надо лечить меня, ма. Я, что же, по-твоему, глух и слеп? Петькины родители уже неделю как умотались в Венгрию к каким-то родственникам. Ты поведешь «мерс»?
– Сначала я, потом ты, – в свои двенадцать лет Иван умел водить машину, владел английским и немецким языками, хорошо разбирался в компьютерах.
То, что муж назвал заимкой, было домом, срубленным из калиброванных бревен. Теперь я могу сказать, где была эта заимка. Дом стоял в метрах сорока – пятидесяти от берега озера Пасторское. Откуда здесь, в болотах Выборгского района, это не православное, а католическое название? Мне ли знать. В городе и ближнем пригороде машину вела я. Уже на трассе № 122 Иван сел за руль.
Пятнадцатого мая, заправив полный бак и еще раз проверив, все ли документы в порядке, мы с Иваном уехали с берегов Пасторского озера.
– Ты, ма, так не переживай. Наш отец найдет нас, где бы мы ни были.
В салоне машины оглушительно пахло ландышами.
Наш «Мерседес-190», ведомый Иваном, резво бежит по трассе. Мы благополучно минули и наш таможенный пункт в Брусничном, и финский.
– До свиданья, папа, не горюй, не грусти. Пожелай нам доброго пути, – перефразируя старую для него советскую песню, орет мальчик во все горло.
Я хорошо понимаю, так он пытается заглушить тревогу.
Впереди не только двести с лишним километров. Впереди неизвестность. И пусть в кейсе сумма в американских долларах достаточная для обустройства безбедной жизни за рубежом, но все же тревожно мне. Я неустанно думаю об Илларионе. Тревога сменяется бесшабашной уверенностью, что все у него сложится благоприятно для него.
Нас обгоняют двенадцатиметровые фуры «рено», «скания», «вольво». Обдадут грязной пылью – и ну таковы.
Мы мчимся в будущее, нам не известное. Тревожно. Одно мы знаем – пункт назначения. Финский городок Кеми. Очень похоже на нашу Кемь. Была один раз в этом городе на берегу Белого моря. Какой палтус я ела там!
Пытаюсь таким образом отвлечься от плохих мыслей.
– Мам, пора нам сделать остановку. Кушать хочется, – улыбнулся так по-отцовски, – зверски.
Я смотрю в карту-атлас. Я в нашей команде штурман. До места назначения нам надо проехать почти всю Финляндию. В данный момент наш «мерс» мчится к городу Тампере. Помнится, в этом городе проходили Олимпийские игры.
– Шеф, газуй. Через девяносто километров Тампере. Там и поедим, там и заночуем.
Иван вдавливает педаль газа, наши немецкие девяносто лошадей взвывают, и меня вжимает в спинку кресла.
Через один час и двадцать три минуты мы въезжаем в Тампере.
Огни города радуют. У них, этих капиталистов, даже в небольшом городке освещают так, как будто это европейский центр. Заглянула в справочник. Население Тампере – 280 тысяч человек. Это наш Калининский район.
– Штурман, куда крутить?
– Почем я знаю? Тормози. У тебя английский лучше моего, вот и спроси.
Поужинали мы плотно. И это на ночь. Спали в маленьком отеле. И спали хорошо. Обошлось без приключений.
Это только один эпизод из нашей одиссеи.
Были приключения. В другом селе-городе у нас чуть не угнали машину. Но обошлось.
В Кеми мы приехали спустя десять дней с момента выезда за границу.
– Куда теперь?
– В Магистратуру. Там должны находиться документы на наше будущее обиталище.
Неожиданно быстро чиновник местной власти понял, что хотят эти сумасшедшие русские. И дело было не в хорошем знании английского языка у Ивана. Финну было, наверное, за семьдесят. Его познания английского были минимальны. Зато опыт у него огромный. Дослушав тираду русского, он хитро улыбнулся и исчез в недрах архива.
– It is your documents, – перед нами красивая папка с надписью по-английски и, о чудо, по-русски:
«Документы на владение недвижимостью на земле Республики Финляндия – Suomen Tasavalte».
Вот так! Восхищение сменилось неким разочарованием, когда я рассмотрела схему участка со строениями. Дом стоит на берегу реки Кемийокки в нескольких километрах от города. Что ж, все верно. Это территория Республики Финляндия.
– Missis Inin is upset?
Сын чего-то отвечает.
– Чего он хочет? – спрашиваю. – Взятку?
– Мама, ты не в Союзе. Тут за взятку руки отрубают. Он посчитал, что ты расстроена.
Финн продолжает лопотать.
– Чего он?
– Он говорит, что если господа, это мы то есть, подождут минут десять, то он с удовольствием сопроводит нас к нашему особняку. Он именно так сказал.
И вновь наш «мерседес» в свои девяносто лошадей везет нас куда-то. Старый финн безостановочно лопочет.
Ваня уже устал переводить. Мы едем по узкому шоссе вдоль реки. То тут, то там в перелесках мелькают яркоокрашенные домики.
– Это, как у нас, их зона отдыха, – переводит Иван.
Я вспоминаю дачу генерала КГБ около Рощино. Как тогда я восхищалась ею! Дом, сложенный из калиброванных бревен. Крыша покрыта алюминиевой черепицей. Солидно и основательно. Даже баня и та выглядела фундаментально.
Тут все, как будто игрушечное.
– Вот, мама, мы и приехали. Финн говорит, что это наш дом.
Одноэтажная Г-образная постройка с односкатной крышей была больше похожа на сарай. В отдалении еще одно строение. Сосны и ели окружают дом.
Старик финн показал нам границы нашего владения, любезно согласился выпить русской водки и, отказавшись от предложения отвезти его обратно, засеменил к шоссе.
– Ну что, сын, как тебе наша недвижимость?
– Эй, – не ответив мне, сын побежал вслед финну, на бегу крича: – А ключи?!
Разница в возрасте и здоровье позволили Ивану быстро догнать старика.
– Старый дурак. Бумажки оставил, а ключи с собой упер, – сын даже не запыхался. Откуда такое здоровье?
Середина мая тут – не то, что у нас. Подмораживает. Я продрогла до костей. Скорее бы укрыться в нашем владении.
Замок на удивление поддался сразу. И вот мы в доме. Чудесно! Неказистое снаружи строение оказалось внутри очень комфортабельным и объемным.
Нас с Иваном поразила обстановка. Такое впечатление, что люди, живущие или жившие здесь, вышли на минутку по делам. Пыли почти нет. Я обратила внимание, что у камина аккуратно сложены березовые дрова и даже приготовлена береста для розжига.
– Мам! – позвал меня Иван из-за перегородки. – Мам! Смотри, тут жрачки на целую роту.
Холодильник неведомой мне марки и вправду был полон продуктов. И пускай я дерьмовая хозяйка, но смогла сразу оценить содержимое.
Вот тут, пожалуйста, все для экспресс-ленча. Ниже в герметпакетах мясо и овощи. Отдельно набор самых разнообразных консервов. Рыбные и мясные, овощные и фруктовые.
– Мам! Это по твоей части, – мой сын держит в двух руках по бутылке.
В пять вечера мы с сыном зажгли весь свет и разожгли камин. Я не стала заморачиваться с «большим» столом и приготовила, что называется, на скорую руку.
– Мам, это все отец?
– Больше некому, Иван, – защемило, защемило.
Прошло две недели, как Илларион распрощался со мной. По сию пору я чувствую на своих губах вкус его поцелуя и слышу его голос: «Жди!»
Я жду.
Почти две недели мы с сыном обживали наш дом. Нас не интересовало, кто обитает рядом, и если живет, то кто эти люди.
– Знаешь, мам, мне кажется, мы с тобой тут одичаем. Какая-то глухомань.
Я понимала, молодому, здоровому организму требуется выход энергии. Но понимала я и другое. Пока мы должны жить уединенно и тихо. Из Союза информации я не имела. Как там Илларион? Он человек, как говорится, активной жизненной позиции и определенно ввяжется в какую-нибудь политическую игру.
– Илларион Платонович, – голос в трубке телефона был никакой. Ни нотки эмоций, – вас ждут в пятнадцать тридцать не смотровой площадке Воробьевых гор.
Ради этой встречи Илларион Платонович, практически бросив жену и сына, приехал в столицу. Два дня он безвылазно провел в номере люкс гостиницы «Россия». Пил исключительно нарзан и ел сухие хлебцы. Илларион Платонович с давних пор ввел в правило – по возможности как можно больше перед стрелкой разгрузить желудок. Сам был свидетелем трудной смерти раненого в живот пацана из Юго-Восточной группировки.
– Ваш опыт и знания могут сослужить добрую службу, простите за тавтологию, делу консолидации здоровых сил общества. Для вас не является секретом, что мы давно отслеживаем ваш, так сказать, трудовой путь. У вас богатые деловые связи в Питере, – говоривший в этом месте скривил рот в подобие улыбки, – есть и капитал. Вы сумели сохранить его в период дефолта.
Илларион Платонович слушал идущего рядом с ним человека не перебивая. Внизу в легкой дымке виднелись арена «Лужников», крыши коттеджей и едва зазеленевшие кроны лип. У него промелькнуло – как они там? И где они вообще в данный момент?
– В стране сохранились здоровые силы, и они готовы взять на себя груз ответственности за резкий поворот в политике к возвращению уважения и силы государства. К возрождению былой мощи и в военной, и гражданской областях. Особенно мы, – говоривший не уточнил, кто эти «мы», – надеемся на возвращение достойного места в обществе органам государственной безопасности и внутренних дел. Еще не все потеряно. Сохранилось основное ядро кадров. Однако мы, – опять это «мы» без уточнения, – полагаем, что они одни не способны консолидировать здоровые силы для решительных действий в день «Ч».
Дальнейший их разговор происходил уже в салоне автомашины за стеклянной перегородкой и под тихо звучавшую музыку.
– Значит, мы договорились, вы, уважаемый Илларион Платонович, берете на себя труд обговорить интересующую нас проблему с известными вам людьми. Нам необходимо знать, сколько таких людей и какими силами готовы будут поддержать нас.
– У меня один вопрос. К какому времени надо быть готовыми?
– Вы знаете, что сейчас идет суетная возня с этим новым союзным договором. Подписание же этой филькиной грамоты намечено на август. Так что ориентируйтесь. Мы не должны допустить этой профанации.
Иллариона Платоновича высадили на Васильевском спуске, и он не спеша пошел к гостинице. Противоречивые мысли роились в его голове. Он, как и многие его товарищи по «ремеслу», тоже был недоволен восцарившейся вакханалией. Откуда ни возьмись, появились некие проходимцы. Стали лезть в дела. Грубо, без понятий, наезжать на «честных» дельцов. В конце концов, отбирать кусок хлеба. С другой стороны, и нам стало вольготнее добывать «трудовую» копейку. Но известно, легкий рубль так же легко и улетучивается. Нет, раньше такого не было. Было бы смешно даже представить, чтобы, например, его «куратор» из Большого дома потребовал откат. Теперь это повсеместно и нарастает, что снежный ком.
Сегодня Илларион Платонович позволил себе богатый обед. С обильными и разнообразными закусками, крепкой выпивкой и большим куском бараньей ноги, изжаренной на углях.
В Питер он вернулся с четким планом действий. Он за неделю прозондирует настроение людей и, если окажется, что большинство поддерживает идею возрождения прежних порядков, информирует Москву и ждет. Ежели он почувствует отторжение, то попытается свернуть все дела и уехать в Германию. Сматываться по одной тропке не в правилах конспирации.
Тридцатого мая, в четверг, Илларион Платонович рано утром, еще не было и шести, вылез из-под одеяла. Зябко в доме.
«Это что еще за фрукт рядом?» – с трудом вспоминая вчерашний вечер, подумал мужчина под пятьдесят и пошел как был нагишом в ванную.
Стоя под струями горячей воды, он постепенно восстановил весь вчерашний день. Не зря старики говорят – не забивай стрелку в среду. Среда – тяжелый день. Пренебрег советами и устроил встречу «смотрящих» всех районов.
Собрались в «стекляшке» в Приморском парке Победы. И хотя стол ломился от закуски и выпивки, все собравшиеся за ним лишь пригубили из стопок. Они готовы были слушать, что скажет Илларион.
Он был краток, но речь его была насыщена эпитетами, прилагательными и образными сравнениями. Не раз слушатели прерывали этот спич одобрительными возгласами.
– Я сказал – вы слышали. Решать нам всем. А теперь, чтобы мозги наши заработали лучше, выпьем по малой и закусим, чем Бог дал.
Застучали ножи и вилки, забулькало в бокалах и рюмках. Кто-то бросил:
– Под такой добрый закусь и мысли должны быть добрыми.
Так было сказано всуе, но не так обернулся разговор на самом деле.
За столом сидели двадцать три человека. Это не считая самого инициатора встречи. Мнений было почти столько же, сколько было едоков и слушателей. Одни были категорично за: «Давно пора упаковать в осиновые смокинги этих господ-товарищей».
Другие на том же градусе накала против: «Обратно взад к райкомовским дуракам! Ну уж нет. Перетрется, мука будет. Потерпим».
Были и третьи: «Куда торопиться? У нас пока не каплет. Посмотрим».
Иллариону Платоновичу стало ясно, в городе трех революций отсутствует единство взглядов. Но он не Ленин и не ему убеждать, что вчера было рано, а завтра будет поздно.
– Все высказались? – молчание было знаком согласия. – Решим так. Нам, и правда, спешить некуда и не к лицу. Скажу, бардак, что устроил меченый и его кодла, к добру не привел и не приведет. Жить можно, конечно, и на параше. Но кто с этим согласится? Людям в Москве скажу, что питерские думают.
Выпили и закусили. Больше тут делать нечего.
– Это нехорошо, – начал смотрящий по Юго-Западу. – Людям знать надо точно, где мы будем. В своих норах каждый прятаться будет или вместях пойдем. Я так кумекаю: надо собраться в августе, под конец его. Подобьем бабки, сообразим, что к чему, и решим.
Кто бы из них знал, какие события развернутся в конце августа!
Вот тогда-то и подошла к Иллариону эта девушка:
– Мужчина не угостит девушку сигаретой?..
– Тебя как зовут? – девица успела одеться, пока Илларион принимал душ.
– Вчера ты звал меня Машей. Папа с мамой меня назвали Олей.
– Маша-Оля, марш на кухню готовить завтрак.
У мужчины не было и намека на стыд или сожаление, что он переспал с этой достаточно искусной проституткой. Это своеобразный санитарный ритуал. Не более.
Ровно в десять часов утра тридцать первого мая 1991 года девушка села в маршрутное такси на пятнадцатом километре Приморского шоссе.
Где она вышла из него или ее «вышли», никто не узнает. У Горького: «А был ли мальчик?» Мы скажем: «А была ли девочка?»…
Мы с Ваней через неделю, после того как открыли дверь загородного дома, полностью его освоили. Сын занял самую дальнюю комнату с выходом на террасу. Что же, он мальчик уже большой. Пускай у него будет отдельный выход. Я заняла ближайшую к главному входу комнату с двумя окнами.
Кстати, я не рассказала, что вообще представляет наш дом. Итак, это одноэтажное строение на каменном фундаменте высотой восемьдесят сантиметров. Двускатная крыша, имеющая одну крутую и другую пологие плоскости, крыта керамической черепицей.
Вход, как и положено, с восточной стороны. Крыльцо под далеко выдающимся вперед козырьком. К крыльцу ведет дорожка, выстланная битым кирпичом. Та в свою очередь обрамлена металлическими скобами.
Вот вы входите в дом и сразу попадаете в нечто подобное русским сеням. По одну строну дверь в туалет. По другую – в кладовку. Там хранится всякий шансовый инструмент. Таких лопат я раньше не видела.
Из «сеней» мы попадаем в большой каминный зал. О нем более подробно расскажу позже. В зале две двери напротив входа. Одна и ведет в мою комнату, а другая – в небольшой коридорчик.
Что-то я устала. Сказываются волнения последних дней. Камин растопил Ванька. Поразительная способность молодого организма приспосабливаться к новым условиям. Сколько часов провел за рулем авто! Недосыпал, ел кое-как. Утром, съев приготовленную самим же яичницу с ветчиной, чмокнув меня в щеку и бросив на ходу «Пока мам!», пошел на реку. Он еще там, в России, увлекался рыбалкой. Естественно, все рыбацкие причиндалы мы оставили там. Мальчик у нас сообразительный. Вот и сообразил. Удилище вырезал из ветки орешника, леску и крючки где-то нашел в кладовке.
Дрова потрескивают в очаге. Тишина и покой. Как же так, думаю я, я тут рассиживаю в тепле, пью припасенное кем-то, (а кем, кроме Иллариона или его порученцев?) виски и курю дорогие для меня сигареты по два доллара за пачку.
Незаметно для себя я засыпаю.
– Тамара Инина, встать, суд идет!
Жуть! Почему суд идет напрочь голый? Три бабы, и все разные.
– Суд постановил, – начинает вещать самая толстая, – приговорить тебя, сука драная, к пожизненному воздержанию. Будешь ты жить среди молодых и здоровых мужиков, но с ними тебе не спать. Тут откуда ни возьмись Илларион. В его правой руке большой нож, которым разделывают мясо. И начинает он кромсать теток. Кровь брызжет, и капли ее долетают до меня. Они отчего-то холодные. От этого я начинаю орать: «Не смей и меня кровью поливать!»
– Мам, ты что? – передо мной Ваня. Брызжет мне в лицо водой.
– А что, Ваня?
– Ты так кричала.
– Приснилось.
– Папа приснился?
– Почему ты так решил?
– Так ты ему кричала.
– Что?
– Ладно уж. Нечего всякую похабщину повторять. Лучше пойдем, я тебе покажу, чего я наловил.
На террасе в ведре штук десять в блестящей чешуе рыбин. Красота!
– Уху сварим.
– Может быть, пожарим?
– Нет, мам. Уху и на костре. Я и место на участке присмотрел.
Так и не дорассказала я вам, какой у нас дом. Пусть его. Как-нибудь в другой раз. Но что за сон! Чушь какая-то. Это было пятое июня.
К трем часам дня Иван разжег костер и начал варить уху. Через полчаса к нам на участок явился некий господин.
Долго он говорил что-то. Ни Иван, ни я, ничего не понимая, лишь кивали головами. Наконец он понял, что мы ни слова по-фински не понимаем, и ретировался.
– И чего пристал? – Ваня продолжил «колдовать» у тагана над котлом с рыбой. Аромат ухи распространялся далеко вокруг.
Еще через десять минут, когда мы уже собирались испробовать ушицы, к нам опять пришел тот же мужчина, уже не один.
– Наш староста, – начал на вполне понятном русском языке второй, – хочет сказать вам, господа русские, что тут не Россия и никто не может безнаказанно нарушать правила. В реке не можно ловить рыбу без, – он запнулся и, не подобрав русского слова, сказал по-английски, – permission. Вы понимать меня?
– Мам, ты слышала? У них без чьего-то разрешения рыбу ловить нельзя. Это же какая-то, – мой сын не сдержался. Простим ему это, – фигня.
– Так, так. Без этого нельзя, – финн ничего не понял, – платить надо. – И вновь его заклинило. – Fine, fne.
– Заело, – сын был крайне расстроен. – Он говорит, что меня оштрафует.
Тут вмешался первый финн. Он долго и экспрессивно говорил что-то второму финну. Мы слушаем, не понимая ни слова. Тирада закончена. Опять вступает русскоговорящий финн.
– Господин boy, – слово «мальчик» он позабыл или думал, что boy – это интернациональное, – не мог знать правил. Он недавно тут. Господин староста ему прощает. У нас, – опять заело, – season начинается через две недели. Приходите к господину старосте, и он с, – снова заело, – big pleasure продаст вам разрешение.
– Tank you very mach, – на том и расстались.
Вдогонку Иван сказал другое:
– Идиотизм капиталистический.
Уху все же съели с большим удовольствием.
– Илларион Платонович, – звонок по межгороду раздался поздно вечером в понедельник, третьего июня, – мы ждем вас пятого. Не надо пользоваться самолетом. Лучше езжайте «Красной стрелой». В дороге сможете отдохнуть.
«Какая трогательная забота о моем здоровье! Не к добру это». Сон сбило напрочь, и Илларион пошел в кабинет покурить. Набил трубку отличнейшего табаку, сделал первую затяжку. Приятно закружилась голова. Воспоминания пришли из глубины сознания. Подвал, где трудами его был создан ресторан. Молодую, страстную, готовую на поступок Тамару. Ее руки с крупными ладонями и длинными пальцами. Как завораживающе подействовало на нее пение другой Тамары, студентки консерватории. Те рулады, что вставляла в свое пение она, сыграли-таки свою роль. Как там они сейчас? Последнее сообщение пришло неделю назад. Они благополучно прибыли в Кеми, получили документы и обживают дом. Тамара – женщина опытная. Обживется. Лишь бы Иван не набедокурил. У финнов строгие правила.
Табак в трубке испепелился. Пора в койку.
Набрав скорость, локомотив «шкода» прошел входные стрелки, и машинист поставил контроллер на положение режима крейсерской скорости. Впереди 650 километров «шелкового» пути.
Через пятнадцать минут хода по главному пути тот же машинист получил по радиотелефону приказ сбросить скорость до тридцати километров, что для такого экспресса просто шаговая скорость. А уже на въезде на станцию Малая Вишера он получил приказ там и оставаться. До особого распоряжения.
В это время на перегоне Окуловка – Бологое пожарные, бойцы батальона Внутренних войск МВД, медики и просто путевые рабочие пытались спасти пассажиров поезда № 122 сообщением Симферополь – Санкт-Петербург.
Специалисты взрывотехники определят позже силу заряда, что свел с пути состав. 500 граммов тротила. Машинист, перед тем как потерять сознание, успел включить экстренное торможение. Не сделай он этого, жертв было бы несравненно больше.
В Москву Илларион Платонович приехал в шесть утра шестого июня. К этому времени тот, который пригласил его в Москву, был уже холоден и тело его лежало на прозекторском столе в морге Первой Градской больницы. Тело без нижних конечностей.
Он и еще трое его сподвижников, узнав о происшествии на железной дороге и поняв, что гость из Питера может задержаться на неопределенное время, решили провести запланированное совещание в назначенный ранее срок. При выезде с площади трех вокзалов под железнодорожным мостом сработала радиоуправляемая мина под днищем машины. Все трое пассажиров погибли на месте. По счастливой случайности в живых остался один шофер.
Так и получилось, что приехавшему в столицу питерцу стало некому доложить об обстановке в городе на Неве.
Помыкавшись в гостинице два дня, изрядно перенервничав, Илларион отбыл обратно…
Начало августа 1991 года. Как красива речка в конце лета! Воды ее неспешны. Высокое сине-синее небо отражается в нем с точностью до малейшего облачка. В лесу пора многоцветья. От краплака до лимонной желтой окрашена листва. Идешь по тропке – и тут перед тобой белочка. Сидит и хитро смотрит на тебя. Ничего не боится стервочка лесная.
С доброй улыбкой вспоминаю нашего старосту. Когда начался сезон весенней охоты и рыбалки, я пошла вместе с Иваном к нему. Запаслись русско-финским разговорником, потренировались и пошли. Старостин дом на краю нашего поселка, что тут именуется, как в Швейцарии, кантоном. Не по-фински, но так именно.
Дом каменный, что редкость, с высоким крыльцом и башенкой. Староста принял нас в своем кабинете. Бюро, вероятно, позапрошлого века и длинный деревянный диван. Вот и вся обстановка.
– На какое количество добычи господа желают купить лицензию? – тут я буду, естественно, излагать наш разговор на русском языке.
– А сколько стоит одна добыча? – это Иван.
Староста называет сумму. Тут бы успокоиться. Купить или уйти восвояси. Мы с Иваном люди не бедные, но и не пустые транжиры.
– Несовершеннолетним у вас нет скидок? – все тот Иван.
– Есть скидки только для почетных граждан города.
Тут мы услышали лекцию о том, как и кто может стать почетным гражданином города. Оказалось, что для этого надо, по крайней мере, быть ужасно старым человеком. Дальше можно было не слушать.
Купили мы с Ваней лицензию на вылов пяти (!) рыбин и отстрел двух уток. Уток мы стрелять не думали. Купили на всякий случай. И пригодилось же. Подарили соседу через улицу. Он чуть в обморок не упал. Не принято у них делать такие подарки.
Этот финн по имени Урхо потом завалил нас в буквальном смысле этого слова грибами. Эти дары природы у них еще собирают без лицензии. Вот была бы умора – лицензия на сбор пяти боровиков, семи красных, десяти подберезовиков и так далее по восходящей.
Иван словил свои «лицензионные» рыбки за полчаса.
– Ну и что с ними теперь делать? – резонно спросил он и сам себе ответил: – Отнесу старосте, этому местному крестному отцу. Накопчу и отнесу. Пускай костями подавится. Рыбки ему отмстят за нас.
Я со страхом до дрожи в коленях услышала нотки Иллариона в голосе сына. Вспомнила его слова в далеком восемьдесят пятом: «У меня принцип – не убий». Потом он улыбнулся и добавил: «Своими руками».
Староста рыбьими костями не поперхнулся, остался жив. Но зато стал частым гостем у Ивана. Приходил, как правило, после обеда, тактичный человек, и они надолго уединились в комнате Ивана.
Я не спрашивала, о чем они там говорили. Придет время, Иван сам расскажет. Меня беспокоило другое. И не одно. Первое – как Илларион, и второе – где будет учиться сын. В этом захолустье русской школы нет. Значит, надо отправлять Ивана в Хельсинки.
О чем они говорили, я узнала скоро. Иван – что значит молодой ум – навострился говорить по-фински так хорошо, что и разговорника почти не требовалось.
– Мам, староста предлагает мне идти к нему в помощники.
– Тебе нет и шестнадцати. Ты ребенок.
– Он говорит, что возьмет меня учеником в свое дело. Он не только староста. У него свой бизнес.
– А учиться ты собираешься?
– Мам, ты отстала от жизни, и тут не Союз. Учиться буду по Интернету.
– Это что такое? Что за интервенция такая?
– Мама, ты так отстала от жизни! – Иван доволен.
– Мама твоя, кстати, была специалистом союзного значения. Возглавляла один одно из ведущих КБ, мелочь пузатая. Впрочем, учиться заочно, как бы то ни было, вполне допустимо.
– Ты самая классная в мире мама.
– Знаешь что, льстец, я тоже найду себе работу.
Вечер мы с Иваном провели у камина. Сын пил сок, я – виски. У нас был шикарный стол. Грибное суфле и жареная утка.
Проведя два дня в гостинице, Илларион Платонович понял, что что-то у его московских друзей не сложилось. Никаких сообщений в СМИ, которые могли бы его насторожить, не было.
Возвращаться в Петербург решил самолетом. Час нервотрепки – и он на месте. Достаточно трепать нервы, сидя в купе даже самого комфортабельного поезда.
Во Внуково приехал загодя. Привычка. Осмотреться. Походить, послушать.
В буфете на втором этаже решил попить кофе. Там и услышал отрывок разговора двух мужчин: «Все трое погибли на месте. Взрыв профессиональный…»
Это о них, определил Илларион Платонович. Да, мил товарищ, и ты мог бы быть в том «Мерседесе-600».
Лечу, лечу. Вряд ли и самолет взорвут. ТУ-154 долетел до Пулково без эксцессов. До дома, правда, Илларион Платонович добирался изрядно долго. То там, то сям перекрывали дорогу. Приемника в машине не было, потому Илларион Платонович узнал о создании ГКЧП уже дома. И то не сразу. Прежде всего он двинул под душ. Смыть «столичную пыль».
Вымывшись до скрипа кожи, облачившись в шлафрок и усевшись в любимее кресло с бокалом мартини в руке, включил телевизор. По всем программам танцевали маленькие лебеди.
Кто-то из власть придержащих умер, решил Илларион, и продолжал пить горьковатое вино.
Дальше пошла какая-то пресс-конференция. С некоторым удивлением он увидел Янаева. Затем Пуго. Он имел возможность один раз видеться с ним. Тогда это был спокойный, уверенный в себе и в правоте своих решений руководитель. Тут за столом сидел поникший и даже подавленный человек.
«Странно, по их словам, этот комитет объявил положение в стране чрезвычайным. Я проехал весь город. Ни усиления милицией, ни дополнительных постов ГАИ. Ничего. Тихо. Даже на площади у Мариинского дворца, так сказать, оплота демократии, никого».
Вспомнил далекие семидесятые. Тогда постовых милиционеров впервые вооружили автоматами Калашникова. Во всех административных зданиях установили усиленные посты милиции. И все из-за одного человека, убившего постового в В/Ч». Такие мысли посетили Иллариона Платоновича в те минуты.
Прошло два часа, и Илларион Платонович был готов действовать. Но, как говорится, человек предполагает, а…
Позвонил старинный приятель:
– Ты знаешь?
– Не ослеп и не оглох. Что конкретно?
– Дерьмократы взбудоражились, словно ошпаренные тараканы. Собирают толпу на Дворцовой. Будут митинговать в поддержку их демократии. Надо и нам собраться. Как считаешь?
– Во-первых, не надо суетиться. Надо, чтобы прошло хотя бы двадцать четыре часа. Во-вторых, провести своеобразную ревизию в делах наших. Подчистить там, где кто нагадил. Соберем людей завтра. После первых новостей по телевидению.
– Значит, после семи утра.
– Держи связь со мной.
Три часа Илларион Платонович работал с банками. Вроде все урегулировал. Часть депозитов перевел в Берлин, в «Дойче Банк». Часть обналичил и перевел в доллары.
Успел посетить пять своих предприятий. Убедившись, что они работают в прежнем режиме, отдал распоряжение сократить внешние связи и ждать распоряжений.
Обедал Илларион Платонович в обществе стариной приятельницы. Хотелось общения за столом.
Говорили и о ГКЧП, но вскользь. В основном Лиза рассказывала о своих «успехах». В театре бардак. Все рассорились, строят козни друг другу и все вместе – худруку. В кино – жопа. Так и сказала уже народная артистка, приобретшая всенародную любовь за роль простушки-провинциалки в фильме о войне.
– Ты что же один? Где твоя царица Тамара?
– Уехали отдохнуть с сыном, – куда и надолго ли, не стал уточнять, а Лиза и не спрашивала.
Обед продолжался почти два часа. На прощание Лиза все-таки спросила:
– Как считаешь, гэкачеписты победят?
– Все решится в ближайшие часы. Поддержат армия и спецподразделения их, выиграют. Нет – все рухнет и разлетится наш Союз на кусочки мелкие.
– Не дай Бог, Иллариоша! Ты не забывай меня! А за обед спасибо. Давно я так вкусно не кушала.
Староста зачастил к нам. После того как они с моим Иваном что-то мудровали в комнате сына, мы собирались у камина. Говорили, пили наливочки. Я начала брать уроки финского у местного шерифа. Он некоторое время назад долгое время работал при посольстве Финляндии в Союзе и там выучил русский язык.
Двадцатого августа мы с Иваном решили совершить то, что тут называют shopping. Накупили всего. И так много, что все заднее сиденье в машине заполнили.
Как спокойна и размеренна жизнь этого городка! Глубинка. Лишь редкие гудки тепловозов нарушают провинциальную тишину.
Редкие машины никуда не торопятся. Тут строго соблюдают скоростной режим. Зато много велосипедистов.
– Мам, можно, после того как разгрузимся, я к Урхо пойду?
Не скажу же я, что мне не очень нравится такая дружба. Пожилого финна и мальчика из России. Но знаю, откажи сыну в этом, затаится обида. Это худшее, что можно представить в отношениях родных людей.
Сын ушел. Я разбираю сумки и пакеты. Раскладываю продукты по местам хранения. Это – в морозилку, это – в шкаф, это – в общий отсек холодильника.
Переходя с места на место, я, походя, включила телевизор. Что говорит диктор, я не понимала, но вот мои глаза выхватили картинку. Танки на улицах Москвы. Меня охватил страх. Там Илларион. Я никогда не паниковала, но тут ноги мои стали ватными, и я в изнеможении опустилась в кресло у камина. Новости закончились, и началась дневная передача для «тех, кто остался дома». Я выключила телевизор. Он у нас платный. Платишь, как у нас за электричество.
Сколько времени я просидела в некоем ступоре в кресле, не знаю. На часы не смотрела.
– Мам! Ты где? Слышала новости? У нас в Союзе переворот.
– Чему радуешься? Там наш отец.
– Что ты, мам! Илларион не такой человек. Он сильный и смелый.
– Вот именно. Оттого и волнуюсь.
– Давай вернемся.
– Илларион сказал – жди, я и буду ждать.
– Тебе виднее. Староста сказал, что я с понедельника могу приступить к работе у него.
Тон, с которым говорил сын, привел меня в рабочее состояние. Я должна обеспечить нормальную для него жизнь, чтобы не случилось.
– Через час будем обедать.
Сын ушел в свою комнату. Забыла сказать, Урхо передал сыну компьютер: «Это не подарок. Это твой инструмент. Осваивай». Вот и осваивает мальчик новую для него технику.
Двадцать шестого августа мы с Иваном встали рано. Уже в семь он должен быть у старосты. Вечером я наутюжила костюм, выгладила белую сорочку. Все же сын будет работать у госслужащего. На него будут смотреть люди. Надо произвести хорошее впечатление. Он же «русский медведь».
Плотно позавтракав, Иван ушел. Домашние дела не занимают у меня много времени. Членов ГКЧП арестовали. Я до боли в ушах слушала перечень лиц, помещенных в Матросскую Тишину. Среди них моего Иллариона не было. Вспомнила рассказы отца о так называемом «ленинградском деле». Тогда наряду с высшими должностными лицами были репрессированы и средние, и низшие чины. Я надеялась, что в этом случае история не повторится.
Мы жили жизнью обывателей. Я учила финский язык и скоро могла свободно изъясняться в пределах «магазин-аптека».
Иван у Урхо был на хорошем счету. Его приняли горожане. Платил староста исправно. Каждую пятницу. Свою первую получку Иван отметил. Принес мне охапку садовых цветов. Я приготовила праздничный ужин. За праздничным столом был и наш пес. Я еще не говорила вам, что мы завели собаку? Все мой Иван. Принес щенка: «Мам, жалко. Смотри, какой он хороший!»
Пес «дворянских» кровей, но симпатяга. Так что у нас теперь коллектив. Растет пес быстро, но и жрет много.
Вот и августу приходит конец. Тревога помаленьку улеглась. Я решила для себя так: если нет от Иллариона никаких известий, значит, нет и плохих. Я познакомилась с соседями. Три дома рядом, три соседки. Два по обе стороны от нашего «Ге» и один напротив. Две финки и одна шведка.
Определился и уклад нашей жизни. Раз в неделю я ехала в центр за продуктами и хозяйственной мелочью. Дом требовал заботы. То тут подкрасить, то там подлатать.
Высадила озимые. Иван вскопал грядку. У парадного посадила луковицы тюльпанов, нарциссов и лилий. Соседушки шведки презентовали. Я успела заметить, что шведки тут добрее финок.
Первого сентября Иван начал учиться заочно в Russian school в Хельсинки. По почте прислали все учебники. Как разительно отличаются они от тех, по которым учатся наши школьники! Я тоже нашла себе применение, кроме домашних забот. Я занялась репетиторством. Учу финских ребятишек русскому языку.
– Фру, Тамара, мы хотим читать вашего Пушкина в натуре.
Это значит в оригинале. Пять малышей в возрасте от пяти до восьми лет. Без ложной скромности скажу, у меня это неплохо получается. Один урок у меня в доме. Другой – на реке, следующий – в лесу. Помните у Пушкина – «Осенняя пора, очей очарованье»…
Но этой поре очей очарованья пришел конец. Тридцатого ноября повалил снег. Как зарядил с утра, так и валил до ночи. Сначала мы с Иваном, вооружившись лопатами, пытались прочищать узкую тропку от дома до ворот, но потом, выбившись из сил, плюнули на эту затею.
– Мам, дров до утра хватит, а утро вечера мудренее, – прав сын.
Как сладко спится в ночь снегопада! Слаще чем в дождь. Пес, свернувшись калачиком, спит у тебя в ногах, за окном глухая тишина, слегка попахивает прогоревшим камином, и мысли легки и приятны. Кажется, что вот сейчас откроется дверь и на пороге появится Илларион…
Илларион Платонович не писал объяснительных записок по поводу того, где он был в дни путча. В ночь путча он организовывал завоз продуктов в здание Совета по приказу профессора, доктора юриспруденции, депутата Верховного Совета.
Полный идиотизм, думал он, перечитывая машинописные листы с перечнем того, что потребовал Председатель Совета.
Они что – думают там держать осаду в течение месяца? Сожрать столько – определено заработать гастрит или завороток кишок. К тому перечню, что лег на стол Иллариона Платоновича, прикололся и другой – оружие, которое защитники демократии затребовали для отпора врагу. Дворец Амина взяли со значительно меньшим количеством оружия, усмехнулся он.
Двадцать третьего августа он был приглашен к самому председателю.
– Мы высоко ценим ваш вклад в борьбу за свободу, демократию и новые производственные отношения.
Пусть первое и второе, но при чем тут производственные отношения. Профессор, прохаживаясь по большому, метров пятьдесят, кабинету, скупо жестикулируя левой рукой, продолжал говорить. Нет никакого смысла повторять его речи – словопрение. Пустопорожняя болтовня, на которой он и завоевал авторитет теоретика в Верховном Совете.
– Именно поэтому мой выбор пал на вас.
Чего-чего? Какой такой выбор?
– Уточните диспозицию, пожалуйста, – голосом героя из комедии Данелия начал Илларион Платонович, но его прервали менторским тоном.
– Любезный, меня Верховный Совет слушал, затаив дыхание. Я предполагаю, что вы переутомлены. Все честные люди в эти дни работали не щадя сил. Я понимаю и не ставлю вам в укор. Мы (и тут это «мы», отметил Илларион) предлагаем вам войти в нашу команду. Предположим, мы вам предложим, простите за невольную рифму, должность в КРИГ.
Профессор наконец-то уселся в свое кресло. Это значило, что аудиенция закончена.
С понедельника Илларион Платонович начинает работать заместителем председателя ранее бы не имевшего места в номенклатуре комитета – по распоряжению имуществом города. Какая кормушка!
Что там доходы от оборота наркотиков! Куда им до тутошних. И главное – все под флером демократизации общества. Только где этот демос?
Хватит разглагольствовать, осек себя Илларион Платонович и приказал водителю ехать домой. Утро вечера мудренее.
И опять утром Илларион с некоторым удивлением обнаружил рядом с собой в постели белокурую девицу. Долго он стоял под горячими струями воды.
Это не дело, друг ситный, так напиваться, что ничегошеньки не помнить. Сквозь шелест воды он расслышал: «Эй, кто-нибудь, отзовись!»
Голос мелодичный. Ей петь бы, а не телом торговать. Ошибся Илларион Платонович, и об этом он узнает через десять минут.
– Ты, правда, не помнишь, как меня зовут?
– Не помню.
– Оксаной меня зовут. Мы с тобой познакомились в баре.
– В баре, так баре. Давно этим промышляешь?
– Ты что, – девушка округлила и без того немного навыкате глаза. – Я не проститутка. Я университет заканчиваю. Буду, как папа, юристом.
– Налей еще кофе, – Иллариону Платоновичу нужна была пауза.
Кофе и омлет с беконом приготовила девушка, которая будет, как папа, юристом.
– Ты очень хороший, – боже мой, не хватало, чтобы этот ребенок увлекся им. – У меня есть парень, – улыбнулась лошадиной улыбкой. – Не первый. Все они какие-то плоские. Нет, не фигурой. Там как раз у них все, как у Сталлоне. Умишки у них плоские. Одно там – доллары, доллары, машины и шмотки. – Илларион Платонович не перебивал. – Они, представляешь, когда с тобою любовью занимаются, тебя совсем не раздевают и сами остаются в чем-нибудь.
– Ты где живешь? – пора выпроваживать девочку.
– Я?
– Ты, ты. Что – уши заложило?
– Мне папа купил квартиру на Васильевском. Шик!
– Ку пил?
– Да, купил. В кооперативе. А что – нельзя, что ли? – губки надула, ресничками хлоп-хлоп. Актриса.
Кто же такой ее папа-юрист? Определено адвокат. Они в последние годы востребованы на все сто.
– Я пойду, пожалуй, – такое впечатление, что кто-то держит ее тут. Тон плаксивый.
– Иди. Денег дать?
– Я же сказала, не проститутка я, – пройдет немного времени, и эта девочка-юрист, как папа, вместо литературного «проститутка» будет употреблять прилюдно и с экранов телевизора короткое и емкое – ***.
Илларион Платонович проводил ночную бабочку до лифта.
– Ты позвони мне. С тобой интересно. Ты такой клевый и интересно рассказываешь.
– Обязательно позвоню, – надо же узнать, чего такого интересного он наболтал ночью.
Он позвонит Оксане, но не скоро. Новые дела заняли его целиком. Одно дело – организация поставки и сбыта наркотиков, «крышевание», и совсем другое – «распоряжение» городским имуществом. Сколько их, охочих до владения тем или иным объектом! Тут все имеет значение. И место расположения, и год строительства, и состояние конструкций, и ремонтопригодность, есть и такое, и многое другое. Более привычный слуху Иллариона термин «торги» сменил другой – «тендер». Его назначили заместителем председателя ИТК.
Вот где сталкивались интересы! Настоящие бои быков. Быки – это те, кто претендует на недвижимость в городе.
Повелось так, что заседания инвестиционно-тендерной комиссии приходилось проводить Иллариону Платоновичу. Председатель вечно был занят. Чушь все это. Был лентяем, бабником и самолюбцем. Но главное – он был трусом. Споры-то велись нешуточные, и суммы на кону стояли немалые. Поставь подпись – и отвечай потом.
Будни. Будни, насыщенные делами и рисками, связанными с этими делами. Адреналин в крови. Пульс порой зашкаливает. Одно спасение – «инъекции» виски или финской водки «Финляндия». Выпьет Илларион Платонович сто граммов, прикроет глаза и пытается представить лицо ли, грудь ли, живот ли Тамары. Как говорил его товарищ, оттягивает. Пятнадцать минут этой своеобразной релаксации и вновь в «бой».
Что же касается Тамары и Ивана, то тут он пунктуален. Раз в месяц на имя Ининой в город Кеми шел денежный перевод экспресс-почтой.
Новый, одна тысяча девятьсот девяносто второй год Илларион Платонович встречал в узком кругу. Он и Оксана…
Не стоит тратить силы и бумагу на описание быта Иллариона и Оксаны. Одно скажем – Оксана поехала с Илларионом в Зеленогорск. Встретила Новый год, но через час заскучала, стала пить все подряд и скоро была пьяна настолько, что уже не ощущала своего тела. Что следует за этим, взрослым людям объяснять не надо…
Наша жизнь в Финляндии наладилась. Иван заканчивает школу. Параллельно он учится в колледже на младшего менеджера по продаже лесоматериалов. Фирма, которая субсидировала его обучение, тесно сотрудничала с Россией.
У меня тоже все сложилось более или менее благополучно. Не хотела говорить, но что ж скрывать. Дело житейское. Были у меня проблемы со здоровьем. Как говорится, по женской части. Но и здесь выручил случай. Мама одного из моих учеников была врачом. Имела свою практику. Она с условием, что я буду учить ее мальчика бесплатно, взялась вылечить меня. И вылечила.
– Это у вас на нервной почве. Ничего страшного. Ваши репродуктивные органы в том состоянии, которое соответствует возрасту двадцатилетней женщины. Рожать можете.
Тогда я посмеялась.
Мои уроки русского пришлись впору. В «новую» Россию хлынул поток иностранных дельцов. Финны старались не отстать. Их интересовал в основном лес. Без знания русского языка с нашими «лесниками» не поговоришь. Потянулись ко мне не мальчики, но мужи. Мне удалось разработать свою систему быстрого освоения разговорного русского бытового языка. По просьбе учеников я даже учила их русскому мату. Мы с Иваном решили реконструировать дом, что достался нам изначально. Моих денег хватило на материалы. На рабочих средств не было.
– Ничего, мам, осилим. Мне Урхо обещал помочь.
Строить зимой нельзя, и мы нашу затею отложили до весны. Новый, 1992 год мы с Иваном встретили дома. Я напекла пирогов, приготовила гуся, была у нас на столе и икра, и рыбка деликатесная. Елку в доме ставить не стали. Нарядили елочку у входа. Иван провел к ней электричество, и засияла наша елочка разноцветными огнями гирлянд.
После полуночи пришли мои подружки-соседки и их дети. Мы у камина пьем и болтаем. Дети на дворе веселятся. Устроили фейерверк.
Зима прошла спокойно. Провинция! Иван два раза ездил в Турку. Сдавать экзамены.
Я начала вести нечто подобное дневнику. Из новостей узнавала о событиях в России. Пресловутого слова «дефолт» мы еще не знаем. Опять мне тревожно. Я ежемесячно получаю денежные переводы. Эти деньги я кладу на счет в местном отделении Государственного банка. Нам с Иваном хватает на жизнь того, что зарабатываем. Те же деньги понадобятся, когда сын надумает получать высшее образование.
Быт, быт и еще раз быт. Постепенно меня начала одолевать тоска. Всю жизнь я была в гуще жизни. С некоторой долей сарказма к себе, любимой, вспоминаю о своих двух мужьях. Развратник и стяжатель Евгений, умом тронувшийся Андрей.
В Илларионе я нашла опору. Настоящую опору в жизни. Это благодаря его стараниям мы с Иваном живем тут, не зная особых тревог и волнений.
Лед на реке пошел в начале мая. Раним утром я проснулась от отдаленного шума. Впечатление такое, будто кто-то рвал грубую ткань и одновременно перекатывал камни. Река вскрывалась.
Оделась потеплее, натянула резиновые сапожки на байке с бахилами и пошла. Мощный фонарь-фара освещал мой путь. Когда я подошла к спуску, меня кто-то стал нагонять. Мне не страшно. Такова тут жизнь.
– Фру Тамара, – это голос нашего старосты. – Что вас выгнало из дома?
– Женское любопытство. Ничего более. А вас что выгнало из теплого дома?
– Мои служебные обязанности. На реке у меня хозяйство. Река у нас капризна. Может и порушить.
Даже в сумерках приходящего утра зрелище была впечатляюще. Торосы синего, зеленовато-желтого льда громоздились и издавали эти фантастические звуки. Островок, что летом часто становился местом пикников для горожан, скрыт горой ломаного льда.
– Жаль острова. Если так будет и на следующий год, исчезнет он.
– Так где ваше хозяйство, Урхо?
Староста показал на низкое строение в метрах тридцати от берега:
– Надо бы пойти посмотреть, что там.
– Можно я с вами?
– Идите позади. Осторожнее! Скользко.
Иногда поскальзываясь, с помощью Урхо я добрела до лодочного гаража.
– Вы меня тут подождите. Я посмотрю, что внутри.
Внутри было сухо. Приятно пахло просмоленными днищами лодок. Неяркий свет одной лампочки освещал небольшой участок у входа.
– Передохнем, – Урхо пошел в глубь.
Я следом. В дальнем углу была оборудована «каюта». С круглым окном, с пологом вдоль стены и приставным столиком. Был и шкафчик.
– Давайте выпьем! Чтобы не простудиться, – я согласилась молча. Вообще тут я отучилась говорить много. Все последующее тоже происходило молча. А зачем слова?
– У тебя в России муж есть?
– Есть.
– Я свою жену прогнал. Связалась с прощелыгой шведом. Спасибо Богу – детей от нее не дал. А от тебя я бы детей хотел.
– О чем ты говоришь? Ты знаешь, сколько мне лет?
– Какая разница? У женщин возраста нет, – в полумраке я разглядела его белозубую улыбку, – твоя «девочка» совсем молодая.
Когда мы подошли к моему дому, на крыльце нас ждал Иван.
– Ты даешь, мам! Хоть бы записку оставила, – вежливый мальчик у меня. – Доброе утро, господин староста! Позавтракаете с нами?
Пятого мая 1992 года мы завтракали «втроем, не считая собаки»…
Оксана после встречи Нового года к Иллариону Платоновичу охладела. Ее увлекла стихия телеэфира.
Сам же Илларион Платонович вздохнул с облегчением, воочию убедившись в справедливости поговорки: баба с возу – кобыле легче.
Его буквально захлестнули дела в комитете. Такое это было время. Началась повальная приватизация жилого фонда. Такая же волна накрыла и многие предприятия. Бывшие государственные заводы, фабрики и прочая акционировались.
Так в ежедневных трудах и заботах проходил 1992 год. Вся жизнь города проходила на фоне криминальных событий. Обыденным стали убийства.
– Ты, уважаемый Илларион Платонович, завел бы охрану, – советовал старый приятель.
– От снайпера и от бомбы ни одна охрана не убережет. Я же чист. Крысой никогда не был. Никому дорогу не пересекал.
В конце августа Иллариону Платоновичу разрешили пойти в отпуск на две недели.
Заперев городскую квартиру, «оседлав» своего коня, стосильного шведа «вольво», он поехал в Рощино. Там в двух километрах от озера у него был домик.
«Похожу по лесу, посижу с удочкой на речке или озере. Отойду от суеты городской». Так решил он. А что касается быта, то он неприхотлив. Много ли ему надо? Был бы кусок жареного мяса с овощами да стопка доброго вина горького. Телевизор он включал два раза – утром и вечером. Когда шли новости.
Много бродя по лесу, Илларион много и размышлял. Жизнь подходит к концу. Он это сознавал, не испытывая при этом ни страха, ни сожаления. Он пожил. Та, прошлая жизнь осталась позади. Да, он нарушал закон. Да, на его совести жизни многих людей. Но при этом он был в системе. Что творится сегодня? Такого беспредела в наши дни не было, не утешал он себя, а констатировал то, что есть.
Ярким и светлым пятном (какой штамп!), нет, не пятном, а вспышкой стала встреча с Тамарой. Он как будто очищался с ней от скверны…
Илларион выходил на берег реки Рощинки, выбирал укромное местечко, устраивался на каком-нибудь пне, раскладывал закуску и наливал полный стаканчик из несессера – подарок Тамары. Поплавок удочки мерно покачивается. Поклевки нет. Значит, можно спокойно выпить и закусить. Одно плохо. Трудно дается этот естественный для всех живучих плотоядных процесс. Но не будем об этом. Не за столом.
Прошла неделя, и Илларион уехал в город. Надо все-таки пока зат ься врач у.
Рентген, анализы. Крови, мочи, кала. Еще одно обследование на УЗИ. Диагноз поставлен – рак пищевода.
– Если операцию сделать немедленно, то жить будете, – полковник медслужбы, доктор наук Вахтанг Ибрагимович Кикнадзе на своем медицинском веку перевидал многое, и этот случай для него был обычным, даже обыденным. Знал он, что мужчине жить, даже если операция пройдет успешно, осталось от силы месяцев шесть – восемь.
– Товарищ полковник, – Илларион Платонович был спокоен, – сбросьте на минуту ваш белый халат и ответьте на один вопрос: Вы бы пошли под нож в этом положении?
– Давайте для начала выпьем коньяку, – полковник был с юмором.
– Никто, кроме вас, – продолжил полковник после того как выпили по «наперстку», – не может решить этот вопрос. Я не могу быть на вашем месте. Скажу другое. На сегодня в мире нет традиционных средств против этого вида канцера. Голодная смерть. Мучительные рвоты. От интоксикации головные боли. Потом тотальные. Решайте! Вы – мужчина.
Оперировал Иллариона лучший онкохирург. Две недели после операции Илларион Платонович питался через зонд и капельницы.
Он продолжал работать, подписывать документы, отвечать на письма и в палате интенсивной терапии.
И так месяц. Из клиники Илларион Платонович вышел похудевшим, но не болезненно. Врач сказал: «Надо поддерживать диету. Постарайтесь пить меньше. Сократите курение до минимума. Все остальное обычно».
– Илларион Платонович, – курирующий комитет заместитель мэра был подчеркнуто вежлив, – у вас еще есть две недели отпуска. Отдохните. Наберитесь сил. Мы подождем.
«Смерти моей ждете», – подумал Илларион.
– Съежу за границу. За всю жизнь так и не сподобился.
– Это очень правильное решение. Чем можем, поможем.
Ну уж нет. Спасибо. Сам как-нибудь.
– Премного благодарен!
«Еду к ней!» – решил Илларион. Он в этот момент не думал, как именно он совершит этот вояж. Это было не столь важно. В медицине это, кажется, называется анаболическим шоком.
Как быстро пролетал 1992 год!..
Трасса № 122 не трасса, а так, плохенький проезжий тракт. Александр Сергеевич, наверное, по такому уезжал по указу Александра Второго в Бессарабию.
BMW С-7, словно послушное дитя, вез Иллариона в страну Калевалы к жене и сыну.
Границу Илларион пересек без проблем. В качестве допинга он употреблял настойку овсянки. Это порекомендовал ему старинный приятель Сережа Большой – и бодрости прибавляет, и вони изо рта нет.
В свете галогенных фар промелькнуло: Хямеенлинна – 20 km, Motel.
Девушка на reception была удивительно мила и любезна:
– What do you want, mister?
Идиотка, что ли? Что я могу хотеть в мотеле? С тобой переспать. Кассу взять.
– I want to sleep, misses.
– Yes, of course. I am ready to help you.
Она определенно ненормальная, думает уставший путник. Вслух же говорит:
– Эта финка что-то хочет взять с меня. Но что?
– Вы русский?
– Русский. А ты тоже из России?
– Из России. Меня папа попросил постоять. Я вообще тут проездом. Меня ждут в Осло, в университете. Я студентка.
– Ясно. Я спать хочу, я в дороге уже почти сутки.
– Тогда вы должны были сказать – go to bed.
– Заморочка. Так устроишь на ночлег?
– Идите по коридору до конца, последняя дверь слева. Я подойду.
Ну и студентка!
Номер – это каморка метров семь с одним окном и нишей, где рукомойник и душ. Напротив – уборная. Зато лежак занимает половину камеры. Иначе это помещение Илларион назвать не мог.
Голод одолевает. Спазмалитик в рот и надо ждать десять минут. Потом можно и что-то съесть. Теперь бы в душ! Но стук в дверь прерывает его мечты о воде.
– Это я. Принесла чистое постельное белье и кое-что поесть. Это входит в стоимость номера. Если чего-нибудь еще, то позовите. Вы у нас единственный постоялец, услышу.
Как это по-русски! По-русски будет и поесть вместе.
– Кстати, я забыла заполнить на вас карточку. Как вас зовут?
– Илларион я. Террорист и по совместительству киллер.
– Шутник вы. Мне папа не разрешает пить и кушать с постояльцами.
– Папа где?
– Он уехал разбираться с налоговой полицией. Насели гады. Мы же русские. Вот и давят.
– Так останься. Услышим, если кто подъедет.
– Я рекламу выключила. Никто не приедет, – умная девочка.
Девочка и умная, и красивая, а вот еда, что она принесла, никудышная. И сюда проник пресловутый американский fast food. Правда, сосиска была местного изготовления и несла в себе вкус говядины. Зато водка была финская. Finlandya.
– Мне папа пить водку не разрешает, – говорит, – но рюмку не убирает, а, наоборот, пододвигает.
Илларион вспомнил песенку «А мне мама, а мне мама целоваться не велит».
– Девочка, как тебя зовут?
– Я – Валентина. Так меня мама назвала. Я родилась в день святого Валентина.
– Тебе папа не велит пить, мама целоваться не велит.
– Слышала я эту песенку. Мне мама уже ничего не может ни разрешить, ни запретить. Нет ее.
– Прости.
Тишина окутала округу. Даже псины примолкли. Валентина была молчалива и покорна…
– Папа приехал. Не хотите с ним познакомиться? – сказала женщина, которая тридцатью минутами раньше молча и покорно отдалась проезжему мужчине, и это несколько покоробило слух Иллариона. «А сам-то хорош!» – укорил он себя.
– Лишнее это.
– Тогда спокойной ночи!
Приняв еще одну таблетку и выпив стакан воды, Илларион лег в постель. Сон пришел быстро и незаметно.
Сколько было в тот миг на часах, он не знал. Его накрыла волна ласк и страсти. Вот, значит, чему учат в Осло. Недаром шведки слывут женщинами особой стати.
– Ты лежи спокойно, я все сама сделаю, – и сделала.
– Спи теперь. Прощай! Я рано утром уезжаю. Береги себя!..
Летом, в середине августа, я разрешила Ивану взять отпуск. По секрету скажу, у моего мальчика появилась «пассия местного разлива». Девочка из соседнего дома. Та, что шведка. Говорили мне, жди неприятностей. Шведки такие – и шепотом: развратные. Читала я в газетах что-то об этом. Об их законодательстве, разрешающем браки между мужчинами и мужчинами и наоборот.
– Мам, дашь машину? Мы с Эрикой съездим в Хапперанду. Там хороший мотель.
– Не привези мне жену с приданым.
– Я не мальчик и кое-что о зачатии знаю.
Август хорош. Урхо начал кампанию по выдаче лицензий на лов рыбы и отстрел водоплавающей птицы. Утки и гуси начали свой исход на юг.
У меня тоже запарка. Надо собрать урожай. Как никак, а у нас три теплицы. Мои лилии пользовались большим спросом.
Пес неотступно следовал за мной. Вымахал, чертяга, под стать теленку. Иван дал ему имя – Кузьма. Этот Кузьма чувствовал себя полновластным хозяином. Он считал, что только он имеет право на близкие отношения со мной. Стоило кому-либо приблизиться ко мне, шерсть его на загривке вставала дыбом, пасть ощеривалась и он издавал рык, от которого у встречного мурашки бежали по спине.
По моей спине мурашки не бежали. Она просто костенела. Возраст. Еще ряд прополю и уйду отдыхать. Ждет меня моя заветная фляжечка. Выпью грамульку, искурю сигаретку. Оттянет.
Так Кузьма еще никогда не брехал. Я не слышала звука подъехавшей машины.
– Кто-нибудь, усмирите этого пса Баскервилей! – Голос Иллариона.
Я села на землю. Хороша землица. Мягкая, почти пушистая. Зря я, что ли, в нее вбухала почти тонну навоза. Как была в испачканном землей переднике, с грязными руками, так и попала в объятия Иллариона. Нас вывел из ступора голос Урхо:
– Фру Тамара, помощь нужна?
Мне нужна была помощь. Скорая.
– Это Илларион, – идиотически улыбаясь, пролепетала я.
– I am very glad to see your friend, – начал по-английски Урхо.
– Я тоже рад видеть друга моей жены, – последнее слово Илларион произнес на английском – wife.
Урхо понял:
– Yes, yes. I understand you.
– Как? Откуда? – Я не могла прийти в себя.
– На машине, по шоссе. Из Петербурга. У вас тут хотя бы холодный душ есть? Я гнал почти сутки без остановки.
Урхо удалился, бросив мне:
– Я буду рядом.
Он был насторожен. Мало ли кто кем обзовется, а я для него не просто знакомая, но и его, так сказать, подопечная.
В душе Илларион пробыл так долго, что я начала волноваться.
– Я говорил: жди и я приеду. Вот я приехал.
– Я ждала.
Это были все слова, что мы сказали. Потом было все. Отчаяние и надежда. Нега и страсть. Томление и разрядка. Финальная кода – усталость!
Я приготовила праздничный обед. Илларион через каждые три минуты рефреном:
– Хороша-то, хороша-то! И красива, и умна, и добра.
Закончилось это тем, что я бросила готовку и мы ушли в спальную комнату.
На обед я пригласила Урхо. Мне хотелось, чтобы наш староста, этот финн, понял, с кем он имеет дело в моем лице. И не только в лице. Не зарывайся, мол.
В те минуты я настолько была поглощена чувством радости от приезда Иллариона, что многого не замечала в его облике и поведении.
После обеда Урхо предложил совершить лодочную прогулку.
– Я покажу вам, господа, красивые места, и, может быть, нам удастся порыбачить.
Я согласилась. Мне хотелось, чтобы Илларион увидел, в каком красивом месте мы живем. Знала бы я, что испытывал он тогда! После моего сытного и обильного обеда. Я не видала, как он украдкой, отойдя к окну, глотал таблетки.
Погода благоприятствовала речной прогулке. Светило неяркое солнце, было безветренно. Бело-синий катер Урхо, влекомый стосильным движком «Ямаха», понес нас вверх по Кемийоки.
Урхо стоял у штурвала слева. Мы с Илларионом разместились впереди на жестком, но все же удобном диване. Ветер обдувал наши лица, но это не раздражало.
Под равномерное гудение-тарахтение двигателя Илларион рассказывал мне о своей теперешней жизни. Я поняла, что в тот августовский день авария на железной дороге спасла ему жизнь. Мне стало страшно.
Ужина не было. Илларион выпил стакан воды и прилег. Я вышла в каминный зал. Не растапливая его, села в кресло у очага. Незаметно уснула.
Рано утром, как обычно, я сделала пробежку к реке и обратно. А когда вернулась в дом, Илларион уже не спал.
– Что ты хочешь на завтрак? – столь естественный вопрос вызвал у Иллариона вспышку раздражения.
– Какая разница, чем набить брюхо?
– Ты плохо себя чувствуешь, дорогой? – опять взрыв.
– Я превосходно себя чувствую. Я здоров, как бык.
Я поняла: Илларион болен. Не могло его так укачать на нашей реке. Его не укачивало на волнах Финского залива.
После легкого завтрака мы пошли к реке.
– Посидим где-нибудь, надо поговорить, – предлагает Илларион.
Выбрали большое бревно на берегу. Сидим. Илларион молчит. Молчу и я. Начал Илларион.
– Я проделал путь в восемьсот километров не только для того, чтобы увидеть тебя и Ивана, – он помолчал. – Жаль, что Иван не здесь.
– Он будет через неделю.
– Я ждать не могу. Мне еще многое надо успеть сделать там, в России. Я оперирован. Рак пищевода. Доктора не могут сказать, сколько мне осталось.
– Пошли в дом! Я что-то стала дрожать.
За дрожишь тут…
Мне трудно вспоминать те несколько дней, что провел со мной Илларион.
Запомнился вот такой разговор. Точнее, его монолог.
– В Питере я приобрел две квартиры. Вернусь, оформлю их на тебя. Вот для чего и ехал сюда, – узнаю Иллариона. Прежде всего у него дело. – Загородный дом продам. У тебя вон какое тут хозяйство. Справляешься? – узнаю улыбку мужа. – У тебя хороший помощник.
Стоило Иллариону вспомнить Урхо, как тот явился.
– Господа, я предлагаю устроить на американский манер барбекю на природе. Мне приятель подарил килограмма три кабанятины.
Пировали мы до тех пор, пока видели, где стопки и вилки. Дома у камина Урхо взял гитару и начал петь. Свои финские песни.
– Нет, ребята, а наш Высоцкий все же сильнее, – Илларион взял у Урхо гитару и запел. Какой у него голос! Я вспомнила подвал. Ресторан. Певичку и гитариста. Как давно, но главное – в другой жизни то было.
Когда Илларион замолчал, Урхо, поворошив в камине кочергой, тихо сказал. Так, как будто только для себя:
– Когда я в детстве заболел и врачи предрекли мне скорую смерть, моя бабка вылечила меня настоями трав.
Это то, что нужно мне! Какой молодец Урхо.
Урхо ушел к себе, а мы с Илларионом еще немного посидели на крылечке. Так просто. Посидели и помолчали.
Илларион уснул сразу. Мне не спалось, и я опять вышла на крыльцо. В темноте ночи вижу силуэт. Чей бы?
– Это я, Тамара. Не бойся. Пришел сказать тебе, что я знаю женщину, которая умеет делать такие же настойки. Если ты согласна, завтра же поеду на хутор.
– Спасибо, Урхо, – я крепко поцеловала его.
Вернулась в спальню. Илларион спит. Обошлось.
Как наивна была я! Это же Илларион. Кем он был в прошлом, напоминать не надо?
– У нас с тобой, как у Шекспира. Жена бегает от смертельно больного мужа к любовнику.
– Дурак ты! Я ходила к Урхо за настойками для тебя. Он специально ездил на хутор.
– Ты права. Стар я стал и глуп. Сколько времени надо пить эти настойки?
– Урхо сказал, не меньше десяти дней. Тут должно хватить.
Илларион съездил в город. Я не спрашивала зачем. Он сам сказал:
– Предупредил, что задерживаюсь.
Приехал Иван с невестой. Девушка похорошела. Попка раздалась. Грудь налилась. Ухарь наш Иван.
Девятого сентября 1993 года Илларион уехал. Мы с Иваном на моем стареньком «мерседесе» проводили Иллариона до границы Рованиемской ляни. По-нашему, губернии.
– Я вернусь. Жди! – Помолчал и грустно добавил: – Если Урхово зелье поможет.
– Ты обязательно вылечишься.
Дождались, когда машина Иллариона скроется за поворотом, и поехали обратно. Пусто стало в доме моем…
В начале девяносто четвертого года, а точнее, в феврале, в Москве должно было состояться общероссийское совещание. Совещание намечено было на понедельник, но Илларион выехал в пятницу. Хотел два дня просто погулять по Москве.
А накануне он побывал на приеме у светила онкологии.
Долго доктор наук изучал результаты анализов, снимки и потом сказал:
– Что я вам могу сказать, уважаемый Илларион Платонович? В чудеса я не верю, но вы практически здоровы. Конечно, в вашем возрасте надо бережнее относиться к сердцу. А что касается вашего прежнего диагноза, то тут все в норме. Двойная биопсия, онкомаркеры, УЗИ. Все чисто. Поразительно!
В Москве он обязательно посетит Мавзолей и вспомнит, как отец водил его туда, когда под гранитом там лежали двое – Ленин и Сталин. Слова отца до сих пор в памяти Иллариона: «Человек в мундире был великим. Во всем великим. В делах благих и в делах каверзных».
Пообедает в ресторане «Метрополь». С чувством брезгливости будет обходить пункты массовой кормежки по-американски – Макдоналдсы.
Подивится тому, что в центре Москвы практически не убирают снег.
В понедельник Илларион Платонович, сделав свой доклад на совещании и получив пакет документов, поспешил на вокзал. Успел на семнадцатичасовой поезд.
Дома был около полуночи и по привычке включил телеприемник. Передавали ночной выпуск новостей. Убит Председатель КУГИ. В городе объявлен план «Перехват».
«Хрена вы что-нибудь перехватите!» – зло выругался человек, который в прошлом был хорошо известен и в кругах близких к правоохранительной системе, и в преступном сообществе.
Контрастный душ привел мужчину в рабочее состояние. А сто граммов виски усугубили его.
«Завтра же подам заявление об увольнении. Теперь начнут искать виноватых. А на тебя ткнут в первую очередь. Мотать надо из этой страны! Полный беспредел!»
Три дня ушло на сворачивание дел в комитете и почти две недели на улаживание своих дел. Проданы загородный дом и машина. Квартиры переданы под ответственное наблюдение старой знакомой.
Отвальной в маленьком ресторанчике в поселке Репино. Все были довольны. Особо довольна была Елизавета, актриса Театра на Литейном.
Илларион взялся отвезти ее домой.
– Да не тряси ты меня так! Я не груша. Сама дойду.
– Веселая у вас жена, – смеется шофер такси.
Так заканчивалась жизнь Иллариона на родине. С ощущением стыда, сухости во рту и ломоты в теле.
Ту-ту-у-у. Поехали! Впереди Брест, Менджыцец-Подляски. Конечная цель – Варшава. Даешь Варшаву! За нею Берлин, Стокгольм…
Попадет ли Илларион в Финляндию? Мы не знаем.
Вот уже пять лет я не имею никаких сведений об Илларионе. Жив ли он вообще? Помогли ли ему настойки?
Иван учится в университете в Стокгольме. Девочка-шведка живет с ним. Моего Ваню приняли в семье девочки.
Я живу… Урхо не избрали на очередной срок старостой. Теперь он обыкновенный житель поселка.
Время летит. Вот и новый век. Когда он начинается? Первого января 2000 года или все-таки первого января 2001-го? А пока что осень года девяносто девятого.
– Фру Инина, вам телеграмма, – наш почтальон неизменно вежлив и даже галантен.
Над гладью озера кружатся чайки. Как тревожен их крик! Как ярко светит утреннее солнце и как четки силуэты елей вековых на том берегу!
Кто бы это мог тревожить меня телеграфным посланием? Я живу уединенно, общаюсь только по необходимости с ближайшими соседями. Это не оттого, что я поленилась выучить их язык. Просто я ежеминутно жду. Жду, так сказать, с большой буквы.
Я жду с того момента, когда Илларион сказал мне: «Жди! Я обязательно найду вас».
Текст телеграммы: «Буду третьего зпт встречайте тчк илларион тчк».
Кажется, мой квартирный вопрос на этот раз решен окончательно.
Поживем – увидим, как сложится жизнь Тамары Ининой в XXI веке…
Заметки в тетради в клеточку
Трусцой, чтобы не замерзнуть, бежим мы по насту лесной дороги. Мне двадцать семь, но легкие мои прокурены и не могут справиться с такой нагрузкой. В голове, что сверчок, одно слово – сдохну, сдохну. Впереди тысяча сто три дня. Не выдержать мне. Да и к чему? Чтобы выйти отсюда старухой? Без зубов. С воспаленной маткой и язвой в желудке. Может быть, и с чахоткой…
…Как участковый, Ваня был хил и слаб в тот момент. Тело его обмякло, ноги дернулись и все. Не надо было ему говорить такое: «Тебе вышка светит – скажи я одно лишь слово».
Что произошло в моем организме? Химия какая-то…
…Бежим трусцой… Пока бежим. Вот одна страдалица отвалила в сугроб. Вот другая. Скоро и я не вынесу и рухну. Все же мне уже двадцать восемь.
Сегодня меня поместили в лазарет. Сжалился кум. Тут, в лазарете, хотя бы тепло. Чистые простыни и наволочка. Жрачка тоже получше. У меня воспаление легких. Обошлось без туберкулеза. Лежи себе в койке и думай.
Семь лет мне впаяли за убийство мужа. Как же так случилось, спросите. Что же, у меня теперь времени хоть жопой ешь. Расс ка жу.
Санитар, милый старик, тянущий срок за кражу из своей же кассы чуть ли не ста тысяч рубликов, принес мне школьную тетрадочку: «Вы, милейшая, ведите дневник! Выйдете отсюда, книгу напишете». Определенно умом тронулся. Тем не менее через месяц я стала писать. Что тут еще делать?..
Лежу и смотрю в окно. Оно покрыто изморозью. Чего в него смотреть? Но в рисунке инея мне видятся разные фигуры. Вот там, в углу, птица. А там – точно крокодил.
У нас тут тепло, а за окном мороз. Мне хорошо. Бумага в тетрадке серая, страницы в клеточку.
…Мама родная! Как давно это было. Вот так же морозно и на окне узор. Я сижу у окна и пью толокно. Отец еще спит, а мама провожает меня в школу. Ей тоже на работу к десяти. Она продавец в промтоварном магазине.
А было ли это? Я вот уже во второй раз «хожу к хозяину», и тут, считай, моя настоящая жизнь. Меня здесь уважают. Я в фаворе у граждан начальников. А что там, за колючкой?
– Заключенная Инина, хватит бока пролеживать, – санитар из «опущенных» тих и вежлив, – пора на завтрак.
Вот так, господа присяжные! Меня на завтрак приглашают. Этого убогого спрятали сюда от греха подальше. Пожалели.
Каша на воде и чай, наверное, уже раз пять заварен, но главное – все горячее. А чего надо тебе, заключенная Инина? Живи и радуйся. Товарищи твои сейчас на морозе вкалывают. Обжигает их бронхи и легкие мороз. Коченеют руки и ноги. Цирик топчется у костра и покрикивает от нечего делать: «Живее, живее, а то околеете!»
Помнишь, заключенная Инина, статья сто пятая, как тебя и еще трех мужиков из цеха послали на Ржевку? Там наше изделие проходило испытания и что-то незаладилось. Тоже мороз был шипучий. Там нам говорил «живее, живее» не цирик, а сам главный конструктор. Его из Москвы достают. Вот он нас и подгоняет. Надо разобраться, отчего это наше изделие «закапризничало». Пуляло, пуляло, а тут на десятой серии заклинило. Ни тыр ни пыр.
Чудна голова человеческая. Вспомнила ту зиму, и тут же встало передо мной лицо Ивана. Того самого милиционера. Мы с ним жили, не расписываясь, почти два года. После того как я упокоила Петю, мужа своего, он, Иван Михайлович, переехал ко мне. Свою комнату сдавал каким-то южанам. То ли грузинам, то ли армянам.
– Хватит чавкать, – это уже наша врачиха, – мигом по палатам! Сейчас приду, всем клизму ставить буду.
Это она так шутит.
И опять я смотрю на заиндевевшее стекло.
Тогда было лето. У меня на службе половина сотрудников разъехалась в отпуска. Мой Ваня тоже навострил лыжи на море. Ему, видишь ли, путевку дали. В Хосту.
– Месяц пролетит, не заметишь, – говорил он мне, отвернувшись к окну, чтобы не дымить мне в лицо, – я тебе чего-нибудь привезу южное, редкое.
Очень мне нужны эти южные редкости!
Я как-то привязалась к этому мужику. Пусть он не шибко грамотен, пусть порой груб. Может и по физиономии съездить. Но все же. Химия! Эндофрин какой-то.
Он уехал. Провожать на вокзал запретил: «Нечего там при людях сопли разводить! Тута попрощаемся – и будет». И уехал.
Только обратила я внимание на то, что в чемодан он запихал две кружки и две ложки.
Через пять дней, я это точно помню, женщины меня поймут, мне одна сорока-белобока из канцелярии пропела: «А наша Надька в Хосту уехала. С хахалем».
Я мозгами раскидываю. И так и сяк. И все больше внедряется в мое серое вещество убеждение, что это с моим Ванечкой уехала «шарики катать» эта кошка драная. Рожа у нее белая, словно мукой присыпанная. Глазищи навыкате и черные, словно уголья. Плечи острые и широкие. Правда, грудь у нее большая и не болтается у живота. Но все остальное-то. Все остальное… Ушибиться можно. Кости выпирают.
На седьмой день, это как раз пятница была, я купила билет на самолет и полетела в Адлер. Три часа я думала и пила коньяк. Думала, как я застану их с голыми попами и как я буду резать их ножичком до крови.
Когда приехала, жара ударила в лицо и воздух, полный непривычных запахов, совсем вскружил мне голову. В автобусе стало совсем плохо. Шофер высадил меня у какого-то моста. Бросила сумку у обочины и доплелась до воды. Хорошо. Холодные струи обожгли мне ноги. Я пришла в себя.
Стоп, девушка. Так нельзя. Спьяну такие дела не делают. Надо где-то пристроиться. Комната с видом на море стоила мне недорого. Хозяйка, молодая армянка, накормила меня каким-то их национальным блюдом. Тушеные овощи. Вкусно. Пили вино белое.
– Ты, милая, я вижу, совсем плохая. Чего к нам-то приехала?
Тут я ей все и выложила. Она, не говоря ни слова, вышла из-за стола. Через пять минут вернулась, неся с собою большущую бутыль вина.
– Меня тоже муж бросил. Снюхался с какой-то проституткой из Москвы и умотал с ней. Так я к гадалке сходила, – мы выпили по большому бокалу холодного и терпкого белого вина, – и он через месяц приполз, – она что-то сказала по-армянски и добавила по-русски: – Мерзавец. Я его прогнала. Зачем мне его хрен, в чужой, – тут она опять употребила непечатное слово, – стиранный.
Мы с Гаяне – так она назвалась – просидели до тех пор на веранде, пока солнце не зашло за горы.
– Мы, здешние, в море ходим редко. Соленая вода кожу портит. Но с тобой пойду.
Мы вышли из ее дома и пошли, как ни странно, не в сторону моря, а, наоборот, – к шоссе.
– Там моря нет, – попыталась я вставить слово.
– Ничего ты не знаешь, и молчи. Мы не на пляж засранный идем. Мы на белые камни с тобой идем. Там теперь никого. Если только пограничники нас с тобой за голые попы не прихватят, – смех ее заливист и заразителен.
В свете уже вставшей над горизонтом Луны мы пришли на «белые камни». Красота! Какая вода! Она шелестит у берега, перебирая гальку. Вдали на горизонте светятся огни какого-то парохода. Никого.
– Раздевайся, чего стоишь, – вывела меня из ступора Гаяне.
Голыми мы вошли в воду. Было необычно и хорошо.
– Глотни, – Гаяне припаслива. Взяла с собою на море бутылку вина.
Долго мы лежали на колючей гальке и пили вино и…
Все было необычно и ужас как приятно.
Наше блаженство прервали пограничники. Откуда-то сверху они буквально свалились на нас.
Я бросилась натягивать на себя хотя бы что-то. Гаяне же, как была голая, встала во весь рост.
– Что мальчики, развлечемся?
– Мотай отсюда, Гаяне, и подругу прихвати. Или мы ее к себе на заставу на недельку определим. Будет картошку чистить.
– На картошку мы не согласны.
Я дрожу. Никак не могу одеть сандалии.
– Так что, Витенька?
– Сказал, мотай! – он ушел, а за ним и его товарищи.
Наконец мне удалось одеться. Гаяне тоже накинула свой халатик.
– Ну как? Пошла бы к ним на денек другой? Они парни чистые. А удовольствия по горло.
И тут у меня вырвалось:
– Мне и с тобой было хорошо по горло.
– Остынь. Я девушка справная. Это так, развлекашки. Не все ж мужикам нас тискать.
Обратно мы шли молча. Спала я долго и без снов.
Через два дня Гаяне мне сказала:
– Судя по твоим рассказам, твой ублюдок живет со своей кралей на Привокзальной у Сукиаса.
За обедом мы, вернее, она одна, разработали план действий. Гаяне зайдет к этому Сукиасу как бы просто так, по-приятельски. И там попытается познакомиться с Иваном.
– Я один приемчик знаю. Не устоит. Мы с ним поедем на шашлыки в горы. Я потом тебе скажу, где. Ну а там все и сделаем. Чисто и культурно.
Я не понимала, о чем Гаяне говорит.
– Дура ты, Тамара. Отрежем ему все. И член, и яички. Ты тут ни при чем. А Сукиас мой человек. Меня не выдаст.
Какие тут ночи! Небо светится звездами. Воздух ароматен, и жары уже нет. Цикады стрекочут так, что уши закладывает. Вино холодно. Орехи мягки. Руки Гаяне горячи.
…Я долго не могла отбросить от себя эту картину. Иван с голым низом лежит на спине. Глаза его полуоткрыты, а рот раскрыт и язык торчит. Он тяжело прерывисто дышит и изредка подергивает руками. Хотя и влила в него Гаяне немало, но все же…
Крови почти не было. Недаром Гаяне когда-то работала санитаркой в госпитале.
– Ну вот, смотри, какой красавчик твой трахальщик, – и добавила, улыбаясь, – бывший.
Через день я улетела в Ленинград. Отставив в своей памяти ощущение солености морской воды, пряного аромата цветущих магнолий и мускусного тела молодой армянки. Об Иване я не думала. Отрезала, как гнойный нарыв. Химия какая-то.
На службе я появилась в пятницу.
– Товарищ Инина, – начал вычитывать мне мой начальник, но тут же осекся. – Ты не больна ли случаем?
– Немного.
– Так иди, долечивайся. Без тебя обойдемся, – хмыкнул. – На венок собирать не придется.
Это у моего начальника юмор такой.
Два дня не выходила из дома. Пила водку и курила. Спала и пила. В понедельник в пять утра я уже начала уборку в квартире. Это у меня заняло почти пять часов. Потом душ. Потом завтрак. Наварила картошки, открыла банку лосося.
Этот дальневосточный лосось чуть не застрял у меня в глотке.
– Тамарка, сука, водку жрешь и рыбу трескаешь.
Это Ваня приехал. Не помер, значит, там, в горах.
– Ты чего ко мне приперся, мерзавец?! Вали к себе! Отлуп я тебе дала. Вали к своей девке.
– Болею я, Тамара.
– Гонореей или сифилисом? Я-то знаю, какую ты болезнь подцепил на юге.
Иван заплакал. Мне его не жалко. Прогнала его.
А через месяц он опять заявился. Пьяный, грязный, весь мокрый – на дворе дождь проливной. На форменном кителе погон нет. Брюки расстегнуты. Срам!
– Это ты, сука, подстроила, это ты, – и ну на меня с ножом. Тем, которым мясо разделывают.
На него он и напоролся.
Ну что за напасть! Что ни мужик, то покойник. Что за химия такая? Я два дня не вылезала из дома. Пила напропалую. Все едино. Со службы попрут. За Ваню дадут не меньше десятки.
Где находится гипоталамус? Знать бы. Одно слово, химия…
– Заключенная Инина, бегом к начальнику!
Тут так. Все бегом. Согревает. Мороз щиплет щеки, и ноздрюшки слипаются.
– Ну что, Инина, – наш начальник – мужик что надо. Его уважают. – Оклемалась маленько?
– Что-то, гражданин начальник, в грудях давит.
Как ему смешно! Как смешно. Бабы говорят. Бабы – это вольнонаемные, мы не бабы, мы зэки. У него жена очень больна. Все лежит. Бабы шутят – лежит телка, а спать не моги.
– Твоей грудью кого хочешь задавить можно. Ты садись. Разговор есть.
Села. Жду. Подполковник молча встает, обходит стол с двумя тумбами, подходит к двери и запирает ее на щеколду. Все понятно. Что же, он чистый. Можно. Его и понять надо. Жена лежит, а толку мало.
– Ты по сто пятой чалишься?
– Вам ли не знать.
– Знаю, а отвечать должна по уставу.
– Так точно! Статья сто пятая, часть вторая. Заключенная Инина.
– То-то. Ты телогрейку скинь. У меня тепло. Разговор есть.
Сам ходит в носках и без кителя. Нарушение. Но он начальник. Ему можно.
– Пей! – сует мне граненый стакан, – спирт это.
Для меня это не внове. Выпьем. Он расстегнет галифе, молча, одними глазами покажет, куда встать, – и ну пошел дергаться. Кум, так тот все больше отправлял свои потребности на столе.
Начальничек ничего не говорит и не делает. Ударили его, что ли?
– Инина, ты баба справная, начетов не имеешь. Чалиться тебе осталось пять лет, – опять встал. Ногами шарк-шарк. Туда-сюда и сел. – У меня жена больна. За ней уход нужен. Тебя хочу к этому делу приспособить.
Налил, выпил.
– Чего молчишь?
– А у меня есть выбор?
– Соображаешь. С завтрева будешь ходить ко мне в хату. Приказ о твоем расконвоировании я уже подписал. Выпей и иди.
Мороза не чувствую. До санблока добежала за рекордное время.
– Ну ты, Инина, продвинутая! Завтра за колючку выходишь, – наша врачиха держит в руках листок с приказом.
– Гражданин начальник, позвольте пройти на свое место?
– Знаю я твое теперь место, – ну и пакостная же у нее улыбка.
Дом начальника нашей КОРы за колючкой в километре. Цирик довел меня до ворот.
– Теперь чеши сама. Шаг влево, шаг вправо считается побегом, стреляю без предупреждения, – скалится своим щербатым ртом.
Зубы ему повыбивали наши «девушки».
– Ружье свое отчисти от триппера, – и шагом, шагом по морозц у.
Дом, рубленный в ласточкино гнездо, пятистенок. Две трубы. Дров не жалеют. Начальники же. Окна все в морозных узорах, но, видать, красивые занавесочки.
Подошла к калитке, а за забором – пес ростом с теленка. Я таких псов раньше не видала. Ну и морда. Зубы, что ножи.
– Эй, кто-нибудь! Меня начальник прислал.
– Чего орешь? Не ответит тебе никто. Алевтина лежит в лежку, а сам на службе, – за низкой оградой соседнего дома женщина в овчинном тулупе, накинутом на голое тело. – Ты иди через мой палисад. Есаул там не достает. Степан Порфирьевич специально так сделал, чтобы я, кабы что, смогла к Алевтине заглянуть.
– Что за собака такая? – спрашиваю я, когда мы минули у грозу.
– Кавказская овчарка. Лютый пес. Ему уши откручивают в щенячьем возрасте. Специально приглашают пришлого кого. Это для того, чтобы он всех чужих ненавидел. Ты иди, не боись! Он меня знает.
От бабы пышет жаром. Мне бы ее здоровье.
– Заходи. У них никогда не запирают, – баба развернулась так резко, что полы дубленки распахнулись и обнажили ее розовые груди. Скрип-скрип – и она потопала к себе. Я вошла в дом. Уже в сенях я почувствовала нездоровый больничный запах. Сейчас же выветрю всю избу.
В зале рядом с русской печью на высокой кровати лежала, положив голову на несколько подушек, женщина. Даже в полумраке комнаты я разглядела мертвенно-серый цвет ее лица. Руки она держала поверх пухового одеяла. Что за руки это были! Прутики, а не руки.
– Ты меня не бойся, девочка. Это не заразно. Лейкемия у меня.
– Я свое отбоялась. Проветрить надо тут. Кемия не кемия, а дышать надо.
Сбросила ватник и пошла открывать окна. Морозный свежий воздух полился в избу.
– Где дрова у вас?
– Выйдешь – с крыльца направо. Есаула не бойся. Он до дровяника не достает.
– Всю дорогу от вашего Есаула не побегаешь. Где кусок хлеба взять можно?
– Не возьмет он у чужого.
– Была чужой – стану своей. Так где?
Выбрала я самый большой кусман и пошла за дровами. Избу выстужу, а жить-то надо.
К пяти вечера, когда небо опустилось на поселок и мороз сковал лес, мы с Алевтиной сидели – да, да сидели – за столом и ждали хозяина.
– Ты, Тамара, волшебница. Я почти год с постели не вставала. Ты где так вкусно готовить научилась? – Я накормила больную женщину всего-то жареной картошкой с домашней тушенкой. А молоко, оно и есть молоко. Хлеб, он и есть хлеб.
Подполковник пришел часам к шести. До отбоя оставалось три часа. К девяти я должна быть на зоне. Начала собираться, а он говорит:
– Я дал команду тебя не ждать. Ночевать сегодня будешь тут.
– Как это ты верно решил, Степан Порфирьевич. Куда на мороз девочку выгонять!
– Эта девочка свой срок тянет по сто пятой, часть третья. Что б ты знала.
– Пусть так, но все равно девочка она.
Не стану же я переубеждать больную женщину. Пусть верит, что я девочка.
Скоро и угомонились мы. Алевтину я уложила на свежее белье. Напоила на ночь чаем с малиной. Начальник ушел на свою половину, и долго мы слышали его ворчание. О чем ворчал мужик, мы не расслышали. Но и он скоро угомонился.
Спать на новом месте непривычно. Это у меня с детства. Лежу на широкой лавке у окна. От него, хоть и закрыто оно плотно и законопачено мною, тянет холодом. Мороз на дворе нешуточный. Под сорок. Под лоскутным одеялом мне тепло.
Тихо посапывает Алевтина. Подействовал мой чай. За стеной тихо. Спит гражданин начальник. Это я так думала. До поры.
Наверное, и я заснула.
– Тихо. Подвинься. Согреешь меня, и я уйду.
«Грелся» он сильно, по-мужицки откровенно. Никогда и никто так не брал меня.
Через пять дней Алевтина запросилась в баню.
– Пропарюсь и совсем поправлюсь.
Я видела, что женщина тает, но возражать не могла. Дотащу до берега. Бани тут ставят по берегу реки с необычным для моего уха названием Северная Сосьва.
Гражданин начальник уехал на своем уазике в колонию, а я начала готовить баню. Спину натрудила, пока натаскала дров.
– Отдохни, – сжалилась надо мной Алевтина. – Пойди в сени. Там за перегородкой есть шкафчик. Налей себе настойки. Согреешься.
– Нет. Расслабон будет, а мне еще воды надо натаскать и саму баню натопить.
В парилке я, паря Алевтину, старалась не смотреть на ее тело. Кожа – пергамент желтый. Косточки выпирают отовсюду. Простите, между ног можно два кулака пропихнуть. На попе нет ни грамма жира.
Жуть!
Теперь представьте картинку. Мороз под тридцать. По тутошним меркам тепло. Снегу навалило по пояс. Тропку занесло, пока мы парились. И вот в таких условиях я тащу на спине Алевтину. И пускай весу в ней меньше, чем у барашка, но все же. Идти надо вверх. По снегу.
Дотащила. Хватило сил уложить женщину в постель. Самой раздеться сил уже не было. Так в дубленке и пила я ту самую настойку. Та еще настойка. Градусов под шестьдесят. Сладкая дрянь, а бьет по мозгам сильно.
Алевтина заснула, пушкой не разбудишь. Печь не остыла. В избе тепло. Меня медленно повело. На голодный желудок выпить почти пол-литра настойки, это я вам скажу.
Приободрилась и растопила-таки печь. Благо дров в избу натаскала утром в достатке. Намыла картошки и так, в мундирах, поставила чугунок с ней в жерло. Пусть себе варится. Вернется со службы гражданин начальник, будет, чем закусить.
Моя голова медленно склонилась на стол, и я сплю.
– Эй, люди! Померли, что ли? – хозяин пришел. Мать моя женщина! Печь потухла. Алевтина спит. И я сплю. Что за бабы? Ладно уж, жена. Она больная, а я-то.
– Сейчас свет зажгу.
– Жива? А то я уж подумал, обе отдали концы. Соседка сказала, ты баню топила. Алевтину парила. Ей, – он смеется, – это в самый раз, чтобы побыстрее концы отдать.
Свет резанул по глазам. Хорош подполковник! Шинель вся в снегу. У шапки-ушанки одно ухо спущено. Всюду налип снег. Ремень и портупея сбились. Кобура где-то на пузе. Он просто пьян в стельку.
– Мечи пирог на стол. Будем вечерять, заключенная Инина. Есть повод напиться, – шинель летит в красный угол, шапка за печку. Степан Порфирьевич стоя пытается стащить уже оттаявшие и намокшие оттого сапоги. И так и этак. И все никак они не даются.
Пришлось помочь. Один поддался сразу, а со вторым затык. Чувствую его руку на голове своей.
– Тебе УДО пришло. Как же, Тамарка, я без тебя теперь буду? – сел на пол и заплакал. Что тут со мной произошло! Я его и целовала, и ласкала. Легли прямо на пол, и случилось бы то самое, но проснулась Алевтина.
– Пить хочу, – это были ее последние слова.
Воду я вливала в ее почерневший рот, уже когда она начала дышать прерывисто. Вспомнила, как такое дыхание называла наша врачиха – дыхание Чейн-Стокса.
Рядом Степан в галифе и исподней рубашке.
– Ты ей дай самогонки.
– Отходит она. Я ничего не могу сделать. Навесишь мне и ее теперь.
– Дура ты, городская дура. Ты освобождена условно-досрочно. Оставь Алевтину. Пусть спокойно отойдет.
Алевтина перестала дышать ровно в десять вечера…
– Я обязательно вернусь, – я верила в то, что говорила Степану.
Почти год мы жили как муж и жена. Кто-то стукнул – и его уволили в запас. Подорвал авторитет.
Завели хозяйство. Корову, трех боровов, птицу и даже коня. Земли хватало. По весне Степан на рынке скота прикупил – трех барашков. Выпас есть.
А третьего июня мне пришло письмо из Ленинграда. Отдел учета и распределения жилой площади извещал меня, что такого-то числа состоится суд по иску правления ЖСК ко мне, задолжнику.
– Ехай! Квартира в городе – это не изба на Севере. Я управлюсь, – на меня не смотрит. Знаю, тяжело ему. Попривык ко мне.
Я тоже привыкла к этому мужику. Но дом истинный мой там. В панельном доме, на пятом этаже, в квартире из двух комнат и кухни в девять квадратных метров, с лоджией.
Степан основательно собрал меня в дорогу. Кроме чемодана с моими вещичками, плотно упаковал в большую корзину всяких продуктов собственного изготовления.
– Нечего по ресторанам шастать в поезде. Отраву жрать ихнюю, – и опять мне в лицо не смотрит.
Ночь перед отъездом я не спала. Но и ему спать не дала.
Рано утром десятого ноября 1982 года к нашим воротам подъехал уже изрядно потрепанный уазик из колонии.
– До Конды провожать не смогу, Тамара. Сама знаешь, хозяйство. А до заимки лесника, так и быть, – смотрит на этот раз прямо в глаза. Глаза серые и злые.
По перовому снегу ехать весело. Водитель из молодых, первогодок. Крутит баранку и напевает.
– Слушай, боец, заткнись, а? Лучше приемник включи. Не пропил еще?
– Никак нет, товарищ подполковник в запасе, – включил.
– …с прискорбием извещает, что скончался Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Верховного Совета СССР, товарищ Леонид Ильич Брежнев, – голос диктора суров. Аж мурашки по коже.
– Сподобился наш сиськи-масиськи, – бросил Степан.
– Житуха начнется, – тут же отреагировал боец.
– Мал еще размышлять на такие темы. Устав блюди и службу знай, – в Степане проснулся командир.
Километров пять ехали молча.
– Тормозни, подышу, – и мне: – Выйдем, Тамара. Пошли по колее впереди машины.
– Я помню смерть Сталина. Брежнев, конечно, в подметки ему не годится. Но все же сколько годков правил. Будет смута. Это я тебе говорю… Прикипел я к тебе, Тамара. Ты там в городе поосторожнее будь. Ничего просить не могу, но скажу так. В городе, конечно, жить комфортнее, – первый раз слышу от Степана такое слово, – но тута спокойнее. Обустроить жизнь по-городскому можно и здесь. Было бы желание. Так что подумай, женщина.
До Конды доехали без радио и разговоров.
Они сразу уехали. Я понимала. У Степана – хозяйство, у бойца – начальство.
Небо опять затянуло. Пошел мокрый снег. А у меня внизу живота защемило. Химия…
На третьи сутки я с пустой корзиной, тяжелым чемоданом и больной головой (хорош наборчик) вышла из вагона поезда. До Вологды я ехала в плацкартном вагоне. Провоняла так, что от меня люди стали шарахаться. Сдала багаж в камеру хранения и пошла искать баню. Отмывалась часа два. Степан меня хорошо снабдил деньгами, – «мне они тута и на фиг не нужны», – так что дальше я ехала в купейном вагоне.
Ленинград. Шумно, толкотно. Почти час стояла в очереди за такси.
К двум часам дня добралась до дома. Замки я открывала с трудом.
– Вернулись, – соседка услышала, как я вожусь у дверей. – А мы уже думали, умерли вы.
– Как видишь, сучка, не сдохла я, – дверью хлопнула так, что штукатурка посыпалась. Стерва первостотейная. Она одна из соседей вызвалась понятой быть, когда ко мне явились из милиции.
В квартире все так, как было в день моего ареста. Я тогда попросила мало-мальски прибрать и отключить ток.
Устала после дороги так, что тут же рухнула на диван…
– Не дам, – говорит отец, но мама настаивает.
– Одну коробочку дай!
– А где я орден хранить буду? – мама выпрашивает у отца орденскую коробочку.
– Дай не от ордена. От медали дай. Она же стоит меньше.
– Неграмотная ты женщина. Ордена и медали цены не имеют. И зачем тебе коробочка-то?
– Сережки мамины хочу положить…
…Ну и сон. А я ведь помню этот разговор родителей. Отец тогда отдал маме красную коробочку.
Хорошо поспала. Все-таки в поезде на жесткой полке сон не тот.
День прошел в домашних хлопотах, и ни разу я не вспомнила колонию, своих товарок по бараку, цириков. Но все время перед глазами стояли глаза Степана.
По телику одно и то же. Все о Брежневе. Дорогой Леонид Ильич, дорогой Леонид Ильич. Тьфу на них! Пройдет неделя, и вы будете глотки грызть друг дружке за его место.
Угомонилась я ближе к полуночи. Даже кушать не хочется. Так и легла. Голодной…
– Золото, драгоценности, оружие, наркотики? – это при моем аресте так.
Как бы ударило и проснулась. Что за чертовщина. Сначала снится, как мама коробочку у отца выпрашивает. А теперь вот обыск.
Как была, в пижаме вылезла из постели. Сварила пельменей «Сибирских», налила стакан водки. Все ровно сна как ни бывало. А ведь были у мамаши доставшиеся от бабушки какие-то цацки. И где они?
Начинало светать, когда я наконец-то нашла ту красную коробочку. Каждая вещица обернута ватой. Вот серьги из золота с изумрудами. Вот перстень золотой с печаткой. Ожерелье из янтаря и золотыми вставками. Четвертой вещицей оказался кулон. Открыла, а там такая маленькая-маленькая картинка. Женский портрет. Наверное, это бабка моя. Муж ее очень любил. Дарил эти вещицы он. Так любил, что мог приревновать к телеграфному столбу. Умер он как-то странно. Свалился с обрыва и сломал шею. И не сильно пьян был.
Что же, сны оказались в руку…
Одних сережек мне хватило на погашение задолжности по обслуживанию дома. Еще и осталось.
Немного подумав, а на кой мне эти цацки, решила погасить кредит. Знакомый подсказал, что после полной оплаты кооператива квартира переходит мне в собственность. Смогу продать ее.
Другой мужик сказал, что продавать не надо. Лучше, если не буду жить тут, сдавать ее.
В хлопотах прошел месяц. В декабре у Степана день рождения. Исполнится мужику пятьдесят два года. Не круглая дата, но все же день рождения. Надо ехать. Надо и еще пуще хочется.
– Вы, Тамара Вениаминовна, правильно решили сдать квартиру. Одно попрошу, сдать приличным людям. У нас, знаете, дом высокой культуры.
– А вы и помогите мне с людьми.
– Подумаю.
Будет он думать долго, а я жди. Сообразила. Пошла к себе на старую работу. Там всякие люди бывают.
Девчонки мне обрадовались. Они не паскуды какие-нибудь.
– Тамарочка, не волнуйся. Подберем. У нас всякий контингент. Есть грузины. Армяне. Есть и совсем крутые. Чеченцы. Кого хочешь?
Через три дня я уже подписывала договор с молодыми людьми, у которых глаза карие, а волосы черные.
– Не беспокойся, дорогая! Все будет очень хорошо. Чисто и тихо. Твои соседи жаловаться не будут.
Они внесли задаток за три месяца вперед.
– Потом мы будем платить, как прикажешь. Можно из рук в руки. Можно на сберкнижку будем класть.
Получив по моим понятиям очень даже приличную сумму, я села в поезд Ленинград – Вологда. Тю-тю. Или ту-ту. Не стучите колеса…
Я везу моему, отметьте – моему, Степану гору городских гостинцев и подарков. На Невском проспекте в магазине «Рыбалка-охота» купила такие удочки – закачаешься. Лесу, крючки, грузила и много всего другого. В «Военторге», там же на Невском, две пары штанов. Карманов на них немерено. Пять ковбоек. Сапоги из хрома, а может быть, и не из него. В «Елисеевском» купила водки, коньяка, сыров разных и колбас.
Загрузилась по самое не хочу. Пришлось на вокзале носильщика нанимать.
Поехали. Мелькают за окнами поля да перелески, серые унылые дома. Все припорошено снегом. Кое-где прогалины высвечиваются.
В купе одна я баба. Мужики приличные. Даже вежливые. Не пристают.
Пили-ели одним столом. Доехали, слава Богу. Как я буду со своими кутулями? Опять же мужики помогли дотащить их до автобусной остановки.
Снегу намело! Жуть. Устроилась под навесом и стала ждать. Народу прибавляется, а автобуса нет. Начинают болтать, что он где-то в дороге застрял и за ним послали трактор. И что раньше ночи его не жди.
Люди стали разбредаться кто куда. Все местные. Им есть куда идти. Мне некуда. Да и с моим багажом не очень-то побегаешь. Сижу мерзну.
– Гражданочка скучает? – я с ходу вижу со справочкой гражданин этот. Может и прирезать за харчи и вещички.
– Вали отсюдова, сажа. Горло порежу. Сама по сто пятой чалилась, – и для пущей убедительности полезла в карман.
– Успокой нерв. Я без претензий, – отвалил бич. Сколько их в этих краях!
Как народ узнает о прибытии автобуса, не знаю, но начал он подтягиваться на станцию.
Довольно новый автобус приехал сам. Шумной толпой вывалились из него пассажиры. Впечатление, что они все пьяные.
– Мы чуть не угробились, чуть не угробились, – тараторят бабы. Им вторят мужики: «Чуть головы не поломали».
– Чего народ пужаете? – шофер – мужчина основательный, ростом под два метра, плечи «косая сажень», – ну съехали немножко в кювет. Так не перевернулись же. Сами доехали, и скажи спасибо.
– Простите, – подкатилась я к нему, – а обратно, когда поедем?
– Эх, деваха. Дай дух перевести. Отогреться.
– Давайте я вам горяченького соображу.
– Мне бы не горяченького, а горячительного бы.
– И это будет, – мне главное, чтобы уехать отсюда побыстрее.
– Пошли в балок. Там и покушаем с тобой, – подхватил мои чемоданы и сумки и почесал вперед. Я еле поспеваю.
В балке так тепло, что впору до нижнего белья раздеваться.
– Петенька приехал, – заверещала старушка, шурующая в буржуйке. – Сейчас чаю наварю. Замерз, поди?
– Бабуля, не суетись! Пятки сотрешь до костей. Я тебе гостью столичную привел. Стели белую скатерть, – как хорошо он улыбается.
– Совсем одичал на трассе. Какая такая скатерть? Грязь собирать. А ты, девка, откуда будешь такая?
– Из Ленинграда я.
– Цаца, – отвернулась, будто я ее обидела.
– Не обращай внимания! Она сама из Ленинграда. Пока срок тянула, там у нее все отобрали. Некуда ей деться. Вот и сторожит наш балок.
Бабуля выставила на стол стаканы, трехлитровую банку с молоком, положила на тарелку крупно нарезанный черный хлеб:
– Извольте кушать, господа залетные!
– Ты тоже садись с нами, баба Вера.
Кем же была это баба Вера до осуждения и заключения? Была Вера Николаевна старшим научным сотрудником в институте Академии наук. Имела, а впрочем, и имеет степень кандидата наук. Была успешной, красивой. Одного у нее не было – этого пресловутого женского счастья. То есть не было у нее мужа.
– Я мужиков не чуралась. Знаю, что баба без мужика, что цветок засохший. Дай ей каплю влаги живительной, – она пакостно хихикнула, – и она расцветет. Был у меня один такой. Страсть какой красивый! Бабы так и липли.
Петя перебивает:
– Баба Вера сейчас плакать начнет. Я скажу. Отравила она его. Она же химик, ученый.
Мы пьем мою водку, едим мою колбасу. Петя пьет и не пьянеет. Мне бы уехать отсюда.
Зря я обмолвилась, что тут жарко так, что впору раздеваться догола. Баба Вера скоро сникла, и ее Петя отнес за ширму.
– Ты какая-то особенная. Я с такими еще не спал.
Чего не сделаешь, чтобы побыстрее добраться до любимого мужчины…
Петя помог мне дотащить багаж до автобуса, и пока он разогревал мотор, я сидела в салоне.
Пять с половиной часов мы ехали до Конды…
…С того дня прошло три года. Я дважды съездила в Ленинград. Один раз со Степаном. Сводила его в театр, цирк, Эрмитаж и Русский музей. Жили мы в гостинице по его паспорту. Меня подселили за взятку.
В моей квартире после чеченцев живет пара из Сургута. Он в Ленинграде представляет какую-то контору по добычи нефти. Платит хорошо и исправно.
И опять на дворе мороз. В декабре у Степана день рождения. Пятьдесят пять ему стукнет.
Забыла написать. Беременна я была. Не удалось родить. Пошла со Степаном на рыбалку. С утра было ведрено. К полудню поднялся сильный ветер. Нашу казанку сорвало с якоря и понесло на камни. Степан кричит: «Хватайся за осоку!» Я все руки изрезала. Но это пустяки. Что-то надорвала внутри от напряги. Ночью был выкидыш. Спасибо, рядом фельдшер оказался. Не дал помереть. Степан чуть не наложил руки на себя. Я ему тогда сказала: «Одну живую душу сгубили, хочешь, чтобы и я сдохла. Нет никого, кроме тебя, кто бы выходил».
Выходил.
Мороз двадцать пять градусов, но без ветра. Это терпимо. Я жуть как ненавижу мороз с ветром.
Скотина напоена и накормлена. Дунька, кормилица наша, подоена. Куры несутся неплохо, несмотря на зиму. Бараны и есть бараны. Они и из-под снега смогут корм добыть. Два хряка дошли до кондиции. Скоро праздник. Будем забивать их.
– Тамара. Я вот, что удумал. Все ж пятьдесят пять мне. Так сказать, юбилей. Надо бы народ пригласить. Обидятся иначе.
– Места хватит. Чего пить, сообразим. О еде не беспокойся. Так и решили. Сели за стол и начали составлять список гостей. Напишем имя и в рот стопку и кусочек рыбы. Рыбу я сама приготовляю. Степан ловит, я готовлю. Кооперация. Сейчас модно.
Когда мы доели рыбину, на листочке значилось двадцать пять имен.
– Иди спать, – Степан на этот раз послушался меня…
День рождения Степана я долго не могла вспоминать. Сразу в слезы. Все началось так хорошо. Собрались гости. Подарки, тосты. Были среди гостей и те, кто ходил под началом подполковника. Одни в форме МВД, другие в робе зэка. Пьяным никто не был. Начали петь. Как же застолье без песни. Степан завел – «Из-за острова на стрежень».
Подхватили. Я в тот момент вышла к печи, достать чугунок с бараниной и ничего не видела. Но вдруг песня сбилась, а потом и вовсе наступила тишина. Я, как была с ухватом, развернулась так быстро, что соус из чугунка выплеснулся. Мой Степан лежит головой в тарелке.
Так как смерть бывшего начальника колонии произошла внезапно и в застолье, то было возбуждено дело. Я похоронить не могла Степу. Вскрытие показало – острая сердечная недостаточность. Вот и отметили юбилей – 55 лет.
Долго долбили мужики промерзшую землю. Ярко светило солнце. Над полыньями парило. Вертикально вверх поднимались белые дымы над крышами домов.
Приехал новый начальник колонии, его зам по оперативной работе. По-нашему, кум. Говорил хорошо. Коротко, конечно. На морозе не очень-то поговоришь.
Помянули. Я осталась одна.
Кто я здесь? Бывшая заключенная. И только. Женой Степану я не была. Официально. У нас как? Нет штампа в паспорте – ты никто.
Начала продавать скотину. Даже слезы на глаза наворачиваются. Они же родные нам со Степаном были. Даже бараны.
– Гражданка Инина, – приехали на вездеходе они. Один из сельсовета, другой из суда, что ли, – мы приехали составлять опись вымороченного имущества.
– Описывайте. Одного не пойму, как это так – мы с покойником все вместе наживали, а теперь вы все себе умыкнете.
– Мы при исполнении. Попрошу не оскорблять! Все по закону.
– Пиши, законник.
Писали они почти пять часов. Я им, сквалыгам, даже чаю не предложила. Уехали они, а я начала пить самогонку. Не им же оставлять. Горькая шутка.
– Ты, Тамара, не сиди сиднем. Пиши в прокуратуру, в суд. Все ж женой ты была Степану.
Так доняли, что я написала-таки. Через две недели пришел ответ: мол, вы вправе отстаивать свои права в суде.
Через полгода в конце мая суд постановил присудить мне дом и все имущество при нем. За меня выступило на суде все село.
Осталась я в доме при пяти курах, одном петухе и одном баране. А тут и телеграмма пришла из Ленинграда. Съемщики извещали, что уезжают, и спрашивали, кому отдать ключи. Отбила телеграмму – отдайте председателю, а сама стала собираться в дорогу. Нельзя жить на два дома. Надо решать.
– Ты, Тамара, не боись, – соседка согласилась присмотреть за домом и живностью, – ничего не пропадет. Езжай спокойно.
В июне 1987 года я оформила передачу пая и квартиры некоему гражданину Фролову.
С августа того же года я постоянный житель села Саранпуль.
Последняя страничка в клеточку залита чем-то. Но можно прочесть – «он молодой, но меня любит».
Наша служба и опасна, и трудна
Что за бред! Я в тюрьме. Нет, конечно, не в настоящей тюряге. В клетке. В отделении милиции. Мент поганый загреб меня прямо с точки. Я-то думала, что у Вадика все тут схвачено. Трепло он. Этот Вадик.
Знала бы, ни за какие деньги не подвязалась бы тащить сюда чеку. Сама-то я не употребляю. Раз попробовала и не в кайф мне ширево это.
Вадик сел на иглу плотно. Я немного еще с ним покантуюсь и соскочу.
– Инина, на выход, – кто-то орет. Другой, у первого голос пропитой и какой-то грязный. Этот почти, как у Левушки.
Красивый. Такому я без слов лишних дам.
– К стене, – и эту похабень тюремную он говорит так ласково, хоть описайся, – вперед, налево. Стоять, лицом к стене. Входим.
Вошли и он с порога:
– Задержанная Инина доставлена.
Ушел. Жаль. Окно в комнате, куда меня привели, наполовину закрашено масляной краской. Белой. А пол покрашен в коричневый цвет. Такой же масляной краской. У нас в школе также полы красили.
– Присаживайтесь, гражданка, – хмырь в штатском. Кто он? Следак? Или из прокуратуры? А вдруг адвокат. Вдруг бывает только пук. И то у детей.
Начал тягомотину – фамилия, имя, отчество, где и когда родилась, где прописана, чем занимаюсь.
– Проституцией занимаюсь, – резанула, а он хоть бы что, и бровью не повел.
– Вас обвиняют в распространении наркотиков. Это статья на пять, а то и больше лет колонии строгого режима. Вам это ясно?
– Лепите, гражданин начальник. Менты ваши паскудные подбросили.
– Вот протокол изъятия. Вот подписи понятых. Все по закону.
– Знаю я ваших понятых. Эти алкаши за четвертак кого хочешь продадут. Себе смертный приговор подпишут.
– Я тут не для того, чтобы спорить с вами. Не хотите подписывать протокол, обойдемся. В камере с девочками из Афганистана посидишь, не то еще подпишешь.
Знаю я этих девочек. Они кого хочешь так уделают, что мама не горюй. Я хоть и занималась у Аркадия в клубе карате, но одной с этими беспредельщицами не совладаю.
– Тебе, начальник, чего надо-то? Меня посадить – дело нехитрое. А дальше, что?
– Ты, Тамара, соображаешь. Кури, – и толкает ко мне пачку сигарет с фильтром. Такие курят у нас одни блатники. Я курю только «Приму».
– Я две возьму, – одну за лифчик, другую в рот.
– Не торопись, если разговор склеится, пачку отдам.
Задымили. У меня в голове карусель – не жравши со вчерашнего дня. Этот хмырь в штатском заметил.
– Попей чайку, – наливает в кружку, а рядом кладет кусок белого хлеба. Припас, сука.
Чай крепкий и сладкий. Батон мягкий. В животе потеплело. Сигарета уже не так крепка.
– Зовут меня Петром, а фамилия моя Панферов. Я майор, следователь из отдела по борьбе с распространением наркотиков. Ты понимаешь, из районного УВД я. Я за тобой давно наблюдаю. Ты же, Тамара, росла в приличной семье, – тут меня достало. Кто ни попади, тычут меня мордой в мою семью.
Ну и что, что мой папаша доктор наук, профессор, заведует кафедрой. А мать моя кандидат наук. Они меня воспитывали, как кролика подопытного. Принесу пятерку из школы, получи доченька трояк. Если трояк, но не в рублях, то отец по морде. Так, он говорит, и его на родине в Донбассе воспитывал его отец. Кузнец на шахте. По здоровью деда в забой не пустили. Но руки его были на редкость сильны. Мой папаша такой силой не обладал, но зато был доктором медицины и знал анатомию человека очень даже хорошо. Долго после его ручек я писала больно.
– Вот и ладненько, товарищ Инина, – я ему уже товарищ, – прочти эту бумагу и подпиши. Потом иди себе на все четыре стороны.
Я, Инина Тамара Вениаминовна, год рождения, паспорт, серия, номер согласна сотрудничать добросовестно и честно с товарищем таким-то и подпись.
Вот такую бумажку надо мне подписать. Делаю вид, что читаю по буквам. А на самом деле соображаю. Включила все мои шарики-винтики. Не подпишу, впаяет мне статью и лети, голубушка, в края дальние. Кто такое захочет?
– Подпиши, милая, – ласковый черт. Подписала и гора с плеч. Что я ворам должна что? Тем более этим отморозкам.
Что вам и то, что было потом, рассказать? А отсосать не хочешь?
Ночь была коротка, потому что, как в анекдоте: время летит быстрее в объятиях мужчины, нежели сидя голой жопой на сковороде.
* * *
– Я уже не спрашиваю, где ты пропадала два дня, – мама красива в свои сорок восемь лет, – я хочу спросить, у тебя не осталось и капли хотя бы сострадания к отцу? Его сердце изношено и он в одном шаге от инфаркта. Позвонить могла?
– Меня лишили конституционного права на один звонок, мамуля.
– Все шутишь.
Я давно усвоила одну простую истину: скажешь правду – не поверят. Соврешь – поверят. Если же лгать, то надо так соврать, чтобы было что-то невероятное.
– Отнюдь, мама. Я ночь провела в «обезьяннике».
– Что ты делала в зоопарке ночью?
– «Обезьянник», мама, это такая комната, где содержат преступников.
– Отец, – не выдерживает мама, – хватит свою рожу холить и лелеять. Дочь твоя уже в тюрьме сидела.
– Тамара такая же моя дочь, как и твоя. – Папа чисто выбрит, надушен, с повязанным одинарным узлом галстуком выходит из ванной. – Или ты хочешь сказать, что я ее родил без твоего участия.
Вот за что я люблю своего папашу, так это за его юмор. Мама бросает полную овсянки кастрюльку об пол:
– Сумасшедший дом! Я этого не вынесу.
Она уходит на родительскую половину и нам с папой слышно, как она, кандидат искусствоведения, превосходным, почти классическим матом определяет нашу роль в современном мире, сам этот мир. Не имею права цитировать ее. И не только потому, что она все-таки мать моя, но и по этическим соображениям. Мы же дома.
Папа тряпкой подтирает пятно на светлом линолеуме кухни. Галстук закинут за спину, и папа то и дело отбрасывает его туда с присказкой: – Удавка на шее и та лучше себя ведет.
Юморист мой папа. Хлопает входная дверь. Мама ушла к себе на работу в Музей этнографии народов СССР.
– Ты что и вправду ночь провела в милиции?
– Да, я ведь никогда не вру. Так ты меня учил.
– Это артефакт. Какие же обстоятельства послужили основанием для этого? – секунду помолчал, не дав мне ответить, – Впрочем, ответа не требуется. Я знаю, откуда исходит двенадцатиперстная кишка, знаю, как расположена брыжейка, но в уголовном деле я полный профан.
– Ты всегда верил мне. Поверь и на этот раз.
– Верю, – выбросил грязную тряпку в мусоропровод, подтянул галстук и удалился. Его ждут страждущие и болезные.
Теперь можно и мне принять душ. Холодные струи перемежаю с горячими, почти кипятком. Тело начинает гореть. Низ живота наливается тяжестью. Это ощущение мне знакомо. Надо вовремя остановиться. Жесткое вафельное полотенце доводит мой эпителий до цвета разогретого металла. Я готова лечь в постель.
Я сплю три часа. Где-то там далеко прогремел выстрел полуденной пушки. Заканчивается вторая пара в институте, где я была в последний раз неделю назад. Надо бы наведаться туда. Полтора года я осваиваю науки проектировать какие-то приборы. Это путь, предначертанный мне папой.
Ну не могу я усваивать всякие технические премудрости. Мне ближе слово. Писаное и произнесенное.
Не сказала я маме с папой, что меня уже «прослушали» в ЛГИТМиКе. По блату. Молодой, но уже достаточно популярный актер Миша посодействовал тому.
Вот как это было.
В зале пусто. Один стол. Длиннющий и за ним, как куры на насесте, люди. Тетки и дядьки. Одни, наверное, самый главный у них, говорит: «Что читать будете?»
А хрен его знает, что им читать надо. Пауза затянулась. Тут тетка, что с краю сидела, ткнула в меня пальцем: «Этюд покажи».
Что же я совсем валенок. Знаю. Что такое этюд. Ну и выдала им этот «этюд». Показал в лицах то, что знаю хорошо.
Тетка чуть со стула не упала: – Как образно и точно. Прирожденная леди Макбет.
– Приходите в июне, – подвел итог моему выступлению маститый и знаменитый и как-то хитро подмигнул.
Встала резко. Папа так не велит. Он доктор. Ему виднее, как «прыгает» в таком случае АД. Мне по фигу.
Пошла я пешком в институт. Пока сил хватало.
В деканате мне сказали коротко: «Приказ о вашем отчислении можете получить в отделе кадров».
Апрель в Ленинграде лучше марта. Уже просохли сады и парки. Уже сошел лед с Невы и солнце не только светит, но и греет. Под стенами Петропавловки прижались к камням фанаты загара. С лотков начали торговать болгарскими помидорами. По пятьдесят копеек за килограмм. Хватают. Растет благосостояние советского народа.
Корюшка отошла. Поела я ее от пуза. Тот самый Вадик кормил. Брат его на баркасе мотористом работает. Берет на дармовщинку и брату отдает.
Иду, напеваю под нос песенку и так хорошо-то мне. Нет проблем. Отчисли меня. Теперь моя дорога в театральный институт. Но, стоп. Впереди лето. Когда я была пай-девочкой, студенткой технического вуза, а папа отмусоливал мне энную сумму и я уезжала по студенческому билету в город Сочи и оттуда в Абхазский рай – Гагры.
Семьдесят копеек за койку на веранде, сорок на обед и ты можешь тридцать дней пребывать в неге, йоде, ультрафиолете и объятиях кого-нибудь.
Как в данной ситуации подступиться к отцу? Он же с ума сойдет, когда узнает, что его дочь отчислили за прогулы.
– В наше время, – папе всего-то сорок четыре. Я у него ранний ребенок. Мамаша с ходу подзалетела и охомутала мальчика. А как же? Мальчик – сын директора магазина. Потом и больше – начальник торгового отдела в райисполкоме, – в наше время так молодежь не жила. Мы работали и учились. Некому было попки нам подтирать.
Мне, к слову, тоже никто попку не подтирает. Кое-что и кое-кто иногда иное делает с моей попкой, это да. Но всегда чистой.
Вот Невский проспект. Подтащусь к «Сайгону». Может быть, кого из знакомых встречу. Не все же пот льют на ниве науки и техники.
Зал со стойкой пуст. Почти. Все ж на часах одиннадцать с четвертью. Тут будет не протолкнуться в пять и далее. Пошуровала в кармане куртки. Наскребла на кофе «Экспресс». Без сахара.
– Что финансовый кризис? – Андрюша за стойкой, тоже бывший студент. Он в ФИНЭКе учился. Выгнали за фарцовку.
– Финансы поют романсы, – спошлила я.
– Никому в долг не наливаю. Тебе налью.
– На натуру не рассчитывай.
– Тамара, я же юноша порядочный. Если и ложусь с девушкой в койку, то исключительно по взаимной любви. Ты мне взаимностью не ответишь, правда же?
Вижу, глаза засверкали, ручки начали теребить «киску». Губы облизывает. Жалко мальчика. Вспомнила рассказ Хемингуэя. Там янки развлекался на станции с официанткой. Давал ей по ее понятиям кучу долларов за то, чтоб она ему дала. Знал, сука, что негде. Вот и стебался. Я не такая. Знаю, у них подсобка с диваном есть.
– Тебя подменить некому?
– А я закрою на уборку. Ты настоящий парень, Тамара.
Потом мы выпили вместе, и я рассказала ему о своих проблемах.
– У меня сейчас денег свободных нет. Вложил в товар. Так, помог бы.
– Выкручусь, – он налил еще. – Одно дело сделаешь, хорошие деньги получишь.
– С наркотой не имею дел. Хватит. Отсидела в ментовке. Сыта по горло.
– Никакого наркотика. Чистый товар. Надо привезти из Выборга. Два часа туда, там полчаса и два обратно. На юг заработаешь. Сам не могу. Сменщик заболел.
Знаю я эту «болезнь» – запой.
Так разрешился мой финансовый вопрос. Руки только оттянула. Тяжелый этот «чистый товар».
А вот, скажите, что вы подумали. Какой такой товар я везла с таможни. Ни за что не догадаетесь. Везла я «металл». Заклепки, молнии, пряжки и прочую фурнитуру для джинсы. Немного и «тряпок» – марки. По их лейблы.
Начали разворачиваться так называемые цеховики.
Денег хватило и на отвальную. За два дня до отъезда на Юг я устроила мини-банкет все там же, в «Сайгоне». Подвалили мои студенческие друзья товарищи. Были ребята и из театрального. Кто же откажется от халявной выпивки.
Собрались в самый тот час – в восемь. Вечера, естественно. Андрюша подменился и со своей девушкой гулял с нами. Спросишь, как так, у него девушка, а вы с ним трахались в подсобке. Различать надо дело от чувства.
В десять вечера ко мне подошел мужик. В летах. Почти старый.
– Из всей массы пьющих тут и сейчас вы выделяетесь, – взял мою ладошку и целует. Никто раньше мне руки не целовал, – позвольте угостить вас? Не тут. Шумно здесь. Я же желаю прочесть вам свои последние стихи. Уверен, вы их поймете.
Все это он говорит без остановки. И все это время не выпускает моей руки.
– Я одинок, как никогда. Простите, ради бога, не представился. Глеб.
Черт меня дернул и я согласилась.
– Вы идите и ждите меня на улице, – он послушался и ушел.
Нырк за перегородку через кухню и подсобку я выскочила на улицу Марата. Тут и он стоит. Сообразительный старичок. Старичку тому от силы сорок лет.
Долго мы поднимались по темной и вонючей лестнице на третий этаж. Ни одной лампочки. Он держит меня за руку, и чувствую легкую дрожь.
– Тут, в коридоре, тоже темно. Так что держитесь за меня.
Куда привел меня этот чудаковатый поэт? Какой-то притон.
Из-за дверей мне слышна ругань. Женские и мужские голоса перемежаются с детским криком: «Не надо, не надо, папа».
– У меня тут комната. Уже пришли.
Ну и комната! Кишка какая-то. С одним окном. Полумрак. Сквозь легкую тюлевую занавеску пробивается свет улицы. Красные всполохи рекламы чередуются с синим огнем вывески какого-то магазина.
Пригляделась. Даже красиво у него, у Глеба.
Старинное кресло в углу укрыто клетчатым пледом. Рядом – торшер. Такого я не видела. То ли корень, то ли ствол небольшого дерева и на нем лоскутный абажур.
На стене – картины без рам. Все голые тетки. Тоже красиво.
Пили мы с Глебом портвейн. Заедали мочеными яблоками: мне одна бабка из Подольска прислала.
Какая такая бабка? Стихи мне не понравились и я так и ляпнула: «Не по мне это. Мне бы, что попроще».
– Тяжела ты, любовная память! Мне в дыму твоем петь и гореть, а другим – это только пламя, чтобы остывшую душу греть.
– Вы любите Ахматову. Что ж. Это так естественно, – проговорил он и сник.
Таковы поэты. Их чуть против шерстки и они уже поникли.
Что же, и мне пора уходить. Засиделась что-то. И на что рассчитывала? А ни на что. Авантюристка. И все тут.
Но что значит судьба. Вовремя меня увел из «Сайгона» Глеб. Мы ушли и пришли наши доблестные милиционеры. Всех, кто кутил со мной, отвезли в первое отделение милиции и продержали до утра. Мне этого не хватало. Сыта по горло.
Так что спасибо тебе, Глебушка. Как упоительна была эта ночь…
Через день я уже ехала на юг, а точнее, в город Сочи.
* * *
Лежу на верхней полке и смотрю в окно. Вот так элементарно. И ничего меня не волнует. Впереди шестьдесят два часа в пути. Конечно, можно выпрыгнуть на ходу. Ноги, а то и голову сломаешь. Можно просто отстать от поезда на какой-нибудь вовсе незнакомой станции. И что? В чем радость?
А можно вот так просто лежать на верхней полке и смотреть в окно. Интересно же. Как поется в детской песенке: это родина моя.
– Девушка, вы спускаться не собираетесь? – положил свою бороду мне на полку и уперся своими рыжими глазищами.
– Надо?
– Конечно. Мы ждем вас.
– Кто это «мы»? Ты и твой селитерчик?
– Шутница. Слезай, пошли чай пить.
– Чай – не водка, много не выпьешь.
– Пацаны, тут наш человек, – бороду убрал, а руку протянул. За эту руку я буду держаться почти весь свой отпуск. Отпуск от дел и забот. Отпустило меня круто.
Этот с рыжими глазами оказался выпускником Академии художеств, или по-простому – института живописи, рисунка и архитектуры. На факультете станковой живописи. Ехал, это его слова, на марину.
Пили эти художники много. Ели все, что продавалось на станциях. Свежепросольные огурцы, молодую отварную картошку. Белые яблочки, как их они называли, паданки. Все ягоды, которыми торговали бабы в кульках. Завершали они трапезу, как правило, котлетами-полуфабрикатами.
Что называется, мели все подчистую. И вот что поразительно: ни у кого не случилось диареи.
Меня «переместили» в свое купе. Тоже на верхнюю полку: тут ты будешь под нашим контролем, девочка.
Что же под контролем таких молодых людей я быть согласна. Что ни попрошу, сделают. Захотела пива, бегут в вагон-ресторан. Хочу чаю – тащат целый поднос.
Проехали город Харьков. Отчего-то на фронтоне вокзала написано – Харькiв. Дура я дура. Думала, что Харьков в России. Это надо же! А ведь по географии у меня в школе была пятерка.
Поезд поехал вспять. Вот тут-то мне и досталось. Полка наверху и по ходу движения. Гарь от паровоза моментально забила волосы, налипала на лицо. Подушка стала черной.
Нет, все-таки боковая полка лучше. Можно лечь хоть так, хоть этак. Тут же лежать головой к двери, так ничего не увидишь.
Забыла сказать, как зовут этого, с рыжими глазами. Федор он. К городу со странным названием Туапсе мы с ним уже почти породнились. Он мне рассказал всю свою жизнь. Я – по мере возможности. Не стану же я говорить ему, что я почти сутки отсидела в КПЗ.
– Мой папа – заслуженный художник РСФСР. От него у меня все неприятности. Я пишу не хуже прочих, но на выставку студенческих работ мои работы не берут. Так и говорят: возьмем, будут судачить, что взяли по блату. Я уеду куда подальше. В Сибирь, на Дальний Восток. Лишь бы подальше от родителя, – я уши развесила и тут он без всяких предисловий: – Поедешь со мной?
– Слушай, Федя, ты меня знаешь двенадцать часов и вот так с бухты-барахты: поедешь со мной? В качестве кого, спрашивается.
– Хочешь, в качестве жены.
– Я так не могу. Давай отдохнем, а там решим.
Поезд втянулся в тоннель и при свете одной слабенькой лампы мы поцеловались. Отдых продолжался.
Вы думаете, что я после поцелуя сразу так и раскисаю. Фигушки. Я калач тертый. Меня одним поцелуем не возьмешь.
Мне не пришлось в Гаграх снимать койку. У ребят палатки. Один день мы на одном месте, через день на другом. Федор оказался фанатиком моря. Солнце еще не вышло из-за гор, а он уже плывет к горизонту. Мы завтракаем, а он уже залез на какой-нибудь камень, расставил этюдник и пишет все то же море. И хорошо получается.
– Скоро у тебя краски кончатся. Что потом делать будешь?
– Буду рисовать пастелью, а она кончится – углем или карандашом. Так и отпуск пройдет. Я своего добьюсь. Мои марины пойдут на осенний вернисаж.
– А как Сибирь?
– Ехидна. Потом в Сибирь подамся.
Я этого Федора уже раскусила. Импульсивный молодой человек. Раз чуть ли не до смертоубийства нас подвел. Ребята и тут умудрились – подхалтурили и заработали денег, которых хватило на поход в знаменитый на побережье ресторан в горах. Гагрипш.
Там и устроил настоящий дебош наш маринист. Армяне оказались людьми горячими. Схватились за ножи. Обошлось.
После этого случая я за ручку с Федором ходить перестала. От греха подальше. Мне домой вернуться хочется и желательно не калекой.
После этого наши с Федором отношения переросли в военный нейтралитет. Не напьется до поросячьего визга, буду нежна и ласкова в меру. Нет, так не жди пощады. Все равно наутро ничего не вспомнит. Откуда синяки? Ударился, и весь разговор. Хорошо тогда я «набила» руку.
Мой отпуск подходит к концу. Не забыли, мне надо на просмотр в театральный.
Погода испортилась. Шторм да шторм. Рыбаки выбросили в море кучу ставриды, и теперь она тухлая плещется в прибое. Мерзость-то какая.
Даже загорать тошно. Пошла к эвакуатору в санаторий профсоюза работников пищевой и перерабатывающей промышленности. Он мне говорит: – У меня лимит, а вас я в нашем профсоюзе не видал.
Чудак. Всучила пять рублей, и билет в плацкартном вагоне мне обеспечен. Скорее, скорее отсюда. Надоел мне этот юг. С его пляжами, забитыми толстыми тетками и их визгливыми детьми. С пьяными рожами передовиков производства. С проголкими чебуреками и кислым сильно разбавленным вином.
Домой, домой. К черту Федора и его «передвижников». К черту все.
Отдохнуть бы от этого «отдыха».
Перестук колес и гомон пассажиров сморили меня уже на подъезде к Лоо. И проспала я почти сутки.
Отдохнула…
Но как упоительны были те южные ночи.
* * *
– Прочтите нам, милочка, что-нибудь из Чехова, – волосы его седы и длинны, на кончиках они желтые, сквозь них мне хорошо видна кожа на черепе. С родинками.
– Я для показа Антона Павловича не учила, – у меня настроение такое. Гори все огнем. Дома у меня полный раздрай.
Пока я купалась в водах Черного моря, поедала шашлыки, мидии, не меряно овощей и фруктов, а в промежутках занималась любовью с Федором, мои родители разругались в пух и прах.
Надо помнить, что мама старше папы. Наверное, потому она считает, что может постоянно поучать мужа. Папа так не считает. Вот и ссоры.
Лаялись они и раньше. Но тут…
Это мне соседка рассказала. Папа «завел» себе у себя же в клинике любовницу. На десять лет моложе. Что же. Это вполне естественно. Ему под пятьдесят, ей не хватает двадцати четырех месяцев до тридцати. Она не только молода. Она и красива. Мама у нас не уродина. Но та, звать ее Александрой, прямо-таки с обложки журнала «Советское кино». Или даже с польского Film.
И все бы хорошо, но папа наш человек импульсивный. Зря, что ли, его прадед пошел этапом в Сибирь за убийство своей жены. Так вот, папа не смог жить двойной жизнью и открылся маме: – Я, говорит он тоном Гамлета в пятом акте, – полюбил.
Мама ему в ответ: – Люби себе на здоровье. Не смылится, небось. Одно прошу, заразы в дом не принеси. У нас все же дочь.
Папу такой ответ не устроил. Как так. Вспыхнул он: – Я же другую полюбил, а ты…
Тут он зашелся.
Это мужская особенность. Ему дают зеленый свет, так он не доволен.
Не знаем, что там у них дальше произошло, но маму отвезли на «скорой» в больницу. Зашивать рану на груди. Соседка подоспела вовремя. Услышала крики и прибежала. Мама успела сама открыть ей дверь.
А этот заслуженный артист РСФСР просит прочесть что-нибудь из Чехова.
Пахнет гарью. Четыре недели Торф сухой по болотам горит. Даже птицы сегодня не пели, И осина уже не дрожит…Прочла на одном дыхании это стихотворение Ахматовой и закрыла глаза. Будь что будет.
– К Всеволоду Евгеньевичу ее надо определять, – говорит этот седой и все как-то радостно ему вторят: «К нему, к нем у».
Так я стала студенткой театрального института в группе известного и именитого актера театра и кино.
Вышла на Моховую. Жара. Духота. В горле першит. Пить хочется до смерти. Иду и ничего не вижу.
– Глаза открой, так и под машину не долго попасть, – стоит, преграждая путь, женщина.
Я ей:
– Пить очень хочу.
– Открой глаза.
Стою я у бочки с квасом, а женщина эта им торгует. На другом берегу Фонтанки – здание цирка. По набережной едут машины, а народу – никого. Сюрреализм какой-то. Я слышу один голос женщины.
– Пей. Чего ждешь? Квас холодный. Только привезли.
– А я на артистку буду учиться, – нелепица.
– Вижу я, какая ты артистка. Наркоманка, небось. Ишь как тебя завернуло.
– Убийца я.
– С вас станется. Вы за свою наркоту кого хочешь, прибьете.
– Вот и тебя сейчас задушу.
– Шутница ты, девка. Налить еще?
После второй пол-литровой кружки обжигающего своей холодностью и остротой квасу мои очи открылись окончательно. Звуки города вторглись в мой мозг, и в этот же миг меня посетило чувство. Мне нужно самореализоваться. Как может будущая прима театра драмы реализоваться? Исключительно на ниве секса. Это вбито в меня всем предшествующим.
Ну, не тут же, у квасной бочки, я найду объект самореализации. На том берегу цирк. Жизнь, это и есть самый настоящий цирк. От него ходу до общежития «Мухи» – три минуты. Рвану. Чем черт не шутит. Может быть, кто-нибудь из моих товарищей там окажется.
Это верняк. Будет и закусон, будет и выпивон.
Валера и Миша сидели в душной комнате, курили одну папиросу на двоих и рассматривали американский Play boy. Замусоленный до дыр. Казалось, от него исходит запах спермы всех, онанировавших при просмотре женских гениталий, мужиков.
– Тамара, – хрипит Валера, пересушив голосовые связки турецким табаком, – плата за вход один «Агдам», для дам, а для мужиков – литр с хвостиком.
– Подождешь и сам мне нальешь. Я актриса. И буду впитывать мастерство лицедейства не у кого-нибудь, а у самого, – я назвала фамилию моего будущего педагога и получила взрыв эмоций.
– Миша, встань на колени перед будущей Ермоловой. Замри и внемли речам ее.
– Вы бездельники, лоботрясы. К вам девушка пришла. И нет, чтобы усадить ее, накормить и напоить. Вы языком треплете.
Через полчаса мальчики уже разливали в граненые стаканы вино «Алабашлы». Сыр Сулугуни и белый подовый хлеб живописно лежали на листе газеты «Труд». Пили мы и чай. Такой крепости, что у меня сердце забилось в лихорадке.
Но, Тамара! Где же самореализация?! Миша и Валера после литра, на каждого, вина крепленого были способны лишь на диспут на тему «Особенности живописи по сырой штукатурке».
Они спорят. Я рассматриваю отлично изданный альбом «Женщины в живописи».
Так прошло почти два часа. Нет. Ничего тут, у этих художников я не высижу. Пошла я отсюда.
Давно я дома не была. Трясусь в старом трамвае. Дождь пошел. Смешные люди бегут по мостовым. Какие-то облезлые, мокрые. Вот одна дамочка споткнулась – и хлоп в лужу. Прохожие даже остановили свой бег. Им смешно. Это город.
Трамвай дребезжит и громыхает. На нем, наверное, в блокаду покойников возили. Переехали мост. Начал трамвай поворачивать направо, налево рельсов ведь нет, и тут как ударит. Моя голова чуть ли с шеи не сорвалась. Бабы заверещали, мужики заматерились. Мне весело. Голову я «поставила» на место. Могу оглядеться. Нам в зад врезался автобус номер двадцать пять. Этак, наискосок. Снес задние стекла и так застрял.
– Уснула, что ли! – кричит наш вагоновожатый, а у самого рожа в крови. Открыл двери, и мы смогли покинуть потерпевший крушение наш «лайнер».
А там дождь. Кому хочется мокнуть. Так что все пассажиры остались в вагоне.
Вот вы думаете, мелит всякую чепуху. А из такой чепухи и рождаются события. Вы перечитайте того же Федора Достоевского. Чепуховина. Старуха процентщица и бедный студент. Обывательщина. А каково? Или те же братья Карамазовы. Ну, втюрились в одну бабу. А сколько энергии.
Я-то не позабыла и то, что дала подписку о сотрудничестве с милицией, и то, что папаша мой – доктор, человек самой гуманной профессии, порезал жену кухонным ножом.
Дождь ушел в сторону Урала. Думаете, чего несет девица. Где Ленинград и где Урал. Но я говорю точно. Не на Варшаву или Берлин пошли дождевые облака. А именно в сторону Уральских гор. Так что и тут права.
Иду по правой стороне проспекта Красных Зорь. Опять мне упрек? Кировский, Каменноостровский. Это вам ближе, знакомо? Ну и пускай. Мне нравится это название. Революционные матросы или рабочие Путиловского завода были немного поэтами. Проспект протянулся с востока на запад. Вот вам и Красные Зори.
Вот и иду. Вино из знойного Узбекистана выветрилось. Соленый сыр перебурчал в животе и замолк. Вот так вечно со мной. Так кушать захочется, что голова начинает болеть. Папа говорит, что у меня анемия. Ты на себя посмотри. Кожа да кости. В твоей крови не осталось ни одного эритроцита, и гемоглобин просто исчез из нее.
Ноги мои сами собой начинают почти бежать. Там за углом – пышечная. Там чудище автомат выпекает эти масленные булочки в виде тора. Там пахнет перегоревшим маслом и чем-то сладким. Там я набью свой желудок, и мне станет хорошо. А станет хорошо, вспомню, что я студентка театрального института.
Пять горячих, обсыпанных сахарной пудрой пышек, стакан кофе с молоком. В пышечной, как в парилке. Народу набилось. Все промокшие от дождя. Испаряют. Дышат. У кого-то работает портативный радиоприемник. У меня чуть кусок пышки не застрял в горле. Какая радость на весь мир. В Греции каких-то полковников приговорили к смерти.
Прочь из этой парилки. На сытый желудок и идти легче. Не буду я ждать ни автобуса, ни трамвая. Дойду пешком.
Я вхожу во двор нашего дома, а папу выводят, именно так, выводят двое милиционеров, из нашего парадного.
«Папа!» – хочу крикнуть я, но комок застревает в глотке, и я молчу. Так, молча, я наблюдаю эту сцену.
Вот закрывается дверь и за ней скрывается непокрытая голова моего папы. Долго я стою у входной двери. Уехал папа и у меня как будто что-то оборвалось внутри. Защемило, замерло.
– Доигрался, интеллигент, – это соседка.
– Я тебе сейчас глаз выдавлю, сука, – как ошпаренная, отскочила от меня, вереща: – Сама сучка, отцовская дочка. Убивца.
Вот вы скажите мне, есть такое понятие, как предопределенная жертва? Или спровоцированное преступление. Ну как мне было не ответить этой хамке! Другой разговор, каким таким образом ответить.
Знаете ли, я Смольный институт благородных девиц не заканчивала. Я дочка всего-то доктора. Так что не обессудьте. Отлетела милая соседушка от меня шага на три. Зря, что ли, я зимой ходила на курсы самообороны.
Душ принять я успела. Через закрытую дверь при шуме льющейся воды я расслышала звонок в дверь. С мокрыми волосами, с каплями воды, стекающими с моего молодого и до чертиков красивого тела каплями воды, босая, слегка прикрыв грудь и бедра махровой банной простыней, я вышла в прихожую.
– Кто там? – что было мочи, крикнула я.
– Ваш участковый, – отвечали мне из-за двери, снаружи обитой клеенкой.
Не стала говорить привычное: подождите, мол, я только оденусь. Еще чего подумает нехорошее. Чего скрывать?
– Ой, простите, – а глаза так лупит на меня. В его глазах я так совсем голенькая. Мне потешно.
– Вы на кухню проходите. Я мигом, – и швырк в комнату к себе.
Накинула на голое тело халатик, растрепала волосы и пошла на кухню.
– Чаю хотите? – так полагается. Самой-то мне пить чаю не хочется. Я бы с удовольствием пивка выпила.
– Можно и чаю. Я к вам по делу. Вы, извиняюсь, где были, когда ваш папаша вашу мамашу резал?
– А когда он резал мою мамашу?
– Так-то вы не знаете?
– Не знаю.
И хватит тут ваши штучки ко мне примерять. Знаю я ваши прихваточки. Скажу то-то и то-то делала, так вы тут же: «А откуда вы знаете, когда преступление совершилось: мол, не вы ли папаше и помогали резать мамашу?»
Не будет вам чаю.
– Говорите, чего от меня хотите, и проваливайте. Мне заниматься надо, – вру, конечно. Я пива хочу. Надо успеть, пока ларек не закрыли.
– Отец ваш с матерью часто ругались?
– Никогда. Так, папаша иногда ремнем по попе отходит маму, но чтобы ругаться, так ни-ни. Она даже попросит: «Отстегай меня, любимый муженек, а то застоялась я», – я стебаюсь, а участковый серьезен.
– Что же, это бывает. У нас в деревне мужики тоже частенько своих баб вожжами обхаживали. Я о другом. Не было у них антиго… – тут он запнулся. Я помогла: – Антагонистических противоречий.
– Вот-вот. Именно так.
– В наших советских семьях антагонистических противоречий быть не может. Мы же руководствуемся Кодексом строителя коммунизма.
Как изменился в лице лейтенант. Слова кодекс и коммунизм подействовали на него подобно нашатырю, сунутому под нос.
– Мы понимаем. Люди культурные, – и молчит. Ему поручили допросить меня, а тут такая вот ерунда получается.
– Это хорошо, когда люди друг друга понимают. Чай-то пить будете?
– Пожалуй, пойду я, – сказал, но не уходит.
– Еще чего-нибудь?
– Я спросить просто так хочу. Что вы вечером делаете?
– Когда как. Иногда телевизор смотрю. Иногда читаю. Бывает, и с друзьями встречаюсь.
– Так я пойду, – мнется на пороге. Мне даже жалко его стало. Как-то сами пришли на ум слова – you is the grain, этакий сельский дамский угодник. Не хватает еще ромашки в петличке.
– Да уж не уходи, посидим, поокаем. Чаю не хочешь, так водочки выпьем.
– Так я тогда мигом, – выпалил и выскочил на лестничную площадку. А я, как дура, осталась стоять в прихожей с мокрой головой и высыхающими каплями на попе.
Этот милиционер какой-то чудной. Ему бы не в милиции служить, а клоуном на арене. И не белым, а рыжим.
До нашего «сельмага» ходу три минуты, а этот милиционер тире клоун ходил все полчаса. Но зато притаранил две сумки жрачки и выпивона.
Батон колбасы, ломоть со слоновью ногу сыра, две банки с маринадами. И тут же пакет с зефиром в шоколаде. Умудрился даже картошки прихватить. Чего там еще было, не перечесть. Две бутылки водки и 0,75 портвейна в отдельном пакете.
Стоит, мнется в прихожей. Настоящий деревенский Дон Жуа н.
– Ты чего не проходишь-то?
– Наследить боюсь.
Это надо же. Час назад вперся в квартиру в грязных сапожищах. А сейчас ему тапочки подавай.
– Нет у меня для тебя тапочек. Топай так.
Нет же. Скинул свои чеботы. Хорошо, не воняет.
Я пью водку, жую колбасу и слушаю этого, в общем-то, неплохого парня. Он рассказывает мне о своей деревне, о маме с папой, об их корове Звездочке, о соседской девчонке, которую он целовал за баней. Прямо, как в частушке: приходи ко мне за баню. Я тебя отбарабаню.
А я пью водку и жую колбасу, в которой много крахмала и мало мяса. Я думаю о сволочизме жизни. Я поступила в театральный институт. Это для меня радость. С такого не грех напиться. Но вот папаша зачем-то начал резать мамашу. Это же полный отстой. Но и тут нелишне выпить. Куда ни кинь, везде водка.
– Вот вы, Тамара, небось, думаете, сидит какой-то деревенский и болтает невесть что. А я уже на втором курсе юрфака в университете учусь. Мы сейчас изучаем римское право. Оно, знаете ли, и есть основа юриспруденции.
– А любовью заниматься там вас не учат?
– Зачем вы так? Я же со всей душой. Вот ваш отец задержан по подозрению в убийстве, а я сижу с вами. Распиваю и разговариваю. А это, можно сказать, должностное преступление.
– Слушай ты, знаток римского права, не лепи горбатого. Какое такое преступление?! По вашему закону преступником человека может признать только суд. А может, это я мамашку и прирезала. А отца подставила. А? – я смеюсь, а у моего милиционера рот открылся и не закрывается.
За окном уже темень. За окном уже поздний вечер. За окном кто-то громко ругается и все матерком. Чего не поделили эти двое? Чем закончится их «диспут»? Может быть, тоже поножовщиной.
Это за окном. У нас же на кухне светло и пахнет мужиком. Не замечали, как пахнет мужик после нескольких часов его совместного с женщиной пребывания в замкнутом пространстве. Вот-вот. Это как раз то, что я имею в виду. Наверное, и женщина начинает испускать некие особенные ароматы. Не знаю. Сама себя не унюхаешь.
– Вот что, дорогой мент, иди-ка ты в ванную. Я пока приберу тут и постель постелю. Нечего тебе в ночь идти.
– Вы потрясающая женщина.
– Ты пробовал? Девушка я. Непорочная.
Так что, господа присяжные, ночь была упоительна.
Утро – дрянь. Это закон. Не из римского права, но закон. Как упоительны были ночи и как отвратительны дни…
Папу отпустили под подписку о невыезде. За него хлопотал сам директор клиники. Маму зашили, и стала она красивее прежнего. Она «сбросила» килограммов пять и помолодела.
Они скоро официально разошлись, но продолжали жить под одной крышей. Иногда я, возвратясь из института раньше времени, могла услышать их голоса. Такие звуки издают в одном случае. Что это? Какой-то изысканный разврат? Неистовая страсть? Или просто обыкновенный животный инстинкт. Самку тянет к самцу.
Я начала учиться в ЛГИТМиКе. Лейтенант раз в неделю устраивает для меня «вечера при свечах». Он оказался прелюбопытным человеком. Знал наизусть почти всего «Евгения Онегина». Штудировал классиков философии. И мог цитировать, и к месту, Канта и Гегеля.
Как упоительны ночи!
* * *
Я в мастерской заслуженного артиста РСФСР Всеволода Евгеньевича Истрежемского.
Лекции и семинары. Это с девяти утра и до двух дня. Потом перерыв на тридцать минут и потом уже занятия в мастерской. Наш заслуженный первое время занимался с нами истово. Потом его пригласила на съемки в кино и тут началась катавасия. Полнейший беспорядок.
Мы соберемся. Ждем. Полчаса ждем. Час ждем. Наши мальчики начинают сами упражняться. Кто во что горазд. Неплохо получалось. Мы, девчонки, не отстаем.
Но вот и мэтр прибегает:
– Быстренько разобрались по парам. Будем работать сцену ревности.
Я заметила, что он предпочитает нам задавать сцены из интимной жизни мужчин и женщин. То это объяснение в любви, то, как в этот раз, ревности.
Часто сам прерывает кого-нибудь и показывает, как надо. Большой опыт, видно, у него по этой части.
В новом семестре он просто перепоручил нас своему помощнику. С этим все было проще.
– Слушайте сюда, – это он так юморит, – бездари. Я раздам вам тексты. Выучите к завтрашнему дню.
И убегает. Ему тоже кушать хочется. То там, то сям он играет в эпизодах. Идет на подмены.
Прошел год. Что произошло со мною, не знаю. Тайна женской души. Но осточертели мне эти экзерсисы. Надоело слушать выпендреж старух об истории театра. Они больше говорили об их роли в театре. Опостылело мне заучивать чужие слова, корчить рожи в угоду какому-нибудь бездарю-драматургу.
В семье нашей тоже не все ладно. Разврат поселился в ней накрепко. Помню, прочла в одном романе о свальном грехе. Это у нас.
Не приведи господи, дойдет и до инцеста. Но судьба берегла меня.
В конце мая, когда я уже сдала все экзамены и зачеты, к нам в мастерскую зашел молодой спортивного вида мужчина:
– Мне нужны две девушки для съемок в экспедиции. – Наши парни заржали. Кому-кому, а им-то известна наша девственность.
– Остолопы. Я говорю о сценическом образе, а не девственной плеве. Тут нужно играть любовь. Вам этого не понять, дети рок-н-ролла и доморощенных битлов на костях.
Говорит он как-то напористо. Мне такие мачо нравятся. Куба, любовь моя! Но мне не до любви. У меня как раз вчера началось. Ну, то, о чем за столом не говорят.
Заткнулась в самый дальний угол и сижу, как мышка. Девочки наши затараторили: «Я сыграю, я еще лучше».
И все то титьками вперед, то попками.
А я сижу и мечтаю выскочить незаметно и в свою постельку. Завернуться с головой в одеяльце и спать, спать, спать.
– Эй, мышка-норушка, чего прячешься. Иди-ка сюда, – выглядел-таки этот резчик тростника.
Иду, ноги еле передвигаю. А как же иначе? Сами соображайте.
– Повернись к свету, – губами причмокивает, будто конфетку попробовал. – Вот это фактура, вот это вид. Тут картоном не пахнет, – чуть ли не пляшет.
Девчонки загалдели, словно куры, согнанные с насеста: «А мы? А мы?»
– А вы, девочки, набирайтесь опыта. Жизненного в основном.
Он взял меня за руку и увел из мастерской. Впереди – киноплощадка. С ее резкими выкриками помрежа: – Где массовка, мать ее в корень?!
И усталым голосом режиссера: – Опять не так свет поставили.
Но это должно быть позже.
Пока же мы с этим кубинским рубщиком тростника вышли на Моховую улицу и двинули в сторону реки Фонтанки. Именно там я пила квас и потом долго слушала разглагольствования студентов кафедры монументальной живописи и употребляла теплый портвейн по одному рублю семьдесят копеек за бутылку.
– Предлагаю сейчас же отметить твое новое лицо.
– А можно попроще? У меня лицо одно, а вот лики могут быть разными.
– Да ты философ. Кстати, я не представился. Меня зовут Виктор. Победа то есть.
– Меня зовут Тамарой и это ничего не значит.
Идем по набережной, и нас обдают грязью машины.
– Слушай, Виктор, тебе не надоело быть мишенью для этих гадов. Пошли к Инженерному замку. Там машин нет.
– Мы идем в Дом кино. Потерпи.
Терплю. В Доме кино очень хороший буфет. Я же голодна. Кроме того, по секрету, там есть туалет. А он мне ох как нужен. В моем положении.
Петр, тот же первый император России, как стоял, так и стоит на граните. Какой-то мужик у его пьедестала торгует надувными шариками. Смешно. Кому нужны сейчас эти шарики. Нет никакого праздника.
Идем себе и молчим. И тут за нашими спинами как громыхнуло. Шарики те взорвались. Мужик стоит весь в копоти. Водород есть водород.
Как мы смеялись. Как смеялись. Люди стали оборачиваться. Милиционерам не смешно. Один кричит: «Ставь оцепление. Задержать всех».
Другой крутит руки обгоревшему мужику. Третий и вовсе ополоумел, орет: «Терракт! Терракт!»
Совсем недавно пристрелили брата убитого раньше их президента Джона Кеннеди Эдварда. Ну и что? Где они и где мы.
По общему курсу истории СССР, как мне помнится, последний террористический акт у нас был совершен в марте 1881 года. Взорвали тогда императора Александра второго. Кого тут-то взрывать?
– Пошли скорее отсюда, – голос мужественного человека дрожит.
– Ты что, – я перешла на «ты», – террорист? А, может быть, ты диссидент?
– Дура, пошли быстрее. Заметут, потом объясняйся.
Не стану же я ему говорить, что я секретный сотрудник милиции. Расписочка-то лежит в сейфике у товарища Панферова.
Хвать меня за руку и ну тащить. Такое не могли не заметить милиционеры. Тут нас и взяли. Моему мачо руки завернули за спину. Меня просто обнял мальчик. Держит сильно и горячо дышит в ухо.
У меня началась истерика. Я смеюсь. Он дышит. Виктора волокут по Кленовой аллее в сторону Манежной площади.
И тут меня как бы осенило, и я закричала: «Не того взяли, товарищи. Бомбист в Летний сад убежал».
Идиоты. Отпустили Виктора и бегом туда. Мальчик тоже отступил: «Простите», и за ними.
А Виктор, как его отпустили, так и сел на асфальт. Стыд какой! Под ним лужа.
– Уйди, сука, – это надо же, я и сука.
Вот так, милые мои, закончилось мое хождение в кино. Одно жалко, не удалось в тот раз выпить и закусить в буфете Дома кино.
Через неделю я подала заявление об уходе из театрального института.
* * *
– Почему ты уже неделю не выходишь из дома? – наконец-то обратил на меня отец.
– Иван-дурак сидел на печи? И я сижу. Это в традициях русского народа.
– Ты не Иван и время другое, – не хочет доктор медицины вникнуть в суть.
– Папа, я думаю.
– Думай в институте.
– Я ушла оттуда. Не вышло из меня актрисы.
– О боже! Ты что уже сыграла весь репертуар Александрийки?
– Для того чтобы проникнуться своей бездарностью, не обязательно забить все легкие пылью кулис. Какой бы театр это ни был.
– Твое чувство юмора не даст тебе пропасть. Помощь моя нужна?
– Одолжи рублей тридцать. Пойду работать, отдам.
Отец, молча, положил на прикроватную тумбочку две двадцатипятирублевых бумажки и вышел.
Хороший финал моего освоения профессии актера. Пятьдесят рублей…
Но как упоительны были ночи в общежитии театрального института!
* * *
Не получилось у меня с актерством, как не вышло и с делом инженерным. А мне уже двадцать лет. Кушать и пить хочется, как и всем живым и смертным.
Рассчитывать на то, что родители будут кормить, обувать, одевать тебя, не приходится. Стыдно же. Кое-какие денежки у меня есть. Подработала на детских утренниках. Но и тех – кот наплакал.
Лето. Июль жаркий и солнечный. В городе полно интурья. В основном это наши северные соседи финны. У них там, в стране Суоми, «сухой закон», так они тут утоляют жажду нашей водкой.
Вышла на улицу и стою, как истукан с островов Кон-Тики. Куда пойти? Где оттянуться?
Солнце припекает. Народ потеет. Естественный процесс, но до чего неприятный. Надо что-то делать.
Решаю быстро. Еду на Невский проспект в «Сайгон». Там уж наверняка кого-нибудь встречу. Будет с кем поболтать. Так сказать, излить душу.
В метро хорошо. Народу мало. Время такое. До Невского поезд метро домчал меня за двадцать минут. Тут народу полно. Толкутся у входа в метро всякие личности. Ба! А вот и Вадик. В джинсах, рубахе навыпуск и кроссовках на босу ногу. Шик!
Отошла к Гостинке и наблюдаю. Ага. Вот к Вадику подвалили двое. По их мордам видно – в глубокой жопе они. Ломит их круто.
У меня как будто зуд начался. Вадик сейчас будет толкать им наркоту. Тут бы его и сцапать. Это из-за него я ночь провела в «обезьяннике». Успеть бы добежать до отделения милиции. У меня проснулся охотничий азарт.
Влетела в дежурную часть и нос к носу столкнулась с майором Панферовым.
– Кто за тобой гонится?
– Как хорошо, – я еле перевожу дыхание.
– Отдышись и говори.
Как могла, покороче рассказала о Вадике.
– Пусть гуляет пока. Мы с него давно глаз не спускаем. Выведет на поставщиков, тогда и прихлопнем, как муху. Он нам ни к чему.
Дошло до меня это не сразу. А как я поняла, то очень мне страшно стало.
– Так я пойду тогда.
– Не торопись. Посиди у меня в кабинете. Отдохни. Мы скоро.
Отдыхала я почти час. Один раз попыталась уйти, так милиционер за стеклянной перегородкой остановил.
Попалась пташка в клетку. Пригрелась и вздремнула.
– Вставай, девочка, – майор потный и красный сидит на стуле у окна и пьет прямо из горла бутылки водку. – Хочешь?
И отпила. Уже веселее.
– Так я пойду?
– Иди домой. Нечего пай-девочкам болтаться тут под ночь, – а сам мне в трусики лезет.
Ничего себе. Я проспала весь день. Вот и отдохнула.
– Ты что уснула? – как же был недолог мой сон. И надо же такое присниться. – Пошли мальчика на живца брать.
Мы идем по переулку, а он инструктирует меня.
– Тебе и делать ничего не надо. Просто подойди, начни разговор. Нам главное, чтобы он расслабился. Ничего не заподозрил. Скажи, мол, мне надо бы дозу. Потом, как карта ляжет.
Вадик ухмылялся и все норовил ущипнуть меня. Это у него, как тик. Никак не может избавиться.
– Это хорошо, детка, что и ты вошла в братство эпигонов веселья и радости.
– Вот ты какие слова знаешь.
– Детка, я три курса философского прошел в университете. Так, пошли?
Я и пошла. Не оборачиваюсь и стараюсь вести себя ровно. Как майор велел. Вышли на Садовую улицу. Тут Вадик говорит: «А ты случаем не уточка подсадная? Не похожа ты на наркоманку».
– Тебе руки показать? – блефовать так блефовать.
– Еще чего надумала.
Идем дальше.
– Тут жди, – а сам шмыг в подворотню. Жду. Топчусь. Вот и Вадик. Вышел, оглянулся по сторонам и кивает кому-то. Выходит мужик толстый.
Тут их и «повязали». Увезли на Захарьевскую. Этакая он птица. А мы с майором вернулись в отделение. Долго мы пировали и веселились.
– Предлагаю тебе, Тамара, перейти к нам в штат.
Я со стоном, а как же иначе, согласилась.
Как упоительна была та ночь.
Две недели проходила проверку. Писала какие-то бумаги, подписывала расписки, заполняла бланки. Меня обследовали врачи. Фотографировали в фас и профиль. До изнеможения заставляли отжиматься и бегать под дождем.
Одно мне понравилось – стрельба из пистолета.
– У тебя неплохие задатки стрелка, – подытожил инструктор.
Приказом по главку меня зачисли в штат и присвоили звание младшего лейтенанта. Это событие мы с майором отметили в шашлычной на Садовой, что у Никольского собора. Водка «Старка» и по три шашлыка с салатом. На «десерт» – бутылка сухого грузинского вина и мороженое.
– Никуда я тебя в таком виде не отпущу. Не хватало попасть в милицию, – нам смешно.
Как упоительна была эта ночь.
Форму младшего лейтенанта я подгоняла под фигуру сама. Родителей дома не было, и смогла, не торопясь, провести эту операцию.
Загодя облачилась в форму. Накрыла на стол и села у окна. Так, что сразу меня и не разглядишь. Жду, кто первый из родителей придет. Первой домой вернулась мама.
– Дома, кто есть? – с порога крикнула она и прошла в спальную.
Слышу, зашумел душ. Я сижу, жду. Вот и папа пришел. Он сразу на кухню.
– Ты чего в темноте сидишь. Плохо чувствуешь? – он принес два пакета и стал тут же раскладывать продукты по местам. Это в холодильник, это в шкафчик. На меня не смотрит.
– Боже, что это? Ты опять в актрисы подалась? Знаешь, а форма тебе к лицу.
Развернулся и двинул в спальную. Я зажгла свет, налила себе полную рюмку водки и выпила. Не закусывая. И это мои родители. Их дочь, кровь от крови в двадцать лет, круто изменив жизнь, стала офицером милиции, а они хоть бы что. Напьюсь, и буду петь песни.
– Что мне сказал твой отец, – мама уже облачилась в китайского шелка пеньюар и накрутила бигуди, – в какую историю ты на этот раз влила. Что за вид! Немедленно сними эту униформу.
– Вы, гражданка, не шумите. Я и задержать вас могу за нарушение общественного порядка.
– Как ты говоришь с матерью? – бедный папа, ты так и не сумел занять достойное место в семейной иерархии. Хотя какая тут семья? Они официально разведены. Тогда что?
– Смею, – продолжать эпатаж так продолжать, – я со вчерашнего дня оперуполномоченный. Успокойтесь и послушайте.
Сели, приготовились слушать.
– Вот вы кто? Вы, граждане, преступники. Вы уже не в браке, а продолжаете жить вместе. Нарушаете закон, – я не знаю, какой они нарушают закон, но продолжаю треп: – За это вас надо бы осудить годков этак на пять. Но теперь у вас есть я. Отмажу.
– Что, отец, теперь в нашей семье свой милиционер. Моя милиция меня бережет, в прямом смысле этих слов. А как же твоя мечта стать второй Ермоловой?
– Мама, мечта она и есть мечта, чтобы существовать в умах. Жизнь сурова и реальна.
– Ты слышишь, Ваня. Наша дочь, совсем ребенок, а рассуждает, как рано состарившаяся старая дева.
Я силой сдержалась, чтобы не расхохотаться. Я и старая дева.
– Хватит лечить мне мозги. Поздно. Давайте по-людски отметим мое новое назначение. Зря, что ли, я потратилась.
Утро пятнадцатого августа 1973 года пришло ко мне с головной болью, горечью во рту и ломотой в ногах. Глянула на часы. Всего-то половина шестого. На службу мне послезавтра. В квартире – «мертвая» тишина. Вспомнила анекдот: «А, как дышал…»
Как была, нагишом выскочила из постели, быстро проскочила в ванну. Как хорошо стоять под душем! Сознание вернулось ко мне. А с ним и потребность в действии. Это мой характер.
Махровое полотенце скрыло от глаз людских мое необыкновенной красоты тело. Я выхожу из ванной.
В проеме двери на кухню стоит мой отец. Он что не слышал шума воды? Он гол. Стоит, опершись локтем о ручку и что-то говорит. Кому? А кому же еще, кроме мамы.
На цыпочках начинаю подвигаться к своей комнате. Различаю отдельные слова: «Аборт… Возраст… Дочь…»
Мне остается сделать два шага до двери в мою комнату и тут Иван Алексеевич оборачивается.
– Ты подслушивала? – его причинное место прикрыто каким-то лоскутом. Что-то новое в наряде папы. Но вот, что поразительно. Он не выказывает ни малейшего смущения.
– Доброе утро, папа, – чего еще я могу сказать в такой ситуации. Я пытаюсь изобразить на своем лице таинственную улыбку. Что-то вроде – the sardonic grin.
Сколько сардонизма было в ней, не знаю, но отец шмыгнул по коридору в сторону их комнаты, на ходу бросая: «Завели в собственном доме милиционера на свою голову».
– Тамара! Это ты?
Ну, что тут скажешь. Кто же может быть.
– Нет, мамочка, это не я.
– Хватит подшучивать над матерью. Иди сюда, мне с тобой поговорить надо.
– Не желаешь ли ты, чтобы я, как и папа, нагишом шла.
– Довольно, – голос матери срывается на фальцет, – я серьезно хочу поговорить. Ты же взрослая девочка.
Опять мне тычут моей девственностью. Мамаша же продолжает: «Твой папаша на старости лет сошел с ума. Мало того что изнасиловал меня, так теперь требует, чтобы я рожала».
– Чего языки распустили. Родишь мне сына-наследника. – Тут я вижу, отец пьян в стельку. То-то голышом расхаживал передо мной.
– Ишь, каков папаша! – мама не отстает, – спустил раз, а ты мучайся девять месяцев. И это в моем возрасте. – Маме в этот момент тридцать восемь лет. – Умру на стуле.
Я в этом деле ни бум-бум. Что разве рожают в кресле? Неудобно же. Какая я была дура. Ровно через две недели я сяду в гинекологическое кресло и услышу: «У тебя трихомоноз, девушка».
Подонок этот Витька из батальона ППС. Потом мне другой доктор объяснил, что это может быть и условно-патогеный вариант.
Но вернусь в нашу хаверу. Вениамин Алексеевич наконец-то натянул на свою задницу тренировочные штаны, а на брюхо майку. Хорош у меня папаша.
Мама успела приготовить-таки салат из соленых огурцов, отварного мяса и лука. Это ее «фирменное» блюдо. Будем завтракать. Вениамин Алексеевич съел почти весь салат, выпил три большие стопки водки. Мама только укоризненно качала головой в бигудях.
– Итак, подведем итоги, – ну прямо, как преподаватель по гражданскому праву, – наша дочь, уважаемая супруга, отказалась от пути интеллигента. По пути познания и творчества. Она вступила в органы насилия.
– Это кого же изнасиловала? Это вы с мамой насилуете меня. То не так и это не так.
– Хватит ссориться. – Мама не любит ссор. – Пройдет время и Тамара одумается. А форма ей к лицу.
– Вы, женщины, непоследовательны. Я ухожу, чтобы вернуться, – позер наш папа.
Вы бы посмотрели на него сзади. Тощая попа, на которой висят протертые трико, узкие плечи и покатая спина. Но он пользуется громадным успехом у своих сестричек. Знает, шельма, чем взять.
– Вот, дочка, яркий пример конформизма. Не бери примера, – мама встала и тоже ушла.
Через три минуты из их комнаты раздались их голоса. Отец с надрывом убеждал маму. Она тихо отвечала ему. Решают, что делать с плодом в животе мамы.
Ушла я из дома. Надела форму и пошла. Иду, каждый шаг «печатаю». Ну, чем я не модель! Сама собой любуюсь. Прошла квартал. Краем глаза замечаю, что мужики головы сворачивают, озираясь на меня. Что, не видели такого?
Повернула за угол и нос к носу столкнулась с Мишкой с нашего курса.
– Тома? – глаза выпучил и встал, как баран у новых ворот.
– Я. Чего глаза вылупил? Вывалятся.
– Какая ты! – у пацана заклинило. – Какая ты!
– Какая такая?
– Красивая, – расклинило.
– Я всегда красивая, – люди оборачиваются. – Проходите, проходите, граждане, – голосом начальника командую я и самой приятно.
Нет, что бы вы ни говорили, а форма действует на людей. Что на сцене или киноплощадке? Все понарошку. Тут самое настоящее. Могу и власть применить, и в отделение отвезти.
– Тамара, пойдем куда-нибудь посидим. Я угощаю.
– Украл?
– Зачем обижаешь? Деньги честные. В бильярд выиграл.
Да, Мишка бильярдист хороший. Ему в соревнованиях участвовать. Так нет. Болтается по бильярдным и играет на деньги. Не ворует хотя бы.
– Я в форме. Мне по кабакам шастать нельзя.
– Тома! – возопил Мишаня. – Тома! Мы пойдем с тобой такое место, где фраеров нет.
Секунды три я колебалась. За восемь бед один ответ.
– Пошли, пацан.
Он шел поодаль от меня. Как бы в эскорте. То и дело, бросая взгляды по сторонам: «Видите, какую кралю я отхватил».
И привел. Над входом вывеска – «Дружба». Слева от него – Кафе четвертого разряда. И еще – Главное управление общественного питания ЛГИ.
И не ресторан, и не шалман. Что же рискну.
Мишаня галантно пропустил меня вперед. Большой светлый зал открылся мне. И никого. Одна деваха торчит за стойкой. Накрутила на голову черте что, вымазала на морду три кило штукатурки и стоит, как Екатерина Великая, у театра. Выпендрилась.
– Глафира, – кричит от порога Мишаня, – принимай дорогих гостей.
– На полтину дорогих, что ли, – как сказала, так титьки ейные заколыхались. Ничего себе молокозавод.
– Кончай базлать. Тащи вина шипучего Тамаре и мне, что покрепче.
– Щас, шнурки поглажу и побегу, – а сама зенки свои лупоглазые вылупила на меня. Так и ест.
Я тоже вперилась и глаз не отвожу, а сама Мише: «Я шипучку твою пить не буду. Мне тоже, что покрепче».
Мы с Мишаней уселись в дальнем углу, это его выбор, у окна. Мне оттуда было хорошо видно, кто шастает на улице. Надо вырабатывать навыки сыщика. Дура дурой.
– Мадам, садитесь есть, пожалуйста, кушать подано, – Мишка-то, Мишка, вишь, как выдрючивается. Он, что думает, что накормит меня мороженым и я бегом с ним в койку.
Ошиблась я. Как ошиблась! Притаранил мой Мишаня на подносе котлетки свиные отбивные. И откуда в этом Кафе четвертого разряда такой деликатес. Уместилась на подносе и ваза с овощами. Красиво.
– Миша, откуда это?
– Ты всю дорогу меня за лоха держишь. А Мишаня в своей области большой человек. Вот ты ментом стала. Да? – будто не видит на мне милицейскую форму. – Ну и что? Можешь ты, к примеру, достать джинсу с лейбом? Нет. Я могу. Так то. За то меня все девки уважают. Ты тоже дружи со мной. Не всю же дорогу в форме ходить.
Приехали. С одной стороны меня прессуют наркоманы, с другой – фарцло. Что же, надо крутиться. Как в поговорке: хочешь жить, умей вертеться.
Как мы ели-пили, рассказывать уши завянут у вас. А покрутились мы с Мишаней на всю катушку. Он пацан ничего себе. Вы не смотрите, что говорит коряво, что взять с недоучки, но мысли у него очень даже интересные. Например, если вам интересно, как он говорит о нашем Генеральном секретаре.
– Он, кончено, из ума почти выжил, но людишки рядом с ним толковые. Сами живут и другим не мешают.
Я поняла, чем живет «простой советский народ».
– Что с твоей формой? – мамаше моей неважно, как дочь чувствует себя, ей важно, что с формой.
Что с ней может быть? Помялась немного. Больно уж нетерпелив был Мишаня. А отутюжить негде, да некогда было.
– На операции была. Вооруженных бандитов брали, – это потом я узнаю, что бандит он всегда вооружен. Потому и бандитом зовут его.
– Отец, слышишь! – орет мать, как будто он на улице, а он рядом в домашних трусах стоит. Привычка.
– Дай человеку отдохнуть, – развернулся и походкой Шаляпина, откуда я знаю, как ходил певец, это так для фору, ушел в спальню.
* * *
– Младший лейтенант Инина, это ваше рабочее место. Осваивайте. – Майор толст неимоверно. У него нет шеи. Голова торчит прямо из покатых плеч. Живот навис над ногами. Как же он шнурки завязывает. Рожа красная и лоснится. Разит от него одеколоном «Шипр», чесноком и сивухой. Я на секунду представила, как он стаскивает сапоги и снимает носки. Меня чуть не вырвало.
– Товарищ майор, – он аж глаза прикрыл, малолетка и вякает, – товарищ майор, а мне письменные принадлежности полагаются?
– Не моя компетенция. Обратись к пом-по-хозу.
– Чего, чего? Чем и по какому такому хозу?
– Не шути. Помощнику начальника по хозяйственным вопросам.
Еле сдержалась. Смех распирает. По приказу я младший инспектор. Мое дело вести делопроизводство. Они будут эти дела стряпать, а я их учитывать. Чтоб я сдохла. Ну и что, что платят неплохо. Но мне-то нужно другое. Я же от природы актриса. Мне подиум нужен.
Сижу и в потолок плюю. Скукотища неимоверная. Тик-так. Это не часы. Это у меня в мозгах. Прямо-таки китайская пытка водой. Ну, их всех на pencil. Не для того я в форму вырядилась, чтобы форменные штаны просиживать. Юбка у меня. Это я так, к слову. Встала, ножки размяла и пошла к двери. Идти шагов пять. Сделала шаг, а в дверь Амбал выперся.
– Младший лейтенант Инина? – рот раскрыл, а глаза выпучил.
– Так точно, не знаю вашего звания, товарищ.
– Капитан я. Примите дело в архив, – и сует мне пять папок.
– Стоп машина. Присядьте. Приму по всей форме.
– Что за ересь. Держи и я побёг.
– Не побёг, а побегу. Вы же офицер милиции. Так сказать, представитель власти.
– Слушай, пигалица, ты мозги не компостируй. Принимай, у меня на земле происшествие. Трупешник киснет.
– Не прокиснет. Садитесь, капитан. Тут я командир. А если я какую-нибудь бумажку стырю. Что будет?
– Ну, ты и занудень, – но сел. Я медленно стала развязывать тесемки первой папки.
– Ты побыстрее можешь?
– Спешить надо, сам знаешь где. Тут дело серьезное. Или нет?
– Слушай, ты тут своим делом занимайся, я смотаюсь на место, опрошу свидетелей и мигом обратно.
– Значит, доверяешь?
– А то?
– Опять ты. Я же говорю, ты представитель власти. Следи за языком.
– Пошла ты, – и почти бегом из моего кабинета. Смешно сказать. Кабинета. Клетушка. Окно так засрано, что света божьего не видать. Утек, опер. Не вернется. А я что буду в его дерьме копаться? Pencil вам на рыло.
Пересчитала листы. Сложила аккуратной стопкой и ну пилить их ручной дрелью. Запыхалась так, как и с другим мужиком не утомлялась.
Кушать захотелось до спазмов в животе. А где тут обедают? Что за чудо. Дверь отворилась и на пороге толстый майор.
– Вижу, справляешься. Молодец. Идем, покажу, где у нас обедают.
Ну не джентльмен ли?
– А дело?
– Чего дело?
– В сейф его надо положить.
Вышли из отделения. Хорошо на улице. Август теплый. Небо синее, синее. Беленькие облачка как будто замерли. Солнце не видать, но его отсвет окрашивает облачка в розовей цвет. Картинка.
– Вы, товарищ майор, куда меня ведете?
– У нас тут одно место. Столовая на углу. На рубль можно хорошо покушать. Ты пиво пьешь?
– И пиво пью.
– Вона как, – опять скопской язык. И где их русскому языку учили?
В столовой полно народу и нам пришлось подождать, пока освободятся места. Одно у входа, другое в углу рядом с окном для грязной посуды. Туда и посадил меня майор.
– Сиди, я принесу, – и то хорошо.
Солянка сборная, фрикадельки по-молдавски и какао с булочкой. Мое пузо приняло все это и вздулось. Пришлось расстегнуть одну пуговку на юбке.
– Сыта?
– Не то слово. Обожралась. Сколько с меня?
– Рубль тридцать. Можешь сейчас не отдавать. Деньги получишь, отдашь, – добрый и толстый. Закон!
К четырем вечера пришел тот самый капитан.
– Еще корпишь? – веселье у него прет из всех дырок. Так и пышет.
– Как свидетели? Как труп? Не прокис?
– Юморная ты. Кончай тут валандаться. Приглашаю поужинать.
– В столовку на углу Скороходова?
– Майор успел? Ну, фрукт. Он, наверное, весь женский состав переводил туда. Все надеется так найти себе жену. Небось, и денег не взял?
– Не взял. Ты тоже жену ищешь?
– Хватила. Одного раза мне хватит. Это что: «Опять носки разбросал, и я сегодня устала». Нет уж. Спасибо.
Мы уже идем по тротуару и, что ни шаг, сталкиваемся плечами и бедрами.
– Была бы ты не в форме, взял бы под руку.
– Далеко еще?
– Пришли.
Я смотрю, никаких «злачных» заведений рядом нет.
– Куда?
– Тут я живу.
– Скор ты, капитан. Что чайку приглашаешь попить?
– Хочешь чаю, хочешь кофию. У меня все есть. Не бедствуем.
– Ты мне скажи, из каких будешь?
– Не знаю, – погрустнел капитан, – я детдомовский. Из детдома прямиком в армию. Служил на границе. На Севере.
– Я согласна пить чай. Веди меня к себе, – мне ужасно интересно посмотреть, как живет сирота.
– Леха! Друг! – рожа пьяная тут же нам навстречу из ближней к входу двери.
Леха ловко так схватил этого «друга» ладонью за лицо, момент – и тот летит к себе в комнату.
– Убьется же.
– Его не убьешь. Пьяницы живучи. Иди вперед. Моя дверь последняя.
Коридор длиннющий. Двери все с одной стороны. По другую – чего только не навешано. Тазы, детские ванночки и даже велосипед. Того и гляди сорвется на голову. Иду с опаской. А вдруг на меня свалится. Другое напугало меня. Как чертик из табакерки, выскочил из уборной другой сосед Алексея.
– Миль пардон, мадемуазель, – сам тренировочные штаны натягивает.
Мне смешно. Я вспомнила анекдот. Заслали самого опытного нашего разведчика в Лондон. Так его сразу и словили. Что да как. Долго выясняли. Оказалось, все просто. Наш мужик, как приехал в столицу Great Brittan, так с ходу в их туалет. На выходе его и арестовали. Выходя, он застегивал ширинку.
– Чего не заходишь?
– Ты, что дверь не закрываешь?
– А кто сунется? Тут меня боятся. Чуть что в кутузку на пятнадцать суток. У меня не заржавеет.
Как у него не «ржавеет», я смогла убедиться очень скоро.
– А соседи не услышат? – спросила я Леху.
– Пошли они к маме Бениной. Ори, сколько хочешь. Меня это подстегивает.
Куда уж больше подстегивать. Но всему приходит конец.
Я осваиваю профессию. Младший инспектор он и есть младший. Какой с него спрос? Ошибаешься. Большой с меня спрос. Кто ни придет с делами, так и норовит пригласить меня попить чайку.
Думаете, я привираю? Себе цену набиваю. А зачем мне это? Это в кино путь на киношный олимп лежит через постель режиссера. В худшем случае оператора. Тут все иначе.
Вот случай. Обработала я уголовное дело в семи томах. Составила опись. Скрепила печатью и пошла на подпись к начальнику.
Не заметила, как несколько листов оказались не прошитыми. Майор как встряхнет тома, будто пыль сбивает. Они возьми и вывалились.
– Товарищ младший лейтенант, вы бы тщательнее и ответственнее готовили дела для сдачи в архив. За этими делами жизни человеческие. Заниматься архивом это вам не в кровати кувыркаться почти со всем личным составом оперативных работников.
– А вы свечку держали? – мне нечего терять, кроме двух на оба плеча маленьких звездочек.
– Встать! – как заорет майор. – Смирно! Вы что себе позволяете. Объявляю вам выговор.
– Может быть, лучше чайку вместе попьем, – я стебаюсь напропалую. Чудеса в природе. Мой майор тут как-то обмяк, лицо его расплылось подобно жидкому блину.
– Вольно. Ступайте на место. В обед зайду. Решим, что с вами делать будем.
Меня так и подмывает сказать: «Чего решать? Меня полюбить надо. И все вопросы решены».
Освоение профессии продолжалось. Я набиралась опыта в архивном деле. В свободные минуты с карандашом в руке штудировала УК и УПК РСФСР. В трамвае читала «Комментарии» к ним. Если кто и хотел бы со мной кадриль станцевать, вы понимаете, что я имею в виду, то, глянув на название книги, тут же уходил за площадку вагона. Охладить жар сердца своего.
Мама успокоилась и уже не вздрагивала при виде меня в форме милиционера. Папа весь в трудах. Аспиранты требуют внимания. Мне посчастливилось, и я увидела аспирантку Свету. Годков ей лет двадцать пять. Грудаста. Я понимаю папу. Попаста. Туда же. Ноги немного кривоваты, так это же только удобнее. Сама я не знаю. Один парень говорил.
Я «застукала» их, когда они выходили из столовки на Кировском проспекте. Хорошая столовая. И папа хорош. Экономит. Я не стала им лезть под нос. Чего смущать влюбленных. Это такое дело, деликатное. По своему опыту знаю. Впрочем, я не о том.
Я о том, что жизнь моя устаканилась. В прямом и переносном смысле. Больше стакана – ни-ни. Работа – прежде всего. Майор после двух «сеансов» чайку попить ко мне благоволит.
– Через пару лет дам тебе характеристику и выйду с ходатайством о направлении тебя в Высшую школу милиции, – он давно уже говорит мне «ты».
Что за язык у этих начальников! Не «буду ходатайствовать», а «выйду с ходатайством». Выпендреж.
Мне два года плющить попу тут не с руки.
Живу, опять же и в прямом, и переносном смысле активно. Начальство к октябрьским праздникам меня отметило в приказе. Выдали премию. Двадцать пять рублей. Отвлекусь. Что можно купить на эти деньги? Предположим, что я люблю коньяки на все деньги, сдурела, куплю коньяку. 25 разделить на 4,10. Сколько бутылок получится? Правильно, шесть. Это мне при экономном расходовании на две недели. Можно посчитать и на водку. Все одно. Больше двух недель не выходит.
Я на эти двадцать пять рублей устроила родителям праздничный стол. Знайте, мол, что ваша дочь не профура какая-нибудь. Офицер милиции!
Папа, слегка опьянев, стал петь мне дифирамбы: «Славлю тебя, бог Дионис!»
Мама молча поглощала севрюгу и кету.
Наш праздничный обед закончился тем, что папу мы с мамой отволокли в спальную. Мама навострилась пойти к подруге. Женщине в сорок три года надо поддерживать форму. У нее на работе, пусть и в музее, мужчины тоже «водятся».
Я допила водку и глубоко задумалась.
Есть о чем подумать. Есть же, господа присяжные?
Семь месяцев я ношу форму. Откровенно говоря, это мне порядком надоело. Скажите, какое время остается молодой женщине побыть в гражданской одежде? Я не имею в виду ночную рубашку или пижаму. А так, что напялить платьице. Кофтюлю какаю. Юбчонку. Да повыше колежек этак сантиметров на пятнадцать. У меня в «арсенале» вполне приличные трусики.
Вот и получается, что в будние дни моя цивильная одежда – это ночная рубашка. В выходные только и переоденешься. А куда пойти во всей этой красе?
У оперов жены, дети. Им иначе нельзя. Служба такая. Они и в партии все. Они чтят и соблюдают Моральный кодекс строителя коммунизма.
Конечно, бывает, и они, как могут, отдохнут. Но тоже минуты.
Начала примерять свои наряды. Кручусь перед зеркалом. Мама моя родная! Мне бы на сцену. Хороша же! Фактурная.
Затрезвонили в дверь. Как была в юбке мини, полупрозрачной блузу, без лифчика, подчеркну, пошла открывать. Мне бы спросить, кто там. Нет! Открыла настежь.
– Товарищ Инина! Это что за наряд? – майор мой в форме цвета хаки. – Быстро переодевайтесь и марш за мной.
– Чего это?! Выходной же.
– Общегородская тревога. Я мимо еду, вот и пришел за тобой.
– Что американцы войну начали? Вот здорово, – я, конечно, шучу, а самой страшно. Только сейчас я окончательно осознала, что я военнообязанная и давала присягу.
Милицейский уазик, тарахтя и воняя, повез нас к месту службы. Гляжу в окошко. Ничего особенного. Все, как всегда. Людишки шастают. Вон пьяные рвутся в магазин без очереди. Водку «дают». Парень девицу прилюдно взасос целует. Кино французского насмотрелся. Я тоже посмотрела «Мужчину и женщину». Там мужик тетку, как бы это поприличнее сказать, делает при красном свете. Меня торкнуло.
– Будешь работать со мной, – это о чем же он? Тревога же. Вот идиотка. Кто о чем, а вшивый о бане.
– Я горжусь этим.
– Хватит, дуреха, – майор никогда не позволял таких вольностей. – Не до шуток. Даю вводную. Под городом Пушкино в одной из войсковых частей убит солдат срочной службы. У него отобрано оружие. Автомат Калашникова и два полных рожка. Соображаешь. Это же страшная сила. Есть словесный портрет, – майор напыжился так, что, кажется, вот-вот лопнет, – мужчина тридцати – тридцати пяти лет. Рост метр семьдесят тире метр семьдесят пять, – так и сказал «тире», – волосы русые, короткие. Одет в куртку из парусиновой ткани серого цвета, – он еще говорит что-то, а я думаю. Таких молодых людей в городе и пригородах сотни тысяч.
– У нас с вами какая задача?
– Верно ставишь вопрос, товарищ младший лейтенант. Мы с тобой поставлены на пост в райкоме партии. Сейчас получим оружие и на пост. Подробные инструкции от зама по оперативной работе. Соображаешь, – мой майор скорчил такую рожу, что мне стало страшно за него. Так и ласты склеить можно.
Оружейник выдал мне пистолет Макарова и обойму к нему: «Ты когда в последний раз в руках-то его держала?»
– На прошлой неделе в тире, – вру я. Я из ПМ стреляла два раза и то по три патрона на раз. Одно ощущение. Руку так выворачивает, что, кажется, еще немного и оторвет ладонь.
Наплечная перевязь больно впилась мне в плечо. Четыреста граммов металла бьют под мышку. Надо терпеть.
– Ваша задача, товарищи офицеры, – у меня чуть слезы из глаз не брызнули, – обеспечение безопасности сотрудников райкома. Будьте предельно бдительны. Преступник вооружен, нагл и пойдет на все. Мы предполагаем, что его целью являются учреждения, связанные с хранением денег. Это первое. Но не исключено, что он просто провокатор. В преддверии праздника устроить такое, – подполковник потер красный нос, шмыгнул им, как ребенок, и продолжил: – У меня есть приказ, при сопротивлении стрелять на поражение, – опять его нос подвергнут экзекуции. – Но кто же с ходу скажет, кто преступник, а кто просто человек, пришедший с обидой в райком. Майор, вы человек опытный. Сообразите.
Ни в одной из сводок по городу и области не было отмечено – в семнадцать двадцать пять на входе в Калининский райком партии в результате боестолкновения между сотрудником милиции младшим лейтенантом Ининой Т. В. и неизвестным последний был смертельно ранен и скончался до прибытия скорой помощи.
Почем я знала, что в его руке был не автомат, а тубус с чертежами. В толчее уходящих, словно с тонущего корабля сотрудников райкома, трудно точно определить. Я вскинула руку и нажала на спусковой крючок. Ей богу, я не целилась. Одного боялась, как бы не попасть в райкомовского начальника.
Смеху-то было. Они все как по команде рухнули на пол. И что характерно. Никто не орал. Партийцы же!
Потом их всех загнали обратно. Меня отвезли в отдел и мой майор напоил меня чаем, сколько в этом чае было чаю, я не знаю. Крепкий чай был. Градусов под тридцать.
Как я заснула, не помню. Разбудил меня капитан. «А где майор?» – первое, что спросила я.
– По твоей милости майор дает показания в прокуратуре.
– Стреляла же я.
– Он старший. С него и спрос первый. Тебя приказано доставить домой под домашний арест. Но сначала надо снять стресс.
Он, пожалуй, прав. Напряжение надо же снять. Дома отец и мать. Они не поймут.
– А ты наш парень. Вряд ли кто из наших смог бы так. С ходу и в яблочко.
– Я ему куда попала?
– Аорту перебила. Никаких шансов не оставила студенту. Он же пришел встретить мать. Уборщицу в райкоме. Тоже волновался.
Я, как могла, привела себя в порядок, и мы поехали ко мне домой. Тот же уазик. Водитель всю дорогу зевал и материл какого-то помтеха.
Вениамин Алексеевич даже не вышел из спальни. Мама глянула на капитана, хмыкнула и тоже удалилась: «Дожили. Квартиру в околоток превратила».
– Чаем напоишь? Мне спать никак нельзя.
– Это, что же, ты тут ночевать собирался.
– Приказ. В твоих же интересах. Начальство опасается, что ты в петлю полезешь. Не каждый день человека убиваешь.
– Тогда и я спать не буду.
И не спали. Не знаю, слышали ли родители мои стоны. Я старалась быть тихой, как мышка.
Я полностью вошла в профессию. Еще как «полно». Через три недели в женской консультации тетка сказала: «Поздравляю».
Было бы с чем. А где аборт делать?
Дела житейские. Прокурорские признали мои действия оправданными. Начальство представило мои документы на очередное звание. Дало внеочередной отпуск и премировало в размере должностного оклада.
Хватило на билет до Сочи и на проживание там. Хотя бы десять дней.
Море штормило. Отды хающие – все с Севера. Им, во-первых, надо одно. Выпить. И, во-вторых, выпить. И в третьих. Диву даюсь. Надо же лететь через всю страну, чтобы тут под шум прибоя пить все подряд.
Одно хорошо. Тихие они. Эти буровики. Ни к кому не пристают.
На третий день один хмырь из соседнего санатория в очках предложил вместе съездить в Гагры.
– Там, Тамарочка, вы почувствуете настоящие субтропики. Как там благоухаю магнолии.
Тоска жуткая. Врачиха сказала, что мне месяц нельзя: «Поберегитесь от прямого контакта».
Хотела я спросить, а в какой «контакт» мне вступать можно, но не стала. Кривой, что ли? Так это как?
Видно было, что она входила в «контакт» один раз. В первую брачную ночь. Зачем потом-то? Ребенка выносила и хватит. Я же не отмороженная.
Уехали мы с хмырем на электричке в семь часов тридцать минут утра. Вагон полупустой. Стекла тут же запотели. Как же иначе. Пьют все же. И отпускники, и местные. Вот и отпотевают стекла.
Сели мы с хмырем в уголок и он с ходу начал обхаживать меня.
– Дорога, – говорит, – долгая. Я же утром так волновался, что толком и не поел. А вы?
Что ему ответить? Что у меня еще не прошла тошнота? Что по утрам в меня ничего не лезет. Кроме кофе.
Он раскладывает прямо на сиденье жрачку. Все вкусно. Хочешь не хочешь, а есть надо. У меня живот подтянуло к хребту, а попа скукожилась, словно урюк. Кому такой «фрукт» нужен.
Проехали границу с Абхазией. Речка Псоу пересохла так, что ее можно перейти, не снимая ботинок. Русские мужики тащат через нее бидоны с брагой. На абхазском берегу перегонят ее в самогон. Там это не считается преступлением. Народный промысел. Не зря же живем мы в Союзе нерушимом.
В Гантиади электричка стоит долго. Пропускает пассажирские поезда и нефтеналивные составы.
– Тамарочка, – хмырь по имени Володя подсел ко мне и трется бедром об меня, – вы очаровательны, вы обаятельны, вы, – дальше букв не хватает.
– Слушайте, Володя, а вам не жарко? От вас уже так потом воняет, что хоть нос затыкай.
– Фу, как грубо, – но отсел. В окно вперся и молчит.
Поехали. Красота! Море спокойно. Сосны так причудливо изгибаются. На горизонте как будто застыл белый лайнер. Промелькнула надпись – «Гребешок».
– А вы знаете, почему это место так названо? – «проснулся» моих прелестей страдалец. – По преданию, тут проезжала царица Тамара. Решила искупаться. Обронила гребешок. Отсюда и название – Гребешок.
Поезд вполз, словно червяк в тоннель. Враз потемнело. Кто-то в конце вагона заверещал. Неужели успеет, подумала я, и поезд затормозил у платформы между выездом из одного тоннеля и въездом в другой.
Вспомнила я свою первую поездку на юг. Художника Федю, его руки. Где-то он сейчас? И так стало мне тоскливо, хоть вой. Зачем я поехала с этим хмырем? Он ведь определено надеется на то, что трахнет меня. А у меня в этот момент идиосинкразия на мужские гормоны. От него же прет и прет.
– Тут выйдем, – встал, поспешая, и пошел к выходу. Я за ним. Он из вагона, я его подтолкнула, а сама осталась. Двери хлоп и закрылись. Новые вагоны. Спасибо Рижским вагоностроителям.
Увидела, как Володя-хмырь ручками затрепыхал, словно птица. Рот открывает, но я не слышу.
На следующей остановке пересела на электричку в обратную сторону. Зачем обманывать человека?
В Сочи тут же на вокзале взяла билет до Ленинграда и на следующий день уехала.
Не стучите колеса, кондуктор нажми на тормоза… Еду я не с зоны, и не к мамочке родной, и вполне здоровой и сытой.
За все часы в пути я ни разу не покинула вагон. Выйду на перегоне в тамбур. Открою дверь и дышу свежим воздухом через фильтр сигареты. Гляжу. Мелькают картинки – перелески, переезды с обходчиками и их желтыми флажками, с коровами и лесополосами. Винегрет. А что вы хотите? Мозги мои разжижились без тренировки-то. Пора собирать их, как говорят в Украине, до кучи, гоп.
– Гражданка, не советую, – что за советчик и чего он волнуется.
– Вам-то что? – я о куреве. Он о другом.
– Убиться насмерть не убьетесь, а калекой станете.
– Это смотря как прыгнуть. Надо рассчитать так, чтобы головой в столб. Верняк.
– Какой опыт.
– Шутите. Если бы у меня был такой опыт, то не говорили бы с вами.
Разговорились. Тимофей Игнатович возвращается из отпуска, который провел в санатории МВД СССР. Подполковник. Заместитель начальника штаба главка.
– Я по сравнению с вами старик замшелый. Я хорошо помню похороны Сталина.
– При чем тут Сталин?
– Не знаю. Так просто сорвалось. Вы где учитесь?
– Теперь нигде. А раньше училась в ЛИТМО, потом в ЛГИТМиКе. Теперь, как и вы – милиционер. И звезд у меня столько же. Они маленькие такие, – мне становится от чего-то весело, – не то, что у вас. Вчера были большие, но по пять рублей, – это я слышала на концерте юмориста.
– Ильченко и Карцев у нас выступали. Смешно. Но многое пусто как-то. Нет глубины. Я с большим уважением отношусь к Михаилу Жванецкому.
Дует. Понесло гарью.
– Пойдемте в купе. Чаю у Вали попросим, – я еду уже сутки, а как зовут проводника, не знаю. Он знает. Ему и положено. Он в штабе служит.
Вы не замечали, как люди ходят по вагону поезда на ходу. Вот и нас с подполковником бросает от одной стенки к другой. Будто напились мы пьяными. Его купе – в середине. Мое – у туалета. Улавливаете разницу? Если сами не ездили рядом с туалетом, то нет.
– Мои попутчики, прошу, – рукой повел, – Петр Петрович, Иван Петрович, – смеется надо мной? Но нет. – Я не шучу. Они братья. Служат в цирке. Вольтижеры.
– Это что такое, – мне нечего смущаться. Я девчонка по сравнению с ними.
– Мы выступаем в цирке. Но мы не наездники. Мы акробаты.
– Так бы и говорили, – ладони у обоих сухие и сильные.
– Четвертого попутчика нет, – Тимофей Игнатович уже хлопочет у столика, – вот и «нет билетов».
– Подсадят еще, – кто это сказал, не поняла. Братья на одно лицо.
– Через пять минут Изюм. Стоянка – десять минут, – проводник Валя улыбается во весь рот. Ей можно. С такими-то зубами.
– Предлагаю произвести вылазку силами братьев, – Тимофей Игнатьевич тоже улыбается. У него половина рта в золоте. – Купите, братцы, чего-нибудь свеженького.
Мне так и подмывает попросить купить пива. Но не могу. Этот подполковник сковал мою волю. Я – кролик перед коброй. Он читает мысли: «Пивка бы хорошо раздобыть. Завтра очень даже понадобится».
В Изюме изюма братья не купили. Простите за плоский каламбур. Купили они овощей и фруктов. Много. Много. И пиво не забыли.
Мелькают за окном все те же перелески да переезды. Нам уже не до них. За Изюмом, следуя географии, последовала Балаклея. Опять каламбурчик. Чик-чик. Не подумайте, что я сошла с ума. Мне просто весело, как никогда. Тимофей Игнатьевич «травит» анекдот за анекдотом. Я до боли в животе смеялась над историей, где наш Брежнев закусил шашлыком из американского президента.
– В Харьков прибудем в двадцать три тридцать, – объявила проводница.
Кстати, Валя практически не выходила из нашего купе. Братья вольтижеры начали укладываться спать на верхние полки. Фигурами они – Колоссы Родосские, а натурой – слабаки.
– Тамара Вениаминовна, может быть, и вы желаете отдохнуть до бывшей столицы Украины?
– Прогоняете?
– Избави бог. Мое место – в вашем распоряжении.
Меня так и подмывает съязвить: «Тесно же будет нам на узкой полке».
– Я в тамбуре покурю, – опережает меня Тимофей Игнатович.
– И я с вами. Спать не хочется, а бока давить на жесткой полке не по мне.
Сильная струя уже прохладного воздуха обдувала наши с подполковником лица. Очень кстати. Не знаю, как у него, а у меня лицо горело. И от выпитого, и проснувшегося чувства. Того, что толкает нас, женщин, в объятия мужчин. Что ту поделаешь!
– А вы не чувствовали угрызений совести после того, как застрелили того малого. Он же к маме шел.
– А хоть бы к папе. Мне приказали стрелять на поражение, а меня приказы исполнять научили, – никто мне не давал такого приказа. Но как он узнал о моем «подвиге»?
– Исполнение приказа – это норма. Исполнение приказа творчески – это талант. Нам нужны творческие люди.
– Послушайте, товарищ подполковник, наша встреча случайна?
– Ничего случайного в этом мире не бывает. В данном случае наша встреча в поезде Сочи – Ленинград случайна, – у Тимофея Игнатьевича обворожительная улыбка. Ее не портит и золото во рту. – Что же касается обусловленности такой встречи, то это факт. Днем раньше, днем позже, но это произошло бы.
Замелькали огни пригородов Харькова.
– Предлагаю выйти.
– Надо бы переодеться.
– Я подожду.
Пинг-понг словесный. Что-то сковало нас. Кто скажет, что происходит в такие моменты между мужчиной и женщиной.
Привокзальная площадь Харькова в этот час малолюдна. Только в зале ожидания нет свободных мест. Стоит тяжелый застоявшийся запах человеческих, долго не знавших ни воды, ни мыла, тел. Да у буфета толкутся ночные любители пива.
– Было бы время, обязательно сводил бы вас к дому Корбюзье. Удивительно, но во время войны, когда Харьков переходил от нас к немцам и от них к нам, это здание не пострадало.
– Товарищ подполковник, вы производите на меня странное впечатление. Ваш внешний вид подобен урке. Этакому пахану с пятью ходками, а речь человека образованного.
– Вы тоже производите противоречивое впечатление. С первого взгляды ты, – вот и на «ты» перешли, – обыкновенная ночная бабочка. Я же знаю, из какой ты семьи. Мама твоя – известный в своих кругах искусствовед. Отец – так тот вовсе дока.
– Мимикрия.
– Эй, хамелеон мой прекрасный, поезд через минуту отойдет, – крепка рука подполковника.
Побежали. Поезд-то уже тронулся. Надо бы бежать в хвост, а он тянет меня в «голову». Забыл, что ли, что из Харькова он уходит в обратную сторону. Успели впрыгнуть в предпоследний теперь вагон.
– Старый дурак, – отдышавшись, говорит подполковник, а руку мою не отпускает. Я как та птичка, у которой коготок увяз.
– Может быть, пойдем в наш вагон? – я не пытаюсь сбросить его руки с моих бедер. – Там нас, наверное, уже потеряли.
Над громыхающими металлическими переходами, покачиваясь, мы пошли. Очередным вагоном был вагон-ресторан.
– Предлагаю поужинать.
– Так закрыто же.
– Айн момент, фройляйн, – Тимофей Игнатович скрылся за узкой дверью. Слышу бормотание и через минуту почти радостное: «Как прикажите, гражданин начальник».
Еще минута и из этой двери выскочил тип. Рожа красная и помятая. Бегом, бегом он накрывает на стол. Тащит закуску и выпивку.
Суетится и все время поглядывает на Тимофея Игнатьевича. Как собака на хозяина. Что-то стыдное и унизительное в этом. Не удержалась и спросила: «Чего это он так прислуживает? Прямо человек из трактира при царе Горохе».
– Послужи с мое. Я его десять лет назад упаковывал на пятнадцать строго режима. Насильник-педофил. Не думал, что вернется. Таких на зоне не жалуют. Вот, видишь, выжил и даже преуспел. Вагоном-рестораном заведует.
– Тимофей Игнатьевич, милости прошу вас и даму за стол. Все, как вы велели. Ежели что, я у себя. Мигом, – попятился. Отошел таким макаром шагов на пять и только потом повернулся.
– Вам не противно видеть такое?
– Нет, – подполковник посуровел. – Приеду в Ленинград, дам поручение ОБХСС провести проверку этого дельца, – выпил залпом рюмку водки. – Засажу.
Учись, Тамара, учись. В твоей новой жизни нет места жалости, сочувствию и прочим нежностям.
Когда мы наконец-то вернулись в наш вагон, братья вольтижеры спали крепким сном.
– А ты волновалась, что они будут волноваться. Железные парни.
Железные парни не услышали нас. Нас и те звуки, что мы невольно издавали. Дорожный роман. Под стук колес.
Орел, Брянск, Смоленск и вот уже Белорусский Витебск.
Я еду подобно особе из королевской семьи. Меня чуть ли на руках не носят. Сплю я на нижней полке в своем купе. И сплю я, велик русский язык, тоже на нижней полке, но в купе подполковника. Братья циркачи в это время курят в тамбуре. И пусть это не ночи, но все же, как они, эти часы были упоительны.
Песней Глиэра встретил нас Московский вокзал. Носильщики стоят, подобно солдатам почетного караула, встречающие все, как будто чем-то испуганы. Их глаза бегают туда-сюда, туда-сюда. Георгины и астры уже обтрепались. Значит, ждут долго.
Поезд номер двенадцать сообщением Сочи – Ленинград прибывает с опоздание на час.
– В понедельник вызову к себе, – Тимофей Игнатьевич стоит у открытой двери «Волги» с милицейскими номерами, – жди.
Машина фыркнула, в заднем окне мелькнул бритый затылок подполковника, я осталась стоять на краю тротуара с чемоданом в руке.
– Укатил, лыцарь хренов, – два Петровича стоят и улыбаются.
– Что рожи раскатали? Валите в свой цирк, – отвалили.
Почти час я ждала в очереди машины такси.
* * *
– Отец, – мама как будто бы и рада моему возвращению, – дочка приехала.
Вениамин выходит из спальни в «семейных» трусах.
– Хороша! Хороша! Вот что значит морской воздух и здоровый образ жизни.
– Папа, ты бы оделся.
– Миль пардон, сударыня.
– Если «миль пардон», то не «сударыня», а мадемуазель.
Я глядела на моих родителей, и мне отчего-то становилось их жалко. Кажется, нет и причины для такого чувства, а жалко. Мама все так же красива. Говорят, возраст женщины выдает ее шея. У матери она без морщин. Волосы густы. Грудь крепка, объемна и высока. Да и отец в форме. Подтянут. Плечи прямы и широки. Но все же жалко их.
Скрылся за дверью отец, нн ходу бросив: «Выучил на свою голову».
Я не удержалась, что за характер: «Скорее попу».
Мама и отец от души посмеялись. Нет, что ни говори, а клевые у меня родители.
Вернулась я домой с южными гостинцами. Настоящее домашнее вино, инжир и груши. Пока родители приводили себя в порядок, я скоренько накрыла на стол. Расставляла тарелки и фужеры и думала, как же они живут. Что это? Обоюдный адюльтер? Она изменят ему со старшим научным сотрудником Музея этнографии народов СССР, он – с аспиранткой Светой. И при этом они остаются страстными любовниками. Этакий конгломерат чувств и взаимоотношений. Какой же кариотип, то есть набор хромосом, и от кого из них передался мне?
Вспомнила Тимофея Игнатовича. Тоже своеобразный уникум. Внешность по Ламброзо преступника, а интеллект ученого и творца.
Как он сказал мне на подъезде к приграничному Белорусскому городку Невель: «Уж, если медь, гранит и море не устоят, когда придет им срок. Как может уцелеть, со смертью споря, краса твоя – беспомощный цветок».
Я запомнила эти стихи так точно, потому что проводница Валя объявила в тот момент, что в Невеле продают вкусную копченую рыбу, и я попросила подполковника повторить декламацию.
– Какая прелесть, – мама в легком сарафанчике, тонкие бретельки которого врезались в гладкие плечи от тяжести бюста.
Начали трапезу. Папа выпил фужер вина, и я увидела, что этот напиток не по нему. Мнется, а сказать не может. Не хочет меня обидеть.
– Вениамин Алексеевич, да не пей ты эту кислятину. Тащи из холодильника водяру.
С какой радостью бросился выполнять мое распоряжение отец. Он не алкоголик. Нет, но выпить водочки стаканчик другой не прочь.
Вышли мы из-за стола, когда за окнами было совсем темно.
Меня сморило, и я ушла спать.
Не дано мне было слышать родительский разговор. Итог его плачевен. Вениамина Алексеевича отвезли в травмпункт с рассеченным лбом. Долго и как-то суетливо потом мама убеждала меня, что он сам свалился со стула. Папе наложили шов длиной пять сантиметров. С повязкой «шапочкой» он выглядел несколько смешно. В таком виде я застала его утром сидящем у открытой двери балкона на кухне. Он пил мое вино и курил сигарету за сигаретой.
– Надо разъезжаться, – обращаясь к тополиным ветвям, произнес он.
Я молчу. Что мне ему ответить? Что их жизнь в последнее время настоящий разврат? Что даже в «Декамероне» такого не прочтешь?
– Я ни с кем из вас жить не намерена, – ответила я.
– Значит, коммуналка, – Вениамин Алексеевич обернулся, и я увидела на его глазах слезы.
– Что по этому поводу думает мать?
– Она ничего не думает. Пьяная она в драбадан. Спит, наверное.
Мы не успели уточнить, спит ли мать, как зазвонил телефон.
– Подойди и, если меня, то меня дома нет, – была суббота.
Тимофей Игнатьевич был строг и лаконичен: «Через тридцать минут у вашего подъезда будет машина. Она доставит вас ко мне. Форма одежды – повседневная». На мой вопрос, что случилось, я получила короткий ответ: «Вопрос на месте».
Значит, что-то произошло. Иначе подполковник не стал бы меня «выдергивать» рано утром. Подождал бы до понедельника.
Черная «Волга» с госномерами 08–88 ЛЕБ ждала меня, «тесно» приткнувшись к подъезду. Мне стоило сделать два шага, и я ужу садилась в нее. Прапорщик внутренних войск рванул машину резко. Меня вжало в спинку сиденья.
Водитель вел машину лихо, пренебрегая правилами уличного движения. Он практически не снимал руку с клаксона. И звук-то его был не как у всех. Какой-то квакающий.
Через двадцать минут мы были на Лиговском проспекте. Прапорщик шустро выскочил из машины и успел открыть мне дверь: «Я сопровожу вас, товарищ старший лейтенант».
Он что – не видит моих погон?
Быстро-быстро ведет он меня по лестнице, по широкому коридору. Дверь, к которой меня привел прапорщик, впечатляла. Филенчатая, покрытая лаком, с бронзовыми ручками.
– Идите, там вас ждут.
Я думала, что попаду в какой-нибудь кабинет. Это было просто некое помещение. Две другие двери по обе стороны. Меньше размером, но также под лаком. И куда же мне? Чертовня какая-то.
Именно, чертовня – левая дверь открылась.
– Вам сюда, – отступил внутрь человек в форме майора. Отступил и как будто пропал. Исчез из моего поля зрения. Чудеса? Никаких чудес: за первой дверью – вторая, а между ними – глубокий тамбур. Там он и скрылся.
– Проходите, товарищ старший лейтенант, – и он, Тимофей Игнатьевич, туда же, – подходите, подходите. И садитесь тут, – показывает на два кресла в углу кабинета, – у нас разговор будет долгим.
– Вы тоже обращаетесь ко мне не по чину, – я «утонула» в натуральной коже кресла.
– Прошу встать, – тон подполковника изменился. – Смирно. Товарищ Инина, приказом Министра внутренних дел вам присвоено звание старшего лейтенанта внутренней службы. Поздравляю, – его улыбка обворожительна, – тебя, Тамара.
Новенькие погоны он наложил мне на плечи и тут же крепко обнял. Мое тело было напряжено, и он это почувствовал: «Что происходит?»
– Что? Спрашиваете. Там за дверью майор.
– Он носа не посмеет сунуть без моего приказа. Отметим твои новые погоны и поговорим о деле.
Не поверите, мне не лезло в глотку ничего. Коньяк был дорогущий. Икры столько, хоть ложкой ешь. Все наивкуснейшее. Не лезет и все тут.
– Вижу, не по себе тебе тут. Поедем в другое место, – и жмет кнопку снизу столика. Майор тут как тут: – Слушаю, товарищ полковник.
Опять эта ерунда. На плечах Тимофея Игнатьевича – подполковничьи погоны.
– Вызывайте машину и прикажите приготовить помещение на Моховой.
– Есть, – правое плечо вперед и майор ушел.
Я плюхнулась на заднее сиденье полковничьей «Волги» и замерла, как птичка, попавшаяся в силки. Куда он везет меня? Что за помещение на Моховой? Мне причудились подземные пыточные Малюты Скуратова. Дыба, расплавленный воск и прочие удовольствия.
Едем и молчим. Тимофей Игнатьевич сверкает бритым затылком. Им он красноречиво показывает свое превосходство надо мной. Какая ерунда лезет в голову. Еще сорок восемь часов назад этот же затылок я оглаживала, и казался мне он прекрасным.
– Тормозни, – приказывает начальник всех начальников. Так я от неведомой и беспричинной обиды обзываю его. – Бегом в лабаз, – командует Тимофей Игнатьевич шоферу. – Овощи и фрукты. Нарзан не забудь.
Значит, в том «помещении» не хватает только овощей и фруктов. Будет чертям весело. Мне не привыкать.
Вы знаете этот дом на Моховой улице? Не знаете? И хорошо. Лучше бы мне тоже не знать. Никогда. Темный подъезд, провонявший кошачьими испражнениями, обоссаный мужиками и бабами, с черными подпалинами на потолке от спичек, ловко заброшенными туда местным хулиганьем. Вопли из-за каждой двери: «Убью, сука». Или: «Заткни глотку, гондон штопаный». Быт.
Боже ж мой! А я ведь рядом познавала таинства сцены.
– Куда вы меня привезли?
– Заткни уши и нос. Через пять минут будем на месте.
Как тут заткнешь уши. Никакие беруши не помогут, когда прямо в рожу тебе орет пьяная баба.
Переступая через ступени, мы с Тимофеем Игнатьевичем добрались до третьего этажа. Скрежеща и пища, поддался замок, который, наверное, был свидетелем событий времен гражданской казни Достоевского и всего того, что он так образно описал в своих романах.
Чудеса в решете. Едва я переступила порог «помещения», я попала в иной мир. Широкая прихожая была светла и чиста. Зеркало от пола до потолка – слева от входной двери, отражало эстампы, висевшие на противоположной стене. Два бра из светлой бронзы давали достаточно света, чтобы можно было без труда разглядеть свою рожицу в этом зеркале.
– Пошли, я покажу тебе санузел. Приведи себя в порядок, и мы начнем разговор.
В ванной все сверкало. Масса бутылочек и баночек. Мыл кусков десять. И куда столько? Полотенца махровые и вафельные. Да что же это такое, сердясь все больше, подумала я и начала мыть чресла. Все одно, придем к постели. Как я ошибалась.
– Сначала, – полковник был серьезен, – мы выпьем с тобой, товарищ Инина, за наши звезды, – мне нравится, когда он улыбается. – Теперь опять у нас по три звездочки.
Пьет новоиспеченный полковник красиво. Я «торможу». Мало ли что меня ждет впереди.
– Осторожничаешь. Правильно. Разговор серьезный. Закусывай.
Едим. И кушает он красиво. Нет, что ни говори, а теория о преступных типах лица лжива. Он читает мои мысли.
– Мой дет по отцовской линии был священнослужителем, – именно так и сказал. А не поп или священник, – Служил Господу в церкви на Смоленском кладбище. В тридцать четвертом там его и расстреляли. По матери я из купцов. Отец ее держал ряды в Апраксином Дворе. Оба были людьми образованными. Купец так тот даже стихи на французском писал. Уехал в восемнадцатом в Швейцарию. Там и помер. Так что не суди по внешности о человеке, – улыбается – закачаешься. – По секрету скажу, капитальцы в те времена людишки добывали в основном кистенем да топором. Вот такая вышла трехо, – он осекся, – катавасия с генами.
Как тихо в этом «помещении». Не слышны крики пьяных мужиков и визги избиваемых ими баб. Воздух в квартире свежий.
Подошло время зажигать огни. Полковник все рассказывал о своей жизни.
– После восьмилетки я пошел учиться в ПТУ при Балтийском заводе. Когда отец погиб на стапеле, он у нас был высококлассным сборщиком судов, мы почти нищенствовали. Мама работала в детском саду простой нянечкой. Это было хорошо, пока отец был. Нас детей в семье четверо. Малые всю дорогу под приглядом матери в саду, – уже пуста поллитровка. – Я пошел по стопам отца. Выучился и стал работать там же, на заводе. Ученику плазовщика платили неплохо.
– Это что такое?
– Плазы – это, милая девочка, – вишь куда загнул, – что-то вроде выкройки у портнихи. Только размером поболи, и потом по ним кроят не ткань, а металл.
Его повесть прервал телефонный звонок. Резкий и громкий. Я вздрогнула.
– Нервы надо лечить, – вышел в коридор. Я нарочно не подслушивала, но полковник говорил в голос: – Поднимайте дежурную роту. Оцепить так, чтобы мышь не пробежала. Я буду через сорок минут.
Что-то произошло. А жаль. Как хорошо сидели.
– Поедемте со мной. Опять какие-то сволочи напали теперь уже на караульное помещение. Убит офицер. Они где-то затаились. Обложили их, как волков.
На этот раз «Волга» неслась с воем и свистом. Проскочили Литейный и Владимирский. На Загородном чуть не столкнулись с автобусом. Вывернули на Московский проспект, и тут шофер дал газу.
Мелькают дома и не успеть разглядеть номера на них, лица прохожих сливаются в одно рыло городское. Мне отчего-то становится весело. Что за характер! Какая мама меня родила?
– Вы, товарищ лейтенант, из машины не выходите. Ждите моих распоряжений.
Эх, полковник, какой кайф сломал. Я-то уже возомнила себя героем. Вот приеду, с ходу обнаружу злодея и пристрелю гада. Ну, точно, как в детском стишке.
Тимофей Игнатьевич шагом быстрым и твердым удалился. Как рыбки прилипалы следом и вокруг него мелкие сошки суетятся. Он что-то резкое им, а они все кивают и кивают. Как божки китайские.
Отошли метров на двадцать и тут как будто простыню разорвали. Рыбки прилипалы вмиг на землю упали. У одного от такой прыти даже фуражка с головы полетела. Полковник постоял, постоял и тоже стал на землю опускаться. Нехотя так.
Я сижу и хоть бы нервик какой дрогнул. Так нет же. Сижу, как попка.
– Товарищ старший лейтенант, – окликает меня шофер, – а товарища полковника, кажись, подстрелили.
– Чего мелешь. Стреляют же, – а у самой тоже червячок зашевелился. Лежит мой Тимофей Игнатьевич странно так. Рука правая заломилась под живот, а лицом в землю.
Еще раз затрещало. Тут и наши собровцы очухались. Как начали палить из автоматов. Меньше минуты – и они истратили весь боекомплект.
– Прекратить огонь! – и откуда у меня этот командный голос. – Перезарядить оружие.
Слышу характерный звук. Послушались, значит.
– Занять фланги. Огонь по моей команде.
– Спрячьтесь, товарищ старший лейтенант, – рядом наш с полковником шофер. И дерг меня за юбку. Чуть не сорвал ее с моей аппетитной попы. Хороша была бы я с голой попой. Но легла. Странна психика человеческая. Скорее, женская. Прежде чем улечься, посмотрела, не сильно ли грязно.
Что б я тут лежала! Да ни в жизнь. Броском, кто научил, переместилась к валяющимся офицерам и полковнику.
– Встали и приняли команду. Бегом марш!
Вскочили и бросились врассыпную. Я – к полковнику.
Из отчета по происшествию: «Старший лейтенант Инина в сложной боевой обстановке проявила хорошие командирские качества. Сумела организовать бойцов на локализацию и дальнейшее уничтожение бандэлементов (сохранена орфография документа). Умело руководя боем, обеспечила своевременную эвакуацию полковника, чем сохранила его жизнь. Руководство ГлавУВД считает возможным присвоение товарищу Ининой Т. В. звания капитана и награждение орденом Боевого Красного Знамени».
Пуля бандита прошила шею Тимофея Игнатьевича в сантиметре от сонной артерии. Ни один врач не смог бы спасти его перебей бы эту кровенесущую магистраль пуля.
Полковника увезли, а я буквально свалилась.
– Товарищ старший лейтенант, – шофер, оказывается, все это время был рядом со мной, – давайте я вас отведу в машину. Ребята остальное сами доделают.
Машина теперь ехала домой. Не было ни спецсигнала, ни адской гонки. И все равно я не видела ничего. Я чувствовала холодность лица полковника. Выживет ли он. Кровопотеря все же большая.
Шофер привез меня на Лиговский. Невдомек ему, что больше всего мне нужен сейчас покой. Закрыться с головой одеялом и уснуть.
– Я в гараж, – и весь разговор.
Я осталась стоять на мостовой. Сирота казанская. Пересилив себя, открыла тяжеленную дверь и вступила в «святая святых». Штаб ГУВД. Надо идти и держать ответ.
– Мне уже доложили, – генерал-майор сед, угрюм и сердит. – Знаю. Вы утомлены, но надо написать отчет. Часу вам хватит?
Через час я положила ему на стол отчет.
Мое становление состоялось: «Командование высоко оценило ваши действия. Отдыхайте. Даю вам пять дней. О дальнейшем вашем использовании». Это надо же. Словно я вещь какая: «Мы сообщим вам после», – и за телефонную трубку. Выматывайся, мол.
Каково же было мое удивление, когда я у входа обнаружила все ту же «Волгу».
Приказано доставить вас домой.
Приказано, так давай вези, шофер ты лихой. Он и повез. Да так, что дух захватывало. Меня, бедняжечку, швыряет на заднем сиденьи от одного края к другому. Я молчу. Я же понимаю. Его пассажира ранили и кого теперь ему всучат, неизвестно. Дадут возить какого-нибудь зануду, крысу штабную. Не обрадуешься. Тут и дождь полил. Прохожих смыло. Одни гаишники мокнут. Мы мимо них фшик, а они нам честь отдают. Красота. Видели бы родители меня сейчас.
А, собственно, на что смотреть? Волосы слиплись, рожа грязная, на форменной тужурке – бурые пятна. О ножках моих я уже не говорю. Чулки изодрала пока ползала под огнем противника, командовала бойцами СОБРа и оказывала первую помощь полковнику. На правом колене – ссадина. Грязная. Вот подхвачу столбняк и умру. Кто будет Родине служить? Хватила, однако. Пускай населению пока.
– Приехали. Какой этаж? – сдурел водила.
– Что, твоя «Волга» умеет и по лестнице ползать?
– Приказано до дверей квартиры доставить, – ну что же.
– Неси. Видишь, я раненая.
Мальчик дисциплинированный. Понес. А чего тут нести? Во мне пятьдесят два килограмма живого веса. Мешок с сахарным песком. От парня потом разит. Но не отвратительно. Молодой еще. Ручками я его шею обхватила и замерла. Пускай мама подумает, что я при смерти.
Как назло, никого дома не оказалось. Ничего удивительного. В воскресенье мама уходит на «массаж», а папа штудирует с аспиранткой учебник по анатомии и физиологии человека. Думаю, они с особой тщательностью изучают ту его главу, где описаны репродуктивные органы.
– Отнеси в ванную.
– Так я пошел? – а сам не уходит даже из ванной.
– Помоги мне раздеться. Не видишь, кровью исхожу.
За восемь бед – один ответ. День мы с Петей перепутали с ночью. И потому скажу – как упоителен был тот день.
В семь вечера вернулись разом родители.
– Отец, – с порога театральным шепотом говорит мама, – у нас в доме посторонний.
Еще бы. Амбре еще то. Пот Пети и мои духи. Прибавьте к этому «аромат» отцовского коньяка.
– Мне куда? – бедняга Петя. Как он напуган.
– Вылезай в окно. Тут не высоко, – так я шучу. Он и полез. В одних трусах. Хорошо их натянул. Я его в последний момент за эти самые трусы затащила обратно.
В этот момент постучали: «Тамарочка, ты дома?»
Мамин голос был сладок до приторности.
– Дома я. Отдыхаю. Сейчас выйду.
Не торопясь, мы с Петечкой оделись. Я, как могла, привела свою рожу в порядок, расчесала кудри шоферские.
– Посиди пока тут. Я подготовлю почву и позову.
Где полковник? Где заместитель начальника главка? Тут и сейчас надо решать небольшую, но очень важную для меня тактическую задачу. Зря, что ли, мне присвоили звание?
– Что с твоим лицом? – важнее для матери нет проблемы.
– Ты ранена? – Иван Алексеевич конкретен.
– Бандитская пуля, – почти не вру. Он верит.
– Куда? Сильно?
– Папа, я шучу. Просто упала и коленку поцарапала. Меня мой шофер довез. Сейчас он выйдет. Приводит себя в порядок, – и тут зову, – товарищ водитель, идите сюда.
Молодец Петя. Вышел, чеканя шаг: «По вашему приказанию прибыл».
Мама даже глазки прикрыла от удовольствия. Определенно уже в мечтах у нее поиметь такого же шофера. И чтобы тот также подходил. Но говорил бы другое: «Прибыл любить тебя, моя дорога я».
У мамы возраст такой.
– Давайте пообедаем вместе, – я знаю, у Вениамина Алексеевича пообедать синоним «выпить».
– Премного благодарен, – вежливый Петенька, – вынужден отказаться. Мне на службу надо.
Быт. Скукотища. Но поесть надо.
Петя уехал. Мы поели. Вениамин Алексеевич выпил свою норму – двести пятьдесят граммов – и удалился на свою половину. Будет спать теперь до позднего вечера.
Я уснула сразу. Без сновидений сон для меня скучен. Что-то будет завтра?
* * *
Во вторник, девятнадцатого августа, меня вызвал заместитель начальника главка, он же начальник штаба.
– Я ознакомился с вашим отчетом, – не скажут в простоте «прочел». – В ваших действиях просматриваются неплохие качества командира. Но при этом вы допустили и промахи. Это поправимо. Я подписал приказ об откомандировании вас на учебу в Высшую школу милиции, – он и улыбаться умеет. – Смотришь, потом и в академию пойдешь, – сейчас предложит выпить. Такое было у генерала выражение лица. Но нет. – Даю Вам пять дней отдыха. В следующий понедельник приказываю прибыть в отдел кадров за направлением.
Пять дней, со вторника по субботу, я каждое утро отправлялась в госпиталь к Тимофею Игнатьевичу. Лежал он в отдельной палате, и мы могли часами говорить. С перерывами на прием пищи вести разговоры. Вернее, говорил он, а я слушала.
Он продолжил свою повесть о жизни.
– На заводе настоящая жизнь. Это, как в армии. Сразу видно, чего ты стоишь. Нет, конечно, и там, и тут встречаются и подонки, и проходимцы. Но все же труд и служба подобны лакмусовой бумажке. Работали в три смены. Строили, – увидев на моем лице маску недоумения, пояснил, – суда и корабли строят. Это так. Так вот строили одновременно два корабля. Ночью особенно красиво. Всполохи сварки на черном небе.
– Не знала, что вы лирик.
– Вы многого обо мне не знаете. Может статься, и узнаем друг о друге больше. Дай попить. Что-то в глотке сухо стало, – полковнику его сослуживцы исправно приносили коньяк. – Мать скоро нашла отцу замену. Я не осуждаю. Что тут поделаешь. Это мужик может, походя, удовлетворять свои физиологические потребности. Вам, женщинам, нужно постоянство, – это не обо мне. – Так в наш дом вошел Анатолий. На три года младше матери. Нагловатый, самоуверенный малый. У нас с ним с первых шагов сложились, мягко говоря, напряженные отношения.
Я ярко представила эти «напряженные» отношения и не удержалась: «И кто побеждал?»
– Соображаете. Я к тому времени уже имел первый разряд по боксу. Умел бить так, что следов не оставалось. Но и мать мне было жалко. Кончилось все тем, что я съехал в общежитие.
Два дня пролетели. Меня вызвали на службу. Выдавали зимнюю форму и обувь. Как не получить? Там и отметили это наиважнейшее событие. Пришли те ребята, что были под Пушкиным.
– Ты, лейтенант, в полковники годишься. Голос у тебя такой. Где выучилась?
Не стала я говорить им, что училась на актрису. Там и голос поставили.
Домой меня отвез Петя. Видела я, что он очень хочет подняться ко мне «чайку попить», но и я было непреклонна: «Петя, у меня папа и мама. Нельзя».
Угрюмо попрощался Петя и так газанул, что из-под шин дым пошел.
Наверное, и я, как все. Прав, значит, Тимофей Игнатьевич.
– Что случилось? – Тимофей Игнатьевич был не на шутку обеспокоен. Но, когда я рассказала, что да как, он развеселился.
– Вы отрез на шинель не отдавайте в ателье. Мы вам такую шинельку пошьем, что там Дом моделей. У меня сохранился отрез тонкого драпа. Не то, что вам выдают.
Потом было продолжение его жизненной повести. Я узнала о его работе в комсомольском комитете. О том, что был он членом горкома комсомола.
– Это было в 1967 году. Тогда, в канун пятидесятилетия революции, вышло Постановление ЦК об укреплении рядов милиции. Я попал в эту кампанию. Школа милиции. Средняя. Потом служба в одном из отделений города. Как мы говорим, на земле.
Тимофей Игнатьевич попросил смочить горло.
– Я тоже, пожалуй, причащусь.
– Можно. Вы что, верующая?
– Вот уж нет.
Полковник замолчал. После паузы.
– Я тоже атеист. Член партии. Но вот, что я тебе скажу. Ты младше меня на десять лет. Помню похороны Сталина, – и он туда же, как папа, – помню и Хрущевские перегибы. Он, знали бы вы, снес больше церквей, чем за все предшествующие годы. Не зря же его сняли за волюнтаризм. Но в шестьдесят седьмом жизнь в стране как-то наладилась, – задумался о чем-то и продолжил: – Причащаются люди в церкви. Но все это, впрочем, пустое. На чем я остановился?
– На том, что вы работали на земле.
– Это большая школа, я тебе скажу. Все было. Преступления на бытовой почве. Самые распространенные. Квартирные кражи и разбой. Донимали щипачи. Их особенно трудно взять. Так что опыта я поднабрался. Молодой был. Силы много. Семьи нет. Сутками пропадал на службе. Заметили и назначили сразу начальником отдела по борьбе с бандитизмом в районном управлении. Сколько завистников! Один случай. Мне «стукнуло» двадцать пять. Решил накрыть «поляну» прямо у себя в кабинете. Все по-простому. Никаких особых закусонов. Три бутылки «Московской» на семь человек. Это же для молодых мужиков, что для слона дробинка. Нашелся пакостник и накатал телегу в город. Тогда еще не было главка, в управление. Меня на ковер к заму по политчасти. Я же член партии. Он с порога: «Партийный билет положишь. Зарвался, молокосос». Не сдержался я и в ответ ему нагрубил: «Не ты мне его вручал, не тебе и отбирать». Хорошо за меня заступился другой заместитель. Он меня, оказывается, уже присмотрел. Намеревался взять к себе. Отстояли, но с должности начальника убрали. Втихаря перевели в другой район.
Тимофей Игнатьевич устал. Я это видела.
– Мне домой надо бы, – соврала я.
– Конечно, милая, – впервые полковник так назвал меня. Защемило, но ушла. Как же иначе. Догадается, что вру.
Пятый день.
Придя в госпиталь, я не застала полковника в его палате. У меня сердце скатилось ниже того места, откуда дети появляются. До пяток не успело дойти. Сестра вошла: «Тимофея Игнатьевича повезли на консультацию в Военно-медицинскую академию. Скоро вернутся. Вы подождите тут».
Не осмелилась спросить, по какому такому поводу повезли к военным врачам. Зародилось во мне какое-то чувство, почти материнское. Тревога за этого мужчину. Тихо в палате. Солнышко пригревает. Не заметила, как задремала.
– Дома спать надо, – это его голос. Теперь от этого глубокого баритона у меня мурашки по спине.
– Что с тобой?!
– Да ничего. Просто для окончательного освидетельствования надо было получить заключение невролога. Умора, – Тимофей Игнатьевич в отличном расположении духа. – Посмотрите на кончик носа. Потом в сторону. Это себе за затылок. По коленкам стучал, по животу какой-то металлической палочкой водил. Щекотно же. Нервы мои в норме. Могу продолжать службу в органах внутренних дел. Послужим, капитан?
– С чего это капитан?
– Э, брат, ты и не знаешь. Тебе присвоили капитана.
– Кто это вам сказал?
– Забыли, кто я? То-то, брат. Наливайте. Отметим и пора мне начинать выходить из состояния болеющего.
Тут и обед подоспел. Принесли в палату, и мы его разделили на двоих. Так состоялся наш первый «семейный» обед.
Перед моим уходом состоялось наше объяснение-признание.
Начал Тимофей Игнатьевич.
– Служить-то мы будем с тобой, Тамара, в одном ведомстве, но в разных подразделениях, – своеобразное предложение руки и сердца. – В нашей системе не положено супругам служить вместе.
Переход на «ты» прошел у нас так естественно, что я даже не заметила этого.
– Как же это понимать? Ты что, предложение мне сделал?
– Прости, дорогая. Не горазд я на долгие и лирические признания. Люблю я тебя. Не видишь, что ли?
– Меня не спросил, – для порядка ответила я.
– Еще раз прости. Неужто не люб я тебе совсем? Да, я по твоим меркам старик. Десять лет – это срок. Но, если говорить начистоту, то это я должен страшиться. Через десять лет ты будешь в самом соку.
– Хочешь, чтобы я ушла?
– Лягу на порог, и буду орать благим матом.
Закончилось наше объяснение долгим первым поцелуем. Так я не целовалась никогда.
Шестой и седьмой дни я провела в хлопотах. Тимофей Игнатьевич исписал лист. Почерк у полковника четкий. Почти каллиграфический. Так что можете представить, сколько пунктов уместилось на этом листе размером А4. Вот и моталась по магазинам. Из магазина мужской одежды в женский. Из обувного в хозяйственный. И так далее.
В понедельник я явилась в отдел кадров за предписанием с сизыми кругами под глазами.
– Вы больны? – спросила меня молоденькая младший лейтенант. – Может быть, доложить по команде?
– Я здорова, как никогда, товарищ младший лейтенант. Занимайтесь своими делами, а медикам оставьте заботу о нашем здоровье.
– Слушаюсь, товарищ капитан, – елей на душу. Мне двадцать четыре, а я уже капитан. Учтите, что в органах звания присваивают не так, как в авиации. Да к тому же я все-таки женщина.
Через две недели мы с Тимофеем Игнатьевичем подали заявление в загс.
– Я походатайствовал о переводе тебя на заочное обучение.
– Ты теперь все за меня будешь решать? – он понял.
– Поспешил. Не согласовал с тобой. Виноват. Впредь всякие решения будем принимать сообща.
Долго сказка сказывается…
Новый, 1978 год мы встречали втроем. Сына я назвала Вениамином. Тимофей не возражал: «Своего отца я практически не помню. Твой же уже профессор».
Как упоительны стали дни и ночи…
Моя карьера в органах внутренних дел на этот момент закончилась. Поживем – увидим.
* * *
Что же и мы будем жить. Может быть, и встретимся с Тамарой Вениаминовной еще раз.
Как упоительны были ночи
Глава первая
Холодно, черт возьми. Забыла закрыть форточку. Где мой Барсик? Ору, что есть мочи, а он не выходит. Подох, что ли? Замерз. Тут и он, зараза, выползает из-под кровати. Голодный бедняга. А у меня в холодильнике мышь повесилась. Был бы на месте Барсика человек, плюнула да и растерла. Ему же надо, кровь из носу, жрачку раздобыть.
Вышла – и как будто нырнула в холодную воду. Мороз и влажность почти сто процентов. Ноздри липнут, под юбку дует. А всего-то час назад под этой юбкой было мокро, но тепло. В гастрономе пусто. Ни народу, ни продуктов. В отделе «Мясо, птица» стоит пьяный Вася. Мясник. Пьяный и сытый. Сука.
– Вася, ты же подлец. Сам нажрался, а мой Барсик пусть подохнет от голода?
– Осади. Кому-кому, а твоему коту костей дам, – рожу скривил. Это у него улыбка такая. Резанули ему ножичком как-то в пивном баре. Вот и улыбка, что гримаса. – Ну ты, Тома, и даешь!
Ушел падла. Ничего, я ему бейца-то поотрываю потом. Лишь бы Барсика покормить. Вышел гад. Несет большой пакет. Килограмма на два. Прикинула.
– Держи. Платить будешь натурой.
– А ху-ху не ха-ха тебе, вошь туберкулезная? – Вася год лечился в стационаре. И как только таких в торговлю берут? Базлают, что мамаша евонная в райисполкоме работает. Все суки продажные. Сумками тащат продукты в дом. Есть же. Есть, а нам фиг. Ну-у-у?
Да и мы не голодаем. Это мне западло хозяйством заниматься. Попробуйте восемь, а то и больше часов только одно и знать – голые задницы мужиков или их исколотые руки. По двадцать инъекций за смену. Капельниц тоже до фига. Бывает, весь день ни крошки во рту. Домой придешь – и в койку. Мама с папой дали здоровье, потому такое паскудство выдерживаю.
– Барсик, Барсик, – вылезает. Не спешит. Ух! Котяра. Он до сих пор не может мне простить, что я его кастрировала.
На кухне развернула пакет. Ах, Васька, Васька! Пьяница, бабник, но душа добрая. Кость в пакете тоже была. На мясе. Подбедерок килограмма на два.
Барсик хрипит. Даже не урчит. Я перевариваю молча. Я же все-таки человек. В квартире потеплело. Молодцы эти коммунальщики. Хорошо топят. С мясом в мой живот попала не одна жаренка. Она плавает в водном растворе спирта. Курю я, это плохо, много. Сколько я видала этих доходяг! Рак легких. Так и мерещатся их серо-зеленые лица. Курю папиросы «Беломор». Моя товарка Надька говорит: «Ты, Тамара, как мужик. Куришь эти вонючие папиросы».
Дура она. Посмотрела б на себя. Вобла вяленая. Ни титек, ни попы. Ноги, как спички. Наш ординатор как-то сказал о ней при мне: «Деру и плачу. От жалости».
Засну и увижу во сне его. Высокого, широкоплечего. Голого. Что, коробит? Хочешь знать, о ком это я? Так я тебе и сказала.
* * *
Послушали. Теперь объясним, кто это так разошелся вечером 21 февраля 1979 года.
Тамара работает процедурной сестрой в больнице. Уточнять, в какой именно, не будем. Не надо обижать ни в чем не виноватых людей, работающих там. Тамаре двадцать два. Она после восьми классов окончила медицинское училище и вот уже четыре года работает.
Папы и мамы у нее нет. Папа погиб на стройке. Оборвалась люлька с высоты шестого этажа. Разбился насмерть. Тамаре тогда было шесть лет.
Мама после смерти мужа стала пить. Сначала пила водку. Потом, когда ее уволили с завода и она пошла работать в ПРЭО дворником, – портвейн. Умерла от отравления, как написали в протоколе, спиртосодержащей жидкостью. В двадцать лет Тамара стала круглой сиротой. Люди помогли схоронить мать, устроить поминки.
Осталась Тамаре эта квартира. Папа получил ее от треста, где работал и где погиб. Квартирка небольшая, но очень уютная и удобная. Отец многое сам в ней переделал.
Тамара красива. Была бы еще краше, если бы не злоупотребляла косметикой. Она стала женщиной в шестнадцать лет. Упоминаем этот медицинский факт для того, чтобы потом у рискнувшего слушать Тамару не возникали ненужные вопросы.
На первый раз достаточно, но мы оставляем за собой право прерывать ее повествование, чтобы пояснять те или иные моменты.
* * *
…Сегодня у меня день варенья. Так мы, девчонки-школьницы, когда-то говорили. Мне исполнилось двадцать пять лет. Заведующая кабинетом дала мне отгул, и вот я сижу на кухне, распаренная от ванны (страсть как люблю плескаться в воде), пью Жигулевское и с хрустом жую подсоленные сухари из ржаного хлеба. Пиво из гастронома по блату достала, сухари делала сама. За окном темень. Светит один фонарь у дома напротив. Его желтый свет напомнил мне морг, куда я с соседями приехала забирать покойницу мать. Там тоже был такой желтый фонарь.
Пиво допито. Сухари схрумканы. На часах ходиках пятнадцать минут восьмого. В это время я обычно выхожу из дома и тащусь в больничку. Спать не хочется, а что делать так рано, не придумаю. В пятницу, а сегодня именно она, пятница-развратница, народ заканчивает работу на час раньше. Я ее и не начинала.
Так сидеть – только попу плющить. Надо прибраться в квартире. Пылью заросла.
Начала со спальни. Раньше тут мои родители выясняли отношения. Поорут, поорут и замолчат. Но слух у меня хороший. Не услышу, что ли, как отец скажет: «Теперь задницей». Или: «Подмахивай, подмахивай!»
Поначалу я никак не могла понять, что они там делают. Дверь они закрывали на защелку, так что в щелку не подсмотришь. Потом-то я и сама такое слышала не раз.
Вообще в их спальню мне ходу не было. Сама я спала в столовой на кресле-кровати. У телевизора.
Но вот спальню прибрала. Можно и передохнуть. Ты думаешь, я одну бутылку пива купила? Ошибаешься. В холодильнике еще четыре бутылки охлаждаются. Как же не попить пивка с устатку? А за окном уже посерело и фонарь погас. И такая тоска жуткая! Понастроили домов-коробок. Все на одно лицо. Сначала посадили тонкие деревца. Куда там! Пообломали тут же. Теперь торчат прутики. Заскрежетал своей лопатой дворник. Что-то припозднился сегодня. Март уже, а ночью выпал снег. Погода взбесилась. В январе был плюс и дождь. Пришла весна, и пришли морозы. У нас девчонки говорят, это все оттого, что ракеты запускают часто. Они и сжигают воздух. Атмосфера изменилась, и погода взбесилась.
В бутылке пива на полстакана. Допью – и пойду убирать столовую. Теперь, правда, эту комнату я называю гостиной. Обеденный стол я отдала соседке Наде, что помогала мне с похоронами мамы. У нее квартира больше моей и семья большая.
У меня в гостиной теперь диван, два кресла и телевизор. Это все. А ты что думаешь? Я в журнале видела. Так обставляют у них, капиталистов. Нет, конечно, там у меня еще столик низкий есть. Надо же где поставить водку или какую там закуску. Ко мне иногда приходят девочки из больнички. Они живут в общаге. Завидуют мне. Ну и пусть.
Вот и гостиная прибрана. Умора! Я вся вспотела. Хоть опять лезь в ванную. Ходики показывают восемь. Утра. Мама моя родная! Впереди весь день. Чем заняться-то?
Когда работаешь, не замечаешь, как день пролетел. Привыкла я вкалывать. С малолетства в хлопотах. А как же? Мать вечно пьяная. Мне же стыдно перед подружками из школы. И вообще я грязи не терплю. Как-то один парень, я парней к себе приглашаю редко, так вот как-то одни парень так и сказал: «У тебя на кухне так чисто, будто тут операционная».
Он студент. У нас практику проходил. Как упоительны были ночи. Эту фразу я вычитала в какой-то книге. Не могла понять, как ночь может упоить. Но так написано. Им виднее.
Студент тот был хорош: высокий, плечи широкие, ноги сильные. Волосы черные. Даром, что ли, что грузин. А может, армянин. Их хрен поймешь.
Всю дорогу тихо так говорил: «Ты женщина моей мечты».
Дурак и врун. Через неделю уже спал с моей подружкой по работе. Она мне говорила, что он называл ее своей мечтой. Нет, определенно дурак. Как Верка, в которой живого веса килограммов девяносто, может быть мечтой? Я еще куда ни шло. Все-таки вешу пятьдесят пять. И ростом выше. Нет, ты не подумай, что я воблина сушенная.
Нет. Все при мне. Просто у меня такая конституция. Напрасно смеешься. Это мне сказал наш заведующий отделением. Он так и сказал, после того как своими опытными руками пропальпировал меня всю: «У тебя, Тамара, это не худоба. Такая у тебя конституция тела».
* * *
Прервем откровения Тамары и дадим маленький комментарий.
Тамара действительно высока и тонка в кости. Рост у нее метр шестьдесят девять. В те времена это был для женщины редкий случай. И была она не тощая. А, как бы сказать помягче, изящная. Но при этом носила Тамара бюстгальтеры размером номер три. В бедрах была объемна. Не будем уточнять, сколько там сантиметров. Одно скажем: Тамара была женщиной эффектной. Как говорится, не страдала отсутствием внимания со стороны мужчин.
Не была она ни недотрогой, ни вездешляйкой. Могла так отшить мужика, что он долго помнил и ее слова, и ее руку.
* * *
Да кто ж это в такую рань трезвонит?! Кого принесла нелегкая? Я не одета. Он же все трезвонит. Подождешь! Вот надену юбку хотя бы и пойду открывать.
Мама моя родная! Вася. Мясник.
– Вот, Тамара, – протягивает пакет, – это тебе мой подарок. У тебя же день рождения сегодня.
Ну, каков наш Вася-мясник! Я его знаю еще со школы. Хулиганом был первостатейным. После восьмого класса я пошла в медучилище, а он – на нашу автобазу районную. Оттуда ушел в армию. Помню, как его провожали. Он живет с мамой-инвалидом в соседнем корпусе. Номера-то домов у нас с ним одинаковые. Корпуса разные. У меня корпус номер один. У него – три. Тогда у него девушка была. Как она плакала! Как плакала. Стерва. Он морозится на Севере, она нежится в постели с его же другом. Тот армию сумел закосить. Пройдоха. Чего с него взять? Его отец в райкоме партии работал. До поры до времени. Их тоже в тюрьму сажают. А ты не воруй.
– Вася, чудак человек, да что же это, – тяну его за руку в дом. – Проходи, пивком угощу.
Он упирается. Он с виду такой, наглый, что ли. А на самом деле, говорю же, душа человек. Но выпьет с устатку и начнет хамить. Потерпи. Работа у него такая. Нервная.
– Ну, если только пивка. Мне же на работу.
Сидим. Он пиво пьет. Я на него смотрю. Вот возьму и обженю его на себе. Всегда с мясом буду. Пить-то отучу враз. Он здоровый бугай. От него и детишки будут здоровые.
– Спасибочко за угощение! Побегу я. Наверное, обыскались меня. Мясо каленое. Его еще размораживать надо.
Вот и поздравили меня с днем рождения. Пошла дальше убирать, а о пакете забыла. Такая я. Бесхозяйственная. Вру. Очень даже хозяйственная. Как сумка. Шутка юмора.
Уже девять. Начало десятого даже. Мама родная! Тьфу ты, черт! Привязалась эта «мама родная». Впереди весь день.
Опять я стою в ванной. Под душем. Тут и вспомнила о пакете. Накинула мужскую сорочку (от кого осталась, не помню) – и бегом на кухню.
Ох уж этот Вася! Свиной окорок. Говядина. Филейчик. Даже говяжий язык. Это просто отпад. Тут, прикинь, рублей этак на двадцать. Может, и больше. Обязательно приглашу Василия завтра на буженину. Я готовить умею. Просто лень для себя готовить.
Хвать-похвать, а нет у меня того, что надо для приготовления буженинки. Смотрю на часы. Магазины открылись только что. Надо поспешить. Сейчас хоть и очереди, но то, что надо, можно урвать. Позже будет поздно.
Пальтишко на ватине. И это в марте! Шапочка «петушок» ярко-красного цвета. Черт меня дери! Чуть не выскочила без теплых с начесом трусов. Мне мои придатки еще пригодятся. Не все же впустую мужики будут спускать в меня.
– Тамара! – окликает меня Надя, наш дворник, – поздравляю тебя!
Надя моя соседка. Это она, не забыли, помогла мне с похоронами.
– Надя, спешу. Ты заходи через часик. Выпьем.
– Спасибо. Зайду, – кричит мне в спину Надя, а я бегу.
Заняла очередь в бакалею, тут же в овощной. Удобно. Все в одном магазине. Вижу, Вася уже хорош. Как успел? Понятно. Пивком у меня расслабился, а тут добавил. Весело работает Вася. Бабы в покатуху. Не всем в очереди достанется мяса, но никто не уйдет злой. Таков наш Вася.
Не прошло и часа, а я уже все, что нужно, купила. Повезло! И опять вприпрыжку домой. Мой Барсик трется о ноги и мурлычет. Подожди, котяра. Скоро дам тебе мясные обрезки.
– Тамара, – это пришла соседка. Не Надя, другая. Ее зовут Ольгой Петровной. У них телефон. Один на весь подъезд. – Тебя к телефону. Если позвонили ей, значит, что-то в больнице. Только там знают, куда звонить в экстренных случаях.
Точно. Прямо на посту заболела моя напарница. Я ей давно говорила: «Не шути. Сходи к гинекологу». Доигралась.
Спасибо, успела сготовить буженину. Упаковала ее в кальку и тряпицу. Так не высохнет в холодильнике. Накормила Барсика. Оделась, как положено, – и в дорогу. Ехать мне на двух трамваях. Метро к больничке не провели. Вот и отметила свой день рождения.
Привезли одного с ДТП. Капельница. Внутривенные инъекции. Врач от него не отходит. Прошел час, и он стал, как мы говорим, уходить. Давление упало, пульс ниточный. То, се. Покатили в операционную. Это уже поздно, в одиннадцать часов. Хирург куда-то ушел. Тоже понять можно. По двенадцать часов за столом. Какой организм выдержит. Мы с доктором над доходягой трудимся. До стола не дожил. Отдал душу под нашими руками.
Потом вскрытие покажет, что мы, да и хирург, уже ничего сделать бы не смогли. У него под черепной коробкой такая гематома была, что не жилец он был уже.
– Тамара, – Гоша, дежурный врач, даже почернел от усталости, – у вас, мне на посту сказали, сегодня день рождения.
Я поправила:
– Уже вчера.
– Да. Уже вчера был день рождения. Давайте же отметим.
– А как же пост?
– Будем уповать на удачу. Надеюсь, больше такого мертвяка нам не подсунут.
Разбавили спирту, девочки принесли кто что. Получился праздничный стол.
Никто не потревожил нас. Больные как будто сговорились не портить нам застолье. Утро мы встретили в хорошем настроении. Гоша все пытался проводить меня домой: «Или я не рыцарь? Я должен проводить вас домой».
Гоша такой. Он и пьяненький остается паинькой. Все на вы.
Что же, пусть проводит. Знаю, у парадной начнет канючить: мол, замерз, устал, чайку бы горячего. Как в сказке, где солдат из топора щи варил. Или как в анекдоте: «Хозяйка, дай напиться, а то так есть хочется, что переночевать негде».
В трамвае холодрыга ужасная. Сели на заднее сиденье. Я прижалась к нему. Все ж теплее. Он тут как тут. Шасть мне под юбку. Не бить же его по морде. Пусть балуется. Я греюсь. До дома еще пилить почти полкилометра. Утро морозное, ветреное.
Вот и приехали. Побежали. Прибежали. Я жду, когда он начнет свою песню.
– Я пошел, – вот тебе и ухарь с Кавказа. Мне даже обидно стало. Лапал, лапал, под юбку лез, а тут – я пошел. Нет уж. От меня так просто не отделаешься.
– Куда пошел? Я такую буженину сготовила. Пальчики оближешь. Или вы, евреи, свинину не едите?
– Я еврей не настоящий. Я еврей по папе. Мама моя осетинка.
– Еврей ты. Вон шнобель какой. Весь в отца.
– У евреев, чтоб ты знала, национальность считается по матери, а не по отцу. Пошли кушать твою буженину.
Так, рано утром у меня на кухне начался банкет. Только мы с Гошей выпили по первой за мой день рождения, как в дверь позвонили. Пришла соседка Надя.
– Я сегодня специально раньше убрала территорию, чтобы успеть тебя поздравить, – это она говорит мне, а сама таращится на моего Гошу. – Приятного аппетита вам!
Эта Надя стерва еще та. У нее муж, позавидуешь. Пьет по выходным и при этом ее не лупит. Добрый. Вкалывает на заводе каком-то и зарабатывает хорошо. Его часто в командировку посылают. Он говорит, это шефмонтаж. Что это, не объясняет, но важничает.
Надька, вобла сушеная, но до этого, понимать надо, о чем я, сильно охоча. Ей своего мужика мало. Он за порог – она уже в теплой еще постели с кем-нибудь кувыркается. Вот и тут. Не успела войти, а на Гошу уже глаз положила.
Мне-то что. Он мне, как рыбе зонтик. Не люблю таких. Черных, что ли. То ли дело Вася. Кстати, надо пойти пригласить его.
– Вы тут без меня как-нибудь. Я схожу к Васе. Его свинину трескаем. Надо пригласить.
Знаю, я уйду, а Надька успеет затащить Гошу на свою жопу. Она не упустит. Знаешь, что она мне говорит? Она говорит, что мужское это очень даже полезно для женщин. Без него у нас всякие нехорошие болезни. Рак, например.
Опять подморозило. И когда весна наступит? Я весну люблю. Солнышко греет. В лесу ландыши распустились. Я обожаю их запах. Надька действительно успела убрать двор. Дорожки выметены. Чисто. До Васиного корпуса недалеко. Двор перейти. Но спешить так не хочется. Во дворе никого. Все уже разъехались на работу. Дети, эти цветы жизни, рвать бы их с корнем, еще спят. Посижу на лавочке под грибком. Покурю. Пусть Надька вдосталь «напьется» этого самого. Худючая и зло… Стыдно такое на детской площадке сказать. Да ты понимаешь, о чем я.
Курить на свежем воздухе обожаю. Я и дома выхожу на балкон покурить. Небо прояснилось, и где-то за крышами домов – а они все высокие – начало светить холодное солнце. Папироса выкурена. Надо идти. Вася с мамой живет на седьмом этаже. Если лифт не работает, подниматься не буду. Вошла в подъезд, а навстречу мне Васина мама: «Тамара, ты, что здесь делаешь в такую рань?»
– Вашего Васю хочу украсть. У меня вчера день рождения был, но я дежурила. Сегодня отмечаю.
– Опять водки нажретесь. У Васеньки скоро печень вся жиром изойдет, – мамаша Васи до пенсии работала в тубдиспансере и считает себя сильно умной по медицинской части.
– Не бойтесь, Татьяна Павловна, у вашего Васи цирроза не будет. Он хорошо питается. На его-то месте.
– Ты на что намекаешь?! А ну пошла отсюдова, – злющая старая карга.
Я в лифт юрк – и лови меня. Мне жалко ее. Одна воспитывала Ваську. Муж, как только узнал, что она беременна, сбежал. Хорошо отец с матерью не выбросили дочь гулящую. Приютили и Васю поначалу кормили, одевали, обували. Но беда одна не ходит. Что за напасть! Они в деревню поехали вот так же. Весной. Хотели снять комнату на лето. Ребенку свежий воздух и парное молоко нужны. На обратном пути в автобус, на котором они ехали, врезался этот самый молоковоз. Пятеро всмятку. Они тоже убились насмерть.
– Я к тебе вчера заходил. Никто не открыл. Один кот орал.
– Так кто откроет, если меня на работу вызвали? А Барсик замок открывать не умеет. Сегодня праздную. Пошли, а то там Надька с Гошей всю буженину слопают.
– Спасибочко. Я мигом, – я осталась стоять в параднике, а он убежал куда-то. Тоже мне, кавалер. Хренов. Я всегда так. Если кто мне нравится, я его ругаю, на чем свет стоит. Дурной у меня характер. Мне уже двадцать три, а мужа нет. И не предвидится.
Как хороши были ночи с ним! В книге прочла – очаровательны. Почти три месяца мы с ним жили как муж и жена. Он моряк. Прапорщик. Знала бы я, что он тут в Ленинграде в командировке. Его корабль на ремонте стоял. Он мне лапшу на уши понавешал: мол, я на базе служу. В хозвзводе. Мы с тобой жить будем, что кот в масле.
От него у меня осталась одна его фуражка. Летом-то они фуражки белые носят. А эта черная. Смыло волной моего морячка.
А вот и Вася. Боже мой! В черном костюме, с галстуком. Фраер фраером.
– Вася, ты прекрасен. Но у меня не ресторан. На кухне сидим.
– Ничего ты не понимаешь, Тамара. Праздник должен быть праздником.
– Ты сам-то понял, что сказал? Пошли уж! И брось пакет-то.
– Это подарок тебе. Зачем бросать.?
– Дорогой, – с грузинским акцентом сказала я и подхватила Васю под руку, – пошли. Гостем будешь.
Пошли, как два фраерка. Идем по дорожке, а тетки так и зыркают. Мне же слышно, что они говорят: «Вишь, Тамарка-то Ваську захомутала. Теперь кажный день мясо трескать будет».
В квартиру вошли, я тут же носом своим учуяла. У меня опыт. Надька сияет. Гоша лыбится по-идиотски. Понятно. Надька своего не упустит. Это дело не хитрое. Я так не могу. Мне надо, чтобы все было красиво. Не по-кошачьи.
– Тамарочка, – вопит Надька, – мы ничего не ели и не пили. Тебя дожидались, – сучка, хотя бы утерлась. Губищи мокрые и распухшие.
Не съели, но выпили. В бутылке половина.
– Тамара, – Василий серьезен, как на экзамене, – поздравляю тебя, и вот возьми. Это тебе, – достает из пакета настоящие джинсы.
– Спасибо, Вася, – облобызала его – и мигом в спальню. Примерить. Тютелька в тютельку. Молодец Вася. Угадал размер, а ведь ни разу я ему не дала мою попу облапить. По длине, конечно, великоваты. Но это так и нужно. Подогну. Ноги у меня длинные. Мало надо будет укорачивать.
Сели. Буженина сочится. Салат светится майонезом. Язычок говяжий в хрене томится. Принесенная Васей бутылка 0,7 водки прохлаждается в холодильнике.
– Тамарочка, – начала наш праздник Надя, – я тебя знаю вот уже, – тут я ее перебиваю:
– Не надо говорить, сколько лет мы знакомы.
– Пусть так. Ты молодец. И работа у тебя хорошая, и живешь ты в квартире одна. Желаю тебе в этом году найти хорошего мужа!
– Мужья – не грибы. Чего искать-то?
– Правильно говорит Тамара, – встревает Вася, – замужество и женитьба – это как судьба. Можно всю жизнь прожить, а свою половинку не встретить. Так что выпьем за удачу Томину.
– Не знала я, Вася, что ты лирик. Но за удачу выпью.
Так и понеслось. За удачу хлопнули. Салатиком закусили. Вторую выпили, как положено, за родителей моих. Не чокаясь. Но третью пили уже за друзей, чокнувшись. Тут и водка в моей бутылке кончилась.
Через час мы уже говорили, перебивая друг друга.
– Вот у нас в ЖЭКе бухгалтерша все норовит нас обдурить, а сама себе и начальнику премии стрижет и стрижет. Я же знаю: мы на двор грязь мести, а они в кабинете запрутся и ну давать угля народу, – это, конечно, Надька.
– Я так скажу. Если вовремя не сделать вентиляцию легких при травме грудной клетки, то пострадавший уйдет через десять минут, – это Гоша.
– Нет, – как будто спорит с ним Вася, – если мясо подморожено, то с кило набегает граммов пятьдесят.
Я молчу. Это привычка у меня такая. Больше слушать, меньше болтать. Меня заботит, хватит ли выпивки. Закусь сообразить всегда можно. А вот водку дома не сваришь. За окном темень непроглядная. Там холодно. Кто пойдет в магазин?
– Хватит языками чесать. Водка кончается. Что делать будем? – Гоша, Гоша. Взял бы и пошел сам. Как же?! Он доктор.
– Я пойду, – Вася.
Чего я тут буду делать с ними. Надькой и Гошей. У Надьки уже руки чешутся. Да и Гоша свои руки в карманы штанов запустил.
– Вася, я с тобой. Воздухом подышу и прикуплю чего-нибудь на закуску.
Желтый фонарь светит в дальнем краю нашего двора. Жутковато. Где-то за корпусами скрежещет трамвай. Рельсы давно надо менять. Выскочил наш дворовый пес. Сволочи с пятого этажа завели щенка. Побаловались и выкинули на улицу. Я бы его приютила, но мой же Барсик ему всю морду исцарапает. Вот и подкармливаю.
– Тарзанчик, – так я его зову, – потерпи. Куплю чего и тебе.
Удивительный пес. Все понимает. Машет хвостом и бежит рядом. Так и пошли в «стекляшку». Там и водку купить можно, можно и чего-нибудь на закусь высмотреть.
– О закуске не беспокойся. Я с Ниной из гастрономии хорошо знаком.
– И как она?
– Умная. Ее с пятого курса универа выгнали. Какие-то стишки распространяла. Нигде на работу не брали. Я за нее похлопотал. Сначала подсобницей работала. Теперь в гастрономе. С ней каждый дружбу хочет водить. Она гордая.
В магазине пусто. Ни людей, ни товара. Водка одна и минералка.
– Ты иди за водкой, а я с Ниной поговорю.
Водки я купила. И то со скандалом.
– Мы в одни руки отпускаем одну бутылку.
– Так у меня две руки, – попыталась я пошутить.
– Я тебе пошучу. Сейчас милицию позову.
– Не надо милиции звать. Вот моя рука. Давай мне, – Вася тут как тут.
– Купил чего закусить?
– И нам купил, и твоему Тарзану.
С неба (мразь-то какая это небо!) посыпалась снежная крупа. Ветер задул и больно бьет в лицо этой самой крупой. Василий обнял меня за плечи и прижал к себе. Вот так, подумала я, пройти с ним по жизни. Это у меня бывает. Такое завихрение в мозгах.
– Тамара, – почти прошептал Вася, – я жениться надумал.
Сердце мое екнуло. Ну не дура ли? Молчу. Жду.
– Ты ее знаешь. Она в винно-водочном стоит.
– Хорошая пара. У тебя закусь, у нее выпивка.
– Ты все о своем. Тебе бы выпить и закусить.
– А у тебя на уме, конечно, одна любовь. Да знаешь ли ты, что такое любовь?
– Знаю теперь.
– Это хорошо.
Иду. И такая тоска меня взяла, хоть вой.
– Давай чего Тарзанчику купил.
Тарзан с хрустом стал грызть косточки. А я украдкой вытирать слезу. Редко я плачу. А тут разобрало. Двадцать три года. Все при мне. Работа хорошая. Жилье, другой позавидует. Да и сама по себе я еще не старуха. А никто не предложит пойти с ним в загс.
Надька сидит на кухне одна.
– Где Гоша?
– Ушел твой Гоша, – это надо же. Он мой. Сама мужика оседлала и вот он мой.
– Что, перестаралась, старая простипома? – тогда в город завезли эту рыбу.
– Девочки, гулять будем дальше?
– Иди домой, Вася! Нечего тебе с гулящими девками делать, – и подталкиваю его к дверям. Вижу, Васю жаба заела. – Водку твою мы сами выпьем. Деньги верну. С получки.
Остались мы с Надей одни-одинешеньки. Надя быстро захмелела и начала клевать носом. И ее я выпроводила. Вот и вся гулянка.
Надо завязывать с этим. Если никто замуж не берет, буду учиться. Решаю я и иду в ванну. Горячий душ обжигает тело. Долго я стояла под его струями. Думала. Это у меня привычка такая. Думать. Лето перекантуюсь, а осенью пойду на курсы повышения квалификации. Хватит сутками мужицкие жопы колоть. Место старшей процедурной сестры освобождается. Наша уходит на пенсию. Вернее ее «уходят».
Горячий душ меня взбодрил, и, поняв, что заснуть не смогу, решила допить водку.
Хорошо все-таки у меня. Уютно и даже красиво. Ну, приведу сюда мужика. Он начнет везде сорить и пачкать. За ним стирай да убирай. Надо мне это? Жрачку ему готовь? Готовь. Его грязные носки и трусы стирай? Стирай. А в результате что? Пять – десять минут кувыркания в постели, когда его надо еще растормошить. Овчинка выделки не стоит. А дети? Так это без замужества можно. Выращу одна.
Боже ты мой! Уже половина третьего ночи. Быстрее в койку. Спать, спать! Мне на работу не надо. Так что буду отсыпаться.
* * *
Небольшая ремарка. В свои двадцать три года Тамара выглядела значительно моложе. От природы она обладала острым умом, хорошо запоминала прочитанное. Одним словом, была способна на большее, нежели быть обыкновенной процедурной сестрой. Заснув, она уже не просыпалась до звонка будильника.
Не могла знать Тамара, что заведующий реанимационным отделением Анатолий Иванович Пехтин давно приглядывался к ней. Ему нужна была именно такая работница. Защитив кандидатскую диссертацию, он задумал превратить отделение в образец. Почти два месяца он в числе других, молодых практикующих и одновременно занимающихся наукой, врачей был на стажировке во Франции. Это было время, когда Де Голь вышел из военной составляющей блока НАТО и отношения между Францией и Союзом потеплели.
Какие там кабинеты! Какое оборудование! Анатолий Иванович, дед которого выходил в море даже при шторме и удачно промышлял треску, обладал в высокой степени амбициями.
Помнил он и крылатое выражение «Кадры решают все». Тамара была отличным специалистом и тоже, он это видел, была честолюбива. Ну а то, что она притягивала его эго подобно магниту на синхрофазотроне в Обнинске, говорить не приходится.
Он решил – пусть пройдет лето, а осенью он перетащит Тамару к себе на отделение.
Как причудливы линии судьбы! Тамара в это же самое время думала об учебе и переходе на более престижную работу. Это слово – престиж, она услышала как-то в гастрономе. Очень понравилось оно ей.
Но подождем до осени.
* * *
Ай да Вася! Закатил такую свадьбу. Закачаешься! И его избранница тоже хороша. Что она с собой сделала, не знаю, но выглядела она в загсе, как молодка двадцатилетняя. Куда убрался ее живот? Не иначе как корсет натянула. Глубокий вырез на груди открывал, как говорила Надька, достояние республики. Что же, будет чем вскормить младенца. Мне, по секрету всему свету, сказали, что она уже на четвертом месяце. Вот и весь секрет.
Нет. Я на такое никогда, хоть режь меня, не пойду. Вася был в костюме-тройке. В нейлоновой сорочке. Дефицит.
Я долго приглядывалась к нему. Трезв. Надо же, как действует этот обряд. Как же я ошибалась! Доехали до «стекляшки», и там он уже был весел.
Терпеть эти «горько» тоже не по мне. Какая гадость – слюнявиться при людях. Я так считаю. Поцелуй даже более интимен, чем само совокупление. Это я как медик вам говорю. Вы когда-нибудь видели, чтобы животные, например коровы с быками, целовались? Я – нет. А вот как бык «покрывает» корову, я видала. Как говорит Гоша, не эстетичное это зрелище.
Через час Васю отволокли домой. Невеста же была в ударе. Ну и что, что на четвертом месяце! Что же ей теперь обкакаться и не жить? То танго. То буги-вуги. А то и вальс. Она и там, она и тута.
Посмотрела я на это веселье и пошла домой.
Иду себе, никого не трогаю. Июнь теплый, но вечера прохладны. Зябко мне, но я не спешу. Дома отогреюсь. Есть и чем, и где.
– Тамара, – кто это вечером. – Тамара, подождите.
Боже ты мой! Наш участковый. Новый. Старый-то совсем спился, и его выперли из милиции.
– Чего вам, гражданин начальник?
– Да так. Ничего. Смотрю, одна идешь со свадьбы. Чего так?
– Это в ваши, гражданин начальник, обязанности тоже входит – интересоваться с кем мы, бабы, спим?
– Зря ты так! Я тоже вот один с пункта правопорядка иду.
– Вы и говорите как-то казенно, – в темноте, говорят, все кошки серы, а он ничего себе. Светел лицом, широк в плечах, и опять меня понесло. – Один? И я одна. Вот и встретились два одиночества. Айда ко мне! На свадьбе драться начнут не скоро. Успеем погреться, товарищ гражданин начальник.
– Пошли, гражданка задержанная.
– Уже и задержанная?
– Я тебя на всю жизнь задержу. Ты, Тамара, мне люба. Будешь моей женой.
Ничего себе, сказала я себе. Вслух я, конечно, выразилась иначе.
– А ты не суетись. Подумай. У меня на тебя компры лет на пять.
У меня матка опустилась. Неужели пронюхал о том, что я с поста тырила. Назначат укольчик доходяге. Я ему просто баралгинчику. А те ампулы домой. Та же Надька за долю малую их сбагрит. Смотришь – в доме новый телек.
– Пошли в дом. Нечего на дворе толковище разводить.
– Петя, ты что, вправду меня любишь? – говорю я, едва шевеля губами. Это уже спустя три часа.
– Завтра подам рапорт на кратковременный отпуск. В загсе я договорюсь. Нас распишут сразу.
– Ты у нас самый главный начальник, что ли?
– Главный не главный, но некоторые слушаются. Меня на учебу отправляют через две недели. Буду не участковым, а настоящим опером. В звании тоже повысят. Так что, Тамарочка, заживем мы с тобою.
Вот ты скажи: есть Бог или нет. Я не знаю. Но судьба есть. Я его слушаю, а сама думаю. Привычка у меня такая. Думать.
А вдруг это и есть мой суженый. Судьба. Парень он видный. С виду здоровый. Все знают, не запойный. Даже выпивши, он себя в руках держит. Если и матюгнется, то парой слов. Я помню, как он Васю нашего оттащил домой, когда тот напился в стельку и начал права качать. Не отволок в кутузку. Не вызвал хмелеуборочную машину. Так мы прозвали машину из вытрезвителя. Добрый, значит, малый. Чем черт не шутит. Пойду за него, ребенка рожу, а там можно и развестись. Прописывать к себе ни-ни.
– Уж больно скорый ты, участковый! Для приличия поухаживал бы за мной. Цветочек подарил, в ресторан сводил. Чай не на войну собрался.
Знала бы, да ведала, что произойдет через год. Он же мне в ответ.
– Две недели ухаживаний тебе хватит? – говорит эту чушь вполне серьезно. Мне даже смешно стало.
– Ты, Петр, чудак большой. Ты это все всерьез? Или приглянулась тебе моя квартирка?
– Я, Тамара, с малолетства привык быть серьезным. Детдомовский я. Там сопли быстро подтерли. Кулаком да ремнем. А что касается твоей квартиры, то мне и своей комнаты достаточно. Можем и у меня пожить, – помолчал и добавил. – Пока не родишь.
– Тогда, товарищ участковый, детдомовец, начинай ухаживать прямо сейчас. Проводи до дома.
Дошли до моего подъезда. Я жду, когда он начнет приставать. Он руку пожал и намылился уйти. Я ему:
– Что ж, и ко мне не подымишься? Чаю с кофеем не попросишь?
– Кофе на ночь не пью, а от чаю не откажусь.
Идем по лестнице, лифт, как всегда, не работает, я думаю, когда же он начет. Чаем напоила. Сидим. Он молчит, и я молчу. Мой Барсик один «говорит». Трется о ноги милицейские и урчит. Вот жучара.
– Так, я пойду, – то ли спрашивает, то ли просто говорит Петя.
– Иди.
– Завтра у меня дел на участке почти нет. Отрапортую в отделение и свободен. Сходим куда?
– Сходим.
– Так я зайду после одиннадцати?
– Петенька, завтра выходной. Я буду спать в одиннадцать.
– Разбужу. Много спать вредно.
– Это кто же тебе такую чушь сказал?
– Я читал, что все великие люди спали мало. Наполеон спал три часа.
– То-то драпал он из России так, что пятки сверкали.
Забавно с ним говорить. Он вроде взрослый малый, а говорит, как дитя малое.
– Кутузов тоже спал мало.
– Откуда ты знаешь-то?
– Знаю, – и весь сказ. Помолчал и дальше. – Ты вот думаешь, милиционер – он дурак. Книжек не читает. А я много читал. Это мое хобби.
– Нате вам, какие слова знаешь.
– Ладно уж. Пошел я, – и уже в дверях. – Спи. Зайду завтра после полудня.
Ушел. Я сижу. Молчу. Барсик ушел в спальню. Жучара же! Ушел милиционер, и мне стало тоскливо. Что-то в нем есть. Что – не пойму. Думаю. И надумала. Без пол-литра не разберешь. Достала бутылку из холодильника. Нарезала огурчиков. Остатки. Наболтала в графине клюквенного варенья с водой. Лучше любого лимонада.
Сижу. Думаю. Это у меня привычка такая. За окном темно, но видно, как отражается желтый свет фонаря. Тоска! Выть хочется. Хлоп рюмку и жду. Потекло, согревает. Не закусываю. Жду. Пора и вторую. Хлоп вторую. Запила глотком моего лимонада. Жду.
Что им! Кто-то в дверь звонит. Это надо же! В час ночи звонить. Может, Петя? Вскочила и побежала открывать.
– Тамарка, – орет пьяная Надька, – Тамарка, чего ты ушла-то? Мы так веселились. Так веселились.
– Уймись и зайди. Соседей разбудишь.
– Я иду, – уже шепотом, – вижу у тебя свет в окне. Дай, думаю, зайду. Вот, смотри, – достает початую бутылку водки.
У меня эта водка уже из ушей прет. С души воротит.
– Спать иди, шлендра. Мало тебе?
– Я – шлендра? – орет, как свинья недорезанная. – Я – шлендра? От нее каждый день мужики выскакивают, словно лимоны выжатые. А я – шлендра!
– Да не ори ты! Проходи уж в дом.
Разбудила-таки соседей. Они в крик:
– Милицию вызовем!
– Вызывайте участкового, – отвечаю. Дверь прикрыла, и Надьку в кухню потащила. Та как-то враз сникла, размякла. Тащи эту воблу сушеную.
– Тамара, Тамара, – и в слезы.
– Не реви. Выпей, полегчает.
И тут начала она мне душу свою открывать. Лучше бы не открывала. Помойка, а не душа. Узнала я, что второго ребеночка прижила она от начальничка своего. Что мужа ненавидит смертельно. Готова прибить его, да боится. Что болезнь у нее такая. Она в книге вычитала. Бешенство матки. По-научному истерия.
Как тут не выпить еще! Хотя и воротит. Вот так обе пьяные и сидим на кухне. Досиделись до того, что в радио запиликало. Мама моя родная! Пять утра уже.
– Иди домой, Надька! Мне спать надо.
– Мне тоже надо. Я тута прилягу. Сосну у тебя. Не хочу домой идти.
– Еще чего, – я представила, как придет Петр, а тут эта валяется. Что подумает.
Еле-еле выпроводила за порог. Уже гимн заиграли по радио, когда я наконец-то улеглась. Голова – на подушку, а я в сон. И снится мне мужчина. Не Петя, не Гоша и не Вася. Как бы чужой, но до смерти близкий. Так и кажется, что я его с детства знаю. Он стоит рядом с кроватью. Улыбается так хорошо. А я – надо же такое! – лежу голенькая совсем, и мне не стыдно. Он улыбается и молчит. Я тоже молчу, но знаю, это мой отец. Отца-то я помню. Но этот не тот отец, что я помню. Но отец. Надо же, такое приснится.
Проснулась от звонка в дверь. Спросонья никак не могла понять, где звонят. Выскочила в прихожую в одних трусиках. Хорошо топят коммунальщики.
– Кто там? – кричу, а в ответ:
– Милиция.
Думаю, Петя это. Прикрыла рукой грудь и открыла.
Мама моя родная, а там двое незнакомых мне мента.
– Вы такая-то? – в лоб мне.
– Я самая, а что надо-то?
– Мы пройдем, а вы оденьтесь. У нас к вам вопрос есть.
Накинула халатик. Вышла. Они как встали у дверей, так и стоят.
– Может быть, хотя бы на кухню пройдем, – говорит тот, что постарше.
– У вас вечером в гостях кто-нибудь был? – это все старший.
– Был. Наш участковый. Петр. По батюшке не знаю.
– Уточним, – этак с хитрецой все тот же мент со звездочками на погонах. – А еще кто-нибудь был?
У меня со сна память выдуло. Все тот мужчина перед глазами. Но не он же был у меня в гостях. Этот мент с погонами опять гундосит. Насморк, что ли, у него?
– Вы Надежду Бабкину знаете?
– А кто ж не знает нашего дворника?
– Она, случаем, к вам вчера не заходила?
– Вчера нет, а сегодня да, – так я шучу.
– Уточните, в котором часу.
– Когда пришла, не скажу. Пьяные мы с ней были. На свадьбе погуляли. А вот когда я ее выпроводила, скажу. Как раз радио пиликать начало.
Они переглядываются и головами закивали, как китайские божки, что у меня на шифоньере стоят.
– Вы посидите. Мы пока бумагу составим, и вы подпишите.
– Это, с какого такого рожна я буду чего-то подписывать?
– Здесь не подпишешь, – на ты перешел мент, – в отделение доставим. Там и не то подпишешь, прости господи.
– Ты что, свечку держал? Оскорбляешь. Да! Я на вас управу найду.
– Успокойтесь, – это уже молодой, – так положено. Надо подписать протокол допроса.
– Это что же – я уже и виноватая?
– Нет. Только свидетель, – это опять молодой. А старший, сука:
– Пока.
Тут опять звонят в дверь.
– Идите, откройте! О нас ни звука, а сами за дверью спрятались. Прямо детектив какой-то. Как в кино.
– Тамара, я пришел сказать и извиниться перед тобой. Сегодня гулять не пойдем, – Петя. Мой Петя.
– Лейтенант Пронин, – рявкает тот, который со звездочками на погонах, – разговорчики.
– Виноват, товарищ капитан.
– Чего вы на моего жениха орете?! Он ко мне пришел.
– Я и вчера был у товарища Ининой. До одиннадцати вечера был, – Петя серьезен.
Помялись, потоптались и ушли. А чего приходили, я так и не поняла.
* * *
Из протокола осмотра места происшествия:
«Труп мужчины лежит на полу у дивана на спине. Правая рука на груди, левая вдоль тела. Мужчина одет в трусы черного цвета. На голове, в ее левой височной части, открытая рана. Рядом с телом кухонный молоток для отбивки мяса…»
Ну и так далее. Судмедэксперт по окоченению трупа определил время убийства. В промежутке между шестью и девятью часами утра. В квартире больше никого. Труп обнаружила соседка. Утром уходила на дежурство в трампарк и увидела открытую дверь. Заглянула и увидела соседа мертвым.
Где дети и их мать, никто не знал. Девочке семь. Мальчику пять.
Вот таким было то утро.
Надежду Ивановну Бабкину арестовали через два дня. Она с детьми пряталась у дальней родственницы убитого ею мужа в Парголово.
На первом же допросе она призналась в убийстве. Правда, никаких деталей не помнила. Пьяна была сильно.
Заседание суда продолжалось два дня. Надежду осудили и приговорили к пяти годам содержания в колонии общего режима. Детей определили в детский дом № 5.
* * *
Петр ухаживал за мной все двенадцать дней. Сводил меня в ресторан. Два раза были в кино. Один раз подарил мне какие-то чахлые цветочки. Зима же.
– Это наши обручальные кольца, – сказал он мне на тринадцатый день, – послезавтра поедем в загс.
Я не противилась. Убийство Надькиного мужа подействовало на меня сильно. Я так и видела ее лицо, опухшее, красное и слова ее: «Страсть как ненавижу его». Он меня лапает, а меня воротит. Так и вырвет. Убила бы!»
Говорили, что нашли его голым. Значит, он начал то, что Надька называла «лапает». Тут она его и прибила. Интересно чем.
– Не забудь взять паспорт, – Петя, Петя. Знал бы ты, чем занята моя голова. Как бы ни случился и у нас с тобой такой расклад. Я ведь терпеть долго не буду. Тьфу-тьфу. Чур меня.
Все эти дни я вспоминала сон в то утро. Постепенно в душу мою закрадывались сомнения. Я вспоминала слова какой-то тетки в детском садике: «Вылитый Федор Петрович!» Моего папу звали Вениамином.
– Ты меня слушаешь?
– Слушаю, слушаю. Паспорт не забуду, – сама же думаю, не забыть бы вообще в этот загс прийти.
Расписали нас быстро. У Петра свидетелем был тот самый капитан, что допрашивал меня, а у меня – моя напарница. Надьки же не было.
Отметили у меня. Собралось народу немного. Быстро и разошлись. Утром мы уезжали в Псков к родителям мужа.
На этом можно было бы окончить историю с географией о моем замужестве. Одно скажу по секрету.
За день до нашего бракосочетания я дежурила в ночь. Анатолий Иванович пришел ко мне на пост после полуночи. Все спят. На отделении спокойно. У меня чаек готов. В холодильнике, где мы храним некоторые препараты, колбочка с настоечкой спиртовой. Бутерброды я принесла из дома. Думала, поужинаю и прилягу. А тут он:
– Можно к вам, Тамара Вениаминовна?
Пили-ели мы вдвоем. Никто не мешал нам. Говорил Анатолий Иванович интересно. Был ласков и нежен. Я «улетела».
– Так мы договорились, Тамара. Осенью ты переходишь ко мне на отделение.
До осени дожить надо.
Глава вторая
9 декабря 1979 года в родильном доме родила Тамара Вениаминовна Инина. Это я. Как ни настаивал Петр на том, чтобы я взяла его фамилию, я отказалась.
– Пойми, дорогой, у меня нет братьев. Помру я – и уйдет наша фамилия. Дети же с твоей фамилией будут.
Убедила. Мой Петя молодец. Окончил свои курсы. Получил капитана и стал оперуполномоченным в нашем районном отделении милиции. Три месяца работал там. Принял участие в задержании особо опасных вооруженных преступников и за это был награжден.
Я же тоже, несмотря на живот, прошла курсы повышения квалификации и теперь работаю у Анатолия Ивановича. И работа ответственная, и зарплата больше.
В роддом меня отвез сам муж. На милицейском уазике. Как переполошились сестрички там, когда мы подкатили с сиреной и мигалкой!
Роды прошли без осложнений. Малышка, девочка, родилась чистенькой, волосатой. Мы с мужем договорились, что если будет мальчик, то назовем Иваном. И у него отец Иван, и у меня Иван. Если же дочка, то Машей.
Грудь Машенька брала хорошо. Через пять дней меня определили на выписку. Снегу за ночь навалило чуть ли не по колено. Небольшой мороз и пасмурное небо. Но на душе у меня было яснее ясного. Добилась своего. Я – мать.
Муженек мой приехал опять на служебной машине. Где-то раздобыл гвоздики. Красные гвоздики на фоне белого снега. Красиво!
Мы уже садились в машину, когда я у ограды увидала своего начальника. Анатолий Иванович стоял у ворот, и в руках его были тоже красные гвоздики. Мы уезжали, но я успела увидеть, как он бросил цветы под колеса машины.
Что же, милый доктор, придет время, и ты бросишь цветы уже под ноги дочери и матери. Так-то.
Для Маши мы с Петей оборудовали уголок в спальне.
– Спать, мой милый муженек, будешь в гостиной. И не возражай!
– Это как же? Я же муж тебе.
– Именно, что муж. А не любовник. После родов мне заниматься любовью нельзя. Потерпи.
На том и сошлись во мнениях. Маша спит. Мы же решили отметить мое возвращение домой.
– Я счастлив, Тамара.
– Что такое счастье? Петенька, милый мой, счастье – это свобода. Ребенок – большой труд. Бессонные ночи. Постоянная тревога. Ты готов к такой жизни?
Я выпила пятьдесят граммов водки. Не повредит. Я-то знаю. Таков мой организм. Выпью и становлюсь злой. Так и хочется врезать в морду. Петя, Петя. Мать моя родная! Неужели ты ничегошеньки не чувствуешь? Как донор ты хорош, но жить с тобой под одной крышей, есть из одной миски, спать в одной кровати… Уволь!
– Это и есть счастье, Тамара. Счастье материнства.
– Ты прохлаждаться будешь, а мне – это самое материнское счастье. Так?!
– Я буду зарабатывать. У меня служба.
– За твою службу тебе и платят, как псу цепному. На кость и воду хватает.
Что тут приключилось с Петенькой! Лицо его покрылось пятнами цвета очищенной свеклы, глаза округлилась и налились кровью, рот открылся, обнажив язык. Зрелище мерзкое. У кого-то, может быть, маска гнева устрашающая. Но не у Пети.
В таком состоянии он пробыл минуту. Вдруг вскочил, выдавил из глотки клич вождя апачей и выбежал из квартиры. Мне показалось, что он вышиб дверь.
На меня напал смех. Машенька проснулась. Началась так называемая семейная жизнь. Муж в бегах, дочь в слезах. Я в полуистерике. Весело!
Машу я успокоила быстро. Дала грудь – и всего-то. Поел младенец, я перепеленала его – и он спать. Я тоже успокоилась. Вернулась на кухню и стала методично напиваться. Первый день после родов дома – и на тебе! Такой фокус-покус. Молоко я сцедила и поставила в холодильник. На сегодня Маше хватит. Завтра все из меня выйдет. Все будет хорошо, Тамара, успокаивала я себя. И медленно, целеустремленно напивалась.
Не знала я, что через тридцать дней буду пить горькую, провожая Петра в «командировку в вечность». Выполняя интернациональный долг, капитан милиции в августе 1980 года погибнет, подорвавшись на пехотной мине французского производства.
Потом, на тайных поминках, мне его боевой товарищ расскажет, что за сволочь эти французские мины. Петр мог бы жить. Но не было рядом никого, кто мог бы наложить жгуты. Истек кровью мой первый муж.
Ох уж эти французы. Сделали такую мину, что не убивает человека, а только отрывает ему ноги. Гуманисты хреновы.
Наши вояки тоже хороши! В военкомате такого туману навели, упаси Боже! Откуда я могу знать, что такое «груз-200»? Я ему, этому лысому майору, говорю:
– Когда и где я могу забрать тело мужа, чтобы по-христиански похоронить?
А он мне:
– Мы сами не знаем, когда прибудет «груз-200». Заходите, мол.
Это что же за паскудство такое? Я медик. Мне ли не знать, сколько времени труп может быть вне холодильника. Чего я буду в землю опускать?
Одно скажу. Хоронили Петра в закрытом гробу. Стыд и позор. Никого от его службы. От военкомата пришел тот майор. И зачем? Затем, чтобы предупредить меня, чтобы я или кто другой слова о его командировке не сказали. Вот ведь как. Для меня Петр муж, убитый. А для них это «груз-200».
1 сентября я вышла на работу. Дети, в школу собирайтесь! А я – на работу, как на каникулы. Там меня ждут. Там я нужна не как дойная корова, а как специалист. Там, наконец, меня ждет, я в этом уверена, Анатолий Иванович.
Что это было? Мое замужество. Роды. Смерть мужа. Что это? Хотя я и говорю, что есть у меня привычка думать, но тут мои мозги закипают.
Как сказать Анатолию Ивановичу, что дочь-то его. Мне ли не знать? Тогда Петр круглосуточно дежурил по Управлению и учился на своих курсах. Не было у него сил исполнять свои супружеские обязанности. Петя был хоть и крепким мужичком, но все же…
Машеньку определила в ясли. Ну и название. Телят тоже в яслях держат. Теперь в шесть утра я уже на ногах. Кормление дочери. Себе стакан чаю и бутерброд. Морду поставить надо? Надо. На это минут десять уходит. Бегом, бегом. Закинула Машку в ясли и опять бегом на трамвай.
– Спешишь все? – кричит мне вслед тетка, занявшее место Нади. – Ноги не обломай!
Я успеваю ответить:
– Мети лучше, сучка драная!
Листья уже вовсю летят с деревьев. Мне они нравятся. Красиво и приятно шуршат под ногами. Но сейчас мне не до них. Не могу я опаздывать. Все-таки я начальник. Старшая медсестра на отделении. У меня в подчинении пять сестер и три санитарки.
– Товарищи, – Анатолий Иванович, как всегда, чисто выбрит, свеж лицом, на нем накрахмаленный халат и оригинального фасона шапочка. – Тамара Вениаминовна приступает к своим обязанностям после большого перерыва. Прошу помочь ей войти в рабочий ритм.
Лучше бы он этого не говорил. Знаю, как они будут помогать. Наоборот, палки в колеса будут вставлять.
Через час на отделение по скорой помощи поступил мужчина сорока лет с открытой черепно-мозговой травмой. Пять часов наш нейрохирург с бригадой в семь человек «колдовали» над ним. Они сумели его вывести из шока, восстановили сердечную деятельность, близкую к норме, стабилизировали АД и пульс. Со стола сняли, в общем-то, живого человека. Но был ли Олег, так звали пострадавшего, в полном смысле человеком, я не решусь утверждать. Кома – koma.
– Тамара, – Анатолий Иванович сам зашел ко мне, – вот план лечения больного на два дня. Готовьте все необходимое.
У меня на языке так и вертится – зачем все это? Ясно же, не человек он. И вряд ли им когда-нибудь будет.
Молчу. Он давал клятву Гиппократа. Ему виднее. Через час у меня все было готово. Подошел и мой час. Мне за Машенькой надо в ясли.
– Тамара, – мы с Анатолием Ивановичем курили на лестничной площадке, – я все понимаю. Но и вы поймите меня. Мне нужен работник, а не человек, отбывающий часы на службе. Вы не можете как-нибудь так устроить, чтобы не срываться и бежать за дочерью.
Я его понимаю. Наша работа такая. Что же, буду переводить Машу на круглосуточные ясли. Мне, как ни крути, работать надо. Никто теперь не поможет. А жить надо. Дочь растить, да и своя жизнь не кончилась. Разве не так? Скажите.
– Я вас поняла. Сегодня же переведу дочь на круглосуточные ясли.
– А муж не может хотя бы забирать девочку?
– Моего мужа убили.
Анатолий Иванович покраснел.
– Ради Бога, простите! Я с этой работой совсем сухарем стал. Примите соболезнования. Я понимаю. В милиции служба опасная.
– В Афганистане его убили.
– Да, да. Тяжелое бремя легло на страну. Но это жизнь. Крепитесь!
Так и хотелось сказать ему:
– Уж лучше бы понос.
Да не поймет этот интеллигент моего юмора.
– Так я побежала?
– А можно я к вам после дежурства зайду? – прорвало беднягу. Я же вижу, он слюной исходит, глядя на меня. Помнит ту ночь.
– Не надо, – вижу он готов расплакаться, – пока. Еще сорок дней после похорон не прошло. Потом. Потом все будет.
Понял, милый доктор. Даже вздрогнул от радости.
А того доходягу мы «вытащили». Жена плакала от радости, когда он узнал ее и сказал несколько понятных слов.
Мои девочки смирились с тем, что я их начальница, и стали работать слаженно и прилежно. Нас даже отметил на общеклинической конференции Главный врач. А Анатолий Иванович сдал автореферат докторской диссертации в типографию. Впереди защита.
Машенька росла. Лишь один раз приболела, но не сильно. Наверное, пошла в папашу моего. Он был здоровяк. Не разбейся на стройке, жил бы, как все его пращуры, лет до девяноста. А может быть, и не в него. Мои сны провидческие. Помню того, что стоял надо мной голенькой. А мне стыдно не было.
Чувствую, вам не терпится узнать, приходил ли ко мне Анатолий Иванович. Чего рассусоливать. Приходил. И не раз.
Скажу вам другое. Надька вернулась. Вот это штука! Дали ей пять лет, а прошло всего около двух.
Я столкнулась с ней во дворе. Прошла мимо и не обратила внимания.
– Что, не узнаешь? – окликнула она.
А как узнать? Была тощей. Стала полненькой. И это в колонии! Волосы стрижены так коротко, что, ее, глядя на попу, можно принять за мужика сзади.
– Сбежала? – что же еще подумать. За убийство же посадили.
– Так бы я тут расхаживала. Дело пересмотрели. Кто-то постарался. Переквалифицировали и вот отпустили по УДО.
– Это что за чудо такое?
– Условно-досрочное освобождение. Вот чего. Иду комнату смотреть.
– И это уду тебе, и комнату тебе. Другие на очереди всю жизнь стоят, а тебе – тут же.
– Закон такой. Я же жила тут.
Смотрю на Надю и не узнаю ее. Как колония могла изменить эту женщину. Пополнела и похорошела. А то, что волосы обрезала, так это к лучшему. Еще я обратила внимание, что стала бывший дворник как бы чище, что ли.
– Пойдем вместе, – пока я размышляла, Надя не стояла на месте, – посмотрим, что за хаверу мне предложили.
Маша в яслях. Дома шаром покати. Все едино, хотела в наш магазинчик заскочить. Может быть, у Васи мясцом отовариться.
– Сначала в магазин зайдем, потом уж пойдем смотреть твои апартаменты.
Зарядил дождь. А желтый фонарь все так же светит мрачно. Добежали до магазина. Быстро так. В магазине пусто. Кто же в такое время по магазинам ходит? В отделе «Вино-водка» стоит новая барышня. Крашеная блондинка с бюстом размером шесть. На полках одно «Полюстрово». Это надо же!
В мясном наш Василий прохлаждается. Трезвый и от того злой. Увидал Надьку и как заорет:
– Смотрите, кто к нам пришел! Наша Софья Перовская, – хохочет стервец. – Местного разлива.
– Заткнись! И тебя порешу.
– Ой, испугались! Иди, Надюша, мясца отрублю на закусь.
– Мне отруби, клоун Юрий Никулин местного разлива.
– Так за ради Бога, Томочка, – угомонился и пошел в подсобку.
Через минуту оттуда уже слышалось – тук-тук. Рубит. А на прилавке пусто.
Одним словом, мы с Надей вышли из магазина и с мясом, и с водкой. Василий навязался ко мне в гости. Знала я, что его семейная жизнь не удалась. А как же иначе? Попался он, как карась, на крючок. Знаю я эти приемчики – мне можно, можно. А сама как раз в том моменте, когда подзалететь можно, стоя с подветренной стороны мужского туалета. Какая же тут счастливая семейная жизнь?
Посмотрели комнату. Ничего комнатка. Бывшая колясочная. С туалетом в нише. Выпили по сто.
У меня не разгуляешься. Мне в шесть вставать. Так что разошлись рано. В десять вечера.
Уж через неделю я узнала, что Вася в ту ночь ночевал у Надьки. Да так там и остался жить. Вот крику-то было! Женушка его, нет чтобы дома с ним разобраться, вытащила дитя на улицу и ну орать на весь наш большой двор:
– Вчерась из тюряги вернулась, а уже чужих мужей от жен законных уводить. Сука драная!..
И так далее.
Даже наш новый участковый оторвал зад от стула и приперся. Стоит. Молчит. Ухмыляется.
Поорала женушка да ушла к себе.
– Расходитесь, граждане. Спектакль окончен, – скомандовал участковый и двинул к обиженной неверным мужем жене. Протокол составлять. Не иначе как. Только рассказывают, через час Верка, жена обиженная, побежала в магазин.
А Вася так и остался жить в комнате, где уборная в нише.
Со мной так бывает. Начну рассказывать что-то, а вспомню другое. Вот и заболталась.
– Тамара, – говорил Анатолий Иванович уже сидя у окна на кухне у меня дома, – не будем лукавить.
– Я не лукавлю. Мне какой смысл?
– Я не о том. Мне тридцать пять. Я обременен семьей, – он такой, наш заведующий. Слова в простоте не скажет. – Загружен работой. Это смысл моей жизни. Я постоянно в поиске, – слушаю, не перебиваю. Чего еще скажет. – Вокруг меня постоянно люди. Я знаю, я нужен им. Но я так одинок, Тамара.
Тут я не выдержала:
– Бросьте вы! Чего нюни распустили? Одинок он. А вы пригласите кого-нибудь вместе выпить, закусить. Это жизнь. Вы же не монах. Ко мне вот ходите. Что и я вам уже надоела?
– Как вы правы!
– Значит, надоела?
– Не о том. Не о том. Я как раз и хотел сказать, что с вами я обретаю душевный покой. Мне с вами просто хорошо.
– Так чего расплакался, дурачок ученый?
– Я не могу, не имею права бросить семью. Моему сыну Мишке семь. Он у меня поздний.
– Кто же просит тебя бросать семью? Из партии погонят. С работы уволят. Нельзя разводиться.
– Как же жить?
– Так и живи. Я, что, чего-то требую от тебя? – У меня уже скулы сводит от этого разговора. Недаром кто-то сказал – гнилая интеллигенция.
Поговорили. Он ушел, а я принялась за уборку. Это у меня такая привычка. Расстроюсь и начинаю уборку. Отвлекает. Через час потная, но довольная я свалилась на тахту. Передохну, приму ванну и пойду гулять. На работу завтра не надо. За меня Валентина Ивановна осталась. Ей доверять можно.
Чистая и благоухающая я вышла из ванной. Чаю выпила. Посидела. Куда я пойду? Дома лучше. На дворе уже темно. Начало октября. То дождь, то солнце. Ветер. Холодно.
Глава третья
Что за притча! Как встану с постели, так начинает подташнивать. Машеньку в школу спроважу – и хоть опять в койку ложись.
Так и делаю. Минут десять полежу. Отойдет, и тащусь на работу. Мои девочки знают, что без меня делать. Нас в лаборатории семь человек. Я заведующая. Анатолий Иванович с отделения реаниматологии ушел. Теперь он заместителем главного врача работает. Он доктор медицинских наук, и все говорят, будет главным скоро. Но кто его знает. Там такая кухня.
Отошло. Можно и идти. Сегодня обязательно сдам кровь на клинический и билирубин. Печень у меня с детства пошаливала. Столько пить – какая печень выдержит!
Вот и опять весна. Весну не люблю. И день рождения свой отмечать не люблю. Не могу забыть тот день рождения. Васю, Надьку, Гошу. Какую свинину Васька мне тогда подарил.
А желтый фонарь заменили на галогеновый. Теперь синим светом светит. Но все равно противно.
Гошу вспомнила. Он скоро от нас ушел. Его пригласили в клинику Углова. Что же, он мастер. Каких доходяг из смертной ямы вытаскивал.
К Петру езжу один раз в год. Цветочки положу. Выпью стопку. Как же, был мужем мне.
1987 год. Сколько воды утекло! Мне тридцать три. С Анатолием Ивановичем у нас все хорошо. Жена сама ушла от него. Сын с ней. Но живем мы с Анатолием Ивановичем порознь. Я так захотела. Привыкла я жить одна.
Мамочки, остановку проехала!..
День пролетел, не заметила. Работаем мы, как рабы. От лабораторных столов не оторваться. Больных почти полтысячи. А еще из поликлиники подбросят то кровь, то мочу.
– Тамара Вениаминовна, – это самая молодая моя лаборантка Наташка, – можно к вам?
– Чего рожи строишь. Случилось у тебя чего? – с нашей Наташей каждую неделю чего-нибудь да происходит. Один раз даже из милиции звонили.
– Это у вас случилось, а не у меня, – у меня сердце так и оборвалось. С Машей что!
– Что с дочерью? Говори, не тяни.
– С вами. Лично, – глаза смеются. Ох, Наташка, Наташка! – Беременны вы, Тамара Вениаминовна.
– Сдурела! Сколько лет мне, помнишь? Перепутали все.
– Можно контрольный анализ сделать. Цито.
– Пошли, – говорю уверенно, по-начальнически, а у самой поджилки трясутся. Это надо же! Дура, решила, что в моем возрасте можно обходиться без презервативов.
Через час мы с Наташкой сидели у меня в кабинете и пили спирт. Закусывали венгерскими маринованными огурчиками. То, что надо.
– Как я вам завидую, Тамарочка Вениаминовна! Старшая – уже школьница. Будет вам помогать, – Наташа слегка запьянела и была весела. – Я вот с кем ни трахаюсь, ой, простите, ни сплю, ничегошеньки.
И тут она сказала такое, от чего у меня мурашки по коже побежали:
– А Анатолий Иванович тоже молодец. Еще может.
Вот так, Тамара Вениаминовна! Думала, все тайно? Ни фига. Все все знают. Знали и молчали. Тактичные девочки.
– Чего болтаешь?
– Тамара Вениаминовна, так все же знают, что наш Анатолий Иванович любит вас, – скорчила гримаску. – Страсть как любит.
Дверь в кабинет я заперла. Кто-то стучит.
– Открой! – а сама быстро убрала мензурки и банку с огурчиками.
Пришли за Наташей. Это ее подруга с пятого поста. Ну и нюх у этой подруги:
– Выпиваете. По какому поводу?
– С устатку пьем, – молодец Наташа. Нечего болтать.
Они ушли, а я еще выпила. Если печень у меня в порядке, так почему же не выпить? Все к одному. Я беременна. Мне повысили именно с сегодняшнего дня оклад, выдали премию, а утром я достала из ящика приглашение в автомагазин. Почти пять лет я стояла на очереди. «Жигули» пятой модели, моя мечта. Сбылась!
Домой я поехала на такси. Не доехала. На полпути опять меня затошнило. Освободила желудок и пошла пешком. Вечер тихий. Народу мало. Идти легко. Не зря же я два раза в неделю хожу в спортзал при школе. Там ихний физрук организовал с ведома директора школы секцию для таких вот молодящихся дамочек. Я среди них была самой молодой.
* * *
Примечание.
К началу 1987 года Тамара весила шестьдесят три килограмма. Могла отжаться раз тридцать, не сбив дыхания. Могла сутками пропадать на работе и потом еще предаваться любовным утехам. Она и дочь приучила к занятиям спортом. Девочка успешно занималась спортивной гимнастикой в школе олимпийского резерва.
Отметим, Тамара сохранила не только фигуру, от природы красивую, но и лицо свое. Мужчины выворачивали головы, увидев ее на улице.
При этом, как мы могли заметить, не ограничивала себя в еде и питие.
Но послушаем ее дальше.
* * *
Во дворе какая-то суматоха. В свете сиреневого фонаря я увидела Надьку, Васю и других моих соседей.
Не буду же толкаться, чтобы протиснуться внутрь этой толпы.
– Вася! Вася! – он-то откликнется. Услышал.
– Чего случилось?
– Нашего участкового убили. Горло перерезали от уха до уха. Кровищи, целая лужа, – странные люди. Человека зарезали, как барана, а им забавно. Даже усмехаются.
Меня опять затошнило. Успела дойти до угла.
Надо же – убили милиционера, а никого из этой самой милиции и близко нет. Вот тебе и демократия, Михаил Сергеевич! Как все восторгаются им. Гладкий, одет, обут красиво. Говорит гладко. Жену же его бабы просто обожают. Им, дурам, нравится, как она одевается.
Не знаю, но мне он не по нутру. Даже противен. Ненастоящий какой-то мужик. И говорит вроде правильно, но что-то лживое. Я слышу. Вот разрешили кооперативы. У нас в «стекляшке» открыл какой-то грузин частный, то бишь кооперативный ресторан.
Один раз мы с Анатолием Ивановичем зашли туда. Ничего не скажу. Не так, как в других. Интерьер оригинальный. Мебель стильная. И все. Официантки такие же хамки. Меню кавказской кухни. Все втридорога. Поешь один раз и зарплату оставишь.
Но, что удивительно, свободных мест нет. Бугаи с девками крашенными. Наглые до безобразия.
Мы с Анатолием Ивановичем ушли, не дожидаясь десерта.
Опять я отвлеклась.
Ушла домой. Да и народец разошелся. А милиционер с перерезанным горлом остался лежать под фонарем.
Больше меня не тошнило. Простите. Все я о своем. Больше не буду. Дело житейское.
– Анатолия Ивановича позовите, пожалуйста, – я редко звоню Толе. Опасаюсь, что ли, его сына. Он в возрасте таком. Трудном.
– Тамара Вениаминовна, – ни тени неприязни, – папа вышел за сигаретами. Чего передать?
– Попроси его мне позвонить, Миша.
– У вас все в порядке? – отцовское воспитание.
– Да, – а что сказать мальчику? Не огорошу же я подростка сообщением о моей беременности.
Лишь подумала об этом, как тут же решила: и Анатолию об этом пока ни слова.
Через пятнадцать минут мы с Анатолием Ивановичем говорили о предстоящей покупке машины. Еще через десять минут мы уже уговорились, что он прямо сейчас приедет ко мне – не потеряем время утром завтра.
Заснула под аккомпанемент громкого мата во дворе. Работали наконец-то приехавшие опера. Убили их товарища, а они разборки устроили – кто виноват в этом. Отголосками до меня доносилось:
– Крышевать надо было по уму.
Или:
– Крысятничал. Вот и пошел под нож.
Ни стыда, ни совести. А впрочем, откуда это у них?
«Пятерочку» мы с Анатолием Ивановичем выбирали долго. Но еще дольше мы добирались до Центра продаж АвтоВАЗа. Два раза я едва сдержала рвотные позывы. Хорошо, взяла с собою леденцы лимонные.
Домой ехали на красной машине. Это мне стоило 300 рублей. Права на вождение я получу через месяц.
Теперь считайте. Вышли мы из дома в шесть утра, а вернулись в семь вечера. Ничего, я дольше ждала своей очереди на счастье быть автолюбителем.
В программе «Время» все тот же Михаил Сергеевич. Через кадр его жена. И, что поразительно, каждый раз в новом наряде. В ушах звенит: «Перестройка необратима, необратима, необратима». Шаманство какое-то.
– Я сегодня у тебя останусь. Надо отметить твое приобретение.
Анатолий Иванович остался у меня надолго. До рождения сына.
Новый, 1988 год мы встречали впятером. Мы с Толей, Маша и наши сыновья. Молодец, Миша. Он так искренне радовался сводному брату.
– Как назовем сына? – этот вопрос я задала Анатолию, после того как мы проводили старый год и выслушали все того же Михаила Сергеевича.
– Иваном, – не задумываясь, ответил Анатолий.
– Что же, звучит – Иван Анатольевич, – так же быстро, как отец, отреагировал Миша.
Когда Мише исполнилось тринадцать лет, мама его буквально взмолилась: «Возьми его к себе! Не справляюсь я».
Думается мне, что не только переходный возраст сыграл тут свою роль. Дошли до меня слухи, мир тесен, что претендент на ее руку поставил вопрос ребром: или я, или он. То есть Миша. Вот и стали жить вдвоем. Сын и отец.
Миша попросился пойти на двор. Там дядя Витя из третьего корпуса устроил фейерверк. Работает этот дядя в каком-то кооперативе. И всего в том кооперативе пять человек, но все умельцы. Один собирает из деталей приставки к телевизорам, чтобы программы из Финляндии принимать. Другой ходит по домам и устанавливает замки с секретом. Правда, месяца через три в эти квартиры стали наведываться воры. А так ничего. Замки крепкие. Кто что, в общем. Дядя Витя начал пить запойно, и его с работы погнали. Пьяный взрывотехник страшнее банды разбойников.
– Тамара, пора нам определяться.
– Говори, пожалуйста, нормальным языком, – я видела, что Анатолий взволнован и даже несколько растерян.
– Хорошо. Мы должны жить вместе. Под одной крышей. Так по-человечески?
– Итак, посчитаем. Я да ты. Это два. Маша и Миша. Это уже четыре. И теперь вот Иван. Это уже пять человек. У меня в квартире две комнаты. У тебя одна, – не хотела я напоминать, что жене он оставил трехкомнатную квартиру в «академическом» доме на Кировском проспекте. – Где будем вить гнездо?
– Ты копила на машину. Я копил на квартиру. Это не упрек. Избави Бог, – а я и не обижаюсь, слушаю. – У меня очередь в кооперативе. Пойду к нашему депутату. Попрошу, чтобы он посодействовал.
– Думаешь, поможет?
– Попытка не пытка. Кажется, Миша вернулся.
Это я дала ключи мальчику. По телевизору начали передавать зарубежную эстраду.
– Теперь наша очередь идти гулять. Я слушать этот вой и писк не в состоянии, – в этом я с Анатолием Ивановичем солидарна.
Местные фейерверкеры ушли, оставив на снегу рыже-черные подпалины. Фонарь мигал. Мело. Ярко светил полумесяц. Под детским грибком двое целовались. Оттуда доносился прерывисто голос женщины:
– Дам, а ты не женишься.
А в ответ фальцетом:
– Я врал тебе. Врал.
Мужчина с голосом ребенка то ли утверждал, то ли спрашивал.
– Скажи, доктор наук, сколько же надо выбросить адреналину в кровь, чтобы на морозе обнажаться, даже частично?
– Думаю, у него в крови в данный момент больше спирта, чем тестостерона, – доктор и есть доктор. – Пошли в сквер!
Новый год начал свой путь и тут.
Глава четвертая
Нашу жилищную проблему мы решили так. Миша остался жить в однокомнатной квартире. Мальчик превратился в юношу. В его рассудительности я могла убедиться не раз. Не по-детски он, например, принял решение оформить наши с Анатолием отношения.
– Это не так уж современно, но верно. Сейчас сплошь пропагандируют так называемые свободные отношения. Я же думаю, что все это от ущербности мозгов.
Миша готовился к выпускным экзаменам в школе. Как ни склонял сына Анатолий к поступлению в мединститут, тот настаивал на своем. Он будет строителем. Далеко смотрит юноша.
Естественно, такое решение жилищной проблемы добавляло нам, да, да, и мне тоже, хлопот. Нельзя же оставлять надолго юношу одного. И речь даже не о его моральном облике. Переспать с женщиной он может и вне дома. Но кушать-то он должен. И не в забегаловках по имени Макдоналдс.
Иван рос здоровым и практически не доставлял мне особых забот. В год он уже был определен в ясли-сад. Я вышла на работу. Нашу лабораторию перевели на хозрасчет. Крутись заведующая теперь. Маша тоже радовала нас с отцом. Без особых проблем Анатолий оформил отцовство. По праву.
– Тамара, готовь меня в командировку, – объявил муж.
Командировка в Израиль. Такого пять лет назад представить, даже во сне, было невозможно.
Забыла сказать. Как всегда, о главном. Мы живем в большой четырехкомнатной квартире. На Васильевском острове. Рядом с гостиницей «Прибалтийская». Депутат похлопотал. Сколько эти «хлопоты» стоили нам сверх того, что надо было внести за квартиру, говорить не буду.
В тайне от мужа я копила на обустройство нового жилья. Главное, решила я, так оборудовать кухню, чтобы там было и красиво, и удобно. Баба есть баба.
* * *
Отступление первое.
Описываемое тут относится к 1993 году. Тамара скромно умалчивает, что три месяца назад она сделала аборт.
Она все так же стройна. Ее волосы тронула седина, но она, в отличие от других ее не скрывает краской. Она успевает раз в неделю посещать спортивный клуб. Там и сауна.
Кстати, и Анатолий Иванович держит форму. Какая бы погода ни была, он в шесть утра уже бежит по берегу залива.
И еще. Анатолий Иванович один раз все же изменил Тамаре. Было это в Москве. Той суматошной. Ельциновско-Дьяченковской. Выживший из ума, руководимый дочерью Борис постепенно сдавался под напором сил, сохранивших государственность.
В гостинице «Россия» Анатолий Иванович занимал номер, где долгое время жила одна из звезд постсоветской эстрады. Может быть, дух разврата и распущенности витал там. Пошутим так. Одно определенно: дело было не просто в шампанском, коли он лег с женщиной из бара в постель.
Пожалуй, довольно отступлений.
* * *
На Земле обетованной муж пробыл две недели. Его лекции прослушало более сотни профессоров.
– Как же ты обошелся без языка? Ты же иврита не знаешь.
– Зато они знают русский. Расскажу тебе тамошний анекдот. Приехал в гости к сыну из России еврей. Сын пошел утром на работу, а его отец решил погулять. Шел, шел и заблудился. На ломаном английском стал спрашивать, как домой добраться. А ему в ответ с хохлятским акцентом: «Ты, шо, батько, по-русски ни в зуб ногой? Тут так не проживешь».
– Не смешно, – у меня к «еврейскому вопросу» отношение особое. Но говорить почему, не буду.
Миша в строительный институт не поступил. Не набрал одного балла. Осенью его призвали в армию.
Маша на каникулы уехала в Америку. То есть в США. Там она полтора месяца будет работать в кемпинге. Кем-то вроде наших бывших пионервожатых.
– Отличная языковая практика и денег привезу, – говорила она, стоя уже за загородкой таможенного контроля в Пулково-2.
Ваня остался дома с няней. Через три дня они уедут к ней в деревню в семи километрах от Порхова.
Ни у меня, ни у мужа ничто не трепыхнулось в груди, когда мы сажали их в междугородный автобус.
Немецкая мина пролежала в земле пятьдесят восемь лет. Ни время, ни влага не истребили ее убийственную силу.
Хоронили мы мальчика, двух лет от роду, в закрытом гробу.
* * *
Отступление второе.
Мало написано о боях в районе Порхова. Но именно там был дан наиболее интенсивный отпор немецким войскам на пути к Москве.
Тысячи солдат полегли в лесах Псковщины. Это были дни, когда немцы превосходили нашу армию во всем. Немудрено, что до наших дней в земле лежат сотни снарядов, мин и прочей смертоносной гадости.
Один из тысячи случай – и погиб мальчик.
Тамара Вениаминовна стоически перенесла похороны, поминки сына. Еще двое суток она держалась. На третий день нервы ее не выдержали.
Анатолий Иванович употребил все свое влияние, подключил свои деловые связи. Врачам удалось снять шок, вывести женщину из комы. Острая недостаточность мозгового кровообращения. Инсульт.
Она осталась жива. Но был ли это тот человек? Человек, который в любых стрессовых ситуациях не терял самообладания, был полон юмора.
– Коллега, – старый товарищ, доктор медицины, практикующий в институте мозга, оперирующий каждый день, приехал сам на кафедру к Анатолию Ивановичу, – традиционные консервативные методы лечения, я надеюсь, вы это понимаете, не принесут желаемого эффекта. Я гарантирую вашей супруге не только жизнь, но и полную реабилитацию. Уверяю вас, Тамара, – старый товарищ-коллега был и другом Тамары, – станет еще краше…
* * *
– Тамара Вениаминовна, – здесь ко мне все без исключения обращаются подчеркнуто вежливо и даже ласково, – через десять минут я сменю воду. Отдыхайте!
То, что было, а может быть, и не было в последние шесть месяцев я не помню. Все мне излагает мой муж. А муж ли? Я перенесла инсульт. Почти месяц я была не в сознании. Об убитом сыне Ване он старается не говорить. Я понимаю – чего уж говорить? Первые дни после моего возвращения в жизнь я не могла даже вспомнить его лицо. Смотрела на фото, где я, мой муж и мальчик, и не узнавала его.
Мою дочь Машу я признала сразу. Она вернулась из Штатов загорелой, окрепшей. Я бы сказала, возмужавшей. Раздалась не только в бедрах, что естественно, но и в плечах. Ее русые волосы коротко стрижены. На затылке выбриты. Чудно! Она уверена в речах и движениях.
– Мама, это Штаты. Там жизнь разительно отличается не только от нашей. От всей европейской. В моем кампусе были ребята из Франции, Бельгии и Германии. Они так же, как я, не могли принять американский стиль жизни. Не верь, что мы, русские и американцы, похожи. Это все выдумки недоумков, прости за тавтологию.
Такой предстала передо мной моя Машенька, которая с года воспитывалась в яслях.
– Тамарочка, пора менять воду.
Голой вылезаю из ванны. И тут же слышу голос сестры:
– Как же вы красивы фигурой. Ни в жизнь не дам вам сорок лет!
Плутовка. Знает, сколько лет мне, а лжет. Ложь во благо. Пусть ее. Она хороший работник. Муж рассказал мне, что до инсульта я работала заведующей большой клинической лабораторией. Значит, сидит во мне начальнический зуд. Давать оценку работающему.
Ванна полна. В воде растворены новые ингредиенты. Можно окунаться. Мне нравится бултыхаться в воде. В озере мне купаться не разрешают. А так хотелось бы!
Отступление третье.
После успешно проведенной операции Тамара Вениаминовна полностью восстановилась. Речь, движение. Она уверенно ходила, ее руки утратили дрожь. Потеря памяти о тех трагичных днях была защитной реакцией и не волновала ни нейрохирурга, ни Анатолия Ивановича.
Как бы компенсируя утраченное, к Тамаре Вениаминовне пришла способность запоминать тексты и речи изустные с лету. Ей было достаточно один раз прочесть или услышать текст, и она могла тут же его воспроизвести.
Анатолий Иванович похлопотал, и Тамара уехала на берега озера Ильмень в частный пансионат для истощенных психикой и нервами женщин и мужчин из среды жен новой лигатуры. Наместники президента были в основном молоды и амбициозны. Многие, войдя в круг, поменяли старых жен на молодых. Вот эти молодые телки, иначе не скажешь, и поправляли тут пошатнувшееся здоровье. Театр!
Отдельные номера. Обстановка на пять звезд. Деликатесные продукты в меню. Обслуга вышколена лучше, чем в Четвертом главном управлении Минздрава Союза.
Как такового тут лечения не было. Да и кого и от чего лечить?
Массажи. Водные процедуры. Если назначали физиотерапию, то только приятную.
Тамара Вениаминовна попала в этот пансионат, больше похожий на загородную гостиницу, в конце июля.
Что же будет с нашей героиней дальше?
* * *
Я долго гуляю по лесопарку. Природа тут спокойная. Смешанный лес чист. Нередко встречаю тут мужчин в униформе, убирающих валежник и расчищающих дорожки. Какие же деньжищи получают хозяева от нас, болеющих хитростью и ленью! Вернее, от наших мужей.
Я – самая старая среди дамочек. У них сложились мини-компании. Я не вхожа в них. Мне и одной тут хорошо.
Как-то, гуляя вдоль берега Ильмень-озера, натолкнулась на троих рыбаков. Они сидели у костра и ждали, когда сварится уха. Какой аромат распространялся от котелка, подвешенного на длинной ветке, один конец которой был воткнут в землю и придавлен большой каменюкой.
Я встала поодаль и вдыхала запах супа.
– Девушка, – это я-то девушка, – идите к нам! Ушицей угоститесь. У вас там таким не накормят.
– Это где же там, у нас?
– У вас в зоне, – хохотнул один.
– Вы правы. Там зона. А тут жизнь.
День выдался солнечным, безветренным. Утром до завтрака я успела принять ванну с солями калия и йодом. Проделать двадцать упражнений для легких. Мой завтрак был не обилен, но калориен. Так что сейчас я, пройдя почти два километра, была голодна.
Мужчина, который предложил мне подойти, быстро соорудил нечто похожее на кресло из пня и веток молоденькой елочки.
– Садитесь. Вам будет удобно.
Все трое рыбаков были в возрасте от сорока до сорока пяти. Одеты в робы из грубой ткани, в высоких сапогах. От них исходил запах рыбы и воды.
– Ильмень надо бы закрыть для туристов-походистов. От них одна грязь и потрава, – начал «светскую» беседу все тот же мужчина.
Остальные согласно закивали. И молчок. На озере «провыл» какой-то катер.
– Иваныч пошел, – прокомментировал Федор Петрович. Он так представился. Тут откликнулся самый, по-моему, младший.
– Значит, у Веры хлеб будет.
– И вино, – добавил другой.
– Вы не подумайте, мы мужчины трезвые. После озера примем по двести, и будет.
Другие молча усмехнулись.
Мне было с этими мужчинами тепло. Говоря языком современных массмедиа, комфортно.
Их язык прост и понятен. Чувства искренни. Вот сейчас кто-то снимет котелок с огня. Его товарищ уже расстелил на траве рядом большую брезентовую скатерть. На ней органично смотрятся эмалированные миски и такие же кружки. Белый подовый хлеб нарезан крупными ломтями. Он аппетитен. Стрелки зеленого лука и пятна ярко-красных помидоров оживляли серость грубой ткани.
– Вы с нами пить будете? – спросил Федор Петрович.
– Если вы о водке, то мне врачи не рекомендуют.
– Но и не запрещают же, – в способности мыслить логично ему не откажешь. – А уха без водки и не уха вовсе. Водка оттеняет ее вкус.
– Вы поэт.
– Вы зря шутите, – вступил в разговор один из рыбаков, – у него книга стихов вышла. Он у нас и поэт, и математик. Так что спора между лириками и физиками у нас нет.
– Когда-то был, – с тоской ответил поэт-рыбак.
– Да. Теперь надо заплатить, чтобы тебя напечатали. Раньше автору платили. Теперь все наоборот.
– Культура наоборот, – Федор Петрович.
Третий в это время разливал уху по мискам, а водку по кружкам:
– Милости просим кушать!
Я впервые ела такую уху. Прав Федор Петрович. Глоток водки подчеркнул ее вкус. Зеленый лук сладок. Помидор сочен.
– Госпожа Инина! – крик доносится со стороны пансионата.
– Это вас. Бегите! Нам на свою… – Федор Петрович замялся. Я ему помогла:
– И мне на свою жопу приключений не надо.
Я уже входила в лес, когда слышала его голос:
– В субботу приходите! Коптить будем.
Вежливо, но исключительно зловредно, меня отчитали в «зоне».
До субботы я жила ожиданием встречи с рыбаками. Скажу уж прямо: встречи с Федором Петровичем. Мне очень хотелось прочесть то, что лезло мне в голову: «Ставь свечку каждый день. Ставь свечку. Ставь свечку к иконе Божьей Матери. Ставь свечку. Моли ее. Проси. Проси любви. Моли ее о том, с кем хочешь быть и жить…»
Что скажет он? Все-таки у него книга издана.
Уху я ела в понедельник и сразу стала считать часы. 96 часов. Четыре дня и пять ночей. Их надо прожить.
– Тамара Вениаминовна, к вам муж приехал, – в этот момент я принимала ванны с морской солью и вспоминала голос Федора Петровича. Удивительной привлекательности голос. Бас с хрипотцой. При этом четкий. Каждое слово Федор произносит так, как будто отливает литеру в линотипе.
Вот, нате вам – муж приехал. Через три часа я должна пойти на берег озера. Там, у пня и сосны, меня ждет копченая рыба. Меня, я так думать хочу, ждет Федор Петрович.
Но вот он. Мой муж.
Представьте, я не узнала его. Нет, я говорю не в переносном смысле. Он пополнел. Голова его была налысо выбрита. На нос сели большие очки со стеклами «хамелеон». А вкруг его красивого рта серебрилась бородка-эспаньолка. И что особенно поразило меня, так это аромат, что источал этот импозантный мужчина. Раньше муж у меня ассоциировался с запахами карболки, хлорки и прочими околобольничными запахами. Говорил этот мужчина неспешно. С большими паузами. Он как бы оценивал эффект от произнесенного им.
Он говорит, а я считаю минуты.
– Анатолий Иванович, спасибо, что приехал. Автобус до Пскова через двадцать минут. Ты успеешь.
Он молчит и моргает глазами. Словно обиженный ребенок. Я все понимаю. Это он вытащил меня из ямы. Это он оплачивает мое пребывание тут. Я все понимаю. Но вот передо мной совсем чужой человек. Я не смогу даже сесть с ним за стол и, как говорится, преломить хлеб. На берегу озера Ильмень меня ждет мужчина с хрипотцой в голосе.
– Я уезжаю в командировку. Через два дня. Во Францию. Читать лекции.
Я молчу. Что я могу сказать? Я сама не знаю ничего. Пока.
Он уходил по чисто выметенной дорожке, а я уже была в мыслях на берегу у коптильни.
Часть вторая. И дни и ночи напролет…
Глава первая
Муж вернулся из Франции, когда я уже была дома. Мы с Машей затеяли генеральную уборку. Я не могла нарадоваться. Она поспевала делать все. Мыла окна и полы: «Маман, вы не должны отказывать мне в естественной потребности к физическому труд у».
Анатолий Иванович застал нас, когда мы навешивали новые шторы в спальне. Он встал в проеме двери и молча смотрел на нас снизу вверх.
– Мать, смотри, тень отца Гамлета явилась.
– Не говори так об отце. Уже приехали, господин профессор?
– Приехал, Тамара, – что-то в голосе Анатолия Ивановича насторожило меня. – И не только профессор, но и почетный член Академии медицинских наук Республики Франция, – нет, не это, настораживает меня. Другое. Другое.
Маша помогла мне спуститься со стремянки, и теперь мы с Анатолием Ивановичем находились на одном уровне.
– Машенька, пойди на кухню! Приготовь чаю, – не снял дорожного костюма и уже чаю простит. Определенно из Франции муж мне привез сюрприз.
Маша, хмыкнув и буркнув под нос «секреты Полишинеля», вышла из спальни.
– Сядем, – Анатолий Иванович был сосредоточен и нарочито серьезен.
– Что, в ногах правды нет?
– Я вижу, – начал он менторским тоном, – ты здорова. Вполне. Я говорил с твоим лечащим врачом. Он подтверждает это, – я понимаю, это все присказка. Сказка впереди. Вошла Маша:
– Чай и кофе сюда подавать, господа заговорщики?
– Машуня, – мне хотелось как можно быстрее закончить разговор с мужем, – мы через минуту придем.
– Ты права, Тамара. Нечего тянуть. Я ухожу от тебя. Я полюбил другую женщину. – Хорошо еще, что не мужчину.
Вот и весь секрет. Не буду же в этот момент, видно, весьма волнительный для Анатолия Ивановича, говорить, что я это почувствовала в пансионате. Перед моим походом на берег Ильменя. Не буду же я в этот момент рассказывать, что было в тот субботний день там.
– Это так естественно, Анатолий. Мы прожили с тобой десять лет. Знаем же друг друга более. Чувства притупляются. Я даже рада, что тебе, человеку творческому, встретилась достойная твоим талантам женщина.
– Как всегда, ты ерничаешь.
– Ничуть, дорогой профессор. Ничуть. Пошли пить чай! Маша ждет.
– Как ты считаешь, ей надо сказать о нашем разрыве?
– О твоем уходе.
Чай был ароматен. Кофе крепок. Бутерброды свежи.
– Что же, родители мои дорогие, – с некоей веселостью приняла известие Маша. – Мишка вполне самостоятелен. – Я после Штатов на мир смотрю через призму практицизма и агностицизма. Так что не тратьте нервы и разводитесь скоро и спокойно. Так будет лучше для всех.
Высказалась и ушла.
Девочке семнадцать. Она впечатлительна. Но я была спокойна. Крепкое ядро сидит в ней. Моя кровь.
Миша, отслужив, решил поступать в Краснодарский военно-дорожный институт. Прислал телеграмму: «Буду тогда-то». И точка.
Через десять минут Анатолий Иванович ушел. Мы договорились, что все дела с разводом он возьмет на себя.
Отступление четвертое.
Нам понятно, отчего о разводе Тамара Вениаминовна не говорит. Скажем коротенько. Развели супругов быстро. Дети взрослые. Имущество не оспаривают. Чего же не развести?
Упомянем в этот раз об одном немаловажном обстоятельстве. У Михаила при медицинском осмотре был обнаружен поллиноз. В народе это заболевание называют сенной лихорадкой. О профессиональной военной службе речи быть не могло.
И еще. Споров об имуществе как таковых не было. Но Анатолий Иванович недвусмысленно намекнул на то, что квартиру придется менять.
* * *
Новый, 2000 год мы с Машей встречали… Да, дома, все еще в старой квартире, но с новым президентом.
Анатолий Иванович настоял – и он был в этом прав – на размене этой квартиры.
Хорошо по этому поводу выразилась Маша: «Мама, наш папа находится в репродуктивном возрасте. Так не будем же мы лишать его радости отцовства».
Нам с Машей новый президент понравился. Сухой, спортивный, остроумный. Я это поняла сразу. Это позже на весь мир прозвучит такое о террористах: «Мы их в сортире мочить будем».
Мы пили хорошее грузинское вино киндзмараулли, ели тарталетки с черной икрой, много шутили. Нам было весело. Но всякий раз, когда за окнами раздавались хлопки фейерверка, я вспоминала другой Новый год. И сердце мое сжималось. Нет Петра, подорвавшегося на французской мине в сухом и жарком Кандагаре. Нет Ванечки. Того в клочья разнесла мина немецкая. От меня ушел муж. Отец всех моих детей. Так было угодно року. Где-то наш Михаил. Как его комиссовали, так он и уехал куда-то на Ямал.
– Товарищи женщины, – бодро говорил он нам с Машей в сентябре, – будущее России, перефразируя Михайло Ломоносова, теперь лежит в газонефтенесущих пластах. Если коммунистам подставили ножку, то мы-то должны избежать этого.
– Мама, пойдем на улицу! Посмотрим салют.
– Я не пойду и тебе не советую. Нечего болтаться среди пьяных мужиков.
– Ты что же так и будешь держать меня у своей юбки?
– Маша, нет, конечно, ты девочка взрослая, но есть опыт старости, и есть бесшабашность юности.
– Это ты – старуха? Была кокеткой и осталась. Я что же, по-твоему, слепая? Как Порфирий Игнатьевич на тебя смотрел. Как смотрел! Прилюдно, можно сказать, изнасиловал. Виртуально.
– Трепло ты, Машка. Неси из холодильника мороженое. Охладись.
Маша вышла. Порфирий Игнатьевич – это наш директор института. Ему за сорок. Он доктор наук. Год назад институт получил многомиллионный, в рублях, грант. Меня ему порекомендовал бывший муж. Должность старшего научного сотрудника с приличным окладом и свободным графиком работы. Чего еще желать.
Отступление пятое.
Тамара Вениаминовна, после того как прошла курс реабилитации в закрытом пансионате, обследовалась на компьютерном томографе, УЗИ. Результаты обследований были удовлетворительными. Она могла вернуться к работе.
Она сама, может быть, не скажет, мы скажем. Она освоила французский язык. Она стала сочинять верлибры. Некоторые на французском.
И еще. Мы видим, что она совсем не упоминает о Федоре Петровиче. Он приезжал в Санкт-Петербург осенью. Тогда, когда и Михаил гостил у матери. У Тамары и Федора состоялось объяснение. Федор предлагал женщине уехать к нему и стать его женой.
– Милый, милый Федор Петрович. Вы чудесный, добрый. Вы сильный, здоровый и молодой. Вы же знаете, где мы познакомились. Что за заведение, где я лежала. Куда ж вам такая жена?
Неловко было объясняться рыбаку при сыне и дочери. Он ушел. Уходя же, сказал:
– Я на Ильмень приехал из Архангельской губернии. Мы, поморы, люди настырные. Жди с гостинцем к Новому году!
Так что, может быть, Тамара Вениаминовна не хотела ни отпускать дочь, ни сама выходить из дома, потому что все же ждала гостя.
* * *
Мы ели мороженое и пили сладкий мускат Просковейский. Чего ожидала Маша от наступившего года, я могла только догадываться. Я знала, а она и не скрывала этого, что у нее есть друг. Насколько близки их отношения, я могла догадываться.
Что-то почти эфемерное, незримое, но до боли знакомое мне вызрело в этой молодой, отличающейся самобытностью женщине.
Я же, чего лукавить, ждала Федора. Помнила его слова: «Приеду в Новый год с подарком». Нет, он сказал – с гостинцем.
Как гром среди ясного неба, простите за такое избитое выражение, прозвенел звонок.
– Ты ждешь кого-нибудь? – Маша вытянулась в струнку.
– Я не жду.
Открывать дверь мы пошли вместе. На пороге стоял Миша. И не один.
– Что, родственнички, не ждали? – И без паузы. – Знакомьтесь. Моя жена. Маша. Теперь у нас две Маши.
Входили они дискретно. Сначала Миша втолкнул два большущих чемодана. На колесиках. Мы такого не видали. Потом вошла Маша, а уже за ней протянулись в прихожую три баула.
– Как же вы все это дотащили? – невольно вырвалось у меня. Нет, чтобы расцеловать сына и обнять невестку.
– Миша – кандидат в мастера спорта по боксу. Он у меня сильный, – это «у меня» кольнуло меня. Вот, мать, сын уже не только твой.
Чего только не было в их поклаже!
Через час мы лакомились необыкновенного вкуса рыбой, ели грибы. Маша-жена, так мы стали звать жену Миши, сказала, что грибы они собирают вместе, а готовит она одна. Миша заставил, это буквально сказано, выпить с ним северную наливочку.
– Это мой рецепт. Спирт, клюквенный морс. Тут сахара жалеть не надо. Это должно настояться дней десять. Потом туда вливаешь жженый сахар. Ты смакуй. Залпом пить этот нектар нельзя, – такими словами он сопровождал вкушение наливки.
Долго мы бражничали, ели северные деликатесы и говорили, говорили. Мне импонировало, что сын с уважением и заинтересованностью слушал меня. С удивлением я увидела слезы на глазах Маши-жены, когда Маша-дочь рассказала о моей болезни.
Посерело за окнами, а мы все говорили.
Отступление шестое.
Михаил Анатольевич приехал к матери, будучи уже начальником отдела мониторинга внешней торговли газодобывающего объединения. Он побывал в Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии. В совершенстве владел английским языком.
Женился он на дочери заместителя генерального директора объединения. Маша приехала к отцу из Лондона на несколько дней перед поездкой на Канары. На острова она поехала с Мишей. Отец благословил их брак.
Этого мать в ту ночь не знала. Сын коротко сказал: «У нас с Машей скоро будет ребенок».
Мать тоже не была расположена к откровениям. Долгая разлука сыграла свою роль.
Что же, не нам их судить. Будем слушать и по возможности сопереживать.
* * *
Миша с женой у нас останавливаться не стали: «Мать, не обижайся. Трое в одной лодке быта – это перебор. Да и я не подарок. Мы с Машей прекрасно обоснуемся в гостинице».
Договорились, что они приедут к нам через день-два.
– Как тебе жена нашего Миши? – едва молодожены вышли за порог, спросила Маша.
Что ответить дочери? Сказать, что жена сына мне понравилась? Вела, мол, скромно и достойно. Или просто отшутиться?
– Маша, это жена твоего брата. И какая бы она ни была, ты должна относиться к ней по меньшей мере индифферентно.
– Это в твоем стиле. Ты ко всему относишься безразлично.
Я молчу. Что сказать мне, переживший смерть первого мужа, сына, развод со вторым? Что сказать мне моей дочери, ставшей женщиной, но не обредшей разума? Мне, которая по долгу своей службы видела не один десяток смертей.
– Поживем – увидим.
Маша ушла, как она сказала, проветрить мозги. Я же слышала ее фразу, сказанную в телефонную трубку: «Как всегда, на стрелке».
Стрелка – это стрелка Васильевского острова. Летом раньше там собирались фарцовщики. Теперь же с приходом дикого рынка заморского шмотья, по выражению юмориста, сделанного на Малой Арнаутской в славном городе Одесса, его полно.
Хлопнула входная дверь, и я осталась одна в большой хорошо обставленной квартире. Чего-то Анатолий Иванович не торопится с обменом.
Мои движения замедленны, взгляд томен. Все же бессонная ночь сказывается. Лечь? Не засну. Я себя знаю. Буду ворочаться с боку на бок. В голову полезут мысли разные и противные. Я их называю мысленными червями.
Убрала бардак посленовогодний. Дом ожил. Проспались соседушки. Через стену кухни доносится рэп. Минут десять такое можно послушать. Но более уже трудно. Наверху, вероятно, решили потанцевать – шарк-шарк. И музыка – танго. Странный народ обитает рядом со мной.
Зазвонил где-то телефон.
Налила рюмку Мишиной наливочки. Моя воля воспряла: «Звони б/у мужу!»
– Тамара Вениаминовна, – звонкий, почти девичий голос принял мой вызов, – Толик вышел. Вы позвоните позже. Да, – чуть ли закричала, – с Новым годом вас.
Распрощались. Не буду я больше звонить. Мне что – больше всех надо?
Надо выйти и мне.
Отступление седьмое.
Тамара Вениаминовна в тот момент была необыкновенно хороша. Как будто и не было тяжелой болезни. Как сказали бы англичане, она была in good case.
Ровный здоровый румянец на почти не тронутом морщинами лице. Нет морщин и на ее длинной шее.
Грудь высока, и живот ее рельефен. И всего-то. Ну а об остальном пусть скажет тот, кто будет иметь счастье познакомиться с этой женщиной ближе.
Тамара, покидая квартиру, не знала, что бывший ее муж в это время уже выходит из такси у магазина «24 часа». Жене сказал, что прогуляется, а сам рванул сюда. К бывшей жене и дочери.
Их пути-дорожки разошлись на пять минут и двести метров.
Анатолий Иванович долго звонил в дверь. Все надеясь, что ему откроют. Может быть, спят? Дозвонился до того, что сосед высунул голову и рявкнул:
– Чего трезвонишь?! Ушли они все. Вали отсюдова! Милицию вызову.
Мы, все видящие и слышащие, не обладаем правом вторгаться в действо.
А жаль. Как бы сложилась жизнь этих людей, встреться они в это новогоднее утро?..
* * *
Народу мало. Снегу много. В сквере пусто. Чего я выперлась? Подышала? Провентилировала легкие? Пошла домой. Глянула на часы. Боже мой! Почти час болтаюсь. Домой, домой.
Идут, слегка покачиваясь, женщины и мужчины. Крутятся вокруг них их же дети. И кажется мне, что и они пьяны. Пьяный Новый год. Двухтысячный.
В голове моей мыслей чехарда. В такт шагам моим складываются слова в такие вот строки: «Можно заставить тело не вспоминать спазмов никогда не бывших объятий. Можно заставить себя не возвращать в миги лучших из восприятий. Можно в конечном счете, впасть в чувств амнезию…»
– Отчего такой трагизм, любезная?
Вот тебе и маразм старухи – я читаю вслух!
– Не стыдно подслушивать?
– Вы так громко декламировали, что трудно не слышать. Это же прелестно. Новогодний вечер и вот: идет женщина и читает стихи. И это в наше время!
– Чем вам не угодило время? Оно объективно никакое. Плохим или хорошим его делают сами люди.
– Верное замечание. Вы не только поэт, но и философ.
– Какая тут игра ума? Просто житейское наблюдение. Для таких, как Чубайс или тот же Ходорковский, время как раз то, что надо.
Мужчина в великолепной куртке «Аляска» с капюшоном смеется. Заразительно так хохочет.
– Вы до сих пор, наверное, не можете простить Анатолию автомашины «Волга», которую он обещал за ваучер?
– Да пусть он подавится «Волгой»! Мне и на моей старушке хорошо ездится, – сама же уже забыла, когда садилась за руль.
– Алексей, – снял перчатку и протягивает руку. Что это? Невоспитанность? Или простота общения?
– Тамара, – дала-таки свою руку. Его рука горячая и сухая. Пожатие сильное. Мимолетное.
Я иду своим путем. Мне осталось идти шагов пятьдесят. Он прется за мной. Чего ему надо? На маньяка не похож. Хотя, кто его знает.
– Вы, что, так и будете преследовать меня?
– Могу пойти по снегу, если дорожки вам жалко.
– Что-то я не помню вас. Хотя живу уже долго.
– Вы шутите. Долго – это лет сто. Вам же я не дам и сорока.
– Не надо делать из меня дуру. Здесь я живу долго.
Идем. Он по щиколотку в снегу. Я по дорожке. Люди разошлись кто куда. На дворе мы одни.
– Слушайте, вы, странный человек, идите хотя бы впереди. Кто вас знает? Ударите по башке.
– Зачем? – он что – дурак или притворяется?
И тут громко этак, надрывно:
– Мама! Мама!
От угла бежит моя Маша.
– Что случилось? – мне тревожно.
– Ничего! – дочь сияет. – Ничего. Я выхожу замуж.
– Ничего себе семейка!
– Вам-то какое дело? – этот маньяк все еще тут. – Я ведь к вам иду, Тамара Вениаминовна.
– Мама, кто сей господин и откуда он знает твое имя?
– Маша, я друг друга твоей мамы.
– Попроще бы, – дочь, как всегда, резка.
– Я хороший товарищ Федора Петровича. Он занемог, но обещал твоей маме на Новый год гостинец. Вот и попросил меня его доставить. Он так красочно описал твою маму, что я сразу ее признал. Еще вопросы будут? Или все-таки домой пойдем? Я промерз. Полтора часа тут кантуюсь.
Федор заболел. У меня похолодело в животе. Что это? Виделись всего-то два раза – и вот такая реакция.
– Вы так сильно не переживайте, Тамара Вениаминовна! – Алексей отогрелся и был в отличном расположении духа. – Федя просто застудился. Провалился в старую прорубь, – у меня опять сердце захолонуло, – вот и прихватило поясницу. Ничего, баба Варя его на ноги скоренько поставит.
Забыла сказать (совсем стара стала!), что привез Алексей от Федора. Судак слабой соли и несколько копченых рыбешек. Название тут же вылетело из головы.
– А это от бабы Вари, – мне эта баба Варя начинает уже действовать на нервы.
Напрасно я так об этой удивительной женщине.
– Она самогонку гонит из зерна. Сама растит. Сама убирает. Сама его приготовляет особым образом.
Вечер естественным своим ходом приближается к ночи, а Алексей и в ус не дует. То есть, я хочу сказать, не думает уходить.
– Вы что же – ночевать здесь думаете? – спрашивает Маша.
– У нас на Ильмене гостей из дома на ночь не гонят. Сами на полу ляжем, а гостю – самое теплое место.
– На пол мы не ляжем, но теплое место выделим, – дочь улыбается. Вижу, ей гость мой нравится.
– Маша любит пошутить. В четырех комнатах как-нибудь разместимся.
Так и решили. Алексею я постелила в гостиной. А мы с Машей, как обычно.
Решив этот жизненно важный вопрос, мы продолжили отмечать наступивший Новый год.
Наконец я решилась спросить дочь, кто ее избранник. Оказалось, это не тот молодой человек, к которому Маша бегала на свидание на стрелку Васькиного острова.
– Ты, мама, с ходу не начинай волноваться! – сердится. – Это наш курсовой куратор. – Что ж, дочь в меня пошла. Мне всегда были более привлекательны мужчины старше меня. Слушаю, не перебиваю. – Он – аспирант. Ума палата. Память, что у килобайтового компика. Шпарит стихами, как автомат.
– Это не есть достоинство ума, – вставил наш гость. – Скорее, это особенность деятельности его правой половины мозга. Знавал я таких. Запоминать горазды, а сообразить чего бы то ни было слабы.
– Сами-то умны ли? – началась пикировка молоденькой женщины и мужчины в летах и, судя по всему, с немалым жизненным опытом.
– Умен. Не сомневайтесь. Это я три последних года рыбой промышляю на Ильмене. А до этого, – лицо Алексея посерело, – до этого бардака служил в Академии тыла и транспорта. Имею степень доктора наук.
– Каких же наук вы, позвольте спросить, доктор?
– Исторических, милая леди.
– Вы полагаете, что история есть наука?
– Остры вы на язык. Но соль в вашем вопросе есть. История, по сути, – исследование прошлого. Я, например, исследую военное прошлое. Ныне начинается процесс переоценки многих бывших в прошлом событий… Но это, милая леди, отдельный разговор.
– Именно так – отдельный.
– А дочь у вас язва. Люблю таких.
Знала бы я, какой смысл истинный скрыт в его словах. Ему за сорок, Маше двадцать. Возрастной мезальянс.
На этом их пикировка закончилась, и мы стали мирно поглощать самогонку бабы Вари. До тех пор пока наши очи не стали слипаться.
Отступление внеочередное.
Алексей Иванович, подполковник, доктор исторических наук, до 1987 года преподавал на кафедре истории в академии. С началом развала вооруженных сил был вынужден уволиться из армии. Перешел в университет. Но и там скоро пришли новые люди. Новые подходы к истории. Они шли вразрез с его мировоззрением. Начал писать в газеты, журналы. Писал и в Академию наук, Министерство образования. Что называется, бил во все колокола. Его возмущению новыми учебниками по истории не было предела.
Когда конфликт с руководством сначала кафедры, а потом и ректоратом достиг апогея, ушел из университета. Военная пенсия и репетиторство позволяли сводить концы с концами. Ни жены, ни детей у подполковника не было, так что на жизнь ему хватало.
Он много писал. Но никто и нигде не хотел публиковать его статьи. Был период переосмысления истории. На первый план выдвигались факты, которые меняли суть события. Переписывалась недавняя история. Все, кому ни лень, принялись заново подсчитывать наши потери во Второй мировой (игра в «кто больше»), приуменьшать нашу роль в победе. С разных сторон мусолилась тема репрессивных мер на фронте и вне его. Отряды Смерша стали чуть ли не главным действующим лицом. Некоторые «историки» назвали работу подростков на заводах преступлением против детства, а участие женщин в военных действиях сравнивали со средневековой инквизицией…
Алексей Иванович пытался бороться с этой откровенной ложью, но никто не хотел его слушать. Не вписывался он в хор дилетантов, для которых все, что было в России до нынешних времен, однозначно было плохо и преступно. Тогда-то и встретил он Федора Петровича. Тот приезжал в город по каким-то своим рыбацким делам. Встретились они в привокзальном ресторане, где у Алексея Ивановича работал на дверях швейцаром товарищ по службе в академии. Тот изредка устраивал для друга почти бесплатный ужин.
Федор Петрович внимательно слушал ученого собутыльника и в конце вечера заявил: «Я сдаю билет, ты собираешь свои манатки, и завтра едем ко мне. Нечего тут тебе гнить. Города насквозь прогнили. У нас, на Ильмене, чистота и тишина».
Назавтра они не уехали. Алексею Ивановичу надо было решить, что делать с квартирой. Отбыли они в сильном подпитии лишь через неделю. Квартиру Алексей Иванович сдал на пять лет какому-то чеченцу. На вырученные деньги они накупили много полезного для житья на берегу озера. Ну и, конечно, знатно отметили это событие все в том же привокзальном ресторане.
Это то, что нам известно. Интересно, как Тамара воспримет его «историю».
* * *
Алексей Иванович пожил у нас до старого Нового года. Он по моей просьбе переставил мебель в гостиной. Анатолий Иванович (везет мне на Ивановичей!) решил забрать-таки кое-что из мебели. Он ходил по магазинам, покупал продукты и, что поразительно, хорошо готовил. Его кислые щи мы с Машей съели за два присеста.
Маша привела своего женишка. Боже мой! Хотелось мне воскликнуть. Боже мой, куда смотришь ты, дочь моя? Как прозорлив оказался Алексей.
В облике этого существа явно проглядывали черты скрытого дебилизма. Выпуклый, нависший над глазами лоб, редкие белесые волосы и недоразвитые уши. Говорил он фальцетом. И говорил так, словно читал по писанному. Алексей, когда мы ушли на кухню, так и сказал: «Молодой человек говорит как робот».
Обед мы начали в два часа пополудни. Была суббота, и никому не надо было никуда торопиться. Через сорок минут Машин женишок так надоел своими сентенциями, что впору было бежать из-за стола. Но мы терпели. Не сговариваясь, мы с Алексеем делали краткие ремарки к его словам и ждали того момента, когда сама Маша увидит, что за существо она привела в дом и с кем она хочет связать свою жизнь.
Существо же ничего не видело и не слышало. Оно было упоено собой. Клинический случай нарциссизма.
Через час у Маши открылись глаза.
– Послушайте, Афанасий, вам не кажется, что вы утомительны. Говорите, не умолкая. И все одни банальности.
Что тут случилось! Женишок впал в истерику. За многие годы работы в медицине я видела разные формы психоза. То, что происходило сейчас, напомнило истерию.
На этом наше знакомство с женихом закончилось…
Когда за Афанасием закрылась дверь, мы пошли пить чай на кухню.
– Я предлагаю сегодня сходить в Русский музей, – сказал Алексей Иванович. – Хочу насладиться рисунками Верещагина. Удивительной судьбы художник. Сколько лет он отдал службе Генеральному штабу русской армии! Как досконально изучал предмет творчества! Пойдемте! Не пожалеете.
– Это чудесно. Я уж и не помню, когда была в музее, – и Маша ушла к себе переодеваться.
Яркое солнце и чистое небо. Как это контрастировало с тем, что являл город на Неве. Там, где раньше стояли дома с историческим прошлым, сверкали тонированным стеклом и блестели металлическим панелями дома-монстры.
– Это просто преступление, строить такие дома, – сказал Алексей. – Увы, сегодня за деньги можно сделать все – продать, купить, солгать…
Верещагину было уделено столько внимания, что на осмотр других шедевров ни сил, ни времени не осталось. Музей в субботу закрывался раньше.
– Предлагаю пищу духовную подкрепить пищей насущной.
Мы с Машей не возражали.
Ужин в ресторане при гостинице «Европейская» был классическим. С салатом оливье, с мясным ассорти. С горячим. Я взяла судака в кляре. Маша какие-то тефтели. Алексей ел шашлык по-карски.
Водку пили мы с Алексеем. Маша удовольствовалась вином.
Был и десерт. Как давно я не пила кофе глясе.
– Алексей Иванович, а вы у нас надолго обосновались?
– Маша! – хотела я урезонить дочь, но меня остановил Алексей.
– Милая Маша, прошу заметить: если с моим прибытием в ваш дом и происходили изменения, то только в лучшую сторону…
Он продолжал говорить, а во мне зрело чувство беспокойства. Того, животного. Птицы, на птенца которой устремил свой взор хищник. Потому что заметила, с каким интересом слушает Маша этого невесть откуда свалившегося на нашу голову человека.
Монолог историка-подполковника прервал официант:
– Заказывать чего будете?
– Хочу шампанского! – ну и заноза моя дочь.
Через три минуты на стол было водружено ведерко с «Советским шампанским».
Выходили мы из ярко освещенного подъезда, когда часы башни бывшей городской думы пробили двенадцать ночи.
– Предлагаю, – это опять моя дочь, – пройтись немного. Надо же растрясти то, чем мы успели наполнить наши животы.
Я неимоверно устала, и перспектива гулять меня просто убила. Я взмолилась: Христа ради посадите меня хоть в такси, хоть в поливальную машину или мусорку, только отправьте домой.
Алексей поймал легковушку, сунул водителю деньги, сказал: «Головой отвечаешь!» и захлопнул дверцу. Как поется в песне: «Ехай, мама, не спеша, но и не опаздывай»…
В квартире все еще стоял запах застолья. Открыла окно в спальне. Стала у окна и вдруг почувствовала, как мне тоскливо. Не имею я права хандрить. Не имею и права на злость и гнев. Так мне врач говорил: «После вашей душевной травмы и болезни вам противопоказаны гнев и радость чрезмерная. Во всем умеренность!»
Да, что же это за напасть такая! Я же еще не совсем старуха. Во мне еще столько чувства. Мне сорок пять. Как там говорит народ? Сорок пять – баба ягодка опять.
Холодный ветер с севера быстро привел мои чувства в норму. Поживем – увидим. Алексей – мужик вроде порядочный. А то что старше Машки на двадцать лет, так чего ни бывает в жизни. Нерастраченная нежность, неоконченный роман. Да и с чего я взяла, что у них что-то завяжется?..
Когда вернулись мои «молодые», я не знаю. Я спала до десяти утра не просыпаясь.
– А где Алексей Иванович?
Маша сидела у стола на кухне в стареньком халатике.
– На рынок поехал. Решил поразить нас ухой.
Что-то не так с дочерью. Я ведь вижу.
– Что-нибудь произошло?
– Сама еще не знаю. Я переспала с ним.
– Эка невидаль!
– Нет, я серьезно. Не знаю, какой червь в меня пролез. Тревожно мне, мама.
– Это любовь, Маша. Любовь – это не влюбленность, бездумного счастья она не приносит. Тревога и нежность. Забота и опять тревога.
– Вот, скажи мне, раз ты такая умная. Отчего так: говоришь человеку о своей боли, а он в ответ о своей?
– Такова сущность человека, значит. Знаешь, Маша, в жизни в основном люди – эгоисты. Редко кто обладает даром сопереживания и еще реже – сочувствия. Такие идут в монахи, – я хотела как-нибудь развеселить дочь.
– Значит, я пойду к монахам.
– Монахи дают обет безбрачия, – опять я шучу. – В монахи, а не к монахам. Разницу чувствуешь?
Наш диспут прервал звонок. Маша, не меняя выражения лица, пошла открывать. Актриса. Далеко пойдет. С первых шагов приручает мужика. Я, пока они там, в прихожей, будут обмениваться приветствиями, выпью. Так решаю, но не успеваю исполнить задуманное.
– Мама, это к тебе, – звонко (и где вселенская скорбь?) кричит Маша.
У меня душа в пятки – прыг. И сидит там, ногам ходу не дает. Большой глоток – и душа заняла свое законное место. Где-то рядом с брыжейкой.
В прихожей стоят две фигуры. Одна – моя дочь. Над ее растрепанной головой два голубых глаза. Так и сверлят меня. Так и сверлят. Больше я ничего не вижу.
– Тамара, вот я и приехал, – теперь сомнений нет. Это Федор.
– Очнись, мать, – Маша повернулась, и теперь уже две пары глаз сверлят меня.
В глазах вспышка и судорожная дрожь по всему телу…
Глава вторая
Отступление восьмое.
Врач приехавшей через двадцать минут скорой медицинской помощи констатировал инсульт. Экстренными мероприятиями женщина была выведена из коматозного состояния и после доставлена в клинику неврологии больницы.
Вот что произошло, после того как Тамара Вениаминовна услышала голос Федора Петровича.
Кто же поведает нам о том, чем закончилась эта непритязательная история женщины, не лишенной сексапильности, ума, хитрости житейской?
Мы видим: Маша, Алексей и Федор сильно встревожены. Они по очереди дежурят у спецкойки Тамары, и все нещадно курят.
Подождем пару дней. Можно перекурить и нам.
Вновь встретимся с героями этой истории через год.
* * *
Мария
2001 год. Прошли выборы президента. Я не голосовала. Моя беременность проходила очень тяжело.
Алексей нашел-таки достойную его знаниям и таланту, именно так, таланту, работу. И платили прилично, и творить давали. В издательстве «Иммапресс» была издана его книга. Говорили, что сам президент читал ее и отозвался хорошо. Мой папа отказался от размена квартиры. Он с новой женой вообще уехал из России.
Мама долго болела. Ее второй инсульт оказался не таким страшным, как первый, но все же…
Федор Петрович вернулся к своей основной профессии – стал преподавать математику в колледже. Деньги не ахти какие, но на жизнь хватает. Он практически не отходил от мамы, пока она болела. Было до слез трогательно смотреть, как он ухаживал за ней.
Месяц мама провела в пансионате в Репино. Федор Петрович чуть ли ни через день ездил туда. Я тоже съездила. Красота! На заливе у них свой пляж. Летом там, наверное, чудесно. У мамы хороший номер. Под окном куст сирени. Вокруг сосны. Мама нас даже накормила обедом: «Это самые близкие мне люди», – сказала, и официантка принесла нам обед.
Вот так мы и живем. Скоро мне рожать. УЗИ показало, что будет девочка. Мы с Алексеем решили, что назовем ее Тамарой.
После того, как с мамой случился второй удар, я решила вести дневник. Купила красивую тетрадь. На его глянцевой обложке белый попугай. В тему. Исписала три странички и поняла: это не для меня. Но коли я решила вести, как принято сейчас говорить, мониторинг здоровья мамы, то не отступлюсь. Потратилась, но купила диктофон Samsung. У меня так всегда. Чего в башку вобью, не успокоюсь. Так и тут. Потратила деньги и забыла. Алексей подшучивает надо мной: «С тобой хорошо. Не надо трястись над кошельком. Он у тебя всегда пуст».
Мой муж становится мэтром в своей области. В почтовом ящике то и дело обнаруживаю письма то из Штатов, то из Англии, то из Франции. И все хотят иметь его. Прости, мама, за такое выражение. Они, суки, хотят на нем деньги заработать. А оплатить хотя бы дорогу – так фиг. Наш президент и вправду, наверное, читал книги Алексея, потому что выделил миллион рублей на написание учебника новейший истории. Это папа может. Он по косточкам разложил все события с 1945 по 1987 год. Я его спросила, почему до восемьдесят седьмого. Он ответил так: «Именно в этом году был издан Закон о разрешении частной предпринимательской деятельности. Но он не был подкреплен подзаконными актами, которые регулировали бы деятельность этих полукриминальных кооперативов. Это было начало конца. Дальше начинается другая эпоха».
Мудрено это. Для меня во всяком случае. Мне бы плод доносить.
Вот опять, вместо того чтобы говорить о твоем здоровье, разболталась о всякой чепухе. Нет, скажи, ну не подлость ли это? Ты, конечно, в данный момент занята своим здоровьем. Это правильно. Без тебя дом и не дом вовсе. Одно радует. Ты быстро восстанавливаешься. А мне рожать скоро. Страсть, как боюсь. Вот чувствую я, что помру. И не смейся. У меня дар. Например, на прошлой неделе утром, еще не встала с постели, лежу с закрытыми глазами, и мне привиделось, что у нашего Мишки будто двойня родилась мертвая. Ну и что? Через день мы получили (тебе пока не говорим) от него телеграмму. Так и есть. Не пойму, зачем он об этом нам сообщил.
У мамы все обследования показали почти полное восстановление мозгового кровоснабжения. Какая она веселая вернулась из центра! Федор Петрович тоже рад неимоверно. Все-таки он – герой. Это его трудами на все 90 % мама встала на ноги.
Чего теперь в этот диктофон наговаривать? Ладно. Мне бы родить. Врачи говорят, что все, мол, у меня в норме. По их прогнозу роды должны состояться в начале июля. Жара стоит ужасная. Я всю дорогу сижу в ванной. Шутка. Алексей носит мне мороженое и соки. Наболтала. Пока!
Короткое замечание
На этом записи на ленте диктофона заканчиваются. Не много же мы узнали о болезни и выздоровлении Тамары Вениаминовны. Но что взять с ожидающей родов немного истеричной женщины.
Время же неумолимо наматывает дни, ночи. Отвлеклись чуть-чуть, а за окном уже зима 2002 года.
Горят электроподстанции. Тысячи людей остаются без света и тепла. Взрывают дома. Жизнь бьет ключом.
Мы же ничего не знаем о житье-бытье Тамары Вениаминовны. Как ее здоровье? Кто теперь рядом с ней? И, наконец, как прошли роды у ее дочери?
Страна, ее электорат опять «стоят перед выбором без выбора». ВВП избран президентом на второй срок. Как говорится, no comments.
Глава третья
– Мария Анатольевна, чтобы я больше не видела ни в холодильнике, ни на столе этих «растишек», – тут выразилась чисто по-пушкински. – Благодари Бога, что не довели Тамару до дискенизии.
– Вы, бабушка, тоже хороши. Вместо того чтобы остеречь молодую мамашу и, между прочим, вашу дочь, отправились с мужем в какой-то монастырь.
Маша – мать, я – бабушка. Дочка ей досталась трудно. Кесарево сечение и большая кровопотеря. Я с удовольствием играю роль бабушки. И продолжаю:
– Алексей не нищий. Можете покупать свежие фрукты и овощи. На кухне не повернуться от этих штучек. Натуральные соки, овощные пюре сделать, что два пальца об асфальт.
– Фу, грандмаман, как можно при ребенке так выражаться.
– Вместо укоров поблагодарила бы мать, что отделались поносом, – три дня Тамарочку «несло». Удалось мне, вспомнила свою работу в реанимации, купировать диарею без антибиотиков. Тут подала голос Тамара-маленькая.
– Вот вам – я Тамара, ты Тамара, обе мы смешная пара, – Маша ушла к себе. Пора кормить дочь.
Моя забота теперь – приготовить докормку. Яблочное пюре приготовлю перед кормлением, а вот апельсиново-яблочный сок надавлю сейчас. Жужжит агрегат, за окном гомон детворы. Не заметишь, как и наша малышка пойдет во двор. Что сегодняшние заботы по сравнению с будущими! Страшно отпускать детей. Почти каждый день по телевизору говорят о пропаже детей.
Вы не подумайте, что я вся ушла в роль бабушки. После моего второго удара я потеряла всяческие способности к стихоплетству, но зато приобщилась к таинству живописания и рисования. Когда Федор увидал одну из моих картинок, рисованную цветными карандашами, подаренными кем-то из доброхотов внучке, он выразился так: «Я не сведущ в дедах искусства, но это определенно красиво».
В субботу мы поехали к Андреевскому рынку. Вернее, пошли. Погода тому благоприятствовала. В доме на 4–5-й линиях в полуподвале открыли великолепный магазин. Все для художника. Там и холсты. Там и мольберты. Кисти разные. Краски, как говорится, в ассортименте. Бумага. Даже ватман ручной выделки там был. Цены кусаются, но Федор был щедр – ради творчества жены не пожалею ничего. Что мы там купили, перечислять не буду. Скажу одно – обратно мы ехали на такси. Я была счастлива, как девчонка, которой купили новое платье. Дома мы вчетвером отметили это событие. Маленькая Тамара присутствовала, но не участвовала. Так шутит бабка.
* * *
Продолжим нашу практику отступлений от рассказа Тамары Вениаминовны.
Естественно, что мы ни слова не услышали о том, как выглядит сама бабушка.
Восполним этот пробел. Бабушка слегка располнела. Это придало ей лишь большую привлекательность. Все так же красиво благородной породистостью ее лицо. Она коротко постриглась. Виски тронула седина. Ее фигуре позавидовала бы любая ее возраста женщина.
Если бы она имела возможность подслушать разговор двух мужчин – Федора и Алексея (иногда они позволяли себе расслабиться в пивном ресторане на 11-й линии), то услышала бы, что говорил Федор после третьей кружки Miller:
– Я, Лешка, поражен. Маша-то у тебя молода. Но Томе-то уже под пятьдесят. Пусть она меня простит за то, что я говорю об этом, но в постели она – фурия…
* * *
В начале осени мы с Федором решили две недели провести на теплоходе. Круиз по северным рекам и озерам. Что может быть романтичнее в это время года? Маша и Алексей нас отпустили.
– Мать-бабушка, – наигранно строго напутствовала меня Маша, – если мы не увидим коллекцию путевых рисунков и живописных этюдов, достойных выставки в зале Союза художников, то пеняй на себя. Будешь отбывать срок с Тамарой-внучкой.
Она намеревалась проводить нас. Это с малышкой-то! Непутевая у нас дочь. Мы буквально убежали из дома.
Белобортовый теплоход стоял у пирса Южного речного порта. Так что добираться туда нам почти два часа. Это на машине. Везде пробки.
У нас двухместная каюта-люкс на второй палубе в корме. У нас вторая и последняя смена в ресторане. Можно утром выспаться. А в обед не надо торопиться проглотить десерт, дабы освободить место.
У нас в конце концов с собой запас деликатесной закуски и отличнейшая выпивка. Мне врачи разрешил «девяносто капель» в день.
Неву мы просто проспали. Наш красавец отвалил от причальной стенки в десять вечера. Мы в это время отмечали начало нашего путешествия.
Валаам, Ладога, о которой сложено немало песен. Озеро встретило нас небольшим волнением. Мы отдохнули на водах Свири. Красивы ее берега. Мне даже удалось сделать пару акварельных пейзажных набросков.
Кижи. Это хорошо, что у власти нашлись средства хотя бы на реставрацию храмов. Северные избы-крепости тоже надо было бы поддержать. Хотя бы. Там я и рисовала, и писала. Много. Про себя говорила: «Вот, Машка, будет что выставить».
Обратный путь был также интересен. Но я вам не экскурсовод. Сами отправьтесь в путь. Нечего диваны придавливать.
* * *
Хочу вмешаться. Последние слова Тамары сказаны впустую. Не всякий может позволить такой круиз.
И еще. Дома в этот момент разворачивались почти драматические события. Но об этом они, Тамара Вениаминовна и Федор Иванович, узнают в свой черед.
* * *
Домой от речного вокзала мы ехали на «газели». Мои творения в легковую машину не поместились. Я была утомлена поездкой и одновременно счастлива и довольна. Масса впечатлений. Новые знакомства. И, что главное, я много работала. Я вновь почувствовала вкус к жизни. Пусть я трудяга-одиночка. И нет в моем подчинении никого, кроме листа и кисти с карандашом, но я тружусь. Именно тружусь. Ибо знаю я, не просто работа дает истинное удовлетворение, а труд приносит его. И жить надобно трудно. Тогда есть в ней смысл.
С этими мыслями и чувствами я ехала домой. Как же оглушительно стало для меня то, что встретила я там!
– Мама, ты только не волнуйся! – Когда так говорят, значит, надо как раз волноваться.
– Что с Тамарой?! – закончил звучать последний звук моего вскрика, как из глубины квартиры я услышала гуканье малышки. – Дура у меня дочь. Вот как врежу! Не надо волноваться. Скажет же. Так что случилось?
– Я беременна.
– Ты послушай, Федор, что говорит эта женщина. Отчего же я должна волноваться? Скажи на милость. Радоваться надо.
– Милые дамы, может быть, мы все-таки войдем в дом? Переоденемся, умоемся с дороги, а уж потом обсудим этот вопрос, – Федор начал втаскивать наш багаж.
За пятнадцать дней, что мы с Федором отсутствовали, в квартире произошли кое-какие изменения. На кухне у балконной двери я увидела кровать-раскладушку и в углу – свернутые в рулон постельные принадлежности.
– У нас гость? – естественная реакция.
– Нет, мама. У нас гостей не предвидится, – тон, с которым это было сказано, не оставлял сомнений – тут за время нашего отсутствия произошло нечто.
– А где Алексей?
– Не торопи события. Скоро ты будешь иметь удовольствие лицезреть доморощенного Отелло.
Все стало на свои места. Естественный ход жизни. Муж старше жены. Он весь в хлопотах и заботах. Она целыми днями одна. И тут на тебе. Беременна. От кого? Я же всю дорогу на работе. На секс сил не хватает. А то, что было, так это не в счет.
Синдром ревнивца. Дорсальный эффект. Он практически неизлечим. Ты хоть пояс верности надень. Все едино. Будут тебя преследовать вспышки ревности. Недаром сексопатологи утверждают, что максимальная разница в возрасте в сторону мужчины не должна превышать десять лет. А тут все двадцать.
Маленькая Тамара развеяла обстановку. Мы наконец-то распаковались, умылись и переоделись. Маша накрыла на стол на кухне. И мы сели. Тут-то наша малышка и выдала:
– Баба дура.
Мы с Федором смеемся, а дочь сердится.
– Мама, я ее не учила, – дочь даже покраснела.
– А на дворе ты следишь за своей речью? – я-то знаю свою дочь.
– Ах, вот оно что! Там, знаешь, такая попалась противная баба. Вот черт!
– Не удивлюсь, если через пять минут твоя дочь пошлет тебя к черту.
– Как назовем малышку? – развеял «тучи» Федор.
– Если девочка, то Федорой, – моя дочь язва еще та, – если, мальчик Томом. Как у Марка Твена. Том Сойер.
– Ты, что, у врача не была?
– Нет, мама я и так знаю. Успеется.
– Я поражаюсь, – не удержался Федор. – В какое время мы живем? И, кажется, не на выселках. Как же не посетить врача?
Может быть, наша дискуссия продолжалась бы дальше, но хлопнула входная дверь и маленькая Тамара запиликала. Чувствует дитя кровь родную. Природа!
– Боже мой! Кто приехал! – не надо быть матушкой Вангой, чтобы узреть самим состояние Алексея. Дунь он сейчас в трубочку инспектора ДПС, наверняка там засветится радуга.
– Дочка, пошли спать, – Маша подхватила девочку и быстро вышла из кухни.
Мое седьмое чувство подсказывало – в семье такой раскол, от которого не спасет ничто и никто. Дар провидения мне говорил, что скоро дочь прогонит Алексея и избавится от плода.
Что же, это закономерно. Перенасыщенность чувств, перегруженность заботами и переполненность совместным проживанием. Все «пере-». Такое долго продолжаться не могло.
Алексей и глазом не повел. Ушла и ушла. Он был замкнут в оболочку страданий. Даже наше с Федором присутствие не вывело его из этого состояния. Не переодевшись и не умыв руки, он деловито распаковал пакет. Крупными ломтями нарезал холодного копчения скумбрию, налил полную чашку водки, даже не ополоснув ее от остатков кофе.
Мы молчим. Наблюдаем. Первым не стерпел Федор.
– Послушайте, товарищ подполковник, а не думаете ли вы, что подобное ваше поведение может быть не просто неприятно для окружающих, но и оскорбительно.
– Это как посмотреть, товарищ сержант, – я узнала, в каком звании мой муж. – Если с точки зрения вашей падчерицы, то вполне прилично. Какие там нормы! Живи, как Бог на душу положит.
Тут и я не выдержала.
– Послушайте, Алексей, не смейте говорить о моей дочери в таком тоне, – у меня перехватило дыхание. – Вы с чем сюда пришли? Вы здесь, пока того хочет она. Ваша жена и моя дочь.
– Брек! – вернулась Маша. – Разойдись по углам! Начнем новый раунд, после того как я объявлю о своем решении.
Маша взяла из рук Алексея бутылку, разлила водку по стопкам. Оглядела нас и произнесла одну фразу: «Никакого ребенка в моем чреве нет. Это был тест. Вот такая проверочка».
Выпила залпом. Выдохнула громко и продолжила:
– Вы, Алексей Иванович, – крупный ученый, но мелкий человек. Занимайтесь своей историей, а нас с Тамарой оставьте. На алименты я на вас в суд подавать не буду. Сколько сможете выделять на дочь, столько и приму. Даю вам сутки на сборы.
Вызрело. Я смотрела на Марию и с все большей уверенностью думала о том, что не тот, кто меня воспитал, был моим генным отцом. Вспомнился давний сон. Вспомнились слова санитарки в больнице, куда привезли отца: «Ей-то что. Не родный отец-то». И имя врезалось – Федор. Какая-то чертовщина!
Откуда у Марии эта твердость? Откуда такая уверенность в своих поступках? Я вся изойдусь, но так никогда не скажу.
– Ты права, Маша, – Алексей как будто очнулся. – Мы давно перестали быть истинными супругами. Я уеду утром.
Заканчивали мы втроем нашу трапезу уже в гостиной. Тамарочка уснула. Уснул и пьяный Алексей. Он долго ворочался на раскладушке. Кряхтел, что-то бормотал и скоро замолк.
Мы перекидывались легкими фразами, пили очень хорошее молдавское вино. Я мимоходом делала карандашные наброски. Нечто подобное шаржам. В гостиной пришло спокойствие.
В город же пришел антициклон. Небо прояснилось. Выполз лунный серп. Его злой изгиб навевал тревогу. Где-то на берегу залива разожгли костер, и с высоты виден его мечущийся на ветру огонь. Я представила, как бы я это изобразила на бумаге или холсте. Дочь уловила мои мысли.
– Ты собираешься пробивать выставку? Под лежачий камень…
– Я даже не представляю, с какого боку подступиться. У меня в этой среде никого. Мой круг – это медсестры да врачи.
– А ты пораскинь мозгами. Сколько через твои руки человеков прошло! Может быть, и художники были.
– Маша права. Я тоже поспрашиваю. У меня в колледже учатся «дети разных народов».
– Дорогие мои старики, пошли бы прогуляться. Я – на привязи, а вам-то что.
– Федор, возьми Машу, а я посижу с малой.
– Все. Прения окончены, – вот она, моя Маша. – Дочь укладываем в ранец и все идем на залив. Там, видите, костер. Присоседимся. Изжарим чего-нибудь на углях.
Чудное это приспособление. Люлька для младенца, которую женщина напяливает себе на плечи и несет впереди. Кенгуру какая-то.
Поразительно. Тамарка не проснулась. Она лишь дернула бровками. Не так повел себя Алексей. Он вскинулся на своем «прокрустовом ложе» с криком: «Уже?! Пора?!»
Что почудилось подполковнику в запасе? Не стали мы отвечать ему и ушли, оставив мужчину лежащим на раскладушке. Ноги его свешивались с нее. В сумраке кухни светились пятки жертвы Прокруста.
Слабый западный ветер нагонял пологую редкую рябь на берег. На горизонте плыли темные перисто-кучевые облака. Казалось, что это плывут корабли аргонавтов. Но где они тут найдут золотое руно? В заливе перевелась традиционная рыба. Куда уж до баранов.
– Подходите, подходите, странники земные, – как знаком мне этот голос. – Огня и кислорода всем хватит.
Отблеск огня высветил лицо говорившего. Конечно! Это наш давнишний пациент. Старость не осквернила его облика. Все тот же седой ореол, все тот же нос с горбинкой. Он лежал у нас после обширного инфаркта миокарда. Как давно это было! Но, что он, народный художник разваленного Союза, здесь делает в этот поздний час?
Сама судьба вела меня сюда. Была не была. Подкрадусь к нему и в лоб задам вопрос: «Подскажите бедной женщине, как устроить выставку».
Маша устроила дочку на коленях Федора и начала «колдовать» у костра. Вскоре от него потянуло чем-то жареным.
Хозяин костра сам приблизился к нам.
– В вас я вижу людей, лишенных легкомысленности молодости. Давайте познакомимся. Меня зовут Вениамин.
Точно это он. Теперь сомнений нет.
Не пришлось нам поговорить. Наша Тамара проснулась. Как же говорить под аккомпанемент детского ора?
– Федя, друг мой, возьми Тому и иди домой. Мне жуть как надо поговорить с этим человеком, – сумела я прошептать на ухо мужу, и он покорно перенял у меня груз и пошел к черневшей в отдалении громадине дома.
Костер начал тухнуть. Молодые люди стали постепенно расходиться. Остались трое. Я, моя дочь и он. Полчаса мы говорили без помех.
– Тамара Вениаминовна, я с удовольствием приду к вам завтра же. Мне интересно посмотреть на ваши работы. Что же касается выставки, это отдельный разговор.
Как-то странно он смотрит на меня…
Что же, и на этом спасибо.
Глава четвертая
«Имя художницы, которая отважилась на персональную выставку сегодня, мы узнали, только посетив этот вернисаж. И если обратиться к изначальному смыслу этого слова, то мы не увидим в ее произведениях и тонкого слоя лака. Ее картоны и холсты полны открытого цвета и экспрессии рисунка». И так далее. Это я цитирую одну из заметок на мою выставку в зале на Охте…
…Вениамин Аркадьевич пришел к нам на третий день. С порога он заявил, что намерен не только посмотреть мою живопись, но крепко посидеть за дружеской беседой: «Ваша дочь являет уникальный образец современной амазонки. Я не хочу сказать ничего плохого о ее бюсте, но все ее суждения и действа подобны образу этих мужественных дочерей Черного моря».
Я видела: моя дочь вновь окунулась в омут. Увлеченность у нее соседствует со здравым смыслом и тонким расчетом.
– Спасибо за комплимент! Мне приятно, что нашелся мужчина, который не сказал ничего плохого о моем бюсте. Суждения же мои поспешны и не всегда верны.
Боже ж мой, откуда у Маши этот политес? Что за слог! Пусть ее. Чем бы дитя ни тешилось. Все же она дочь моя. Мне важно, чтобы этот вальяжный господин помог мне пробить бюрократию от искусства. Я честолюбива. Недаром давным-давно Анатолий Иванович, в ту пору молодой доктор наук, выразился обо мне так: «Ты обладаешь высоким уровнем претензий. Ты честолюбива, и это мне импонирует».
Что же, и сегодня я хочу, чтобы мои тщания на поприще изобразительного искусства были отмечены.
Вениамин Аркадьевич уходил от нас в отличном состоянии. Мы не позволили ему напиться допьяна, но и трезвым он не остался. Я была восхищена и Машей, и своим мужем. Они сыграли великолепную интермедию. Я едва сдерживала смех, когда Маша представляла мои работы.
– Вы должны проникнуться настроением автора. Учтите, это женщина в годах. За ее плечами горечь утрат и радость обладания. Вы же не можете не видеть, как в цвете переданы переживания. Вот здесь. Смотрите же. Смотрите!
Она таскала мэтра от одного холста к другому. В конце он просто воскликнул: «Только за то, что у автора такой адепт, можно живописцу присудить премию».
Мы с Федором довели его до стоянки такси и благополучно отправили домой. Это было в начале октября. А в канун праздника-новодела 4 ноября в выставочном зале на Охте была открыта экспозиция моих работ. Сорок три живописных и графических листов и полотен. На открытие пришел Вениамин Аркадьевич с молодой женой. Маша со свойственным ей сарказмом шепнула мне: «Не зная его историю, сказала бы, что перед нами пример классического инцеста».
Мэтр сказал несколько слов и удалился в зал, где был накрыт стол а-ля фуршет. Что же, его понять можно. Он насмотрелся на мои шедевры у меня дома.
Отступление восьмое.
Тамара не скажет, но мы отметим. Ее выставку посетила почти тысяча человек. Редкий случай для такого события. У нее купили пятнадцать работ. О сумме заплаченных денег мы не осведомлены. О главном она расскажет сама.
* * *
Сколько людей захотело посмотреть на мою мазню, я не знаю. Не хочу расстраиваться. А вот сколько у меня купили, скажу. Официально, с оформлением документов, пятнадцать. А всего двадцать одну картину. Очко.
– Мать, ты стала богачкой. Куда деньги будешь девать? – Маша побывала на выставке дважды. При открытии и еще раз одна. Как она сказала, хочу послушать, что говорят любители экзотики. В этом она вся.
Наша маленькая Тамара росла и радовала нас. Банально? Может быть. Но я не претендую на оригинальность. Вся моя жизнь банальность. Мои трагедии тоже банальность. Сколько вокруг загубленных жизней! Сколько личностных трагедий, исковерканных судеб! Мне, можно сказать, еще повезло. Мы нашли друг друга. Я и Федор. Маша избавилась от психически ненормального человека. Может быть, и она встретит человека, с которым ей будет покойно и сладко. Как же нам не радоваться ребенку, которого мы искренне обожаем.
Так, неспешно мы подошли к новому, 2005 году. Кстати, о тех деньгах, что я выручила от продажи картин. Часть денег ушла на банкет. На нем настояла та же Маша: «Мать, не одним днем живем. Теперь ты богема и твой удел – тусовка».
Маша и устроила вечер. Она показала себя отличным организатором. Опять заболталась. Я ведь ничего не сказала о работе дочери. Она сумела устроиться в фирму по продаже компьютерной техники каким-то менеджером. Работа по скользящему графику – и неплохо оплачиваемая. В пяти остановках метро. Правда, с пересадкой.
Так вот, Маша устроила вечер в закрытом клубе при Обществе любителей бриджа. Я о таком и не слыхала. Интерьер, мебель, вся обстановка напоминала мне декорации из отличного киноварианта Шерлока Холмса времен советского кинематографа. Маша же в основном составила и список гостей. Она учитывала все. Кто где работает. С кем из современного местного истеблишмента знаком.
– Мать, не возникай! В современной жизни важны и деньги, и связи.
– Как будто так не было и раньше.
– Ошибка. Раньше деньги надо было прятать. Мужики прятали деньги от жен. Жены от мужей. А все вместе – от партийных контролеров.
– Откуда такая осведомленность?
– Ты позабыла, кем был мой муж Отелло? Я проштудировала все его книги. В интимной жизни он монстр. А в профессии – гений.
Вечер состоялся. В прямом и переносном смысле. Это я поняла уже после. Дома Маша выложила передо мной стопку визиток.
– На досуге изучим и составим план действий. – Откуда у моей дочери столько практицизма?
А вот и Новый год.
Глава пятая
С Новым годом, с новым счастьем! – это мы говорим хором.
Мы – это Федор, Мария и ее начальник Степан Николаевич Прохоров. О нем пару слов. Ему сорок. Вдов. Жена погибла год назад в автокатастрофе. Детей нет. Все ждали чего-то более благоприятного. Дождались. А впрочем, все в руках провиденья. До занятия бизнесом работал в крупной лизинговой фирме. Что такое этот лизинг, мне объяснила дочь. Что же, подумала я про себя, и это в русле времени. Все чем-то торгуют, сдают в аренду.
Степан Николаевич принес два большущих пакета. Так что на нашем столе не осталось ни сантиметра, свободного от яств и напитков. Маленькая Тамара выпила с нами виноградного соку и скоро уснула. Чудо, а не ребенок.
«Хоть бы не устроили во дворе фейерверка», – подумала я, зашторивая окна.
На дворе минус три и небольшой снег. В такую погоду люди обязательно попрутся на улицу. Пьяный народ в массе – вещь весьма неприятная. А с фейерверком у меня ассоциируется тот давний Новый год. С Васей и Надей. С Гошей, у которого большой нос и влажные ладони. С убийством Надькой своего мужа. Отчего он был совсем голый?..
Маша, выдумщица, придумала разные конкурсы и призы. Каскад эмоций вызвал конкурс рисунка. По условиям один из нас, по жребию определенный, начинает рисовать на листе ватмана и, закончив свою часть, прикрывает ее. Дальше продолжает другой. Старая игра, но все зависит от настроения. Настроение же у нас было превосходным. Оценивала этот конкурс сама Маша. Самой лучшей частью коллективного рисунка она признала тот, что рисовал Федор. Она не знала, кто какой участок исполнил. Так что в предвзятости мы обвинить ее не могли.
Отступление девятое.
Не правда ли, как незатейливы развлечения этих людей? Что-то патриархальное видится в них. Отчего же мне тревожно? Или современность так каверзна и неустойчива, что во всем более или менее человеческом, истинном нам чудится подвох, западня?
Что произошло с нашей психикой за эти пятнадцать лет? История имеет массу примеров, когда народ, народы после самых тяжких испытаний оставались полны оптимизма и доброты.
И вот я столкнулся с простыми радостями людей с непростой судьбой, и мне тревожно за них.
Тревожно от того, может быть, что бесстыдство прет, простите за столь вольное слово, из всех щелей. С экранов телевизоров, с газетных и журнальных полос. Аудио и видео. Бывшие секретари обкомов, горкомов проповедуют христианские ценности и тут же демонстрируют роскошество своей жизни. Церковь все более и более роскошествует.
Хватит об этом. Я о людях, с которыми я почти прожил их жизнь. Что-то станется с ними?
Но в эту новогоднюю ночь я расстаюсь с ними.
Когда судьба сведет меня с ними?
Глава шестая
– Госпожа Инина завтра вылетает в Нью-Йорк. Ее пресс-конференция переносится на сегодня, на 16 часов. – Это секретарь обзванивает редакции.
Тамара Вениаминовна теперь галерист в Париже. Она собирательница картин молодых и талантливых художников. Устраивает выставки их работ и поелику возможно содействует им в продаже картин. Это приносит ей доход, достаточный для безбедного существования.
Муж ее Федор Петрович на родине сумел сколотить немалый капитал на компьютером промысле. Не на этих страницах открывать секрет источника его доходов в России. Хакер. Произнесем это слово, и будет достаточно.
Дочь Тамары Вениаминовны Маша вышла замуж за Степана Николаевича и пока живет в Санкт-Петербурге. Это он посоветовал Федору Ивановичу окончить курсы программиста и приспособил его к своему делу. Он организовал фирму по обслуживанию компьютерной техники и удачно вел дела. В числе его клиентов были автомобильные компании Японии и Южной Кореи.
После удачной продажи квартиры на Васильевском острове построили небольшой дом в два этажа в районе Озерков. Маленькая Тамара выросла и пошла в школу. У нее бонна. В шесть лет она уже могла говорить по-английски и читала по-французски.
Ну а Федор Петрович и тут, в Париже, нашел применение своим талантам. Творения же его жены охотно покупали как тут, в Старом Свете, так и за океаном. В Нью-Йорк Тамара как раз и летит по делам коммерческим, для продажи триптиха для нового особняка известного голливудского актера.
– Мадам Тамара, – молодой человек по имени Жан, то есть Иван, был правнуком эмигранта первой волны, – это текст вашего заявления.
– Спасибо, Жан. Я посмотрю и, если будут замечания, позову вас. А пока найдите Федора Ивановича. Мне он нужен будет в три часа.
До сих пор Тамара призывала мужа в таких случаях. Он был как бы ее оберегом. В его присутствии она и говорила свободно, и ее не охватывала дрожь при виде теле– и фотокамер. Все же два микроинсульта давали о себе знать. Но при этом пятидесятилетняя женщина очень хорошо выглядела. Ее фигуре позавидовала бы сорокалетняя. Никто же не должен знать, что каждые четыре часа она должна уединиться и пройти короткий сеанс релаксации. Пожилая албанка обладала особым даром. Несколько пассов руками – и усталость и, не дай Бог, головной боли как не бывало. Софья, так звали женщину, которая, наверное, помнила Энвера Ходжу или, по крайней мере, его приспешников, жила по соседству. Так что в любой момент могла прийти на помощь.
– Как настроение? – приехал муж.
– Боевое. Я им задам за вчерашние пасквили.
– Ты, главное, не волнуйся. У тебя Софья была?
– После, после. Теперь мне нужен ты. Вот пробеги текст. Кажется, Жан никогда не обретет характера бойца. А ведь его прапрадед был генералом лейб-гвардии гусарского полка его императорского высочества. Так, что ли?
– Точно не знаю. Знаю одно. Эта хваленая западная культура выхолащивает из человека все естественное. Природное. Это какие-то гамбургеры. Ходячие. Съешь и вроде сыт. А на самом деле – эрзац еды.
В кабинете наступила тишина. Через двойные стекла с бульвара не доносится ни звука. Лишь подобно метроному отсчитывают время напольные маятниковые часы. Творение швейцарских мастеров и гордость Федора Петровича.
– Что же, в целом допустимо. Но тут, – муж пером показывает на одно место в тексе, – я бы выразился определеннее. Но это на твое усмотрение.
Тамара глянула:
– По ходу скорректирую. А пока кликни Ивана-Жана. Пусть он приготовит легкий ленч.
Пресс-конференция прошла для Тамары Вениаминовны вполне успешно. Ей удалось поставить на место особенно зарвавшегося журналиста из Figaro. Да так, что его коллеги долго и как-то издевательски смеялись ему в след. Жан от восхищения своей патронессой сиял. Все-таки это он подготовил ей текст обращения. Правда, от первоначального варианта она мало что оставила, но все же.
Федор Петрович, как обычно, сел в рядах щелкоперов и своим присутствием ободрял жену. Было оговорено, что в ходе пресс-конференции никто не будет фотографировать. Нашелся-таки один хлюст и попытался нацелить свой «Цейс» на Тамару. Крепкая рука бывшего рыбака вмиг пресекла эту попытку.
Уже после Тамара позволила сфотографировать себя. В вечерних выпусках газет она красовалась на фоне своей последней картины. Пастух и пастушка. Грудь пастушки пришлась на фото на уровне бюста Тамары и те, кто смотрел на фото, мог сравнить красоту одной и другой.
– Она себя писала, – судачили модницы с Елисейских Полей.
Ужинать супруги и Жан пошли в маленький ресторанчик недалеко от площади де Голля.
Федор пил русскую водку и ел украинский борщ. Тамара пила бордо 2000 года урожая и ела макрель в сметане. Жан пил Мозельское вино – оно дешевле – и ел паровые котлетки из мяса кабана. Что за эклектика!..
А-301 «Айр Франс» после небольшого для такой махины разбега взмыл в небеса Орли, чтобы через пять часов приземлиться в аэропорту Кеннеди на берегах Гудзона.
Из прохлады салона пассажиры окунулись в духоту жары мегаполиса. Потом кондиционированный воздух автобуса. Из него почти бегом в гостиницу. И опять искусственная атмосфера в номере пентхауза.
– Федор, я отсюда никуда не уйду, – Тамара сбросила с себя верхние одежды и теперь в одном дезабилье лежала на кровати с балдахином.
– Сейчас закажу напитки и пойду в душ, – Федор был деловит. Ему предстояло организовать встречу жены с киноактером. Жана они с собой не взяли. Накладно тащить через океан еще и его. Надо знать, какую пошлину содрали и французы и янки за провоз триптиха.
Фред Берне откликнулся сразу же.
– Мой дорогой Федор, – хорошо поставленным голосом отвечал он на приветствие Федора, – я готов встретиться с миссис Тамарой, когда ей будет угодно. Я прочел в Интернете ее интервью. Роскошь! Так и надо этим французикам.
Фред был трижды номинирован на Оскара, и трижды большое жюри «прокатывало» его. Но был Фред техасцем, был оптимистом. Папа его миллионер говорил сыну: «Не дадут Оскара они – я тебе отолью в два метра такого же. Не горюй, сын!»
Папа Фреда был внуком русского. И, как говорят всезнайки, на третьем колене проявляются черты рода. Фред даже стал учить русский язык. Так что в приватной обстановке он мог сказать несколько фраз по-русски.
Договорились о встрече на утро завтрашнего дня.
– О’кей, Федья, я буду у вас ровно в десять. Готовь глотку. Выпьем нашей русской водки.
– Ты со своим америкашкой сдурел. Так рано я не смогу соображать.
– Во-первых, его дед русский, а во-вторых, тебе соображать и не придется. Твое дело стрелять глазками и демонстрировать волнующуюся грудь.
– Пошляк. Если ты хочешь, чтобы я дожила до утра, веди меня в ресторан. И не напоминай мне об их фастфудах. Мне дороги мои желудок и печень.
В гостинице, где сняли номер супруги, было три ресторана. Китайский, японский (как будто кто-то почувствует разницу!) и мексиканский.
– Куда ты меня поселил? Я не японка и не китаянка. А от мексиканской кухни у меня случится запор, – говорила Тамара Вениаминовна все это громко и по-русски.
– Мадам, может, в китайском ресторане заказать чего-нибудь и из русской кухни. Как там пелось у вас – братья навеки. Русский и китаец, – пожилой господин в смокинге встал рядом и улыбался милой сатанинской улыбочкой.
– Вы русский?
– Да. Я доктор физико-математических наук. Тут нахожусь вынуждено. Читаю курс на семинаре для американских оболтусов. Я питаюсь вообще-то не тут. Дороговато для доктора наук и профессора из России.
– Было бы весьма любезно с вашей стороны, если бы вы подсказали, где мы с женой могли бы прилично и не накладно отобедать.
– Рад буду помочь. Если вы согласитесь подождать меня десять минут, я скину эту униформу и препровожу вас в милый ресторанчик рядом.
Тамара и ее муж в Нью-Йорке впервые.
– А где были эти башни-близнецы?
– Не будем о плохом. У нас тут дела приятные.
Желтые «форды» с надписью по бортам «Такси Нью-Йорка» мелькали то тут, то там.
– У нас тоже желтое такси. Обезьяны.
Доктор физико-математических наук не обманул. Не заставил себя ждать. И ресторан, куда он привел супругов, был хороший. И тут не обманул.
Разговорились. И когда Борис Ефимович узнал, где и кем работал Федор, возрадовался, будто встретил давнего знакомого.
– Я знаком с вашей «формулой счастья». Просто и предельно эффективно. На вашем месте я бы давно стал миллионером.
Не стал разочаровывать профессора Федор. Миллион не миллион, но близкую к этому сумму Федор Иванович имел за счет этой, как выразился Борис Ефимович, формулы счастья.
Ужин удался. И еда была вкусна, и водка была похожа на родную. И разговор «склеился». Борис Ефимович оказался любителем русской живописи. Имел небольшую коллекцию. Он почти с детским восторгом воспринял известие, что Тамара Вениаминовна сама пишет и имеет в Париже свою художественную галерею, в которой выставляет полотна молодых русских живописцев.
– Вы, – с некоторой экзальтацией воскликнул он, – продолжатель дела Дягилева.
И пообещал обязательно посетить галерею Тамары.
Одно огорчало – профессор быстро и сильно пьянел. Пришлось до отеля его почти нести на своих плечах.
Ровно в десять ноль-ноль Фред Берне появился в холле гостиницы. Рядом – дева-дива. На полголовы выше актера. В легкой сиреневой тунике и с тюрбаном на голове.
– Познакомьтесь, это Нина. Она русская. Она без ума от меня, – чисто американская манера. – Она моя первая помощница. Я полностью доверяю ее мои финансовые дела.
И Федор, и Тамара подумали одно и то же: какое несоответствие внешности и сути! Уже через десять минут они могли убедиться в том, что перед ними опытный переговорщик. Нина вела беседу спокойно, но напористо. Было видно, она в таких делах дока. Было выпито три бокала легкого вина и съедена коробка орешков, а к консенсусу все не пришли.
– У нас, госпожа Нина, нет времени и средств попусту проводить время в этом городе. Жаль, что пришлось потратиться на пошлину, – Федор сделал движение как бы вставая.
– Вы, русские, очень экспрессивны, – забыла, что сама русская. – Не будем все же торопиться. Вот наша последняя цена, – она написала на листе блокнота цифру с пятью нулями. Первая цифра была близка к десятке.
Тамара ткнула ногой мужа. Это не осталось не замеченным Ниной.
– Ваша супруга, интересы которой вы представляете, я вижу, согласна.
Оформить сделку было решено сегодня же. Нечего откладывать, коли гости тяготятся пребыванием в Нью-Йорке.
15 июня триптих «Три начала, три стихии» кисти модной художницы Тамары Ининой приобрел американскую «прописку». Сделка на сумму, исчисляемую цифрой с пятью нулями, состоялась за небольших размеров круглым столиком в баре на третьем этаже гостиницы с именем бога любви Купидона.
Кто бы из людей, заключавших эту сделку, мог знать, что зимой от короткого замыкания начнется пожар на вилле Фреда и триптих сгорит без остатка.
Фред получил за нее хорошую страховку. В том числе и за картины. Нина была отличным финансовым агентом. После пожара она поменяла хозяина. Фред напился по этому поводу так, как не напивался давно.
О пожаре в поселке в окраинах Лос-Анджелеса Тамара Вениаминовна узнала из новостей по каналу CNN.
– Вот, Федор, и сгорели мои три стихии.
– Ты напишешь еще лучше, – а сам подумал, что шестьсот тысяч американских, пусть и теряющих вес долларов – неплохой доход от живописи.
Глава седьмая
Мария Анатольевна сидела у приоткрытой двери, выходящей на террасу, и курила. Она не зажгла лампы. Лишь блеклый свет от фонарей на набережной освещал ее лицо.
Где он может быть, куда его нелегкая занесла, думала она, и прикурила следующую сигарету от предыдущей. Вчера утром Степан Николаевич, как обычно, выпил большую кружку черного кофе с лимоном, съел два бутерброда и выкурил Camel. Сегодня ему предстояла встреча с представителями кампании Sony. Она предполагала переговоры о выгодной закупке компьютеров и другой оргтехники. Сел в BMW и, газанув, выехал со двора.
Муж так и сказал: «Удастся обвести япошек вокруг пальца, будем мы с тобой миллионерами».
Тон и вид мужа были убедительны. Лишь после того, как Степан закрыл за собой дверь, Мария почувствовала какую-то тревогу.
Весь день она была так занята, что даже толком не поела. Перехватила чего-то на бегу и всего-то. К концу дня на нее опять напал мандраж. Это от голода, решила она, и по пути в офис она заскочила в любимый ею бар и выпила пятьдесят граммов коньяку и съела два бутерброда с икрой и рыбой. Нутро немного согрелось, и тряска отступила. Так на рюмке коньяка и двух бутербродах она продержалась до вечера. За весь день Степан ни разу не позвонил. Сама Мария не решалась. Он очень сердился, когда она отвлекала его разговорами по телефону. Он так и говорил: «Мобильная связь существует не для пустопорожней болтовни, а для передачи срочных и важных сообщений».
Уже в час ночи, когда, по ее мнению, не могло быть никаких переговоров, она позвонила на мобильный телефон Степана. «Телефон находится вне зоны обслуживания или отключен», – услышала она.
В эту ночь она умудрилась немного поспать. Тамара с бонной на даче, и нечего их беспокоить. Но когда и утром муж не объявился, Мария решила все же позвонить бонне. А вдруг муж поехал проведать дочь? Степан удочерил Тамару и привязался к ней.
Утро пришло к Марии с головной болью и сильной тахикардией. Настойка пустырника и две таблетки валерианы успокоили сердцебиение. Надо идти на работу. Но ноги не слушались.
В офис Мария доплелась к десяти часам. Нонсенс. Она требовала от подчиненных строгой дисциплины, а тут сама опоздала. Стыдно. Едва войдя в кабинет, она набрала номер телефона знакомого милицейского функционера.
– Маша, поверьте мне. У меня большой опыт. Подождите еще сутки, и ваш благоверный приползет, как нашкодивший кот.
Это так возмутило Марию, что она, не сказав ни слова, разъединилась с полковником.
– Болван, – успела она сказать в микрофон.
День прошел, словно она была в обмороке. Она никуда больше не звонила, ни к кому не обращалась. «Наслышана, как пропадают люди. Буду ждать», – решила она. С этой мыслью она покинула офис и пошла по улицам вечернего города без цели. Куда ноги вынесут. Несли женщину ее красивые длинные ноги в сторону то бара, то кафе. И везде она выпивала. Пила и не пьянела. В таком состоянии она и приехала домой. Водитель маршрутного такси даже помог ей выйти из салона.
И вот теперь она сидит у открытой двери и курит. Минут тридцать назад она явственно ощутила – Степана нет. Нет вообще. И чем больше она проникалась этой мыслью, тем спокойнее становилась.
Как пришел, так и ушел, вертелось в ее голове. Грех-то какой! Промелькнуло и тут же смылось другими мыслями. И опять греховными. А ведь я единственная по закону наследница. У Степана никого. Ни жены, ни детей, ни родителей. Она вспомнила его сетования: «Ты понимаешь, Мария, я рос в детдоме и не знаю, кто мои родители. Когда я встретил Анну (это его жена), мне показалось, что я обрел в ней все вкупе. И отца, и мать. Она была и мудра сердцем, и рассудительна головой. Она ушла, и я думал, что опять я сирота и опять мне одному жить, бороться. Я сник. Жил по инерции. И вот ты. Я опять живу».
Вот и пожил. Недолго. Марию пробрал озноб. Стало страшно. Как же так?! Жил, жил человек и нет его. Чувство, что проникло, уже не покидало. На часах одиннадцать вечера. Хмель прошел, и Марии захотелось есть. Жизнь.
Эту ночь Мария спала хорошо. Но уже в девять утра у нее началась совсем иная жизнь. Жизнь в криминале. Тело ее мужа было обнаружено на въезде на городскую свалку. Оно было завернуто в какую-то дерюгу. И документы, и кошелек с кредитными карточками и визитками, и мобильные телефоны – их у Степана было два, – все это было при нем.
– Вы, Мария Анатольевна, пока проходите по делу об убийстве гражданина Прохорова в качестве свидетеля. Мы и допрашиваем вас так, – старший следователь прокуратуры был немолод, тощ и, судя по цвету лица, тяжело болен.
Он и два оперативных работника районного Управления ВД, заявились к Марии в девять часов утра, пробудив ее от глубокого и тяжелого сна. Женщина – как была, в халате из китайского шелка, со спутанными волосами, с горечью во рту, – встретила их и сначала не поняла, что от нее хотят эти трое мрачных мужчин.
Когда же один из оперов сообщил ей о смерти мужа, она вдруг заплакала. Знала же, что с мужем произошло непоправимое, но вот же! Разрыдалась. Предусмотрительны были ранние гости. Тут же явилась, ждавшая на дворе, медсестра. Укольчик в ягодицу – и Мария спокойна.
Подписывая протокол допроса, она уже вполне владела собой и не пропустила ни одной описки и неточности.
– Распишитесь и тут, – больной следователь ткнул пальцем с обгрызенным ногтем в бумагу размером с половину печатного листа формата А4.
– Это еще что?
– Это так называемая подписка о невыезде. По ней вы не можете выезжать из города без моего ведома. Иначе – постановление о мере пресечения.
– Ишь, какие строгости! А говорите, я лишь свидетель.
– Путь от свидетеля до подозреваемого короток.
Ну, ни поганец ли? Болен смертельно. Ему бы уже о Боге подумать. Он – нет же, копает и копает.
Бригада ушла, и Мария только тут и обратила внимание на свой вид: хороша, Маша. Что же они могли подумать о тебе? Жена-убийца с расстройства напилась.
Опять звонят в ворота. Надо идти открывать. Может, вернулись эти. Нет, стоят ее девочки из офиса. Степан создал специально для жены филиал. Она помнит, как он сказал: «Работать мужу и жене в одном месте безнравственно. Ни тебе ущипнуть кого бы, ни выпить с устатку. Да и тебе неловко же глядеть, как твой муж охмуряет секретаршу».
Это, конечно, было сказано в шутку. Просто надо было расширяться. И кто, как ни жена, может возглавить бюро.
– Мария Анатольевна, мы все так волнуемся. Так волнуемся. Вы на работу не пришли. В «голове», – так прозвали главный офис фирмы, – переполох. Шеф пропал. Он что – заболел? – И зырк, зырк глазами по углам, как будто жена мужа прячет.
– Нет, девочки. Мой муж и ваш босс не заболел. Его убили.
– Что вы такое говорите? Как Степана Николаевича могут убить?
– А вот так. Взяли, вас не спросили и убили. Чего встали? Пришли, так проходите, – Мария задумалась на секунду. – Хотя нет. Таня, смотай в магазин. Купи выпивки и закуски. У меня шаром покати.
Через три часа четыре женщины сидели на диване в холле и пели нестройно: «У меня не характер, а порох. Взгляд милой это тоже повод. Брал руку, целовал пальцы его…»
Таня, та, что ходила в магазин, пыталась подражать голосу певички Ваенги.
Спали вповалку. Ноги Марии покоились на груди пятого размера Веры. Татьянины ноги в свою очередь лежали на животе Марии. Ольга же вообще уснула на паласе у дивана.
* * *
Из уголовного дела № 543 по факту убийства гр-на Прохорова С. Н.:
«Следствием установлено, что гр-н Прохоров С. Н. умер вследствие нанесенных ему трех ножевых ранений в область живота».
Дальше данные судмедэкспертизы. Планы оперативных мероприятий по выявлению преступника. Протоколы допросов. Установление алиби фигурантов по делу и, наконец, постановление прокурора о приостановлении следственных действий. Так дело легло на полку. Глухарь.
Глава восьмая
– Федор, – у Тамары Вениаминовны выпало несколько свободных минут, и она решила пообщаться с мужем, – давай сегодня вместе где-нибудь поужинаем. Как ты относишься к ресторану на барже на набережной Д’Орсе?
– Если моя жена надумала переться невесть куда ради лукового супа, то мне глупо возражать.
В трюме бывшей баржи, когда-то таскавшейся по Сене с грузом песка, был устроен ресторан. Держал его сын бывшего шкипера этой самой баржи. Ему помогали жена и дочь. На кухне – он сам. В зале дочь, на кассе жена. Семейный подряд.
По бортам сети и картины. Этакий примитивизм, но забавно. Весьма, весьма. Мебель грубая, посуда под стать ей. Керамика цвета необожженного кирпича. Столовые приборы из простой стали. Это у нас в России они были бы недороги. Но не тут.
Тамаре тут нравилось. Она ела, как правило, луковый суп и пила белое вино. Федор супа не ел. Он любил куриные филейчики с овощами. Глядя, как жена пьет вино, он морщился: «Как ты пьешь эту кислятину?»
Сам он пил кальвадос. Следовать так следовать. Или не во Франции мы. Так он оправдал свое пристрастие к этому напитку.
Перекидываясь малозначимыми фразами, они ели каждый свое. О чем они думали в это время?
Тамара Вениаминовна думала о дочери. Хорошо бы, чтобы она приехала с маленькой Тамарой. Пусть Степан остается, а они приезжают. Не то чтобы Тамара Вениаминовна не любила мужа дочери, но он ей казался чужеродным элементом. Его постоянные разговоры о деньгах утомляли.
Федор же думал о том, как бы вернуться в Россию. Он уже устал от Франции. И вообще от заграницы. Он освоил мало-мало французский язык. Прилично говорил по-английски. Но все равно тяготился в чужой языковой среде.
Когда дочь хозяина заведения принесла десерт, подал голос мобильный телефон. Прими, мол, СМС-сообщение.
У Тамары участилось сердцебиение.
«Степан убит. Если можешь, приезжай».
– Что-то в галерее?
– Нет, Федор. Степана убили.
– Какого Степана? – не мог принять это известие математик, программист.
– Ну, не Бандеру же. Тот давно помер. Нашей дочери мужа убили. Перепил этой яблочной водки, – в сердцах сказала Тамара и позвала Лизу. Дочь ресторатора. На расчет. 300 франков. Мама моя родная! Дорога же ты, жизнь во Франции.
Они ехали на новом такси «рено». Половину пути молча. Потом Тамара Вениаминовна нарушила тишину – Доигрался твой бывший патрон. Все ему было мало. Эти деньги. Их фетишизм. Money, money, money!
Отреагировал таксист.
– Оплата только по счетчику, мадам!
Федор молчал. Убили, не убили. Нет человека – и все. Все так просто. Может быть, теперь-то жена согласится вернуться в Россию. Осточертели эти месье и мадамы. И даже очень аппетитные мадемуазели осточертели. Какие-то они ненастоящие. И пахнет от них не по-людски. И груди их тоже ненастоящие. И все остальное ненастоящее.
– Ты чего заелозил-то? – отреагировала на эти мысли жена.
Дома, не снимая пыльника, Тамара стала набирать номер телефона в Санкт-Петербурге. Городской. Никто не поднял трубку в особняке. Позвонила на мобильный. Не отвечает. Знать бы матери, что доченька ее в этот момент «развлекается» с подружками в мотеле в Репино. Все та же троица и Маша.
– Я пойду в ванну, а ты, сделай милость, закажи билеты на ближайший рейс домой.
У Федора лицо расплылось в улыбке.
– Чего смешного я сказала и чему смеяться в этом случае? – не выдержала и тоже улыбнулась.
В Санкт-Петербург самолеты летали три раза в неделю. Очередной вылет только в субботу, то есть через два дня. Сегодняшний уже летит.
Два дня Тамара занималась передачей дел своей тутошней подруге. Как сказать? Офранцузившейся, что ли, немке Кати. Ее так назвал папа, офицер бывшей народной армии ГДР, любитель русской литературы.
Ей Тамара могла доверить галерею. Немка была до невероятности честна и по-немецки пунктуальна и исполнительна. Улетая в Америку, к примеру, одно дело было доверено Кати и она выполнила его на отлично.
Сложнее было с Софьей. Она мерзко говорила по-французски. У нее никого, кроме Тамары, в Париже не было. Она села на табурет в прихожей и стала причитать:
– Улетишь к себе в Россию, и я помру тут. Улетишь – и я умру.
– Хватит ныть! Билетов на самолет все равно больше нет. Не пропадешь.
– Улетишь – и я помру, – продолжала албанка.
Не выдержал Федор:
– Слушай, Софья, где твой паспорт?
– Тут он, – албанка как будто этого и ждала, – у меня шенген. В Россию можно ведь.
Ах ты, бестия! Все-то она предусмотрела.
– Поехали! – Федор сдернул женщину с табурета и увел с собой.
– Куда ты ее поволок?
– Не корова я, чтобы меня волочь, – обиделась албанка.
– Ох, уж и разобиделись мы! Езжайте уж, – сказала Тамара. – Федор, подгадай так, чтобы Софья в России была не раньше нас. Там она точно пропадет.
Они ушли. В квартире на третьем этаже дома постройки начала восемнадцатого века, как пишут в романах, воцарилась тишина. Ерунда все это. Метрономом звучали напольные часы. Сквозь шторы в комнаты проникали звуки города. Где-то в отдалении провыла сирена полицай-авто. Ажаны торопятся. Да и сам дом жил, не молчал. Глухо, едва слышно доносились звуки фортепьяно с пятого этажа. Там на одном из трех инструментов репетировал новую пьесу Шопена Пьер.
Тамара Вениаминовна забралась с ногами на софу и закурила. Последнее время она старалась не предаваться этой застарелой напасти. Лучше выпить хорошего вина или коньяка, нежели выкурить одну сигарету. Незаметно она задремала.
Эпилог
Все тот же А-301 занял свой коридор и начал путь по курсу. Один диспетчер сменял другого. Над городом Баден-Баден в горах Шварцвальда возмущенные потоки воздуха бросили лайнер вниз. Главный пилот Жан Бержье с трудом удержал в руках штурвал. Он делал все возможное, чтобы вывести самолет из штопора. И, может быть, ему это бы удалось. Не будь они в горах. Легкое касание правого крыла об уступ горы и вот громада рассыпается на горящие части. Никто из ста тридцати пассажиров и семи членов экипажа не выжил. Прах их и тот собирали по кровавым кускам.
По ком звенит колокол на верхушке костела в городе?
Мария получила две капсулы через месяц. Долги бюрократические процедуры в Германии. У нас не проще.
– Мама, а где тут бабушка? – Тамара вытянулась. Этакий Бемби.
Темно-зеленый цвет елей резко выделялся на фоне серого неба с оттенком розового. Ни дуновения. Природа застыла, будто в траурном церемониале. Тишину кладбища нарушали картавые крики воронья.
Это день двадцатый августа 2007 года.
Тамара Вениаминовна Инина, ее дети – Миша, Маша, Ваня и ей сопутствующие – Петр Петрович, Анатолий Иванович, Федор Петрович. Вспомним Алексея, Степана, Васю, Надю.
Сколько их, живших в одно время с Тамарой Ининой?..
Мы узнали, как жили эти люди. С большой скорбью мы расстаемся с Тамарой.
Забыли Софью. Она приехала в Санкт-Петербург, и тут же на вокзале была ограблена. Через месяц ее депортировали в Косово. Почему туда? Я-то откуда знаю.
Послесловие от автора
Перечитывая эти истории, я представил женщину, сидящую за стариным письменным столом.
При свете зеленой настольной лампы она пишет их почему-то не на пишущей машинке. Не шариковой ручкой, не ученической вставочкой с металлическим пером. И даже не гусиным пером, а пером павлина. Фантасмагория какая-то…




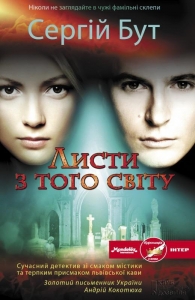






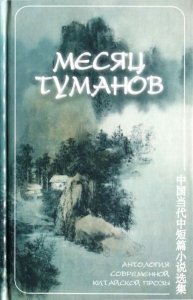
Комментарии к книге «Женские истории пером павлина (сборник)», Николай Алексеевич Беспалов
Всего 0 комментариев