Сергей Саканский Итоги и паузы
Покрывало вдовы, или Вирус убийства
– Гу! Гу! – существо с голубыми глазами, сидя в парусиновом ящике, хлопало длинными ресницами, а внизу, среди каких-то блестящих – как их… Каких-то блестящих трубчатых этих – болтались колеса… Он выглянул через парусиновый край мироздания и обнаружил, что тоже сидит в ящике, а внизу – на динамической консольной раме – рессорная коленчатая подвеска – так, что ли?
– Гу! Гу!
Это и была их первая встреча – весной, в конце пятидесятых: молодые мамы везли их, волнуясь колокольными платьями, возбужденно переговариваясь, и Евгения впервые улыбнулась Вдовину – голубыми глазами и беззубым ртом.
Шла эпоха пустышек, пеленок, погремушек, мучительных клизм…
Они выросли в одном дворе – да, да, тогда еще были такие дворы – и едва осознав себя, как живущую сущность, Вдовин понял, что любит. В принципе, ему не повезло: он так и не познал состояния вне любви и никогда не был истинно свободен. Но он обладал природной храбростью, не боялся ни девчонок, ни мальчишек, и впервые, когда сумел облечь свою идею в слова, легко и простодушно высказался:
– Эй, Женька! А я люблю тебя.
Девочка сосала леденец-листик, далеко высовывая острый язык, цветом и формой к леденцу стремившийся… Она посмотрела на Вдовина снизу вверх, склонив голову набок, одним глазом, как часто делала в будущем, скажем, лет двадцать спустя.
– Да? – сказала она. – Ну, тогда кушай.
И она протянула ему этот славный искусственный язык, и он лизнул его.
Это было в эпоху классиков, скакалок, рогаток, стеклышек, насекомых…
Они стали ходить. Она на деревянную горку и он за ней. Бывает, он сорвет одуванчик, а она сдунет… И в голове друг у друга поищут, и пописать он ее отведет, посторожит… Пожалуй, это и была самая счастливая пора его жизни, на долгие годы вперед.
Как-то раз он вышел во двор и не увидел ее. Несколько человек, под грибком в песочнице строивших город, странно, молча посмотрели в его сторону. И он догадался: в горле вырос соленый слезный ком.
Нравы в наших дворах были весьма простыми: огромную роль в наших дворах играли кусты.
Вскоре из кустов вышли: Тюпа, старший на год мальчик, картинно выпятив грудь и паровозиком играя кулаками, за ним также паровозиком играя – Евгения.
Вдовин захлебнулся от злости, от зависти к другому, от жалости к себе, словом, от ревности, впервые в жизни испытанной.
– Как ты смогла! – возопил он.
– А что? – моргая голубыми глазами, спросила Евгения.
– Ты… – дрожащим пальцем тыча в сторону кустов.
– Заглохни, – не останавливаясь, обронил Тюпа, и Вдовин бросился на него, но сразу был сшиблен с ног и побежден.
Ничего особенного они там не делали – просто показывали друг другу пиписьки, но ты только представь себе, мой искушенный читатель, как взрослые мужчина и женщина, удалившись в кусты, начинают показывать друг другу пиписьки, и ты сразу поймешь, как больно было маленькому Вдовину, тяжело.
– Убью, сука, убью! – шептал Вдовин, запершись в деревянном сортире, не совсем понимая, кого из двоих он имеет в виду.
Далее будет один запрещенный прием, я его не люблю, но другие авторы вовсю его пользуют, так что рискну.
Евгения любила Вдовина, страстно и тяжело, с фантазиями, с подвыванием… Она плакала по ночам, иногда даже плакала днем. Она представляла, как Вдовин надевает ей на палец кольцо. Своим маленьким мозгом она не сразу постигла, какую связь имеет этот очередной, паровозиком с Тюпой поход в кусты с ее значительным чувством к самому лучшему мальчику на свете.
– Ты что же, не будешь больше со мной водиться?
– Не буду.
– А хочешь семечек?
– Не хочу.
– Арбузных?
– Не надо.
– Может, пойдем паровозиком? В кусты?
– С Тюпой ходи.
С тех пор он стал играть в стороне, с другими, а ее как бы не замечал. И все это было из-за Тюпы, урода, у которого из ушей текло, с его недоразвитой морковкой, гад, чтоб ты сдох. И Евгения принялась колдовать…
Она ставила два зеркала и вызывала Привидение: Мапси, мапси, фый!
И в конце лета Тюпа разбился, сорвавшись с верхнего этажа стройки в будущий лестничный пролет – это строили техникум, в котором они оба много лет спустя учились, и ходили по тем самым лестницам, в пространстве, где летел, кувыркаясь, Тюпа, что всегда вспоминалось, стоило только выйти на лестницу.
Тюпа наткнулся на арматуру, словно в каком-то кино, его ноги дрожали, из коротких штанишек вывалилась его морковка, она была неправдоподобно большой, пальцем Тюпа чертил что-то на полу в цементной пыли…
Евгения сошла с ума. Перед глазами шло Привидение, оно близилось в зеркальном коридоре, раскрывая пасть, и по губам можно было угадать его немое рыбье слово: Да! Да! Да!
Если бы тогда кто-то провел следствие (тут начинается и сразу заканчивается детектив) то он, прежде всего, мог зацепиться за букву, вычерченную умирающим в слое цемента, и без труда определил, что «В» присутствует в инициалах трех дворовых мальчишек, двое из которых на стройке отсутствовали.
Вдовин так затянул отмщение лишь потому, что ждал удобного случая, а именно: ему непременно хотелось, чтобы это произошло у нее на глазах, и вот, когда они наконец отправились гурьбой на стройку, когда мальчишки, как всегда, залезли на самый верх, а девчонки паслись, раскачиваясь на перекладинах, не выше второго этажа… Оставалось только выбрать момент и несильно толкнуть. Падая (темп съемки обычно при этом замедляется) Тюпа удивленно посмотрел на Вдовина своими карими, расширенными… И лишь потом закричал.
Евгения разлюбила Вдовина уже в первом классе, когда в ее поле зрения попало множество новых мальчишек. Вдовин, сидевший на самой последней парте, перестал существовать для нее, потому что впереди, на третьей, с розовато-белым затылком сидел Он, непревзойденный Альбинос, самый лучший мужчина в мире. У него был самый чистый, самый ладный серо-голубой костюмчик. Любовь Евгении была тайной, как всегда в том возрасте и в то далекое время, сладко мучительной, фантазийной. Вдовину потребовалось два года, чтобы разгадать ее.
На сей раз он готовился не менее тщательно, предчувствуя, что путь его будет очень и очень долгим.
– Здраствуй дорогая Женя. Пишет тебе Вова Рыбкин, альбинос. Прочитай и порви. Я тебя люблю. Если ты согласна то после уроков приходи на задний двор, где стройка. Я буду прятатся в развалинах. Там стоит такая битономешалка. У нее есть кнопка. Ты включи битономешалка, и это будет сигнал для миня, что ты миня ждешь. Только обизательно порви записку.
– Рыбкин, я люблю тебя, страстно, безумно… Если в груди твоей пока еще бьется благородное сердце, выходи после уроков во двор, залезай в битономешалка и жди. Я прилечу на крыльях Эзопа. Только порви записку, а то найдут потом.
Были и другие варианты, изящнее, изощреннее, но Вдовин остановился на самом простом…
То была эпоха чернил, промокашек, красных сопливых галстуков… Затем следовала эпоха танцевальной веранды, портвейна, сильно расклешенных брюк… Эпоха армейских проводов, свадеб, презервативов… Эпоха похорон.
– Это называется покрывало вдовы, Евгения Васильевна. Кармическое заболевание. Суть его в следующем. Женщина передает любимому мужчине толику некой энергии, которая лишает его обычной защиты. Он становится открытым для болезней, несчастных случаев и тому подобного.
– Вот как? Сомнительно. А если не любимому. Я не могу с уверенностью сказать, что всех их любила.
– Кармические заболевания – это очень сложная, малоизученная проблема. Мы лишь предполагаем наличие вируса несчастья, лечим на ощупь. Если желаете, мы можем провести семь необходимых сеансов. Плата за сеанс – тридцать долларов США, или сто пятьдесят тысяч рублей. Мы можем начать прямо сейчас.
Евгения отказалась. Слишком уж это выглядело неправдоподобным. От детских суеверий (Привидение, Мапси, мапси, фый!) не осталось и следа. Читатель, трепетно следящий за курсом доллара, понял, пожалуй, что строчки эти небрежно отсчитали почти четыре десятилетия.
Недозволенный прием прижился, пустил ветвистые корни.
Начнем по порядку. Мальчик-Тюпа, который сорвался с двутавровой балки, с которым Евгения ходила в кусты. Альбинос, который запутался в электрических проводах в подвале школы. С ним она уже целовалась. Новиков, студент, который утонул. Он лишил ее невинности в 1974 году. Александр, который разбился на мотоцикле, с которым она залетела. Лева, ее муж, которого раздавило болванкой на заводе…
Это была самая тяжелая, самая страшная потеря: Евгения прошла весь цикл с начала до конца – эти похороны, эти родственники и друзья на похоронах…
– Ничего, дорогая, все пройдет, утрясется, – неумело утешал ее на поминках друг детства и первая любовь, Лешка Вдовин. Он работал с мужем в одном цеху, и все произошло на его глазах.
Он не бросил ее в несчастье, стал заходить, вскоре она привыкла. Евгения вдруг поняла, что самое первое и было в ее жизни самым главным… И они поженились, и Евгения Меньшикова стала Евгенией Вдовиной, а детей у нее быть не могло после неудачного аборта от Александра, и она страдала, но мужу была верна…
Бог мой, ведь она бы и раньше могла догадаться, что с ней происходит что-то странное: пять смертей на ее памяти, все – мужчины, все – с которыми она так или иначе… Эх, курьи твои мозги! Надо было случиться шестой смерти, чтобы она, наконец, поняла…
Вдовина нашли повешенным в парке, высоко на дереве, примерно на уровне третьего этажа. Следствие зашло в тупик и дело закрыли, так и не определив, убийство ли это было или самодеятельность… А тогда уже шла эпоха смягчающих масок, жировых отложений, одышки…
Евгения Вдовина, Покрывало Вдовы.
«Кармическое заболевание, при котором после смерти одного из супругов (часто преждевременной или трагической) другой (или другая) несут в себе отпечаток смерти и в случае повторного брака или совместного проживания с любимым человеком заражают его и несут ему несчастья», – прочитала Евгения в книжице, которую всучил ей экстрасенс.
Какая чушь, какой наглый обман! Какой омерзительный способ зарабатывать деньги… Если первый муж умер, а у второго неприятности на работе… Стой, дорогая. Речь идет о ШЕСТИ смертях, что никаким, ну никоим образом не может быть совпадением.
И удивительная мысль пришла ей на ум, чудовищная… Что, если это были убийства? Если предположить некоего маньяка, который преследовал ее с детства, чья любовь полностью переродилась в ревность, и он убивал каждого мужчину, который хоть чуть приближался к ней?
Закидывая далеко назад длинные волокна памяти, Евгения попыталась определить этого человека, того, кто всегда был где-то рядом, невидимый, но постоянный.
Здесь снова начинается детектив и больше никогда не заканчивается.
Там, на стройке, когда погиб Тюпа… И там, на заводе, когда Лева… Ну, Вдовин был там и тут, он не в счет, поскольку сам мертвый. Кто же еще? А если Тюпа был случайностью? Нет. В этом деле случайности не может быть ни одной, ибо уже полным ходом идет – детектив.
Следовательно, этот тип был с самого начала, серый такой, незаметный…
И Вдовина вспомнила.
Тот мальчик носил короткие серые штанишки и серую курточку, он был тихоня, все его били, никто не ходил с ним в кусты…
Помнится, если считались, то всегда забывали о нем. И сейчас не очень-то просто вспомнить его имя.
Винников! Петя Винников – вот было его имя.
Она не помнила, был ли Винников тогда на стройке, допустим, что был… Но она ясно видела букву, нарисованную Тюпой в пыли. Подумать только, все это можно было пресечь еще тогда!
А потом Винников учился в ее классе, потом, когда мальчики пошли на завод, а девочки на фабрику, Винников тоже пошел…
Найти Винникова было просто: он по-прежнему жил в том же старом дворе, откуда они с Вдовиным уехали, сменявшись, много лет назад. Он был совершенно старый и лысый, его организм плохо выдержал пытку временем. У него были мутные, сонные глаза убийцы. Евгения твердо решила выяснить всё и, в случае, если догадка подтвердится, лично покарать маньяка.
Винников был удивлен, в восемь утра увидев на лавочке у подъезда эффектную блондинку: он был с похмелья, еле передвигал ноги, собираясь на работу, он выпил литр самодельного квасу… Внезапно она окликнула его:
– Мы, кажется знакомы?
– Хорошо бы, если так.
– Я жила в этом доме, вон мои окна, неужели не помните?
Винников узнал ее. Он всегда ненавидел таких – красивых, недоступных. Он прожил какую-то тупую, безрадостную жизнь. Ему никогда ничего не хватало вполне. Он ни разу не был на море, пьянствуя отпуска в деревне у родственников, а когда они умерли, пьянствуя тут. Он женился, выбрав невзрачную, уже старившуюся Настю, но и она изменила ему, и теперь они стали соседями по коммуналке. Отправив сына в армию, Настя стала водить домой мужчин, Винников слышал ее хриплые стоны за стеной, ему совершенно не хотелось жить. Начальство на заводе вполне обнаглело: они крутили где-то их зарплату, шлялись по заграницам, строили особняки, население города было превращено в стадо пьяных рабов, Винников был одним из них…
Евгения проводила его до проходной, говоря без умолку, вспоминая детство, славную дворовую жизнь… Винников мало что помнил из этих игрищ, у него вообще было плохо с памятью.
– Ладно, – сказала она, прощаясь, – Приятно было поговорить. Зайду как-нибудь. Можно?
– Да ради Бога, сколько угодно, – пробурчал Винников, зная, что она не придет.
Но она пришла…
Жизнь его вдруг взорвалась. Наступила эпоха цветов, чистого белья, галстука… Евгения приходила каждый вечер, иногда оставалась ночевать. Она преобразила его жалкую комнату, всё вокруг сияло белизной, словно в образцовой больничке. Несколько дней Винникову казалось, что он попал в какой-то лучезарный сон…
Он ненавидел ее. Как многие мужчины его круга, Винников вообще был равнодушен к красоте. Больше всего он ценил в женщинах надежность. Он знал, что пройдет еще несколько дней или недель, и всё это закончится.
Последнее время он постоянно вспоминал детство, хоть воспоминания и давались ему с большим трудом, вспоминал всю свою жизнь, на что его провоцировала, конечно, Евгения, своим неизменным вкрадчивым: Помнишь… Казалось, она хочет выучить наизусть его прошлое: любовь любопытна, я хочу всё-всё о тебе знать, ну давай же, давай, дальше, дальше…
– Левка Светлов? Как же, помню. Постой, это же был твой муж, да? Хороший был мужик.
– Ты видел, как он погиб?
– Мы ходили смотреть, когда его уже убрали. Пятно на полу и всё. Жалко парня. Поговаривали, что его убили, но это, конечно, ерунда.
– Точно ерунда?
– Ерунда… Что ты так смотришь? А, понимаю, командир. Счас, только дверь закрою, а то еще она войдет.
И Винников летел. С его глаз как бы сползла вся жизненная муть. На самом деле он всегда знал, что достоин лучшей участи. Оказывается, он всегда ждал, что с ним произойдет нечто необычное – выиграет в лотерею, или там, встретит инопланетянина… И Настя моя убогая, родная моя, пусть знает теперь. Знает, сука, кого потеряла, вон какие меня любят теперь, вон! Только как бы это все задержать, не хочу просыпаться, пусть всегда это будет, всегда…
И однажды у Винникова мелькнула смутная – лишь мелькнула, как рыбка в воде и сгинула – мысль. Придушить ее, гадину. Чтобы запомнить навсегда. И остановить, пока не ушла, не бросила. И помнить, помнить. С таким воспоминанием и зону не страшно пройти…
Как-то ночью Винников почувствовал резкие толчки в паху: боль была незнакомой. Может, из-за того, что кончать теперь часто стал, или заразила она чем-то?
Винников испугался. После смены зашел к знакомому врачу, соседу по хрущобе. Он раньше работал участковым на заводе, теперь в частной больничке халтурил. Шольцман его звали.
Неделю Винников сдавал анализы, проходил какие-то компьютерные диагностики, в пятницу Шольцман привел его в кабинет, плотно затворил дверь.
– Ты свинкой в детстве не болел?
– Откуда мне знать?
Шольцман помолчал, перебирая на столе бумаги, его, Винникова бумаги… Вдруг заговорил:
– Сейчас все на Америку смотрят. Знаешь, как в Америке врачи? Не скрывают правду от пациента. В общем, рак у тебя, приятель. Так-то. Запущенная, неоперабельная опухоль в мочевом пузыре.
И Винников пошел. Он шел по улице и пел. Это были старые песни, песни из детства, песни о главном – Жил да был черный кот за углом, Оранжевое небо, Солнечный круг… В его голове как бы что-то лопнуло и растеклось, обливая изнутри щеки, затылок, шею…
– Писец тебе, Винников, – повторял кто-то невидимый за его спиной, и он оглядывался:
– Нет. Это тебе писец.
Он мог теперь все. Он мог разыскать всех своих врагов и покарать их. И навсегда запечатлеть Евгению в памяти своей. И навсегда запечатлеть Настю, родную свою, в памяти своей.
Он шел всё быстрее, оглядываясь, повторяя назад одну и ту же фразу, прохожие шарахались от него, он уже не шел, а летел по родному городу, где прошла вся его жизнь, только теперь обнажившая свой истинный смысл, домой, домой – туда, где ждала его улыбающаяся, только что помывшая голову – Евгения, а за стеной родная, теперь уж навсегда родная – Настя.
Запрещенный прием
А если всё на нем построить, все слова и знаки вкруг него вихреобразно закрутить? Я о запрещенном приеме…
Был у нас в Курске (сегодня я, знаете, курянин) такой тип по фамилии Птицын и все звали его Птицом – эдакий неологизм. Занимаясь, в основном, стихосложением, Птиц работал сторожем в котельной, как Цой, чрезвычайно любил женщин и слыл известным в городе донжуаном. С маленькой буквы.
Как-то раз Птиц, я и моя девушка стояли в кафешантане; цвели каштаны, плакучие ивы полоскали в Сейме свою молодую листву. М-да.
– Искусство, – сказал Птиц, – вообразительностью своих междометий… Очарованием…
Ну и так далее. Вовсе не важно, что там думал Птиц об искусстве. Выслушав, я отправился к стойке за переменой кофе, или там, скажем, мочевой пузырь облегчить – оставлю один из вариантов – в зависимости от дальнейшего наполнения текста телом или душой. Вернувшись, я сказал:
– Поэзия, грубостью своих очертаний…
И так далее. Ольга, с интеллигентным кивком приняв из моих рук чашечку кофе (покосившись, по праву хозяйки, проверяя, застегнул ли я гульфик), нежно посмотрела мне в глаза своими серыми, своими незабвенными…
Как молоды мы были! Александр Градский.
Вечер шел своим чередом, ничего не изменилось после краткого ухода и возвращения, мы поговорили об искусстве и разошлись, и в следующий раз я встретил Птица спустя годы, когда уже перебрался в Москву, учился на литератора, бедствовал, также, между прочим, работая в котельной. Котлы, видите ли… Пропустим.
Встретив Птица на улице Горького (он ведь тоже перебрался в Москву) я подошел к нему вплотную, собрал всю свою слюну и плюнул ему в лицо. По другому варианту, мы обнялись как старые друзья и земляки. Жизнь, вообще, изобилует ветвями, словно куст умирающей акации.
Птиц во всю котельствовал и брюхатил в столице, он заматерел, стал еще более поджарым, напечатал шутливые ямбы в «Крокодиле»…
– Между прочим, как там поживает эта… Ну, общая знакомая, как ее? – спросил меня Птиц, или я спросил его…
Ольга поживала следующим образом. Месяца через два после обрисованного штрихами вечера в кофейне, мы с ней расстались – по многим причинам, но самым энергичным толчком послужило, как я полагаю, нечто происшедшее там, за табльдотом.
В момент, когда я отошел от столика, да, все-таки пописать, Птиц, который забрел в кофейню случайно и полчаса назад познакомился с подругой друга, быстро чиркнул что-то карандашом на листке своего знаменитого блокнота, вырвал листок, свернул в трубочку и с коротким кивком бросил трубочку прямо под руку Ольге. Ей этот жест показался комичным, она, по природе своей смешливая, дабы художественно запечатлеть ситуацию, ответила Птицу быстрым симметричным кивком и конспиративно спрятала записку в сумочку. Я вернулся, на ходу застегивая гульфик. Разговор об искусстве шел своим чередом.
– Хорошее понимание метафоры, недурной вкус в топонимии… – сказал Птиц, когда мы уже свернули на Тверскую.
– Между прочим, она потом рассказала мне, как ты ловко кинул ей такую трубочку.
– Да? Ну, ты ж знаешь, я всегда…
В этой записке были только цифры, пять штук: Птицин телефон.
– Я утверждаю, – сказала Ольга, поглаживая мою руку и стремясь по ее температуре кое-что проверить, – что искусство в самой своей природе образно.
– Да, – сказал я, намазывая масло на рогалик. – Снова нет горячей воды.
Она испытывала знакомое, чрезвычайно волнующее замирание в груди. Эта дрожь чем-то напоминает приход от марихуаны, о чем она тоже знала в свои девятнадцать лет. Ей до смерти надоел этот боров, этот вонючий козел в моем лице, ей хотелось нового, живительного, и назревающий контакт пьянил ее светлым весенним вечером, над быстрыми водами Сейма… Вариант.
– Я эту девушку, – пробормотал Птиц, косясь на памятник Пушкину, где испражнялся традиционный голубь, – с тех пор так и не видел.
– Я тоже почти, – сказал я. – Встретились несколько раз и все.
– Смотри, что он мне кинул, – сказала Ольга, когда мы, наконец, от него отвязались.
Я посмотрел. Ольга сложила записку вчетверо и разорвала. Ветер, наш неутомимый игрун, подхватил клочки и закружил в невеселой пляске расставания… Она, разумеется, запомнила этот нехитрый номер.
– Врешь ты всё, Птиц. Она мне всё рассказала, – на слове всё я дрожал голосом, как Окуджава, потрясая указательным пальцем.
– Да? Ну, было у нас кое-что потом, – неуверенно признался Птиц.
Мы уже шли по Пушкинской, приближаясь, естественно, к Яме. Ямой в наши времена назывался пивной подвальчик на углу Столешникова. Кстати, все это было еще до революции. Я чувствовал себя донельзя омерзительно, и собирался пить вовсе не за встречу.
Птиц солгал, вернее, солгало его донжуанское самолюбие. Они больше не встречались. Ольга не запомнила его телефон, да и не за чем было ему звонить, поскольку у нее был человек, которого она любила, и этим человеком был я, ублюдок.
Знакомьтесь. Молодой курский поэт, журналист, внештатный корреспондент всех местных газет, диктор местного радио. И прочая… Сильно развито воображение. Химеры. Мнителен. В детстве мочился. Однако потом перестал. В связях замечен не был.
Больно мне, Ольга, тебя вспоминать, но все же… Трещина проклюнулась в тот вечер в кофейне, и расширялось, пока вовсе не лопнуло (снизим метафорой) наше любовное яйцо.
Жалкий и себялюбивый, я стал все чаще возвращаться к той ситуации, и одна мысль художественно оформлялась в моей недоразвитой голове…
Вот идет вечер, весна, Курск, тонкие звоны ложечек в чашках, запах реки, камышей, запах огня, угля, кофе, и мир вокруг – коричневый… Вы не замечали, как за чашкой кофе все постепенно коричневеет? Нет? Ну и не надо.
Мирно течет разговор об искусстве. За столиком три человека – приятель, его приятель и его девушка. Один приятель выходит. Парабола брошенной бумажки застывает в воздухе над столом. Парабола струящейся мочи, в другом, тайном помещении. Приятель возвращается, и за табльдотом уже совершенно новая троица: предатель, лгунья и обманутый. Мирно течет за плечами река.
С каждым днем я становился все более гнусен, раздражителен, ревнив… Мне уже не казалось, что Ольга имеет столь хорошее понимание метафоры, недурной вкус в поэзии. Я заметил, что у нее слишком большие уши, слишком большие груди, и слишком медленно твердеют на этих грудях соски…
Кончилось тем, что она меня бросила, и поделом. Так воображаемая реальность проросла в настоящую. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью.
– Да, да, да! – я позвонила ему, ты, урод! И мы трахнулись: сидя, стоя, раком и даже лежа. А ты живи дальше, питайся своими мерзкими фантазиями, плюй и сморкайся в реальность, и уезжай в свою Москву, потому что каждый курянин мечтает жить в Москве, подобно тому, как каждый москвич мечтает жить в Нью-Йорке, и жри ты там свою колбасу, и найди себе там другую дуру, и пудри ей мозги своими стихами… Ох, если бы ты знал, как быстро твердеют у меня с другими мужчинами соски…
Я так и сделал: и уехал, и дуру нашел, и даже не одну. Мне очень жаль, Сэм, что твоя гнедая сломала ногу.
Впрочем, все это была лишь затянувшаяся преамбула к рассказу, который я хотел намеренно построить на запрещенном приеме.
Вот и рассказ.
Птицын, стареющий непризнанный поэт, когда-то ловелас, женолюб, но всё это в прошлом – молодым у нас везде дорога – жил с женой в коммунальной квартире на Масловке, которую ему все же удалось заработать до революции, подметая улицы и отапливая целый район.
Птицын выпустил книжку стихов за свой счет – в начале девяностых, когда еще можно было заработать простому человеку, и теперь продавал ее на Арбате, плюс на всяких ярмарках и тусовках, как именуют большие собрания людей грамотные журналисты. Книжку покупали плохо.
В принципе, это была разновидность нищенства… Книжка стоила гроши, но люди, все еще читающие стихи, не имеют даже грошей, так что клиенты Птицына вовсе не были его читателями, а брали книжку из сострадания, листнув и забыв на полке, кроме того, конечно, автограф автора, мало ли что… Иные и до сих пор не поняли, что поэт – это тот же простой человек, как ты и я, и подпись его стоит не больше росчерка постового на квитанции штрафа. Или меньше, в зависимости от тяжести нарушения.
Были и иные времена… Поэт – это было нечто высокое, недоступное, в Вечности обретающееся, номенклатура почти. Теперь на ступеньках лестницы между поэтом и номенклатурой встали бизнесмены, бандиты, проститутки… Здесь многоточие означает возможность дальнейшего перечня… А здесь – степень пробуксовки самой фразы… Поэт в России меньше, чем поэт. Сейчас, в преддверии конца света, Вечность утратила свое первоначальное значение, превратившись в реальный, всеми ощутимый отрезок времени…
И Птицын – погибал.
Когда-то он женился на романтичной, вирусом культуры зараженной девушке, также курянке, молившейся на него, длинными пальцами, с обязательным мизинцем на отлете державшей чашечку турецкого кофе… Он и познакомился с нею в кофейне, куда привел ее один омерзительный тип, тоже поэт, причем бездарный, неудавшийся, следы его затерялись давно…
Птицын, по натуре ревнивый и мелочный, часто корил свою жену этим своим предшественником, вынуждая признать, какой он бездарный и гнусный, как от него дурно пахло, как неуклюж был он в соитии…
Ольга спокойно принимала условия игры: ее Птицын действительно был непревзойденным поэтом и превосходным самцом. Но всё это в прошлом. Денег стало катастрофически не хватать. Ольга стала старше. Мир изменился.
Ольга выходила замуж за поэта. Трудно в это поверить, но оно было действительно так. Материальный мир ее мало интересовал. У нее даже была своя теория: Человек долго может оставаться голодным, вкушая духовную пищу, то есть, приезжая из Брянска в Москву, Ольга часами шаталась по музеям, урча животом, она вообще не хотела есть… Из Курска, я хотел сказать.
Так, однажды шатаясь, и встретила она своего земляка в фойе киноцентра, встретила самого Птицына, который когда-то бросил ей телефон через стол, который теперь и истопничество бросил, в кооператив устроился, книжку к печати готовил…
И поженились куряне. Два последние слова можно было разделить запятой.
– Помнишь, как мы тогда, в кофейне, как только хахаль до ветру…
– А ты мне еще записку… Запятой… То есть, тьфу – трубочкой…
– А он идет, параболой, руки о штаны вытирает, пальцы нюхает…
Весело было первые годы, да кончилось все. Кооперативы, где можно было своими руками в поте лица червонец – перевелись на Руси. Книжку, правда, успел. Дочь подрастает. Жрать нечего. Жена в палатке сидит, но и в палатках теперь доходы не те. Муж до безобразия надоел, вируса культуры как не бывало: культура пройдена вся, кино пересмотрено, книги перечитаны, и тебе за тридцать, и в телесных желаниях новая жажда, и – жрать хочется.
Внезапно вся жизнь круто перевернулась, поскольку в жизни этой семьи появился – я.
Я снял комнату на Масловке, недорого, она понадобилась мне по трем причинам. Во-первых, место для хранения товара. Во-вторых, место, где можно переспать, когда торговля затянется, или пьян слишком. В-третьих, место, куда можно чье-нибудь тело привести, ибо я, естественно, женат. Птицыны стали моими соседями.
Это, как понимаете, уже не тот Я, что был в начале рассказа, это не Я даже, а так, какой-нибудь Й-а, персонаж – Жирмудский, что ли? – а повествование сейчас удобнее повести от первого лица, впрочем, возможны варианты.
Сижу я как-то с Птицыными втроем, угощаю их портером, рыбой, креветками. Мирно течет разговор: о курсе доллара, о ценах, о Ельцине… Птицын злится: ему вовсе не нравится этот разговор. Супруга на моей стороне, ей до смерти надоел этот блеющий муж, с его стихами, манией величия и неумением жить.
Мне пьяно, тепло. Пиво действует, я с интересом жду, кто из нас первым развяжет коней.
Развязать коней, други мои, для тех, кто не в курсе, означает впервые в пивном путче пойти и пописать. Почему это так называется? Потому что, стоит первый раз пописать, как кони и понесут…
Птицын развязал коней. Едва его вислоухая задница скрылась в дверном проеме, как я взял Ольгу за уши и крепко, сладостно поцеловал в губы. Когда муж вернулся, соотношение сил за столом изменилось.
Настал черед и Ольге развязать коней.
– Птицын, – сказал я, когда женщина вышла, – ты не сердись и не бери в голову… Но я сегодня буду твою жену.
Он уставился на меня, распахнув рот, где шевелился его красно-белый язык.
– Будешь возражать, – уточнил я. – Дам в глаз. И буду ежедневно тебя метелить, сосед, пока не прикусишь язык. Так что, прикуси его сейчас, Птицын.
Для верности я взял его за нос, как Ставрогин, и слегка помял. Когда Ольга вернулась в кухню, соотношение сил опять изменилось. Птицын в эту ночь отправился спать к приятелю. Так они и жили.
Мне сразу понравилась моя новая соседка, впрочем, в той же мере, как не понравился мой новый сосед. Я вообще не прочь пофлиртовать, и я человек бесстрашный и злой: такие мелочи, как увести чужую жену, разрушить чью-то семью, лишить детей отца не имеют для меня ровно никакого значения – всё, что я ни делаю, я делаю исключительно ради своего удовольствия, и если я хочу достичь оргазма с той или иной женщиной, я сделаю это, даже переступив через ее судьбу.
Так я и сделал. Большинству женщин нравится такой подход. Грех, услужливо предоставляемый им нами, делает их чище, возвышенней. Нередко они даже обращались к Богу непосредственно из моей постели…
Я с детства ненавижу культуртрегеров. Подобно тому, как из полукровок чаще всего получаются самые изысканные расисты, так и неудавшиеся поэты, понимаете ли… В детстве я, конечно, писал стихи, совершенно дурные, и годам к семнадцати бросил это мокрое дело. Естественно, что все эти длиннопальцевые, с мизинцами на отлете, вызывали во мне лишь зависть и отвращение.
В Ольге-женщине было довольно мало желанного, я бы даже не посмотрел на нее, скажем, из окна машины, но все же она мне понравилась, поскольку нет никаких отношений между мужчинами и женщинами, а есть отношения между мужчинами и мужчинами, плюс отношения между женщинами и женщинами. Впрочем, это еще одна из тех истин, которые человеку не обязательно знать о себе.
Короче, наставили мы с Олечкой рогов этому несчастному Птицыну, поэту, развалили его семью, лишили его ребенка отца и кормильца.
Конец у этой истории вполне благополучен. Пройдя через страдания, Птицын стал писать очень хорошие стихи, выпустил вторую книгу с моей спонсорской помощью, даже получил какую-то там международную премию… Ольга, в свою очередь, настрадавшись, ударилась в православие, стала ходить в платке, молиться, церковь наша получила таким образом еще одного преданного апологета… Вот так мы порой и творим добро, други мои, и пути его воистину неисповедимы.
Жирмудский и его квартира
Жирмудский очнулся тяжело, с болью. Он лежал под некой крышей – низкой, дырявой, гадкой: ржавый лист железа, обрывки полиэтиленовой пленки, мокрые клочья белого мха… Нет, это просто жалкие хлопья его пьяных сновидений.
Откуда он здесь? Почему всё у него болит? Долго ли он здесь пролежал? Утро сейчас или вечер? С кем он вчера пил? Или сегодня?
И Жирмудский вспомнил. Сегодня он продал квартиру, и дальнейшую жизнь ему предстоит провести в однокомнатной хрущобе.
Жирмудский повернул голову круговым движением, как бы выполняя фигуру какого-то утреннего упражнения, и медленной панорамой запечатлел умопомрачительный интерьер. В шейных позвонках хрустнуло.
– Сегодня ты умрешь! – вдруг явственно прозвучал чей-то надтреснутый голос, и не успел он с шипением стихнуть, как Жирмудский понял, что это был всего лишь его жалкий похмельный шептун.
Он лежал в хижине. Пол был земляной, стены – из тонких еловых жердей: молодые елки, уложенные горизонтально, и щели, плотно забитые мхом… Вдруг он подумал, что это и есть его хрущоба, которую он купил взамен квартиры, где прожил всю жизнь, где умерла его мать, а потом – жена.
Жирмудский приподнялся на локтях, затем сел. Хижина представляла собой неправильный четырехугольник, основанный на растущих деревьях. Крыша состояла из ржавых листов железа, фанеры и полиэтилена, взрослый человек вряд ли смог бы распрямиться тут. В узком месте четырехугольника, меж двух сосновых стволов была дыра, ведущая на улицу. Жирмудский прополз через эту дыру и оказался в лесу.
На поляне перед хижиной чернело остывшее кострище. Тут же валялись раздавленные банки из-под джин-тоника, розовые дамские трусики, презерватив с мертвым легионом чьих-то детей, которые могли родиться и вырасти, трахать друг друга, жрать шашлыки и рубить бабло.
Жирмудский подумал: а что, если он сам тут и гулял, с какой-то женщиной… Эту светлую мысль пришлось отбросить сразу, едва она появилась. Такое событие, как женщина, Жирмудский вряд ли бы заспал.
Последнее что он помнил, было… Нет. Жирмудский не мог вспомнить, что было именно последним. Несколько его недавних воспоминаний зависли где-то на равной глубине…
Вот он подписывает документы о купле-продаже. Смуглая рука с мизинцем на отлете наливает в стакан из бутылки: мизинец дрожит, горлышко звякает о край стакана – это обмывается сделка. Жирмудский возится с ключами у дверей своей новой квартиры, вдруг эта дверь распахивается, за дверью – женщина. В этой квартире живут. Жирмудский бродит по лестницам хрущобы, осматривает одну дверь, другую… Вот ему кажется, что он ошибся домом, и он идет в хрущобу напротив, бродит, как во сне, не может найти свою новую квартиру. Он засыпает на подоконнике и просыпается, но уже на полу. Идет в полумраке по городу, по лесу. Находит эту избушку, которая почему-то давно знакома ему. Заползает в нее – на четвереньках, как черепашонок. Сознание гаснет окончательно. Вот, кажется, и восстановил последовательность… Воспоминания висят в воздухе перед глазами, будто мертвые рыбы под озерным льдом.
Жирмудский шел по лесу, мягко перебирая ногами по залежам сфагнового мха: его не покидало ощущение, что он лежит в своей теплой постели, спит, и всё это ему снится, и он вяло гребет ногами под одеялом…
Увы. Реальность выкристаллизовалась перед ним окончательно, контрастно и честно. Они оформили сделку и дали ему ключи от новой квартиры, хрущобы, которую ему показали несколько дней назад. Он прекрасно помнил адрес. Мимо этого желтого пятиэтажного дома он много лет бегал в школу, он еще с грустью подумал: эх, знать бы тогда, в далекое время надежд, голенастый провидец, что именно в этом безликом доме пройдет его старость, придет его одинокая смерть.
Когда-то казалось, что он станет известным поэтом, будет блистать, путешествовать по всему миру. Его будут любить женщины, десятки, сотни красивых женщин будут его любить. И он войдет в историю, ему поставят памятник. От последней мысли он всегда содрогался, неимоверная радость захлестывала его, как волна… Войти в историю. Чтобы и через сто, и через тысячу лет кто-то помнил о тебе, говорил и думал, что равносильно вечной жизни, реальному бессмертию, поскольку все они – Лермонтов, Есенин, Эдгар… Все они на самом деле реально живут, превратившись в намоленные сущности, они думают, чувствуют, они – есть. И вот, через двести лет, какая-нибудь девочка достанет с полочки томик… Или нет. Вставит какой-нибудь диск, размером с копейку в некое устройство. И он будет обладать ею – реально, как реальный мужчина.
Стать поэтом Жирмудскому все же удалось – что греха таить? – только уже в те времена, когда поэты решительно никому не нужны. Когда даже на хлеб, на одну краюху хлеба в день, да на каплю молока не может заработать поэт. И никакого блистания, кроме жалкой известности в определенных кругах, ограниченных стенами какой-нибудь библиотеки, где проходит литературный вечер. И никаких денег, разумеется. И забвение – сразу после смерти, если не раньше гораздо…
Жирмудский вернулся к этому дому, поднялся на третий этаж, позвонил в дверь. Вышла женщина, та самая, которая прогнала его вчера.
– Опять вы? Я же сказала…
Дверь перед его носом захлопнулась. Жирмудский позвонил еще.
– Сейчас милицию вызову, – донеслось из-за двери.
Жирмудский присел на подоконник. Это что-то из области детектива. Безусловно и точно: ему показывали именно эту квартиру, он даже успел засечь, едва хозяйка приоткрыла дверь, угол той самой тумбочки для обуви, с облупленным зеркалом. Когда ему показывали эту квартиру, которая поступала в его владение взамен старой, вместе со всей ее мебелью, он подумал, что тумбочку оставит, а зеркало отреставрирует, он знал способ, как восстановить поврежденную амальгаму, ибо когда-то ему приходилось зарабатывать на хлеб даже и мебельным мастером…
Лязгнул замок. Дверь этой таинственной квартиры открылась, женщина вышла на площадку, мелькнув белой сумочкой через плечо. Запирая дверь своими ключами (ничем не похожими на те ключи, которые вручили вчера Жирмудскому) она глянула на него, сидящего на подоконнике, снизу вверх.
– Я на работу иду, – сообщила она. – И я хочу, чтобы вы тоже ушли отсюда.
Жирмудский вскочил на ноги.
– Мне только спросить…
– Мне нечего вам сказать, – женщина поправила сумочку на плече и двинулась по лестнице вниз.
Жирмудский отметил, что хозяйка квартиры довольно мила, почти пенсионного возраста, но хорошо сохранилась, и вообще, ему такой тип нравится… Только что из того?
– Вы знаете, что со мной произошло? – крикнул Жирмудский, перевесившись через перила.
– Знаю, – сказал женщина через плечо, через сумочку. – Вчера вы напились до беспамятства. Пришли почему-то сюда, буянить. И почему именно ко мне? Буянить-то?
– Вот в том-то и дело! – весело воскликнул Жирмудский.
Он сбежал по лестнице, прыгая через две ступеньки. Женщина остановилась, уперев руки в бока, шумно вздохнула.
– Я на работу опаздываю. Мне некогда с вами буянить… То есть, тьфу! Разговаривать.
– И вы каждый день ходите на работу!
– А как же?
– Вот я всё и понимаю. Что эти армяне со мной сделали.
Женщина смерила его оценивающим взглядом, впервые посмотрев ему в глаза. Если бы не ужас ситуации, Жирмудский мог бы поклясться, что с этого взгляда между ними начинается роман.
– Два дня назад, днем, когда вы были на работе, мне показали эту квартиру. Они открыли дверь ключами, мы все втроем провели здесь не менее получаса.
Женщина с удивлением воззрилась на него, часто заморгав глазами.
– В моей квартире? С какими-то ключами?
– Вот именно! Они откуда-то раздобыли ключи. И выдали вашу квартиру за хрущобу…
– За что?
– Ну, за хрущобу… – Жирмудский смутился, одновременно думая, что эта женщина гораздо приятнее, чем показалась ему с первого взгляда. – За квартиру, которую мне купили вместо моей. Плюс доплата разницы. И я вчера подписал документы, дурак. Но они, похоже, подсыпали мне что-то в стакан. И я выключился. И обнаружил себя на лавочке, на остановке. И пошел прямиком сюда. Так и пришел к вам вчера вечером.
Жирмудский засунул руку за пазуху и достал документы.
– Видите? Все бумаги в порядке. Вот моя подпись. По ним выходит, что я продал свою квартиру и деньги получил, и претензий не имею. А вот документов на то, что я купил хрущобу, нет. И денег нет. Они их просто у меня вытащили. А вот… – вместе с бумажками из кармана достался паспорт и красная членская книжица. – Вот мое удостоверение, я член Союза писателей Москвы, я поэт, я пишу стихи, хотите, я вам сейчас почитаю? И эту луну, и счастье свое, ты снова увидишь с другой стороны…
Женщина отмахнула рукой красную книжицу, которую Жирмудский тыкал ей в лицо, словно милиционер свою ксиву.
– Мне в моей жизни не до стихов, – сказала она.
– Это рыба, – уточнил Жирмудский.
– Какая еще рыба?
– Рыбой в нашем деле называется текст песни. По готовой мелодии. Я, видите ли, пишу для рок-группы…
– Да не тараторьте вы! – воскликнула женщина. – Всё это совершенно не важно.
Она посмотрела в потолок, что-то обдумывая.
– Знаете, а ведь в прошлом месяце я сдавала койку одной армянке. И у нее, конечно, были ключи.
– Всё сходится! – воскликнул Жирмудский.
– Допустим. Только я не понимаю, чему вы радуетесь.
– Ну… Я сейчас пойду к себе домой и… – Жирмудский запнулся, потому что понял, что домой он пойти не сможет, потому что как раз дома-то у него теперь нет. Никакого.
Впрочем, попытку он всё же сделал. С минуту постояв у подъезда хрущобы, глядя, как хозяйка его предполагаемой однушки удаляется вдоль улицы, белея своей жалкой дешевой сумочкой, он поплелся «домой».
Пришел по своему адресу, позвонил в дверь. Вышел молодой качок. Сказал, что знать ничего не знает, что въехал в эту квартиру вчера, в квартиру, которую купил. И дверь перед его носом захлопнул.
Жирмудский стоял на лестнице, тупо смотрел на свою дверь. В этом старом подъезде ему была знакома каждая плитка. Именно плитки – желтые и коричневые кафельные плитки, которые некогда составляли правильный рисунок, еще в детстве, но с годами, по мере разрушения, заменялись как попало: там, где была желтая, ставилась коричневая, и наоборот… Рисунок искажался, словно пол заливала мутная вода. Уже трудно было различить все эти ромбы, ко которым Жирмудский шлепал своими детскими сандалиями, стараясь попасть только на коричневое, или только на желтое – сорок лет назад, когда всё было впереди, когда был новым этот дом, и они сажали вокруг этого дома деревья…
Он снова позвонил в дверь, и качок снова возник на пороге.
– Вы хоть вещи мои дайте забрать, – попросил Жирмудский плаксивым голосом.
– Вещи твои, – был ответ, – с утра на помойке валяются. А если ты еще раз в мою в дверь позвонишь, я с тобой вот что сделаю.
Он взял Жирмудского за шиворот, продолжая:
– Я так сделаю. Возьму тебя за шкирку и…
Он приподнял Жирмудского над полом и швырнул в стену. Жирмудский ударился головой и сполз на пол. Дверь захлопнулась.
Жирмудский спустился, обогнул дом, добрел до помойки. Его шкаф, письменный стол, его пуфики… Всё это валялось в большой бесформенной куче, и в щелях ее уже вился отвратительный, вонючий дымок. Жирмудский заплакал.
Он опустился на свой пуфик, один из трех, который лежал несколько в стороне от набирающего силу костра, у зеленой железной стены. Жирмудский прислонился спиной к стене и закрыл глаза, но слезы, льющиеся из глаз, не давали полностью сомкнуть веки, и он всё равно видел груду своих вещей, тлеющих и горящих посреди гнусного металлического короба помойки.
Жирмудский колупнул ногтем пуфик: к малиновой обивке прилипла козявка, его, Жирмудского козявка, которую он смазал об пуфик не помню когда. Но это точно его козявка, больше некому. Когда-то давно, этот пуфик – точно ли этот? Или другой, который сейчас объят дымом… Он подкладывал под бедра жены, а она так любила выгибаться перед ним, шепча:
– Еще! Еще один пуфик…
Да, точно, этот ли пуфик, другой ли… Все эти пуфики перебывали под бедрами его покойной жены. Жирмудский встал, схватил пуфик и, размахнувшись, швырнул его в костер.
Внезапно он почувствовал слабость, сонливость, ноги подкашивались, подумал, что вновь вернулось действие вчерашнего яда… Жирмудский свернулся калачиком у железной стены, в грязи, даже подгреб себе грязи под голову и заснул. Проснувшись, он услышал за стеной голоса…
– А мы с дядей Женей в лес на машине поедем, будем в пионера играть.
– В пионеров?
– Нет, в пионера.
– Одного?
– Ну да. Я пионером буду.
– А дядя Женя кем будет?
– А дядя Женя фашистом будет.
– А какая у дяди Жени машина?
– Форд-лексус. Последняя модель. Дядя Женя будет меня на кинокамеру снимать.
– То-то и оно. Ты думаешь, что дядя Женя будет с тобой в пионера играть, а на самом деле он будет тебя на кинокамеру снимать, а потом тебя в рекламе покажут. Дядя Женя бабки срубит, а тебе хуй отвалит.
– Отвалит, братишка, будь спок. А нет, так я студентам скажу, и ему утюг на живот поставят.
– Слушай, а тут мужик какой-то лежит.
– Мертвый?
– Не знаю. Дышит.
– Значит, пьяный.
– Может быть, бомж?
– Тогда давай замочим его.
– А если не бомж?
– Что ж тогда он здесь лежит, если не бомж?
Жирмудский поднял голову. Пионеры стояли уже внутри помойки, один держал в руке кривую водопроводную трубу, другой – металлический прут арматуры. И бойня началась. Здесь мы опустим занавес и оставим за кадром вероятное будущее поэта, как то: вот он вернулся к своей несостоявшейся хрущобе и снова встретил ее. Она повела плечами, поправив свою белую сумочку – женщина возвращалась с работы, поскольку в новой реальности наступил вечер.
– Ну, что ж с вами делать, поэт! – воскликнула она с некой даже радостью.
Ее звали Лидочка. По утрам она любила бегать трусцой вдоль лесной опушки. Она отмыла Жирмудского, накормила и уложила в свою постель. Так он и прожил у нее в хрущобе вплоть до своей альтернативной смерти. Которая наступила не помню в каком году, но еще не скоро. В теплой домашней постели. Когда старик Жирмудский лежал на боку, перебирая ногами, будто все еще шел по залежам сфагнового мха.

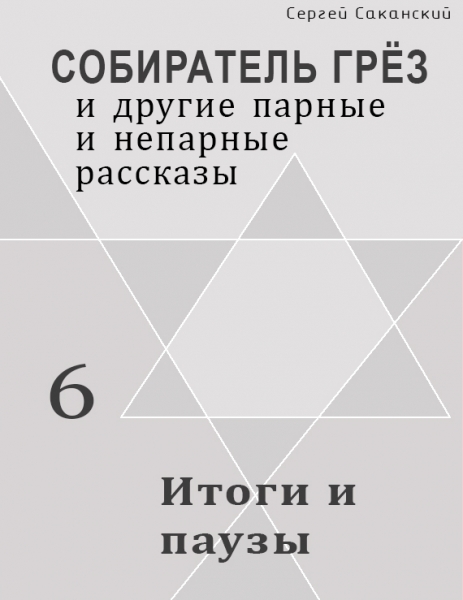








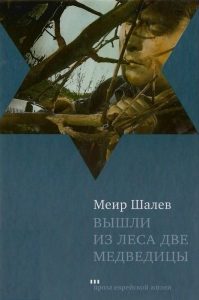
Комментарии к книге «Итоги и паузы (сборник)», Сергей Юрьевич Саканский
Всего 0 комментариев