Собственник Марина Владимировна Алиева
© Марина Владимировна Алиева, 2015
© Марина Владимировна Алиева, иллюстрации, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Скажите, вам везло когда-нибудь?
Или нет, не так! Спрошу по-другому: вам везло когда-нибудь так часто, чтобы в череде всех этих везений удалось постичь суть, природу не единого вашего везения, а всего явления в целом? Я имею в виду – осознавали ли вы, что эта короткая вспышка радости не что иное, как противоположность тому самому темному периоду ночи, что, по поверью, предшествует рассвету? И что за яркой вспышкой последует неизбежное её угасание, а затем, возможно, и кромешный мрак?
Нет, вряд ли кто-то задумывается об этом в счастливые минуты. Всегда хочется верить, что дальше будет только лучше и лучше. Это в горе человек охотно хватается за спасительный круг надежды. Да и то, не во всяком. В самой страшной беде о надежде никто не думает, кажется, что жизни дальше вообще быть не может. Но стоит хоть немного выкарабкаться, подлечиться временем, и вот уже путь открыт! Идти по нему легко – этот путь, чем дальше, тем светлее. Но идти в противоположную сторону…. Ох, как же тяжело удаляться от света! При этом вечно оглядываешься, не желаешь понимать, что вернуться здесь можно только по кругу, через мрак. И ходить тебе так всю жизнь – искупая мрак светом, а за свет, расплачиваясь мраком, пока не растворишься либо в одном, либо в другом. А смысл этого хождения, боюсь, только в том, чтобы понять – одного без другого не бывает, и принимать это надо, как неизбежную закономерность.
Немного истории
Моя взрослая жизнь начала складываться во мраке. Рассвет детства, беспечный дошкольный полдень, сумерки начальных классов, и мрак.
Сначала умер от сердечного приступа отец. Он был не так уж и молод – я ребёнок поздний – но все равно, шестьдесят не восемьдесят, мог бы ещё жить и жить. Мама его смерть пережила очень тяжело. А если говорить честно, не пережила она её совсем. Те восемь месяцев, что прошли после похорон отца, жизнью назвать было невозможно. Незадолго до своей кончины она, словно извиняясь передо мной, без конца повторяла: «Только не горюй обо мне, сынок, самое главное – не горюй. Я дала тебе жизнь, дала ту любовь и заботу, которые необходимы маленькому человечку, но дальше от меня проку все равно бы не было. Болезнь и скорбь совершенно меня сломали. Есть дядя,… он позаботится о тебе. И, поверь, так будет даже лучше».
И хотя всем своим взрослеющим существом я противился этим её словам, все же, что греха таить, дядя действительно позаботился обо мне лучше, чем смог бы кто-нибудь другой.
По дороге с кладбища, беспрестанно сморкаясь и утирая глаза, он ободряюще похлопывал меня по плечу и говорил: «Ничего, ничего, мальчик, твоя мама сейчас там, где скорби нет. Ей хорошо и покойно. Думай об этом, так легче…». Я послушно думал, но легче не делалось. Жизнь изменилась слишком внезапно, в одночасье, и даже мысли о том, что мама больше не мучается, перестала страдать, не могли вернуть прежнего облика ни знакомым улицам, ни домам, ни прохожим. Моё детство болезненно закончилось, но взрослым стать ещё только предстояло.
Впрочем, с дядей мы жили очень дружно. Он забрал тринадцатилетнего подростка, всю жизнь прожившего в маленьком провинциальном городке, в большой город, в свою холостяцкую квартиру, и я не помню случая, чтобы хоть единожды почувствовал там себя ненужной помехой.
Звали дядю Василием Львовичем. А меня – Александром и, представьте себе, Сергеевичем. И такое совпадение имен приводило дядю в полный восторг. Он часто повторял, что я должен стать вторым Пушкиным, имея в виду, видимо, мои неуклюжие поэтические опыты в детском саду и в начальной школе. Но в отличие от Пушкинского Василия Львовича, мой дядя совсем не походил на легкомысленного светского льва. Скорее, наоборот, он был затворником, помешанным на своей коллекции.
Из-за этой-то коллекции все и произошло. И можно было бы прямо сейчас начать рассказывать эту странную и во многом жутковатую историю. Но я не могу обойти молчанием, ни дядину личность, ни того, как он стал собирателем, ни тех первых шагов, сделав которые, я сам дошел сюда, в свой сегодняшний день, где уже снова виден мрак и тупик во мраке…
У Василия Львовича было много умных книг. Я читал все подряд и, невзирая на юный возраст, а, может быть, именно благодаря ему, запоминал не столько сюжеты, (в иных книгах они были совсем простенькие), а всякие изречения, которые поражали меня своей ясностью и четкостью. Так у Анатоля Франса я вычитал, что «Случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться собственным именем». Если верить этому, то выходило, что Василия Львовича всю жизнь опекал именно Бог, подобно тому, как в позапрошлые века именитые вельможи опекали своих бастардов.
Совершенно случайно юному Васе, жившему тогда в том же самом провинциальном городке, где впоследствии родился и я, попалась на глаза статья об отделении художественных промыслов при Абрамцевском училище. И он вдруг страстно возжелал туда поступить. Родители не слишком удивились, так как мальчик постоянно что-то лепил, вырезал, выжигал, причем очень кропотливо, доводя до конца каждую начатую работу. Пугало только то, что он будет делать, когда это училище закончит? Старые школьные учителя, воспитанные на идеалах и энтузиазме комсомола-коммунизма, не считали все эти «вольные» профессии пригодными для нормальной жизни – только для хобби. Но Васенька проявил твердость и после восьми классов общеобразовательной школы уехал поступать в Абрамцево.
Там, на первом году обучения, опять же совершенно случайно, он познакомился с одним предприимчивым третьекурсником, который предложил на каникулах, вместо отдыха у мамы – папы, отправиться в экспедицию на поиски старинных икон.
Тут надо заметить, что религия в училище занимала почти всех. Неподалеку была духовная семинария, которая располагалась в старинном здании, построенном в незапамятные времена. Сохранилось здание великолепно, и воспитанники «художки» частенько ходили под его стены на пленер. Кто знает, что так уж воздействовало на них – то ли сам воздух вокруг семинарии был каким-то особенным, намоленным. То ли величие столетий, осевшее на патриархальных стенах, заставляло зашоренную советско-союзную молодежь смотреть на вещи куда шире, чем предписывали партия и правительство. Но на занятиях по истории искусств очень многие из учащихся жадно вслушивались в идейно кастрированные пересказы библейских сюжетов, а затем, явно не удовлетворенные, отыскивали и тайком почитывали Библию.
Многие передавали друг другу под строжайшим секретом плохо пропечатанные копии Булгаковского «Мастера и Маргариты». Самиздатовские тексты давались на ночь, а то и просто на время какого-нибудь помпезного, нудного комсомольского собрания. Читалось все это, конечно, «по диагонали», и не всегда удавалось разобрать вышедшие из-под пятой или шестой копирки слова. Но общее впечатление тайны, мистики, чертовщины и чего-то совершенно кошмарного, что выкатывалось на первых же страницах вместе с отрезанной головой Берлиоза, оседало в сознании страстным желанием разобраться, понять, и как-то по особенному беспокоило.
Но были и такие, кто, подобно юному Васе, вдохнул возле древних стен живой воздух Времени и отравился им до конца своих дней. Василий Львович и в экспедицию со своим новым приятелем решил отправиться не столько ради икон, и уж конечно не столько ради опасной выгоды, которую могла принести их перепродажа в Москве, сколько ради желания найти что-то старинное, дышащее прикосновениями давно умерших людей. Взять в свои руки и ощутить, как бьется в этом старинном многолетняя память.
Первое же захолустье, в которое они попали, счастливо избежало оккупации во время войны, но новых веяний, увы, избежать не смогло, и взорам охотников за древностями предстал развитой колхоз, рвущийся в передовики.
Разочарованный Василий Львович поинтересовался у спутника, что можно найти в таком месте, и тот, хитро улыбаясь, ответил, что сейчас в таких местах только и искать. «Сам посуди, в двух километрах отсюда была когда-то усадьба князей Трубецких, а при ней церковь и богатая. Князья не скупились – вероятно, было что отмаливать. А мужик, он и в Африке мужик, до барского добра всегда был охоч. Ясное дело, что во время революции все там активно разграбили и по домам растащили. Особенно иконы. Революции революциями, а в Бога-то верили, и лики его непременно прикарманили, хоть и завещал он: не укради! А теперь здесь новые веяния, видишь, сколько молодых понаехало. Сейчас, брат, модно быть Шуриком. Вот эти-то Шурики-идеалисты начнут избавляться от старых икон, как от религиозного пережитка, с тем же рвением, с которым они избавляются от крыс и мышей. А тут и мы…. Так что, засучивай рукава и пошли шарить по сусекам».
Но шарить оказалось не так-то просто. В одних домах им или гордо отвечали, что от всего старья давно уже избавились, в других гнали прочь, провожая подозрительным взглядом. И только ближе к окраине, где возле старой темной хибары светился белой древесиной свежий сруб нового дома, деловитый хозяин, пожав плечами, сказал, что в сарае полно старого хлама на выброс, и, если им интересно, то он может показать.
Василий Львович позже рассказывал мне, что, стоя перед дверью того сарая, уже ощущал слабый призыв из прошлого и какое-то необъяснимое волнение. А потом, перешагнув через порог, среди подгнивших мешков, досок, разломанных лопат, грабель, дырявых хомутов и цепей непонятного назначения, сразу рассмотрел невысокие напольные часы. Они устало, словно больной на последнем издыхании, привалились к обшарпанной стене сарая, с покорностью обратив бледное лицо-циферблат куда-то вверх, где сквозь доски покатой крыши пробивалось солнце.
Даже не будучи ещё большим специалистом, Василий Львович сразу понял, что часы эти не из тех, которые потоком гонят по конвейеру равнодушные руки рабочих. Вещь была штучная, редкая, явно сделанная хорошим мастером и с очень большой любовью, о чем говорила тщательная отделка каждой детали. И пока приятель, точно гончая по следу, пробирался к лавке в дальнем углу, где усмотрел валяющиеся на деревянном сундуке закопченные доски с серебристыми ликами, Василий Львович, волнуясь, спросил у хозяина, можно ли вытащить часы на свет, чтобы рассмотреть их получше.
«Старье, рухлядь, уже лет сто не ходят, – махнул рукой хозяин, делая вид, будто не замечает чрезмерной дядиной заинтересованности. – Но, коли интересно, так чего ж не показать».
Он отодвинул доски, отбросил в сторону обломки лопат и безжалостно поволок часы к выходу. Внутри у них что-то звякнуло, застонало и грохнуло. Это медный маятник, похожий на остановившееся сердце, испуганно дернулся за мутным стеклом и ударился о стенку деревянного короба.
«Вот, – сказал хозяин, выставляя часы во дворе, – за тридцатку отдам, а нет, так и сожгу к чертовой матери».
У Василия Львовича сжалось сердце. Тридцатка! Таких денег не было! Точнее, они были, но, отдав их, он оставался ни с чем. Приятель обещал, что все отдадут за бесценок, а то и даром, и ещё благодарить станут, но тридцать рублей…
Часы смотрели на дядю, как голодная побитая собака смотрит на прохожего, мимоходом её приласкавшего, и он, ощупав в кармане всю свою наличность, жалобно спросил:
– А за двадцать?
– Что за двадцать? – раздался за спиной голос приятеля.
Он тоже выбрался из сарая, отряхивая от пыли и паутины несколько совершенно черных икон, и сокрушенно помотал головой.
– Не, отец, ерунда это все какая-то.
Потом отложил доски на скамью и уставился на часы.
– Вот это за двадцать? – спросил после минутного презрительного осмотра и, повернувшись к дяде, повертел пальцем у виска. – Ты что, дурик? За это двадцатку? Да я бы и за пятерку не взял. Дерево гнилое, червь поточил, циферблат облупился, стрелки одной не хватает…
И, обращаясь к хозяину, авторитетно заявил:
– Нет, отец, купить у тебя нечего. Жаль, зря проездили. Иконки те я бы ещё взял, ради досок, за трёшку, но ты вон какие цены ломишь.
Хозяин, смекнувший, что перегнул палку и может остаться вообще без барышей, добродушно раскинул руки.
– О, хо-хо, иконки за трёшку! Да я б тебе их и так отдал, но, коль уж сам цену обозначил, то и бери за неё, я лишнего не спрошу.
Приятель Василия Львовича рассмеялся и погрозил пальцем.
– Ох, и хитер ты, дядя. Подловил-то меня как, а! Но я ведь сказал, что «может быть» взял бы за трёшку, а могу и не брать, верно?
Хозяин подбавил добродушия и даже приобнял Василия Львовича и его приятеля.
– Да берите, чего уж там! Доски хорошие, старинные… Большое дело – трёшка. И часы, уж так и быть, отдам по дешёвке, а? Рубликов за пять, меньше уж никак нельзя – вещь-то фамильная, старинная.
Приятель Василия Львовича долгим задумчивым взглядом посмотрел на хозяина, потом, словно нехотя, вернулся к доскам, брошенным на скамью возле сарая, и стал ещё раз их пересматривать. Вид у него при этом был очень сомневающийся.
– Ну, хочешь, бери все за трёшку, – великодушно уступил хозяин. – И две беленьких сверху.
Приятель Василия Львовича скосил глаза на часы, выдержал долгую томительную паузу, а потом обреченно вздохнул.
– Ладно, дядя, уговорил. Заберем мы твою рухлядь, да и то, из одного уважения. У кого другого бы нипочем не взял.
– А тут и брать больше не у кого, – обрадовался хозяин. – Старухи, какие ещё живы, с иконками своими нипочем не расстанутся. Уж больно они на молодежь злые. «Иваны, говорят, родства не помнящие. Все пожгли, что после покойных дедов осталось. Накликают Антихриста, потом спохватятся, да уж поздно будет». Это я, вишь, недавно переехал, дом вот новый ставлю взамен материнского, царствие ей небесное. Через годок приехали б, так и этого сарая поди не нашли бы уж.
Желая помочь, он небрежно схватил иконы, с громким стуком утрамбовал их в стопку. И Василий Львович заметил, как напряглось и закаменело лицо его приятеля.
– Слышь, отец, – сказал тот, доставая деньги, – доски эти я сам уложу, а ты бы пока поискал чем часы к машине подвязать. А мы с Васьком как раз за беленькими и сгоняем. Магазин-то, в какой стороне?
Хозяин показал направление, заверил, что к их возвращению всё подготовит, и приятель потащил встревоженного Василия Львовича за ворота.
– А вдруг он что-нибудь в часах сломает? – спрашивал не верящий в своё счастье Василий Львович, оглядываясь и пытаясь разобрать сквозь густую вишневую листву, что делает хозяин.
– Хуже, чем есть, они все равно не станут, – огрызнулся приятель. – Из-за тебя целую трёшку просадили там, где все могли даром получить! Ведь учил же тебя, дурня, никогда не показывай, что нашел что-то ценное! Вон, иконы – это же клад, сокровище, пятнадцатый век, не меньше! Да такие любой музей с руками оторвет, не говоря уж о частниках, но я разве трясся от радости, разве прыгал перед хозяином с выпученными глазами…. А, кстати, чего ты в часы эти так вцепился? Всего-то прошлый век. Их восстанавливать – себе дороже, да и не продашь потом, мода не та…
– Понравились, – буркнул Василий Львович и отвернулся.
У него и в мыслях не было продавать свою находку. Приятель мог сколько угодно рассуждать о выгоде, для дяди это был пустой звук. В грязном сарае он нашел само Время, и чувствовал всей своей юной душой, что непростая эта находка ещё укажет его жизни новое русло.
Поэтому, когда спустя сутки, приятель съехал на трассе в «карман» и, развернув карту, спросил: «куда дальше?», дядя сказал, что дальше не поедет. Приятель удивился, однако уговаривать не стал. Только пожал плечами, любезно довез до ближайшей автобусной станции и покатил дальше на облезлой трофейной машинке, слезно выпрошенной у кого-то напрокат.
Я потому так подробно описал этот эпизод, что именно с него, с той случайной находки и начался новый этап дядиной жизни.
Дома, отмыв и отчистив с циферблата и короба всё, что было можно, он понял – для дальнейшего восстановления требуются специальные знания. И ради этого Василий Львович попросил о переводе на отделение реставраторов, где с головой ушел в процесс обучения.
Сам я не силен в искусстве реставрации, и даже годы, прожитые бок о бок с дядей, не расширили мои познания в специфике этого сложного и увлекательного ремесла. Но те первые часы, которые «живы» до сих пор, выглядят так, словно пару сотен лет назад какой-то далекий предок купил их у мастера, поставил в дядиной квартире, и они так с тех пор тут и стоят, ничего не зная о деревенских сараях и губительном отношении к себе. Василий Львович, правда, не раз сетовал, что многое сделал не слишком ловко, но больше к часам не притрагивался. То ли берег память о своей юности, затаившуюся в паутине трещин по неумело составленному лаку, то ли понимал, что кое-какие следы пережитого идут этим часам больше, нежели искусственная новизна.
Училище Василий Львович закончил с красным дипломом и уехал по распределению в город N, где стал реставратором при местном музее изобразительных искусств. Многие советовали ему продолжить образование в институте, но дядя считал, что нет лучшего учителя, чем практика, поэтому выискивал, где только мог рецепты старинных лаков, клеев, красок, создавал на их основе какие-то свои, совершенно особенные, и очень скоро убедился в правоте собственных убеждений, став, по мнению многих, совершенным виртуозом в реставраторском деле. Тогда-то и начала создаваться его коллекция старинных предметов обихода и мебели, которая, к слову сказать, росла очень быстро. На дворе стояли шестидесятые – блаженное время для собирателей антиквариата. Новые модные веяния наложили печать мещанства на массивные резные буфеты, невесомые горки и ажурные полочки. Городская свалка превратилась в остров сокровищ, где запросто можно было отыскать неземной красоты абажуры, медные лампы на цепях, бронзовые канделябры и даже стеклярусные сумочки. Бесценные бюро и кабинеты так и продавались – за бесценок. И единственное, что огорчало Василия Львовича, так это маленькая площадь его квартиры, неспособная вместить все, от чего восторженно замирало сердце.
Конечно, найденное, собранное и принесенное в дом, пребывало в ужасном состоянии. Но Василий Львович легких путей не искал. В маленьком музее, где он работал, особой загруженности не было. То, что висело и хранилось в запаснике, нужды в реставрации давно не испытывало, а новых поступлений кот наплакал. Поэтому все свои пыл, азарт и уважение к временам минувшим дядя проявлял дома. Чем сложнее казалась задача, тем больший интерес она вызывала, и тем азартней дядя брался за её решение. Каждый вечер его кухонный стол превращался в настоящую мастерскую, или, точнее, в хирургический кабинет, где он, подобно доктору Айболиту, «лечил» все, что попадало в руки. Один раз даже взялся за иголку с ниткой, чтобы починить гобелен восемнадцатого века, который принес ему его друг – Соломон Ильич Довгер…
Да, Довгер…. Надо бы о нем…. Но не сейчас! Нет, нет, я не хочу пока притрагиваться к этой гнусной истории! Не теперь. Чуть позже, когда я вспомню всё самое хорошее, самое значимое…. Без этих воспоминаний то, что я пишу сейчас, снова превратится в подобие тех пошлых повестей, которые я сочиняю…, точнее, сочинял не так давно.
Ах, да, совсем забыл представиться! Я – писатель, автор целой серии романов о бесстрашном собирателе старинного оружия Николае Лекомцеве – этаком гибриде из Джеймса Бонда и Ниро Вульфа. Многие считали меня удачливым, успешным и даже популярным, но это ложь! Слово «писатель» хоть и происходит от глагола «писать», тем не менее, не каждый, кто умеет из слов составить предложение, а из предложений – сносно читаемый абзац, имеет право таковым называться. Поэтому, выскажусь осторожнее: я мог бы стать писателем. И это «мог бы» подарил мне именно дядя. Его дом и его коллекция.
Да, многие говорили, что все это слишком похоже на музей, намекая на то, что в подобной квартире неудобно жить. Может, и так. Может, и музей. Но музей музею рознь, и наш был особенный!
Здесь можно было сидеть на всех стульях, открывать все шкафы и брать из них книги или посуду. Можно было устроиться за бюро красного дерева и писать на листке бумаги настоящим гусиным пером, обмакивая его в чернильницу в виде виноградной лозы. Можно было зажечь все свечи в канделябрах, и в их гуляющем свете рассматривать дивной красоты фарфоровую фигурку девушки в шляпке с ленточками и в платье, поверх оборок которого вились тончайшие фарфоровые кружева…
Дядя мне все сразу позволил. Но, может быть, из-за того, что он так доверял, или из-за потрясения, вызванного всем этим великолепием, я долго вел себя скованно, на всё спрашивая разрешения.
«Перестань спрашивать, – убеждал меня Василий Львович, – все эти вещи стоят тут для того, чтобы ими пользовались. Они тем и живы! Не будешь пользоваться – вещи умрут…». Но я не понимал. Никак не мог взять в толк, как может быть живым, пусть даже очень и очень красивый шкаф? Такое только в сказках Андерсена бывает, и там это вполне уместно, но, чтобы вот так, в реальности, совсем рядом…. Нет, это не укладывалось в голове!
Однако, понимание пришло внезапно, очень скоро, и совершенно естественно вплелось в мою жизнь.
Помню, как однажды, мучимый бессонницей, безжалостно вызывающей образы родителей, стоило только закрыть глаза, я достал с полки какую-то книгу и перебрался в старинное кресло поближе к лампе. Рука легла на деревянный подлокотник, и удивительное тепло мгновенно побежало по ней, растекаясь внутри всего тела. Сама собой появилась мысль о том, что, возможно, когда-то в этом кресле сиживала дама в кринолине, (или, как там назывались эти широченные юбки?), и, обмахиваясь веером, жаловалась кому-нибудь на мигрень или бессонницу, как у меня. А может быть, в него небрежно плюхался какой-нибудь гусар в синем ментике с серебряным шитьем? Я видел таких в кино и на картинках, но никогда не задумывался, что все они не персонажи костюмных сказок, а были когда-то настоящие, живые, такие же, как и мы, живущие теперь.
Это чувствование ожившей, (если можно так по-идиотски выразиться), жизни оказалось настолько сильным, что я невольно стал озираться вокруг, тут и там, вспышками, замечая то мужскую фигуру в солидном сюртуке, то женскую, с осиной талией и длинным шлейфом на юбке. Зеркальные вставки на дверцах шкафа, в обрамлении золоченых завитков, вдруг запестрели туманными лицами – строгими, веселыми, юными, постарше и совсем старыми. Будто какой-то кинопроектор из прошлого вздумал прокрутить на большой скорости всю вековую жизнь этого шкафа…
На мгновение стало даже страшно. Резко вскочив с кресла, я нырнул под одеяло и, не то чтобы дрожал там от ужаса, но и высунуться опасался. Припоминал все известные детские страшилки, да так и заснул. А утром долго гадал, не приснилась ли мне вся эта чертовщина. Даже у дяди спросил – может, в его квартире привидения завелись? Но он ласково погладил меня по голове, заглянул в глаза и ответил, что это во мне всего лишь память проснулась. Не та, единоличная, которую все знают, а иная, общечеловеческая, которую, как Бога, можно принять только душой.
«Идем, я покажу тебе того, кто и во мне пробудил когда-то эту память», – сказал он тогда. И повел меня к большому письменному столу возле окна. «Вот, Сашенька, познакомься – Стол Писателя. Я реставрировал его для одной пожилой дамы, которая хотела сделать сюрприз своему мужу. Времени было не так уж и много, поэтому работать приходилось и по ночам. Стол находился в ужасном состоянии, почти мертвый, но оставалось в нем нечто…. Не знаю даже, как это выразить словами…. Короче, я чувствовал, что могу его спасти и обязательно должен это сделать. И тогда, в одну из ночей, эта самая общечеловеческая память накрыла меня с головой. Кто знает, из каких глубин она вырывается. Может, это сам стол, почуяв ласковые руки, возвращающие его к жизни, поспешил вздохнуть. И все пережитое им, мистическим облаком окутало комнату, вовлекая и меня в туманный мир жизни, идущей, возможно, где-то рядом с нами. Не знаю…. Но никогда прежде не чувствовал я так остро и осязаемо свою связь с ушедшими поколениями, эти крепкие родовые корни, тянущиеся куда-то в глубь Времени и Истории. Я будто породнился через этот стол со всеми теми, кто, в своё время, любовно стирал с него пыль, разглаживал и чистил сукно, что-то писал, строил планы.… Это просто подарок Судьбы, что дама та согласилась продать мне его после смерти мужа, так что в разлуке мы провели чуть больше года. Но даже за такой короткий срок я почувствовал, как обогатился новыми впечатлениями мой стол, и как обогатилась его, (а, стало быть, и моя), память…. Ты понимаешь, о чем я говорю?».
Не стану лукавить – в тот миг я мало что понял. Но дядины слова не показались и полным бредом. Что-то в них зацепило за душу, и, дав себе слово непременно все осмыслить и понять, я вслух спросил:
– А почему «Стол Писателя»?
– Да потому что он столько знает, что, владей я словом, сел бы за него и такие бы романы писал! – ответил дядя, взъерошивая себе волосы и мечтательно закатывая глаза.
Идея писать романы понравилась мне сразу. Великолепный способ оживить не только свои ночные видения, но и образы родителей, грустно и бесцельно витающие вокруг меня с длинными шлейфами тоски за спиной. При этом дядина оговорка: «владей я словом…», нисколько не смущала. Разве могут подобные осторожные сомнения придти в тринадцатилетнюю голову? Ничуть не бывало! Я же не собираюсь писать правдивые истории об их действительной, не слишком интересной жизни. Не-е-ет, я сочиню новые истории, перемешаю их с вымыслами из зеркального шкафа, и дам своим родителям возможность стать такими, какими я всегда и хотел их видеть – счастливыми, здоровыми, молодыми и бесшабашно веселыми!
Василий Львович ссужал меня деньгами на личные расходы. Немного, но на новую тетрадь – толстую, в коричневом переплете, из которого торчали кончики нитей, – и на новую ручку вполне хватило. Я нарочно купил все новое – уж если начинать какую-то особенную жизнь, то не со старыми же атрибутами, в самом деле. И рассказывать о своем новом увлечении никому не собирался. Даже дяде. Почему-то мне казалось, что стоит хоть кому-то рассказать, и ничего не получится, уйдет некая тайна, похожая на яркий сон, который невозможно пересказать, не разрушив при этом его очарование и значимость. Поэтому тайком, используя каждый удобный момент, я принялся за свою первую книжку.
Тут надо сказать, что удобных моментов на неделе было не так уж и много. В рабочие дни – школа и уроки, (родители успели мне внушить, что, прежде всего, нужно делать обязательные дела, а потом уж приятные), а в выходные дядя непременно куда-нибудь меня водил. Он опасался, что, пережив недетское горе, я замкнусь в себе от недостатка внимания, поэтому, в ущерб собственных пристрастий, целиком посвящал мне один выходной, стараясь подарить как можно больше положительных эмоций и впечатлений. Но перед воскресеньем была суббота, и я, начав писать книгу, благословлял этот день, как единственный, дающий возможность творить.
В субботу Василий Львович играл в бридж.
Эта нерушимая традиция существовала давно, едва ли не с первого года жизни дяди в N, и была лишь единожды на грани нарушения, когда компанию покинул один из игроков. Кажется, он куда-то уехал, и, по несчастному стечению обстоятельств, именно в это время я и стал жить у дяди. Однако, перерыв в игре продлился недолго. Вскоре в дом пришел новый человек. И этот приход я хорошо запомнил по той настороженности, с которой его приняли, и по той радости, которую все выказали, когда стало ясно, что новый член команды весьма сведущ в тонкостях игры. Этим новым человеком и был Соломон Ильич Довгер.
Он очень напоминал Синюю Бороду. И цветом выбритого подбородка, и горящими черными глазами. Именно так я и представлял матерого убийцу несчастных жен. Но во всем остальном Соломон Ильич оказался очень милым человеком.
Дело в том, что компания игроков состояла из людей увлеченных коллекционированием. Паневин Алексей Николаевич, служащий какой-то конторы, собирал старинные открытки и даггеротипы с видами русских городов, а так же знаки и памятные медали с их гербами и символами. Причем дядя упоминал о каких-то совершенно бесценных экземплярах, которыми Алексей Николаевич страшно гордится, и бережет их, как зеницу ока. Другой собиратель – Гольданцев Олег Александрович – был помешан на старинных книгах, причем, преимущественно, по медицине. Он был врачом. Талантливым, по убеждению Василия Львовича, но, как все талантливые люди, так и не смог пробиться в этой жизни, страдая от собственного ума. Его оригинальные теории слишком далеко расходились с общепризнанными научными постулатами, поэтому Олег Александрович прозябал в районной поликлинике и слыл в медицинских кругах чудаковатым изгоем. Именно он привел в компанию Соломона Ильича, который, хоть и не был сам коллекционером, тем не менее, имел весьма обширные связи в их среде и огромное количество знакомых, готовых эту среду подпитывать. К примеру, дяде он организовал несколько крупных заказов на реставрацию старинной мебели. И, помимо удовольствия, которое Василий Львович испытал и от самой работы, и от её нужности, мы получили финансовую возможность съездить в Ленинград и провести там целых десять дней, не отказывая себе ни в чем.
До сих пор помню, с каким трепетом дядя ввел меня в зал Леонардо да Винчи и, дождавшись, когда перед «Мадонной Литта» никого не будет, подтолкнул меня к картине со словами: «Забудь про все репродукции, про то, что это хрестоматийный Леонардо. Смотри на неё так, словно ты в мастерской художника, с которым только что познакомился». И, вы знаете, был момент, когда, глядя в лицо этой юной матери, я вдруг ощутил невыразимое волнение, как будто кисть только что, на моих глазах, последний раз коснулась голубых одежд, и я увидел нечто новое, совершенное, гениальное…
Да, Довгер для всех тогда явился почти спасителем. Поддержал разваливающуюся традицию, значительно расширил горизонты возможностей компании, совсем уж было в себе замкнувшейся, и мне, косвенным образом, подарил почти целый день, когда я мог беспрепятственно заниматься своим творчеством.
Хорошо помню, как, сидя на диване, в неестественной, вывернутой позе, я торопливо писал, примостив тетрадку на подлокотник. На коленях раскрытая книга, на тот случай, если кто-то задумает войти. Тогда бы я ловко сбросил тетрадь и ручку в пространство между подлокотником и шкафом, а сам сделал бы вид, что читаю. Пару раз так и приходилось делать, поэтому именно на диване, именно согнувшись, как не подобает, я продирался сквозь дебри собственного сюжета.
Мне безумно нравилось это делать, и чем дальше, тем больше. Вскоре, даже когда заветную тетрадку достать было нельзя, я все равно продолжал сочинять. Ползая с пылесосом между резных ножек антикварной мебели, или ковыряя вилкой немудреный ужин, приготовленный дядей, прикидывал, каким путем выбираться героям из сложной ситуации, в которую я их загнал, или продумывал маршрут, которым они пойдут дальше, к вожделенному финалу.
Этот процесс захватывал! Будоражило все – и оживающие образы, и лихие повороты сюжета, заплетающегося тем туже, чем дольше я писал. И, самое главное, таинственность, которая обволакивала всю мою писательскую деятельность.
Потому, однажды вечером, я едва не подавился пельменем, когда дядя, как ни в чем не бывало, спросил: «Ну, и когда же можно будет прочесть то, что ты пишешь?». От неожиданности не нашел ничего лучше, как, набычившись, уставиться в тарелку и обиженно спросить: «Откуда ты узнал?». И тут Василий Львович захохотал, да так, что, кажется, даже чайник на плите подпрыгнул.
– Милый ты мой, у тебя же через все лицо идет во-от такая здоровенная сияющая надпись: «я что-то сочиняю»! Не веришь? Посмотри в зеркало.
Машинально я обернулся к коридорному трюмо, в котором прекрасно отражался со своего места на кухне, а дядя засмеялся снова. Потом он встал, разлил чай по чашкам и, пододвинув одну мне, сказал серьезно и ласково:
– Сашенька, почему ты думаешь, что от моего любящего взора укроется хоть что-то, связанное с тобой? Я же все замечаю. Когда тебя мучила бессонница, я тоже не спал, только делал вид, что сплю, потому что не знал, чем тут поможешь. Жалеть? Нельзя. Жалость унижает, делает слабым, из неё потом не выберешься, так и будешь уповать, что пожалеют. А я хочу, чтобы ты вырос сильным. Писать книги прекрасное занятие. Тут стыдиться нечего. Особенно, если получается. А у тебя, как я вижу, получается – вон, как глаза горят. Что ты пишешь? Стихи?
– Нет, прозу.
– Прозу? Чудно! Это ещё и лучше. Пушкин, кстати, тоже прозу писал, и замечательно писал! Ты только не прячься больше, ладно. Не хочешь пока показывать – не надо. Я без разрешения заглядывать не стану. Даже, если хочешь, машинку тебе печатную достану. Только, пожалуйста, глаза по темным углам больше не порть и не горбись, а то позвоночник испортишь.
С минуту я сидел по-прежнему набычившись. А потом вдруг какая-то волна смахнула меня с табурета. Влетев в комнату, я выхватил из-под подушек дивана, на котором писал, свою тетрадку и помчался обратно на кухню. Там сунул тетрадь дяде в руку, всхлипнул и бросился ему на шею.
– Сашенька, милый, ну что ты, перестань, – растерянно приговаривал дядя, похлопывая меня по спине. – С чего вдруг так-то…
Но по его дрожащему голосу я знал, он прекрасно понимает, с чего. Понимает даже больше того, что я сам сумел бы объяснить, потому что вряд ли в своем том юном возрасте мог осознать, какой сложный узел распутывается для Василия Львовича этим моим увлечением.
В тот же вечер он добросовестно перечитал все, что было мною уже написано. Пока не закончил, спать не ложился. Потом снял очки, прошел в мою комнату, прекрасно понимая, что я тоже ещё не сплю, сел в кресло и удивленно поднял брови.
– А знаешь, Сашок, очень и очень неплохо. Видимо любовь к чтению даром не проходит. Я, конечно, не специалист, но я читатель, то есть тот, для кого книги и пишутся. И, как читатель, вполне авторитетно могу сказать – ты пишешь хорошо. Даже замечаний никаких делать не стану. Заканчивай, как есть, а потом…. В общем, я знаю, кому мы это покажем.
Он встал, но на пороге обернулся.
– Кстати, машинку все же придется достать. Почерк у тебя – ну просто кошмар!
Я засмеялся, а Василий Львович поспешил закрыть за собой дверь. Ничуть не сомневаюсь, что, оставшись один, он вытер с глаз слезы. Во-первых, потому, что мне больше не грозило вырасти угрюмым и замкнутым, а во-вторых – в его доме так весело я смеялся впервые.
Обещание свое Василий Львович выполнил. Очень скоро старинное бюро восемнадцатого века украсилось хромированным чудом по имени «Олимпия». На этом мастодонте я перепечатал уже написанное и благополучно «доскакал» до конца книги.
Дядя в процесс не вмешивался. Только перечитывал то, что я ему давал, кивал головой и говорил: «Пиши дальше». Он не позволил себе исправить ни одной запятой, которые я ставил, где надо и где не надо. А когда книга была закончена, Василий Львович собрал все листки в папку, завязал её и куда-то унес.
Подозреваю, что без связей Довгера и тогда не обошлось. То, что редактор городского детского журнала, прочитав моё творение, попросил написать для рубрики «Новые имена» какой-нибудь рассказ, запросто могло оказаться следствием приятельских отношений между ним и Соломоном Ильичем. Но, как бы там ни было, а я чувствовал себя совершенно счастливым, и все каникулы провел, стуча по клавишам «Олимпии», как какой-то маньяк. В результате появился не один рассказ, а целых три, и теперь мы уже вместе с дядей отправились в редакцию.
Там все прочли, похвалили, отобрали рассказ, посвященный моему дедушке, и уже в октябрьском номере напечатали. Василий Львович был вне себя от гордости. Расплакался, закрывая журнал, со словами: «Жаль Верочка не видит», а потом надолго ушел на кухню.
Я слегка прославился в школе, где стал непременным автором всех передовиц общешкольных стенгазет, участником литературных конкурсов и круглым отличником по сочинениям. Затем увидел свет ещё один мой рассказ. Потом повесть, в которую превратился сильно сокращенный и ставший от этого только лучше, мой первый роман. За этой повестью – повесть другая, и пошло-поехало!
В институт, естественно, поступил без проблем.
Журналистика становилась чрезвычайно модной. В стране назревали интересные события, и я стремился быть в самой их гуще. Писал острые статьи, одну из которых нагло отослал в столичное издательство и её там напечатали! Затем, моя, довольно дерзкая пьеса, (впрочем, в молодости все дерзко), попала в журнал «Театр», и за всей этой круговертью, как-то так само собой сложилось, что жизнь Василия Львовича, вместе с ним и его делами, скромно отошла на второй план.
Я не заметил того, что молчаливая субботняя игра в бридж вдруг стала по говорливости напоминать революционные сходки. Не обратил внимания на ряды пробирок и колб, неумело спрятанные в кухонном шкафу, и на то, что Олег Александрович Гольданцев стал приходить к дяде каждый день. Он появлялся под вечер, кивал мне, задавал обязательные вопросы о здоровье, без особого интереса спрашивал про литературные успехи, а потом закрывался с дядей на кухне, где они часами делали что-то таинственное. В промежутках между стуканьем «Олимпии», обдумывая очередное предложение, я слышал, как позвякивают те самые колбы, чувствовал запах чего-то горелого и был абсолютно уверен, что дядя с Гольданцевым выдумывают состав очередного лака или клея. Вопросов никаких не задавал. Только один раз, когда Василий Львович, в страшном возбуждении, влетел ко мне в комнату и потребовал срочно какую-нибудь ручку или карандаш, я, дождавшись ухода Гольданцева, спросил, чем же они все-таки занимаются. Но дядя тогда лишь таинственно улыбнулся, мечтательно закатил глаза и процитировал:
– Есть многое на свете, друг Гораций…
Потом потряс головой, словно сгоняя прилипшую к лицу улыбку.
– Не время ещё, Сашок. Вот закончим, и ты такое узнаешь, о чем не можешь сейчас даже предположить.
Что ж, не время, так не время. Я охотно предоставил дяде заниматься своими делами, лишь бы ничто не мешало мне с головой погрузиться в свои. Заскакивал домой на минуту что-нибудь куснуть или отхлебнуть. Потом снова уносился, чтобы глубокой ночью приползти, плюхнуться на диван, поспать часа четыре и снова уноситься прочь. А дядя бледной, почти незримой тенью, отпечатывался где-то на задворках сознания – милый, заботливый, любимый, но такой медленный и устаревший в этой летящей весенним потоком жизни.
Так не заметил я и появления испуганной и разочарованной настороженности, которая появилась у дяди и сильно постаревшего Олега Александровича, с которым мы иногда стакивались в дверях. Не слишком задумывался над тем, почему вдруг, с какого-то времени, Гольданцев ходить перестал, зато зачастил давно не появлявшийся Паневин. Потом перестал ходить и он, но мало ли какие причуды возникают у коллекционеров – все они немного не от мира сего. И только однажды Василию Львовичу удалось слегка притормозить меня на полном скаку сообщением о том, что доктор Гольданцев умер.
Легкий укол совести вернул меня в пору моей самой глухой ночи, подсказывая, что надо бы посидеть с дядей, не оставлять его одного в эти печальные минуты. Я же видел, что эта смерть для него настоящий удар. Но дядя, словно услыхав мои мысли, отрицательно замотал головой.
– Иди, иди, чего ты встал? Я это просто так.., к сведению…. Что уж теперь…. Все там будем. А для него так, может, и лучше. Иные тайны, как роковые блудницы – манят, манят, завлекают, и ты уже ничем другим жить не можешь…. Но познавать их нельзя. Опасно. Можно дурную болезнь заработать. Прежде сам в себе разберись – надо, не надо, а потом…. Э-эх, задним-то умом хорошо рассуждать…
Все это дядя бормотал, удаляясь на кухню, и, словно бы, не для меня. Поэтому, потоптавшись немного, я виновато выскользнул за дверь, где уже дожидалась целая компания.
А потом была стажировка в городе Б, в редакции местной газеты. И распределение туда же, по их настоятельному, и моему страстному желанию. Уж больно коллектив оказался хорош.
Дяде я обещал писать и звонить, как можно чаще, но обещания своего, конечно же, не исполнил. Куда там! Жизнь крутилась и мельтешила, словно зеркальный шар на дискотеке, как блестящий шейкер в руках опытного бармена по имени Молодость. И сбивался в этом шейкере сложнейший коктейль из статей, набросков для романа, любовных записочек, беготни за новостями, кутежей, флирта, участия в благотворительных мероприятиях, пьяных философских споров и дурацких поступков, вроде традиционного прыганья с моста.
Но иногда я все-таки «трезвел». Чувствуя себя последним подонком, безбожно и хмуро матерясь, тащился на переговорный пункт и звонил в N.
Дядя всегда очень радовался. На вопросы о здоровье отвечал: «отлично, отлично», на мои извинения говорил: «ничего, ничего». А потом, отслушав на все свои пространные расспросы «нормально» и «все в порядке», грустно прощался.
Я понимал, конечно, что от таких бесед Василию Львовичу становилось только более одиноко. Но, что ещё скажешь по телефону? «Вот приеду в отпуск, – утешал я, то ли себя, то ли его, – встретимся, поговорим…».
Но встретиться не пришлось, хотя в отпуск я уехал раньше, чем предполагал.
Дядя внезапно умер.
Это случилось так неожиданно, так страшно, что шейкер, сбивающий мою жизнь, разом остановился. А в оседающей мути, как в тумане, растворились, и бешенный переезд на попутках, и похороны, и поминки, и…. Все! Тусклым облаком из пролитых и непролитых слез над головой повисло одиночество.
Какие-то люди-тени ходили вокруг, шептали: «коллекция, квартира»… Кто-то мелкий, кривоногий вынырнул из дурмана, схватил меня за руки и зачем-то стал трясти ими. При этом он все время пригибался к моему лицу, обдавал противным запахом изо рта, что-то страстно говорил, но что, я так и не понял. Помню только – «продать в музей». Это он повторял особенно часто. Но, что продать? Зачем?
Дядя!!! Кто эти люди?! Что все они тут делают?!!! И почему никто не уткнется в мое плечо и не зарыдает? И где то плечо, на котором могу порыдать я?! Нет, никого нет! Только шкаф с зеркалами на дверцах. Тогда пусть скорей все уйдут прочь, и наступит темнота! Я знаю, самым четким ликом в том Зазеркалье будет твой лик, дядя. И мы, наконец, сядем, поговорим, скажем друг другу слова, которые клубились вокруг нас все последние годы, но так и не обрели звучания…
Кто-то опять лезет!
Уйди! Сгинь! К че-о-о-рту всех вас!!!
Кажется, я тогда потерял сознание. «Скорая» увезла полубезумное тело в больницу, где его вернули к жизни и разуму успокоительными. Для верности подержали ещё пару дней и выпустили.
Оказалось, свою квартиру Василий Львович давно выкупил у государства и завещал мне, вместе со всей коллекцией. Адвокат, сообщивший это, оставил на мраморном антикварном столике кучу каких-то бумаг и ушел, оглядываясь на меня с подозрением. Видимо, сомневался во вменяемости клиента даже после больницы.
Дурак!
Он, видно, думал, что такое наследство способно загладить любое горе. И кто-нибудь другой, на моем месте, не стоял бы истуканом, тупо глядя под ноги, а скорбно и величаво проводил бы его до двери, расшаркиваясь за приятную новость. Может те, у кого совесть чиста, так и поступают. Но я, услышав грохот закрывшейся двери, как безумный, набросился на оставленные бумаги, ища в них одну-единственную – хоть какое-то письмо от дяди, которое он обязательно должен был оставить. Мне необходимы были его последние слова, как индульгенция забывчивости и безразличию последних лет, которые теперь жгли моё сердце стыдом! Поэтому, отбрасывая в сторону выправленные по всей форме акты, которые делали меня владельцем немалого, наверное, состояния, я готов был взвыть от отчаяния, потому что никакого письма от Василия Львовича среди них не было!
Но поздно вечером, когда сломленный и жалкий я выполз на балкон покурить, светлый дух дяди все же явил свою милость.
На другом балконе, отделенном от нашего всего лишь кухонным окном, стояла соседка – бывшая певица, а теперь пенсионерка Эльвира Борисовна. Она тоже курила – свою неизменную «Беломорину» – и обернулась на мои шаги.
– Сашенька! – охнула Эльвира Борисовна, роняя папиросу, – вы уже дома! Господи, как хорошо! Все так нелепо, так глупо получилось…. А у меня ведь письмо для вас. Базиль оставил незадолго до смерти. Как знал…. Впрочем, мне почему-то кажется, что он знал… Ужасно это все, правда? Смерть, одиночество… Я к вам сейчас зайду, хорошо? Вы мне откройте, пожалуйста.
Путаясь в ногах, я бросился к входной двери.
Эльвира Борисовна просочилась в неё с большим пухлым конвертом в руках и, передавая его мне, сказала.
– Знаете, Василий Львович был очень странный в последнее время. Он ничем не болел, но чувствовалась в нем…. Даже не знаю, усталость какая-то, что ли? Я пыталась к нему заходить, думала, Базиль просто скучает. Даже звонить вам собиралась…. А потом он пришел с этим конвертом. И, знаете, мне тогда показалось, что он чего-то страшно боится. Естественно, первым делом, подумала про коллекцию, потому что сейчас столько всяких жуликов развелось. Но, когда я спросила, не угрожают ли ему какие-нибудь бандиты, Базиль рассмеялся…. Очень, знаете ли, невесело рассмеялся, и сказал, что лучше бы это были бандиты. А потом положил конверт на стол и попросил обязательно передать вам после его смерти. Ох, и рассердилась же я тогда! «Вот уж не думала, – говорю, – что услышу такое от тебя – человека разумного! Как дворовая старуха, ей Богу! Ну, куда тебе умирать? Вот, погоди, приедет Сашенька, может даже жену с собой привезет…. Если так скучаешь, попроси – вдруг ему сюда удастся перевестись. Внуки пойдут, взбодришься…». Но он странно так посмотрел и говорит: «Я не доживу». И сказал так тихо, так уверенно, словно жить ему дальше просто нельзя. А через пару дней иду я по подъезду и вижу – дверь в вашу квартиру приоткрыта. Захожу, а Вася сидит в кресле перед окном и смотрит на небо совершенно безучастно. Говорю ему: «Что ж ты дверь не закрываешь?», а он в ответ даже не моргнул. Ну, я естественно испугалась, «скорую» вызвала. Они приехали, померили давление, пульс, ничего не нашли и уехали. Сказали, что с таким давлением можно в космос запускать, а то, что сидит и ни на что не реагирует, так может у него горе какое…. Вот так-то. А потом, вот…. Умер наш Васенька…
Эльвира Борисовна тоненько взвыла, уткнулась носом в старую вязаную шаль и, отмахнувшись от моего «дать вам воды», побрела к себе. А я, хоть и держал в руках вожделенное письмо, остался стоять в недоумении.
Выходит, дядя знал, что скоро умрет? Погрузился в апатию и стал ко всему безучастным? Впрочем, в апатию он мог погрузиться именно оттого, что знал о скорой смерти. Но от чего?! Почему не вызвал меня, чтобы проститься хотя бы?!
Я ничего не понимал. Все так не похоже на Василия Львовича… Может, все объяснения в письме?
Из торопливо разорванного конверта выпала школьная тетрадка и целая стопка листков. Их я сразу отложил в сторону, так как узнал виденные много раз схемы тайных ящичков и описания особо ценных вещёй с историческими справками о них. В тетрадке же вообще было что-то непонятное – то ли математические формулы, то ли записи каких-то составов. Но между последними страницами лежали два сложенных листка, и я жадно схватил их, разобрав на первом: «Милый Сашенька…».
«Нет слов, чтобы выразить, как я благодарен Судьбе за то, что был в моей жизни. И, хотя счастье это далось слишком дорогой ценой, все же оно было. Счастье видеть, как ты взрослеешь, мужаешь, становишься на ноги…. Нет, не на ноги – на крыло! Ты выбрал удел Творца, а, значит, не жалкое ползанье по жизни, но бурный, стремительный полет. Я горжусь тобой, и лишь одно гложет тоской мою душу – то, что не увижу тебя во всем блеске состоявшегося писателя и Человека. Я скоро умру. Олег Гольданцев прошел этот путь раньше меня, но там, где можно свернуть, стоит запрещающий знак. Жаль, что не могу всего тебе разъяснить, но, может, так и лучше. Помнишь, что я говорил про тайну-блудницу? Так что, послушай доброго совета – не пытайся во всем этом разобраться, не стоит оно того. А самое главное, запомни! Если когда-нибудь к тебе придет сын Олега Гольданцева – Коля, или кто-то другой, кто станет рекомендоваться, опираясь на эту фамилию, гони такого визитера к черту, не соблазняясь никакими сверхъестественными тайнами, которые они посулят! Ничего этого нет, все обман! Есть только ад. Кошмарный ад, в который они тебя утащат…».
Часть первая
Глава первая. Страх
В день своего тридцатипятилетия я стоял в ванной перед зеркалом, покрытым благородными трещинками, и, яростно чертыхаясь, смывал кровь с неосторожно порезанной щеки.
– Перестань бриться этим антиквариатом, – не раз укоряла меня Екатерина. – Процветающий писатель, неужели ты не можешь купить себе нормальный станок?
– Нет, не могу! – огрызался я, будучи не в силах изгнать из памяти свой детский восторг при виде Василия Львовича, подносящего к щеке это сверкающее чудо, похожее на меленькую саблю. – Мужчина должен бриться опасной бритвой. Понимаешь? О-пас-ной! А не этим вашим бабским станком для ног.
Екатерина вздыхала и безнадежно махала рукой, а я продолжал скоблить щеки антиквариатом.
Но в сегодняшнем порезе бритва виновата не была. Издерганный человек, не спавший толком три ночи кряду, порежется даже алюминиевой ложкой! Поэтому я чертыхался и отборным матом поливал себя, Екатерину и сопляка корреспондента из журнала «Мой дом».
«Тридцать лет – ума нет», – выдал я сам себе напоследок и, закрутив кран, пошел за пластырем.
За десять лет в дядиной квартире мало что изменилось. Пожалуй, только окна, (я поставил стеклопакет), да, вместо тусклого пейзажика над столом Василия Львовича, теперь красуется его портрет, прекрасно переснятый со старой фотокарточки одним моим приятелем.
Хотя, нет, забыл! Вот ещё и новая дверь, стилизованная под старину, которая ведет в квартиру Эльвиры Борисовны. Точнее, в ту квартиру, которую она когда-то занимала.
Три года назад «бывшая певица, а ныне пенсионерка», как она сама себя всегда рекомендует, вдруг решила сняться с насиженного места и ехать на постоянное жительство в Петербург, к давней своей подруге.
– Вы с ума сошли! – воскликнул я, когда она пришла сообщить мне эту новость. – Да разве можно совмещать ваше здоровье и Питерскую сырость?! Этот город вас убьет, а я буду чувствовать себя виноватым за то, что не удержал.
– Сашенька, Сашенька, – качала в ответ головой Эльвира Борисовна, – Питер никого убить не может. Столько красоты, столько таланта намешалось. Даже революции этот аристократизм не выкорчевали. А пока жив там хоть один блокадник, жива и доброта. Я по ним соскучилась, и по подруге, и по доброте. Мне будет очень хорошо, поверьте.
– Здесь-то чем плохо?!
– А здесь как-то тревожно стало жить.
– Эх, Эльвира Борисовна, – вздыхал я, – до чего же вы наивный человек. Вот и видно, что сериалы не смотрите. Хотите, программку покажу – там по всем каналам, в самое удобное для пенсионеров время, «Бандитский Петербург», «Бандитский Петербург», «Бандитский Петербург»…
Соседка нахмурилась, сердито посмотрела на меня и, порывшись в растянутом кармане своей кофты, вызывающе достала папиросу. Я снова вздохнул. Этим жестом пожилая дама давала понять, что уговаривать её не ехать в Питер так же бесполезно, как отучать курить «Беломор», (чем я, кстати, несколько лет безуспешно занимался). «Ахматова его всю жизнь курила, и хуже от этого не стала», – был неизменный аргумент, которым все убеждения решительно обрывались.
– Я к вам, Сашенька, собственно не за тем пришла, чтобы вы меня запугивали, а с предложением купить мою квартиру, – заявила Эльвира Борисовна, широким жестом гася спичку, от которой прикуривала. – И вам хорошо, вдруг все-таки надумаете жениться на своей Екатерине, и мне приятно – не чужие люди поселятся. Как вам такое предложение, а?
Предложение было заманчивое и, к слову говоря, в то время, вполне осуществимое. У меня, как раз, один за другим, вышли три романа. Поэтому, не ломаясь даже для приличия, я ответил согласием, тем более, что куплю-продажу Эльвира Борисовна обещала максимально облегчить и ускорить через сына какой-то своей знакомой, который служил чиновником в нужной конторе.
Сын знакомой действительно здорово помог. И, хотя все прошло не так быстро и гладко, как мы хотели, (пришлось все же побегать по разным инстанциям), тем не менее, удалось избежать многих нудных очередей за какими-то бесполезными справками, и вот уже больше года я являюсь владельцем значительно увеличившейся квартиры.
Правда, почти такой же долгий срок, увязаю теперь в ремонте. Денег от продажи последнего романа хватило только на дверной проем и одну комнату. А дальше тишина. Екатерина, оживившаяся было при мысли, что я «вью гнездо» для будущей семьи, снова сникла. Но, что я мог поделать? Издатель торопил с новой книгой, и я бы, наверное, уже закончил её, кабы не дурацкий эпизод с журналом «Мой дом».
Ох, тщеславие, тщеславие – воистину, это любимый порок дьявола.
С появлением больших денег у некоторых слоев населения, снова проснулся интерес к антиквариату. И журнал, идя в ногу со временем, решил сделать серию статей о коллекционерах, живших когда-то в N. Об этих грандиозных планах я узнал от Екатерины, которая была знакома с редакторшей, и, подозреваю, что именно с её дружеской подачи в журнале приняли решение одну из статей в очередном выпуске посвятить моему дяде.
Со мной созвонились, прислали корреспондента – сопливого щенка Алешу, и фотографа. Эти двое целый день ходили по квартире, все снимали, записывали и восторгались: «Ах, Лувр!», «Ах, Эрмитаж, Оружейная палата!». А я, раздуваясь от гордости, вышагивал следом, давая показания, какой эпохе и даже, каким людям принадлежали в прошлом вещи из дядиной сокровищницы – благо он мне, дурню, оставил подробнейший каталог.
А потом журнал вышел, и в нем, почти три разворота заняла статья о Василии Львовиче и его коллекции. Говоря о дяде, корреспондент Алеша, (будь он трижды неладен!), на эпитеты не скупился. То и дело мелькало: «крупнейший», «виднейший» и, «несправедливо забытый при жизни». А я получился этаким умненьким всезнайкой и тоже в обрамлении прилагательных, типа: «Наш знаменитый, наш талантливый земляк». Фотографии, как назло, были великолепными! На них знакомые с детства вещи смотрелись куда как значительней. И я, переворачивая страницы, по-барски одобрительно кивал головой, приговаривая: «прекрасно, прекрасно…».
Конечно же, не удержался от соблазна показать журнал всем друзьям и знакомым. Многие его уже видели, а те, кто не видел, хоть и бывали у меня дома неоднократно, все равно листали с интересом и тоже признали, что на фотографиях интерьер квартиры выглядит намного солидней. Статью хвалили, меня поздравляли, хлопали по плечу и обещали подарить коробку с музейными тапочками.
Все было прекрасно до тех пор, пока журнал не оказался в руках у моего издателя.
– М-да, брат, – сочувственно проговорил он, поглаживая глянцевую обложку, – боюсь теперь мы нового романа не дождемся.
– Это почему ещё? – удивился я.
– А когда тебе его заканчивать? Ты теперь решетки на окна будешь ставить, сигнализацию по всем углам проводить и сидеть у двери вместо сторожевой собаки, потому что ворье сейчас ушлое, и им обычная собака не помеха.
– Вы шутите, надеюсь? – высокомерно спросил я, выкладывая перед ним распечатку новых глав.
– Как знать, – издатель покосился на жидковатую стопку. – Но эти издания, (он потряс журналом), настоящий путеводитель для воров. Причем, я не карманников и прочих домушников имею в виду. Коллекционеры ныне не чета твоему дяде, в средствах не слишком стесняются. Наймут профессионалов – и… крышка! Хорошо, если просто квартиру обнесут, а ведь могут и… ку-ку…
Издатель сделал выразительный жест – большим пальцем по горлу – а потом все же рассмеялся, давая понять, что шутит.
Но мне уже было не до шуток!
Идя домой, я последними словами клял себя – зачем согласился на эту публикацию – потом Екатерину, и, наконец, корреспондента Алешу, додумавшегося написать: «К сожалению, невозможно в одной статье дать представление обо всех уникальных экспонатах, собранных и отреставрированных Василием Львовичем Калашниковым. По известным причинам мы не публикуем наиболее ценное…». По известным причинам! Господи! Да, как же я раньше-то на это внимания не обратил! Идиот, Алеша, дал прямую наводку – дескать, видите вы на фотографиях только цветочки, а там ещё такие ягодки скрыты, что ого-го!… Ох, дурак! Ну и дурак! Да и редакторша тоже хороша! Вот сейчас приду, позвоню ей и поинтересуюсь, сама-то она понимает, какие призывы печатает?
Дома я, почти рыча от бешенства, первым делом осмотрел замки, не ковырялся ли кто? А затем прямиком направился в квартиру Эльвиры Борисовны. (Странное дело, сознание упорно отказывалось воспринимать её, как собственность, хотя большую часть времени я теперь проводил там).
В отремонтированной комнате сосредоточилось все то, что не вписывалось в интерьер дядиной коллекции – компьютерный стол, со всем, чему на нем полагалось быть, машинка для капуччино, радиотелефон, огромный, наворочанный пылесос, не влезающий ни в одну кладовку и телевизор с огромным плоским экраном. Из антикварной обстановки сюда затесался только изогнувшийся ужом комод карельской березы, которому пришлось уступить свое место новой двери. На комоде теснились, заслоняя друг друга, старинные рамочки с фотографиями. Дедушка, бабушка – молодые и такие, какими я их запомнил, мама, отец, элегантно закинувший ногу на ногу; дядя – один и со мной; все мы вместе, Екатерина…. Её фотографию я сердито переставил на компьютерный стол и включил телевизор. «Надо бы поработать», – шепнул внутренний голос, но это было, скорее, «для прессы», потому что работать в таком состоянии невозможно. Настроение испорчено, сознание отравлено.
«Спокойно!», – приказал я сам себе и, порывшись в бумагах, выудил телефонный справочник. Где-то был записан телефон одного знакомого, который хвастал какой-то совершенно немыслимой охранной системой. Я для того и номер записал, чтобы при случае навести справки. Интересно, почему же не навел? Впрочем, тогда ещё жила по соседству Эльвира Борисовна, которая на каждый шорох в подъезде выглядывала в глазок, и была уже установлена гигантская металлическая дверь с несусветно сложным немецким замком, который казался надежней всего на свете…
– Аллё! – крикнул я в трубку, когда гудки на другом конце провода прекратились, и мне ответил женский голос. – Могу я услышать Игоря?
– Игорь уехал в командировку за границу. На пять лет.
– А вы, простите, кто? Его жена?
– Нет, жена с ним. А я сестра. Живу здесь, пока они не вернутся.
– Ах, так…. Ну, простите, до свидания.
Я постучал трубкой по подбородку. Выходит, не такая уж и надежная система охраны, раз Игорь сестру поселил для верности. Черт! У кого же ещё можно узнать про эти проклятые сигнализации? Юрка Семенов связался с милицией, поставил квартиру под охрану и теперь каждый раз отзванивается, когда приходит домой. Мне такое противопоказано. Я забываю все на свете и, рано или поздно, стану похож на Толстовского пастушка. И, когда придут настоящие волки, в милиции решат, что этот придурочный писатель опять забыл отзвониться и махнут на все рукой…. Хотя, наверное, не махнут. И даже, может быть, приедут. Но, раз есть сомнения, значит, останутся и страхи. А мне необходимо избавиться именно от них.
Завести собаку? Но ведь её сначала нужно вырастить, воспитать, да не самому, а с опытным инструктором. Ходить гулять ни свет, ни заря, не забывать про корм…. Господи, да я себя, иной раз, забываю накормить, не то, что собаку! А если она ещё и грызть все начнет? Значит, это тоже не выход.
Нанять охранника? Мне это не по карману. А даже если и было бы по карману, то достаточно вспомнить, что на всякие деньги есть деньги ещё большие. И, когда мою квартиру обчистят, охранник, подлечив на лице и теле бутафорские синяки, поедет, с легкой душой, отдыхать на какой-нибудь экзотический курорт…
Вдруг фамилия, прозвучавшая в телевизоре, привлекла моё внимание. Паневин? Алексей Николаевич? Неужели тот самый собиратель открыток, который играл с дядей в бридж по субботам? Что это там говорят? «Ограблена вдова коллекционера». Вот как. Выходит, он умер уже…. А это сама вдова…. Что это с ней? Почему в больнице?
Я сделал звук погромче.
«… Уже в больнице, придя в себя, Елена Георгиевна сообщила, что грабители искали коллекцию городских гербов, которую собрал её муж. Некоторые гербы из этой коллекции выполнены в виде памятных медалей из драгоценных металлов и камней. По оценкам специалистов, стоимость похищенного составляет…».
Пульт выпал у меня из рук.
– Это знак! – застонал я, хватаясь за голову.
Не может быть, чтобы по простому совпадению, именно сейчас, именно когда я сижу и боюсь ограбления, мне показывают кражу в доме дядиного бывшего приятеля. И, как нагло-то все проделано! Пришли и просто спросили: где? А потом по голове – ба-бах! Хорошо хоть не убили, но шок, больница, унижение…
Я вскочил и забегал по комнате.
Как все это пошло! Может, все-таки, пойти в милицию? А-а, черт! Достаточно посмотреть наши сериалы, чтобы понять, что это дохлый номер. Вот, когда обворуют, тогда они, может быть, и зачешутся. Но я-то к тому времени запросто могу лежать с проломленным черепом!
Проклятье!
От телефонного звонка внутри все упало, точно оборванные жалюзи.
– Сашка, ты где?!
Голос у Екатерины обиженный и негодующий.
– Все уже давно собрались, ждем только тебя! Лешка рвет и мечет…
Вот дьявол!
Я хлопнул себя по лбу. Совсем забыл из-за этих переживаний! Леха Сомов – старый приятель ещё со школы – отмечает сегодня свой день рождения! У нас с ним разница в один день, и раньше мы всегда объединялись для празднований. Но, с тех пор, как Лешка женился, пришлось, как он высокопарно выражался, «разломить хлеб дружбы надвое»…
– Я не приду.
– Почему?
– Работаю.
Екатерина замолчала. «Обиделась, наверное», – мстительно подумал я, но тут трубка загудела Лехиным басом.
– Мерзавец, а мерзавец, тебя сколько можно ждать?
Я тяжело вздохнул и сменил сухой тон на задушевный.
– Леха, брат, я тебя от всей души поздравляю…
– Да мне плевать! Корм стынет, пойло греется, народ ропщет. Старик, мне все труднее и труднее контролировать ситуацию!
– Это потому, что пойло, судя по всему, греется уже в твоем желудке, и давно, – буркнул я.
– А имею право – я именинник.
Леха засопел и сбавил тон.
– Нет, ну ты что, правда, не придешь?
Я вздохнул ещё тяжелее.
– Нет, Леха, не приду.
– А если я тебе этого никогда не прощу?
– Ты так гнусно не поступишь. Ты – друг, а друзья должны прощать и понимать. Я только что примчал от издателя. Тоже, кстати, грозится «не простить». И дома кое-какие проблемы нарисовались…. Короче, Леха, я, правда, от всей души…. Подарок за мной, но… увы…
– И-ех-х-х! – досадливо проскрипел Лешка и отбился.
«К черту все!» – подумал я. Выключил телефон, упал в кресло и запустил компьютер.
Екатерина ласково и печально смотрела на меня из рамки.
– Сама виновата, – сказал я ей и застучал по клавишам.
До поздней ночи велась борьба между мной и книгой. Победила книга. Она никак не хотела писаться. Диалоги получались тяжеловесными, очередная сцена грозила стать затяжной и нудной, а все в целом катастрофически разваливалось.
Наконец, я сдался.
За окном стемнело. По телевизору урчал какой-то слезоточивый фильм, и лифт в подъезде стал хлопать дверью значительно реже.
Пора принимать душ и – спать.
Но, когда я выходил из ванной, те самые первые дядины часы бархатным боем сообщили, что наступила полночь. И мистический ужас снова пополз по всему телу, начинаясь где-то в копчике и стремительно взбираясь вверх, к мозгу.
Время нечисти. Время страха!
За окном, как-то крадучись, проехала машина. Почему она так поздно? Остановилась. Дверь воровато хлопнула…
Я осторожно выглянул и увидел на лавочке, в тускло освещённом дворе, две сумрачные фигуры. А что если они ждут, когда в моих окнах погаснет свет? А потом прокрадутся сюда, вскроют дверь…. Хотя, нет, немецкий замок им не вскрыть. К тому же, я поставил на предохранитель…. Или не поставил?
Пришлось идти, проверять.
Все было в порядке, вот только вид металлической двери вызвал в памяти воспоминание о рабочих, эту дверь устанавливавших. Один из них, на вопрос, насколько дверь надежна, весьма авторитетно заявил, что вскрыть можно любую, было бы время, опыт, да инструмент подходящий…
О-о-о!!!
Я, матерясь, запер вторую дверь. Этак до паранойи дойти недолго!
Решительно вернулся к окну и выглянул, не таясь. Фигуры по-прежнему сидели на скамейке, только теперь они страстно обнимались. «Ну вот, пожалуйста, паранойя в чистом виде! Все, хватит на сегодня страхов! Немного почитаю и спать!».
Раздеваться я, правда, не стал. И свет в бывшей дядиной комнате не погасил. Пусть думают, что пишу. Да и постель стелить не стану – под пледом, на диване, тоже неплохо. Ничего, одну ночку «побомжую», а утром, глядишь, от ночных испугов и следа не останется.
Но до утра было ещё далеко, а страхи, стоило мне погрузиться в дремотную тишину, мгновенно материализовались в виде неясных, подозрительных шорохов из коридора. Я ворочался, скрипел зубами, старательно закрывал глаза, пытаясь удержать сбегающий сон. Но через минуту снова распахивал их, потому что казалось, что в замочной скважине кто-то тихо ковыряется.
В конце концов, сон окончательно сбежал, махнув на меня рукой, и ничего другого не осталось, кроме как лежать, смотреть на знакомые с детства завитки шкафа и предаваться невеселым размышлениям.
В зеркалах под этими завитками уже давно не отражались никакие образы. Может, перебравшись в мои ранние рассказы, они так и остались жить в тех сборниках, в которых их напечатали. А может, теперь, когда я пишу совсем другие книги, они просто затаились, понимая свою ненужность.
«Сашенька, милый, кому сейчас нужны мумии из прошлого? – восклицал издатель, возвращая мне очередную повесть. – У вас же прекрасный язык и стиль. Пишите то, что станут покупать. Я читал ваши статьи в газете – это прекрасно! Чечня, боевые действия, яркие образы…. Это сейчас очень модно, и вам это хорошо удается. Не тратьте время на пустые забавы, напишите что-нибудь героическое, наше…».
Да, Чечня это наше.
После дядиной смерти мне пришлось снова вернуться в N и устроиться в местную газету. Спасибо школьным и студенческим публикациям – взяли без вопросов. А тут война в Чечне. Я сам напросился туда корреспондентом, требуя направить меня только на передовую.
Ясное дело, на мои требования ответили категорическим отказом, и первое время пришлось отираться в каком-то связистском штабе, за несколько километров от Грозного.
Навалился совсем другой мир – страшный, безумный, на первый взгляд, совершенный своей особенной упорядоченностью, но, в то же время, чудовищно бестолковый. Именно благодаря этой бестолковости, мне удалось перебраться поближе к центру военных действий. И началось приобщение.
Сначала, к героическому. Когда, очутившись среди своих, почти что, сверстников, я вдруг почувствовал себя безмозглым щенком в стае матерых волков. Особый язык, особые жесты, образ жизни, ценности и совершенно особенный страх. Он был не тем страхом, который заставляет бежать, сломя голову, подальше от опасности. Этим мальчикам бежать было некуда. Но именно природа этого особенного страха отмежевала меня от них, заставив задуматься о вещах совсем не героических. Что принуждало вчерашних школьников перебарывать свое естество и идти умирать в войне, здравого смысла в которой практически не было? Что они защищали? Родину? Близких? Но такая ли уж страшная беда грозила и родине, и близким от маленькой республики, решившей проявить своеволие? Все страшное вылезло потом, когда война уже была развязана…
В газетах, которые получал отдел по воспитательной работе, я без конца читал статьи, написанные общими фразами, но густо усеянные эпитетами, вроде «героические действия», «интернациональный долг», «бессмертный подвиг». Подробно расписывались зверства местных боевиков, причем, этих самых боевиков тут же, как плевела от зерен, отделяли от «простых» чеченцев. Что подразумевалось под словом «простые», я никогда не понимал, ни в школе, слушая, как учитель истории отделяет «простой» народ от дворян, ни потом, в годы пресловутой перестройки, когда «простых» рабочих опрашивали о способах переустройства России. Но здесь, в Чечне, читая газеты, я начал понимать другое. Все разглагольствования о героизме и бессмертном подвиге служили фиговым листочком и прикрывали вполне конкретные призывы – убивай, подавляй и снова убивай! Ты крутой, ты в касте, ты – не как другие – тебе оказали честь, послав на войну! И тем мальчикам, которых я сначала принял за матерых волков, и в которых потом рассмотрел самый естественный страх перед смертью, было легче думать, что они продолжатели дела отцов, защищавших Родину в годы второй мировой, чем размышлять о том чудовищном, что уже начало ломать их жизни. Ведь возвращаться им придется в мир, который после всего этого, покажется чужим, равнодушным, совсем не нуждающимся в их подвиге.
Я хорошо помню тот мой первый страшный день.
Шел дождь, и убитые лежали на земле, прямо в лужах. Вокруг бегали, ходили, отдавали какие-то приказания, а я стоял и тупо, без слез, смотрел. Может, конечно, слезы и были, но за дождем я их не чувствовал. Просто смотрел и смотрел на безжизненные холмики тел.
Было дико.
Господи, я же столько раз об этом читал, но чтобы так страшно…. Ещё вчера, вот только вчера, они пили какую-то дрянь из кружек, матерились, толкались локтями и ржали наш пошлостями, как дикари. А теперь лежат в лужах, и им все равно.
Те, кто выжил, сидели поодаль. Они не курили нервно, не сплевывали сквозь зубы, утирая скупые мужские слезы, не бились в истерике. Просто сидели…. Не вместе…. Каждый, как изумленный странник, выброшенный на незнакомый берег и ушедший глубоко в себя. И тогда я понял, что, все-таки, они – каста. Каста людей, которые ещё вчера были единым, живым организмом, связанным невидимыми нервами. А теперь в этом организме зияют дыры, вырванные по-живому. И нужно время, чтобы кровоточащие обрывки зажили, протянулись сквозь эти дыры и срослись снова. Но срастутся ли они там, где умение убивать и выживать не так уж и нужно; где их нынешний, покалеченный, выведенный болтунами-политиками живой организм должен будет сам собой развалиться. И где на каждый кровоточащий разрыв будет солью сыпаться обычная мирная жизнь?
Мне стало горько.
Из Чечни возвращался в подавленном состоянии. Со мной вместе ездил Вовка Плескарев – щуплый и плешивый карьерист, который всю командировку проторчал при штабе связистов от ФАПСИ, считая, что их лучше охраняют. В самолете он радостно потирал мелкие бабские ручки – «Санек, я материальчик насобирал – пальчики оближешь!». А я смотрел на него и думал, что, если напишу о своем, то мне эти самые пальчики попросту оборвут. Потому что правда не нужна никому. Потому что все мы живем по законам того же самого страха, который не гонит дальше от опасности, а чтобы было не так страшно, заставляет надевать розовые очки. Сквозь эту «защиту», как в зеркале тролля из «Снежной королевы», безобразное кажется прекрасным, а истина кривляется и корчит рожи. И всем делается очень удобно читать и разглагольствовать о героизме и подвиге, потому что в этом одна только гордость и никакого унижения.
Но мне-то, что было делать?!
С потерей иллюзий, становилось совершенно невозможно восхвалять действительно героическое. За истинный подвиг было обидно – этот бы духовный потенциал, да на мирную жизнь, глядишь, она бы стала и лучше и чище. Но совсем горько делалось за другие подвиги, те, что были обусловлены нерадивостью командиров, самодурством какого-нибудь упертого «чина», неразберихой, или халатностью.
Господи, думал я, да на кой черт матери рыжеватенького парня, которого прозвали Вологдой за то, что, отправляя письма, он всегда напевал: «Где же моя ненаглядная, где?…», знать, что её сын «пал смертью героя»?! Уж лучше бы он тихо и незаметно, но жил. К тому же, о каком героизме может идти речь, если хмельной офицер перед перегоном попросту забыл одеть положенный по уставу бронежилет. Опомнился только в БТРе и снял его с Вологды – «вдруг командование какое…». А когда напали, в неразберихе обстрела как-то забыл об этом обстоятельстве, крича на Вологду и подгоняя его пистолетом к смертоносному люку. Убитому рыженькому мальчику теперь наплевать, что офицеру объявили взыскание. Кто знает, может быть, вырвавшись из пробитой груди, душа Вологды облегченно вздохнула, что покидает этот сумасшедший, несправедливый мир…
Напиши я о таком, вот бы вой поднялся! «Клевета! Поклеп! Ты не гражданин! Тебя послали писать правду, а ты увидел только худшее, и из единичного вывел целую систему!». Нет уж, будь добр, засунь свою облезлую голову в песок и яви всем задницу, на которой перья краше. И никого не взволнует, что из этой задницы может вылезти только дерьмо…
Вернувшись домой, я сразу побежал к знакомой врачихе, оттащил ей пакет с щедрым подношением, взял больничный аж на неделю, и все семь дней терзал «Олимпию», печатая, как сумасшедший. Было ясно, что в редакции с меня сразу начнут требовать статью или серию очерков, но писать их не хотелось. По крайней мере, вот так, сразу. Важно было излить на бумаге ещё живое, свежее ВПЕЧАТЛЕНИЕ. Поэтому я писал, писал и писал все без разбора, без «художественного оформления» в связные абзацы. Хотелось передать двойственность ощущений так, чтобы не обидеть, не принизить памяти павших и силу духа выживших. Но, в то же время, не возносить на заоблачный постамент то, чему в нормальной человеческой жизни вообще не должно быть места.
В конце концов, из хаоса семидневных размышлений родилась и статья, и серия очерков, которые можно было предъявить в редакции. В них фиговый листочек патриотизма получился достаточно прозрачным, и нестандартные публикации вызвали немало толков. Пришлось даже ходить объяснять свою гражданскую позицию на «самый верх». Но журналистика учит многому. На тоскливое замечание управленца по печати о том, что «раньше он бы меня за такое посадил», я успешно отболтался, перевернув собственные мысли с ног на голову, отчего они стали более «понятны и приемлемы». Был милостиво отпущен и даже стяжал славу в определенных прогрессивных кругах. Тогда-то мой издатель и посоветовал писать «про наше».
А тут ещё и Лешка Сомов – друг закадычный – забежал как-то «на огонек», и, пока я возился на кухне, нагло сунул нос в мои Чеченские наброски. «Старик! – орал он потом, роняя изо рта куски непрожеванной колбасы, – Это же класс! Твои статьи, по сравнению с этим, просто какой-то советский партийный доклад! Ты гад, если не напишешь книгу! Все эти „Слепые“, „Косые“, не знаю там, „Сопливые“, – одна туфта! Базарной мафии и в жизни завались. А вот чтобы герой – человек из тех, что ещё не сбились в собачью стаю. С умом, с душой, со свежим взглядом – этого, брат, не хватает. По этому давно уже душа скучает. А у тебя такой материал! Пиши!».
И я вдруг загорелся.
О Чечне писать не хотел. На то были две причины. Во-первых, только ленивый тогда к этой теме не приложился, а во-вторых, существовала опасность «увязнуть» в своих размышлениях и далеко уйти от идеи.
А идея родилась сразу.
Мой герой – собиратель старинного оружия – в поисках сабли генерала Муравьева, едет на Кавказ, где, роясь в событиях дней прошедших, вдруг совершенно по-новому начинает видеть события дня сегодняшнего. При этом, главной задачей было избежать нравоучительных параллелей и однозначных выводов. Книга не должна была задавать вопросы и отвечать на них. Просто толчок к размышлению – какими мы становимся, и такие ли мы на самом деле?
Героя я сначала хотел назвать в честь дяди, но потом передумал. Василий Львович оружие не любил и никогда его не собирал. Он считал, что человечество много потеряло, растрачивая свои мозги на его совершенствование. Но меня старинные клинки всегда завораживали. Ружья – не так, а вот мечи, сабли, шпаги приводили в какой-то священный трепет своими изяществом и отточенной красотой…. Поэтому герой стал зваться Николаем Лекомцевым, который, как и я, писал книги на исторические сюжеты. Волею судеб, он оказывался втянутым в военные действия, где его романтическая душа познавала все – и медные трубы бессмысленного подвига, и озлобленность, и превращение в матерого зверя, когда накопленная жестокость достигает такого уровня, за которым Личность пожирается…. Но Человек все же возобладал. Мучительно и болезненно, он пробился сквозь все наносное, израненный сомнениями, но обновленный. И опорой в этом возрождении стал для него тот роман о генерале Муравьеве, который он не переставал сочинять даже тогда, когда все это казалось ненужным и бессмысленным. Он словно чувствовал, что спасется только если не выпустит из мыслей образы других людей. Которые жили, когда понятия о чести и долге были не просто понятиями, а нормой жизни, привитой воспитанием всего того поколения; когда духовными наставниками были воистину великие, а благородство духа ещё не смешивали с наивностью.
Я был счастлив, пока писал все это. Слегка, конечно, побаивался, что меня сочтут идеалистом, но жесткость стиля, и самое главное, глубокая собственная прочувствованность всех духовных блужданий Николая Лекомцева, не оставили в книге ничего такого, к чему можно было бы прицепиться и сказать: «Э-э, батенька, вы о чем-то не том мечтаете. Не жилец ваш герой в нашем времени».
– Знаете, Александр, очень неплохо, – сказал издатель, когда я, пытаясь скрыть волнение, пришел к нему за приговором своей книге. – Это ход с романом в романе, хоть и не нов, но у вас очень уместен. Ожесточаясь, ваш герой пытается ожесточить и своих персонажей, но не может. Хорошо прочитывается обратный процесс – персонажи сами воздействуют на своего создателя, возвращая ему человеческое достоинство. Это звучит. И стиль неплох, хотя, местами, очень уж жестко. Зато дает пищу для размышлений…. В общем, думаю, это пойдет…
Книга разошлась быстро. Даже была переиздана и привлекла внимание солидных столичных издательств. А потом…. Потом от меня потребовали продолжения темы.
– Видишь, это продается! – стучал по обложке издатель. – Ты не должен почивать на лаврах. Распахивай пашню, пока с неё клюют! Пусть твой Лекомцев поищет что-нибудь ещё. Тема войны исчерпана, но в жизни много острых моментов. Поройся в своих исторических рассказах, что там с чем современным можно увязать, и – вперед! Я жду тебя с новым романом…
Даже не знаю, почему тогда я на все это повелся? Может, действительно возомнил, что могу воздействовать на духовное развитие читателей? Или обрадовался возможности вернуться к любимому копанию в истории? Но, скорей всего, произошло самое банальное – успех вскружил голову. И, вместо того, чтобы собраться с мыслями и восстановить выпотрошенную душу для нового романа – совсем другого, но такого же прочувствованного, как первый, где нет ни одной случайной, не обдуманной десятки раз мысли – я сел писать приключенческий сериал. Писал очень быстро, (коньюктура задержек не терпит), не замечая, как, от тома к тому, пустеют мои книги…
Черт! Что там такое?!
Внезапно, на площадке хлопнула дверца лифта!
Время – половина второго ночи.
Я слетел с дивана и, в несколько прыжков, подскочил к двери.
Никого. Хотя, лифт остановился на моем этаже, я это прекрасно слышал.
Глазок давал достаточно широкий обзор, но «мертвые зоны» были. И именно у самой двери, по краям.
Извиваясь и так, и этак, я пытался увидеть хотя бы плечо, или бок того, кто мог затаиться. Но никого не было. В таком случае, интересно, куда мог деться тот, кто приехал?
Пробежала подъездная кошка, заставив меня вздрогнуть. Кто-то её спугнул! Бежала она снизу… Может, лифт, все же, остановился там? В квартире подо мной живет семья…. Их дочь уже достаточно повзрослела, чтобы иметь кавалера. Что если, они там сейчас целуются вовсю, а я тут стою, как дурак, с босыми ногами, по которым нещадно дует, и боюсь лишний раз вздохнуть, чтобы не пропустить ни малейшего шороха!
Я нарочито громко чертыхнулся и пошел обратно.
Только ближе к утру, когда по всему подъезду захлопали двери квартир, и лифт неустанно грохотал то в одну сторону, то в другую, развозя уезжающих на работу соседей, сон милостиво вернулся ко мне, выключив действительность, как переработавшую лампу.
Я проспал до самого обеда. Проснулся и удивился, что никто до сих пор не позвонил. Потом вспомнил про отключенный телефон, порадовался этому обстоятельству – по крайней мере, никто не мешал – умылся и позвонил Екатерине, чтобы узнать, не искал ли меня кто-либо.
Оказалось, никто не искал, и она, кстати, тоже. Но заявлено это было таким тоном, по которому я сразу догадался, что Екатерина звонила за утро миллион раз и теперь дуется за то, что я был в отключке. Спросила, не без ехидства, как работалось, но, видимо, что-то в моем тоне её разжалобило, потому что, после короткой паузы, явно борясь с желанием подуться ещё, Екатерина все же спросила, не зайти ли ей вечером, и не купить ли что-нибудь на ужин?
– Конечно, приходи! – завопил я, радуясь, что не придется коротать в одиночестве ещё одну ночь. – Даже еду можешь не тащить – найдем что-нибудь в запасах ко дню рождения.
Екатерину такая страстность приятно удивила – уже давно я не радовался сообщениям о её приходе так, как в первые дни знакомства. Велела ждать её часам к семи. Однако, уже в шесть, искренне огорченная, перезвонила, чтобы отменить визит. Редактор журнала «Светская тусовка», в котором Екатерина с некоторого времени вынуждена была работать, отправил её освещать какое-то сборище в ночном клубе.
– Ты что, раньше об этом не знала? – обиделся я
– Не знала! Ещё вчера говорили, что обещанный попсовый звездун из Москвы к нам не приедет. А сегодня после обеда позвонили и осчастливили – приедет, и даже с приватным концертом. Но вечером желает непременно оттянуться с местными фанатами.
– А разве перед концертом спать не полагается? – зло спросил я.
– За них фонограмма спит, – вздохнула Екатерина. – Думаешь, мне очень хочется туда идти? Я весь сценарий наизусть знаю…
– Так возьми, по-быстрому, интервью и смывайся.
– Не могу. Бумбокс велел обязательно дождаться, когда этот звездун напьется до поросячьего визга, и сделать, как он выразился, «папарационные снимки». Он мне за них золотые горы обещал. Этот звездун петь не умеет, но зато скандалит талантливо…
Я сердито молчал. Бумбокс редактор суровый. Сказал, значит, надо делать. А Екатерина всегда была добросовестной, даже в том, к чему душа не лежала.
– Саш, ну что ты молчишь? – взмолилась она. – Скажи что-нибудь.
– Что тут скажешь? Тусуйся, – буркнул я и бросил трубку.
Моего раздраженного состояния испугалась даже книга. Глава, которая целый день капризничала и упрямилась, вдруг сложилась, заговорила коротко и ясно, и Николай Лекомцев смог, наконец, достойно и логично выпутаться из одной ситуации и создать предпосылки для другой.
Я так разошелся, что отстучал даже главу с историческим отступлением, благо необходимый материал был заготовлен уже давно. Но дальше этого дело не пошло. Книга снова заупрямилась, считая, видимо, что достаточно меня побаловала.
Повозившись ещё немного, я кое-как затащил своего героя в начало следующей главы, а потом, махнув на все рукой, сдался. Шел первый час следующего дня. Спать не хотелось. Пощелкал пультом и очень удивился, обнаружив на одном из каналов совершенно детский фильм. Потом посмотрел что-то, якобы эротическое, где, далеко не юная пара, ласкала друг друга с тем же пылом, с каким наемные рабочие отделывают чужую квартиру. Пришлось на все это плюнуть и идти в ванную.
Воды не было.
Часы пробили два.
Вспомнилось, вдруг, что уже наступил мой день рождения. И почему-то стало ужасно тоскливо. Гостей сегодня не намечалось. Друзей я давно предупредил, что не в финансовом состоянии закатывать банкеты, как большие, так и маленькие, хотя и прикупил, на всякий случай, кое-какую снедь. Но право поздравить самого себя уже имею. Поэтому пошел на кухню, достал заготовленную бутылку водки и напился. Пошловато, конечно, зато вчерашние страхи перестали мучить…
Заснул я около пяти, а уже в девять мой издатель сорвал меня с дивана звонком с поздравлениями и расспросами о книге.
Так что, нет ничего удивительного в том, что свое тридцатипятилетие я встретил заклеивая лицо, которое порезал дядиной антикварной бритвой и собственной похмельной, непроспавшейся рукой.
Вот в этот-то момент в дверь и позвонили. Причем, так уверенно и настырно, что я, то ли по старой привычке, когда ничего не боялся, то ли убежденный, что пришла Екатерина, распахнул её, даже не спрашивая, кто там и что хочет.
На пороге стоял совершенно незнакомый мужчина со странным блеском в глазах, в нелепой, несвежей одежде, и застенчиво улыбался.
– Здравствуйте…. Простите, вы Александр Сергеевич Широков?
– Да.
– Тогда, ещё раз, здравствуйте. А я – Николай Гольданцев.
Глава вторая. Гольданцев
– Кто, кто? – переспросил я, хотя прекрасно расслышал и сразу понял, кто именно ко мне пришел.
– Гольданцев. Николай, – повторил мужчина. – Ваш дядя и мой отец – Олег Александрович – были когда-то очень дружны.
– Ах, да…
Я потер лоб рукой, соображая, что же теперь делать?
В предсмертном дядином письме ясно было сказано – гнать в шею. Но, как, скажите на милость, прогнать человека, который, хоть и выглядит не совсем приятно, все же кажется вполне безобидным и ничего плохого пока не сделал?
– Вы по какому-то делу? – промямлил я, чтобы заполнить неудобную паузу.
– Да! – с жаром воскликнул Гольданцев. – И, поверьте, Александр Сергеевич, это дело заинтересует вас чрезвычайно!
– М-да?..
Я недоверчиво усмехнулся, все ещё надеясь, что удастся как-нибудь выполнить дядину волю. Но тут нежданный гость выложил свой главный козырь.
– Слышали, что случилось с Паневиной? Вам ведь тоже нужно обезопасить свою квартиру? А я знаю способ, надежней которого нет ничего на свете.
И, видимо для того, чтобы пресечь мои возможные отнекивания, выставил перед собой, как щит, пресловутый номер журнала «Мой дом».
Поколебавшись ещё мгновение, я отступил.
– Проходите.
Мужчина юрко перемахнул через порог и сам запер за собой дверь.
В комнатах он со знанием дела осмотрелся, прищелкнул языком.
– У вас здесь красиво!
Причем, прозвучало это так, словно он, лишний раз, желал напомнить, что мне есть о чем волноваться.
Я собрал с кресла раскиданные на нем вещи и предложил Гольданцеву сесть. Однако, сам садиться не стал – тоже давал понять, что на глупости тратить время не намерен, как не намерен затягивать беседу вообще. Однако Гольданцев мой маневр проигнорировал. Молча и неторопливо вытащил из кармана потрепанное портмоне, выложил его на стол, а затем, удовлетворенно откинувшись в кресле, почти приказал:
– Возьмите.
Я удивленно поднял брови.
– Не понял.
– Возьмите портмоне. И, если вам это удастся, я немедленно поднимусь и уйду.
Пожав плечами, я подошел к столу, протянул руку и… Моя ладонь легла на столешницу рядом с портмоне, даже не коснувшись его.
– Попробуйте ещё раз!
Гольданцев подался вперед, и блеск в его глазах сделался совершенно безумным.
Озадаченный, я поднял руку, сосредоточился и… Ладонь снова оказалась лежащей на столешнице.
– Ещё! – почти взвизгнул Гольданцев.
Меня покоробила такая экзальтация, но интерес уже появился. Решив изменить тактику, я провел рукой по столешнице, намереваясь захватить портмоне. Но каким-то непостижимым образом рука изменила траекторию движения, а пальцы сами собой сжались в кулак и благополучно миновали проклятую вещицу. При этом, сам я не чувствовал ровным счетом ничего. Все происходило абсолютно естественно, как если бы я хотел поступить именно так, и никак иначе.
– Это что, гипноз какой-то?
Гольданцев озадаченно посмотрел на меня.
– А правда.., как-то не подумал. Давайте-ка, для чистоты эксперимента, я отойду к окну и отвернусь. А вы попробуйте взять портмоне ещё раз.
Он одним скользким движением очутился у окна, стал ко мне спиной и даже прикрылся ладонями, как шорами.
Портмоне лежало на столе, но взять его я все равно не смог. Даже с пятой попытки, когда решил помочь себе другой рукой. Вещь явно была чем-то защищена. И ради такой защиты я готов был слушать этого Гольданцева, что бы он ни начал говорить. Слова из дядиного письма на короткое мгновение предостерегающе вспыхнули в памяти, но было уже поздно.
– Возвращайтесь, – сказал я обреченно. – И объясните, наконец, что все это значит.
– Сейчас объясню.
Гольданцев возвратился в кресло, сгреб со стола портмоне и сунул его обратно в карман.
– Все очень просто, – начал, было, он, но вдруг замолчал и коротко засмеялся. – Удачное вышло начало, да? Совсем, как Воланд. Помните, так он начал свой рассказ про Понтия Пилата. И это очень знаменательно Я ведь тоже хочу увести вас в далекие дебри Римской истории. Только не к Пилату, а к императору Марку Аврелию. Это имя что-нибудь говорит?
Я пожал плечами. Конечно, имя Марка Аврелия совсем незнакомым не было, но, спроси меня сейчас Гольданцев, в каком веке он жил, и чем особенным прославился, я бы, пожалуй, не ответил. Однако неучем выглядеть не хотелось, поэтому я напустил на себя многозначительный вид и важно ответил:
– Кое-что говорит, но я не понимаю, какое отношение…
– Сейчас, сейчас, – перебил Гольданцев. – Вы не слишком удивляйтесь такому моему вступлению. В наши дни каждый подросток, изучивший досконально устройство компьютера, или любого другого сложного инструмента, уже считает себя умнее и цивилизованнее любого древнего грека, египтянина или римлянина. Я уж не говорю об ацтеках и майя. Но похвастать доскональным знанием того, как устроен в полном объеме сам человек, сейчас, боюсь, не может никто. Повторяю, именно в полном объеме. Об этом ведает лишь та высшая сила, которая человека создала. А, древние, были к истокам создания гораздо ближе, чем мы, следовательно, знали то, о чем нам уже никогда не узнать, потому что безалаберны и не в том направлении развиваемся. О-о! Я уверен, древние цивилизации знали ответы на все таинственные загадки сегодняшнего дня! И истоки моего фокуса с портмоне тоже лежат в далеких временах. Именно в тех, когда правил Марк Аврелий!
Почему-то принято думать, что, кроме войн с варварами, гонений на христиан и гладиаторских боев, ничего примечательного тогда больше не было. Расхожее мнение обывателя – ах, как все ужасно – сторонников Иисуса Христа отдают на пожрание диким зверям, ставят вдоль дорог распятия и копья, с насаженными на них головами варваров, и гладиаторы кромсают друг друга на потеху ленивых патрициев… Между прочим, вот вам и ещё одно заблуждение: считается, что несчастных гладиаторов содержали в ужасных условиях, как рабов. Но ведь хороший гладиатор стоил баснословно дорого. А победитель – ещё дороже, потому что, своими победами, прославлял имя владельца. Такого гладиатора император мог даже отпустить на свободу, заплатив, разумеется, его хозяину огромный выкуп. Кто же станет заведомо губить целое состояние? Нет, их опекали, берегли и заботливо лечили после ранений… Вам имя Гален знакомо?
– Нет. Кроме Спартака…
– Я так и думал! Но Гален не был гладиатором. Он был врач. Леонардо да Винчи от медицины! Многое для своей практики он почерпнул из опыта более древних народов, но многое открыл и сам, именно тогда, когда лечил гладиаторов. Это был величайший гений всех времен и народов, высокомерно и несправедливо забытый нашим напыщенным веком. А зря. Все почему-то помнят Гиппократа за его оригинальное учение о четырех стихиях организма, но, во-первых, учение это не является открытием одного лишь Гиппократа, а во-вторых, Гален во многом превзошел его, и как практик, и как теоретик.
Конечно, были и у него заблуждения – у кого их нет. Но одно ошибочное мнение о том, что центром кровообращения является печень, не может перевесить всего остального. В постижении нематериальных сил, присущих человеку, ему нет равных! Гален вывел теорию Души человеческой. И, может быть в награду за кропотливость и благородную честность, Творец позволил ему продвинуться ещё дальше!
Вы только, пожалуйста, не перебивайте меня и наберитесь терпения выслушать все, что я имею сказать. Поверьте, учение Галена имеет самое прямое отношение к нашей встрече. Не зная его, вы не сможете оценить всей мощи того, что я вам предлагаю, и всей надежности защиты, которую получит ваша квартира, если вы, конечно, решитесь эту защиту принять.
– Да я, в общем-то, и не перебиваю.., не собирался.., – забормотал я, чувствуя некоторую тревогу в душе от этих последних слов.
– И правильно! Это только для красного словца говорят, будто познание увеличивает скорбь. Как будто глупцы не скорбят! Будь так, не стоило бы учиться вообще. Нет, знания вредны лишь тогда, когда их бездумно накапливают, и от познания отличаются тем, что остаются без выводов. Умеющему делать выводы из познанного скорбеть не о чем. А вам даже выводы делать не придется – я все принес на блюдечке, в готовом виде.
Итак, вернемся к Галену.
Свое учение о Душе и теле он начал, опираясь на опыт древних греков. Те тоже делали попытки разобраться, из чего же все это состоит. И, кстати, вывели интересные теории. Например, о «гомоймерах» – невидимых частицах, упоминания о которых можно найти, в основном, у атомистов, таких, как Эмпидокл и Анаксагор. Между прочим, именно у атомиста Анаксимандра уже встречаются определения четырех основных стихий – земле, воде, огне и воздухе, которые правят миром. И из вражды или любви «гомоймеров» этих четырех стихий получаются различные организмы.
Затем, у Гиппократа, в его знаменитой работе «О природе человека» мы находим упоминания о четырех главнейших жидкостях тела – кровь, слизь и желчь, желтая и черная., качества которых он сопоставляет с качествами четырех стихий, то есть, с теплом, влагой, холодом и сухостью.
И, наконец, Гален. Под видом комментирования книги Гиппократа, он излагает собственную теорию о четырех соках тела и уравнивает их с известными типами темпераментом. Так, кровь – это сангвиник, слизь – флегматик, черная желчь – меланхолик, и желтая – холерик. И зависит тот или иной темперамент именно от преобладания в организме того «сока», которому он соответствует!
Между прочим, не могу не упомянуть, что в четырнадцатом веке Арнольд из Виллановы написал, на основе этой работы Галена, бесподобный стихотворный труд – «Салернский кодекс здоровья», где дал очень точные медицинские и психологические характеристики всем этим темпераментам. Жаль, что я не помню ничего наизусть – там есть великолепные образные сравнения! Впрочем, это довольно известный документ. При желании, вы всегда сможете его найти…
Ну, а теперь главное! То, что, почему-то считают ещё одним заблуждением Галена.
Мировая пневма!
Вы о таком, конечно же, не слышали, да?
– Не слышал, – вяло ответил я, чувствуя, что вот-вот засну.
– Естественно! – усмехнулся Гольданцев. – Кому нужно учение о духе, гуляющем по телу! Наука ведь бросила нам, как кость, уступку, что, дескать, да, Душа есть. У каждого, вроде бы, своя, но, где находится – неизвестно, откуда берется – непонятно, есть – и черт с ней! А Гален твердо знал, что организм, вдыхая пневму, (которая и есть сама Жизнь), пропускает её, как сквозь фильтры, через все основные «соки», через органы, включающие в себя качества четырех стихий, и получается Душа Человеческая, не больше и не меньше! А уж, какая она будет, напрямую зависит от доминирующей стихии, и от преобладания того или иного «сока»!
Тут недавно, в одной передаче, как сенсацию, преподнесли новость об открытии у нас в носу пазухи, которая выделяет и улавливает тончайшие флюиды, (или, по-гречески, «гомоймеры»), благодаря которым мы начинаем вдруг испытывать к незнакомому человеку, или симпатию, или антипатию. Да и сами внушаем разным людям разное к себе отношение. Ха! Хороша сенсация! Да Гален об этих носовых «гомоймерах» давно знал! И не просто знал, но умел ВЫДЕЛЯТЬ! А? Каково?! Вас это впечатляет?
– Вообще-то не очень, – признался я, все более отчаиваясь услышать разгадку фокуса с портмоне.
– Вот как, – Гольданцев презрительно сощурился. – А если я вам скажу, что Гален, живший во втором веке нашей эры, делал трепанацию черепа и снимал катаракту с глаза, это вас впечатлит?
– Ну, это.., это, пожалуй, да…
– Ага! Значит, то, что древнеримский врач делал сложные операции, (известные ещё, кстати, и майя, и ацтекам), вас впечатляет. А то, что он выделял из организма секреты, о которых современная наука до сих пор не имеет представления – это нет!
– Я не специалист.
– Но на трепанацию черепа вы – не специалист – все же отреагировали, – обиделся Гольданцев. – А все потому, что мы, почему-то, страшно боимся высунуть нос за шоры, которые навесила на нас традиционная наука. Мой отец всю жизнь от этого страдал, и не раз говорил, что мы сами себя боимся, за что и растеряли то, что имели! А вот Гален никого не боялся. Он искал! И потому находил! И щедро делился с человечеством своими находками. Четыреста трактатов! Вы только представьте себе. И это при том, что он ещё и практиковал! До нас, к сожалению, дошло только сто пятьдесят, но даже их содержание бесценно. А то, что не дошло? У меня сердце останавливается при мысли о том, что мы потеряли…
– Послушайте, – не выдержал я, – все это, конечно, очень интересно и поучительно. И я, кстати, терпеливо слушаю уже целый час. Но хотелось бы все же узнать, с чем конкретно вы пришли. Я человек занятой. У меня в работе новая книга. Издатель торопит… Нельзя ли немного сократить вашу лекцию и поговорить более предметно?
Гольданцев посмотрел на меня почти с ненавистью.
– Более предметно? – процедил он, сквозь зубы. – Жаль. Я надеялся найти в вас союзника, но… Ладно, как хотите. Расскажу вам простенькую историю из недавнего прошлого.
Чуть более двадцати лет назад три коллекционера собрались поиграть в бридж и ждали четвертого – не коллекционера, но сочувствующего. Этот четвертый вскоре пришел и выложил на стол старинную книгу Венсану де Бове «Зеркало природы». У одного из игроков, а именно, у моего отца – Олега Александровича Гольданцева – глаза полезли на лоб при виде такой редкости. Издание было прижизненным, а де Бове жил в тринадцатом веке!
Но чудеса на этом не кончились.
Сочувствующий, не кто иной, как Довгер Соломон Ильич, раскрыл перед обалдевшими коллекционерами титульный лист, на котором красовался экслибрис Франсуа Фернеля, а потом ещё и достал, заверенный экспертами, акт о том, что и пометки на полях книги сделаны рукой этого французского ученого, (кстати, большого поклонника Галена).
Но и это ещё не все!
Взяв перочинный нож, Довгер безжалостно поддел слишком толстую обложку книги, она распалась на две части, и стало ясно, что бесценная древность была, по совместительству, ещё и ларцом. А в нем находились.., угадайте, что? Пергаментные листки, исписанные латынью!
Я не удержался и фыркнул.
– Не иначе, рукописи самого Галена.
– А вы не верите? – ничуть не смутился Гольданцев. – И правильно. В такое трудно поверить. Я бы тоже посмеялся, если б не знал много больше, чем вы. Но я знаю, а потому не смеюсь.
– Естественно…
Я даже не пытался скрыть усмешку в голосе, начиная понимать, что вижу перед собой полубезумного шарлатана.
– Я потратил половину своего утра, слушая о том, чего не знаю, но в чем вы чрезвычайно сведущи…
Было ужасно обидно, и за бездарно начавшийся день рождения, и за потраченное попусту время, и за рухнувшую надежду на какую-то волшебную защиту. Я решительно встал, намереваясь выставить посетителя за дверь. Однако Гольданцев смотрел на меня с таким бешенством, что сразу предложить ему убраться, у меня духу не хватило. Кто знает, как с этими безумцами надо обращаться? Может, ласково пообещать встретиться в другой раз?
– Вы типичный представитель человечества, – процедил сквозь зубы Гольданцев. – Готовы затянуть троянского коня в свое сознание, не заглядывая ему внутрь. И, ради Бога, не стану мешать…
Он осмотрелся вокруг, ища что-то глазами.
– Дайте мне вещь, которую не жалко… Вот, хоть эту газету…
Не дожидаясь разрешения, Гольданцев схватил со стола программку на неделю, вынул из нагрудного кармана маленький пузырек с распылителем, и несколько раз брызнул содержимым пузырька на печатные листки.
– Вот вам ещё один фокус. Держите.
Он протянул мне газету, которую я, скорее инстинктивно, чем осознанно, взял… Но уже в следующую минуту до сознания дошло, что в руке ничего нет! Неужели, промахнулся из-за досады на этого психа?!
Но «псих» усмехался так, словно я и не мог взять у него газету… Он даже руки не опустил, и продолжал держать чертову программку, уверенный на все сто в моем бессилии. Ладно, попробуем ещё…
Не сводя сердитого взора с лица Гольданцева, я медленно, почти прицельно, потянулся за газетой…
– Черт! – вырвалось у меня через секунду. – Черт! Черт! Черт! Это фокус.., гипноз.., воздействие на сознание…
– Как бы не так, – зловещё прошептал Гольданцев. – Хотите, ещё на что-нибудь брызну? Только потом вы никогда уже эту вещь взять не сможете. Даже если приведете сюда десяток гипнотизеров… Они, кстати, тоже не смогут… И никто, кроме меня…
Он победно потряс пузырьком. И я, оглушенный, потрясенный, раздавленный, не мог не спросить:
– Что у вас там?
Гольданцев усмехнулся.
– Называйте, как хотите, но, думаю, лучше всего подошло бы словосочетание «концентрированная совесть».
Глава третья. Всего так много, что лучше не разбираться
Знаете, сочиняя свои книги, я очень часто подводил героев к моменту, когда нужно было выбирать – сделать так, или иначе. И они всегда прозорливо угадывали единственно верное решение, даже если, на первый взгляд, оно и казалось абсурдным. Вы скажете: «А как иначе? Ты же сам придумал и события, и поступки, и наперед знал, какое решение будет верным». Все так. Но, почему же тогда, вложив в меня умение сочинять за других, тот, кто придумывает повесть моей жизни, оказался так жесток? Почему, в момент, когда ещё можно было остановиться, мне не был брошен спасительный канат разума?
Или его, все-таки, бросили, а я сам, вопреки воле пишущего обо мне, не захотел за него ухватиться?
Да, наверное, так.
Просто всегда хочется найти виноватого, чтобы доказать всем, (а, в первую очередь, самому себе), что ты не мог поступить неправильно. Что обстоятельства, чья-то злая воля, а лучше всего, просто Судьба, не дали возможности сделать выбор такой, какой нужно. Ведь так не хочется выглядеть и чувствовать себя болваном, особенно тогда, когда ты именно болван и есть!
В ту минуту, пялясь на треклятый пузырек, вспомнил же я, как вспоминает тонущий о забытом круге, про дядину странную смерть, про его предостережение, про смерть Гольданцева-старшего… Но ведь этот, крайне неприятный Николай, копаясь в тех же губительных тайнах, стоял сейчас передо мной живой и здоровый. К тому же, сам я ни о какой тайне ещё не узнал. Могу лишь догадываться, что в тех, сказочно появившихся рукописях Галена, содержались рецепты содержимого для таких вот пузырьков. Вероятно, Олег Александрович и мой дядя решили испробовать чудодейственные составы на себе, за что и поплатились. Но я-то на себе ничего пробовать не собираюсь! Я только поставлю защиту от воров, и все! Не мог же дядя, в конце концов, предвидеть, что сложится такая ситуация, при которой помощь младшего Гольданцева станет мне просто необходима, хотя бы ради возможности спокойно жить и работать дальше… Не мучай меня идиотские, постыдные страхи, разве стал бы я слушать этого Николая? Нет, конечно! Я бы послушно выполнил волю Василия Львовича и захлопнул бы дверь перед носом безумного посетителя.
Но сейчас Гольданцев был совершенно необходим!
Пусть сделает такой же пузырек и мне, а потом мы простимся, как люди, случайно сведенные Судьбой.
Нет, я, конечно, заплачу ему за работу, даже если придется влезть в долги. И позволю звонить, интересоваться, как долго и надежно держится защита, в том случае, если ему будет нужна такая информация. Но попытки к дальнейшему сближению решительно пресеку. Таким образом, убью сразу двух зайцев – и от страхов избавлюсь, и дядину волю не нарушу. И роковая тайна так и не сможет заразить меня дурной болезнью!
Решение это показалось единственно верным, очень разумным, и, воспрянув духом, я, для пущей важности, пожал плечами и небрежно произнес:
– Занятно. «Концентрированная совесть» – это, знаете ли… Открывает большие перспективы… Как я понял, в этом пузырьке жидкость с вашей, так сказать, совестью, а, если бы была с моей…
– Ничего вы не поняли, – буркнул Гольданцев. – А все потому, что не пожелали выслушать теорию. В этом пузырьке, во-первых, газ. А во-вторых, он представляет собой сложнейшее сочетание «гомоймеров» мировой пневмы и моих основных соков. Говоря понятным вам языком, я плюнул, высморкался и надрезал себе палец. Потом смешал все это с землей, с водой, подул и подогрел… Боюсь, вы опять не поверите, но этих действий вполне хватило, чтобы создать некую субстанцию, которую я назвал не слишком оригинально – эликсир – и она теперь воздействует на человеческое подсознание так, что любой начинает особенно остро понимать – это чужое, брать нельзя…
– Между прочим, у меня в голове ничего подобного не было, когда я не смог взять ваше портмоне и свою, между прочим, газету.
– Вы снова не желаете слушать. Я сказал «подсознание», а не «сознание». Это разные, между прочим, вещи, – передразнил Гольданцев. – Как только эликсир попал на вашу газету, она автоматически стала моей, потому что эликсир составлен на моей основе. Будет создан на вашей, и уже я ничего не смогу взять, даже собственные, пардон, трусы, если вам вздумается брызнуть на них своей «концентрацией совести».
Я пропустил мимо ушей последнее замечание и качнул головой в сторону пузырька.
– Что же нужно для создания моего эликсира?
Гольданцев пристально посмотрел на меня.
– Значит, вы все-таки решили принять мое предложение? – вопросом на вопрос ответил он.
– А вам в этом что-то не нравится? – усмехнулся я. – Или нужно договор подписать? Может ещё и кровью?
– Нет, кровью не надо. Кровь я у вас и так возьму – как составляющую. Кровь, слюну, желудочный сок, немного желчи… Скажите, вы сегодня завтракали?
Я поскреб подбородок. Ночь и утро, когда я, чертыхаясь, резался дядиной бритвой, казались такими далекими, позавчерашними, что было немного странно видеть на часах только первую половину дня.
– Я пил всю ночь. У меня сегодня день рождения.
– Это плохо, – вздохнул Гольданцев. – То есть, с днем рождения я вас, конечно, поздравляю, но то, что пили нехорошо. Можно было бы прямо сегодня все сделать, а так… Впрочем, завтра тоже не получится. Ваша кровь должна быть абсолютно чистой. За одни сутки спиртное до конца не выветрится.
– Выходит, мне и сегодня пить нельзя?
– Ни в коем случае! Конечно, если вы заинтересованы в скорейшем создании эликсира.
– И курить нельзя?
– Нет, курите на здоровье. Вы же не вчера начали это делать?
– Нет.
– Вот видите, значит, это стало неотъемлемо вашим. Курение портит организм, но сознание не изменяет, не то, что алкоголь. Скажите, а наркотики…
– Нет, нет, что вы! – замахал я руками.
– Хорошо, хорошо, – кивнул Гольданцев. – Просто я подумал – Чечня, экстремальные ситуации, стресс… Я же читал ваше кое-что… Впрочем, ладно. Решили, да?
Я в последний раз ощутил легкий озноб, дрожь в коленках и, словно шагнул в пропасть:
– Да.
– Хорошо.
Гольданцев, похоже, был не в восторге от визита ко мне. Он явно рассчитывал на больший интерес к теоретической части и своего разочарования не скрывал. Но я уже убедил себя, что не могу идти наперекор воле Василия Львовича, тем более, что всякие околонаучные теории казались мне чрезвычайно скучными. Работают – и ладно. А уж, что там к чему примешивается, и в каком соотношении, знать совершенно необязательно. Это пусть Гольданцев знает. Будет повод сказать лишний раз, что знает больше моего.
Оставался, правда, ещё один нерешенный вопрос, разъяснить который следовало прямо сейчас, во избежание дальнейших недоразумений.
– Во что же мне все это обойдется? – деловито спросил я.
– Вы про деньги?
– Конечно.
– Тогда, ни во что. Денег я не возьму.
Гольданцев сунул в карман пузырек и встал.
– Я буду очень признателен, – медленно начал он, – если получу возможность взглянуть на бумаги вашего дяди. Среди них должна быть тетрадка моего отца. Вы её не видели? Такая обычная, школьная, с формулами…
– Как же, видел, – удивился я. – Ещё подумал – зачем дяде какие-то математические расчеты.
– Это расчеты отца, – странно сведенными губами проговорил Гольданцев. – Если вы мне её отдадите, будем считать, что мы в расчете.
– Хорошо, я обязательно поищу.
Гольданцев взглянул на меня совершенно безумным взором.
– Вы уверены, что она цела?
– Конечно. Я ничего не выбрасывал после дядиной смерти.
– Хорошо. Очень хорошо.
Гольданцев продолжал с минуту безумно на меня смотреть, потом, словно бы, успокоился.
– Дайте какой-нибудь листок, – сказал он, – я запишу вам свой адрес. Через три дня приедете. Это будет суббота, так что приезжайте прямо с утра, пораньше. Не завтракайте и на ночь, накануне, особенно много не ешьте. А лучше всего, после шести не ешьте совсем… Вот, – он протянул записанный адрес. – Там я указал, каким транспортом удобней добираться, и телефон. Позвоните перед выходом…
С этими словами он решительно прошагал к двери, сам её отпер и, бросив через плечо, «до скорой встречи», вышел.
Я был слегка озадачен.
Разговор про тетрадку страшно меня смутил. Искать её не требовалось – все дядины бумаги, включая и пресловутое предсмертное письмо, лежали в одном и том же месте все эти десять лет. Я мог бы достать тетрадку сразу же, как только о ней зашел разговор, но выражение лица Гольданцева, его сведенные губы, словно он еле сдерживал крик, безумно напугали. Можно, конечно, предположить, что боль от потери отца до сих пор не утихла. Такому, как он, одержимому, естественно, не хватает рядом единомышленника и близкого человека. И тетрадка, наверняка нужна для продолжения работ. Но тут возникает вопрос: почему же он не пришел раньше? Десять лет занимался опытами без тетрадки, достиг вполне конкретных успехов и, вдруг, опомнился…
Мне, конечно, не жалко. И тетрадку эту я отдам. Но, что-то подсказывало – не спеши, просмотри сначала сам.. Прямо сейчас, возьми и посмотри…
И тут, в эту самую минуту, телефон буквально взорвался звонком!
«Странно, – подумал я, идя к нему, – за все время, что Гольданцев здесь был, (а был он, все-таки, долго), ни одного звонка! И это в такой-то день! Но, стоило ему уйти, как сразу… Может, и здесь какой-нибудь фокус?».
– Алло!
– Поздравляю!!!
Жизнерадостный голос Екатерины показался голосом какой-то другой галактики. Этот Гольданцев, видно, совсем меня заболтал.
– Милый, я тебя люблю, люблю, целую и дергаю за ушки! Подарок привезу чуть позже – вот только спихну статью и…
– Катюш, – перебил я, – ты сегодня ещё мне не звонила?
– Нет. А что?
– Да так, визитер тут был один, очень странный… Впрочем, ерунда. Показалось. Просто, за время его визита ни одного звонка не было, представляешь? Я уж и подумал, не наложил ли этот тип на мой телефон какое-нибудь заклятие.
Екатерина рассмеялась.
– Вот и видно сразу, что ты новорожденный. Рассуждаешь, как грудничок. А, между тем, тебе действительно никто не звонил. Во всяком случае, из наших. Тебя решено наказать за уклонение от банкета. Поэтому, звонить целый день никто не будет, зато вечером все неожиданно нагрянут с подарками и бутылками.
– А ты, значит, как Павлик Морозов, всех решила заложить?
– Да. Чтобы ты, не дай бог, никуда из дома не ушел и хоть немного прибрался. Неплохо будет встретить гостей с видом унылым и похоронным – дескать, все меня забыли… Сделаешь людям приятное. И, ещё раз напоминаю, убери все носки и трусы, которые ты привык развешивать на видных местах. Мне твое пристрастие к антиквариату известно, а вот остальные, боюсь, будут шокированы убожеством нижнего белья у известного писателя.
– Ладно, уберу, – усмехнулся я, чувствуя, как отлегло от сердца. Все-таки Гольданцев не маг, не чародей, и не экстрасенс, вроде Мессинга – никакого заклятия на мое сознание он не навел, нечего и думать…
– Саш, – донеслось из трубки, – у тебя еда, хоть какая-нибудь, есть?
– Да так.., кое-что. А вот водки уже нет.
– Выпил?
Судя по интонации, Екатерина не слишком этому удивилась.
– Святое дело – я именинник.
– Ладно, убирайся пока. Я что-нибудь куплю по дороге. И молись, чтобы гости не пришли раньше меня. Все будут голодные, злые – сожрут…
Посмеиваясь и чувствуя приятное умиротворение, я принялся за уборку.
Черт с ней, с тетрадкой! Да и с Гольданцевым этим тоже. Сегодня мой день рождения, а, значит, думать буду только о себе и своих удовольствиях! Никаких страхов перед грабителями и никаких размышлений о всяких таинственных опытах! Как там говорила эта очаровательная эгоистка, которой так бредит Екатерина? «Подумаю об этом завтра»? Вот я и подумаю обо всем завтра. А сегодня… По крайней мере, бояться мне сегодня уж точно не придется. Гости наверняка засидятся до утра…
А может, выгнать их пораньше и остаться только с Екатериной? Последнее время я был к ней ужасно невнимателен. Да ещё статья эта масла в огонь подлила… Впрочем, какой огонь? Наши отношения стали остывать все больше и больше, и мне это совсем не нравилось. Екатерина из тех женщин, с которыми не чувствуешь себя повязанным по рукам и ногам. Она прекрасная любовница, заботливая и понимающая подруга… Беда в том, что мы вместе уже так давно, что неизбежно оказались на распутье – либо семья, либо разрыв, после которого каждый идет своим путем. Екатерина, естественно, мечтает о семье, а я… Ох, я и сам не знаю, чего хочу…
Ладно, все! Подумаю об этом завтра. Может, и женюсь, в самом деле. Сегодня мне так хорошо, даже удивительно! Вот, что значит положительная перспектива! И, хотя предстоящий визит к неприятному Гольданцеву, положительным действом не назовешь, все же, он вернет мне утраченный покой, даст твердую уверенность в том, что «мой дом, отныне, моя крепость», и чихать я хотел на все остальное!
Теперь главное придумать, как отвертеться от выпивки.
Своих друзей я знал достаточно хорошо, чтобы не сомневаться – нальют, заставят и не угомонятся, пока не споят в усмерть.
Что ж, придется, видимо, пойти на примитивную хитрость. Налью в водочную бутылку воды, поставлю перед собой и скажу, что это персональная, именинная. Запашок от меня приличный, так что никто ничего не заметит.
Таким образом, «растряся» все свои проблемы, я закончил уборку в самом радужном настроении и, когда под вечер гости ввалились, наконец, в квартиру, я, вопреки обещанию, данному Екатерине, встретил их широченной улыбкой юбиляра и распростертыми объятиями.
Застолье организовали в комнатах Эльвиры Борисовны. Прямо на строительные козлы положили клеенку и расставили все, что было принесено гостями и Екатериной, которая, конечно же, опоздала и пришла самой последней.
– Рассчитывала найти мои обглоданные кости? – спросил я, принимая у неё пакеты.
– Нет, – в тон ответила она, – Лешка обещал, что без меня, тебя никто пожирать не начнет. Сказал – вожак нужен, который уже давно прогрыз тебе печень и знает все уязвимые места.
– Кстати, о печени, – зашептал я, утаскивая её в кухню. – У меня к тебе маленькое, но очень ответственное поручение.
На кухне, закрыв дверь, налил воду в бутылку, которую опорожнил ночью, (причем не забыл остатками водки опрыскать себя, словно духами), и протянул Екатерине.
– Поможешь мне остаться трезвым. Сейчас, при всех, вручишь эту бутылку и скажешь, что она предназначена персонально имениннику, и никому больше из неё пить не дозволяется, ладно?
– Ладно. Но почему?
– Да потому.., потому что мне нужно получить от тебя сегодня самый главный подарок, а для этого надо быть трезвым. Но сама, уж будь добра, напейся. И, пожалуйста, до состояния совершенно непристойного…
Екатерина покраснела.
Я, ещё с первых дней знакомства, был без ума от этой её привычки краснеть, как невинная гимназистка. Нарочно, в гостях или людных местах, шептал на ушко всякие любовные непристойности и радостно наблюдал, как Екатерина заливается краской, обводя окружающих застенчиво-испуганным взглядом. «Ты ханжа, – говорил я ей потом. – Тартюф в юбке. Краснеть краснеешь, а слушать любишь». Екатерина притворно дулась, но никогда моей правоты не отрицала.
Вот и теперь, покраснев, улыбнулась понимающе и довольно. А потом, перед гостями, торжественно вручила мне бутылку со словами, что это особенный любовный напиток тридцатипятилетней выдержки, который, во избежание неприятностей, никто больше пить не должен.
Тут же кто-то больно ткнул меня в бок.
– Мерзавец, а мерзавец, – зашептал в ухо Лешка Сомов, – ты, что это, воду хлестать задумал?
– Леха-а-а, – простонал я, – не выдавай! Не могу я сейчас пить, понимаешь? Никак не могу! В субботу кровь сдавать – надо, чтобы чистая была.
– Где же это ты собрался в субботу кровь сдавать, а?
– У частника. Я уже договорился, и он велел не пить.
– Заболел, что ли?
– Нет, просто провериться. Депрессии одолели – прямо жуть одна…
– Это у тебя, старик, кризис среднего возраста, – авторитетно хлопнул меня по плечу Лешка. – Я недавно по телевизору передачу об этом смотрел. Нужно сорок часов не спать, и все пройдет. Но лучше, конечно, как следует надраться.
– В воскресенье надеремся, Леха. А сейчас не выдавай, будь другом.
– Ладно уж. Но в воскресенье отчитаешься по полной. Ты мне ещё за мой день рождения должен.
– Не вопрос…
«Эх, Леха! – подумал я. – Да в воскресенье, если все пройдет удачно, я перед тобой, на радостях, так отчитаюсь, что мало не покажется! Знал бы ты, какие фокусы мне тут утром показывали…». Впрочем, почему нет? Гольданцев не просил меня молчать о наших делах. И ему, как всякому ученому, после удачных опытов требуется внимание общественности… Надо будет поговорить с ним. Как подопытный кролик я имею право на протекционирование. Леха прекрасный журналист – осветит все в лучшем виде, да и сам умрет от счастья, если преподнести ему такой-то эксклюзив…
Я чувствовал, как от мысли к мысли, весь переполняюсь благостью и умиротворением. И, опрокидывая в себя рюмку за рюмкой с теплой водопроводной водой, хмелел от простого человеческого удовольствия. Лица друзей казались дорогими, прекрасными, самыми любимыми; их слова – искренними, идущими прямо от сердца, а глаза Екатерины – моей Мадонны, моего ангела – обещали так много!
Вот когда я понял, что значит, пьян от счастья.
Весь этот шумный и горластый тридцать пятый день рождения отпечатался в памяти салютными вспышками.
Вот кто-то с самым серьезным видом заявляет, что мои книги – это струя чистого воздуха среди зловония чернухи-порнухи. Его слушают, как Ленина, с пролетарским вниманием, а затем, с тем же пролетарским рвением, бегут в туалет за освежителем воздуха, чтобы символически прыскать им после каждого тоста.
Вот молодой, но уже зубастый Сережка Пахомов – большой спец по наркомафии – убеждает свою подружку Наташку, что, если выпить разом шесть бутылок пива, то розового кенгуру, пожалуй, не увидишь, а увидишь доктора в белом халате. Но, если после этих шести, выпить седьмую, то, вместе с доктором в белом халате, запросто может прибыть и кенгуру, причем, именно розовый. Наташка хохочет, и я, вместе с ней.
А вот Макс – добродетельный и умный мальчик, прибившийся к нам с Лешкой, из-под маминого крыла, ещё в студенческую пору и тогда же совращенный нами на выпивку, курево и ночную разгульную жизнь – покачиваясь, убеждает меня, что «из-за таких, как ты, такие, как я, вынуждены быть такими, как ты»… При этом, непонятно – упрекает он, или благодарит… Скорее, благодарит, потому что, в итоге, мы оба хохочем.
Я вообще хохотал в тот вечер, как безумный.
С искренним сожалением провожал уходивших, открывал дверь вновь приходящим или возвращающимся с кем-то, кого я ещё не знаю, но кого обязательно должен узнать, и за кем специально, ради этого, бегали… И, в конце концов, вообще перестал запирать дверь.
Я был беспечен, весел и молод!
Поэтому, под утро, беспечно заснул сном праведника, уткнувшись носом в Катюшкины волосы, пропахшие сигаретным дымом и туалетным освежителем воздуха, но от этого ещё более родные и любимые.
До визита к Гольданцеву оставались сутки, когда страхи вернулись.
Перед этим, пару дней, все было просто прекрасно. Я высыпался, плодотворно работал, вечером выходил прогуляться. И даже один раз, (прямо после дня рождения), сводил Екатерину в ресторан, где, разомлев от хорошей кухни и французской минералки, едва не сделал предложение.
«Но, нет, нет, – одернул тогда сам себя, – все потом, когда закончу с этим Гольданцевым».
К слову сказать, идея обезопасить дом уже не казалась мне такой уж жизненно важной. Пара спокойных дней превратила недавние переживания в смехотворные и даже немного постыдные. Я стал подумывать – а не отказаться ли мне от предложения Гольданцева? Тип он все-таки неприятный, хотя и умный, без сомнения. Отдам ему тетрадку – пусть ставит свои опыты, выделяет этих.., как их там? Название такое противное, похожее на «гайморит»… А-а, впрочем, неважно, пусть выделяет, что хочет! Главное, отделаться от него и забыть всю эту несостоявшуюся историю, как глупый сон.
Я даже позвонил под тем предлогом, что поиски тетрадки могут затянуться из-за неразберихи на антресолях. Дескать, сваливал туда все, без разбора, во время ремонта, так что теперь, чтобы что-то найти, нужно все вывалить обратно. И, может, нам перенести запланированную встречу до той поры, когда я смогу это сделать? Но Гольданцев оказался чрезвычайно покладист и доверчив.
– Ничего, ничего, – сказал он, – одно другому не помеха. Сделаем вам эликсир, проверим его действие, а там и тетрадка отыщется. Я вам верю. Только не забудьте – в субботу завтракать нельзя…
Я поколебался немного и ответил: «хорошо».
Почему-то стало стыдно отказываться после такого проявления доверия.
А ночью вернулись и страхи.
Я проснулся около двух от жуткой духоты. В горле пересохло, хотелось пить, и, ещё не отойдя ото сна окончательно, я поплелся на кухню за водой. Там, открывая настежь форточку, коснулся батареи. Сразу стала ясна причина духоты – открыт отопительный сезон, и мне, непонятно почему, сделалось вдруг грустно. Раз включили отопление – значит, скоро зима, скоро холод, перемены, значит, сменился ещё один сезон… Удивительно, но ни один день рождения, знаменующий мое старение на ещё один год, никогда не вызывал такой тоски, как это простое включение отопления. На короткий миг я увидел себя со стороны таким, каким в ту минуту и являлся – одинокий, грустный мужчина в большой пустой квартире. Может и правда, раз зароились в голове мысли о женитьбе, значит, пришла пора воплощать их в жизнь? И, в самом деле, чего тянуть? Семья есть семья. Когда-нибудь ей все равно надо обзаводиться…
И тут в замке входной двери явно кто-то заковырял! Звук был тихий, приглушенный второй дверью, и, не проснись я от духоты, пожалуй, ничего бы и не услышал…
Стакан с недопитой водой чуть не выпал из руки.
Скорей от испуга, чем осознанно, я подскочил к выходу, распахнул внутреннюю дверь и гаркнул:
– Кто там ещё?!
Все стихло, а через секунду по лестнице кто-то ринулся вниз гигантскими прыжками.
Не слушая дольше, я бросился обратно на кухню, к окну.
Подъезд отсюда не виден, зато хорошо просматривается выход со двора. Но, сколько я ни напрягал зрение, в бледном свете полудохлого фонаря видны были только качающиеся под ветром деревья и силуэт единственной, оставшейся в живых, скамейки.
Что ж, выходит, мои страхи были не так уж и беспочвенны.
Я взял кухонный нож, причем выбрал самый большой, осторожно открыл входную дверь, убедился, что на лестничной площадке никого нет и осмотрел замок.
Так и есть! Свежие царапины! Какой-то гад пытался пролезть в квартиру!
Я захлопнул дверь, запер все замки, задвинул шпингалет и даже старую, давно не используемую цепочку пустил в дело. А затем, проворочавшись без сна, еле дождался утра и позвонил Гольданцеву.
Дом Николая нашелся быстро. В пропахшем кошками подъезде, на двери с нужным номером красовалась табличка: «О. А. Гольданцев», а под ней фломастером, от руки, приписано: «Гольданцев Н. О.». Звонок отсутствовал, поэтому я постучал. Сначала не очень уверенно, но потом, после того, как никто не открыл, стукнул сильнее, отчего дверь слегка приоткрылась.
– Входите, не заперто! – донеслось, как из бочки.
Я протиснулся в темный коридор. Здесь тоже пахло кошками, ржавыми трубами и чем-то кислым, химическим. Прямо по курсу зиял полуприкрытый дверью вход в туалет, а слева – проход в комнату. Дверей в этом проеме не было, остались только петли. Зато теперь это был единственный источник света для коридора, где от выключателя осталась только дырка, а с потолка свисал голый провод.
– Ну, что вы встали? – высунулся в проем Гольданцев, изрядно взлохмаченный, в майке и спортивных штанах. – Разуваться не надо, проходите так.
Он снова нырнул в комнату, а я снял куртку, с сомнением осмотрел пол и, решив, что, действительно, разуваться не стоит, прошел следом.
Гольданцев с секундомером в руке склонился над стоящей на огне колбой с чем-то бурым.
– Извините, что встречаю вас так, но мне необходимо следить за временем.
Секунд через десять он щелкнул секундомером, переставил колбу в мутную банку и, сверившись с записями в тетради, снова запустил секундомер.
– Думал, что успею все закончить к вашему приходу, но… Впрочем, осталось не более минуты. Располагайтесь пока.
Я осмотрелся. Расположиться в этой комнате было крайне проблематично. Из обстановки только длинный стол под окном, заваленный банками, колбами, штативами и потрепанными тетрадями. С правой стороны два вместительных шкафа – один застекленный, другой нет. И на полках, вперемешку, тоже колбы, запечатанные пузырьки с наклейками, металлические коробки, в которых обычно кипятят шприцы, и огромное количество старинных книг в темных переплетах с золотым потускневшим тиснением.
– Это и есть коллекция вашего отца? – спросил я, когда Гольданцев выключил секундомер и стал осторожно извлекать колбу из банки.
– Где? – словно проснулся он. – А… Книги? Да. Только здесь не все. Эти нужны мне для работы, а остальные на антресолях. Я, знаете ли, не любитель беллетристики.
Я с содроганием подумал о бесценных, наверное, томах, сваленных на пыльную полку.
– Продали бы.
Гольданцев хмыкнул.
– Продал бы, но возни много, а у меня лишнего времени нет. Разве что вы пожелаете купить, а?
– У меня таких денег нет. Разве что вы продадите за бесценок, – парировал я и снова осмотрелся, в надежде отыскать хоть какое-то сиденье.
Увы, в комнате стояли всего две табуретки. Одна возле стола, у которого крутился Гольданцев, и на ней уже лежали какие-то тряпки. Другая – прямо за мной, но она, видимо, служила столом, судя по сковородке с остатками подгоревшей яичницы.
– Как же вы так… обнищали? – послышался насмешливый голос Гольданцева. – Известный писатель, а денег нет…
– Бывает, – пробормотал я.
Бестактность хозяина вызвала новую волну раздражения и неприязни, но он, будто почуяв это, суетливо смахнул, наконец, тряпки с табурета, расстелил на нем раскрытую на чистой странице тетрадку и предложил мне сесть. А затем, указав на колбу, с которой закончил возиться, произнес почти гордо:
– Помните? Подпись кровью… Вы, сами того не ведая, подкинули мне идею. Как пришел тогда от вас, так сразу кинулся искать в отцовых записях все, что связано с кровью. И, знаете, там определенно что-то есть! В крови, я имею в виду. Отец, правда, не уделял её изучению должного внимания, хотя… Некий пробел в его записях, все же, есть. Надеюсь, в той тетради, которую вы ищете, кое-что найдется. Но, – он вскинул вверх указательный палец, – загадывать не будем. Я суеверен – боюсь сглазить.
Гольданцев упер руки в бока и осмотрел меня с видом папы Карло, осматривающего полено.
– Ну-с так, теперь займемся вами. Начнем, наверное, с самого неприятного, да?
– С неприятного?! – я почему-то заволновался. – Что вы имеете в виду?
– Вот это, – буднично произнес Гольданцев, вынимая из коробки тонкий резиновый шланг с металлическим наконечником. – Извините, методы, конечно, доисторические, но эффективные.
Я испуганно отшатнулся.
– Что это?
– Это зонд. Я же должен взять немного желудочного сока и желчи.
– Каким же образом? – пролепетал я, чувствуя слабость в коленях.
– Вас что, никогда не зондировали? – удивился Гольданцев.
– Боже сохрани!
Он прищелкнул языком.
– Счастливчик. А вот я рос болезненным ребенком. Спазмы желчных протоков. Раз пять лежал в больницах и без конца зондировался. Но вы не бойтесь. Это, конечно, неприятно, однако, никто ещё не умер. Главное, суметь это проглотить.
Я с ужасом взглянул на металлический наконечник, а потом, инстинктивно, покосился на сковороду с остатками яичницы.
Гольданцев рассмеялся.
– Думаете у меня не стерильные инструменты, да? Зря. Можете потрогать – зонд ещё теплый. Я поставил его кипятить сразу после вашего звонка.
Трогать зонд мне не хотелось и, ещё больше, не хотелось его глотать. На короткий момент страстное желание ото всего отказаться захлестнуло меня с головой, но Гольданцев не дал этому желанию разрастись.
– Всего-то полчаса весьма относительных мучений, зато уже сегодня вы сможете заснуть безо всяких страхов. Смотрите, какие у вас синяки под глазами. Так нельзя больше – совсем себя изведете.
– Сегодня ночью меня пытались ограбить, – выдавил я.
– Вот видите! Эликсир вам просто необходим! Так что, если вы мне немного поможете, то, с сегодняшнего дня, забудете обо всех ворах.
Испуг перед зондированием моментально куда-то отступил.
– Так вы прямо сегодня приготовите эликсир?
– Конечно. Это в науке все требует времени. Природа же гениальна, а потому проста. Разве требуются вашему организму часы, дни и недели для того, чтобы, увидев что-то вкусное, почувствовать голод и желание это вкусное съесть? Нет, все происходит мгновенно. А между тем, в вашем организме творятся сложнейшие процессы, в которых задействованы и «соки», и стихии, и физика, и психика.
Говоря все это, Гольданцев извлекал из нижнего отдела шкафа простыни, салфетки, упаковку ваты, марлю и одноразовые шприцы.
Надо отдать ему должное – и простыни, и салфетки выглядели чистыми и даже были тщательно проглажены, но шприцы меня снова смутили.
– Вы разве будете мне что-то колоть?
– Нет, нет! Это я использую, как контейнеры. Удобно. Процесс уже хорошо отработан, составляющих нужно совсем чуть-чуть… Не волнуйтесь, уколю всего один раз, чтобы взять кровь. Видите, иглы даже не достаю… Ну, все, – заключил он, закончив приготовления, и снова взялся за резиновый шланг. – Давайте поскорее закончим с самым противным и забудем о нем.
Господи! До чего же ужасно все это оказалось! Только с пятой или шестой попытки металлический наконечник проскользнул в мою глотку и стал противно двигаться внутрь, с каждым вздохом проникая все глубже. А до этого я, крайне несолидно, отбивался, рычал, давился рвотными судорогами и всерьез подозревал Гольданцева в попытке меня удушить. Наконец, ему это надоело.
– Дышите ровно, через нос! – рявкнул он.
И, не дав мне опомниться от очередного спазма, залепил увесистую затрещину.
– Ведете себя, как баба!
Удивительное дело! После этого я заглотил зонд относительно легко и всю процедуру отсидел тихо, ощущая, почему-то, легкий холодок, когда вытягиваемая желчь потянулась по шлангу в шприц.
– Ну вот и молодец, – похвалил меня Гольданцев, осторожно извлекая осклизлый зонд. – Все. Больше ничего ужасного не будет, только кровь из пальца возьму.
После зондирования прокол пальца показался почти приятным. А забор слюны при помощи тонкой стеклянной трубочки с резиновой грушей на конце, даже навеял некоторую сонливость.
Я с удовольствием погрузился в блаженное безразличие и, наблюдая за действиями Гольданцева, желал, чтобы он провозился с эликсиром подольше – уж очень не хотелось вставать, двигаться и о чем-то говорить.
Минут двадцать мое желание успешно исполнялось.
Гольданцев ловко и привычно что-то смешивал, размешивал, подставлял под допотопный вентилятор то одну колбу, то другую, подсыпал из спичечного коробка темную просеянную землю и, при этом, не обращал на меня никакого внимания. Потом он размазал неприятную на вид, бурую кашицу по плоской стеклянной чашке и удалился на кухню. Там что-то пару раз грохнуло, потом раздался треск, какой бывает, когда заводят детскую игрушку, и хлопнул холодильник. Через минуту Гольданцев вернулся с пакетом кефира и запечатанной пачкой печенья. Сказал: «Поешьте» и сунул кефир с печеньем мне в руки. Сам же переставил сковороду с яичницей на пол, подтащил табурет поближе к столу и уселся на него с выжидательным видом.
– Процесс запущен. Немного подождем и все, – сообщил он.
Я вяло распечатал печенье. Есть хотелось ужасно, но сонливость, сковавшая тело, да ещё и пристальный взгляд Гольданцева, заставляли медлить.
– А вы не любопытны, – заметил он. – Ни разу не спросили, что и для чего я делаю, и, что из этого получится.
– Разве это было необходимо? – спросил я, надкусывая печенье.
Гольданцев засмеялся.
– Нет, конечно же, но как-то это… неестественно.
Я пожал плечами.
– Что получится, я и так знаю. А из чего и каким способом, знать не хочу.
– Странно. – Гольданцев поскреб в затылке. – Знаете, у меня такое ощущение, что вы боитесь об этом узнать.
Я поперхнулся и поднял на него мутный сонный взор.
– С чего бы это?
– Да так… Вы ведь, простите великодушно, немного… трус.
Вот это было, как обухом по голове. Ничего себе заявленьице! Меня много кем обзывали, но, чтобы трусом…
Я сердито отставил кефир и положил недоеденное печенье.
– Да не обижайтесь вы! – хлопнул меня по колену Гольданцев. – Я, конечно, сказал обидную вещь, но, поверьте, без желания обидеть. Просто не мог и вообразить, что человек без веской причины, станет отказываться от тайны, равной по масштабу египетским пирамидам, а, может, и того больше! Это ненормально! Это против человеческой природы! Все эти дни я размышлял, и вот – сделал вывод.
– Хорош вывод, – надулся я. – Пользуетесь моим зависимым положением и попросту оскорбляете. А вот я сейчас возьму, плюну на все и уйду!
– Не уйдете, – ласково улыбнулся Гольданцев. – Вы ведь не только трус, но ещё и собственник. И то, что вам кажется оскорблением, на самом деле самые естественные и самые распространенные человеческие качества. Судите сами – страх лишиться своего имущества заставил вас принять меня, хотя в первый момент очень хотелось выгнать, не так ли?
– Не так! – брякнул я слишком поспешно и тут же отвел взгляд.
Черт! Этот Гольданцев, для ученого фанатика, был слишком уж проницателен. И мое вранье, конечно же, от него не укрылось.
– А вот я думаю, что именно это вы и хотели сделать, – невозмутимо продолжил он. – И даже могу попытаться угадать причину этого. Хотите?
– Ну, попытайтесь.
Я, с напускной иронией, закинул ногу на ногу и, обхватив ладонями колено, вызывающе уставился на Гольданцева.
– Все дело в вашем дяде, – уверенно заявил тот. – И не опускайте глаза, я уже увидел в них, что угадал верно. Василий Львович, наверняка, оставил вам устное или письменное завещание, в котором строго-настрого запретил связываться со мной. И, особенно, если я приду с какой-нибудь завлекательной тайной. Но беда в том, что наши близкие, любя нас и желая оградить от бед, не могут предугадать всех жизненных обстоятельств, в которых нам предстоит оказаться. Мой отец даже собирался уничтожить свои записи, лишь бы я не сунул в них нос, но, к счастью, рука не поднялась. Не сумей я продолжить его дело, многое, ох, многое, пошло бы в моей жизни не так… А теперь… Видите, я живой и здоровый.., действительно здоровый, хоть вы, наверняка, считаете меня немного безумным, сижу тут, разговариваю с вами и даже оказываю посильную помощь в разрешении ваших проблем. Заметьте, кстати, что помощь оказывается именно благодаря той самой страшной и опасной тайне, которой вас так запугали… Да, не спорю, для отца и для Василия Львовича она действительно оказалась роковой, но я-то пошел дальше! Я понял их ошибку, не стал её повторять, благодаря чему познал много больше, чем мой отец. И теперь остается совсем чуть-чуть до открытия того единственного компонента, который обезопасит всю тайну в целом! Грубо говоря, я занят поиском противоядия для того безрассудного эксперимента, который поставили на себе мой отец и ваш дядя.
– Так они что, отравились? – глупо спросил я.
– Да нет же, нет!
Лицо Гольданцева сморщилось, как от боли.
– Они просто увлеклись… Отец верил в Галена, как в бога, ни одной минуты не сомневался в верности его изысканий, но упустил из вида то обстоятельство, что рукописи обнаружились в тайнике, тщательно и замысловато укрытые другим великим ученым. Зачем он это сделал? Почему? Отец все списал на инквизицию. На тот период, когда учение Галена хотели запретить, признать ошибочным и вредным. Но гения невозможно запретить! Точно так же, как невозможно отнять у человечества знания, на которых построена вся современная медицина.
– И, тем не менее, ваш Гален благополучно забыт, – вставил я.
– Да нет, он не забыт! – воскликнул Гольданцев. – Просто учение его так объемно, так велико, что толпы последователей «раздергали» его на отдельные составляющие, развили их, добились собственных открытий в какой-то одной, узкой области, стали корифеями, а Гален, который засеял это поле зернами своей гениальности, все больше отходил в тень. Но его даже церковь признавала. Канонизировала в тринадцатом веке, потому что оказалось очень удобно – заменить понятие мировой пневмы на божественную сущность и проповедовать свои идеи ещё и от лица науки. Однако рукопись из книги де Бове так и осталась спрятанной. Выходит, её прятали не от инквизиции…
Тут из кухни донесся противный дребезжащий звук. Я невольно вздрогнул, а Гольданцев сорвался с места и выбежал из комнаты.
Снова послышался лязг и треск. Противный звук прекратился. «Наверное, это таймер», – подумал я и выдохнул с облегчением. Проклятый Гольданцев сумел-таки пробудить во мне любопытство. Не столько своими лекциями о Галене и его открытиях, сколько возможностью узнать, от чего же, все-таки, умер дядя.
Я задумался.
Момент был подходящий. Гольданцев сел на любимого конька, и теперь нужно было только терпеливо его дослушать, а потом спросить о дядиной смерти. Он ответит, не сомневаюсь. А заодно, не станет больше считать меня трусом…
Хотя, нет…
На «слабо» меня даже в детстве не могли развести. А вдруг тайна все же не такая безопасная, как он пытается мне внушить? Дядя, конечно, не мог предвидеть всех моих жизненных обстоятельств, но, хорошо его зная, я был уверен – просто так Василий Львович категорических запретов делать бы не стал. Пожалуй, лучше не связываться. Кое-что я и так уже понял, а остальное поищу в тетрадке, прежде чем отдам её Гольданцеву. Не найду, так не найду. А если что-нибудь обнаружу, то, по крайней мере, не от Гольданцева…
– Ну вот, ещё двадцать минут и все будет готово, – бодро заявил Николай, возвращаясь из кухни. – Итак, на чем мы остановились?
– М-м, послушайте, – промямлил я, – все это очень интересно, но я, честное слово, к этому разговору не готов. Вы правы, дядя запретил мне влезать в это дело, и я намерен выполнить его последнюю волю. Можете считать меня трусом, кем угодно, но разговор о рукописях и опытах мы продолжать не будем.
Гольданцев с минуту смотрел на меня обескуражено, потом криво усмехнулся.
– Что ж, не хотите, как хотите. Не навязывать же, в самом деле… Жаль. Помните, у Булгакова было: «Трусость – самый страшный порок…»? Впросак попасть не боитесь?
– Булгакова вспомнили? – не удержался я от улыбки, – А недавно говорили, что беллетристику не любите.
– Не люблю, – кивнул Гольданцев. – Но кое-что читаю. Я даже ваше читал.
– И как? Понравилось? – спросил я, желая сменить тему. Ответ мне слышать не хотелось.
Гольданцев, кажется, понял и это.
– Даже не знаю, говорить, или не говорить… Боюсь, мое мнение для вас, мягко говоря, мало что значит. Но, раз вы не хотите говорить о другом, можно отвлечься и на это.
– Ради бога.
Само собой, от мнения Гольданцева я ничего хорошего не ждал. С одной стороны – наплевать. Что он за критик? Сам же говорил – беллетристику не любит, а, следовательно, понимать в ней ничего не может. Но, с другой стороны, я прекрасно сознавал, что мои последние книги никакого лестного отзыва и не заслуживают. Высосанные из пальца штампованные истории, за один только хороший литературный язык, никому, мало-мальски думающему, понравиться не могут. А Гольданцева, при всей моей неприязни, человеком, не думающим, не назовешь. Да и литературный язык у меня в последнее время стал совсем уж так себе. Все тороплюсь, тороплюсь, выдаю главы «на гора»…
– Давайте, давайте, – подбодрил я, видя, что Гольданцев снова смотрит с видом папы Карло, только теперь показалось, что я уже не полено, а вполне сформировавшийся Буратино. – Мне критику слышать не впервой, и я к ней нормально отношусь.
– Критика критике рознь, – вздохнул Гольданцев. – Как-то мне довелось читать отзывы о ваших чеченских публикациях. Полнейшая муть! После подобных критических замечаний все достоинства ваших статей стали только заметнее. Но вот книги, – он сокрушенно покачал головой. – Ваши книги, кроме первой – это сплошная капитуляция перед сегодняшним днем. Вы геройски взялись переплывать мутную реку действительности, но где-то на середине сложили руки и поплыли по течению.
– Жестко, – произнес я, стараясь ничем не выдать своей досады. – А говорите, что не любите беллетристику. Вам бы самому писать.
– Но ведь это верно, не так ли?! Вы вложили себя полностью в первую книгу, а все последующие тянутся следом, как бледный шлейф. И, чем дальше, тем бледнее. Помните, как Некрасов написал о Достоевском после публикации «Села Степанчикова»? «Достоевский вышел весь». Но гений есть гений! И после этого «вышел весь», на свет появились и «Униженные и оскорбленные», и «Идиот», и «Преступление…». Вы же, Александр Сергеевич, исчерпали себя в одной-единственной книге. Я тщетно пытался найти во всех последующих хоть какой-то намек на новые мысли. Но, увы, похоже, осмотревшись пристально один раз, вы больше не даете себе труда присматриваться. Впряглись в довольно тяжелый возок, но покатили его по проторенной дорожке. Так, конечно, легче, да и бежать можно резво. Жаль только, что, от быстрой езды, с возка вашего падает все самое ценное. Этак добежите до конца, глянете, а тележка-то пустая. И назад уже не вернуться, чтобы ценности подобрать. Знаете поговорку – «что с воза упало…»? Ничего, что я так откровенно?
– Ничего, – сквозь зубы процедил я.
Глядя в глаза Гольданцеву, я всеми силами противился его правоте и пытался отыскать в этой правоте хоть какой-то изъян. Но изъянов не было, как не было никакого смысла в моих последних книгах. До сих пор, осознавая это, я находил оправдания в том, что меня все же печатают, издают, и многие это покупают. Иной раз, оценив эпизод, во всех отношениях слабый, я, что греха таить, высокомерно думал: «А-а, ничего, скушают», и продолжал писать дальше, прикрывая выпирающие огрехи затейливыми историческими отступлениями. В этом-то я изрядно поднаторел. Но, вот ведь беда, с тех пор, как к истории я начал обращаться «корысти ради», живые образы ушли. И приходилось, по журналистской традиции, выкапывать «сенсации» на ровном месте, подтасовывая, порой общеизвестные факты. «Плевать, – думал я. – Такую литературу никто проверять не станет. Я же не претендую на звание историка. Вон, Дюма-отец, тоже кроил исторические сюжеты, как хотел. Анна Австрийская, может, того Бэкингема терпеть не могла. Но зато сейчас, разбуди любого среди ночи и спроси у него, кто был возлюбленным этой французской королевы, тут же последует ответ: „Кто, кто? Конечно, Бэкингем!“».
Смешно, правда?
Но почему-то, сидя теперь перед Гольданцевым, в его облезлой вонючей квартирке, и не испытывая к нему никакой приязни, я вдруг ощутил жгучий стыд за каждое непрочувствованное слово. И сам собой возник в голове диалог из шедевра, выстраданного всей жизнью:»«Не пишите больше!», – попросил пришедший умоляюще. «Обещаю и клянусь!», – торжественно произнес Иван…».
Тут из кухни снова полетел надрывный трескучий звон.
– Ну, все! – подскочил Гольданцев. – Это таймер. Ваш эликсир готов.
Глава четвёртая. Нерешительность страшнее трусости
Через полчаса я вышел из вонючего подъезда, унося в кармане маленький пузырек с пульверизатором, плотно закрытый и завернутый в полиэтилен. А, вместе с ним, и странную пустоту в душе.
На прощание Гольданцев ещё раз напомнил про тетрадку и добавил:
– Вы хоть сами её полистайте, прежде чем отдавать. А когда будете готовы к разговору – приходите. Самолюбие ваше не пострадает, если вы просто спросите: «От чего умер мой дядя?», зато станете одним из первых, кто стоял у истоков великого перерождения человечества.
Я рассеянно кивнул, но тут же забыл и про тетрадку, и про пузырек, и вообще про все, что не было связано с писательством.
Слова Гольданцева о моих книгах упрямо прокручивались в голове, как попсовый шлягер, с той лишь разницей, что глупый шлягер не перечеркивал несколько лет твоей жизни. Зато, в остальном, так же пошло и так же раздражает, и, в конце концов, вызывает активный внутренний протест. Что я, в самом деле, так разнюнился?! Сколько людей, столько и мнений. Гольданцеву не нравится, зато другие читают, и всем довольны.
Но внутренний голос тут же возразил: сейчас кого только не читают. И больше всего именно тех, кого вообще издавать было нельзя!
Ну и что? Разве от этого кто-нибудь страдает? Время такое – все живут быстро, и все хотят жить хорошо. А, что такое жить хорошо? Это когда нет никаких проблем. Ты ведь тоже любишь вкусно поесть, хорошо одеться; мечтаешь побыстрее закончить ремонт. Вот и пиши то, что пишется быстро, чтобы поскорее издать, продать и получить то, что за это причитается. А начнешь рассусоливать, копаться в каждом душевном порыве и рассуждать о мировом устройстве, тут тебе и конец! Люди, которые читают, они ведь тоже хотят жить без проблем. Хлеба и зрелищ! Не тобой это придумано, не тебе и отменять.
Но, как же тогда Толстой и Достоевский? Чехов, Бунин, Булгаков.., Пушкин, наконец?! Мы же на каждом углу кричим о своем преклонении перед их творчеством?
Ну да, кричим… Даже в классики записали. Вот пусть они там, в классиках, и пребывают. А сейчас, повторяю, время не то. И, коль уж ты решил побыть честным с самим собой, то честно и ответь: если сейчас кто-нибудь принесет в издательство новую «Войну и мир», напечатают такое? Вряд ли. Но, даже если кто-то и возьмется, то тогда другой вопрос – станут ли это покупать? Черта с два! Ты востребован, если уже считаешься классиком, или легко пишешь о легком. Но до классика тебе не дорасти, так что, скажи спасибо, что в твоих книжках есть, по крайней мере, исторические какие-то вставки. Все-таки, сеешь доброе, мудрое…
Я зло тряхнул головой, но внутренний голос не унимался. Смотри, смотри, – кричал он – вон книжный магазин! Зайди, оцени расстановку сил… Ну что, убедился? Кто у нас лицом к народу? Вот они, бестселлеры, лидеры продаж – сериалы, псевдодетективы, фэнтези про одних и тех же героев и пошлые любовные историйки. Если что-то стоящее и затешется – уже праздник! А вот, гляди, гляди, и твое рядом с ними. И тоже лицом к покупателю. Популярное, значит… А где же наши классики? О-о, они-то в профиль. Высокомерно, через корешок, смотрят с полок и сияют золотым тиснением, словно огненные, стыдящие письмена! Видишь, на них не скупятся – изданы-то как красиво… Но на полках! Тянись за ними, кто хочет, и, если хочет. То ли дело здесь, почти у ног, нагибайся и бери! Легко, просто, как и содержание самих этих бестселлеров…
Ну, куда ты побежал, милый дорогой, Александр Сергеевич? Не можешь разрешить дилемму, что почетнее – на полке или у всех под руками? А вот твой тезка, между прочим, такими вопросами не терзался. И, знаешь, почему? Потому что талант имел! А у таланта свойство есть нехорошее – до халтуры не дает опуститься, только на вечность и работает. Но мы же с тобой только что убедились – вечность, она там, на полках. И не бойся, тебе это не грозит. Право стоять рядом с ними заслужить надо…
Я выскочил из книжного магазина, почти физически ощущая себя оплеванным.
Право… Заслужить… А кто дает это право? Кто определяет, заслужил ты, или нет? В этом магазине его определяют люди, но по жизни, кто? Время? Или все те же люди, которые, из поколения в поколение кого-то читают, а кого-то нет? Или, все-таки, существует некий «Высший судия» – распределитель, сортирующий авторов направо и налево? Этого он отсылает в забвение, этого – в обязательно-хрестоматийное болото, а другого – в вечные гении! Почему Достоевского не смогла затрепать даже школа, с её тупым препарированием? «Вышел весь…». Интересно, что сказал это Некрасов, которого, действительно, мало кто читает теперь. Но, все-таки, судьи-то кто?! Может, «Высший Судия» и есть та самая Совесть, сверяясь с которой, автор сам определяет свое место?
В памяти внезапно возникли два потрепанных тома «Войны и мира» на дядином столе. Он никогда не убирал их в шкаф, эти книжки в аскетичных, серовато-зеленых обложках. Всякий раз, когда выдавалось время, открывал наугад, читал и что-то чиркал карандашом. «Разве можно писать на книгах?», – наивно спрашивал я. «А это уже давно не книга, – улыбался Василий Львович. – Это дневник моих самых откровенных мгновений. В двадцать лет я подчеркивал одно, в тридцать – совсем другое… Сейчас вот сижу и удивляюсь своей юношеской чистоте и наивности, но все равно подчеркиваю. Только теперь то, что раньше лишь пробегал глазами. И, знаешь, Сашка, ужасно горжусь, что дружу с этой книгой. Чтение само по себе процесс увлекательный, но здесь уже не простое чтение. Здесь словно взбираешься по огромной горе куда-то вверх, к небесам. И всякий раз, когда хочется схватиться за карандаш, чтобы удержать, подчеркнуть новую мысль, это означает, что небеса раскрылись, указывая тебе дорогу…».
Так, может, здесь ответ и кроется? В таких вот читателях, которым понятно не только каждое твое слово, но и мысль, открывшаяся тебе, пока ты это слово писал? Тогда все сходится и с Совестью. Был честен – тебя услышали; слукавил – и все, гора рухнула, небеса закрылись. А по равнине, конечно, бездумно бегать легко и просто. И Совести, брезгливой до всяких грязных дорожек, не угнаться.
Но вот сейчас я, кажется, готов остановиться и подождать её. Нет, я уже остановился! Я оглядываюсь назад и спрашиваю… Впрочем, для чего спрашивать? Ответ известен: «Широков вышел весь в первой книге». Но жизнь ведь ещё не кончена! Я чувствую, мыслю… Вот приду сейчас домой, удалю из компьютера всю дребедень про Лекомцева – не буду ничего заканчивать – и сяду писать новую книгу! Книгу с большой буквы Ч, потому что Честную…
Но дома все сразу пошло как-то не так.
Едва захлопнув дверь, я, как и собирался, побежал включать компьютер. Но только протянул руку к системнику, как на столе затрещал телефон.
– Да! – рявкнул я, срывая трубку.
– Что ты так кричишь? – после короткой паузы спросила Екатерина.
– А, это ты. – Я сбавил тон. – Прости. Только вошел, ещё даже куртку не снял…
– Да, тебя не было, – как-то печально сказала Екатерина. – Я звонила несколько раз, боялась, что так и не застану. Мне нужно срочно уехать. Мама заболела. Надо отвезти ей лекарства и вообще, побыть рядом.
– Как уехать? – опешил я, вспомнив, что чуть ли не завтра собирался сделать ей предложение. – Мне же надо… Я хотел с тобой… Хотя, да… Прости… Конечно. Надо, так надо. Ты надолго едешь?
– Не знаю, – ещё тише произнесла Екатерина. – Я позвоню, когда вернусь.
– А оттуда что, нельзя позвонить?
– Нет… Не знаю. Мама в больнице. Скорей всего, придется быть там с ней.
– Возьми мобильник.
– Денег нет, – совсем сникла Екатерина. – Лекарства очень дорогие, на билет потратилась, да и там на что-то жить нужно. Спасибо Бумбоксу – одолжил немного… Извини, Саш, я больше не могу говорить, скоро ехать.
– Подожди! Ты что, уже на вокзале? Во сколько поезд? Я провожу.., – запоздало засуетился я.
Но Екатерина уже повесила трубку.
Черт! Вот что теперь делать?! Можно, конечно, схватить такси – у них тут за углом как раз стоянка – помчаться на вокзал, найти, проводить… Но до города, в который собралась Екатерина, можно доехать и автобусом. Что если она именно автобусом и поедет?
Нет, решил я, никуда мчаться не буду. В конце концов, хотела бы проститься по-человечески, то сказала, откуда едет и во сколько, а так… Она ведь ещё, кажется, и обиделась. А на что? На то, что меня дома не было весь день? Но нельзя же ждать от человека, что он сидит перед телефоном в вечной готовности услышать неприятную новость! Да, я сглупил, не проявил должного сочувствия, но разве она дала мне время опомниться и это сочувствие как-то выразить? А если я и сам переживал в тот момент какое-то потрясение, (как оно, в сущности, и было), я же не обижаюсь, что она не поинтересовалась моими делами!
Короче, ладно! Может, все ещё и к лучшему. Сделай я предложение, как собирался, ещё неизвестно, как скоро был бы начат новый роман. А так, в одиночестве, все пойдет, как по маслу. То, что Екатерина уехала именно сейчас, можно расценить, как знак, что задуманное непременно должно реализоваться. И тянуть, полагаю, с этим не нужно.
Сказано – сделано! Я немедленно включил компьютер и, ожидая, когда откроется рабочий стол, задумался: а о чем будет новая книга?
Когда-то давно, довольно долго, зрела во мне идея написать роман про актрису. Талантливую, удачливую, для которой её роли стали единственной реальностью. Проживая чужие жизни, написанные кем-то и логически завершенные, она оказывалась абсолютно беспомощной перед лицом жизни собственной, реальной – такой непредсказуемой, непонятной, где партнеры не отвечают нужными репликами, а сюжет то разворачивается слишком быстро, то тянется монотонно и вяло, выводя, порой, к финалу совершенно не такому, какой ожидался. В обидах на эту свою неправильную и несправедливую жизнь, героиня пыталась уподобить её актерской игре, подменяя подлинные чувства теми, которые, по её мнению, более подошли бы персонажам, которых она в тот момент играла. И постепенно человек в ней полностью переродился в лицедея, растеряв все, что дарила, или ещё могла подарить реальная жизнь. А вслед за человеком умер и талант, потому что в узком, замкнутом ото всех мирке, его невозможно сохранить живым, понятным и востребованным.
Помню, идея эта мне очень нравилась. И прообраз имелся. Я переживал в ту пору отчаянно-безнадежный роман с актрисой местного театра, которая была значительно старше, но со сцены смотрелась просто великолепно. Короткая связь с ней открыла мне двери за кулисы, да и сама моя пассия много чего о театральной жизни поведала. Может, она и не отличалась особым талантом, скорее, выигрышной внешностью и умением держаться на сцене, как примадонна. Но, играясь со мной в любовь, мучая и дразня, сама того не ведая, вдохновила меня на книгу о том, как в потоках зависти и склок тонет всё подлинное и искреннее. Люди правильно говорят – страданием душа полнится, а я тогда страдал отчаянно. Вот и родилась идея романа об актрисе. Монолог-воспоминание перед старым зеркалом, которое видело героиню в разных лицах – и гордую, упивающуюся могуществом своего таланта, защищенную гримом, как забралом, и беззащитную, растирающую по лицу слезы то горя, то радости. Перед этим зеркалом она и умирала в конце, рассмотрев, наконец, пустоту за увядшей оболочкой. И последними словами романа должна была стать фраза: «Все, решено, я ухожу из театра».
Я даже наброски какие-то начинал делать, выдумывал детали сюжета – муж-драматург, писавший для героини пьесы, которые никто не ставил, потому что слишком смелы и новы они были; злейшая подруга, гадящая по мелочам; благородная соперница, которую они, вместе с подругой, вытравили из театра, и этот грех преследовал героиню всю жизнь; режиссер – почти бог – от мелкого компромисса дошедший до крупной подлости. И, как итог, последняя роль – роль пенсионерки, вахтерши в родном театре. Одинокая, без мужа, которого давно бросила за его несостоятельность, она тайком наблюдает из-за кулис за репетициями одной из его пьес, которые, наконец-то, признали и начали ставить. Ей кажется, что она одна знает, как нужно это играть – ведь писались—то они когда-то для неё, идет к режиссеру, все ему показывает, рассказывает, умоляет дать хоть какую-то роль, но в ответ слышит лишь деликатную, обтекаемую благодарность, не более. Её режиссерские «находки», идеи, манера игры – все безнадежно устарело, никому не нужно и не интересно…
Пожалуй, покопаться во всем этом будет сейчас и занятно и полезно. Идея, конечно, не нова, о деградирующих талантах многие писали. Но «ничто не ново под луной». Буду писать, как о себе – безжалостно, крепко, может быть, даже грубо, но зато так, как хочу! Коньюктурно-финансовые соображения больше не будут вмешиваться в сюжет, диктовать стиль и рецензировать диалоги. Через свой роман я, отчасти, покаюсь за ту халтуру, которую писал последнее время. Пусть не режиссер, пусть моя героиня, которую в начале я сделаю чистой, незлобивой и полностью преданной одному Искусству, пусть она, от компромисса к компромиссу, теряет себя, поддаваясь, то обстоятельствам, то давлению окружающих, то боязни лишиться чего-то устоявшегося, комфортного… И даже если писать я буду «в стол», все равно, труд этот бесполезным не будет. Ничего, «чему быть прочитану, то прочтется…».
Компьютер уже давно «заснул», ожидая меня, и я, встряхнувшись, решительно задвигал мышью. Вот сейчас удалю весь свой последний дурацкий роман, чтобы не осталось соблазна его продолжать, а потом залезу на антресоли, достану старые записи и отыщу те наброски, которые когда-то делал.
Роман о Лекомцеве, словно понял, зачем его открывают, и открылся не сразу. Последняя, незаконченная страница жалобно повисла на мониторе, глядя на меня вымученными словами. «Николай достал клинок из ножен, осмотрел его и с силой рубанул воздух. Острый клинок рассек штору, и тут же послышался сдавленный стон. «Выходи!», – сурово приказал Лекомцев…».
Ох. И на это я тратил время и силы?! Слава Богу, не придется терзать мозги, высасывая из пальца окончание.
Я выделил весь текст и уже потянулся к клавише «Delete», но так и не нажал. «Пусть останется памятником моей деградации, – подумал я. – Когда-нибудь перечитаю и посмеюсь. А пока стану думать, что это своеобразная точка отсчета – хуже писать уже некуда…».
Почему-то стало весело.
Поручив компьютеру создание нового документа, я бодро отстучал на чистом листе рабочее название будущей книги – «Актриса» – и, с давно забытым энтузиазмом, полез на антресоли.
Первое, что бросилось в глаза, была коробка с дядиными бумагами. Как кстати! Сейчас и тетрадку для Гольданцева достану.
Я стянул пыльную коробку вниз, обтер её и открыл.
Как странно, порой, действуют на нас вещи дорогих, но уже умерших людей. Из старой обувной коробки повеяло слабым отзвуком запаха дядиного одеколона, и я словно съежился, уменьшился в размере, возвращаясь в пору своего отрочества. Эх, дядя, дядя, как же хорошо мы жили! Рядом с тобой мне лучше и глубже думалось, легче писалось, и беззаботная молодость, ничем не стесненная, только при тебе, бесстрашно порхала вокруг радужной бабочкой… Доставая бумажку за бумажкой, я оживлял в памяти дни, с которыми эти бумаги были связаны. Вот опись, сделанная ещё до моего переезда – в ней нет и половины того, что есть теперь. «Шкаф резной, зеркальный…». Это есть. Это я помню… А вот большой конверт, уже прорванный с одного края – здесь хранятся письма моей матери. Первое было отправлено ещё в Абрамцевское училище. Когда-то я без конца доставал их и смотрел на мамин почерк. Не читал. Но не доставать не мог. Тайком от дяди вытягивал аккуратно сложенные листочки из надорванных конвертов и, задыхаясь от горя, безудержно плакал над ними, выпадая из времени, из пространства и Жизни вообще… А вот и предсмертное письмо Василия Львовича. Значит, где-то рядом и тетрадка! Да, вот она, обычная, школьная, с таблицей умножения на задней стороне обложки. Может, полистать, раз уж такая оказия вышла?
Я поудобнее устроился на полу, раскрыл тетрадь, но успел лишь заметить, что писал в ней не только дядя, а, судя по почерку, кто-то ещё. Остальное рассмотреть не удалось – зазвонил телефон…
– Александр Сергеевич? – послышался голос Гольданцева. – Ну, как? Вы уже обработали дверь?
«Ах, черт!», – застонала память. Эликсир! За всеми переживаниями о нем как-то забылось, и теперь, чтобы не выглядеть полным идиотом, нужно что-то наврать.
– Э-э.., да.., побрызгал.
– И как? Кто-нибудь приходил?
– М-м… нет. Рано ещё. Времени-то прошло.., – забормотал я, зачем-то оглядываясь на дверь, которую с моего места все равно видно не было.
– Что ж, может, так и лучше, – после короткой паузы произнес Гольданцев. – Я, собственно, звоню вот по какому делу – вы не спросили, а я так был одержим идеей все вам рассказать о существе дела… Короче, оба мы забыли об очень важном – как провести сквозь эликсир того, кого вы хотите видеть в своем доме.
Я снова мысленно чертыхнулся. Действительно, не поинтересовался самым, наверное, главным! Вот было бы весело, приди мы сюда завтра с Екатериной праздновать помолвку, а она не смогла бы переступить порог.
– И, как же?
– Да очень просто. Возьмите за руку, или, не знаю, обнимите за плечи… Одним словом, любой физический контакт, и запрет эликсира перестанет действовать на вашего гостя.
– Хм, – недоверчиво усмехнулся я. – Как-то все это слишком просто.
– Не так уж и просто, – возразил Гольданцев. – Но вы ведь сами не захотели узнать механику происходящего, так что теперь верьте на слово. Вы, кстати, тетрадку ещё не искали?
– Уже нашел, – буркнул я. – Но, по вашему совету, хотел бы сначала сам её просмотреть.
В трубке повисло молчание.
– Аллё, вы меня слышите?
– Да, да, конечно, – изменившимся голосом произнес Гольданцев. – Это хорошо… Очень хорошо, что вы уже следуете моим советам… Однако.., как скоро.., – голос сорвался. Он прокашлялся. – Я хотел спросить, как скоро вы сможете мне её передать?
– Да хоть завтра, – произнес я с раздражением.
Замечание о следовании его советам почему-то разозлило.
– О, это будет чудесно! – воскликнул Гольданцев. – Очень, очень все кстати! Я уж больше не буду вас сегодня тревожить. Завтра и расскажете, как действует эликсир. – Он захихикал. – Уверяю вас, это очень занятно – не откажите себе в удовольствии, понаблюдайте в глазок…
– Непременно.
Я положил трубку.
Определенно, сегодня Судьба на каждом шагу посылает мне знак за знаком. И надо быть полным идиотом, чтобы им не следовать. Загоревшись идеей нового романа, я забыл обо всем на свете, а, между тем, вчера ночью кто-то же ковырялся в моем замке, и пренебрегать этим не следует. Так что, спасибо тебе, Николай Гольданцев, за звонок и напоминание.
Я решительно зашагал в прихожую. Вытащил из кармана куртки полиэтиленовый сверток и, разворачивая его, посмотрел в глазок – не торчит ли кто-нибудь в подъезде?
Нет, вроде, никого.
Почему-то старясь делать это, как можно тише, я отпер замки. Ещё раз осмотрел подъезд и выскользнул наружу.
Из квартиры напротив подсматривать некому. Пожилая пара, жившая там, уже переселилась в мир иной, а их сын все никак не мог найти достойных жильцов, чтобы сдать им освободившуюся жилплощадь. Что ж, я его понимаю, только и слышно про всяких квартирных жуликов, аферистов и прочих бандитов, от которых, вместо прибыли, одна головная боль, если не хуже…
Пузырек в моей руке выглядел пустым. На короткий миг показалось, что Гольданцев надул, и никакого чудодейственного эликсира нет. Но потом вспомнилось, что пузырек, показанный им во время первого визита, тоже выглядел пустым, однако, на моих глазах, Гольданцев обрызгал из него газету, и я не смог её взять.
Что ж, ладно, попробуем.
Я вытянул руку и, нажимая на головку пульверизатора, стал водить пузырьком, сначала по периметру двери, а затем, острыми зигзагами, по всей её поверхности.
Черт! Состояние идиотское! Стою, как дурак, перед собственной дверью и поливаю её из пустого пузырька! Если Гольданцев действительно хотел посмеяться надо мной, то ему самое время начинать это делать – я достаточно нелеп и смешон.
Наверху хлопнуло, и я, быстро «пшикнув» последний раз на пуговку звонка, юркнул в квартиру. Кто-то спускался по лестнице. Через глазок удалось рассмотреть грузную фигуру соседки с пятого этажа – склочной, толстой бабы, откликавшейся на ненавидимое мною имя Люся. Сколько себя помню, эта Люся постоянно таскала какие-то тяжелые сумки и пакеты. Вот и сейчас, не успев покинуть дом, уже волокла набитый до отказа огромный черный пакет с неуместной надписью «Шамбала». «Шамбала для амбала», – весело подумал я, перевирая ударения, но тут же буквально прилип к глазку.
Словно налетев на невидимую стену, Люся вдруг остановилась перед моей дверью и даже потерла лоб рукой, как если бы и вправду стукнулась обо что-то. Она ошарашено повертела головой и попыталась сделать ещё один шаг, но опять не смогла.
Меня прохватил озноб. Батюшки-светушки, неужели перестарался, и теперь даже мимо моей квартиры никто пройти не сможет?!
Но Люся, потоптавшись немного, ухватилась рукой за перила и кое-как протащила свою тушу на следующий лестничный пролет. И дальше, сколько я мог видеть, шла беспрестанно оглядываясь.
Выходит, Гольданцев не шарлатан! Эликсир действует, и действует даже круче, чем я ожидал! Хотя… Люся баба дурная, у неё вечно, то понос, то золотуха. Может, просто голова закружилась, и как раз перед моей дверью? И, несмотря на то, что Люсино торможение было достаточно неестественным и очень убедительным, я, все же, ради чистоты эксперимента, решил проверить действие эликсира на ком-то ещё.
На свет снова была извлечена записная книжка с телефонами. Звать нужно не самого близкого знакомого, чтобы с расспросами не лез. Но и такого, чтобы мое приглашение не выглядело для него чем-то из ряда вон… Кого же позвать? И, самое главное, какую причину выдумать? Она должна быть очень веская, иначе меня не поймут. Как-то так сложилось за последние годы, что, без особой нужды, я к друзьям-приятелям перестал обращаться. Все обзавелись семьями, и наши встречи получались, как правило, только по какому-нибудь поводу. Просто так, «на огонек», забежать мог один Леха, да и то, в рабочий день, когда «косил» от какого-нибудь интервью. Но сегодня суббота. Святой семейный день…
Впрочем, почему не попытаться? Что такого ужасного или неестественного в приглашении одинокого холостяка? У меня, в конце концов, Екатерина уехала! Могу я затосковать и позвать кого-нибудь выпить пива? Вон сколько номеров в книжке, неужели никто не отзовется?
…Я сник уже после четвертого звонка. Как говорил когда-то дядя, если дело не клеится с самого начала, то упираться в него лбом бессмысленно. Или для него время ещё не настало, или это вообще не твоё дело, и, даже если ты и переломишь ход вещёй, радости от него все равно не будет. У всех, кому я позвонил, как раз и были важные, неотложные дела, которые, видимо, ладились с самого начала. Все извинялись, обещали зайти на следующей неделе или завтра, но никто прямо сейчас, сию минуту, когда именно и было нужно!
На пятом звонке я решил схитрить. Сказался больным, который жаждет, чтобы ему поднесли стакан воды. В ответ мне заботливо предложили вызвать «скорую».
«Боже мой! – подумал я. – У меня совсем нет настоящих друзей!».
От отчаяния звякнул Лешке, но трубку взяла его жена Лена. Сухо бросила: «Он спит» и повесила трубку. Все ясно – Лешка, видимо, вчера засиделся с кем-то, и теперь его ждет не самый лучший семейный вечер. Ленка в гневе просто мегера. С полчаса я торчал перед дверным глазком в надежде, что кто-нибудь пройдет мимо моей двери, но так никого и не дождался. Всерьез стал подумывать о том, чтобы на самом деле вызвать «скорую», однако, отказался от этой мысли в пользу вызова на дом доставщика пиццы.
Увы, и здесь тоже вышла осечка. После долгих дозвонов удалось, наконец, пробиться сквозь частые гудки, но лишь затем, чтобы узнать, что в пекарне отключили электричество, и сегодня пиццу доставлять не будут.
Удивительно, как, оказывается, сложно заманить к себе кого-то субботним днем!
К тому же, мысли о пицце вызвали жесточайшие позывы к еде. Вдруг вспомнилось, что, кроме кефира и печенья у Гольданцева, я ничего сегодня не кушал. В холодильнике, разумеется, толковой пищи не было, а хотелось чего-то солидного, плотного и сразу. Так что пришлось одеваться и идти в кафе.
«Ничего, – думал я, шагая по улице, – сейчас поем, куплю что-нибудь на вечер, а там и за роман засяду. Или за тетрадку, чтобы уж разом со всем покончить? А, ладно, дома решу, за что мне лучше засесть. Сейчас – еда, еда, и ещё раз еда! А эликсир? Да, Бог с ним! Рано или поздно он проверится сам собой».
Воодушевившись и предвкушая приятный остаток дня, я нырнул в теплые, ароматные недра кафе «Бибигон», где частенько «зависал» то с Екатериной, то с кем-нибудь из приятелей-предателей. На это они время находили…
– Сашка! Широков!! – окатило меня возле кассы щедрым на модуляции баритоном.
Я обернулся.
Раскинув руки, на меня надвигался громила в военно-полевом камуфляже, и заломленной на затылок кепке.
– Что смотришь? Не узнаешь друга Гену?
– Сипухин? Ты? – выдохнул я.
– А то…
Генка Сипухин – бывший одноклассник и вечный спортсмен – очень мало походил на ушастого паренька с выпускной школьной фотографии. Не будь на нем формы с прапорщицкими погонами, я бы, пожалуй, принял его за спившегося грузчика. Но самыми ужасными были три металлических зуба, украшающие самый центр Генкиной улыбки.
– Старый, а ты совсем не изменился! – рявкнул Сипухин и двинул меня кулаком в плечо.
– Рад слышать, – криво улыбнулся я и виновато скосил глаза в сторону кассирши, ожидающей заказ.
Генка тут же навалился на стойку.
– Девушка, – заговорил он тоном армейского бабника, – перед вами лучшие люди города – знаменитый писатель и, не менее знаменитый, прапорщик. Вы уж накормите нас по полной.
– Заказывайте, накормим, – холодно произнесла девушка.
Генка звонко цыкнул языком и уставился в меню. Воспользовавшись этим, я попытался сделать обычный заказ, но он властно меня отодвинул, прокашлялся и стал диктовать кассирше названия блюд, на которые упал его благосклонный взор. Девушка застучала по кнопкам кассы, изредка вскидывая полные легкого ужаса глаза на металлические зубы, а потом равнодушно произнесла общую сумму.
– Ты с ума сошел! – зашипел я. – У меня даже на половину этого с собой нет!
Генка невозмутимо помотал головой, как гуляющий во всю дурь купец, и растопырил у меня перед носом пятерню, якобы успокаивая. Хотя, кого такая пятерня могла успокоить, я не знаю.
– Санек, не рви душу. Я заказываю, я и плачу.
Он выудил из-за пазухи приличную стопку пятисоток и отсчитал, сколько было нужно. Девушка аккуратно выложила сдачу, затем протянула пластиковую табличку с цифрой «4».
– Вам все сейчас принесут.
Генка проигнорировал сдачу, цапнул табличку и по-хозяйски загреб меня в камуфляжные объятья.
– Пошли туда, в уголок. Хороший столик, я там только что ел.
– Ты только что ел? – изумился я. – И опять назаказывал, как на роту?!
В ответ Генка только весело прихрюкнул.
Мы сели за столик, с которого только что стерли остатки Сипухинской трапезы, и выставили на угол табличку.
– Хорошо в армии платят, да? – спросил я, кивая на полевую куртку, в недрах которой исчезли оставшиеся пятисотки.
Генка расцвел металлической улыбкой.
– Раз в месяц хорошо. В остальные дни хуже. Но сегодня, как раз, тот день и есть, когда хорошо.
– То-то ты шикуешь.
– А то!
– Давай, хоть часть тебе отдам, а то неудобно как-то…
– Обижаешь, Санек.
Генка откинулся на стуле и осмотрел меня с явным удовольствием.
– Хорош. Прикинь, только недавно видел у одного нашего твою книжку, ещё хвалился, что сидел от тебя через парту, а сам думал: все, теперь к Сашке, небось, на дохлой козе не подъедешь, как пить дать зазнался. А ты – вот он, ничего так, нос не дерешь, дружками не брезгуешь.
Я опустил глаза.
– Да чего уж тут нос драть? Все мы люди, все человеки.
– Во! Правильно! А школьная дружба, она, брат, с годами только крепче!
Я посмотрел в Сипухинское пропитое лицо и вспомнил, как однажды, классе в седьмом, пригласил Генку в гости. Он пришел, увидел дядин антиквариат, и потом, до самого выпускного, презирал меня за мещанство и «буржуйство».
– Да, школьная дружба не стареет, – вздохнул я. – Ты лучше скажи, с чего, вдруг, тебя в армию занесло? Неплохой, вроде, спортсмен был…
– Был, да весь вышел, – озлобился Генка. – Не светило мне ничего в том спорте. Это в школе я считался чемпион из чемпионов, бугор на ровном месте. А как в институт поступил, так сразу и понял: или я рву жилы и гроблю на фиг свое здоровье, или валю из этого спорта куда подальше! Оно, конечно, хорошо – сборы там всякие, чемпионаты.., но жить-то когда? Тренер прессовал по-черному. А тут, на соревнованиях одних, раздолбал себе, к черту, колено, и – пошло-поехало! Никому, блин, не нужен стал! На тренерскую не брали, инвалид, говорят, а больше мне и податься некуда было. Целый год по больницам шкуру тер. Все, что успел заработать, на лекарей этих долбанных спустил, а вылечить не вылечили. Так и хромаю до сих пор. Ощущения, Санек – ниже плинтуса! Но, как говорится, не было бы счастья… Лежал со мной как-то в одной палате мужик военный. Майор. Ох, и расписывал про армейскую жизнь – форма, паек, надбавки всякие. Сказал, что можно попробовать в их часть, по контракту… Ну, я подумал, подумал, взял и попробовал…
Генка выразительно развел руками и, выпятив нижнюю губу, издал не совсем приличный звук.
– Теперь, видишь вот, цельным прапорщиком заделался. А знаешь, что такое прапор в армии?
– Знаю, – усмехнулся я.
– Вот, то-то…
Принесли наш заказ, и Генка отвлекся, начав активно переставлять с подноса на стол салатники и тарелки с горячим.
– Я теперь, старик, всем доволен, – с вызовом заявил он, когда официантка отошла. – Сам теперь, как тот майор – к родне в деревню приеду, и давай соловьем заливать, мол, на золоте ем, на золоте сплю, и ни черта при этом не делаю. И ведь верят, гады, завидуют…
– А на самом деле как? – спросил я.
Генка с минуту тоскливо смотрел мне в глаза, но потом во взгляде его что-то неуловимо изменилось, и три металлических зуба победоносно сверкнули.
– Как видишь, – развязно сказал он, обводя руками стол. – Ем, конечно, не на золоте, да и сплю не на перине даже. Но, много ли мне одному нужно.
Я подавил вертевшийся на языке вопрос о семье и, вместо этого, спросил, кем же Генка служит.
– Да у меня самая халявная должность, – обрадовался вопросу Сипухин. – «Начальник телевизионных коммуникаций», или, по-простому, теле-радио узла. Только прикол весь в том, что никакого узла давным-давно нет, и я, что-то вроде штатной затычки для дыр. То лампочки вкручиваю, то шторы вешаю, а, по большей части, сижу и жду, когда «призовут». Лафа!
– Да, лафа, – согласился я, прожевывая сочный финский бутерброд. – Только скучно, наверное.
– Это дуракам скучно, а я не дурак. У меня в дружках, знаешь кто? Начальник продсклада и старший по вещёвке. Мы с ними такую коммерцию развели – закачаешься! Тебе, кстати, берцы хорошие не нужны? Могу достать. В поход там, или на рыбалку – милое дело.
– Да нет, зачем мне? – покачал я головой. – В походы не хожу, на рыбалку, тем более.
– Да, да, помню, – засмеялся Генка. – Ты со школы все в своем буржуйском гнездышке отсиживался. Сейчас, небось, сменил обстановочку?
– Нет, все там же.
Я подцепил вилкой салат и вдруг подумал, что Генка идеальная кандидатура для проверки эликсира. Судя по всему, во времени он не стеснен и на предложение отметить встречу, как положено, откликнется всей душой, особенно, если учитывать, что в кафе, кроме пива, ничего больше не подавали. «А ведь это ещё один знак, – подумалось мне. – Целый день искать, отчаяться и, вдруг, неожиданно найти именно того, кто и был нужен!».
– Так ты не женат? – спросил я на всякий случай.
– Разведен, – буркнул Генка.
– Тогда, может, зайдем ко мне? Выпьем за встречу…
Сипухин радостно вскинулся.
– Пошли… Не ожидал, что ты предложишь… А твои как? Ничего, что я явлюсь на ночь глядя?
– Кто мои, Гена? – насмешливо спросил я. – Если имеешь в виду семью, то у меня её нет и не было никогда. Вобщем-то, это имеет свои преимущества, но, боюсь, в скором времени все переменится, так что, давай, воспользуемся остатками свободы.
В Генкиных глазах мелькнуло кратковременное сочувствие, но расспрашивать он не стал, а позвал одну из девушек-официанток и попросил принести нам «какую-нибудь тару», чтобы забрать с собой то, что мы ещё не съели.
На улице почти совсем стемнело.
Под тусклыми желтыми фонарями, как летняя мошкара, уже собирались группками подростки. В сторону кинотеатра шли высокомерные студентки, чем-то неуловимо похожие друг на друга. Им вслед, скорее по привычке, полетели короткие взгляды деловитых молодых людей восточной внешности. Все в кожаных куртках, как в униформе, они топтались перед строящимся на первом этаже дома магазином и озабоченно переговаривались на своем языке. Генка скосил на них недобрый взгляд и прошипел:
– Понаехали уроды. Житья не стало.
– Что, армия сделал тебя националистом? – весело спросил я.
– А ты, можно подумать, их любишь? – зло спросил Генка.
– Все люди, все человеки.
Сипухин сплюнул, но тут впереди замаячил продуктовый павильон, и всю его национальную непримиримость, как ветром сдуло.
Затарившись, мы повернули, наконец, к моему дому.
– Что ж ты новую квартиру не купил? – спросил Генка. – Или за книжки мало платят?
– Да нет, нормально, – пожал я плечами. – Просто мне тут нравится.
– А я бы купил, – вздохнул Генка. – Две квартиры – не одна.
– Господи, куда ж мне две!
Я покосился на Генку и, собравшись с духом, задал вопрос, ответ на который мне хотелось и не хотелось услышать.
– Ген, а ты мои книги читал?
– Конечно. А как же! Обязательно читал. Ты молодец, старик, хорошо пишешь. Главное, без философствований всяких. В наряде читать – милое дело. А то другие, сам знаешь, начнут рассусоливать, зачем, да почему, да с какой стати. Нуднятина одна. Мне, Санек, знать не надо, что там у кого в душе. Со своей бы разобраться. А у тебя все без затей – пошел, сделал, кому надо в морду дал… Я вот читал твое, и все думал, жаль сам писать не умею. Ох, мне бы такой талант, уж я бы понаписал! Веришь, нет, но в прошлом месяце ждали мы генерала из управы, так в части такой дурдом начался… Офицеры озверели – дальше некуда. Жопы от стульев поотрывали и давай бегать, недочеты искать. Добро бы по делу искали, а то мусорные баки, видишь ли, неприглядно смотрятся. А они у черта на рогах, в таком углу, куда начальство сроду нос не совало. Но, вдруг этот сунет, вдруг заметит. Тут же приказ – немедля покрасить баки в цвета российского флага! У казармы «подошва» облупилась – несильно, на углах, почти не видно – тут же приказ: замазать гуталином! И целая рота, с утра до ночи, раком… Годовой запас гуталина извели. А генерал заскочил на двадцать минут и по другим объектам почесал. На «подошву» ту даже взор свой начальственный не опустил. Цирк! Хотя, нет, в цирке я, как в той поговорке, уже давно не смеюсь. Клоунов жалко. Пыжатся, пыжатся, а мне не смешно. Я каждый день таких придурков вижу, что клоунам до них ещё расти и расти. Взять хоть мой теле-радио узел. Техника времен Крымской войны. В усилке одном лампа как-то сгорела, так мне начальство велело её немедленно заменить, чтобы «можно было работать». Ну, про «работать» – это отдельный разговор, а вот с лампой смешно вышло. Как её заменишь, если таких сейчас уже днем с огнем не сыскать? Говорю им – эти лампы только в музее остались. Прикалываюсь, конечно. А они мне на полном серьезе: иди в музей, договорись, может они нам её в порядке шефской помощи отпишут? Дурдом, да?
– Да, рассеянно кивнул я, думая о своем.
Генкины слова про то, что пишу я «без затей» разбередили утреннюю рану, нанесенную Гольданцевым. «Вот ведь, – думал я, – даже Генка Сипухин – не бог весть какого ума человек, и тот мечтает написать о чем-то наболевшем, что „колет“ ему глаза и, наверное, мешает жить нормально. А я-то что? Столько лет пустопорожней писанины! Так вот же тебе ещё один знак, или, скорее, пинок, что все надо менять. „Чтение для армейских нарядов“ – это же надо, а!».
Мы свернули во двор, подошли к подъезду.
Как ни был я расстроен Генкиными словами, а все же не терпелось скорее войти и проверить эликсир. Почему-то именно с началом его действия я упорно связывал и начало своей новой жизни. Будет действовать эликсир, и жизнь счастливо переменится.
Однако, Генка, как нарочно, замер на пороге и обвел взглядом двор.
– Да, обветшало здесь все, – вздохнул он. – Помню, в школе, мы с ребятами частенько к вам сюда захаживали. Вон там лавочки были, кино летом показывали. А здесь – клумба… Ох, сколько же я с неё цветов надрал в свое время! Всё Ирке Стрельцовой. Ты её помнишь?
Я нетерпеливо кивнул и потряс пакет, в котором многозначительно звякнули бутылки.
– Хватит Ирку вспоминать. Пошли уже.
Генка ещё раз вздохнул и забрел в подъезд, бормоча про себя: «и чего я на ней не женился…».
Уже на лестнице мне почему-то подумалось, что перед моей дверью обнаружится толпа соседей с верхних этажей, которые не могут пройти дальше. Но площадка была пуста, и облегчение быстро сменилось сомнением – а действует ли ещё эликсир?
Обогнав Генку на несколько ступеней, я быстро отпер дверь и распахнул её широким жестом.
– Заходи!
Генка уже поднялся, но дальше никак не шел. На его лице появилось странное, недоуменное выражение, как будто человек направлялся в одно место, а оказался совсем в другом и теперь не поймет, как такое могло получиться?
– Слышь, Санек, я что-то… Как-то мне неловко. Может я того.., пойду домой, а?
– Заходи, заходи, – чувствуя в душе нарастающее ликование, настаивал я. – Неловко ему! А выпить за встречу? А поболтать? Вон, хоть про Ирку Стрельцову. Нам с тобой есть что вспомнить.
На Генкином лице ясно читалась тяжелая внутренняя борьба. Вроде и хочется войти – очень хочется – но, черт подери, войти-то как раз совершенно невозможно.
– Санек, я не могу! – прошептал он, глядя на меня глазами полными ужаса и отчаяния. – Ты не поверишь, но мне почему-то страшно и как-то.., как-то стыдно…
Я был потрясен! Несколько дней назад, пытаясь взять портмоне Гольданцева, я ничего не ощутил, просто не мог взять и все. А Генке и страшно, и стыдно. Может, тут все дело в размерах объекта и в количестве эликсира?
– Ну, что за ерунда, в самом деле!
Я подошел, обнял Генку за плечи и подтолкнул к двери.
– Пошли, пошли, все нормально.
Генка сделал несколько шагов, переступил порог и нервно провел рукой по лбу.
– Фу ты, черт! Бесовщина какая-то! Веришь, ноги поднять не мог…
– Верю, Генка, очень даже верю…
…Уже глубокой ночью, сыто захмелев, я вывалил пьяненькому Сипухину всю распиравшую меня правду о том, почему он не мог войти в квартиру.
Конечно, ни о дядином странном предостережении, ни о Галене ничего не говорил. Ограничился рассказом про публикацию в журнале «Мой дом», а приход Гольданцева представил, как желание ученого-одиночки проверить, с моей помощью, свое открытие.
Генка слушал раскрыв рот. Потом, покачиваясь, выскочил на лестничную площадку и теперь уже долго хохотал над собственным бессилием, пока я за руку не завел его обратно.
– Черт возьми! – восторгался он. – Кому другому – нипочем бы не поверил, но тебе, Санек, тебе… Ты молодец! Все у тебя всегда как-то складно…
За успех эксперимента мы допили все оставшееся спиртное, обсудили перспективы использования эликсира в масштабе страны, и на этой созидательной ноте мирно вырубились.
А утром, уже стоя за порогом и перебарывая резь в глазах, Генка предостерегающе-сипло произнес:
– Ты все же смотри, как бы этот хмырь ученый сам тебя не того… Небось оставил себе чего-нибудь из пузырька…
– Чушь! – мотнул я тяжелой головой. – Ты его не видел. Весь в своих колбах.
– На колбы тоже деньги нужны, – каркнул Генка и стал спускаться.
А я закрыл дверь, уверенно повторил про себя: «чушь, ерунда», и пошел в ванную. Но мыслишка хмельного приятеля, покружив инородным телом в моем сознании, все же осела где-то в его глубинах.
Глава пятая. О природе человека, будь она неладна!
Наверное, кто-то может с похмелья разбираться в мудреных научных формулах, но только не я.
Дядина тетрадь укоризненно смотрела с письменного стола, но из-за мути в глазах я не взялся её даже просто полистать. Внутренний голос упрямо твердил: не отдавай её Гольданцеву, не узнав, что в ней. Однако совесть тоже не молчала и, взывая к порядочности, требовала выполнить обещанное, особенно упирая на то, что свое обещание Гольданцев выполнил. Поэтому, поразмыслив немного, я принял, как мне показалось, Соломоново решение. Позвонил Гольданцеву, в двух словах описал ему вчерашнюю «проверку» и пообещал привезти тетрадь во второй половине дня. А потом включил компьютер и, не торопясь, отсканировал каждый её разворот. После этого времени осталось как раз на то, чтобы выпить аспирин, принять душ и побриться.
Гольданцев встретил меня с распростертыми объятиями.
Надо отдать ему должное – при всем нетерпении, тетрадку сразу листать не начал, а, схватив, только нервно теребил в руках все то время, пока вытягивал из меня мельчайшие подробности вчерашнего Генкиного замешательства перед квартирой.
– Замечательно! Замечательно! – то и дело восклицал Гольданцев. – Сходится даже в мелочах! Боже мой, как я вам признателен! Это невероятное везение, что вы встретили человека не своего круга… То есть, я хотел сказать, что этот ваш приятель несколько иного склада… Я так и предполагал, что на людей с различным воспитанием и образом жизни эликсир действует не одинаково!
– Интересно, как же? – полюбопытствовал я.
Гольданцев взглянул на меня с удивлением. Что ж, его можно понять – впервые несговорчивый клиент проявил хоть какой-то интерес. Однако, в руках находилась вожделенная тетрадка, которую безумно хотелось скорее просмотреть… Я же мысленно, со злорадством, усмехался. Неприязнь к Гольданцеву подсказала мне коварный ход. Ещё в маршрутке, по дороге сюда, вдруг подумалось: «А пусть– ка он мне все, наконец, расскажет. Я вооружен дядиным предостережением, собственным здравым смыслом, да и вообще, начинаю новую жизнь. Гольданцев сколько угодно может превозносить свою тайну, считая её немыслимо важной. Для меня же сейчас ничего главнее нового романа нет и быть не может. И, кстати, заодно посмотрим, как этот фанатик от науки отреагирует на мою капитуляцию? Если согласится все рассказать, то торжество его будет неполным – все-таки разбор тетрадки отложится на какое-то время, а она его, ох как занимает! А если откажется, то, ха-ха, тут уж я поторжествую…».
– Неужели вы захотели, наконец, все узнать? – тускло спросил Гольданцев.
– А почему нет? Я увидел эликсир в действии, понял, что это не шарлатанство, не фокус, и, почему же мне, после всего этого, не загореться вполне естественным любопытством? Вот вы, к примеру, сейчас сказали, что эликсир на людей действует по-разному. Это очень интересно, и я хочу знать, в чем причина. Вдруг кому-то он позволит войти? Сочтет, что его воспитание и образ жизни не опасны, и позволит…
Гольданцев колебался всего одно мгновение. Потом быстро пролистнул тетрадь, задержал взгляд на какой-то странице, наспех прочел пару формул на ней, хмыкнул и, захлопнув обложку, весело произнес:
– Что ж, «орешек знаний тверд, но мы не привыкли отступать», да? Раз уж созрели для серьезного разговора, то милости прошу в комнату. Я сейчас буду рассказывать вам удивительнейшие вещи! Разуваться, кстати, не обязательно.
Я снял куртку и вошел. С видом великосветского льва, случайно заехавшего в провинциальную кунсткамеру, расселся на знакомом табурете-столовой. Закинул ногу на ногу, скрестил на груди руки, (говорят, это помогает от чужого воздействия), и принялся наблюдать за Гольданцевым, мечущимся в поисках чистого листа бумаги и ручки.
– Объяснить различное действие эликсира не так уж и сложно, – говорил он, по ходу дела. – Объясняя примитивно, тот состав, что я сделал для вас, взывает к человеческой совести. Это все равно, как если бы вы стояли перед своей дверью и объясняли всем и каждому, что вторгаться в чужое жилище, без согласия его хозяина, нехорошо. Но, согласитесь, те, кто и без вас это знают, по чужим квартирам и так не полезут. Те же, кто не связан нормами морали, воспримут ваши слова, как пустой звук. Причем, звук скорее раздражающий, чем сдерживающий. И воздействие его направлено, в первую очередь, на слуховой аппарат. Эликсир же взывает к подсознанию. Он, словно зонд, прощупывает всю систему ценностей конкретного человека, выискивая в ней уязвимое место… Ага, нашел!
Гольданцев выудил, наконец, листок и ручку и уселся за стол напротив меня.
– Вы, например, что почувствовали, когда не смогли взять мое портмоне?
– Ничего. Просто не бралось.
– Правильно. Это оттого, что вы и так знаете – чужое не берут. Эликсир лишь многократно усилил ваше знание, не задействуя помощь каких-то иных сдерживающих факторов. А закоренелый вор испытал бы такие угрызения совести, какие нам с вами и не снились. Только представьте себе, сквозь какую толщу наносной дряни должны пробиться пары эликсира, чтобы отыскать задыхающуюся совесть.
– А если совести совсем не осталось, как тогда? – спросил я.
– Такого не бывает, – уверенно заявил Гольданцев. – В человеке изначально заложен определенный набор чувств. Я не слишком религиозен, но, занимаясь этим вопросом, не мог не признать очевидного – все градации любви, стыда и страха соответствуют десяти библейским заповедям. Забавно, да? Они тоже смешиваются в различных пропорциях и порождают зависть, трусость, ненависть… Но все это уже внутри сферы. А сейчас – главное!
Гольданцев придвинул лист бумаги и изобразил на нем весьма условную человеческую фигуру. Потом обвел её кривоватой окружностью и разделил эту окружность вертикальными линиями так, как обычно на картинках делят земной шар, изображая меридианы.
– Похоже на человека в арбузе, – усмехнулся я.
– Неплохое сравнение, – пробормотал Гольданцев, проводя последнюю линию. – И, раз уж вы сами его выбрали, то представьте, что все мы находимся внутри арбуза, а каждая из его долек имеет свое название. Скажем, «здоровье», или «карьера», «дом», «деньги», «способности», «любовь» – короче, все то, из чего состоит наша повседневная жизнь. Если в человеке, как пишет Гален, сбалансированы все четыре стихии, а реки жизненных соков чисты и полноводны, то и сфера, образованная мировой пневмой, идеально кругла и гармонична, а все поступающее извне просеивается сквозь неё, как сквозь фильтр. Такой человек всегда всем доволен, здоров, удачлив, не испытывает ни в чем недостатка, потому, что его потребности не выходят за рамки возможностей.
А теперь представьте, что какая-то одна стихия преобладает. Ну, к примеру, «земля». Иначе говоря, «сухость», по Гиппократу. И пневматическая сфера уже не кругла. На ней появляются «шишки» и целые «опухоли» в местах, наиболее уязвимых. Это все равно, как, сидя в своем арбузе, вы бы вдруг начали выпихивать руками и ногами одну какую-то дольку. И, чем упорнее вы в неё толкаетесь, тем вернее она выпадет, и образуется дыра, в которую, без разбора, рванет извне все то, от чего станут портиться и соседние дольки.
Как пример: вы чем-то серьезно заболели и ни о чем другом уже думать не можете. Долька с надписью «здоровье» пробита. А за ней начинает портиться сектор «деньги», потому что надо оплачивать лечение и поездки по лучшим докторам, и сектор «карьера», потому что вряд ли в такой ситуации вы сможете полноценно работать, отдавая всего себя любимому делу. Неизбежно снижаются доходы, что создает новую проблему, а от постоянных забот и невеселых мыслей расшатываются нервы. В результате, болезнь только прогрессирует.
Но это лишь физическая сторона окружающей нас сферы. Представьте, что над ней существует другая, более тонкая.
Гольданцев обвел свой рисунок новой окружностью.
– Это сфера едва уловимых чувств. Именно она нас теперь интересует, потому что именно там, в этом большем «арбузе» клубятся и перемешиваются составляющие наших душ.
Чтобы было понятнее, приведу ещё один пример – ваше недавнее состояние. Страх! Вы боялись, что воры, привлеченные сокровищами вашего дяди, залезут в квартиру и случится что-то плохое. Одна из стихий пришла в возмущение. Полагаю, это «вода», потому что страх холодит, а свойство воды, как стихии, именно холод. Вы, условно говоря, пробили дыру в секторе «спокойствие» и получили новые проблемы – бессонницу и творческий кризис. Я, кстати, сразу заметил темные круги у вас под глазами… Но и это ещё не самое страшное. Более тонкая сфера тоже нарушается. Пробив своим страхом дыру и в ней, вы выпускаете в мировую пневму саму идею о том, что вас можно ограбить! Понимаете?
– Не совсем.
– Господи, да что же тут непонятного? Есть базовая идея – идея об ограблении, которую мы, люди, давным-давно внесли в общую мировую идею, ту самую, что вывел Платон. Вы «уловили» её, пробили «дыру» в своем спокойствии, а затем, через эту дыру, базовая идея об ограблении вернулась в мировое сознание, но уже, хе-хе, как бы «творчески обработанная» вами.
Гольданцев с надеждой посмотрел в мое притупевшее лицо, но понимания в нем, похоже, не заметил.
– Ладно, – вздохнул он, – зайдем с другой стороны. Идеально круглой сферой не располагает ни один человек. Если бы такое могло быть, все бы стали одинаково счастливыми, или абсолютно безразличными ко всему. А, между тем, все мы разные, все за что-то переживаем, чего-то хотим. Есть счастливые и несчастные, злые и добрые, любящие и ненавидящие, гении и злодей, наконец. Откуда все это берется? Да все оттуда же, из мировой пневмы!
В идеале она чиста и заполнена, как сверкающими точками, идеями вселенского мироздания. Почему святые отшельники забивались в самые глухие чащобы и жили там, вдали от людской суеты? Потому что только так можно провести в относительное равновесие все свои четыре стихии и принимать мировую пневму, как высшее откровение. Но отшельников единицы, а мы, большинство, живем в мире проблем, которые сами же и создаем.
Счастливые люди счастливы, потому что умеют не зацикливаться на одной своей проблеме. Их сферы тоже не идеальны, но они хотя бы близки к этому. А вот несчастные, наоборот, все в «дырах» и пробоинах от собственных переживаний. Добрые и любящие умеют свои «дыры» латать самопожертвованием и альтруизмом. Но тут другая беда – добровольно распахивая свои «доброту» и «любовь», они рискуют не совладать со всем тем злым и недобрым, что может туда залететь. Зато никто лучше не умеет «чистить» мировое сознание ото всего недоброго, что «выпускают» люди злые. Гении – те особый случай – в отличие от простых смертных, могут различать золотистые искорки вселенского мироздания, и дарят нам величайшие открытия, шедевры, откровения. Злодеи их оборотная сторона. Они концентрируют в себе сгустки самого плохого и реализуют их в войнах, революциях, диктатурах…
Мы ловим из мировой пневмы идеи, и, в зависимости от того, какие стихии в нас преобладают, как они перемешаны и, как распределены внутри сферы, что-то «вбираем», осмысливаем и строим на этом этапы своей жизни, а что-то «исторгаем», или просто не замечаем. Но любая идея, которую мы в себя приняли, должна вернуться, как воздух, который мы вдыхаем и выдыхаем. И это уже не просто идея, а нечто конкретное, что мы, именно мы, прочувствовали, осознали, создали всеми своими стихиями, и теперь предлагаем всему человечеству через мировое сознание. Проще говоря, если вы ощутили в себе страх быть обворованным и выпустили его за пределы своей сферы, то кто-то этот страх обязательно уловит. И может быть даже, таких «кто-то» будет несколько. Один «исторгнет» за ненадобностью, другой ещё раз переработает в себе и выпустит в виде желания обворовать, ну а третий это желание реализует. И совсем не обязательно, что обворуют именно вас. Главное – идея! Она появилась, выпущена, и просто так в воздухе не зависнет. Теперь понятно?
– В общем, да, но я не вижу, какая связь…
– Да погодите вы!
Гольданцев нетерпеливо махнул рукой.
– Гален тоже не с бухты-барахты начал составлять свои эликсиры. В первую очередь он задумался над этим.
Кончиком ручки Гольданцев несколько раз стукнул по рисунку.
– Вероятно, отправной точкой для Галена стал процесс самолечения. Исцеляя гладиаторов, он не мог не заметить, что легче всего выздоравливали, да и вообще, переносили страдания, именно те, кто не придавал особого значения своим ранам. Между прочим, известен факт, когда сын императора Комод – большой любитель выйти на арену с мечом в руке – получил однажды серьезное ранение, но сразу его даже не заметил, так был увлечен боем. Почему такое происходит? Что позволяет обычному человеку из плоти и крови ходить по раскаленным углям, не получая ожоги? Сидеть на гвоздях, протыкать себе кожу и не ощущать при этом боли? Легче легкого сказать, мол задействованы скрытые возможности организма, а в сознании что-то отключается и переключается. Но, что именно? Кто-нибудь задавался этим вопросом вплотную? Или нет, спрошу иначе, кто-нибудь получил приемлемый ответ? Думаю, только Гален, но об этом по сей день никто ничего не знает!
Впрочем нет, есть один ответ, который известен всем и каждому, вот только понимается он превратно. Это вера. Но не та, которую проповедуют церковники, хотя, канонизировав учение Галена, они очень удачно подключили его к своей трактовке веры. Нет! Есть вера истинная, и именно её имел в виду Гален, когда говорил о необходимости воспринять мировую пневму, как высшего Творца. Осознав себя частью вселенского разума, человек уверует, что он действительно разумный, и тогда многие загадки и проблемы разрешатся сами собой! Истинная Вера не прикована земными пороками, как цепями, к условностям, ритуалам и ограничениям. Помните, в Библии, про птах небесных? «Не сеют, не жнут», а хлеб свой имеют. При этом, заметьте, они и не молятся, и в церковь не ходят. Если воспринимать смысл этих слов буквально, то ничего толкового не выйдет. Но, если рассматривать «не сеют, не жнут», как условное обозначение того, что свою жизнь эти птахи не посвящают одному лишь добыванию пищи – то есть, не замыкаются на этой проблеме – то смысл во всем этом появляется.
– Какой же тут смысл? – удивился я. – Ничего не делать и есть на халяву?
– Нет. Петь песни, вить гнезда, летать, радуясь солнцу и новому дню! Иначе говоря, жить полноценной жизнью, что бы ни случилось! Скажете, слишком просто? А я вам отвечу – не так уж и просто. Вы попробуйте объяснить страдающему человеку, что все его беды отступят, если он не сложит все мысли и чувства, как веер, в одну болевую точку, а, наоборот, раскроет их максимально! Попробуйте сказать человеку в момент самого острого горя, что его слезы и отчаяние всего лишь результат собственного эгоизма и нежелания стать Разумным. Ведь от чего мы страдаем? В основном, от незнания и страха, но незнание и страх наши же, собственные. Умрет близкий, любимый человек, и мы готовы умереть следом, потому что невозможно себе представить, что больше он никогда с нами не заговорит, не сядет рядом, не сделает что-то привычное, что делал только он… Со временем, конечно, это дикое отчаяние пройдет, но оно ведь может и не возникать совсем, и не вырывать из нашей жизни месяцы изматывающего горя! Для этого нужно всего лишь трезво взглянуть на вещи и перестать жалеть себя, осиротевшего.
Все мы живем со страхом перед смертью. Но страх этот от незнания самой сути смерти. Тот же, кто умер, уже все знает. Он ничего не боится. Обиды, унижения, голод, войны, катастрофы его больше не достанут. А если умерший ещё и тяжко, со страданиями болел, то он вообще получил своеобразное исцеление. О чем же тут скорбеть, спрошу я вас? Мы ведь точно не знаем, но, что если, там, за смертным порогом, закрыв за собой дверь, умерший человек облегченно вздохнул и шагнул в новую жизнь, не обремененную прежними страхами и заботами?
Мы-то, конечно, чувствуем себя осиротевшими, но почему? Потому что любимый человек больше не порадует своим присутствием? От этого, конечно, можно впасть в отчаяние, которое выжигает вокруг пустыню отчуждения. Вспомните, как неловко и тяжело рядом со скорбящим человеком. Утешать – только подливать масла в огонь, а помочь уже ничем нельзя. Но почему не направить столь мощный эмоциональный всплеск на что-то позитивное, созидательное? И, вместо дурных, отхожих чувств, подарить человечеству, через мировую пневму, нечто действительно великое? Моцарт, потрясенный смертью отца, создал «Дон Жуана» и «Реквием», и нет на земле более прекрасной музыки о Смерти. Безутешный восточный владыка Шах-Джахан строит мавзолей, в память об усопшей жене Мумтаз, и весь мир любуется Тадж-Махалом… А что если, смерть близких дана нам, как напоминание? Как повод лишний раз задуматься о своем уходе?
В обычной жизни, загостившись у кого-то, мы стараемся произвести наилучшее впечатление – убираем за собой, бережно относимся к вещам хозяев, оставляем какие-то подарки… В этой жизни мы тоже гости. Рано или поздно, уйти придется. Но любой гость может так «прийтись ко двору», что хозяева не захотят с ним расставаться, или позовут снова, и снова, и снова. Тут есть над чем задуматься. И, когда близкий человек уходит, вместо того, чтобы тратить время на бесполезные слезы и тупое отчаяние, стоит, наверное, подумать, насколько хорошим гостем он был. Не зря же существует поговорка: «о мертвых или хорошо, или ничего»…
– Постойте, постойте, – перебил я, слегка ошарашенный этим новым взглядом на вещи. – Но если вашего близкого убил в подворотне какой-нибудь случайный подонок, как быть? Тут уж не до умных рассуждений, согласитесь.
– Соглашусь, – вздохнул Гольданцев. – Но повод для размышлений есть и в этом случае. Убийство, как и многое другое, выпустил в мировое Сознание сам же человек. Как только в людском обществе появилась индивидуальность, в головах более отсталых сразу же родилась и зависть. А уж она, совокупляясь с жадностью, злобностью, и прочими прелестями, которыми буквально кишит человек Неразумный, породила корысть, ненависть и иные побудительные мотивы для убийства. Так что теперь, в искристой мировой пневме плавают и эти мазутные пятна.
В идеале, истребить их, конечно, легко. Но так же невозможно, как и избавить человечество от индивидуальных страданий. Всякое зло, прежде всего учится защищаться. И нас учит защищать его через гордыню, честолюбие и ложное упорство. Тут, кстати, уместно вспомнить ещё одну Библейскую притчу о «другой щеке». Никогда прежде её не понимал, потому что читал «подставь другую щеку» буквально. Но сейчас я уже понимаю. Другая щека – это, грубо говоря, «другая сторона медали». Вас ударили, унизили и, тем самым, выплюнули в мировую пневму ещё один комок злобы. Если вы ударите в ответ, таких комков станет два. Но, если вы «повернетесь другой щекой», то есть простите обидчика, то есть поведете себя как-то неадекватно, без агрессии, то вслед за грязным комком злобы, отправите в мировую пневму искристое облачко добра. Вам это понятно?
– Да, – сказал я, вполне уверенно.
– Очень хорошо, потому что теперь я перейду непосредственно к предмету нашего разговора.
В свой первый визит я уже пытался вам рассказать, что от сочетания гомоймеров наших внутренних стихий зависит тот или иной тип личности. А это, в свою очередь, обуславливает уровень эмоциональности, уровень восприятия и, соответственно, наши поступки. Значит, если найдется способ привести в гармоническое равновесие стихии, то это позволит человеку легче справляться с проблемами и созидательно распределять энергию внутри своей сферы.
Путем многочисленных опытов Галену удалось составить несколько формул для эликсиров, и результат, я уверен, потряс его самого!
Взять, хотя бы, эликсир «третьего глаза», или «sensibilis» – воспринимаемый чувствами. Это мой отец так назвал, потому что получил его самым первым и ещё не знал тогда, что каждый эликсир, по сути, может называться «sensibilis». В пояснениях Галена к этой формуле стояла только скупая ремарка «третий глаз», и отец долго не мог сообразить, как же его надо использовать – закапывать в глаза, или просто распылять перед ними? Но распыление в воздух ничего не дало, и тогда он, проверки ради, решил распылить эликсир над домашним цветком… Отец рассказывал, что в тот момент со стола упала тетрадка. Он нагнулся за ней, а когда снова взглянул на цветок, то совершенно обалдел!
Вы когда-нибудь задумывались над тем, КАК именно мы смотрим на то, что нас окружает? Вы можете себе вообразить, что каждый, полученный нами образ, искажен? А между тем, все именно так и обстоит. Более того, мы вообще не в состоянии видеть мир таким, каков он есть на самом деле! Вот, к примеру, вы сейчас смотрите на меня, и ваш взгляд отвлекают и рассеивают предметы, находящиеся в этой комнате. На мне повсюду их отраженный свет, что уже искажает картину. А прибавьте сюда свое, немного нервозное, настроение, мое – немного взволнованное, чувство голода или, наоборот, перенасыщения, усталость, сонливость, симпатию, антипатию, и так далее…, и вы получите полный набор искажающих факторов, которые почти не оставляют места для «ordo ordinans» – организующего начала, то есть, облика истинного! Вам понятно, о чем я говорю?
Я немного обиделся.
– Похоже, мое нервозное состояние слишком сильно исказило картину, и я кажусь вам каким-то идиотом. Что вы все время спрашиваете «понятно, понятно?». Конечно, понятно, черт возьми! Сначала, да, я немного растерялся, но теперь, когда картинка сложилась… Короче, можете больше не волноваться за мои умственные способности.
– А с вами оказывается, приятно иметь дело, – рассмеялся Гольданцев. – И это очень хорошо, потому что, когда я скажу главное, все уже сказанное, придется вспомнить снова. А за мой вопрос, конечно же, простите. И на идиота вы не похожи. Я всего лишь отдаю себе отчет в том, что эти новые сведения трудно воспринимать вот так, с ходу. Наше сознание слишком забито никчемной информацией. Воспринимать мир в чистом виде оно уже не может. Вот говорят, дети и животные чувствуют плохих и хороших людей. А они всего лишь видят по-иному. Животные в силу того, что их восприятие все-таки отличается от нашего, а дети потому что ещё чисты и невинны. И не в том смысле, что не успели нагрешить, а просто не обросли пока тем никчемным и ненужным, что наросло на нас…
– Что же, все-таки, увидел в цветке ваш отец?! – нетерпеливо воскликнул я.
Мне совсем не хотелось, чтобы Гольданцев снова увяз в рассуждениях именно тогда, когда заговорил, наконец, о самом интересном.
– Да цветок и увидел! – радостно сообщил Гольданцев. – Но увидел так, как не видел до этого никогда! Это невозможно объяснить словами, потому что нет в нашем лексиконе ни слов таких, ни понятий. Я сам проделывал потом этот опыт, и, с полным знанием дела, говорю – в обычном человеческом сознании такое не укладывается.
Как описать ясно возникающее, реальное, полноценное понимание текущего по листьям жизненного сока, слабого свечения ауры цветка, или совершенной необходимости каждой прожилки, каждой веточки, листика и крошечного сучка?! Вы даже начинаете видеть, что растение слегка болеет от нехватки солнечного света и воды, и замечаете, какие его участки страдают наиболее сильно. Вы чувствуете «беременность» набухающего отростка и можете уверенно сказать, что скоро из него прорастут три новорожденных листочка… Зрелище, скажу я вам, невероятное! Отец долго не мог придти в себя, и я его очень хорошо понимаю. Сам долго привыкал к новому видению. Точнее, к его отсутствию, потому что, получив первые образцы «третьего глаза», я первое время брызгал им на все, что попадалось под руку и привык смотреть в глубь вещёй. Но другие эликсиры ждали своей очереди, и пришлось отказаться от баловства, ради науки… Между прочим, с этим «глазом» я мог бы стать величайшим экстрасенсом. Человеческий организм, как на ладони, причем, не только с болячками, но и с настроением в данный момент, и даже с типом характера, темпераментом, и другими вещами, о которых вы и сами, может быть, не догадывались.
Другой эликсир – «скрытый слух», или телепатия, в чистом виде. Его-то, как раз и нужно было закапывать в уши, но соединения гомоймеров там самые нестабильные – быстро распадаются. Главный составляющий элемент там – вода. Не зря её издревле считали проводником в иной мир. Но испарения все портят. Хватает дня на три, а потом звуки резко начинают затихать. К тому же, без подготовки, в новых, почти потусторонних, шумах трудно разобраться.
Был ещё очень смешной эликсир, который максимально снижал гравитацию. Человек, конечно, не летал, как птица, но походка делалась, в буквальном смысле слова, летящей…
Отец воспроизвел все, что у Галена было записано готовыми формулами. Что-то его потрясло, что-то не очень. К примеру, эликсир, позволяющий притягивать вещи доставил только хлопоты. Хорошо, что он испарялся ещё быстрее, чем «скрытый слух». Зато некоторые другие соединения, вроде знакомого вам «эликсира совести», поражали устойчивостью своих соединений. Способ их нейтрализации и составление новых эликсиров стали основной заботой моего отца, после того, как механизм составления формул стал ему совершенно понятен. Вам я об этом рассказывать не стану. С одной стороны профессиональная тайна, а, с другой, зачем вам это? Расчеты, замеры, точное соблюдение пропорций… Главное вы знаете – задействуются четыре природные стихии и четыре жизненные стихии вашего организма.
Пять лет относительных удач и явных провалов, пять лет полной отрешенности от жизни, и, наконец, удалось вывести формулу абсолютной Гармонии. Идеально выверенную, стойкую, совершенную, дающую небывалые возможности, даже, я бы сказал, могущество, но… смертельно опасную! Эликсир, составленный по этой формуле, не только выравнивал сферу человека до абсолюта, но и укреплял её настолько, что она становилась более похожей на броню. Однако, в той броне вы делались также абсолютно безразличным ко всему… Василий Львович никогда вам не рассказывал, как умер мой отец?
– Нет.
– Я так и думал. Будь иначе, он не смог бы утаить от вас и все остальное, и тогда бы не я вас искал, а вы меня… Отец умер, сидя в кресле и безучастно глядя в окно. Он просидел так шестьдесят шесть дней, без еды, без питья, без естественных оправлений и каких-либо желаний. Он умер совершенно здоровым, располагающим такими возможностями, какими располагает, разве что, Бог, и совершенно равнодушным. Умер после того, как однажды удобно сел в кресло и решил, что больше незачем вставать. И с тех пор в этой квартире, как вы можете видеть, нет ничего, на чем можно было бы удобно сидеть или лежать.
– Но почему? – воскликнул я потрясенно. – Как такое вышло?!
– Эликсир, – развел руками Гольданцев. – Идеальная формула сферы-брони. Полная, абсолютная самодостаточность, или счастье, если хотите. Жизнь в свете без теней. В абсолютном свете, где уже ничего не видно. Нет желаний, нет потребностей, все известно, и все скучно. Плюс полная защита от окружающей среды. К отцу никто не смог подойти ближе, чем на метр, даже после его смерти. Только ваш дядя. Он тогда выгнал всех из комнаты и что-то сделал. Но что, никто не знает. Зато, после этого, отца смогли переложить в гроб и похоронить, как следует.
– И никого это не удивило? – изумился я.
– Обошлось, – уклончиво ответил Гольданцев. – Василий Львович вообще очень много помогал отцу. Они вместе работали над формулой. Теоретическую часть разрабатывали у вас, а опыты отец ставил в этой квартире. Я тогда жил отдельно. С матерью. Они развелись, как только отец связался с рукописями Галена и забыл обо всем на свете. Но разрыв между родителями начался ещё раньше – из-за коллекции книг, которая требовала слишком больших денег, из-за неудач на работе, где отца затирали за неординарность мышления… Я мало общался с ним. Только забегал иногда, слушал про опыты, просил хоть что-то испробовать… Но отец не давал. Берег… Эликсиры Галена были для него не просто оглушающей сенсацией. Это был шаг в иное измерение, куда отец всю жизнь стремился, и куда его не пускали коллеги-обыватели. Он даже не хотел никому ничего доказывать! Просто мечтал раскрывать тайну за тайной. Потому-то все эликсиры, которые составлял, пробовал сначала на себе.., ну, и на вашем дяде. Василий Львович тоже, так сказать, подставлял голову под секиру науки, но из записей отца, которые мне достались, я понял, что далеко не все эликсиры, что были созданы на пути к Абсолютному, его коснулись. Зато моего отца коснулся каждый! Возможно, он просто заигрался…
Гольданцев печально опустил голову.
Странное дело, прежняя неприязнь к нему куда-то испарилась. Я вдруг ощутил такое сочувствие и такую жалость к этому человеку, всю жизнь мечтающему об отце-друге, но прожившему без него и, в то же время, преданно продолжающему его дело, что еле удержался на табурете и не бросился к Гольданцеву с утешениями.
Только спросил благоговейным шепотом:
– От чего же тогда умер мой дядя?
– Увы, – Гольданцев поднял на меня тоскливый взор, – наверняка я не знаю. Могу лишь предполагать. Судя по всему, последний эликсир, который опробовал Василий Львович, был эликсир «долголетия». Давал абсолютное здоровье. Отец получил его года за полтора до того, как позволил воспользоваться вашему дяде. Он решил, что прошло достаточно много времени, и любой «побочный эффект» уже дал бы себя знать. Но, к сожалению, все неприятности проявились через пол года. Я имею в виду, у отца. Как раз то самое безразличие. Оно начиналось с мелочей и, постепенно, распространялось на все области жизни. Соединение невероятно прочное.., ваш дядя был обречен, и знал об этом…
Я, кстати, долго думал, говорить вам, или нет – все-таки, это лишь догадка… Но сейчас сомнений у меня не осталось. Вы все поймете правильно… У отца был шкафчик с разными редкими составами и ядами. До того, как рукописи Галена очутились в его руках, он много экспериментировал с ними и составил подробную опись, где аккуратно фиксировал даже самый незначительный расход. После похорон мы с матерью все здесь разбирали, и одного органического яда так и не нашли. В человеческом организме он растворяется без остатка и практически необнаружим… Боюсь, ваш дядя воспользовался им, когда понял, что ему грозит. Видимо, не хотел встретить вас безучастно… Но погодите! Не бледнейте так! Это ещё не самое страшное. Самое страшное и непонятное в этой истории то, что они оба, мой отец и ваш дядя, открыли таки способ нейтрализовать прочность соединения гомоймеров в эликсирах! Открыли и, почему-то, не воспользовались!
– Откуда вы это знаете? – потерянным голосом спросил я.
– Знаю, – отрезал Гольданцев. – Я это вычислил. И, хотя отец уничтожил саму формулу, все же остались кое-какие наброски, малопонятные расчеты и, самое существенное, сноски на записи в тетради Василия Львовича, где эта формула выводилась! Эту тетрадь вы мне сегодня принесли, и теперь я могу создать противоядие! Представляете, что это значит, и для меня, и для науки?! Представляете, какие возможности открываются?! Я смогу создавать не просто новые, безопасные эликсиры. Я, как Творец, смогу создать новое человечество, где на смену человеку Разумному, но уязвимому, слабому и грешному, придет человек Мудрый. Мудрый, как Бог! И вас я приглашаю в помощники!
Гольданцев встал с табурета, словно вырос, победоносно облокотился о стол и заглянул в мои, остекленевшие от обилия впечатлений, глаза.
– Ну, как, Александр Сергеевич, хотите стать первым созданием нового Творца?
Глава шестая. С небес на землю
Возвращаясь домой, я едва не проехал свою остановку, так был возбужден и потрясен.
Остаток дня мы с Гольданцевым провели очень плодотворно. Он снова взял у меня кровь, слюну и желчь, (причем, в этот раз резиновую кишку удалось проглотить почти сразу), и все это время, без устали, излагал мне свои планы. По словам Гольданцева Абсолютный эликсир, который он мне изготовит, сделает меня обновленным и умудренным, а противоядие, составленное по формулам из дядиной тетради, избавит от разрушающего безразличия, и тогда я смогу написать свою лучшую книгу – всем книгам Книгу – где идеи обновления всего человечества будут изложены доступно, убедительно и, самое главное, оч-чень привлекательно!
Слушая Гольданцева, я испытывал небывалое воодушевление, какого не испытывал, наверное, никогда. Даже в ранней юности, начиная свой первый роман, не припомню такой душевной дрожи, такого творческого нетерпения, почти физического зуда… Впрочем, немедленно вскакивать и нестись домой, к компьютеру, чтобы излить хоть какие-то впечатления, не хотелось. Во-первых, потому что Абсолютный эликсир, как никакой другой, требовал особенной, отстоявшейся крови. Секунда промедления или поспешности могла все испортить, и кровь пришлось бы брать снова. Поэтому Гольданцев попросил подождать. А во-вторых, в благодарность за внимание и понимание, а также, чтобы скоротать время, он решил показать действие некоторых безопасных составов.
О-о-о!!! Вот когда я понял, что, действительно, нет в человеческом языке слов, способных это передать! Старый табурет, опрысканный «третьим глазом», вдруг засветился мутновато-зеленым светом, и я, то ли увидел, то ли ощутил, то ли просто уловил самым глубинным подсознанием, слабый отголосок жизни в давно убитом и распиленном дереве. Черт знает как, стало вдруг понятным, что жизнь эту составили и гвозди, и ржавчина, наросшая на них, и даже краска, в которой уцелели воспоминания о щетинках кисти и.., я едва поверил себе, о руках, эту кисть державших, и эту краску наносивших!
– Андерсен какой-то, – пробормотал я, не в силах отвести глаза от дивного зрелища.
– Наиграться этим вы ещё успеете, – усмехнулся Гольданцев и набросил на табурет простыню.
Одно короткое мгновение она словно вспыхнула всеми своими тайнами, и, продлись эта вспышка чуть дольше, я бы смог, наверное, рассказать не только о том, какие нити этой простыни соседствовали друг с другом на катушке, но и о том, какие страдания принес им ткацкий станок, швейная игла и химические отбеливатели. Однако, видение быстро пропало.
– Состав воздуха изменился и «сбил» формулу эликсира, – пояснил Гольданцев. – Нестойкое соединение. Слишком много воздуха. Эликсиры, основанные на стихиях человека, гораздо прочнее. Кстати, с вашей помощью, я собираюсь выяснить и то, насколько взаимосвязаны интеллект личности и стойкость эликсиров на основе «соков» её организма. Вы умны, обладаете творческим потенциалом и социально ни от кого не зависите, что, несомненно, делает вашу личность более яркой. Вы для меня просто идеальная кандидатура…
От этих слов я готов был растечься по полу, как медуза. И пусть Гольданцев собирает меня по пробиркам, изучает и создает заново! С каждой минутой важность его открытий делалась все значительней, а благодарность за доверие просто мешала дышать! Он держался со мной, как с равным, хотя, именно теперь, я готов был безоговорочно признать его превосходство
– Противоядие обязательно нужно будет опробовать, – говорил между тем Гольданцев. – Сначала я, конечно, проведу эксперименты на домашних цветах и на дворовых кошках, но, вы же понимаете, этого мало! В таком деле нельзя отождествлять человека с растением или животным…
– Конечно, конечно! – с энтузиазмом восклицал я. – Можете располагать мной прямо сразу, минуя кошек!
– Нет, зачем же так сразу, – ничуть не торжествуя над моими порывами, улыбался Гольданцев. – Все должно идти своим чередом…
Когда стало ясно, что с кровью полный порядок – и свернулась она, как надо, и отстоялась ровно столько, сколько была должна – я сразу почувствовал, что мое дальнейшее присутствие нежелательно.
Что ж, все понятно, бесценная тетрадка и так заждалась своего часа.
Мне стало безумно стыдно за те макиавеллевские ухищрения, которыми я пытался испортить Гольданцеву праздник обладания ей. Но извиняло то, что днем сюда пришел совсем не я… Точнее, я, но другой – глупый, бездарный и беспомощный! Теперь же Александр Сергеевич Широков был в одном шаге от совершенства и абсолютно готов стать Адамом для нового человечества.
Из вонючего подъезда я вылетел словно на крыльях. Не заметил, как оказался на остановке, а потом и в маршрутке. Очнулся на мгновение от окрика водителя: «платить будем, или нет?!», с большим трудом сообразил, что и сколько нужно отдать за проезд, и снова впал в состояние мыслительной эйфории.
Новый роман был забыт.
Ничтожный сюжет, не стоящий выеденного яйца!
То ли дело книга о человеке, видящем самую суть вещёй и явлений, скрытую от нашего понимания личную жизнь самой Природы, если так можно выразиться! Вот, что взбудоражит умы, встряхнет, заставит задуматься!…
Сюжеты, один фантастичнее другого, роились в голове, но я лишь рассматривал их мысленно, как картинки, не вглядываясь пристальнее ни в один. Сейчас планы лучше не строить. Гольданцев обещал приготовить мой Абсолютный эликсир в самые кратчайшие сроки, чтобы, на его основе, начать создание противоядия. Ох, скорей бы! Я уже получил представление о новом видении, которое обрету, и не терпелось получить его в постоянное пользование. Вот тогда и к новой книге можно приступать…
Тут, скорее машинально, чем осознанно, мое обычное сознание зафиксировало знакомую остановку, и, сбивая с ног уже садящихся в маршрутку новых пассажиров, я бросился к выходу.
На улице было темно и очень холодно.
Осень уверенно расчищала дорогу зиме, стряхивая с деревьев последние листья и выхолаживая всякое воспоминание о летнем тепле вечной какой-то сыростью.
Захотелось в дом, в уют. Скорее унести свой разгоряченный энтузиазм, пока он не остыл, чтобы и там, в домашнем покое, продолжать рассматривать картинки будущей новой жизни.
Но, выскочив из подворотни во двор, я сразу заметил съежившуюся у подъезда Лешкину мощную фигуру. С поднятым воротником он зябко притоптывал спиной ко мне, но на звук шагов обернулся и тут же сипло заорал:
– Старик, это уже ни в какие рамки!…. Где тебя носит?! Я тут жду, жду… Ты мне два дня рождения должен, хоть помнишь об этом? И мобильник с собой не носишь, балбес!
Я подошел и похлопал себя по карманам.
– Точно, забыл.
– Ну и козел!
Леха поднес к моему носу бурый от холода кулак, с намертво зажатым в нем увесистым пакетом, и всем этим угрожающе потряс. В пакете звякнуло.
– Вот Катька приедет, все ей расскажу. Только она за порог, и ты сразу в бега. Представляю, что будет, когда и меня рядом не останется.
– А ты куда собрался? – удивился я.
– Здрасьте, Новый год! Я же тебе ещё на твой день рождения говорил, что меня зафутболили спецкором в Москву на эту их дурацкую конференцию по НЛО! Завтра, с последним дилижансом убываю.., но ты, конечно же, об этом не помнишь.
– А ты тоже хорош, нашел когда об отъездах сообщать – на дне рождения! С тем же успехом мог пошептать на ухо, когда я сплю…
– Так ты, вроде, не пил тогда?
Это напоминание радостным толчком вернуло меня к мыслям о грядущем обновлении.
– Ладно, пошли, – весело сказал я и потянул Леху к подъезду.
Его приход оказался, как нельзя более, кстати. Безумно захотелось выговориться. К тому же, Гольданцев и не просил сохранять его сведения в тайне. Не приди Леха сам, я бы, наверное, позвонил и «выплакал» его у суровой жены Ленки.
– Я, понимаешь, как дурак, весь день вчера отбывал домашнюю повинность, – бухтел Лешка, топая за мной. – И ковер выбил, и в магазин сходил, и даже пропылесосил, лишь бы меня сегодня к тебе отпустили.
– Не ври, – погрозил я ему пальцем, – вчера тебе звонил, и Ленка сказала, что ты спишь.
– Ну правильно! – возмутился Леха. – Сначала спал, но потом-то… Не хуже той пчелы из мультика – то с ведром, то с пылесосом!
– Слушай, Леха, – притормозил я между лестничными пролетами, – а ты в квартиру-то ко мне звонил?
– Нет, – съязвил он, – как подошел к подъезду, так и остался стоять…
Но тут вдруг Лехино лицо, прямо на глазах, как-то опало и приняло глуповато-удивленное выражение.
– Хотя нет, погоди… Я же к тебе поднимался, но так и не позвонил. Фу ты, черт! Идиотизм какой-то! Представляешь, поднялся, встал у двери, а позвонить не могу. Стою и думаю – вдруг человек работает, сидит, пишет, а тут я, со всем этим…
Леха с отвращением посмотрел на пакет.
– Вот так потоптался, потоптался и вниз пошел… Чуть домой не вернулся. Но внизу глянул на окна, вижу – темные, дай, думаю, подожду. Ну, а потом и ты появился.
Леха недоуменно поднял на меня глаза, словно только теперь осознал всю нелогичность своего поведения и ждал, что я все разъясню. Но я, улыбнувшись ещё шире, произнес: «хорошо», и, через ступеньку, зашагал к своей двери.
– А что это было? – цепляя звякающим пакетом за перила, торопился сзади Леха. – Ты почему спросил, звонил я, или нет?
– Сейчас, Алексей Николаевич, сейчас все объясню!
Переборов желание немедленно поразить друга действием эликсира, я отпер дверь и, обхватив Леху за плечи, втолкнул его в квартиру.
– Давай, разувайся, раздевайся и падай в кресло. Я тебе сейчас такое расскажу, что на ногах не устоишь!
– А это куда?
Недоумевающий Леха потряс пакетом.
– Сам все устрою.
Я выхватил пакет, бросил Лешке под ноги свои тапочки и метнулся на кухню.
– Зачем же в кресло? – спросил он, заходя следом. – Мы что, здесь не можем посидеть?
– Нет, нет! О ТАКОМ на кухне говорить не будем. Иди в комнату и вот это с собой прихвати.
Я подпихнул к нему сервировочный столик.
– Ну, дела, – вздохнул Леха. – И здесь, как дома. Дай что-нибудь, колбасу пока порежу. Что-то ты, Санек, странноватый какой-то стал.
– Ты сейчас тоже странным станешь!
Я сунул ему нож, разделочную доску, а сам остался, чтобы разогреть в микроволновке толстую, как батон, пиццу, которую мы с Генкой Сипухиным вчера купили вместе в водкой, но так и не съели.
– Слышь, Санек, а ты случайно в сектанты не записался? – донесся из комнаты Лехин голос. – Я тут про них недавно статью писал, так теперь любого сектанта с пол пинка распознаю. Особенно новичка. Те тоже резко меняют привычный образ жизни – в день рождения не пьют, шляются где попало, вместо того, чтобы работать, короче, ведут себя неадекватно. И взгляд у них такой…
Микроволновка запикала, сообщая о готовности пиццы. Я выхватил теплое блюдо и вернулся в комнату. Леха ткнул в мою сторону ножом и торжествующе закончил:
– Во, взгляд точь-в-точь, как у тебя сейчас!
Усмехаясь в предвкушении того, как удивлю этого Фому-Ни-Во-Что-Не-Верующего, я плюхнул тарелку с пиццей на столик, сел и торжественно провозгласил:
– Леха, друг, готов ли ты к тому, что скоро все человечество кардинально переменится?
Не дорезав кусок колбасы, Леха выронил нож.
– Нет, ты что, серьезно в секту вляпался?
– Это ты вляпался, раз ни о чем другом говорить не можешь! А я… Короче, сиди, слушай и не перебивай.
И я вывалил ему всю историю с самого начала, прямо с той пресловутой статьи в журнале «Мой дом», с которой, в сущности, все и началось. Причем, рассказывая, старался не забывать и о своих собственных чувствах – об изначальной неприязни к Гольданцеву, о сомнениях, недоверии и страхе. Хотел, чтобы контрастнее прозвучало моё дальнейшее от них избавление. Из-за этого рассказ получался не слишком связным. Не помогал даже писательский опыт. А ведь надо было ещё «ответвляться» на пояснения о дядиных друзьях и на Галена, о котором я далеко не все запомнил. И, поясняя Лехе значимость древнего врача, как ученого, оперировал, в основном, фразами типа: «в общем, он там что-то такое открыл, названия сейчас не припомню…», или «выговорить это слово не могу, дурацкое какое-то, но это очень важные частицы…».
Леха слушал внимательно, хотя и несколько напряженно. Обычно, когда что-то производит на него сильное впечатление, он ведет себя излишне эмоционально – ерошит волосы, будто хочет их вырвать совсем, что-то восклицает и без конца требует: «ну, ну, продолжай, продолжай!». А тут сидел молча, почти не шевелясь. Только, когда я заговорил о дядиной тетради, разлил по стопкам водку, опрокинул свою, дождался, когда я сделаю то же и без слов протянул мне кусок колбасы. Потом снова замер.
В другое время меня бы это обескуражило, но сегодня я говорил о вещах слишком неординарных, и Лехино потрясение тоже не могло быть таким же, как всегда. Как бы он не переродился раньше всех от рассказа про сегодняшнюю встречу с Гольданцевым.
– И вот теперь, – завершил я торжественно, – остались считанные дни до получения противоядия, а потом… Если хочешь, мы можем вместе испробовать Абсолютный эликсир. Моя книга и твои публикации потрясут все человечество! А? Каково?!
– Хреново, – ни секунды не помедлил с ответом Леха и снова взялся за бутылку.
Он даже удивления никакого не выразил, даже не причмокнул и не покачал головой, как это обычно делают, когда поражены, но до конца ещё не верят. Более того, подавая мне стопку, Леха смотрел разочарованно и жалостливо.
– Не ожидал от тебя, Санек, что ты так поведешься на эту авантюру.
– Какая авантюра?! – взорвался я. – Ты что, меня не слушал?!
– Слушал, слушал. Очень внимательно слушал. И до сих пор поверить не могу, что слушал именно тебя – своего друга, которого знаю сто лет. Ты же никогда идиотом не был.
– Да в чем дело? Что не так?!
– А все не так. С самого начала. Взять хоть рукопись. Тебе не кажется странным, что некий человек, неизвестно каких занятий, приносит в малознакомую компанию редчайший документ, заверенный, как подлинник не одним специалистом, даже переведенный, и ни одна душа об этом документе почему-то не знает? А где же те специалисты, которые проверяли его подлинность? О подобных находках обычно трубят на всех углах.
– Об этой могли и не трубить. Если рукописи – собственность Довгера, то только он один решает предавать огласке их существование, или не предавать.
– Опять странно. Дело было в советское время, а тогда подобные редкости личной собственностью в принципе быть не могли.
– Довгер имел большие связи. Он мог договориться о приватности экспертизы.
– Ладно, хорошо, пусть так. Предположим, удалось скрыть существование рукописей, как древности. Но ведь были ещё и переводчики, которые вникали в суть? Невозможно перевести текст, не читая!
– А вот это объяснить проще простого, – злясь на Леху, почти прошипел я. – Все эликсиры описаны формулами, аналогов которым нет! А рассуждения о стихиях, жизненных соках и прочих там частицах известны всякому, мало-мальски заинтересованному!
– Вот как! – Леха, торжествуя откинулся в кресле. – Тогда объясни мне другое – как обычный врач Гольданцев, пусть даже и очень заинтересованный, смог разобраться в формулах, аналогов которым нет?
– Не знаю! – крикнул я. – Об этом мог рассказать только сам Гольданцев, да ещё мой дядя. Но, вот беда, оба они умерли от действия тех самых эликсиров, в существование которых ты не веришь! И, заметь, о том, что они умерли именно от эликсиров, я узнал не только от Гольданцева-младшего, но, косвенно, и из письма дяди. Ему-то ты веришь?
– Ему верю.
Леха посмотрел на меня исподлобья.
– Хорошо, что ты вспомнил об этом письме. Василия Львовича я всегда глубоко уважал и с его мнением всегда считался. Он не из тех, кто истерит без повода. Помнишь, на выпускном, когда мы с тобой сиганули с моста и домой попали из милиции? Меня тогда отец чуть по стенке не размазал, а твой дядя, что сказал? «Вы, ребята, конечно, дураки, но понять я вас могу. Впредь такого не повторяйте, хотя, черт возьми, признаюсь – сам всегда мечтал так прыгнуть…».
– Вот, вот! – подхватил я, – А дальше помнишь? Он нас весь вечер расспрашивал, как что было, и что мы чувствовали! Подвернись возможность, он бы и прыгнул! И эликсиры эти для него, как тот мост! Теперь я тоже хочу знать, как что было, и что ОН чувствовал!
– Дурак! Прыганье с моста всего лишь действие, где все решает твой разум и твое тело! Ты можешь прыгнуть и можешь не прыгнуть; можешь утонуть, потому что не умеешь плавать, и можешь благополучно выплыть, потому что физически крепок и плаваешь, как рыба! Но все, повторяю, зависит только от тебя! А с этими эликсирами ты запросто можешь потерять свободу выбора. Контролировать ситуацию станет кто-то другой, или что-то другое – не знаю! Василий Львович проверил это на себе и написал тебе, идиоту, «НЕЛЬЗЯ»!
– Но он не мог всего предвидеть! Сейчас эликсиры губительны, это да. Но если найти противоядие, нейтрализовать связи между теми частицами… Возможно, противоядие, которое они нашли, действует лишь на начальной стадии, а, когда время упущено, применять его нет смысла…
– Почему же тогда Гольданцев-старший не записал формулу этого противоядия и не вручил её своему сыну с подробными инструкциями, как и чем можно пользоваться?
– Не успел.
– Но это мог сделать Василий Львович, который тоже был в курсе дела. Однако, он пишет тебе письмо, где особенно упирает на то, что именно Колю Гольданцева надо гнать от себя в три шеи, чего бы он там ни посулил.
Я открыл было рот, чтобы ответить, но не нашелся, что сказать. Правота Лешкиных рассуждений была очевидна, однако, признав её, я неизбежно вернулся бы к прежним, обыденным сомнениям и страхам. А ведь совсем недавно мне было так хорошо! Я обрел Веру, ту самую, подлинную, с которой мог стать новым человеком – мудрым и счастливым. И вот теперь, некто, кого я считал своим другом, пытался эту Веру и это счастье отнять. Но, кто он такой? Всего лишь человек с засоренным сознанием, не имеющий никакого представления о глубинной жизни, которой буквально пропитан воздух вокруг нас! Что он может предложить мне взамен той эйфории духа, что пылала во мне ещё пол часа назад? Посиделки с бутылкой водки и дешевой колбасой? Сплетни о знакомых? Байки про похождения в командировках? Или, ещё того хуже, разговоры про политику? Нет, милый друг, Леха, чтобы понять мою правоту надо мыслить и чувствовать иначе, чем ты привык. И вся твоя логика ни к черту не годится!
– Хорошо, что ты ещё не успел совершить непоправимую ошибку, – говорил, между тем, Лешка, по-своему истолковав мое молчание. – Неизвестно, что этот Коля собирался на тебе испробовать. Может, все разговоры о противоядии всего лишь приманка, а на деле прыснул бы в тебя какой-нибудь дрянью, полностью меняющей внешность. Или ещё чего, похуже… Он и сегодня запросто мог тебя чем-нибудь обкурить Много ты об этих эликсирах знаешь? Посадил возле открытой колбы, и дыши себе на здоровье, проникайся его идеями.
– Между прочим, – процедил я, – злодей Коля до сих пор свои обещания выполнял без обмана.
– Вот за это бы и сдать его в компетентные органы, – усмехнулся Леха. – Уж очень все завлекательно. Был бы настоящим ученым, пробовал бы свои составы на себе, как его отец. А он норовит другого подставить. Шкуру свою бережет ради великого дела, что ли? Покажет безобидный фокус и в кусты. Давайте, подходите, кому интересно, пробуйте, что там у меня дальше. Ты уверен, что он не псих, страдающий манией величия? Может, он балдеет от того, что на него смотрят, как на бога? Табурет, говоришь, ожил? Да сейчас такие галлюциногены есть, что ещё не то тебе покажут. На все согласишься, лишь бы снова увидеть. Вот с чем надо разбираться – для каких целей он это делает? Вдруг криминал? Тогда пресекать! Иначе, ты откажешься, так он другого такого же найдет.
– Какого такого же? – вспыхнул я. – Хочешь сказать, я доверчивый простачок, да?
– Пока похож, – попытался отшутиться Леха, ещё не понимая моего настроения.
Видно, он счел себя достаточно убедительным и совсем уже успокоился на мой счет. Выпил ещё одну стопку и теперь, с наслаждением, жевал пиццу.
– А не ты ли не так давно топтался под моей дверью, сгорая со стыда, что приперся отрывать человека от работы ради пошлой выпивки? – спросил я, еле сдерживая рвущиеся наружу эмоции.
Раньше меня можно было обзывать и «мерзавцем», и «козлом», и вообще, кем угодно. Но не теперь! Не сейчас, когда я почти коснулся чего-то неизмеримо высокого! В такую минуту даже «доверчивый простачок» звучит несмываемым оскорблением!
Леха поперхнулся, побагровел лицом и уставился на меня, как на привидение.
– Так ты что, все ещё гордишься этим, что ли?
– Чем ЭТИМ?
– Да броней своей дурацкой на двери! Радуешься, что никто не сможет к тебе войти?
– Почему же никто? Кому надо я всегда руку подам.
– А если сил не будет? Если не сможешь подать?
Леха вдруг встал и, глядя мне в глаза, тихо прибавил:
– А если некому будет подать? Об этом ты подумал?
«Подумал, не волнуйся, – мысленно ответил я. – И тебе лучше не знать, кого при этом имел в виду».
Но, видимо, что-то такое отразилось на лице, потому что Лешкин взгляд разом потух, он повернулся и пошел к двери.
«Ну и катись!» – гневно подумал я.
И тут осекся.
Вспомнил слова Гольданцева про «другую щеку».
Нельзя, ох, нельзя! Уж если решил становиться новым человеком, то от гневливости следует избавляться.
– Постой! – закричал я, бросаясь следом за Лехой.
Он уже отпирал дверь и нехотя повернулся.
– Чего тебе?
Я встал перед ним, смиренно сложил руки и наклонил голову.
– Алексей, прости меня. Не следовало говорить с тобой в таком тоне. Мы не поняли друг друга, но пройдет время, ты все осознаешь и поймешь…
– Шут гороховый, – бросил Леха через плечо, вышел и захлопнул за собой дверь.
«Ну вот и славно, – подумал я, умиляясь сам себе. – Теперь я хороший, а ты плохой. И совесть моя чиста!».
Заснул я быстро, ощущая себя христианским праведником, которого не сожрали львы. Но утреннее пробуждение принесло с собой страшную головную боль и душевное смятение.
Началось все с вида сервировочного столика, который я, после Лешкиного ухода, брезгливо откатил на кухню, не разбирая. Почему-то сегодня уверенности в своей правоте совсем не было. Я попытался вспомнить разговор с Гольданцевым, чтобы вернуть хоть немного вчерашнего воодушевления, но все то, что вчера вызывало радостную надежду, сегодня неизменно тянуло за собой из памяти Лешкины предостережения.
Может, Гольданцев меня и вправду чем-нибудь обкурил? Да нет, я бы заметил. И никакой открытой колбы рядом не стояло, даже пузырька никакого не было. Хотя… В пылу разговора Гольданцев несколько раз щелкал автоматической ручкой. Не той, которой писал, а другой, которую он принес вместе с первой, но ни разу ей не воспользовался. Что если, как в шпионском фильме, он начинил эту ручку эликсиром какого-нибудь внушения и безнаказанно прыскал им в мою сторону?
Но зачем?!
Разве то, что он говорил не звучало убедительно и безо всякого внушения? Я не мог не поверить ему после того, как увидел действие эликсира на деле…
А может Гольданцев боялся, что я не захочу ему помогать?
Да, Господи, разве я уже не помог?! Принес ему тетрадку, согласился опрыскать свою дверь и сам, безо всякой авторучки, согласился его, наконец, выслушать! Неужели требовалось что-то ещё?
Но подозрения в своем вчерашнем неестественном и явно неадекватном поведении упорно не желали развеиваться.
«Безмозглый кретин! – обругал я в итоге сам себя. – Рассорился с Лехой, наобещал с три короба помощи человеку, который, как был мне неприятен, так и остался, и все ради абсолютного безоблачного счастья, существование которого в принципе невозможно! Уж сколько раз было говорено, что все познается в сравнении, и собственное счастье невозможно прочувствовать до конца если до этого не испытал несчастья… Хм. Не испытал несчастья? Вообще-то, в этом, без сомнения, что-то есть. На это кто угодно поведется, потому что никому не охота быть несчастным, пусть даже и временно…»
Нет, все!
Я решительно отогнал от себя проклятые мысли, встал и, уперев руки в бока, осмотрелся. Необходимо чем-нибудь заняться, тогда и думать времени не останется. Хотел начать новый роман – вот и начинай. Это вчера, под воздействием неизвестно какой эйфории, я решил его отложить, но сегодня все опять переменилось… А Гольданцев.., да черт с ним! Сам звонить ему не буду. Может, поймет. Впрочем, если он позвонит, то всегда можно отболтаться. Не заставит же он меня силой участвовать в своих опытах?! И в квартиру ко мне, ха-ха, не ворвется…
Стоп! А что если прав Сипухин? Что если Гольданцев имеет возможность обходить эликсир «совести»?… Вот не было печали…
Я тяжело вздохнул.
Гадай, не гадай, правды все равно не узнать. Остается только лечь на волны времени, которые куда-нибудь да вынесут… О, красиво сказал. Не иначе вдохновение снизошло, или аспирин, наконец, подействовал, и в голове прояснилось. Пора писать.
Я прошел к компьютеру, включил его и достал старые записи по задуманной книге.
Эх, жаль вчерашнего дня, пропал попусту. Как безмятежно порхало вокруг меня вдохновение, когда я оправился перекусить в кафе и встретил там Сипухина! Вот тогда бы, наутро, и сесть за роман. Так нет, поперся к Гольданцеву с тетрадкой… Впрочем, был ещё шанс. Можно было отдать тетрадку, развернуться и … О, Господи, какой же я дурак. История вообще, как и история отдельно взятой жизни, сослагательного наклонения не имеет. Если бы, да кабы хороши «до», но никак не «после». И гадать сейчас, насколько чудесно мне писалось бы, не будь того или этого, просто глупо.
Я с тоской посмотрел на чистый компьютерный лист с мигающим курсором, потом снова перевел взгляд на записи. Нет, все-таки сюжет какой-то.., недодуманный что ли? Позавчера он казался значительным и понятным, но сегодня энтузиазма поубавилось. Разве можно писать с таким настроением?! А тем более начинать что-то новое. Может, мне лучше закончить Лекомцева, да и сдать его во имя успокоения души издателя? Там, по крайней мере, все ясно и привычно. Пошел, сделал, кому надо морду набил. А чтобы интереснее писалось, прикончу его в конце и умою руки. Вот и всё!
Да, так, пожалуй, и стоит поступить.
Я быстро открыл папку с незаконченной писаниной про Лекомцева, занес пальцы над клавиатурой, и тут…
Тут в дверь ПОЗВОНИЛИ!
Честно сказать, я даже сразу не сообразил, что именно произошло. Только чертыхнулся и привычно пошел открывать. Но уже в прихожей словно ледяным душем обдало: кто-то СМОГ позвонить!
Не стану скрывать, испугался страшно! И к дверному глазку крался на цыпочках, бесшумно, чувствуя колотящееся сердце где-то в горле. Выглянул, проглотив с перепугу все задержанное дыхание, и, с того же самого перепугу, не сразу сообразил, кого вижу.
На лестничной площадке стоял Гольданцев.
Почему-то он держал во рту указательный палец так, как это обычно делают, чтобы остановить кровь. И при этом смотрел прямо в глазок, причем смотрел очень и очень сурово.
– Открывайте уже, – пробубнил Гольданцев, не вынимая пальца изо рта. – Я слышу, что вы дома.
Делать было нечего, пришлось открыть, испытывая при этом крайне неприятные чувства.
Гольданцев уже успел вытащить палец и теперь рассматривал его, нажимая на подушечку – не появится ли кровь снова.
Я посторонился в дверях, приглашая его войти, но наткнулся на взгляд, каким смотрят, разве что, на идиотов.
– Руку-то дайте, – сердито произнес Гольданцев.
– Ах, да…
«Значит, пройти он все-таки не может», – с облегчением подумал я. Шагнул за порог, взял Гольданцева под локоть и провел внутрь.
– Дайте пластырь, – почти приказал он и, сбросив дрянное пальтецо и такие же дрянные башмаки, прошагал в комнату, нисколько не смущаясь тем, что я ему этого не предлагал.
Ладно, пластырь, так пластырь.
В аптечке, правда, ничего похожего не обнаружилось, только спрессованные в плотный комок остатки бинта, но я решил, что и это сгодится.
Гольданцев, конечно же, презрительно хмыкнул, однако палец замотал, причем, очень ловко и умело. В другое время я бы обязательно полюбопытствовал, где он прибрел подобные навыки и спросил, наконец, кем Гольданцев работает. Но сейчас на языке вертелся вопрос поважнее.
– Как вы позвонили? – спросил я, даже не пытаясь смягчить свое недовольство.
– Пальцем, – бросил Гольданцев и зубами затянул узел на бинте.
– Простите, не понял.
Гольданцев пожал плечами, словно говоря: «ну, что же я могу в таком случае поделать?», потом уселся в кресло, нахально закинул ногу на ногу и произнес:
– Вы принесли мне не то. Тетрадка вашего дяди не содержит нужной информации. Кое что я в ней, конечно, почерпнул, но это капля в море и ключа к главной проблеме она не дает. Зато нашлось множество ссылок на дневник, из чего я заключаю, что все основные формулы записаны там. Поэтому наше прежнее соглашение требует некоторых уточнений. Скажем так, за свою услугу я прошу вас отдать мне формулу нейтрализатора побочных эффектов, а, поскольку дневник, видимо, последняя инстанция где её можно найти, то я желаю получить именно его.
– Какой дневник?! – опешил я. – Дядя в жизни не вел дневников! В его бумагах, кроме этой тетрадки, ничего больше не было! Не верите – спросите у юриста, который оформлял завещание.
– Это лишнее, – спокойно сказал Гольданцев. – Я был бы очень удивлен, если б дневник оказался в описи. Нет, он где-то здесь, в этой квартире.
– Да где же, Господи! Что я квартиры своей не знаю! За десять лет дважды ремонт делал, стены до кирпича обдирал…
– Ищите в мебели. Здесь сплошной антиквариат, а в нем полно тайных ящиков…
– Я все их знаю, но там никаких дневников нет!
– Значит, не все знаете.
Гольданцев смотрел самоуверенно и нагло, и мне захотелось его ударить. Захотелось спросить, на каком основании он выбрал для разговора со мной этакий обличающий тон? Почему уверен, что дневник, (если, конечно, такой вообще существовал), не был уничтожен моим дядей перед смертью? Поставить его на место и… Но за миг до того, как все это готово было из меня извергнуться, взгляд вдруг наткнулся на авторучку, торчащую из кармана Гольданцевского пиджака. Та самая авторучка, которой он пощелкивал во время вчерашнего разговора!
Слова тут же застряли в горле, и, вместо вполне обоснованных возмущений, я стал выдавливать из себя жалкие фразы, стараясь, чтобы они звучали как можно беспечнее для убедительности.
– Ладно.., хорошо.., поищу… Может и правда, не все тайники известны… Даже, знаете ли, интересно будет поискать…
– Вот и славно, – одним ртом улыбнулся Гольданцев. – А то, согласитесь, не слишком порядочно выходит. Я вам оказал, более чем эксклюзивную услугу, в качестве оплаты попросил всего лишь записи, которые вам сто лет не нужны, но не получил и этой малости. Причем, заметьте, с моей стороны все было предельно честно – я рассказал какую ценность эти записи представляют, для чего они мне нужны, и вы, не возражали против того, чтобы передать их мне. Все верно?
Треклятая ручка зловещё ухмылялась из пиджачного кармана. Эх, не будь её, уж я бы нашел, что сейчас сказать! Уж я бы ответил… Но… Осталось только смириться, чтобы избежать нового оболванивания, хотя, от легкой колкости все же не удержался:
– Да, услугу вы оказали знатную. И соглашение, конечно же, остается в силе. Но, как я вижу, кое-что вы себе все —таки оставили для доступа к моей двери. А это, мягко говоря, не совсем честно.
– Это вы про то, что я сумел позвонить? – скосил на меня глаза Гольданцев. И фыркнул: – Хорош доступ! Еле-еле до звонка дотянулся.
– И все-таки, мне бы хотелось знать, как такое возможно? Согласитесь, некоторое право я на это имею.
Гольданцев почему-то поморщился.
– Стоит заговорить с человеком об обязанностях, и он тут же напомнит о своих правах. Извольте, я поясню, чтобы окончательно вас успокоить, но спокойствие это лишь до поры.
Он выдержал многозначительную паузу.
– Я что, дал вам повод угрожать мне? – спросил я, насупившись.
– Это ещё не угроза. Но я испытал слишком сильное разочарование, и в шаге от дела всей жизни церемонии разводить больше не намерен. Ваш дядя и так разозлил меня чрезвычайно тем, что зашифровал почти все свои записи, причем, очень ловко. Я бился целую ночь, но расшифровал только этот бесполезный фокус.
Гольданцев выставил перед собой забинтованный палец.
– Кровь! Вот пока единственный нейтрализатор, который я знаю. Но даже проколов себе палец, до звонка удалось дотянуться далеко не сразу, да и то, сбоку, распластавшись по стене. Чтобы войти в квартиру, нужно изрезать всего себя, а потом, вероятно, умереть в вашей прихожей от потери крови. Признайте, одно другого не стоит. Но, если вы будете недобросовестны, или попытаетесь обмануть, я пойду на любую крайность.
Он снова выразительно замолчал, глядя на меня так, что по спине побежали мурашки.
– Поэтому, ищите, Александр Сергеевич, ищите. Это теперь и в ваших интересах. Не берите греха на душу.
После этой странной фразы Гольданцев встал, прошествовал в прихожую, где, с подчеркнутой неторопливостью оделся, кивнул на прощание и вышел.
Глава седьмая. Кто ищет, тот всегда найдёт
Ничего более мерзкого придумать было невозможно!
Я остался в собственной прихожей с противным ощущением включенного счетчика, который никакими силами не остановить. Гольданцев угрожал совсем не так, как угрожает человек, которому, от бессилия, ничего другого больше не остается. О нет, он явно знал о чем говорит! И туману напустил вовсе не потому, что не знает, как именно воздействует на меня, а потому, что метод воздействия слишком страшен, а Гольданцев ещё надеется решить дело миром.
«Не берите греха на душу…». Неужели он готов прирезать кого-нибудь в подворотне и, под прикрытием окровавленного трупа, ворваться в мою квартиру? Брр!!! Даже представить такое дико! При этом я почему-то был уверен, что запертая дверь для Гольданцева помехой не станет.
Тут же появилась и другая, такая же нелогичная мысль – если дневник найдется, то отдавать его ни в коем случае нельзя! То ли взгляд Гольданцева так на меня подействовал, то ли его бесстрастный, и от того особенно убедительный тон, когда он говорил, что пойдет на любую крайность, но правота дядиных предостережений стала вдруг проясняться для меня со всей очевидностью. Неужели даже в те времена, когда все ещё были живы, Коля Гольданцев успел проявиться во всей красе? Интересно, чем он так напугал и Василия Львовича, и собственного отца? Фанатизмом, беспринципностью или выбором средств для достижения своих целей?
Я запер дверь на все запоры и бросился к компьютеру.
Сейчас главное напрячь мозги и попытаться хоть что-то понять в отсканированной дядиной тетради. Жаль, конечно, что не было времени её отредактировать, но кто же знал, что так повернется!
Я вывел на экран первую страницу и чуть не взвыл от отчаяния. Ничего членораздельного, одни малопонятные формулы, типа: «0,5з, стрелочка, 1к, (это зачеркнуто), и новая стрелочка ведет к 5к», затем длинная вымаранная строка, а за ней опять: «0, 3з +1вз. +4к +0, 7ж, и от этого стрелочка ведет к 2в». Может, Гольданцеву всё это и понятно, но для меня – полный бред! Даже если предположить, что, к примеру, «з» – это земля, то «0, 3» чего? Грамм, килограмм, миллиграмм? А может быть, здесь вообще имеются в виду совсем другие величины?
Я прокрутил ещё несколько страниц.
Пару раз попались комментарии примерно такого содержания: «смесь не взбалтывать и не трясти, дать отстояться сутки…», или: «вз. фильтровать очень тщательно и в вакуум…».
Но, просматривая тетрадку раз, наверное, в третий, я обратил внимание на маленькую буковку «д», обведенную кружком. Она неизменно стояла возле строчек, замазанных так густо, что их невозможно было разобрать. Если Гольданцев это называет ссылками на дневник, то нужно быть, по меньшей мере, ясновидящим, чтобы догадаться, что «д» именно «дневник», а не что-то ещё. Однако, он не только уверен в существовании дневника, но и точно знает, что этот пресловутый дневник находится где-то в моей квартире. Откуда такая уверенность? Ходил к гадалке, или прочитал по звездам? Или.., или Гольданцев просто ЗНАЛ, что дневник существует! Ну да, конечно! Знал же он про эту тетрадку… Или про неё-то, как раз, и не знал? Думал, что в бумагах дяди остался только дневник, и никаких черновых тетрадей? Поэтому и просил отдать ему «тетрадку с записями формул»… Тогда почему он так уверен, что в описи дневника быть не должно? Выходит, знал, что записи есть, и что они спрятаны… А вот интересно, знает ли он, что спрятаны именно от него? Впрочем, я сам рассказал ему о дядином предостережении, потому он и решил – раз прячут, значит в описи ничего такого быть не должно… О, Господи, у меня сейчас мозги узлом завяжутся!
Я ещё раз просмотрел тетрадку.
Нет, больше мне в ней ничего не разобрать. К тому же, Гольданцев сам сказал, что все тут хорошо зашифровано… Вот ещё тоже несуразица! Зачем зашифровывать записи и оставлять их мне с предостережением против того, кому они не должны достаться? Или дядя не был во мне уверен, или понимал, что Коля Гольданцев, в своем фанатизме, готов на все, даже на воровство? Тогда зачем их вообще оставлять?
К тому же, как бы ни был мне неприятен Гольданцев, я не мог не признать, что явился он с предложением вполне честным. И дал мне защиту именно от воров, а только потом потребовал записи. Втирался в доверие, или понимал, что спрятанную в антикварной мебели ценность обычный вор не отыщет? Нужно быть большим знатоком, изучившим все секреты старых мастеров, чтобы знать, где может располагаться тайник, и на какой завиток нажать, чтобы этот тайник открылся… А вот я.., да, я – знаток. И в журнале «Мой дом» есть целый абзац хвастливых заверений, что в этой квартире каждая потайная пружинка мне известна. И Гольданцев рассудил очень умно: никто не обворует меня лучше, чем я сам!
Вот так я и влип.
Впрочем, в известных тайниках действительно ничего не было и нет. Они пустые! Я даже деньги туда не складывал, потому что тратил их быстрее, чем получал. А получал далеко не миллионы. Золото, бриллианты и прочие драгоценности у нас никогда не водились, за исключением старинного перстня с опалом. Но он хранился в обычном секретере, в обычной коробочке, и был завещан Василием Львовичем моей невесте…
Я глухо застонал.
Невесте…
Если Екатерина приедет уже завтра, то серьезный разговор с ней придется, пожалуй, отложить, как я отложил свой новый роман, да и книжку про Лекомцева тоже.
Сейчас самым важным стало не просто отыскать дневник, но раскопать всю эту историю с эликсирами, найти способ ничего не отдавать Гольданцеву и избавиться от него без ущерба своему спокойствию. И первое, что надо сделать – это разыскать Довгера. Он принес рукописи Галена в наш дом, он заразил его идеями Олега Александровича, он же, фактически, всех и погубил, а потом бесследно исчез! И, если он ещё жив, то на всей земле не найдется кто-либо, лучше, чем он, осведомленный в тех давних делах.
Я бросился к антресолям, где валялась старая телефонная книга. Фамилия Довгер была записана четвертой на страничке под буквой «Д». Тут же, в скобках, указан день его рождения и адрес. Очень хорошо! Если по телефону никто не ответит, поеду прямо домой…
Но, увы, делать этого не пришлось. Юношеский голос на том конце провода печально сообщил, что Соломон Ильич недавно скончался.
– Как скончался?! – забыв от разочарования про всякий такт, воскликнул я.
– Да, он болел… А кто его спрашивает?
– Теперь это уже неважно.
Я повесил трубку и задумался.
Смерть Довгера закрыла последнюю дверь в прошлое, и отныне мне оставалось только перевернуть квартиру вверх дном в поисках дневника и надеяться, что хотя бы в нем будут не одни формулы.
Далеко за полночь, или даже скорее ближе к утру, я упал, не раздеваясь, на диван и заснул мертвецким сном.
Квартира походила на стойбище каких-то беженцев. Все вещи и книги вывалены из шкафов на пол, кухонная посуда горой накрыла плиту и стол, а мебель сдвинута с привычных мест, чтобы удобнее было подбираться к задним стенкам…
К несчастью, погром ничего не изменил в моем положении. Дневника не оказалось ни в одном из тайников, как не оказалось двойных стенок у шкафов, комодов, и даже простукивание столешниц ничего не дало – сплошной монолит.
В коротком сне мне привиделся Гольданцев.
Он прорывался сквозь пол в клубах зеленого дыма и кричал с диким хохотом: «А ты, небось, думал, что в твою квартиру только через дверь попасть можно?». При этом звонил, почему-то, в какой-то колокольчик.
Постепенно звук колокольчика трансформировался в обычный звонок, и я, вырвавшись из кошмара, сообразил, наконец, что это надрывается мой телефон.
Трубку схватил машинально, но, когда подносил к уху, запоздало подумал, что в такую рань звонить мне могут только Гольданцев или издатель, а ни тому, ни другому сказать было нечего. Однако, прохрипел сонно:
– Да, я слушаю.
– Аллё, – замешкался в трубке немного дребезжащий женский голос. – Это с кем я говорю?
– А куда вы звоните? – протирая глаза, спросил я в полной уверенности, что дама просто ошиблась номером.
– Я звоню в квартиру Калашникова Василия Львовича. Мне нужен его племянник – Саша Широков.
– Я слушаю.
– А…
Женщина, похоже, была удивлена.
– Здравствуйте, Саша, – неуверенно продолжила она после короткой паузы. – У вас что-то с голосом. Вы, наверное, спали. Я вас разбудила, да?
– Нет, нет, ничего. С кем имею честь?
– Ох, простите! Я Паневина, Валентина Георгиевна. Мой муж, Алексей Николаевич часто бывал в вашем доме. Вы его помните?
– Да, да, конечно.
– Сашенька, – то ли облегченно, то ли, наоборот, обеспокоено, заторопилась Паневина, – мне срочно нужно с вами увидеться и поговорить. У меня недавно несчастье произошло… Только вчера выписалась из больницы… Там все время думала, и вчера всю ночь не спала… В общем, я решила, что настал именно тот момент, когда мне следует отдать вам дневник Василия Львовича, как он и просил…
– Что?!!! – заорал я, отчаянно надеясь, что все это наяву, а не в продолжении сна. – Дневник дяди у вас?! Господи, я же сегодня ночью всю квартиру перекопал, отыскивая его!
– Так вы знаете о дневнике? – в свою очередь изумилась Паневина.
И тут же голос её резко поменялся.
– Кто вам сказал? Гольданцев? Он уже был у вас, да?
– Да, – пролепетал я, ошеломленный требовательностью её тона.
Такой металл в голосе мог быть только у следователя в застенке, но никак не у пожилой дамы.
– Вот что, Саша, – решительно произнесла Валентина Георгиевна, – немедленно собирайтесь и приезжайте ко мне. Слышите? Немедленно! Адрес я вам сейчас продиктую.
Я выхватил из кучи вещёй на полу какую-то бумажку, дотянулся до карандаша на столе и, прижимая плечом выскальзывающую трубку, записал, куда ехать и каким транспортом. После этого, безо всяких прощаний, Валентина Георгиевна свою трубку положила, а я помчался в ванную смывать с себя ночную пыль.
Через пол часа, кое-как умытый и одетый, уже трясся в маршрутке, проклиная медлительность водителя и светофоры.
Паневина встретила меня в строгом темном платье с сурово поджатыми губами.
– Проходите, – бросила она и первая прошла в комнату.
Квартира оказалась именно такой, какую я и ожидал увидеть – типичное логово старого антикварщика. Потертые бархатные шторы, неизменный фикус в углу, не такая шикарная, как у нас, но тоже старинная мебель и обязательный круглый стол под скатертью с бахромой. На стенах, как водится, картины, из которых одна сразу приковывала к себе взгляд. Небольшой портрет очень эффектной женщины стиля «вамп». Выполнен он был в старинной манере, но явно изображал саму Паневину, только гораздо моложе, чем теперь.
– Садитесь, – велела она, указывая мне на стул с подушечкой.
Сама же опустилась в глубокое кресло, спиной к окну.
«Интересная дамочка», – подумал я, разглядывая Валентину Георгиевну. Сначала, по телефону, показалась какой-то неуверенной старушкой. Но теперь, при ближайшем рассмотрении, выходило, что металл в голосе и приказной тон идут ей больше, чем старушечья неуверенность. Порода проступала во всем – в осанке, в форме головы и чертах красивого тонкого носа. О таких, как она, в романах обычно пишут: «дама со следами былой красоты». И эту «былую красоту» очень красноречиво подтверждал портрет на стене. Да ещё этот избитый женский трюк – сесть спиной к окну… У неё он выглядел совсем не нарочито и говорил о многом.
– Вот что, Саша, – произнесла Паневина, – я должна вам рассказать, что в больницу попала после ограбления…
– Я знаю, видел по телевизору, – поспешил вставить я.
– Не перебивайте. Следователь считает, что грабили из-за Алешиной коллекции, но я тоже кое-что понимаю и с ним не согласна. Если приходят за коллекцией, то, как правило, это по заказу, и забирают обычно все, или самое ценное. У меня же, как сороки, унесли только самое блестящее, а подлинные, старинные гербы из дерева, за которые любой коллекционер душу продаст, оставили на месте. Другой странный факт – то, что перерыты были ящики письменного стола мужа и книжные полки. Следователь заверил меня, что ничего удивительного в этом нет, поскольку любой домушник знает – именно в книгах или среди бумаг граждане обычно прячут свои сбережения. Но я такой же гражданин, как и все, и деньги храню в конверте из Алешиного бювара, а он лежит именно в письменном столе! Вы можете сейчас пойти проверить – конверт на месте. Выходит, воры шли в мою квартиру, заранее зная, что там есть коллекция, которую можно взять в качестве приза за другую вещь. Её-то они и пытались отыскать на книжных полках и в столе.
– И эта вещь – дневник моего дяди? – спросил я.
– Конечно! Поэтому конверт их внимания не привлек. А третья странность, которая мешает мне поверить в простое ограбление из-за коллекции, заключается в том, что воры пришли днем! Сами посудите, я живу в старом доме, с соседями, которых знаю много лет. Все мы люди пожилые и выходим крайне редко. В основном летом, на лавочку во дворе. Продукты мне привозит дочь соседки, бегать по поликлиникам я не любительница… Одним словом, почти всегда дома. Обычный домушник сначала удостоверится, что в доме никого нет, а потом только полезет грабить. Мои же пришли именно в пятницу, именно в два часа дня, то есть тогда, когда меня не должно было быть. А знали об этой моей отлучке всего два человека – подруга Верочка, к которой я ходила, и другой, при котором я договаривалась с ней о визите. Но этого другого не было здесь в четверг вечером, когда Верочка снова позвонила и перенесла нашу встречу на двенадцать! Поэтому воры чрезвычайно удивились когда я появилась на пороге. Стукнули меня по голове и убежали. Но я хорошо запомнила изумление на их лицах. Так удивляются только те, кто ничего подобного не ожидал. Вот и выходит, что тот «другой», которого зовут Николай Гольданцев, этих воров и навел!
– Гольданцев?!
– Да. Он был у меня дня за два до ограбления. Все время шарил глазами по столам и по книжным полкам. Очень неприятный человек! При нем, как на грех, Верочка и позвонила. А я, знаете ли, женщина пожилая, на память уже не надеюсь, вот и завела привычку все для памяти записывать. Гольданцев не мог не видеть, как я написала: «пятница, 14.00, заехать к Верочке».
– Но зачем он приходил к вам?
– Просил разрешения просмотреть бумаги мужа. Я отказала. Тогда он стал упирать на то, что там могли находиться и записи его отца, или Василия Калашникова, который вел их за время болезни Олега. Сказал, что память об отце ему очень дорога, и все такое, но я снова отказала. Кроме дневника вашего дяди у меня действительно ничего не осталось, но, относительно его, Алеша, ещё при жизни, дал очень четкие инструкции. Нарушать их я не имела права.
– Валентина Георгиевна, пожалуйста, расскажите же мне, наконец, что там на самом деле произошло! – взмолился я. – Кое-что я узнал от Гольданцева, но теперь уже не уверен… Может, он все врал?
Паневина вздохнула.
– Увы, Саша, от меня вы много не узнаете. Мне было известно, что Сёма Довгер принес какие-то древние рукописи, и Олег Гольданцев совершенно на них помешался, но это все. Понимаете, у Алексея с Семой были… м-м, немного натянутые отношения. Мне не совсем ловко было расспрашивать…
Она замолчала, бросив мимолетный взгляд на портрет, и сразу стало ясно, что о причине натянутых отношений можно не расспрашивать.
– Муж всегда немного презрительно отзывался об увлечении вашего дяди и Гольданцева. Говорил, что они «ещё доиграются». Но, когда стало известно о странной болезни Олега, Алеша сразу туда побежал… Вернулся очень подавленным, в крайнем расстройстве, долго курил на кухне. Однако, когда я попыталась узнать, что же все-таки случилось, страшно разозлился, накричал на меня, и больше, как вы понимаете, этой темы мы не касались.
А ещё через пол года ваш дядя, Василий Львович, попросил мужа о встрече. О чем был разговор я не знаю. Алексей вернулся с толстой тетрадкой, которую сразу спрятал в свой письменный стол и, конечно же, ничего не рассказал. Он снова был в подавленном настроении, но я списала это на болезнь Видите ли, в ту пору Алексей Николаевич сильно болел. Врачи требовали немедленной госпитализации, а он все не мог решиться. Говорил: «я из этой больницы не выйду». Так оно и получилось. Операцию сделали неудачно, готовились ко второй, но до неё Алеша не дожил. Он очень мучался. Я была с ним в больнице все последние дни. Сидела рядом и днем, и ночью. И однажды, когда боль немного отпустила, Алеша вдруг заговорил со мной обо все этих делах, связанных с рукописью… Каялся, что не уберег друзей, просил прощения. Тогда я впервые услышала, что у Гольданцева был сын… Алексей отзывался о нем не очень хорошо. Говорил: «отец умирает, а этот только и знает шмыгать по углам, да выискивать, чем бы поживиться. Даже на похоронах к нам с Васькой приставал – выяснял, кому рукописи достанутся. А когда узнал, что это собственность Довгера, как-то странно затаился, и на поминках его уже никто не видел…».
– Так он их что, выкрал? – удивился я.
– Нет. Сема все забрал сразу после смерти Олега. Хотя… погодите, он ведь уезжал… Олег умер без него. Сема вернулся только после похорон. Не успел. Было очень жаркое лето. Как вы понимаете, в такую пору стараются хоронить скорее. Пока Семе послали телеграмму, пока он приехал, Олега уже и похоронили.
– А его странная смерть никого не заинтересовала?
Паневина задумчиво пожала плечами.
– Да нет… О том, что болезнь была какая-то незнакомая говорили много. А потом как-то перестали… И Алеша тоже ничего не сказал. Он только очень просил сохранить тетрадку, спрятанную в письменном столе. «Это, – говорил он, – последняя воля Васьки Калашникова. Скоро и он, как Олег… Доигрались… Но тетрадку береги! И никому, как бы ни просили, не отдавай. Только Васькиному племяннику, да и то, не сразу… Может, конечно, вообще отдавать не придется, и дай то Бог. Но в жизни всякое возможно. Ты запомни главное: любого, кто явится с расспросами про Семкины рукописи, гони в шею и сразу вызывай Васькиного племянника. Пусть прочтет, сделает выводы и попытается помешать. Чтобы больше никто, как Олег с Васькой… А дневник дядин пускай не хранит. Это Василий так сказал. «Пусть, – говорит, – сожжет. Слишком опасно такое хранить»…
Вот, собственно, и все, что я знаю. Алеша вскоре умер. Я долго была безутешна, а потом появился Сема Довгер. Спрашивал, не осталось ли каких-либо записей Олега или Васи. Я подумала, что от него таиться не стоит и показала дневник. Сема долго его читал на кухне, а потом вернул со словами: «Жаль, что не могу и это забрать. Не имею права. Но ты, Валечка, храни сколько сможешь. Есть у меня подозрение, что сын Олега вернул не все отцовские бумаги, а это значит, что история ещё не закончена, и Коля Гольданцев, или кто-то от его имени, обязательно придет к Васиному племяннику за этим». Он потряс тетрадкой и велел спрятать её, как можно дальше.
– Куда же вы спрятали?
– На самое видное место! – гордо произнесла Валентина Георгиевна. – На книжной полке. Там только деньги легко отыскать, а вот книгу в книге – трудно.
Она встала с кресла, подошла к высокому – от пола до потолка – стеллажу и вытащила откуда-то снизу неприметную бордовую книжицу.
– Вот, полюбуйтесь, Чернышевский «Что делать?». Ни один нормальный человек заглядывать не станет, а уж вор и подавно. Потрясет, как следует, на тот случай, если туда деньги сунули, да и бросит. А я достаточно долго проработала в переплетной мастерской, чтобы намертво закрепить тетрадь в старой книжной обложке.
Она развернула первые страницы, и я увидел за типографскими листами серовато-бурую общую тетрадку.
– Надеюсь вас, как писателя, не покоробило такое варварство? – спросила Паневина. – Но мне простительно, я всегда этот опус терпеть не могла. Не понимаю, зачем его ввели в школьную программу? Я, помнится, так мучилась… зато теперь за все поквиталась. Так что, держите ваше наследство и пожалуйста сделайте все так, как ОНИ просили.
Я взял протянутую книгу, несколько мгновений нерешительно её вертел, а потом, глядя в лицо Паневиной, сказал.
– К сожалению все не так безоблачно. Я не могу просто прочитать, сделать выводы и сжечь, потому что дал слово Николаю Гольданцеву передать ему дядин дневник, как только его отыщу.
Глава восьмая. Дневник
На лице Валентины Георгиевны отразились недоумение и испуг.
В первый момент даже показалось, что она сейчас попытается вырвать книгу. Но здравый смысл возобладал, и, пересилив свой первый порыв, она только холодно спросила:
– С какой стати вы дали ему такое слово?
Я вздохнул и указал на кресло.
– Сядьте, Валентина Георгиевна. Постараюсь изложить все, как можно короче, но какое-то время это все же займет, а в ногах, как говорил мой дядя, правды нет. Да и вещи я буду рассказывать, мягко говоря, не самые обыкновенные. Все началось с публикации в журнале «Мой дом»…
И, слово за слово, я пересказал ей всю историю наших взаимоотношений с Гольданцевым.
Вопреки ожиданиям Валентина Георгиевна не стала читать мне нотаций за то, что пренебрег дядиным предостережением. Внимательно выслушала, а потом задумалась, постукивая пальцами по столу.
– Вот что, Саша, – сказала она, наконец, – вы пока идите домой и просмотрите дневник. Гольданцеву говорите, что ничего ещё не нашли. А я попробую придумать, как вам помочь.
– Чем уж тут поможешь? – улыбнулся я, как можно печальнее, в глубине души, однако, рассчитывая, что у этой «железной леди» вполне может что-нибудь получиться. – Разве только изложить свои подозрения следователю?
Паневина фыркнула.
– А вы думаете я не излагала? Ещё как! Первым делом указала следователю на Гольданцева, и он, вроде бы, заинтересовался. «Так, так, – говорит, – ну-ка расскажите поподробнее. Что за человек, за какими бумагами приходил?». Я сказала, что за научными трудами своего отца, потому что с чего-то взял, будто часть их может быть у меня. Следователь все записал, очень воодушевился и даже пошел к Гольданцеву с допросом. Но после визита все его воодушевление прошло. Начал говорить про какое-то алиби, ко всем моим доводам стал относиться с иронией, и даже осмелился заявить, будто я желаю стяжать славу мисс Марпл!
Я вспомнил авторучку.
– Да, Гольданцев умеет убеждать…
– И он уязвим, – строго сказала Валентина Георгиевна. – Главное, чтобы вы вели себя разумно. А теперь идите. Вам есть чем заняться, а я… Я знаю у кого спросить совета.
Она встала, вынуждая меня откланяться.
Но в прихожей, обуваясь и застегивая куртку, я вдруг подумал – не у Довгера ли она собирается просить совета? Может, ещё не знает про него? И, шагнув за порог, как бы между прочим, заметил:
– Я, кстати, пытался отыскать Соломона Ильича, думал, может он что-нибудь расскажет о тех событиях. Но мне сказали, что он недавно умер. Вы знали об этом?
– Да, знала, – загадочно улыбнулась Валентина Георгиевна и закрыла дверь.
«Просто Лиля Брик какая-то», – подумал я, спускаясь вниз.
Как-то, в пору увлечения Маяковским, прочел о нем книгу и особенно запомнил, что автор, (женщина, разумеется), причиной всех бед считала именно эту подругу поэта. Ради своей версии она даже реабилитировала Полонскую, и, в качестве главного аргумента бессердечности Брик, упоминала тот факт, что, едва ли не через месяц после самоубийства Маяковского, та уже крутила роман с каким-то военным. И сейчас, после этой странной улыбки, мне показалось, что Валентина Георгиевна Паневина вполне могла составить мадам Лиле достойную компанию.
Но, как бы там ни было, а главное я узнал – она не рассчитывает на Довгера, и, значит, кое-какая надежда ещё есть.
На улице было светло. Даже солнечно. Последние ясные дни перед окончательной зимой.
Я перебежал дорогу на красный свет и втиснулся в отходящую маршрутку.
Народу в неё набилось больше, чем нужно. Отвыкшие за лето от толстой теплой одежды, спрессованные люди без конца ворочались и уплотнялись. Какая-то толстая тетка навалилась на мою спину всей своей тушей. И, чем дальше я от неё отстранялся, тем сильнее она наваливалась. Нарочно, что ли? Пару раз пришлось, весьма ощутимо, её пихнуть, но это ничего не дало. Тетка явно наслаждалась тем, что создавала мне неудобства. Но, ничего, вот этот мужик, кажется, сейчас выходит, я стану на его место, а эта туша пусть валится хоть на пол!
К счастью, тетка вышла вместе с мужиком, а через пару остановок из маршрутной душегубки вырвался и я.
Развороченная квартира встретила угрюмым молчанием.
Надо бы здесь убраться, но дневник вдруг стал жечь мне руки. Странное дело, до той минуты, как я переступил порог, существование вожделенной тетради казалось каким-то нереальным. То есть, она существовала, как нечто само собой разумеющееся, но в некотором отстранении. И вдруг пришло осознание. Я, наконец, понял, ЧТО именно держу в руках! И дело было совсем не в открытии, которым так бредил Гольданцев. На тот промежуток времени, который потребуется для чтения, мне предстояло услышать оживший дядин голос! Узнать то сокровенное, что он не смог сказать мне с глазу на глаз, и то, чем подпитывалось его одиночество в последние дни!
Сбросив с кресла пакет со старыми шторами, я сел и, дрожа от волнения, раскрыл книжку.
Страницы развернулись там, где заканчивалась тетрадь. Ну-ка, что тут за дата? За неделю до… Ох, дядя, дядя, и за что нам такая напасть, как этот Гален с его эликсирами! «Сегодня еле-еле справился с приступом ярости. Они становятся все чаще…». Нет, это я пока читать не буду. Лучше начну сначала. К тому же, тетрадка сама вдруг перелистнулась… Как странно, тут довольно много вырванных страниц. Кто же мог их вырвать? Сам дядя, или Довгер, когда читал? А может, Паневин, который, наверняка, тоже сюда заглянул?
Ладно, кто бы ни вырвал листы из тетради, будем надеяться, что там не было ничего существенного.
Я пролистал записи на начало. Удивительно, никаких дат здесь не было, зато под обложкой обнаружился вложенный листок, не из тех, не из вырванных, а явно дописанный позже. «Милый, Сашенька, если ты это читаешь, значит, худшие предположения оправдались, и кто-то взялся ворошить наши с Олегом дела. Плохо, конечно, но я надеюсь, что все обстоит именно так, и эти записки тебе передал Алексей Николаевич, а не ты сам, поддавшись искушению, (или искусителю), пришел к нему в поисках последнего компонента…
Господи, у меня опять путаются мысли! Конечно же, ты не поддался! Я верю в тебя, Санечка! В твой здравый смысл, в твою рассудительность. Ты умнее, чем я был в твои годы. И талант.., это хорошая опора. Читай. Даже если многое здесь покажется тебе лишним и скучным, все равно дочитай до конца.
Я, правда, не знаю, чем эти записи могут закончится. Но писать буду, сколько смогу! Олег говорил – это необходимо. И прочитать тебе необходимо. Выводы… С твоим умом они помогут. Читай и делай выводы.
Бесконечно любящий тебя, вопреки всему, Василий Львович Калашников».
Листок задрожал в моих руках, в глазах защипало.
Чувства вдруг раздвоились. С одной стороны хотелось скорее читать дальше, но, с другой, появился некий страх. Я опасался, что образ дяди, сложившийся за много лет почти в икону, может исказиться, поменять черты и, кто знает, хорош ли будет этот новый Василий Львович? Заглядывать в глубины чужой души, оказывается, не так уж и просто, и, кабы не нужда, нипочем бы делать этого не стал!
Вспомнился Гольданцев со своей теорией двух сфер вокруг человека. Сейчас я мог бы предложить ему ещё и третью – ту, которую окружающие этого человека люди видят только с одной, узкой стороны. Это образ-ширма. Её выставляют между собой и каким-то конкретным другим человеком, определяя свои с ним отношения. Для меня дядя создал замечательный образ – образ заботливого, любящего, и не обременяющего, ни своей заботой, ни любовью, родственника. В дневнике же мне предстояло увидеть иное, то, что было обращено в сторону друзей, деловых партнеров, клиентов, и, может быть, даже в сторону каких-нибудь женщин. Ведь были же у дяди романтические увлечения…
Я снова пробежал глазами вложенный листок. «Читай и делай выводы». Что ж, будем надеяться, что в ТОЙ истории мой дядя повел себя так, как мог только тот, которого знал я, и не вскроется что-то чужое, неприглядное.
Я открыл первую страницу.
«Олег считает, что надо вспоминать самое радостное и записывать свои воспоминания. Он уверен, что это приостановит процесс. Не знаю, не знаю, но, по крайней мере, исполнится давняя мечта – я, наконец-то, сяду за «стол писателя» не только для того, чтобы составить опись, заполнить квитанцию, или написать самое обычное письмо. Руки давно чесались, да смысла не было. Вряд ли мои воспоминания интересны кому-то, кроме меня, а трудиться просто, ради «любви к искусству», глупо. Обязательно возникнет желание кому-то все это показать, услышать мнение, и, вот вам, пожалуйста, готов новый графоман. А в литературе и без них сейчас тошно.
Вот Санька, тот писал, чтобы оживить образы родителей. Я это сразу понял, как только прочел. А что хотелось бы оживить мне? Нужно вспоминать только радостное… Может, блаженную молодую пору? Когда солнечным воскресным утром, под чириканье птиц, в окно смотрела золотисто-зеленая листва, а подъезд оглашался протяжным криком молочницы: «Молоко-о-о!». И надо было вставать и спускаться вниз, к тепло пахнущей тележке, с большим, как у детской коляски, поручнем; смотреть, как из высокого, мутно-серебристого бидона, при помощи ковша-цилиндра на длиннющей ручке, переливается в банку белое, парное, от чего сводит скулы в предвкушении вкусного. А затем наверх, на кухню, вытаскивать из духовки теплый, слегка подсушенный сверху, батон и хрустеть им с наслаждением, рассыпая по столу крошки и маковые зерна. Их потом так приятно было собирать – оближешь палец и тычешь им, как курица клювом, пока ни одной маковки не останется.
День за окном солнечный, свежий, как ребенок, проснувшийся в хорошем настроении. И, словно для того, чтобы помочь ему умыться, во двор выходит дворник – дядя Миша, (которого все дети почему-то звали «дядя Химик»), и вытаскивает черный, латанный-перелатанный поливальный шланг.
Господи, да неужели и вправду были когда-то в этом дворе времена, когда дважды на дню поливались цветочные клумбы?! И какие клумбы! Я обожал возвращаться сюда из отпусков, командировок и даже просто, с работы, потому что, стоило свернуть от шумной остановки за угол, и тут же оказывался в цветочной сказке, с медовыми запахами и гудящими пчелами…
Уже с весны жители подъездов выходили в свободный день все вместе, жены, мужья, дети, и начинали вскапывать и оформлять эти клумбы. Откуда-то брали и семена, и краску, чтобы обновить облупившиеся за зиму лавочки, белили декоративные вазоны, в которых тоже высаживались цветы.
Двор убирали, как собственную квартиру.
Витька Степанов из соседнего подъезда не боялся на своем пятом этаже выставлять в открытое окно модные гигантские колонки от новейшего магнитофона, и, под сладкий голос Робентино Лоретти, под бодрую песенку про пингвинов или «оранжевое лето», начинали сверкать по всему дому только что промытые и теперь натираемые газетами окна. Вскрывались разомлевшие от первых жарких дней балконы, и соседи, выходя на них с вениками и совками, бодро приветствовали друг друга. «Скоро Первое мая. Вы на демонстрацию идете? О, да, обязательно! И мы тоже. А потом, милости просим… Конечно, конечно, мама обещала испечь торт…».
Ах, эти милые, всенародно-домашние праздники! Жаль, что их аромат развеется в испарениях политических перестроек. Теперь про них говорят, как о помпезных пережитках тоталитаризма. Может, и так. Но, почему-то грустно, когда наступает праздничный когда-то день, и нет больше хлопотливых приготовлений. Тех, когда по всему подъезду носятся немыслимо вкусные запахи. Когда со всей квартиры собираются столы, чтобы составить из них один, длиннющий, вылезающий, чуть ли не в коридор, но зато заставленный от начала до конца маринованными грибами, салатами, котлетами с вареной картошкой… И никому нет дела до правил сервировки. Что может быть правильнее мелко нарезанного молодого укропа на вареной картошке, да, что б, малосольные огурчики рядом. и, конечно же, дефицитное южное вино… Когда гости-соседи приходили со своими табуретками. Когда двери поминутно открывались и закрывались, впускали гостей под радостные приветствия хозяев и тех, кто уже пришел. Какое количество празднующих вмещали те хлебосольные крохотные квартирки? От дружеских приветствий и объятий в коридорах создавалась необычайно приятная толкотня, легкая неразбериха, чем-то похожая на такую популярную увертюру к «Кармен». Тонкими скрипичными партиями из неё выпархивали в ванную комнату дамы – все в нарядных платьях, украшениях и духах – чтобы подправить немыслимого начеса прическу и подвести губки. А в торжестве литавр проходили к столу мужчины, добродушно-солидные даже в носках и хозяйских тапочках, торчащих из-под выходных костюмов. Они потирали руки, словно вошли с мороза, и покосившись на хрустальный праздничный стол, дружно шли, в ожидании дам, на балкон, чтобы покурить и обсудить последние новости.
Тогда не выворачивали головы к телевизору, боясь пропустить острОту очередного модного юмориста, а заводили музыку и, ничуть не стесняя друг друга, ухитрялись самозабвенно танцевать на крошечном, свободном от стола и стульев пространстве под веселенькую, праздничную «Рио-Риту». Или пели, все хором, что-нибудь задушевное, а другая компания, уже вышедшая прогуляться под желтым светом фонарей, одетых в жестяные широкополые шляпы, сочувственно улыбалась и задирала головы к поющим окнам. Им хорошо, и нам хорошо. Чужая радость, почему-то, не раздражала…
И расходились по домам после таких застолий, пышно, широко, с обязательным провожанием до остановки.
Нет, политики могут говорить, что угодно, но сейчас, глядя из окна на пустой, одряхлевший двор с мертвой землей, на облупившиеся, в страшных подтеках, как в слезах, стены домов, я думаю, что и они все, вместе с тихо поскрипывающими на ветру деревьями, замирают, порой в обездвиживающей гипнотической тоске, стоит лишь весенней зеленоватой дымке соткать перед ними образы недавнего прошлого.
Там по чистому, не раздолбанному асфальту, без канализационных проломов и непросыхающих вонючих луж, пестрят ровнехонькие классики. Там каждый год, в начале июня, вокруг небольшой квадратной сцены с обязательной дощатой трибуной, расставляются полки-ходули, и довольные собой тетушки несут к ним из квартир предметы особой гордости – выращенные цветы, скатерти и салфетки, вышитые собственноручно, вязанные носки и детские вещички. Все это расставляется, развешивается на полках, а сверху крепится, неизвестно кем написанный транспарант: «С праздником открытия двора!».
Потом, из близлежащего клуба, приходил духовой оркестр, рассаживался по первым двум скамейкам перед сценой и начинал играть марши и вальсы, оповещая публику, что пора подтягиваться.
К восторгу дворовой малышни, с тарахтением вкатывался мотороллер с прицепом. Мамаши в цветастых платьях спешили посадить на этот «паровозик» своих чад, а отцы занимали места возле сцены. Ещё немного и начнется концерт, надо только переждать скучного лектора. Но потом будут и артисты, и, похожая на Зыкину мама Ольки Подъячевой споет не хуже любой певицы, и Генка Дворников из заводской общаги покажет фокус с платком и стаканом, и любой, кто желает, сможет выступить, потому что кругом все свои.
А вечером, едва начинало смеркаться, приходил Толик по прозвищу Верблюд и, поминутно сплевывая, принимался устанавливать на маленьком деревянном столике позади скамеек киноаппарат! На сцене, на специальных трубах вешали экран, тянули провода к фонарному столбу с прикрученными к нему розетками и долго-долго, обстоятельно и солидно, заряжали пленку. Затем, несколько пробных трескучих пусков и – долгожданное кино!
Пока тополя перед моим балконом не разрослись, все, происходящее на экране было прекрасно видно. Но, разве можно усидеть дома одному, когда все там, во дворе!
Разве может что-нибудь сравниться с обрывом пленки? Этот дикий крик, свист! Все оглядываются на Толика-Верблюда, который кидается хлопотать возле своего аппарата. Потом снова включается пулеметное стрекотание, и двор оглашается страшными, как из бочки, голосами артистов…
Цветет акация, благосклонно прикрывая кружевной листвой слишком яркий фонарь. На невытаптанном ещё дворе безмятежно засыпают желторотые одуванчики. И только в глубине, за кустами возле песочницы, угадывается тихий смех и гитарный перебор. Это Витька Степанов из соседнего подъезда пытается воздействовать на девичье сердце первой дворовой красавицы Иринки Дуборосовой.
Пастораль? Утопия?
Теперь мне и самому не верится, что такое когда-то было. Но ведь оно было на самом деле! Все эти «праздники двора» я ещё успел застать, когда получил от музея квартиру в этом доме. Я помню, как его красили раз в четыре года, как латали асфальтовые дорожки, и долгое время никто не знал, что такое оббитые ступени в подъездах, обкрошенные стены и осыпающиеся балконы. И «дядя Химик» торжественно прописал меня первым же летом моего проживания в этом дворе, когда сурово сунул в руки поливочный шланг и позволил целых пять минут поливать клумбу перед подъездом…
Я был юн и желторот, как те одуванчики, что обрамляли дворовые дорожки.
Я любил весь белый свет!
Я любил…
Какая большая и шумная семья жила в квартире напротив.
Вечером, ужиная после работы, я неизменно, в одно и то же время, ждал летящий из их кухонного окна призыв: «Манюня, домой!». И, заслышав шлепанье сандаликов по тротуару, обязательно выглядывал, чтобы понаблюдать, как послушная Манюня бежит к подъезду, на ходу завязывая ленточки в растрепанных соломенных косицах. Маленькая, толстенькая, с большими наивными глазенками, точно такими же, как у её старшей сестры. Только там, вместо наивности, была всегда одна мечтательность…
По выходным, если позволяла погода, все они ездили на речку. Я всегда заранее знал об этих поездках по вывешенному на балконе для проветривания большому полосатому покрывалу. И наутро вставал пораньше, чтобы, заслышав хлопанье их двери, уже быть готовым и тоже выскочить из квартиры с самым независимым и деловым видом. Ради этого брал с собой дерматиновую папку на шнурках, дескать, выходной, не выходной, а мне, человеку серьезному, развлекаться некогда. Шел за ними до остановки, со странной смесью удовольствия и легкой зависти наблюдая за никогда не меняющимися «ритуальными» действиями.
Первым всегда шел дедушка – крупный, солидный, в молочно-белой войлочной шляпе с ватными краями, и нес в руке импортный транзистор с таким явным удовольствием, что сразу делалось ясно – транзистор о-очень импортный, работает прекрасно, и сейчас, на речке, всем вокруг них станет гораздо веселее.
Следом, без конца оглядываясь на скачущую, как обезьянка, Манюню, шла бабушка, в такой же молочно-войлочной шляпе с бамбуковым китайским зонтиком от солнца. Единственная седая прядь точно посередине лба, была аккуратно разделена надвое и вплетена в косы, свернутые корзиночкой чуть ниже затылка. Другой прически она не признавала.
Потом шла, никогда не оглядывающаяся Манюнина сестра. Потом их родители – мама в цветном сарафане с сумкой, из которой торчало полосатое покрывало, и папа с огромным ядовито-розовым термосом, сосредоточенно выбирающий из мелочи на раскрытой ладони трехкопеечные монеты.
Вся компания сворачивала за угол дома, огибала синюю будку инвалида-сапожника, здоровалась с ним и останавливалась перед автоматами с газировкой. Там все расступались, давая дорогу папе с термосом. Он подставлял зеркальное горлышко под кран, а трехкопеечные монеты пересыпал в Манюнину ладошку. Высунув язык девчоночка старательно закладывала их в щель автомата и с восторгом наблюдала, как газированный сироп, с характерным хрюканьем, наполняет термос.
Потом они шли на остановку, ждать трамвая.
Я тоже делал вид, что жду свой автобус, но, если он приходил раньше, чем трамвай, прикидывался, будто забыл купить папиросы и пропускал.
Мне нравилось наблюдать за ними. Нравилось, что иногда кто-то из них заговаривал со мной по-соседски, и можно было подойти, стать рядом… Потом приходил трамвай. Мужчины помогали женщинам подняться. Манюня тут же оказывалась у окна, и, по её жестам, было понятно, что она просит поднять деревянную раму… И только тут, через светловолосую голову своей сестренки, Она, которая никогда не оглядывалась, бросала на меня короткий мечтательный взгляд…
Глупое воспоминание!
Почему я с таким удовольствием взялся оживлять чужую семью? Разве мало хорошего было в моей?
Может, это оттого, что в той семье все закончилось хорошо? Получили новую квартиру, переехали… Надеюсь, что и дальше все у них складывалось отлично… Во всяком случае, я ничего плохого о них не слышал и не знаю. А в моей семье каждое воспоминание перечеркнуто могильным крестом. Все ушли раньше, чем следовало; все нелепо, мучительно болели. Остались только мы с Саней…
Нет, нельзя! Олег велел вспоминать только хорошее.
Хорошее…
Но я уже обернулся туда, где было плохо. Посмотрел и чувствую, что уже не отделаюсь от этой горечи, (дальше, с пол страницы, все зачеркнуто до слов): пожалуй, больше сегодня писать не буду».
Я перевернул страницу.
Снова целый абзац вымаран. Потом, уже другой ручкой:
«Не могу отделаться от воспоминаний, которые Олег не велел записывать. То маму с отцом вспомню, то сестру Верочку с Сергеем, то Саньку маленького… Боюсь, со связными воспоминаниями ничего не выйдет. Буду писать просто о том радостном, что придет в голову…».
Далее следовало несколько историй, вроде той, про часы, которые я слышал от дяди ещё в детстве и прекрасно помнил. Было воспоминание о том, как я впервые засмеялся в этом доме, как начал писать. А вот за всем этим началось, кажется, самое интересное.
«Пожалуй, можно посчитать радостью и то, что случилось со мной после первого эликсира. Как бы там ни было, но мы с Олегом вряд ли были счастливее, чем в ту минуту, когда сделали свой собственный состав. Ни «третий глаз», ни «избавитель от боли» не произвели того впечатления, какое произвел наш «ликвидатор тревог»!
Название, конечно, так себе, но, когда все удается, когда ты в эйфории, выдумывать мудреные словосочетания хочется меньше всего. Зато, кто бы мог подумать, что в нас сидит столько скрытых волнений. Под действием эликсира они лопались, одно за другим, как мыльные пузыри, и ты сам делался легким, невесомым, радужным, похожим на тот пузырь…
Соединение, к счастью, оказалось нестойким, но Олег загорелся этой идеей – создать эликсир, избавляющий ото всего плохого… И ведь создал, и даже дал мне, после того, как, вроде бы, все на себе проверил…
Он сам испортил это воспоминание, вычислив, во что мы, со временем, превратимся под действием Абсолютного эликсира. Испортил после того, как сам в полной мере насладился и могуществом, и нечеловеческими возможностями. Говорят, нехожеными дорогами идти сложнее, но я бы сейчас предпочел не знать, что ждет меня на моем пути. Я бы поменялся местами с Олегом, который шел по нему первым, беззаботно радуясь всему новому, что открывалось…».
«Хорошо Олегу говорить! Сначала требует, чтобы я вспоминал только самое радостное, потом оказывается, что надо писать и про наши опыты тоже, да не просто так, а по-особенному. Формулы в одну тетрадь, а теоретические идеи – в другую.
Вчера он сказал, что страшно ошибся. Абсолютный эликсир такая же утопия, как коммунизм. Создать его можно, но использование принесет только гибель.
По расчетам Олега выходит, что примерно через год он будет похож на человека, впавшего в кому… И что за дурацкая манера пробовать все сразу на себе! Теперь нужно начинать сначала и искать нейтрализатор. Сегодня весь день посвятили этому.
Заходил Коля. Он не любит отца – это сразу видно. Олег чувствует свою вину, пытается загладить… Глупо. Коле на все наплевать. Он ходит ради секрета эликсиров, надеется получить доступ к формулам. И зачем Олег все ему рассказал? Хотел заинтересовать, стать ближе? Теперь жалеет. Говорит, что Коля проявляет слишком большой интерес, как бы не навредил сам себе. А по мне, хуже, чем есть, уже не будет.
Посоветовал Олегу спрятать подальше и рукопись, и наши записки. Он посмотрел на меня так странно. Кажется, понял, что я имел в виду, но ничего не сказал. Видно и сам понимает, что Коля не тот человек, которому можно оставить подобное наследство».
«Решили, что нейтрализатором будем заниматься у меня. Санька все дни в институте, забегает только переночевать, а у Олега, что ни день, Коля в гостях. Чересчур активно интересуется нашими опытами…».
«Олегу все труднее прикасаться к предметам. Да и я заметил, что начинаю, как бы, обходить его стороной. Нейтрализатор совершенно необходим! Ему удалось изобрести соединение, которое позволяет хоть как-то взаимодействовать с окружающей средой. Но соединение нестойкое, и диапазон воздействия слишком мал. Для более прочного нужно много крови, (см. формула 2, со сноской). Все компоненты берем теперь только у меня. Я предложил взять необходимое количество крови, но Олег против. Он ищет. Говорит, что что-то нащупал…».
«Кровь! Да, да, он прав! Все так очевидно, и всегда лежало на поверхности!
Кровное родство, кровная месть, принц крови, подпись кровью! На крови клялись, ей смывали оскорбление, кровью омывали Маргариту на балу у сатаны… А ведь Булгаков много чего знал! И древние ацтеки никогда не делали из пленных рабов, потому что своих богов нужно было напитать кровью!
Ах, Олег, умница! И как мы раньше-то не догадались?! У всех народов, во все времена – кровью очищались, кровью клялись, с кровью получали права! Почему, к примеру, не воспевают таким образом, скажем, желчь? Разве она менее важна? Нет, не меньше, но сколько бы мы ни подмешивали желчь, (или любой другой компонент, кроме крови), к готовым эликсирам, получалось одно и то же, эликсир терял свои свойства и прежнего действия не оказывал. Кровь же, всегда преподносила сюрпризы! Эликсиры не превращались в бесполезное месиво, а лишь меняли направление действия! Формулу долголетия мы получили только тогда, когда изменили дозировку крови в «избавителе»!
Что если, она нейтрализует Абсолютный эликсир?
Сегодня мы занимались этим весь день. Хорошо, что Санька на практике и не мог всего видеть. Он был сдал нас в психушку.
Но результаты обнадеживают.
Порезав руку, я смог дотронуться до Олега! Правда, ненадолго и очень трудно, но ведь это только начало, что бы он там ни говорил. Олег считает, что обольщаться пока не стоит. Абсолютный эликсир ещё не до конца «затянулся» вокруг него, и я, своей окровавленной рукой, мог попросту угодить в «прореху». Однако, ушел он домой очень воодушевленный.
Я рад этому. В последнее время, все чаще и чаще, Олег впадает в тупое безразличие ко всему. Только что торопливо пишет на бумаге формулы, делает расчеты, и вдруг, в одну секунду, замирает, оседает на пол и перестает реагировать на все, что происходит вокруг. Это страшно пугает. Составы, которые я готовлю, чтобы он мог дотрагиваться до предметов, действуют все слабее, а интервалы между приступами безразличия все короче…. Ох, хоть бы у него получилось! Не могу представить, что в один ужасный день останусь в одиночестве…».
«Сегодня ходил к Олегу. Он уже не встает с кресла, но ещё разговаривает.
Как мешает Коля!
Я не могу приказать ему уйти, и тревожить Олега своими подозрениями тоже не могу. Кажется, любовь к сыну единственное, что позволяет ему бороться с действием эликсира. Но, боже мой, как же он мешает! Я ведь вижу – Олег что-то нашел, что-то хочет сказать, но при сыне не решается…».
«Сегодня рухнула последняя надежда.
Не хочу об этом писать, но должен.
Коли не было. Я переждал довольно долгий приступ у Олега и поспешил изложить ему свои соображения. Если можно дотронутся до него, порезав свою руку, то, может быть, удастся сделать надрез и на его руке. А если не поможет простое кровопускание, то перемешать нашу кровь, и её изменившийся состав изменит действие Абсолютного эликсира?
Но Олег сказал, что это ничего не даст. В медицине давно практикуют переливание крови, но оно дает лишь оздоровление организма, а сам человек при этом кардинально не меняется. «Но я, кажется, нашел способ, – прошептал он. – Мне этот способ уже не поможет, а вот ты ещё можешь спастись. Когда эликсир полностью «затянется», и я превращусь в растение, убей меня. Ты знаешь, как можно дотянуться до сердца. Только убийство встряхнет и кровь, и все остальные «соки» так, что аура перекорежится, каким бы эликсиром на неё ни действовали. Я много думал. Я ведь вижу и знаю гораздо больше, чем обычные люди. Сам посуди, даже простое решение убить изменяет человека, а уж действие… Мы тысячу раз мысленно говорим, что готовы убить кого-то, кто нам противен, но все это говорится не всерьез, и мы этого никогда не сделаем. Однако, стоит твердо решить: да, я убью, как то, что мы привыкли называть психикой, меняется в одночасье! Человек делается другим, а после убийства он и вовсе исчезает. Вместо него живет совсем другой! Вспомни леди Макбет, Раскольникова… И Шекспир, и Достоевский открыли нам лишь часть происходящих изменений. Но они не читали Галена…
Убив меня, ты спасешься. Не знаю, правда, каким станешь, но ты, Васька, человек сильный. Мучиться угрызениями совести, конечно, будешь, как без этого. Тут я тебя уговорить не смогу, но индульгенцию дам. Хотя бы ради науки сделай то, что я сказал. У тебя Санька, любимая работа… А эликсиры эти брось. Верни Семке его рукопись. Скажи, слабоваты мы оказались против Калиостро… И человечество этими эликсирами спасти нельзя.». Потом он ещё что-то говорил, похожее на бред, потом снова отключился.
Я не знал, что думать!
Ждал, когда приступ пройдет, чтобы высказать, как гнусно его предложение, но тут пришел Коля, и я сбежал домой.
Господи, неужели Олег всерьез считает, что нашел нейтрализатор?! Или рассудок его помутился, или…
Или он действительно нашел нейтрализатор, и, значит, спасения мне нет!».
«Олег умер.
Почти два месяца я ничего не писал сюда, потому что не мог. Да и что было писать?
Конечно, я его не убил.
Два месяца ходил, навещал, смотрел в чужое, спокойное лицо… Изучал свой собственный конец.
В день смерти зачем-то явилась бывшая жена. Уверен, её Коля вызвал. Бегала, суетилась, звонила в «скорую»… Хорошо, что я успел распылить в комнатах эликсир «доверия», иначе от вопросов невозможно было бы отвертеться. Да и выпроводить из комнаты родственницу с врачами тоже вряд ли бы удалось.
Как ужасно и грустно все было!
Смерть совершенно изменила знакомого когда-то человека.
Я разрезал скальпелем свою ладонь и протянулся сквозь его сферу. Она больше не была плотной и походила на самый обычный эликсир «совести». День-другой и истаяла бы совсем…
В сумке у меня была, заранее купленная на скотобойне кровь и кожаный фартук… Нет! Не могу об этом вспоминать! Все прошло так, как и должно было пройти. На мертвом теле эликсир нейтрализуется не сложнее, чем на стуле…
Спасибо Алеша прибежал, помог…
Жена Олега торопится, хочет хоронить уже завтра из-за жары. Не могу видеть ни её, ни Колю…».
«Вот я и остался один.
Алешу прямо с похорон увезли с сердечным приступом, а Санька не в счет. Я ему и не говорил пока ничего. Пусть живет своей жизнью. Галеновы и наши с Олегом эликсиры я мечтал преподнести ему на блюдечке. Но каемочка оказалась слишком кровавой. Теперь уж, не дай Бог узнать ему хоть что-то об этих делах!
Надо бы все записи уничтожить. Какой от них прок? Олег собирался, да, видно, рука не поднялась. Столько надежд, столько радостных открытий за все этим стоит… Но, нет, человечество эликсирами действительно не спасти и не переделать, даже если оставить самые невинные, вроде «третьего глаза». Любой, мало-мальски соображающий медик или химик, услышав это «А», захочет узнать, какое есть «Б», а потом и «В». А потом появится новый Абсолютный эликсир, и кто-то гениальный, или, хуже того, подлый, додумается до нейтрализатора.
Страшно даже представить, как равнодушные совершенства станут выискивать себе жертву, чтобы жить бессмертно и счастливо. И, что за раса укоренится, в конце концов, на земле?!
…А Сема так и не успел на похороны. Приедет только завтра. Жаль, что они с Алешкой так…».
«Говорят, когда сбываются виденные когда-то сны, жизнь должна круто поменяться.
Давным-давно мне приснилось, что я сижу на спиритическом сеансе, но совсем один, и дух, который вызвали, вполне материален. Помню, он сказал, что прожил двести лет, и я, почему-то, все время пытался выяснить, знал ли он Ленина.
Смешное желание. Уж лучше бы про Толстого спросил…
Сегодня заходил Довгер. Горюет страшно! Винит во всем себя и глупую ссору с Алексеем. Говорит, что ходил на квартиру Олега за рукописью Галена и встретил там Колю. Это меня очень насторожило, но Сема уверяет, что все бумаги на месте. Впрочем, ему показалось, что в тайник все же лазили. Если так, то нам остается уповать лишь на то, что Коля ничего не разобрал в наших формулах.
Решился, наконец, спросить о рукописи. Почему о…».
Дальше шли вырванные листы.
Значит, все-таки Довгер их вырвал, когда навещал Паневину! Хорош друг! «Не имею права, не имею права…», а сам поступил ещё хуже, чем, если бы, просто забрал дневник!
Ладно, горевать о пропаже пока не будем. Может быть, Валентина Георгиевна проявила присущее всем женщинам любопытство, и успела прочесть эти страницы до того, как они были изъяты. Пусть не содержание, но, хотя бы причину, по которой Довгер вырвал почти пол тетради я смогу узнать. А пока почитаю дальше.
«… вызывает сильнейшее раздражение! Без конца лезет с вопросами, «что случилось?», да, «почему ты стал такой…». А какой такой?! Что у меня, лицо перекособочилось, или руки-ноги скрючило? Я Эльвиру так и спросил, а она обиделась. Курица! Я такой же, каким и был, вот только видеть и слышать стал больше, чем хотелось бы!
Мне уже ничего не помогает. Те же симптомы, что были у Олега. Хорошо, что Санька звонит не часто – все труднее притворяться радостным добродушным дядюшкой. Я стараюсь думать о нем, как можно реже. Только когда чувствую приближение сильного приступа. Это, как лекарство, которое нельзя принимать часто, чтобы не ослабить его действие.
Пытаюсь читать то, что записывал по настоянию Олега, но, из-за обострившегося видения сути вещёй, (и не только вещёй), стал различать за искренними воспоминаниями те, где лицемерил даже перед самим собой! Кое-что перечеркнул, вымарал, кое-что хотел выдрать с корнем, но передумал. Зачем? Какой от этого прок? Ну да, я лицемерил, лгал самому себе, что где-то все хорошо и прекрасно, хотя и понимал, что там далеко не хорошо, и далеко не прекрасно. Да, я видел Ту, никогда не оборачивающуюся соседку. Заметил случайно, в троллейбусе. Не так уж далеко они переехали, чтобы эта встреча не могла состояться. Заметил и сделал вид, что не узнал!
Моя мечта, моя «Принцесса Грёза» располнела, обабилась, поникла под тяжестью рыночных кошелок. В когда-то огромных, уже не детских глазах, безразличие и отупение вместо мечтательности… Какой стыд я тогда почувствовал! Как презрительно подумал о ней! А теперь… Теперь я должен это написать! Вот сейчас, когда немного отпустило, и сердце моё забилось чаще, можно и должно признаться – не я ли указал ей путь к этой потускневшей тетке? Ведь и она томилась влюбленностью – это было видно, что уж тут скрывать! Но я, вместо того, чтобы бросать ей на балкон цветы, петь серенады и совершать безумства, достойные дона Кихоты, своей дерматиновой папочкой со шнурками, создал в её девичьем сознании мечту о человеке взрослом и серьезном, (каким, по сути, никогда не являлся)! И потом, когда не сложилось, она искала именно такого – мечту юности, своего «Принца Грёзу» – и, видимо, нашла. Нашла зануду с папочкой, ничем не утолившего её мечтательность… Вот сейчас бы и чувствовать стыд, и думать презрительно, но только о себе.
Что за жизнь я прожил? Копался в Истории, «плавал в реке Времени», как говорил всем, возвращал жизнь старым, ненужным вещам… И что? Сейчас мне необходима опора, чтобы бороться против душного кокона, в который затягивает эликсир, а опоры этой нет. Все, что казалось важным при обычной жизни, вдруг помертвело, и, как то золото из сказки, превратилось в черепки… Только Санька и остался.
Может, меньше надо было увлекаться антиквариатом и прислушиваться к мертвым голосам из прошлого? Разве менее интересен живой человек – этот голос будущего, которое становится подвластно нам, если мы вовремя проявим участие, согреем теплом, добрым словом…
Как мне жаль, что все так поздно!».
«Сегодня еле-еле справился с приступом ярости. Они становятся все чаще.
Прости, Санька! Я с трудом выношу себя ТАКОГО, и не могу допустить, чтобы ты меня таким увидел. Сегодня позвал к себе Алексея. Отдам ему эту тетрадь.
Все сошлось одно к одному. Вчера звонил Довгер, предупреждал насчет Коли Гольданцева. Значит, надо торопиться…
Немного страшно.
Хотя, что такое, в сущности, смерть? Всего лишь переход организма в другое состояние…
Хотелось бы в это верить…».
Это была последняя запись, и я закрыл книгу.
Глава девятая. …………………
Как там было у Булгакова? «Как причудливо тасуется колода»? Да, именно так. И, хотя он имел в виду людские судьбы, я теми же словами могу сказать и о людских поступках…
Впрочем, ведь из поступков судьба и складывается, не так ли? А из их перетасовки рождаются, наверное, мотивы и побуждения для поступков новых. Вся фишка, вероятно, в самом первом, определяющем шаге, который ты делаешь.
Мою колоду тасовали или слишком небрежно, или, наоборот, слишком тщательно, безжалостно теряя, или отбрасывая, все то, что не должно было мешать вершиться предначертанному.
В тот миг, когда я закрыл дядины записи, из моей колоды выпала, ещё не написанная, но уже ненужная новая книга. Да и вообще, я стал сомневаться, имею ли право считать себя писателем после всей пошлой писанины, пригодной только для того, чтобы убить время. Новая книга, несмотря на амбициозные планы, вряд ли стала бы лучше. Я понял это сразу, как только дочитал до конца последнюю строчку дядиной тетради. Слишком разителен был контраст между нынешним душевным волнением и тем болотно-ленивым состоянием, в котором я жил последние годы. И, несмотря на случившийся эмоциональный шок, (а может быть, именно благодаря ему), собственное творческое бессилие стало абсолютно очевидным. Мне следовало сначала дорасти до того уровня, на котором я так недолго продержался после чеченской командировки, а потом только решать, имею ли я право хоть что-то говорить людям… Иначе говоря, прежде всего, требовалось привести в порядок книгу собственной жизни.
Но, увы, сейчас, когда я вспоминаю все это, я уже знаю, как глупо и небрежно мы все её пишем. Пишем с закрытыми глазами, имея возможность подсмотреть только уже написанное. Из-под руки же выходят слепые, сиюминутно пришедшие на ум, фразы. Ошибки в них допускают и те, кто строчит, не задумываясь, и те, кто размышляет над каждым словом.
Я уже давно не из тех, кто задумывается. Отвык. Если вообще когда-нибудь это умел. Поэтому, и в тот момент, вычеркнув себя из рядов людей творческих, сразу, с ходу, определил, что делать дальше.
Прежде всего, сожгу дневник, чтобы никакому Гольданцеву не достался… Или нет, сначала приберусь, потом сожгу дневник и, раз и навсегда, удалю из компьютера всю свою писанину. Потом дождусь Екатерину, женюсь, заведу семью… Нет, сначала устроюсь на работу. Можно корректором в прежнее издательство, или в любое другое, куда возьмут… Ай, ладно! Приедет Екатерина – разберемся.
А может, мне, вместе с дневником, сжечь и собственные, уже написанные книги? Гоголевщина, конечно, но новую жизнь нужно начинать с чистого листа. Оставлю только первую книгу, в которой «вышел весь»…
А может, мне и дядины записки не сжигать? Пусть останутся, как отрезвляющая пощечина, и, если снова взбредет в голову блажь возомнить себя невесть кем, я сам себе её залеплю – перечитаю, чтобы опомниться.
В ту ночь так и не смог заснуть.
Чтобы не валяться, как Обломов, стал раскладывать вещи по местам, без конца вспоминая прочитанное и злясь на Довгера за вырванные страницы. А утром, когда ожили лифт и подъезд, наспех умылся холодной водой, оделся потеплее и поехал на кладбище.
В спортивной сумке я нес складную саперную лопатку и прямоугольную жестяную банку с видом Кремля, в которую положил дядин дневник, предварительно завернутый в полиэтилен. У входа на кладбище купил скромный венок из искусственных еловых веток и решительно зашагал по длинной скорбной аллее.
Здесь я не был уже очень давно, со времен первого крупного гонорара, часть из которого пошла на достойный памятник и ограду. Почему-то думалось, что всё таким и осталось – чистым, новым, ухоженным, и я совсем не был готов к тому запустению и той убогости, какие нашел.
Стало невыносимо стыдно.
Дядина фотография совершенно выцвела и утратила полутона. Но улыбку, Василия Львовича, его добродушную улыбку, напомнить ещё была в состоянии.
«Здравствуй, дядя Вася, – мысленно сказал я. – Прости за то, что редко появлялся. Но ты ведь и сам не слишком любил ходить на кладбища. Сам говорил, что любимых людей хранят в сердце, а не в земле… Я виноват перед тобой – не выполнил той единственной малости, о которой ты просил, и сейчас пришел, чтобы не выполнить и другой просьбы. Но главное я понял, и в этом, как мне кажется, лежит искупление. Может даже лучше, что я не спустил Гольданцева с лестницы и все узнал. Черт с ними, с эликсирами! Я ведь узнал и нового тебя, дорогой дядя… А теперь, прости, мне нужно сделать то, зачем я пришел».
Рядом была совершенно заброшенная могила с покосившейся ржавой пирамидой памятника. Невозможно было прочитать, кто тут лежит – мужчина или женщина. Не было и фотографии. Только земляной холм, напоминающий, что когда-то сюда зарыли умершего человека, о котором больше никто не вспомнил. Грустное зрелище, но мне некогда было грустить.
Я обошел могилу дяди, перешагнул через цепь ограды и остановился возле куста сирени, раскинувшего ветки над обоими умершими. Здесь самое подходящее место! Даже отломившаяся от ржавого памятника звезда могла пригодиться.
Я выкопал яму по размеру жестяной коробки, открыл крышку и ещё раз посмотрел на дядину тетрадь, словно не был уверен, что она там и хотел убедиться. Потом закопал жестянку, вместе с дневником, утрамбовал хорошенько землю и воткнул сверху звезду. А купленный венок положил на безымянную могилу.
Все! Больше никто, ни Гольданцев, ни какой-нибудь другой ученый фанатик, эти записки не увидит! Неизвестный покойник, или покойница, сохранят его, вместе с моим дядей какое-то время, а потом – пусть только утрясется история с Гольданцевым – я сам стану их хранить, лучше и надежней любой могилы. И порукой тому моя вина перед Василием Львовичем.
Я обтряхнул землю с лопатки, сложил её, бросил в сумку.
Скамейка, которую когда-то собственноручно вкопал, раскололась надвое и покосилась, но сидеть на ней ещё было можно. Почему-то захотелось побыть здесь какое-то время, посидеть, подумать… Что там говорил Гольданцев? Все мы гости и должны достойно уйти? Не мешало бы ему самому об этом задуматься.
Я снова взглянул на дядину фотографию и поразился вдруг пришедшей мне в голову, довольно странной мысли – а почему, собственно, все мы так боимся Гольданцева? Может, он рвется любой ценой получить нейтрализатор только потому, что не представляет себе его сути? А вот, когда узнает и поймет…
Воображение тут же нарисовало пасторальную картинку: я объясняю, что нейтрализовать разрушающее действие Абсолютного эликсира можно только через убийство какого-нибудь, ни в чем не повинного бедолаги, и Гольданцев, с рыданиями, отказывается от своих замыслов по созданию нового человечества. Ха! Нет, этот не откажется! Достаточно вспомнить его лицо. «На пороге дела всей своей жизни я ни перед чем не остановлюсь». И он, пожалуй не остановится, пока не проверит и не перепроверит. Ему ни в коем случае нельзя ничего говорить. А то, ещё чего доброго, опрыскает меня исподтишка Абсолютным эликсиром и, ради сохранения жизни, заставит кого-нибудь убить. Вот ужас-то будет! Я ведь не смогу, лучше умру, как дядя. И тогда он найдет другого дурака…
Эх, прав был Лешка! Поговорить бы с ним сейчас, признать свою вину, покаяться. Глядишь, вместе бы и додумались до чего-нибудь дельного.
Я достал мобильный и нажал кнопку быстрого вызова.
«К сожалению, вызов не может быть установлен…», – сообщил сонный женский голос.
Черт, опять деньги кончились! Что ж, позвоню Лехе вечером. А если он не захочет говорить… Нет, он захочет! Я его знаю – Лешка отходчивый. Добрый и отходчивый, даже когда такие гады, как я, плюют в душу.
Я выскочил на своей остановке с твердым намерением немедленно положить деньги на телефонный счет. Благо теперь, куда ни плюнь, везде попадешь в пункт оплаты. Но не успел ещё подойти к стеклянной двери киоска «Евросеть», как мой мобильник загудел вибровызовом.
– Саша? – Голос Екатерины казался немного удивленным. – Это ты?
– Господи, Катька! – заорал я, забыв обо всем на свете, и даже о том, что она просила никогда её «Катькой» не называть. – Ты откуда? Где? Уже приехала, да?
– Да, приехала, – теперь уже с тревогой ответила Екатерина. – Саша, что с тобой случилось? Мне Лешка позвонил, рассказал какие-то невероятные вещи, напугал…
– Дурак он, твой Лешка! Все у меня в порядке, и для полного счастья не хватало только тебя! Нам необходимо встретиться, есть очень важный разговор. Когда ты сможешь приехать ко мне?
– Саша, я только что с поезда, ещё в себя не пришла…
– Ничего, ничего! Передохни, помойся, только не ешь особенно. Сегодня тебя кормлю я. Приглашаю в ресторан, в любое удобное время, и отказа не приму. Ты даже не представляешь, как вовремя приехала!
– Надеюсь, что вовремя, – тихо заметила Екатерина.
Мы договорились встретиться через три часа, в уютной пиццерии недалеко от её дома. Я был страшно возбужден, несмотря на прохладный тон, каким Екатерина со мной разговаривала. Ничего, когда она узнает, ЧТО я намерен ей сказать, сразу подобреет, оттает и простит мне все прегрешения.
Пополнив счет на телефоне, я не стал звонить Лешке, как собирался, (ещё успеется), а помчался домой, приводить себя в порядок. Спасибо Гольданцеву, заставил произвести в доме раскопки, благодаря чему получилась незапланированная, но качественная уборка. Все лежит на своих местах, нигде ничего не валяется, вот только полы грязноваты, но это мы сейчас устраним. Не зря же, два года назад, был куплен чудо-монстр, который, за те деньги, что были за него уплачены, должен был бы сам соображать, когда и где пылесосить.
Мрачная утренняя решимость уступила место решимости совсем иного толка. Как бы ни был я уверен в своем желании сочетаться с Екатериной законным браком, все же, шаг этот был не из легких. И я вполне отдавал себе отчет в том, что обрету не одни только медовые пряники…
Глава десятая. Екатерина
С Екатериной мы впервые встретились десять лет назад, когда я только пришел работать в N-скую газету и знакомился со всеми сотрудниками.
Она не произвела на меня никакого впечатления, девчонка, как девчонка. В Б-ске я на таких даже не смотрел. К тому же, проработала она недолго и вскоре ушла в другое издательство, где и стала писать для своей «Светской тусовки».
Лет пять мы не виделись, и я, естественно, совершенно Екатерину забыл. Поэтому, на банкете по случаю выхода моей первой книги, долго не мог вспомнить, что за смутно знакомая девица изливает на меня восторги?
Сам не знаю, зачем вдруг пошел её тогда провожать? И уж совсем загадка, почему я у неё остался?
Утром, смущаясь и потирая ноющий лоб, я кособоко протиснулся в крошечную кухню Екатерининой однокомнатной квартиры, которой она страшно гордилась, и сел завтракать, размышляя, как бы это половчее смыться, чтобы сильно не обидеть, но и не дать повода для развития этого некстати возобновленного знакомства. Думалось довольно тяжело, как вдруг Екатерина расхохоталась и хлопнула меня по руке.
– Сашка, перестань морщить лоб! Я прекрасно понимаю, что, после вчерашнего, ты мой телефон обрывать не станешь, и вообще, вряд ли здесь ещё когда-нибудь появишься. Но это ведь не повод, чтобы портить чудесное утро! Ну, выпили, сглупили, с кем не бывает? А день начинать с отрицательных эмоций никак нельзя. Позавтракаем плотненько, с хорошим аппетитом, поболтаем ни о чем… Если хочешь, я тебе аспирину дам. И разбежимся, каждый по своим делам, зато с хорошим настроением. Обещаю, я тебя донимать звонками тоже не буду.
Изумился я тогда до крайности. Конечно же, по старой привычке, попытался все отрицать. Мне, дескать, было с ней очень хорошо, и почему, собственно. «сглупили», и сюда я бы с удовольствием ещё зашел, и не раз… Но Екатерина посмотрела на меня насмешливо, придвинула аспирин, стакан воды и начала уплетать какой-то сложно-составленный бутерброд, болтая при этом, действительно, ни о чем. Да ещё так беззаботно и легко, что я очень быстро расслабился, позавтракал, как она и предлагала, с аппетитом и, прощаясь в дверях, охотно поцеловал её, испытывая самую искреннюю благодарность.
А потом… Черт его знает, что началось потом! Прямо наваждение какое-то!
Стала вдруг она вспоминаться, и к месту, и не к месту. Газету открыл почитать, а там, на третьей полосе, заголовок: «Завтрак на траве по-арабски». Увидел этот «завтрак» – вспомнил. Внутри что-то ёкнуло… Телевизор включил посмотреть, (какое-то ток-шоу шло), девица в первом ряду и волосы поправила, и усмехнулась, ну точь в точь, как Екатерина… Опять что-то ёкнуло! Сел роман писать – споткнулся на первой же фразе, потому что начал «кроить» сцену специально под фразу о том, что начинать утро с отрицательных эмоций нельзя!
Короче, плюнул я на все и схватился за телефон.
И тут вспомнил, что номера-то её и не знаю, а спросить, записать, естественно, не потрудился! Пришлось тревожить общих знакомых, которые, как назло, помнили только прежний телефон, из коммуналки, а вот новый.., увы…
В конце концов, дело кончилось звонком её редактору.
– А, Широков! – глумливо пробасил в трубку этот старый бабник, за комплекцию и страсть к музыке прозванный «Бумбоксом». – Что, зацепила девочка, да? Она такая. Может. Ладно, пиши её телефон, только прими к сведению: я эту барышню целый месяц окучивал, по всем правилам. Незаметненько старался, осторожненько… А она мне, в один прекрасный день, знаешь что заявила?
– Что? – терпеливо спросил я, постукивая ручкой по заготовленному листу бумаги.
– «Давайте, -говорит, – с вами, Сергей Иванович, будем только добрыми друзьями. Вы – начальник, в сущности, неплохой. Да и я журналистка хоть куда. Будем дружить, будем понимать друг друга с полу слова – не работа начнется, а сказка! А теперь представьте, что произойдет, если вы так и будете меня домогаться из пустого мужского тщеславия. Вариантов два – или я начинаю вас раздражать своими отказами, и мы ссоримся и расстаемся. Или я уступаю, но потом видеть вас не могу, что тоже приведет, в итоге, к расставанию. Или, другая сторона того же варианта – я влюбляюсь, начинаю преследовать вас своей страстью, и, опять же, раздражаю… Дальше – по старой схеме. Вам такое надо? Мне нет». А?! Каково тебе? Веришь, у меня после этих откровений только одно желание и осталось – задушить её, проклятую! А сейчас – ничего. Права была, зараза, с ней по-дружески работать – одно удовольствие…
– Ты телефончик-то дай, – напомнил я, усмехаясь, потому что очень живо представил себе лицо Бумбокса в момент слушанья Екатерининой отповеди.
Но, вместе с тем, появилось вдруг и ещё одно, какое-то сложное ощущение. То ли гордость, то ли облегчение, то ли ещё, Бог весть что… И, набирая номер, я почему-то подумал, что не смогу, как раньше, заговорить с этой девчонкой игриво или с фальшивой деловитостью. Нельзя с ней так! Глупо, да и не пройдет, наверное…
Поэтому, пока шли долгие гудки, я лихорадочно перебирал в памяти все известные мне вступления к разговору с понравившейся девушкой. А когда она сняла трубку и немного устало сказала: «Аллё», помолчал, помолчал, да и вывалил ей про все, что со мной происходило.
Господи, как же она смеялась! Причем, это было и оскорбительно, и заразительно одновременно.
– Тебе неприятны мои откровения? – спросил я, пережив первый шок от нестандартного развития событий.
– А ты видел людей, которые смеются, когда им неприятно?
– Ну, положим, я и тебя сейчас не вижу.
– И слава Богу! Я сижу в старом халате с дыркой на животе, в зубах сигарета, голова сырая после мытья, лицо умытое и красное…
– Лицо-то от чего красное?
– Да от счастья, Саш, что ты все-таки позвонил и сказал такое…
Знаете, года два потом, вспоминая это «от счастья, Саш», я чувствовал, как сладко сжимается все внутри… При этом, совершенно не помню, когда осознал, что люблю Екатерину. Сначала думал, что тянусь к ней из чисто мужского интереса, потому что тем, первым, утром она повела себя не так, как все. Одно дело, когда с тобой прощаются вопросительными, ищущими взглядами, ловят каждый жест, каждое слово, чтобы убедиться – ты в восторге и обязательно придешь снова. Это слегка напрягает, но, в конечном итоге, приятно. Все-таки, как-никак, а хозяин положения ты. И совсем другое дело, когда тебе вслед небрежно машут ручкой, мол, все прекрасно, все замечательно, век не забуду.., э-э, простите, как вас там? Согласитесь, заедает.
Но, когда Екатерина произнесла свое «от счастья, Саш», я не ощутил, что стал хозяином положения. Просто сделалось вдруг очень и очень хорошо.
Мы и встречались-то тогда нечасто. Я писал новую книгу, она была завалена работой. Но каждый вечер, за исключением тех редких ещё дней, когда Екатерина торчала на какой-нибудь «светской тусовке», ровно в десять вечера взяли себе за правило созваниваться и болтать без умолку обо всем, что в голову придет. За это время успевали и кофе несколько раз попить, и целый фильм просмотреть, комментируя его друг другу, и даже приготовить и съесть ужин, не отрывая трубки от уха.
Эх, вернуть бы то блаженное время!
Хотя, почти за пять лет близких отношений бывали времена и лучше, а бывали и хуже.
Пережили мы и полуторогодовой период «гражданского брака», который завершился пятью месяцами полного отчуждения. За это время я пытался завести целых два новых романа с другими женщинами. Причем, первая была полной противоположностью Екатерине – яркая, пышная, до тошноты стандартная и чудовищно меркантильная. С этой все закончилось быстро и безболезненно. Другая казалась копией Екатерины. Но в тот момент, когда появились мысли типа: «а вот это она делает совсем не так, как та…», я понял, что безумно скучаю по оригиналу.
Возобновление отношений было немыслимо приятным!
Утром дружно сознались, что жить друг без друга не можем, но только не в одной квартире. И наступил самый прекрасный период, когда мы, особенно не раздумывая, то оставались вместе у кого-нибудь, то расходились каждый к себе. Причем, что интересно, именно в тот момент, решив, что вместе лучше не жить, мы именно и жили вместе, как настоящие муж и жена.
Тогда-то Екатерина и попросила… Нет, скорей потребовала, чтобы я называл её только Екатериной.
– Мне надоели эти «Катюхи», «Катюшеньки», «Катьки»… Звучит как-то по-коровьи. А «Екатерина» – это благородно. «Императрично», если хочешь. И чувствовать себя начинаешь не какой-нибудь там «Катюхой», а женщиной с большой буквы…
Что ж, я согласился. В ту пору она могла просить о чем угодно. Хотя, первое время ломал язык, выговаривая это «Екатерина». Потом привык. А потом и самому стало резать слух, когда кто-то окликал: «Эй, Катька, подожди!…».
Короче, довольно долго мы были счастливы. Но потом все как-то неуловимо стало меняться.
Началось со свадьбы последней «холостой» подруги Екатерины – Лидки Киреевой. Она неожиданно решила повязать себя цепями Гименея. … Впрочем, почему неожиданно? Причина, вполне конкретная, сначала представляла собой распухающий Кирюхин живот, а затем трансформировалась в красного орущего младенца.
Помню, возвращаясь с банкета по случаю бракосочетания, я позволил себе высказаться насчет того, что все, Кирюха пропала.
– Почему же это? – спросила Екатерина.
– Конечно, пропала. Теперь увязнет в плошках-поварешках и домашнем хозяйстве. Прощай Женщина, здравствуй, Домохозяйка!
– Чушь какая! У Кирюшки отличный муж, он не позволит ей забыть, что она Женщина, и Кирюха, в свою очередь, не позволит себе…
– Ой, ой, ой, дорогая! – перебил я. – Все обо всем забудут очень скоро. А, знаешь, почему? Потому что цепи. Вот посмотри на себя: ты прекрасна, потому что свободна, как птица; ты интересна, таинственна, в некотором смысле, ты недосягаема, и ты – Женщина! Но, как только станешь женой, все это великолепие будет только раздражать твоего мужа. Сразу начнется: «Где была? С кем? Почему пришла так поздно?»… Цепи, цепи, милая. Осознай это и возрадуйся.
Екатерина ничего не ответила. И все-таки мне кажется, именно с того разговора поползла по нашим отношениям тонкая, но весьма ощутимая трещина. Вроде все было, как прежде, вот только, нет, нет, да и проскочит у Екатерины колкость про её свободу. Ссылаясь на тотальную занятость, она стала выпроваживать меня ночевать к себе, а если дурная минута заставала её в моей квартире, все чаще уходила сама, ничего, порой, не объясняя. Могла не отвечать на вопросы и обращенные к ней реплики, и застывала с задумчивым видом, особенно если слышала какую-нибудь душещипательную музыку.
По мере возможности я старался делать вид, что не замечаю этих перепадов настроения. Пытался развеселить Екатерину остротами, беседами на темы, которые она любила, и даже, (пока позволяло финансовое состояние), прибегал к самому эффективному способу «лечения», каким для женщины, несомненно, является поход по магазинам. О причинах Екатерининой задумчивости даже не размышлял. Мне и в голову не могло придти, что она хочет «узаконенных» отношений. Ведь был же у нас печальный опыт «гражданского брака». И хотя в ту пору мы ещё не осознавали, как дороги друг другу, все запросто могло повториться, только теперь, повязанные цепями, мы бы уже никогда не опомнились.
Нет, нет, я искренне был уверен, что Екатерина не может мечтать о браке. Возможно, у неё кризис, депрессия, переоценка ценностей, связанная со спецификой работы, но только не эта блажь!
Тем ощутимее был удар, когда иллюзии эти развеялись.
Однажды, ожидая Екатерину, одевающуюся для похода со мной на какой-то званый ужин, я увидел на её столе пошлый дамский журнал, а в нем закладку. И поскольку подобные сборы обычно затягивались надолго, полюбопытствовал, скуки ради, что же такого интересного могла найти Екатерина в дурацком издании?
Статья называлась: «Пять причин, по которым Он не хочет жениться».
Автор, (естественно женщина), изображала в ней мужчин, как некие топорные заготовки под человека. А вполне естественный мужской страх перед женитьбой свела к одним только рефлексам и комплексам, начисто лишив нашего брата таких благородных мотивов, как чувство ответственности перед будущей семьей. И, конечно же забыла об известных опасениях по поводу самой женской натуры. «Если в мужчине отсутствует Эдипов комплекс, заставляющий подменять женитьбой материнскую опеку, то в силу вступает «комплекс Подколесина». А именно – желание сбежать, как только угроза женитьбы перерастает из потенциальной в реальную…». И далее в том же духе!
При этом, так и не удалось во всей статье увидеть четкие определения «пяти причин», вынесенных в заголовок. Все попытки автора размусолить заумными фразами, почему тот или иной мужчина не женится, можно было свести к двум простым словам: «не хочет», и все!
Я захлопнул журнал, испытывая отвращение к автору и ужас от того, что Екатерина, начитавшись такого, начнет и во мне выискивать всякие комплексы! Зачем она вообще все это читает?! Неужели хочет превратиться в одну из тех домашних куриц, чьим жизненным кредо давно стало – «хоть какой, лишь бы муж»?!
Верить в это не хотелось, но с тех пор, едва в Екатерине намечался приступ задумчивости, я и сам спешил ретироваться. Она может мечтать о чем угодно, но мне сводить наши драгоценные отношения к кастрюлям и постирушкам не хотелось.
Возможно, мы бы так и расстались, тихо и незаметно устав друг от друга. Но, вот ведь беда, стоит идее о женитьбе повиснуть в воздухе, как, волей-неволей, начинаешь примерять её то к одной стороне жизни, то к другой.
Думаю, со мной это получилось из-за простого нежелания потерять Екатерину.
Я знал, что замену ей не найду, и вряд ли захочу заново привыкать к чужим повадкам какой-то другой женщины. Знал я и то, что не получится теперь прожить бобылем, как дядя, потому что будет глодать мысль об Екатерине, которая живет где-то рядом на этом свете, да ещё, не дай Господи, с каким-нибудь типом, которого она станет ценить больше, чем меня, только за то, что он решил таки жениться!
Да, я тяжело шел к тому уверенному состоянию, с которым пылесосил квартиру в последний день своей нормальной жизни.
Трудно и, порой, подловато.
Что уж тут скрывать, появлялись иногда гаденькие мыслишки, вроде той, что выползла из подсознания после ссоры в Лешкином семействе. Я вляпался в неё благодаря какой-то пирушке, когда благородно решил проводить пьяненького Лешку до дома. Ленка открыла дверь и сразу учуяла чужой запах дорогого парфюма. Не желая слушать объяснения, что пахнет мой одеколон, она изрыгнула на Лешку все подозрения и обвинения, которые сама себе накрутила пока дожидалась его прихода. Ничего отвратительнее я в жизни своей не видел и не слышал! Сбежал домой, чувствуя себя, почему-то, пристыженным, и пребывал там в полной уверенности, что завтра Лешка придет ко мне с собранным чемоданом.
Но оказалось, что на следующий день семейство дружно отправилось в кино, словно ничего и не было. И я долго укладывал в воображении, как можно, после всех оскорблений, угроз и ненависти, идти куда-то рука об руку, не испытывая при этом чувства гадливости друг к другу? Вот тогда-то и подумалось: «А ведь у нас с Екатериной такого никогда не случится. Она не станет орать, как базарная торговка. Просто повернется и уйдет навсегда. И это, черт возьми, очень удобно…».
Уборку я закончил задолго до намеченного часа. Аккуратно побрился, оделся и достал кольцо, завещанное Василием Львовичем моей невесте.
Улыбался, когда поправлял его в коробочке.
Почти смеялся, когда укладывал коробочку в карман куртки.
Было странно, непривычно, гордо и безумно весело, как бывает в детстве, когда случается что-то такое, что случается только у взрослых.
В пиццерию прибежал пораньше, занял столик, сообщил Екатерине по мобильному, что уже на месте, и стал ждать. Естественно, размышляя о том будущем, которое начнется уже сегодня.
Я сразу решил, что предоставлю Екатерине самой определить, когда и как пройдет наша свадьба – женщины ведь это так любят. А потом можно обсудить и мою будущую работу. Вдруг она захочет, чтобы я продолжал писать? Екатерине я поверю, она в этих делах хорошо разбирается. И с издателем нам будет проще договориться вдвоем. Он к Екатерине всегда неровно дышал. А уж если узнает, что я решил, наконец, на ней жениться, простит мне все прегрешения и проволочки…
А! Вот и Екатерина! Что ж, здравствуй, переломный момент всей жизни!
Глава одиннацатая. Лучше бы такое никогда не случалось
– Ну, здравствуй, – произнесла Екатерина, еле-еле прикоснувшись губами к моей щеке. – Слава богу, внешне ты действительно выглядишь нормально. Может, я зря срывалась с места и ехала тебя спасать?
Я ласково накрыл рукой её ладонь.
– Ехала ты не зря, а спасти меня сможешь, если сейчас, сию минуту, согласишься выйти за меня замуж.
И, как фокусник, выложил на стол коробочку с кольцом.
…М-м-м, как бы это поточнее описать, что сделалось после этого с Екатериной?
За то время, которое прошло с момента её звонка до момента нашей встречи, я успел создать в воображении не меньше двадцати вариантов её возможной реакции. И в первую минуту показалось, что сейчас реализуется один из самых желанных. Её лицо дрогнуло, покраснело, ресницы беспомощно захлопали и опустились, прикрывая радостный блеск в глазах… Или нет? Или в последнем я ошибся.., если не ошибся вообще во всем…
Екатерина действительно покраснела и отвела глаза, но вовсе не затем, чтобы скрыть радость. Все её привычки были мне давно хорошо знакомы. Она закусила губу, как делала всегда, когда думала о чем-то неприятном. Похолодевшая ладонь медленно выползла из моей руки…
– Что? Что такое? – изумился я. – Ты, может быть, не поняла? Не веришь, что это всерьез? Но я действительно делаю тебе предложение. Обдуманное, взвешенное, абсолютно серьезное. И это кольцо самое настоящее, (я потом тебе о нем подробнее расскажу), и, если хочешь, могу прямо сейчас встать на колени…
Екатерина резко повернулась. То, что я увидел в её глазах, мне совсем не понравилось.
– Не надо, Саша. Я догадывалась и боялась… Но это все не нужно. Ничего у нас с тобой не выйдет.
Теперь пришел мой черед беспомощно хлопать ресницами.
– Прости, не понял. Что значит, «не выйдет»? Довольно странное заявление, учитывая, что столько лет… Или это из разряда женского кокетства? Хочешь немного помучить, отомстить за то, что так долго не решался? Но тогда скажи, по крайней мере, что подумаешь. Обычно так делают…
– Я уже подумала, – твердо сказала Екатерина. – И говорю тебе так же обдуманно, взвешенно и абсолютно серьезно – нет.
– Но почему?! Что случилось?! Ты из-за того, что когда-то у нас не получилось, да?
– Послушай, Саша…
Екатерина немного поколебалась, но все же положила свою ладонь на мою руку.
– Помнишь, когда, как ты говоришь, у нас «не получилось», я тоже уехала к маме? Мне было очень плохо. Одиноко и тоскливо. Я не разбиралась тогда, кто прав, кто виноват, а просто пыталась сообразить, как жить дальше. Закопаться в работе? Затеять новый роман с бывшим поклонником? Я уже и не помню, что ещё навыдумывала, пока сидела на мамином балконе и тоскливо курила. Зато хорошо помню, как скучала по тебе. Странное дело, наш разрыв был целиком на твоей совести, но я совсем тебя не винила. Почему-то казалось, что ты не можешь быть неправ, и это я, своей глупостью и тусклостью, никак не в состоянии вызвать в тебе такое же, как у меня, сильное ответное чувство.
В этот раз, когда страх за маму отступил, я забрала её из больницы и вечером, на том же балконе, курила и думала, что совершенно по тебе не скучаю. И дело совсем не в том, что сейчас мы, вроде бы, вместе, и все у нас, вроде бы, хорошо. Я НЕ ХОТЕЛА по тебе скучать!
Мама без конца выпытывала, что у тебя, да как, пока не заподозрила неладное. Все ответы звучали односложно, раздраженно… В конце концов, я сказала, что мы расстались.
– Но зачем?!
– Затем, что это было единственно честным! Не говорить же, в самом деле, о том, как ты воспринял известие о её болезни, и о том, что я вряд ли смогу тебе это простить! Нисколько не обеспокоился ни её состоянием, ни моим; не задал ни одного вопроса, не предложил помощи, как это сделали другие, вроде бы, не такие близкие мне люди! Хотя нет, ты обеспокоился… Тем, что мы не сможем встретиться, как ТЫ запланировал! И это было единственным, что тебя тогда взволновало. Ты даже сейчас ни о чем не спросил! Сразу начал о важном для самого себя. Кольцо это выложил, «на колени могу встать»… Наверное, гордился собой безумно, да? А теперь представь, хоть на минуту, что я чувствовала, когда уезжала! Тогда ещё не было известно, что все в порядке, и диагноз поставили ошибочный. Но я-то этого не знала, и ехала с одной мыслью – успеть застать маму живой! Случись, не дай Бог, страшное, и я бы осталась одна на целом свете. Ты, как выяснилось, не в счет…
Я изумленно смотрел на раскрасневшуюся Екатерину. Что она говорит? Неужели серьезно? Но все это так несправедливо, так глупо…
– Знаешь, когда ты позвонила, я тоже переживал трудный момент. Конечно, меня это слабо оправдывает, я виноват, каюсь. Но, если бы ты могла себе представить…
– А я представляю! Очень хорошо представляю!
Лицо Екатерины горько перекосилось, как перед слезами.
– Конечно же, тебе было плохо, и, несомненно, хуже, чем мне. У нас так всегда и было: у тебя все важнее, значительнее, масштабнее, а у меня, так – ерунда какая-то!
– Ты неправа…
– Перестань! Рядом с тобой я жила, как под гипнозом! Только твои дела имели смысл! Пусть даже я сама, от большой любви, задала такой тон нашим отношениям, но ведь ты же мужчина! Ты не должен был этого позволять, а должен был сам ухаживать за мной, баловать так, как позволил мне баловать себя! Но ты до такой степени привык к этой замене ролей, что ничего другого от меня уже не ждал, не говоря уже о том, чтобы проявлять заботу самому! А если бы у нас появился ребенок? Мне совсем пришлось бы забыть о своей жизни, потому что вселенскую заботу нужно было бы увеличить вдвое!
– Господи, да не хочешь, можем детей и не заводить!
Екатерина схватилась руками за голову.
– Сашка, ты меня что, не слышишь? Разве я говорила про то, что не хочу детей?
– Тебя не поймешь. Хочешь – давай заведем.
Она сложила руки, как школьница, и терпеливо сказала:
– Нет. Я говорила о том, что с тобой мне это противопоказано. Не хочу больше жить каким-то гермафродитом. Надо быть женщиной, и я женщина; нужно принять мужское решение, и я мужчина… Устала от этого любовного гипноза. Вот сейчас, стоило Лешке позвонить, снова сорвалась, помчалась «спасать», потому что чувствую себя «ответственной за того, кого приручила». Но увидела это кольцо, услышала этот шутовской тон и опомнилась, стряхнула с себя наваждение, все наши уси-пуси увидела вдруг так, как не видела до этого никогда!
Екатерина зажмурилась, потерла глаза пальцами и встряхнула головой, словно прогоняла навязчивое видение. Потом произнесла тихо, почти примирительно:
– Ты прости, Саша. Если бы, как пугал Лешка, обнаружилась какая-то секта, что-то страшное, противоестественное, я бы ни за что не стала говорить о своих чувствах. Но ты, похоже, в полном порядке. Жениться, вот, захотел, значит, ни о какой секте речь не идет, и Лешка, действительно, дурак. Боюсь, он тоже под «гипнозом», только дружеским. Беспокоится о тебе, суетится, свое отодвигает на второй план. А ты хоть знаешь, что он пишет очень серьезную книгу? А про мою жизнь ты что-нибудь знаешь? Чем, по-твоему, я живу, когда не ухаживаю за тобой и не вникаю в проблемы твоей жизни? Когда в последний раз ты обратил внимание на то, что я перестала рассказывать о своих делах? Или лучше спросить, а был ли первый раз, когда ты обратил на это внимание? До сих пор, наверное, думаешь, что ничего интереснее «светских тусовок» мне не предлагают? А между прочим, вот-вот я начну писать серию статей о…
Она запнулась и посмотрела на меня с жалостью.
– Извини. Слишком много посторонней информации в такой момент, да?
Я тоже взглянул на неё. Прямо в глаза.
– Знаешь, Екатерина, почему в честном бою лежачего обычно не бьют? Ему дают шанс подняться и доказать, что не слабак. Ты же сейчас молотишь по мне так, словно уверена, что я не поднимусь никогда.
– Если бы ты упал сейчас, – сказала Екатерина, не отводя взора, – я бы первая кинулась подставить плечо. Но ты не упал. Ты только растерялся немного…
– Да, растерялся. Потому что не ожидал получить удар в спину.
– Не надо было поворачиваться спиной…
Дальше продолжать этот разговор смысла не было.
Я встал, сгреб со стола коробочку с кольцом, оставил деньги и, аккуратно выговорив: «всего хорошего», вышел.
Мне не жаль было оставить ей кольцо. Но, зная Екатерину, я был уверен, что вскоре получу его обратно по почте, или ещё каким-нибудь изощренным способом. Когда-то я гордился её умением «раздавать щелчки», но подставлять собственный лоб не собирался.
Дома я разделся, сел на стул и понял, что с этой минуты жить мне больше нечем.
Конец первой части
Часть вторая
Глава первая. Убийство, как нейтрализатор
Я не помню, как убил Гольданцева.
Может быть, случайно.
Но, знаете, не хотел бы убить – не убил бы.
Вроде просто толкнул. Но очень сильно. А он неудачно упал.
Вроде и не было злого умысла. Просто испугался. Просто где-то, на задворках сознания, захотелось врезать ему, как следует. А может, ещё глубже, в подсознании, шевельнулось подцепленное от кого-то желание убить?
Ничего не помню, и помнить не хочу.
В одной из своих книг про Лекомцева я смоделировал как-то похожую ситуацию. Мой герой приходил к злодею, чтобы вывести его на чистую воду; тот, естественно, бросался на него со старинной, но очень острой саблей; мой герой уворачивался, и, в пылу схватки, злодей сам напарывался на свое оружие. Теперь мне стыдно – такую чушь писал! Но ещё стыднее вспоминать, с каким самодовольным упоением я сочинял переживания своего героя после этого случайного убийства. «Мозг заработал четко и ясно!»; «уверенным движением уничтожил все следы своего пребывания…»; «предусмотрительно обернул палец носовым платком и вызвал милицию и «скорую»…».
Идиот!
В такую минуту мозг четко и ясно может работать, наверное, только у сумасшедшего маньяка! И, если человек не прирожденный убийца, никаких уверенных телодвижений он производить не сможет, будь хоть трижды супергерой!
Руки тряслись – не унять, колени ослабли так, что шагу не ступить, а внутри, словно невидимый крюк зацепил за копчик, и тянет его куда-то вверх, к горлу, выворачивая все нутро наизнанку.
Я не герой. Я обычный человек, в реальной жизни видевший смерть только со спины. Но здесь, в квартире Гольданцева, внезапно увидев её невыдуманное лицо, я вдруг осознал всю неумолимую безвозвратность её деяний, и свое полное бессилие что-то изменить, поправить…
Тот день не задался с самого начала.
Утром позвонил издатель и не давал вставить слово, пока не излил на меня весь поток накопившихся гневных фраз. Завершилось все угрозой расторгнуть контракт, после чего говорить мне было уже незачем.
Следующим позвонил Гольданцев. Но тут я трубку брать не стал. Посмотрел на определитель номера, почувствовал легкий холодок в спине и вдруг осатанел! Что я, в самом деле, сижу тут, как суслик в норе и боюсь! Кого мне бояться?! Вот сейчас соберусь, пойду к Гольданцеву и прямо скажу ему, что дядин дневник не отдам, что сжег его по дядиной просьбе, которая для меня гораздо важнее, чем просьбы всех Гольданцевых, вместе взятых! Пусть делает, что хочет. Заслать ко мне своих отморозков, чтобы обшарили квартиру, как у Паневиной, он не сможет. Разве что через кровавый труп. Но дело это опасное, подсудное, начнутся разбирательства, и всплывут и Галеновы рукописи, и эликсиры… Мне терять нечего – я все расскажу. И про ограбленную Паневину тоже, и про воздействие на следователя. Упекут тогда Гольданцева, в лучшем случае, в психушку, и поделом ему!
Вдохновившись таким образом, я оделся под бесконечные телефонные трели и выскочил, демонстративно не захлопнув за собой дверь.
Кому и что я хотел доказать?
В квартиру к Гольданцеву позвонил, повторяя себе тысячный раз, что не должен ничего опасаться – никаких ручек и подозрительных пузырьков. Все скажу сразу, на пороге, и, если он попробует у меня перед носом что-то распылить, сразу уйду. Предупрежден, значит, вооружен. Мне с ним долгие беседы вести незачем.
Но, как это обычно со мной бывает, чем лучше продумано действие, тем вернее оно пойдет не так.
Гольданцев открыл дверь с самым любезным видом, затараторил что-то приветственное и, расшаркиваясь, потащил в комнату. При этом он все время норовил оставаться сзади, чтобы «протолкнуть» меня подальше от входа.
– А я вам звоню, звоню, Александр Сергеевич, а вы, вот он, сами изволили пожаловать. Рад, очень и очень рад…
– Вы зря радуетесь, – холодно сказал я, останавливаясь в некотором отдалении от стола с колбами. Сегодня их там стояло что-то особенно много. – Я пришел сказать вам, что дядин дневник нашел, но отдать его вам никак не получится.
– Это почему же?
– Потому что я его сжег, как просил Василий Львович. И теперь, зная по горькому опыту, как опасно игнорировать дядины просьбы, решил исполнить хотя бы эту.
Гольданцев натянуто улыбнулся.
– Чем же опасно, позвольте спросить?
– Дневник открыл мне глаза на многое, что раньше вызывало лишь смутное беспокойство, и теперь эта история перестала мне нравиться.
– Из чего я заключаю, что раньше она вам нравилась? – сощурился Гольданцев. – Ещё бы, все ведь было так хорошо! Квартира получила сказочную защиту от любого вторжения, и вы, при этом, отделались всего-то легким испугом и никчемной тетрадкой. Но теперь, когда пришла пора действительно платить по счетам, история вдруг перестает вам нравиться! Так, что ли?
– Думайте, как хотите, я вам все сказал…
– Нет, не все! Вы забыли сообщить самое главное – в чем состоит нейтрализатор Абсолютного эликсира! Извольте назвать формулу, и потом можете до конца своих дней презирать меня и все со мной связанное.
Я вздохнул и посмотрел на Гольданцева, как учитель на тупого двоечника, жмущегося у доски.
– Николай, э-э.., Олегович, вы, вроде, неглупый человек. Неужели вам до сих пор не ясно, что, коли нейтрализатор был найден, а те, кто его нашел, предпочли умереть, но не воспользоваться, значит, что? Значит, пользоваться им ни в коем случае нельзя!
– Это не вам решать!
– И не вам тоже! Это уже решили те, кто за свое право решать заплатили жизнью! Хотите оспорить последнюю волю собственного отца?
– Мой отец все бы мне рассказал, если бы его не настраивали против…
– Вероятно, вы сами и настраивали. Раньше я не мог понять, почему так было важно утаить результаты опытов именно от вас, но после визита к Валентине Григорьевне Паневиной, многое стало ясно.
Я думал, что Гольданцева эти слова как-то смутят, но он вдруг, по-змеиному тонко, улыбнулся и самодовольно сложил руки на груди.
– Значит, были уже у старой карги? Это она дала вам дневник, да? А заодно наплела, что это я подослал грабителей, чтобы разыскали дневник Калашникова в её квартире?
– Примерно так.
– Что ж, позвольте вернуть вам комплимент – вы тоже производили впечатление человека неглупого, но поверили выжившей из ума маразматичке. Интересно узнать, как все это выглядит в вашем воображении? Я бегаю по подворотням, ищу отморозков, разрешаю им вынести дурацкую коллекцию в обмен на … на что? Я же в глаза не видел этого дневника! Я просто знал, что существуют какие-то записи, где есть то, что мне нужно. Так что, ошиблись вы, Александр Сергеевич, забирать дневник из квартиры Паневиной я никого не просил. Иное дело ограбить её, чтобы поднялась хоть какая-нибудь шумиха в газетах и на телевидении. Мне нужно было хорошенько напугать вас…
Видимо, мое лицо сделалось глупым от изумления, потому что Гольданцев ухмыльнулся и продолжал дальше, весьма довольный произведенным эффектом.
– Я ведь давно наблюдаю за вами, Александр Сергеевич. И, знаете что скажу? Вы предсказуемы, как дождь, который уже идет. Публикация в журнале лишь подсказала мне способ, каким можно привлечь вас на свою сторону и забрать записи Калашникова у Паневиной…
– Только не говорите, что и публикацию в журнале тоже подстроили вы, – мрачно заметил я.
– Нет, это просто счастливый случай. Все одно к одному, прямо как предопределение какое-то. Но, между прочим, начало всему положил именно ваш дядя. Он перестарался, внушая, что вы лучше и талантливей всех прочих…
– Дядя никогда такого не говорил! – вспыхнул я.
– А не надо было много говорить. Печальные обстоятельства вашей жизни заставили одинокого Василия Львовича воспринимать любую мелочь, связанную с вами, с большим знаком «плюс»! Там, где обычного ребенка просто похвалили бы, сироту превознесут. Будь живы ваши родители, они бы более критично отнеслись к деяниям своего отпрыска…
– Замолчите, вы!!!
Я был вне себя от негодования. Этот гнус опять пытался задеть моё самолюбие. Но, если в первый раз, ему это удалось, то теперь, зная каков он сам, я не желал выслушивать лицемерные нравоучения. И, уж конечно, не мог позволить, чтобы Гольданцев, своим грязным языком, цеплял память о моих родителях и дяде.
– А-а вам не нравится, – с явным удовольствием протянул Гольданцев. – Почему же вы решили, что мне будет приятно слышать от вас.., – он сделал пренебрежительный жест в мою сторону, – … как бесполезен и ничтожен я был в глазах моего отца! Причем, узнать это от племянника человека, который и заставил отца так отдалиться от меня! Думаете, я не замечал, что не нравлюсь вашему дяде? Думаете, не представляю, ЧТО он мог обо мне понаписать?! О-о-о! Это я хорошо могу представить! Я и сам ненавидел его не меньше, и вас заодно… Ещё бы, куда мне было до вас, такого гениального! А ведь отец хотел мне довериться. Он только ждал удобного случая, когда не будет мешаться ваш драгоценный дядюшка…
Лицо Гольданцева вдруг перекосилось, в глазах появился странный, фанатичный блеск. И мне, глядя на него, сделалось жутковато.
– Ненавижу тебя! – прошипел он. – Даже сейчас хочешь показать свое превосходство – дескать, мне тайну доверить не побоялись, потому что я честнее и порядочнее. А в чем порядочность? В чем честность? Ты обманул меня! Воспользовался эликсиром, а платить за него не собираешься! Нечего сказать, очень благородно! Но и я не доверчивый лопух. Кое в чем подстраховался! Твой эликсир через пару дней совершенно выдохнется, и…
– Пусть выдыхается, – бросил я, поворачиваясь к выходу.
– Ох, не спешите, Александр Сергеевич! – бросился за мной Гольданцев. – Ведь тогда за дневником придут другие люди! Не те трусливые отморозки, что грабили Паневину, о нет! Те даже ударить как следует не смогли, а эти убьют, не моргнув глазом. Этих антикварная мишура не интересует. Они вложили гигантские деньги в создание Абсолютного эликсира, который можно запустить в производство, а это значит, что он должен быть безопасным! И, даже если дневник действительно сожжен, (в чем я, кстати, сильно сомневаюсь), они сумеют выбить формулу нейтрализатора из любой головы, в которой есть глаза, видевшие её!
Так вот в чем дело!
Вот откуда этот «научный» энтузиазм!
Обычное «купи-продай», только за гигантские деньги… Правы были и Олег Александрович, и мой дядя – такому, как этот Коля их честный взгляд на вещи даже не снился.
Хотелось плюнуть Гольданцеву в лицо и уйти, но он загораживал дорогу.
– Это вы сейчас хорохоритесь, Александр Сергеевич, потому что ещё не знаете всех способов воздействия… А они ужасны, поверьте! Я могу ненавидеть вас, но ТАКОГО не пожелаю даже врагу. Есть же ведь простой и безболезненный выход…
Гольданцев бросился к столу и схватил два небольших пузырька.
– Вот! – воскликнул он, потрясая то одним, то другим. – Здесь, настоящий эликсир «совести», стойкий, без обмана, а здесь – гарантия вашей безопасности, после того, как формула нейтрализатора перейдет в наши руки. Этот состав защитит вас от любого нападения! Ходите в любое время по самым страшным закоулкам, и ни одна собака вас не тронет…
Я смотрел на Гольданцева, не скрывая ни презрения, ни отвращения. Неужели он считает меня таким глупцом и всерьез надеется что-то получить?
Усмехнувшись и не считая необходимым что-либо объяснять, я пошел к выходу. И тут случилось самое непредсказуемое – Гольданцев бросился на меня! Сам! Рыча что-то вроде: «Ты слишком трус, чтобы сжечь! Дневник где-то у тебя…».
Дальше все помнится мелькающим, пыхтящим, воняющим потом, отвратительным месивом. Даже сейчас, желая хоть как-то связно восстановить в памяти фрагменты этой, то ли драки, то ли неумелой возни, не могу ничего вспомнить. Только одно отпечаталось в памяти, как дурной сон: упрямо сцепившееся, давящее друг друга локтями и коленями.., короткая боль в руке.., слюнявый до тошноты, укус.., вспышка бешенства, темнота в глазах.., потом перекошенное лицо Гольданцева, его разинутый рот, который с двух сторон сжимают мои пальцы.., легкость в плече, полет, удар, хруст… И все стихло.
Гольданцев лежал поперек коридора, чем-то напоминая пьяного римского патриция с наброска какого-то известного художника. Подбородок собрался на груди и глубоко в неё вдавился; остекленевший взор из-под набыченного лба смотрел сурово и мрачно, а тело аккуратно вытянулось на грязном полу.
Я не сразу понял, что с ним произошло. Первое мгновение ещё стоял, сжав кулаки, готовый отразить возможное новое нападение. Потом решил, что Гольданцев просто потерял сознание, и собирался дождаться, когда он подаст первые признаки жизни, чтобы уйти… Потом понял.
Растерялся.
Почему-то показалось очень важным определить, отчего именно умер Гольданцев? Сломал шею? Или так сильно ударился о стену, что что-то там себе отбил? Нет, скорее, сломал шею. Вон как она неестественно изогнулась… Впрочем, почему неестественно? Так бывает, когда люди засыпают сидя… Хотя, какая разница?! Он просто мертв! И мертв по моей вине. Я ЕГО УБИЛ!!!
И тут же, какой-то невидимый крючок внутри выполз из петли его удерживающей и выпустил лавину паники, которая рванулась по всему телу, заставляя зубы стучать, а руки и ноги трястись, как от озноба.
Я его убил!!!
Но я же не хотел! Я не убийца!
А ты попробуй кому-нибудь это теперь докажи…
Что же делать? ЧТО?!
Первая мысль – конечно же, бежать!
Но улики! Убийца всегда что-то оставляет… Тьфу ты, черт, я же не убийца! И тем не менее… Мои связи с Гольданцевым проследить, наверное, невозможно, если только он не оставил записи. И эти, «другие люди» с серьезными намерениями… Что если они все знают? Дьявол! Конечно же знают, иначе Гольданцев не угрожал бы ими так уверенно. И выходит, что найти меня этим бандитам труда не составит!
Что же, все-таки, делать?!
Нужна защита!
Что там показывал Гольданцев? Надеюсь, он не врал про то, что «ни одна собака…».
Я бросился к столу, схватил пузырьки. Сделать это оказалось нелегко – пальцы стали ватными, непослушными и без конца дрожали. Надписи на этикетках плыли перед глазами, но разобрать фамилию «Широков» я все же смог…
Так, надо сосредоточиться.
Что здесь? «Широков… э-э… „С“». Ага, это, видимо, для двери – «совесть». А тут что? «Широков – „З“». Защита? Ну да! Что же ещё?!
Стараясь не думать про труп за спиной, я разделся догола и опрыскал себя этим «З». Чуть не вывихнул руку, когда пытался захватить как можно больший участок спины; задирая поочередно ноги, обработал пах, под коленями и, особенно тщательно, стопы. Я, конечно, не Ахилл, но его печальный опыт ещё жив в людской памяти…
Потом оделся и пустой пузырек спрятал в карман куртки, который застегнул на молнию. Туда же отправился и эликсир «С».
Так, с этим всё. Что теперь?
Я осмотрелся, «споткнулся» взглядом о труп и ощутил новый приступ паники.
Гольданцев наверняка вел записи! Нужно их немедленно найти и уничтожить все, где упоминаются наши с дядей имена. Или лучше, уничтожить все вообще, не разбираясь!
Я подскочил к шкафу и рванул на себя дверцу.
Заперто!
Ничего, створки хлипкие – сломать легко!
Я рванул ещё раз… Целый ворох тетрадей и листков, похожих на рецепты и счета, вывалился мне на ноги с нижней полки. Чуть выше стояло несколько тонких папок. Долго не размышляя, я сгреб их в кучу, перетащил в ванную и поджег.
Теперь – другой шкаф…
Стеклянные дверцы с первого рывка не поддались. Я рванул сильнее. Гораздо сильнее, чем собирался, потому что на полке, среди хромированных коробочек для кипячения шприцев, увидел четыре пузырька, очень похожие на те, что лежали сейчас в кармане моей куртки. Неужели спасение? Неужели там «совесть» Гольданцева и «защита» для него?! Сколько бы проблем это решило!
Шкаф угрожающе накренился вперед.
Инстинктивно я толкнул его обратно и буквально «провалился» внутрь обеими руками. Разбитые стекла, сиротливо звеня, посыпались на пол.
Я зажмурился.
Все! Теперь мне конец! Сейчас из порезов на руках хлынут фонтаны крови, по которым, медленно, но верно, меня найдет даже самый захудалый криминалист. Сто раз видел такое в кино и читал в детективных романах. Поэтому осторожно вытащил руки наружу и, с замиранием сердца, разлепил глаза… Спаси меня, Господи, ни одного пореза! Боли я тоже не чувствовал. Что это? Чудо, или эликсир «защиты»?
Прямо на уровне моего лица, из разбитой дверцы торчали острые, как пики, остатки стекла. Нет, от таких «кинжалов» никакое чудо бы не спасло…
Потянуло гарью. Видимо, костер в ванной хорошо разгорелся. Этак и соседи могут учуять и, ещё чего доброго, вызовут пожарных!
Пришлось бежать, заливать водой.
Господи, до чего же глупо и бестолково я себя веду! Зачем вообще было устраивать эту огненную вакханалию? Положил бы бумаги в пакет, отнес бы подальше, на другой конец города, и выбросил бы в мусорку. Кто там станет копаться и перечитывать?
А может, их вообще можно было оставить здесь? Пузырьки из шкафа, (если, конечно, там то, что нужно), смогли бы закупорить эту квартиру, надежней любого замка. Нужно немедленно их проверить!
Руку в шкаф я теперь засунул безо всяких опасений, но пузырьки с полки взять оказалось труднее, чем те, первые, хотя руки уже почти не тряслись. Ладно, как там говорила эта любимица всех женщин на свете? «Подумаю об этом завтра», да? Вот и я подумаю не сейчас…
Все эликсиры были подписаны именем Гольданцева. На одном, к безумной моей радости, стояло уже знакомое «С», на другом – «п. д.», и, аж на двух, красовалось «З», только написанное по разному: на одной этикетке обведено кружком, а на другой подчеркнуто.
На всякий случай, я разбрызгал над телом Гольданцева оба «З». Торопливо спрятал пустые пузырьки в карманы брюк, и только тут вспомнил про дядины записи. Там что-то было о слабом действии эликсира на мертвом теле…
Последний приступ паники вынес меня на лестничную площадку с эликсиром «совести» Гольданцева в руках. Дверь сама захлопнулась, и я, раз двадцать, перекрестил её судорожными нажатиями на пульверизатор, словно запечатывал склеп вампира.
Глава вторая. Довгер
Поздним вечером, после долгих и абсолютно бесцельных блужданий по городу, я, наконец, приплелся к своему дому.
Когда жизнь так резко меняется, обычно говорят: «казалось, целая вечность минула с того момента, который был до того, как…». Так вот, в моем варианте о вечности речь не шла. Все, что было «до», было вообще в другой вселенной, потому что нынешний Александр Сергеевич был так же неизмеримо далек от того, который, не так давно, выбежал с этого двора.
Впрочем, прогулка по городу оказалась не такой уж и бесцельной. Она внесла некоторый порядок в мысли и дала, как ни странно, совершенное безразличие ко всему, что теперь могло со мной произойти.
Как там было у Достоевского? «Одна гадина убила другую»? Кажется, Митя Карамазов после этого спрашивал: «ну и что?». Эх, попадись он мне сейчас! Уж я бы ответил ему на это «что». Ответил одной простой фразой – беда в том, что другая-то гадина осталась. И эта гадина теперь был я!
Помнится, сразу возле дома Гольданцева, сел в маршрутку. Сначала она была полу пустой, но потом народ набился битком, а рядом со мной так и осталось пустое место. Я понимал, что действует эликсир «защиты», но удивляло другое – никто этого не заметил. «Ни одна собака» не возмутилась Зато я смотрел на это, давящее друг друга, стадо и ненавидел всех, как ненавидят инородцев, живущих по каким-то диким, противоестественным правилам!
Хотя, разве не были они на самом деле инородцами для меня теперешнего?
Совершенное убийство отгородило господина Широкова ото всего человечества покрепче любого эликсира. И, как странно, больше меня не пугало признание самому себе, что я все-таки убийца. Воспоминание о той свободе и легкости, с которой развернулось моё плечо перед ударом, до сих пор оставалось самым отрадным изо всего произошедшего в доме Гольданцева. И ничего страшного! Да, убил. «Одна гадина другую», быстро, без мучений…
Я посмотрел вокруг себя и презрительно осклабился. А ЭТИ разве не гадины? Вон, хоть тот, гнусно воняющий куревом и спиртным, он-то кто? Безобразное тупое лицо, бессмысленный взгляд, грязная одежда. Сейчас припрется домой и, что станет делать? Дрыхнуть завалится? Или сначала пожрет с очередной дозой спиртного? А если дома жена и дети? О чем они станут говорить? Какие духовные ценности прорастут в такой семье?
О, Господи, да о чем я, в самом деле?!
Разве та тетка со злым лицом, которую он оттолкнул, чтобы сесть, чем-то лучше? Может, только не пьет, а так… Маленькие подозрительные глазки, тонкий рот, поджатый с вечной ненавистью. Она-то, что несет в свою семью? Вот сейчас, позволь ей, и от этого мужика мокрого места не останется! А самое смешное, что он это прекрасно понимает, и рад. Рад той ненависти, которую сам в ней вызвал, а пуще всего, её, теткиному, бессилию. Нарочно развалился на сиденье, ножищи свои раздвинул так, чтобы и соседке с другой стороны тоже жизнь медом не казалась. И войди сейчас умирающая старуха или беременная женщина, шиш этот мужик пошевелится. Зачем ему духовные ценности с которыми одни заморочки? Он свою задницу пристроил, и, стало быть, знает, что почем в этой жизни, безо всяких там Достоевских…
Впрочем, сам-то я давно кому-нибудь место уступал? Уже и не вспомнить. Иной раз кольнет где-то, по старой памяти, что не худо бы встать, а потом плюнешь на все эти политесы и сидишь себе дальше. Не охота выглядеть дураком. Ведь все вокруг так же сидят, а, если ты встанешь, небось подумают: «Во дурак! Ну и хорошо, нам сидеть спокойней будет». И все это сообщество гадин, с дикой скоростью разрастается, вбирает в себя новых членов, которые устали некомфортно стоять. Не успел, не смог пристроить свою задницу – стой и жди. Добровольно никто ничего не даст. В другой раз расторопней будешь.
Я снова посмотрел на воняющего мужика. Отвращение к нему ощущалось уже физически. Свело скулы и заныли суставы. Он становился все гаже и гаже, раздражая каждым сантиметром своего существа. Но я, как мазохист, продолжал упрямо его рассматривать, пока гадливость не перехлестнула через край и не заставила выскочить из маршрутки, сминая невидимой стеной «защиты», и без того спрессованных людей.
Что это было?
Никогда прежде я не испытывал подобной ненависти!
Благо уже стемнело, улицы заполнились темными, безликими силуэтами, и, слава Богу! Мне казалось, что испытанное только что отвращение будет «подпитываться» каждым встречным лицом.
К своему дому я вернулся в такое время, когда обычно во дворе никого уже нет. И был очень удивлен, увидев перед подъездом высокого мужчину в длинном дорогом пальто. Только успел подумать, что серьезные друзья Гольданцева нашли меня слишком быстро, как вдруг мужчина обернулся и, почти бегом, бросился навстречу.
В другое время я бы, честно говоря, струхнул. Убегать, конечно, не стал бы, но что-нибудь тяжелое вокруг поискал. Теперь же, странная смесь безразличия и отвращения позволила только скривить губы в усмешке. «Давай, давай, – бесшабашно подумал я, – попробуй примени ко мне свои чудодейственные методы. А потом сбегай к Гольданцеву и спроси, как снять защиту с того, кому нечего терять». Но за миг до того, как мужчина оказался достаточно близко, чтобы хорошо его рассмотреть, я вдруг понял – он бежит не пытать меня, а спасать. И я его знаю. Он… О, нет! Он же умер!!!
– Саша! Са…
Крик замер. Мужчина остановился в двух шагах и схватился за голову.
– Господи, зачем вы это сделали?!
– А вы… Вы – Соломон Ильич Довгер? – спросил я, вырываясь, на мгновение из своего безразличия.
– Да.
Руки Соломона Ильича бессильно повисли вдоль тела. Он посмотрел с жалостью и кивнул, словно подтверждая свои слова. Но мне подтверждений не требовалось. За те годы, что я его не видел, Довгер не изменился ни на йоту. И новый прилив ненависти накрыл меня с головой. Живой, здоровый, преуспевающий… Интересно, как он в таком пальто ходил по нашему городу? Один меховой воротник чего стоит! Тут только бронированный «бумер» с охраной спасет… Впрочем, возможно, он так и перемещается по жизни. А мой дядя умер! И старший Гольданцев… Да и со мной, ещё неизвестно, что будет…
– Саша, – грустно произнес Довгер, – это Коля с вами сделал?
– Нет, это я сам.
Мне понравилось, как его перекорежило. Очень понравилось. Пожалуй, стоит «добить». Мне-то что? Кто меня теперь тронет?
– А Колю Гольданцева я убил. Не скажу, чтобы нарочно, просто оказался в нужном месте, в нужное время. Но он больше не живет.
Я думал, что Довгер уже после первых слов получит сердечный приступ, но нет, на короткий миг в его глазах вспыхнуло любопытство, и только потом ужас. Как раз такой, какого я и ждал.
– Убили?…. Боже мой! Но как? Зачем? Что произошло?….. Саша, мы немедленно должны поговорить! Давайте поднимемся к вам.
Я криво усмехнулся.
– Боюсь, вы не сумеете войти в мою квартиру.
– Сумею, сумею! Я уже поднимался. На вашей двери почти ничего не осталось. Лишь бы.., лишь бы вы сами смогли дотронуться до ручки.
Мне очень хотелось послать его подальше. За все. За то, что жив и здоров, за то, что появился так поздно, за напоминание об обмане Гольданцева… Впрочем, у меня ведь есть хороший эликсир. Никто не мешает подняться первым и избавить себя от ненужного общения – я совсем не хотел воскрешать рассказами то, что произошло сегодня у Гольданцева. Но, с другой стороны, Довгер должен объяснить, каким таким чудесным образом ему удалось воскреснуть, а заодно.., что он, кстати, имел в виду, говоря про ручку, до которой я не смогу дотронуться?
– Ладно, пошли.
Я сказал это, как можно небрежнее и пошел к подъезду, всем своим видом давая понять, что оказываю любезность, не имея, при этом, никакой личной заинтересованности.
Довгер поспешил следом.
– Саша, скажите, вы сделали это.., я имею в виду эликсир, вы использовали его до… м-м-м.., до трагедии, или после?
Господи, да какая ему разница? Или думает, что я получил от Гольданцева Абсолютный эликсир и хочет узнать, действительно ли убийство нейтрализует его побочные эффекты? Идиот! На мне всего лишь «защита».
– Вы прочли Васин дневник? – не унимался Довгер. – Вы до конца его дочитали?
Я резко обернулся и посмотрел на него сверху вниз – нас разделяла пара ступеней, ближе он подойти не мог.
– Послушайте, может, прежде чем задавать все эти вопросы, вы поясните, что такое вы сами? Вдруг от вас, от первого нужно скрывать все, что мне известно.
Лицо Довгера сделалось виноватым, но головы он не опустил.
– Справедливо. От вас, … да, справедливо. Но не на лестнице же это пояснять.
– Вот и я думаю, что на лестнице вообще говорить не стоит…
Мы поднялись к моей квартире. Дверь была только прикрыта, я вспомнил, что не запер её, уходя, но к ручке прикасаться почему-то не хотелось.
– Вы не можете? – с тревогой в голосе спросил Соломон Ильич.
– Черта с два…
Собственная слабость была мне непонятна, но демонстрировать её Довгеру не хотелось.
Я смотрел на ручку, пытаясь понять, что же меня так отвращает? На короткий миг появилось такое же видение, как тогда, у Гольданцева, когда я смотрел на табурет с помощью «третьего глаза». Краска.., лак.., синтетическая кисть… Фу! Но под ними дерево. Настоящее! Кажется, сосна… К этому я могу прикоснуться! Да, да, там, под этой краской, приятное тепло, жизнь, сохранившаяся вопреки всему!
Я протянул руку, стараясь думать только об этом дереве. Слегка поморщился, ощутив легкий, лакокрасочный ожег, но перетерпел и открыл дверь настежь. Вот так вот! Теперь ваша очередь, господин Довгер. Покажите, как вы собираетесь пройти сквозь остатки эликсира.
– Подождите минуточку, – пробормотал он, роясь во внутреннем кармане пальто. – Удивительно, вот уж не думал, что получится… Вероятно, ручка из натурального дерева? Вам очень повезло… Ага, вот!
Он достал узкий футляр, открыл и вытряхнул обыкновенный медицинский скальпель. Затем, безо всякого сомнения или обычного человеческого страха, надрезал себе ладонь. Из тонкого, как волос, пореза кровь появилась не сразу. Довгер ждал, и я совсем уж было собрался разочаровать его, сообщив, что опрыскал себя простой «защитой», а не Абсолютным эликсиром, но тут появились первые красные капли. Соломон Ильич быстро выставил руку перед собой, поморщился, как недавно морщился я, и, через мгновение, схватился за моё плечо.
– Идемте скорее, – с усилием проговорил он, – я так долго не смогу.
Мы переступили через порог, и Довгер выдернул.., именно выдернул, а не убрал, свою руку. Потом сам запер все замки.
– Вам действительно повезло, – сказал он, зажимая порезанную ладонь, – натуральные материалы – ваше спасение. Хотя бы на первое время. Не думал, что на такие двери ещё ставят деревянные ручки.
Довгер потрогал внутреннюю дверь, прикоснулся к её ручке и покачал головой.
– Хорошо, что было не заперто, эту бы мы с вами не открыли… А теперь покажите, пожалуйста, где у вас аптечка. Я сам все достану.
– Соломон Ильич, – сказал я, покачиваясь на носках и засовывая руки в карманы, – мне не понятен этот драматизм – «открыли, не открыли». Вы, что же думаете, что на мне сейчас Абсолютный эликсир? Так вот, я вам скажу – это всего лишь эликсир «защиты». Гольданцев предложил мне его, как гарантию…
– Саша, – перебил Довгер с откровенной жалостью, – это самый настоящий Абсолютный эликсир. Уж мне ли его не знать. Пугает то, что на вас он уже почти «замкнулся», тогда как с Олегом такое случилось спустя пол года после применения… А теперь, покажите, все-таки, где аптечка.
– Я вам не верю, – сказал я, больше из нежелания выполнять его просьбу, звучавшую, как приказ.
Само по себе сообщение об эликсире меня нисколько не взволновало. В сущности, какая мне теперь разница? Может, так даже и лучше, хоть немного побуду сверхчеловеком, узнаю, каково это…
– Не верите? – переспросил Довгер. – А вы посмотрите на мою ладонь и на свое плечо.
Из пореза действительно обильно сочилась кровь, и рука была характерно испачкана, как бывает, когда сильно порезанной ладонью крепко за что-то хватаются. Но на ткани моей куртки не осталось ни единого следа. Это вызвало слабое удивление.
– Как такое возможно?
– Только так и возможно при Абсолютном эликсире. Это значит, что вы находитесь в совершенно ином мире. Вас, вроде, и видно, и слышно, но вы уже не здесь. Все, что «извне» больше вас не касается, и важно только то, что внутри. Поэтому-то для меня так важно знать: эликсир подействовал на вас до … убийства, или после.
– После, – хмуро бросил я и, не глядя на побелевшее лицо Довгера, пошел в кухню. – Идемте, покажу где аптечка…
Спустя некоторое время мы уже сидели в комнате – он возле лампы в старинном витражном абажуре, а я в тени, в массивном, неподъемном кресле, чья абсолютная натуральность позволила мне устроиться с комфортом. Не будь ситуация столь трагичной, можно было бы пошутить о том, что я стал лучшим специалистом на земле по части синтетических добавок. Но ни мне, ни Довгеру шутить не хотелось.
Он сидел, задумчиво помешивая чай, который сам себе приготовил. Мне не предлагал – знал, что я никогда больше не захочу ни чая, ни кофе, ни вообще ничего. Пальто, вызывавшее во мне такое раздражение, давно было снято. Под ним обнаружился, не менее шикарный, костюм, явно сшитый на заказ – для покупного он сидел слишком безупречно. И так же непривычно идеальными выглядели, подобранные в тон, рубашка, носки и галстук с платком.
– Я не знаю, что будет, когда эликсир окончательно «замкнется» на вас и вступит в силу его подлинное действие, – говорил Довгер в ответ на мой вопрос. – Олег предполагал самые невероятные вещи, пока побочные эффекты не лишили его всех надежд. Но в идеале схема такова: Абсолютный эликсир долгое время обволакивает человека, будто изучает его и испытывает на прочность. И когда, образно говоря, ему становилось ясно, что человек из себя представляет, он замыкался в идеальную сферу, и образовывался новый мир. Микромир, основанный на личных качествах. Причем, только на качествах, пригодных для этого нового мира. Все остальное безжалостно уничтожалось. В итоге, образовавшийся индивидуум делался настолько самодостаточен, что, помимо отказа от еды, питья, и прочих каждодневных надобностей, переставал испытывать на себе даже земное притяжение, и мог летать или ходить по воде «аки по суху». Вся беда в том, что качества, непригодные, по мнению эликсира, для идеального индивидуума, давно стали неотъемлемой частью человека обычного. Олег Гольданцев, к примеру, долгие годы жил, испытывая сомнения – прав ли он был, что позволил собственной семье распасться? Весь его научный пыл питался этими сомнениями, они прочно вошли в его жизнь, побуждая совершать то одно, то другое позитивное деяние, которое бы доказало, что он, все-таки был прав. И, что же в итоге? Уничтожив непригодные сомнения, эликсир уничтожил и все, с ними связанное. То есть, фактически, самого Олега.
Довгер отпил из чашки и поставил её на столик.
– Жаль. Очень жаль. Это был величайший ум. А ваш дядя – добрейшее сердце. Я долго не мог понять, почему же и Вася тоже стал гибнуть. Вы простите, что так фамильярно его называю, но в последние дни мы очень сблизились, и многое, очень многое в натуре вашего дяди стало мне понятно. Его сущность составляло прошлое, и чувство вины перед этим прошлым. Сначала родители, которым, как он считал, уделял мало внимания, потом сестра, потом девушка-мечта… Все, кто так или иначе уходили из его жизни, оставались в памяти незаживающей раной. А память затягивала в свой омут, с каждым годом, все глубже. Ваше присутствие на какое-то время привязало Васю… Василия Львовича к действительности. Но лишь на время. Повзрослев, вы вылетели из гнезда, и память тут же наверстала упущенное…
Соломон Ильич снова взял чашку и сделал большой глоток, не поднимая глаз на меня.
– Вы поймите, Саша, – продолжил он после долгой паузы, – Олег Гольданцев создал соединение, почти что думающее. Но, к сожалению, отделять зерна от плевел оно может только тогда, когда они перемешаны. Одни только зерна и одни только плевела для эликсира большой разницы не представляют. Сегодня, совершив убийство, вы пережили колоссальный духовный стресс. Все, что не имело отношения к убийству, в тот миг перестало существовать. И эликсир получил в свое распоряжение субстанцию, (уж простите за такое слово), не имеющую противоречий. Думаю, поэтому он и замкнулся так быстро. Но о том, что будет теперь с вами, я представления не имею. Могу лишь надеяться, что мир, который строится сейчас внутри вашей новой сферы, не станет миром сплошных кошмаров.
Мы помолчали. Что уж тут было говорить?
Ещё когда Довгер готовил себе чай, я успел рассказать ему историю своих взаимоотношений с Гольданцевым-младшим, и выслушал в ответ множественные сожаления в том, что не удалось приехать раньше.
– Валентина позвонила мне в тот же день, когда вы были у неё, и я сразу же сорвался с места, – горевал Соломон Ильич. – К сожалению, живу сейчас за границей. Сами понимаете, не ближний свет…
Тогда же я задал и вопрос о его чудесном воскрешении. Но Довгер покачал головой, пообещав все объяснить позже. Его слишком взволновало то, что произошло со мной и с Гольданцевым. Но, вот теперь это «позже», кажется, и наступило. С эликсиром все пока ясно… По крайней мере, требуется время, чтобы стало ясно все. Гольданцева воскресить мы не сможем. Оставалось прояснить две вещи: как Довгеру удалось воскреснуть, и зачем он вырвал листки из дядиного дневника?
– А вы, кстати, его сожгли? – спросил Соломон Ильич.
– Нет. Спрятал.
– Я так, почему-то и думал. А куда?
– Не скажу. Вы и так уже успели вырвать из него почти половину…
– А-а, да. Было. Но там ведь ничего такого… Только обо мне. Я посчитал, что имею право…
Вот это было новостью даже для меня, равнодушного почти ко всему!
– Вы, что же, хотите сказать, что мой дядя почти половину своих воспоминаний посвятил вам?!
– Не столько мне, сколько моему рассказу о клане Довгеров… Ладно, Саша, все равно придется объяснять вам свое «воскрешение», так что, объединим оба вопроса, и начну я… Да с самого начала и начну.
Глава третья. Что, где, когда и, самое главное, зачем
– Среди людей, помогавших Галену врачевать, был молодой еврей по имени Довгир. Знаменитый лекарь купил его, то ли у хозяина большого каравана, то ли у торговца гладиаторами – об этом в семейном предании Довгеров точных сведений нет. Более того, из поколения в поколение появлялись такие, кто вообще придерживался третьей версии. Вроде бы Довгир был одним из многочисленных потомков жителей Кумранской общины, разгромленной в первом веке, и сам пришел к Галену, чтобы передать ему кое-какие, ещё не утерянные, знания и поучиться его искусству. И будто бы из их бесед об укладе жизни в общине и родились первые теоретические предпосылки для создания эликсиров.
Существовали в клане Довгиров версии и более смелые, но речь сейчас не о них. Что бы ни положило начало созданию эликсиров, финал, в любом случае, был однозначен: Гален свои открытия решил от человечества утаить.
Естественно, возникает вопрос, почему он их просто не уничтожил? Но, во-первых, надо понять ученого, который заглянул в мастерскую самой Природы. Как в таких случаях говорится – рука не поднялась. А во-вторых, Гален свято верил, что в своем развитии человечество непременно достигнет таких духовных высот, что окажется, наконец, достойным узнать величайшие тайны. Своих современников он считал слишком жестокими и праздными.
Одним словом, незадолго до смерти, великий врач поискал достойного среди учеников, и избрал Довгира хранителем своих тайных записей, с тем, чтобы передавать их из поколения в поколение на определенных условиях. Условия были таковы: никто из хранителей не мог использовать эликсиры в корыстных целях или ради забавы, чтобы не привлечь ненужного внимания. Но, по мере сил и возможностей, они должны были искать ученых – честных и бескорыстно преданных своему делу – чтобы те развивали базовую теорию и пополняли её новыми открытиями, в соответствии с изменяющимися достижениями человечества.
Сказать, что Довгир отнесся к возложенной на него миссии с благоговейным почтением, значит не сказать ничего. Гален не мог выбрать более ревностного хранителя.
Спустя почти пол века, у смертного одра Довгира собралось пятеро сыновей, которых с младенчества готовили продолжать дело отца. Сам он, прекрасно понимая по собственному опыту, сколько неожиданностей и роковых случайностей подстерегает единственного хранителя, велел сыновьям разделить записи между собой, но всегда быть готовыми объединиться по первому зову.
С тех пор так и повелось. Пять ветвей клана неукоснительно соблюдали условия Галена. И, вот что интересно, за два тысячелетия многие оказывались на грани разорения, или перед лицом опасности, когда требовалось отдать все самое ценное, вплоть до жизни, чтобы спасти свою семью, но никто и никогда даже не помыслил поступиться званием хранителя. Может быть, действительно, где-то на генном уровне, неистребимо сидят во всех нас идеалы Кумранской общины, которая, по слухам, подарила миру Иисуса Христа.
Конечно, все имели представление о том, что именно им доверено. Все, при случае, умели составить те эликсиры, формулы которых охраняли. Медицинское образование в семье было обязательным во все времена. От алхимиков, до самых лучших европейских колледжей и университетов. Однако, главной заботой всегда был поиск ученых.
Первые поколения, правда, палку немного перегибали. Но их можно понять, времена-то были смутные. И оправданием может служить то, что условия не нарушались, тайна так и сталась тайной. Зато я готов с уверенностью заявить, что деяния святых великомучеников, которых не сжирали хищные звери, и которые не горели в огне, не такие уж и сказки.
Намного хуже стало во времена инквизиции Но желание спасать человечество, хотя бы в той стране, где они жили, не оставляло моих предков и тогда. Ведь по сути, именно эту цель и должен был преследовать поиск ученых. В результате, случались роковые ошибки, поистине исторического масштаба. Французская ветвь Довгирова рода до сих пор со стыдом вспоминает о Жанне д’Арк. Конечно, понять их можно – столетняя война порождала чудовищную злобу в людях. Казалось, всего-то и нужно было сыграть на суеверии и материализовать давнее пророчество о девушке, которая спасет Францию. Но наивные надежды на то, что одно только появление необычной девушки разом все изменит, не оправдались. Политика верит в чудо только до того момента, пока оно вписывается в её планы, а потом находятся другие названия, вроде «дьявольских козней» или «ереси»… Бедняжка Жанна! Научиться совершенно по-иному видеть мир людей только затем, чтобы столкнуться с самыми худшими его проявлениями. Но, к несчастью, потомок Довгира, так неудачно заехавший в Домреми, ошибся не только с Жанной. Врачуя воинов её войска, он познакомился с Жиллем де Ре и попал под влияние его новаторских идей. Слов нет, для своего времени этот вельможа был неординарен и даже, может быть, талантлив, но не настолько, чтобы забыть о средневековом воспитании и графском титуле. Своих вассалов де Ре воспринимал исключительно как сырье для опытов. А когда во Францию пришло известие о казни Жанны, счел себя свободным ото всех моральных обязательств перед человечеством. В итоге, он так и остался в истории кровавым чудовищем и «синей бородой», ничем не обогатив учение Галена.
Первой крупной удачей в наших поисках стал Сен-Жермен, или Калиостро – тоже граф, хотя наполовину и фальшивый. Считается, что это два разных человека, причем, последний учился у первого, но я вас уверяю – это одно и то же лицо. Он привлек внимание хранителя ещё в юном возрасте, когда пытался создать эликсир бессмертия. Подкупил своим авантюризмом и, по-юношески нахальным, неприятием авторитетов от науки. Не искал мифический философский камень, не толок драгоценные камни в питье больным и считал лечение сифилиса ртутью чудовищным. Родись он чуть раньше, непременно попал бы на костер за слишком смелые мысли и пристрастие к нетрадиционной алхимии.
Когда этот, несомненно гениальный, человек получил свое распоряжение пятую часть рукописей Галена, он рыдал от восторга. Несколько лет потратил на непрерывные опыты, и, с помощью теорий римского врача и свойств организма маленького червя планарии, вывел таки формулу, продления человеческой жизни на столетия! Восторгу хранителей не было предела! Но потом, пресытившись первым успехом, Калиостро решил, что ему этого хватит. Из монастыря в Сицилии в большой мир вышел авантюрист, забавляющийся человеческими пороками. Он располагал собственным эликсиром долголетия, Галеновыми «третьим глазом» и «скрытым слухом», но, вместо того, чтобы развиваться и делать новые открытия, разменял свой талант на откровенное шарлатанство.
Что поделать, страсть к розыгрышам и мистификациям всегда была ему присуща. Калиостро презирал людей, но одновременно ему нравилось привлекать к себе их внимание. Он виртуозно обольщал женщин, мастерски управлялся с алчностью вельмож, используя доверенные ему тайны, как балаганный фокус. Что тут было делать? Человек неспособный жить без всеобщего внимания, привлекал его к себе всё больше и больше. Великое знание становилось недостойной забавой. Пришлось хранителям собраться вместе и взять с Калиостро клятву, что он прекратит использовать полученные знания в корыстных целях и не станет принимать новую порцию эликсира долголетия, когда, уже принятый им, исчерпает время своего действия.
Калиостро клятву дал и сдержал её честно. Более того, зная, как трудно будет избежать соблазна, нарочно вернулся в Рим, где был посажен в тюрьму за создание масонской ложи. Говорят, он умер там при «невыясненных обстоятельствах».
Вот так-то… Сейчас такое невозможно, верно?
Но, как бы там ни было, а своим открытием Калиостро значительно облегчил многовековую задачу по сохранению записей Галена. Я вообще думаю, что будь он другим, и будь другим время, в которое он жил, все могло сложиться иначе для человечества. Но время… Время было совершенно неподходящим.
С одной стороны, восемнадцатый век – золотой век просвещёния. Многолетние средневековые войны канули в Лету, ядовитые пары инквизиции, наконец-то, развеялись, и науки стали подобны цветущему весеннему саду. Хранители, осчастливленные долголетием, радостно озирались вокруг, уже не ища, но выбирая. И тут… Тут мир посетила новая беда.
Революция, как и война, так же безобразна и так же порождает своих собственных чудовищ. Когда с английского эшафота скатилась первая королевская голова, отрубленная простолюдином, многие умы содрогнулись. Кто от ужаса, а кто от мысли, что «это возможно!». И новая идея – идея о вседозволенности для «угнетенного», полетела по Европе. Обнародуй наука открытия Галена и Калиостро, кто бы мог ими воспользоваться? О, несомненно, достойные люди жили во все времена! Но, почему-то, всегда, локтями, зубами и копытами, их отпихивали и затаптывали те, кто охотно улавливал, а, хуже того, источал идеи разрушения, убийства, извращения!
К примеру, в той же Франции, державшей тогда среди дворов Европы пальму первенства, кто властвовал над умами большинства? Робеспьер? Дантон? Сен-Жюст или Марат? Ущербные, патологически нездоровые люди? «Кто не с нами, тот против нас!», а кто против, того необходимо уничтожить. Избави Бог от такой вечности! Кровь, грязь, абсолютная деградация… Никогда не понимал, почему их образы приобрели со временем романтические покровы.
Мой родной дедушка неплохо всех их знал, (а Дантону даже делал как-то кровопускание), так вот он, незадолго до своей кончины, уже после второй мировой, никак не мог взять в толк, почему из Робеспьера сделали икону, а Гитлера, за те же самые злодеяния, объявили кровавым монстром? «Ваш любезный Максимилиан, – негодовал дедушка, – только тем от Адольфа и отличается, что свою кровавую резню обозвал Революцией, и не успел пройтись с гильотиной по всей Европе! А на деле, Робеспьер такой же параноик и психопат! Это я вам, как медик говорю. Впрочем, и другие, иже с ним, такие же точно! Помню, у Дантона на нервной почве без конца потели руки… Я как-то не удержался, рассказал об этом Карелу, чтобы не восхищался так этими, с позволения сказать, борцами за свободу. Он потом вставил эту деталь в свою пьеску, и получилось очень живенько… Хотя, он много чего и напутал… Но все равно жаль. Посмеялся над одним убийцей и стал жертвой другого…».
Карел Чапек действительно был другом деда довольно долго. Их поссорила та самая пьеса – «Средство Макропулоса». Семья решила, что дед наболтал лишнего и заставила его отречься от звания хранителя в мою пользу, (отец, к сожалению, погиб на первой войне, в начале века). И сам дед долго не мог угомониться, считая, что Чапек не имел права использовать благородную идею для такой пошлой истории. Однако, узнав о смерти бывшего друга, он долго сидел запершись в своей комнате, а когда вышел, объявил мне и моей матери, что больше не хочет принимать эликсир долголетия.
Знаете, тогда я удивился, а сегодня очень хорошо его понимаю.
И дело тут не только в том, что без конца теряешь людей, к которым успел привязаться всей душой. Долголетие не такое уж и благо, как может показаться. Любой нормальный человек самыми счастливыми запомнит те годы, когда он был беспричинно счастлив, едва ли не каждый день. Это детство. Детство, во время которого мозг только набирает впечатления, а душа – чувства. И, что бы мы ни испытали позже, какие бы значительные события ни произошли с нами во взрослом состоянии, все равно, самыми таинственными, самыми волнующими будут те впечатления, которые подарило детство. Причем, словами их толком и не выразишь. Это из высшей сферы. Из той, что напрямую связана с мировой пневмой. Легкий запах, особое веяние ветерка, шорох листвы, запомнившийся когда-то, в определенном состоянии; миллион мелочей, о которых даже не задумываешься всерьез в тот момент, когда они происходят… А главное – это живое дыхание тех, кто помнит те же самые времена! Я уверен, только в границах своего поколения человек живет полноценно, со всеми волнениями, переживаниями и той шкалой ценностей, которую тоже определило детство.
Но стоит остаться одному, и высшая сфера начинает опустошаться. С каждым десятилетием ты все более и более чувствуешь себя омертвевшим. Лет через тридцать этот процесс достигнет апогея, и я сам захочу уйти из жизни – добровольно, бесстрашно, как в благо, безо всяких гамлетовских терзаний о том, «какие сны приснятся…».
Помню, когда дед объявил о своем решении не принимать эликсир, я спросил, не боится ли он? «Нисколько, – ответил дед. – Я боялся раньше, потому что слабо представлял себе, что же хочу найти ТАМ, в том самом пресловутом «загробном мире». Кипящую адскую смолу? Райские облака, крылышки и лиры? Но за вечность все это осточертеет и перестанет, как пугать, так и радовать. Я много думал. И сейчас, после ужасов этой последней войны, глядя на дичающий, вопреки всем законам эволюции, мир людей, я определил для себя смерть, как шанс перейти в другой мир. Мир, где я хоть что-то смогу изменить в соответствии со своими собственными понятиями о справедливости. Они, может, тоже несовершенны, но, по крайней мере, есть в них одно, главное – не навреди ближнему! И, когда тот новый мир станет абсолютно совершенным, я, неизбежно изменившийся и сам, хотел бы перейти в мир следующий, где найдется другое поле деятельности, о котором сейчас я, возможно, даже представления не имею. Вот в таком непрерывном процессе созидания и самосовершенствования не скучно будет провести и вечность. Пусть даже очередной мир окажется откровенным адом, я все же смогу утешаться надеждой, что рано или поздно он сможет обратиться в рай, потому что все в том мире будет зависеть только от меня. А здесь, в этой жизни, осознание нарастающего нравственного безумия душит всякую надежду. Боюсь, мой мальчик, наша миссия никогда не завершится…».
Как дико было мне тогда слушать деда. Особенно последнюю фразу!
Оставить мир саморазрушаться? И это при том, что мы, хранители, располагаем величайшей тайной!
Знаете, самым ярким впечатлением моего детства был тот первый раз, когда мне позволили воспользоваться «третьим глазом». Ощущения невероятные, правда? Но, когда первое изумление прошло, когда я наигрался необычностью, появилось главное – осознанное, яркое, полное смысла ощущение безграничной любви к этому миру! Часто я уходил к пруду недалеко от нашего дома, садился на берегу и тихо плакал от восторга и сожаления, что невозможно, прямо сейчас, всему человечеству вложить в голову такое же видение и этого неба, и этого пруда, и леса… Захотелось скорее стать настоящим хранителем. А важность миссии вдруг приобрела совершенно новую значимость, не потому что научили, а потому что я сам это прочувствовал…
За свою долгую жизнь я присматривался ко многим ученым. Однажды чуть с ума не сошел от счастья, когда один из моих дядей объявил общий сбор и познакомил нас всех с работами Теслы… Увы, ещё до того, как мы решились отдать ему рукописи, ученый сам признал опасность своих открытий и не принял нашего предложения. «Я ведь не медик, хотя и для физики эти рукописи лишь подтверждают то, о чем я и сам давно догадывался, – сказал он на прощание, – но человечество не сумеет этим правильно распорядиться. Вот увидите, первым делом все будет пересчитано на деньги, а потом засекречено. Гениальность, доброта, совесть и самая счастливая жизнь начнут распродаваться из-под полы тем, кто больше заплатит, а это, уверяю вас, не всегда достойные люди… Нет, в этом я участвовать не хочу».
Мы, конечно, были обескуражены, но надежды не потеряли.
Долголетие позволяло нам переезжать из страны в страну всякий раз, когда мы начинали «новую жизнь». С таможнями и визами проблем не возникало – эликсир «доверия» позволял «убедить» любого чиновника в тех случаях, когда не помогали обычные деньги. Но такое случалось редко. Зато, с этими перемещёниями, мы легко меняли имена и даты рождения, появляясь в незнакомом месте и начиная обживаться среди людей ничего о нас не знающих.
Так я и попал в Россию. Точнее, в Советский Союз, потому что окончательно переехал сюда уже после войны. Но бывал и раньше, в довоенные годы, когда «весь мир насилья…» активно рушили, цепляя кайлом и ортодоксальную науку.
Много, очень много интересных ученых появилось тогда. Богданов с идеей вампиризма и переливания крови от молодых к старым; Воронов, занимающийся созданием гибридов из живых существ; Богомолец, идущий по стопам Калиостро в поисках сыворотки от смерти… Чрезвычайно интересен мне показался Вернадский со своей теорией биохимической энергии живого вещёства. Но все они творили в узких шорах, не столько от науки, сколько от общественного строя. Помимо опасности, которую таил в себе идеологический тотальный контроль, (ученого запросто могли «сдать органам» за таинственные, несанкционированные опыты), существовала все та же опасность, что и сам ученый, в верноподданническом рвении, или просто от страха, выдаст сенсационные открытия, прежде всего, правительству. А что такое революционное правительство мы с вами хорошо представляем.
Но даже пережив несколько неудачных знакомств, войну, послевоенную разруху и годы застойного научного закостенения, я все равно продолжал надеяться, продолжал искать ученого, который не говорил бы и не думал уставными лозунгами.
Уже подходил к концу срок моей жизни, и родственники готовили документы для переезда в Бельгию, где должна была начаться новая жизнь, как вдруг в Ленинграде, слушая цикл лекций о влиянии солнечной энергии на человеческий организм, я услышал в кулуарах жаркую речь молодого врача из N, который говорил про пассионарность. (В двух словах, пассионарность – это отступление от человеческой нормы, травма в генах от солнечного излучения). Говоривший, прямо на ходу, развивал эту теорию, высказывая собственные предположения, необычайно смелые, новые, и был очень, очень близок…
Знакомиться тогда я не стал. Выяснил, где живет этот молодой врач, кем служит, чем интересуется. А потом, вместо Бельгии, переехал жить сюда. Конечно, повозиться пришлось дольше, чем хотелось бы. Обычно, в пределах одной страны мы не перемещаемся из жизни в жизнь, но тут был особый случай. В семье меня поняли, помогли изменить внешность, сделали документы и снабдили кое-какими букинистическими редкостями для начала знакомства.
Разумеется, речь идет об Олеге Гольданцеве.
Когда я сюда приехал, он уже не был тем восторженным, кипящим идеями молодым врачом. Рутина районной поликлиники, а самое главное, полное отсутствие хоть какой-то поддержки со стороны коллег, сделали свое дело. Олег считал себя кем-то вроде «городского сумасшедшего» и не находил смысла в развитии собственного ума. «Зачем это нужно? – говорил он мне, когда мы уже были достаточно знакомы для откровений. – Все, что выходит за рамки традиций, или крамольно, или глупо. Стоит ли напрягать мозги, если все уже записано, объяснено и отмечено государственными премиями! А если чему-то объяснения нет, и оно даже «за уши» не притягивается, то, значит, этого и быть не может…».
Я слушал Олега с тайной радостью. Вот он – ученый с острым умом, не скованный цепями авторитетов и верноподданичеством; одинокий, но ещё не отчаявшийся; ищущий от жизни только одной радости – узнавать и постигать; идущий вглубь, а не по поверхности…
Короче, я отдал ему записи Галена, ту пятую часть, которой располагал. Вместе мы придумали историю с книгой де Бове, в которой эти записи, якобы, обнаружились. Придумали на всякий случай – вдруг какая-нибудь неожиданность заставит объяснить их происхождение. Но потом, после первых опытов, Олег со слезами на глазах вымолил у меня разрешение показать, хоть самую малость, своим друзьям, и наша «легенда» пошла в ход…
О дальнейшем нет нужды много говорить. Вы жили тогда в этом доме, вы читали дневник своего дяди, так что представление имеете. И понимаете, как сильно они были увлечены этими новыми тайнами.
Конечно, возникает вопрос, почему за столько веков никто из хранителей не взял на себя труд развить теорию Галена и изобрести безопасный способ вернуть человечество на путь истинный? Нас многие об этом спрашивали, но ответ самый банальный. Ни разу в нашей семье не родился подлинный ученый. Звучит парадоксально, но это так. Мы, словно люди, неспособные правильно спеть, но умеющие отличить фальшивую ноту от верной. И мне кажется это справедливым. Нужна гениальность Галена, чтобы довести его работу до совершенства, но гениальность – это всегда немного безумие. Безумие творца, жаждущего увидеть свое творение реализованным и признанным. Мы же хранители, то есть те, кому забываться нельзя. Возьмите, к примеру, Олега Гольданцева. Ему обязательно требовалось поделиться, «хоть самой малостью», а когда начались собственные открытия, жажда делиться стала совершенно невыносимой.
Я позволил это после того, как узнал их всех. И ваш дядя, и Алексей Паневин показались мне людьми достойными, верными нотами, без фальши. Позволил после того, как убедился в безопасности тех новых составов, которые изобрел Олег. Но потом появился этот чертов Абсолютный… Или нет, все стало разваливаться ещё раньше, когда Алексей познакомил меня со своей женой. Но об этом я вам, Саша, рассказывать не стану. К делу это имеет отношение только тем, что мы с Алексеем поссорились, и я был вынужден, на некоторое время, уехать, а он больше слышать не хотел про опыты, проводимые друзьями.
Моя вина, каюсь. Нельзя было уезжать. Все слишком хорошо складывалось, а всякое «слишком» обязательно таит в себе червоточину. Но так хотелось верить! Я ведь и уехал, не столько из-за того, чтобы прекратить встречи с Валентиной, сколько из желания собрать семью и предложить им отдать Олегу все наследие Галена… Увы, ужасное известие о побочных эффектах Абсолютного эликсира застало нас в тот момент, когда положительное решение уже почти было принято…
На похороны Олега я опоздал. В этой истории я вечно опаздываю. Приехал двумя днями позже и долго не мог придти в себя от тех подробностей, которые рассказал Василий Львович. Но самыми неприятными были подозрения относительно сына Олега – Николая. Васе он ужасно не нравился. И, передавая мне ключ от квартиры Олега, чтобы я мог забрать из тайника все записи, он несколько раз повторил: «Ради Бога, проверь все, как можно тщательней! Мне кажется, Коля давно прознал про тайник и мог что-нибудь стащить. Проверь, не поленись. Он очень… странный, если не сказать хуже. Только не спрашивай, откуда я это взял? Просто чувствую…».
Бумаги оказались на месте. Но в квартире ждали две неожиданности: новый замок на дверях и Коля. Он открыл мне, нисколько не удивился тому, что я имею ключ и моему желанию забрать бумаги, однако, взгляд, которым он проводил уносимую папку, мне совсем не понравился. Проверив все дома и убедившись, что рукописи Галена целы, я поспешил к Василию. Вывод мы оба сделали одинаковый – Коля нашел тайник и сделал копии со всех бумаг. Для него это не представляло особого труда, поскольку бывшая жена Олега работала в фотоателье, и премудрости её профессии Коля вполне мог освоить. Утешало во всем этом одно – нужно было освоить ещё и профессию отца и иметь, хотя бы десятую долю его таланта.
Я убеждал Васю, что это риск в данном случае минимальный, вспоминал расхожее выражение о детях гениев, на которых природа отдыхает, и, кажется, немного убедил. А потом.., потом рассказал ему свою историю. Вы понимаете, он заслужил эти откровения… Или, точнее будет сказать, что это я получил право стать откровенным с человеком, которому готов был низко поклониться. Наверное, в тот день мы истинно и подружились.
Тогда же решили наблюдать за Колей. Но он, то ли осторожничал, то ли, действительно, ничего не понял в записях отца и решил все это бросить. Однако, Василий Львович не желал успокаиваться и не раз говорил: «Ты пойми, Сема, мы же видим и воспринимаем многое не так, как прежде. Возможно, у тебя острота нового зрения немного притупилась – все-таки столько лет прошло – но я-то! Я вижу … нет, чувствую, что от Коли мы ещё бед дождемся. Знаешь, как он смотрел на Олега, когда думал, что его никто не видит? Брр-р! Чего там только не было, в этом взгляде. То ли ненависть, то ли алчность, то ли желание поквитаться… Я, знаешь ли, кое какие меры приму, но и ты не зевай…»
И точно, Вася, как в воду глядел. Спустя полгода после его смерти, Коля Гольданцев поступил на медицинские курсы…
Я сейчас намеренно не хочу говорить о смерти вашего дяди. Думаю, вы поняли кое-что из дневника, добавить мне нечего. По обоюдной договоренности, я не присутствовал при Васиной кончине… Уехал… Теперь стыжусь сам себя, хотя и не мог ничего изменить. Но он сам на этом настаивал. Требовал, чтобы духу моего в городе не было, когда тебя вызовут на похороны. Боялся, что я не удержусь и расскажу всю подноготную… Больше всего на свете Вася не хотел для тебя участи, похожей на свою.
Не понимаю, почему Судьба обошлась с нами так жестоко…
Коля Гольданцев оказался весьма способным. По крайней мере, он сумел разобраться во всем, что украл у отца. Возможно, он действительно немного безумец и помешался на фоне неутоленной сыновней привязанности. Возможно, корни беды лежат ещё глубже – в неспособности Олега быть семьянином. Что теперь гадать? Нам остается только одно – попытаться изучить то, что случилось с вами, Саша. Изучить, понять и попытаться найти выход. Может быть, все не так уж и безнадежно.., для вас, по крайней мере.
Завтра я попытаюсь сходить в дом к Гольданцеву. Посмотрю, насколько силен эликсир, защищающий дверь и подумаю, как быть дальше. А вам… Думаю, вам нужно изо всех сил сопротивляться. Минутная вспышка злобы – всего лишь вспышка. Это не ваша сущность. Представьте себя сейчас, как полый шар с ядром. Ядро – это вы, а полость шара заполнена той самой ненавистью, которая возникла в момент убийства. Сначала она душила вас, теперь вы безразличны ко всему, но первый шок пройдет. Старайтесь, по мере сил, вспоминать самые светлые моменты жизни, и даже в том плохом, что случалось с вами когда-то, ищите ростки хорошего будущего. Больше мне вам нечего пока посоветовать…
Глава четвёртая. Будущее, как хорошо забытое прошлое
Говорят, когда Бог хочет кого-то наказать, он лишает его разума. Какая чушь! Безумие – это дар, благо, о котором можно только мечтать, тогда как разум… Вот где подлинное наказание! И чем больше ты начинаешь видеть и понимать, тем страшнее жить дальше.
После своей исповеди Довгер не дождался от меня ни слова. Впрочем, он особенно и не ждал. Убрал за собой чашку, оделся и вышел, пообещав придти днем.
Я пошел провожать почти автоматически – вставать из удобного кресла не хотелось. Но на прощальные слова старых привычек уже не хватило. Лишь молча наблюдал сквозь приоткрытую дверь, как Довгер спускается вниз по лестнице, цепляя полами своего пальто за ступени. На повороте к следующему пролету он поднял на меня глаза, и тогда я закрыл дверь.
Не помню, сколько простоял в коридоре. Все эти приступы безразличия вообще только съедают время и ничего не оставляют в памяти, если ты, конечно, ни на что не смотришь, и ничего не слушаешь. В темном пустом коридоре мне ничего не было видно и слушать тоже было нечего. Черт знает сколько стоял в тупом оцепенении пока, вдруг, не захотел зачем-то подойти к окну.
И тут приступ кончился.
Плита безразличия словно растворилась, и все придавленные ею чувства, эмоции и впечатления вырвались на свободу, действуя все разом, одновременно и заворачиваясь вокруг меня, скрученной в жгут вихреобразной спиралью. Это было примерно то же, что происходит, когда над ухом мирно спящего в тишине человека внезапно врубают на полную мощь рев двигателя через гигантские колонки.
В первые секунды я ослеп, оглох и инстинктивно зажал руками уши. Но дело было совсем не в звуке… Точнее, звуки тоже нахлынули, но они тонули в общем месиве из бешено колотящегося сердца, страха, любопытства, душащих слез и полного отчаяния. Я скрючился, словно эмбрион в материнской утробе, катался в корчах по полу, вставал на колени, упираясь лбом в пыльный ворс ковра, затем выгибался всем телом обратно, через спину, и готов был выпрыгнуть из окна, лишь бы унять эту ревущую бурю!
Закончилось все тоже внезапно, но не окончательно. Если продолжать сравнение со звуком из колонок, то можно сказать, что звук просто приглушили, и я замер на полу, похожий на рыбу, выброшенную на берег. Так же разевал беззвучно рот, хватая воздух, вот только не дергался всем телом, а лежал неподвижно, уставив глаза в одну точку.
Что со мной? Где я? Почему все такое знакомое стало вдруг выглядеть по-иному?
Ах, да, «третий глаз»… Теперь он, видимо, так и будет самопроизвольно «включаться».
А этот шорох? Как будто забыли выключить телевизор, и трансляция закончилась… Это что? «Скрытый слух»? Но, что, в таком случае, я слышу?
Встать бы, да не хочется. Есть только желание зарыться в этот ковер, но страшная, живая какая-то, пыль пугает до отвращения.
Нет, лучше встану.
Доброжелательное кресло слабо пульсирует отголосками давней жизни… «Бессмертие не благо». Откуда это? А-а-а, я же выслушал здесь недавно длиннющий рассказ о вещах совершенно невозможных от человека, прожившего… А правда, сколько же он прожил? Впрочем, неважно, прожил и прожил. И так ли уж это невероятно? Вовсе нет. Ну не умер Довгер в свои положенные восемьдесят или девяносто, что ж тут такого? Остается его только пожалеть… Хотя, он, кажется, и так уже жалеет…
Я встал. Довольно легко, учитывая, что ещё пару минут назад катался здесь в корчах, как от боли. Хотел отряхнуться, но рука зависла в воздухе – все налипшие пылинки сами, плавно и неторопливо, как пушистый снег в безветренный день, отлетали с моей одежды обратно на ковер… Господи, до чего же их много!
Я осмотрел комнату. Вроде все такое же, но выглядит не так. Совсем, как те проклятые фотографии для журнала «Мой дом» – похоже и не похоже одновременно.
В углу что-то зашевелилось и побежало. Я резко обернулся, и тут зазвонил телефон… Так это электричество по проводам… Забавно.
В окошке телефонного аппарата высветился номер звонившего, но я и так почему-то понял, что это Паневина. Увы, Валентина Георгиевна, ответить не смогу… Или смогу? Может, стоит попробовать?
Не скажу, что получилось легко и сразу, но снять с рычагов трубку и выдавить из себя «Алле» все-таки сумел.
– Саша? – прозвучал вопросительно-настороженный голос Паневиной. – Это вы, да? Ну, слава Богу, приступ прошел! А то мы все звоним, звоним… Сема очень обрадуется – это добрый знак.
Она вздохнула и немного помолчала.
– Я все знаю, Саша… Соболезновать не стану, не бойтесь. Все равно этим не поможешь, а делать искренне бессмысленные вещи никогда не умела. Хочу чем-нибудь помочь – читать что-то хорошее, рассказывать… Вдруг сработает. Лишь бы вы сами хотели. Вы хотите?
– Да.
– … Ну и отлично. Мой адрес не забыли? Приходите, как только сможете. Сема говорит, что вам нужно больше гулять, набираться впечатлений… Хотя, на наших улицах это не совсем то… Но вы должны научиться искать. У меня, возле дома, есть парк. Там спокойно и тихо – то, что нужно для первого времени. Погуляем вместе. Хотите?
– Хочу.
– Тогда я жду вас, ладно?
Я положил трубку, удивляясь сам себе – зачем согласился? Что за дело мне до разговоров этой Паневиной и до её книг? Небось, станет читать нравоучительные романы, где добро неизменно побеждает зло в кровавой схватке.
Пиррова победа! У кого это было? Кажется, у Шварца – убивший дракона сам становится драконом, поэтому зло неистребимо… Или это более древняя китайская история?
Да, Бог с ним! Какая мне разница? Зло, добро, истины и сказки… Как пусто кругом. За окном только ветки, ветки… Ничто не стоит никаких усилий. Пришло – ушло; началось – закончилось; родилось – умерло… Вечно только одно – осозналось. Но все так скучно…
Я опустился в кресло и замер.
Новый приступ закончился за несколько минут до появления Довгера. Снова захотелось подойти к окну, только теперь я это сделал. Гула двигателей не было, один лишь миллионный пчелиный рой гудел где-то, в самой глубине мозга.
За окном все тоже неуловимо изменилось, но я, кажется, перестал этому удивляться. Даже когда заметил высокую фигуру в диковинном пальто с меховым воротником, только лениво приподнял брови, как делал прежде в минуты изумления. Однако, приступ проходил стремительно, сопровождаясь такими же, стремительно нарастающими, ударами сердца.
Надо бы пойти, открыть ему дверь… Интересно, он был у Гольданцева? Не хочется об этом думать, но в голову лезет… Закупоренная насмерть дверь, а за ней неприкосновенный труп… Ужасно!
Довгер вошел в квартиру ничуть не удивляясь моей заботливой предусмотрительности. Эликсир на двери, похоже, перестал действовать, потому что вошел сам, не прикасаясь к протянутой руке.
– Вижу, и этот приступ закончился, – сказал он, снимая пальто и потирая озябшие руки. – Проклятье, так торопился, что забыл прихватить перчатки. Теперь мерзну… Валентина прождала вас три часа. Очень волновалась. Но хорошо, что приступы все же проходят. Теперь надо добиться, чтобы промежутки между ними становились длиннее, и, может быть, тогда нам удастся постичь механизм действия…
Он осекся и виновато посмотрел на меня.
– Нет, что бы ни удалось – это не будет иметь значения. Только не такой ценой.
– Вы были у Гольданцева? – спросил я.
Довгер коротко кивнул.
– Был.
– И,.. как там?
Он постоял, раскачиваясь на носках туфель и задумчиво глядя перед собой, словно воскрешал в памяти увиденное.
– Там? Да как там может быть… По счастью, вы перепутали эликсиры, и к двери я подошел легко. Открыл тоже без проблем – замки у Гольданцева простые. Но дальше сглупил. Понадеялся на эликсир «доверия» и вызвал милицию. А потом только обнаружил, что к телу невозможно подступиться. Безжизненное, оно становится, как обычный предмет, и эликсир «совести» закупоривает его точно так же, как дверь, или кошелек. Понятия не имею, как они там теперь выкрутятся…
– А вы? Вашему присутствию они не удивились? Как вы им объяснили?
– Да никак! Вернее, объяснил самым обычным образом, дескать, зашел к сыну старого знакомого, увидел открытую дверь, а потом труп, и сразу вызвал милицию. Никто не усомнился. Задали пару вопросов о связях покойного и его занятиях, но, что я мог знать? Вроде ставил какие-то опыты, упоминал об «очень серьезных» заказчиках, вот и все. Дознаватель сразу предположил, что дело связано с наркотиками и любезно меня отпустил. Я, разумеется, ушел. Пускай теперь ищут тех, кем Коля вас пугал. Все остальное, что могло привести их сюда, я подчистил.
– Неужели мне удалось наследить?
– Ещё как!
Довгер порылся в карманах пиджака и вытащил пару мелких монет и пуговицу.
– Видите? Все ваше. Пуговица явно от куртки – я ещё вчера заметил её отсутствие – а деньги вполне могли выпасть из кармана. На окне лежала небольшая записная книжка с формулами и фамилиями. Угадайте, чья была обведена кружком? Правильно – Широкова Александра Сергеевича. Мало того, внизу стояли номера обоих ваших телефонов. Так что, книжку тоже пришлось изъять.
Довгер похлопал рукой по внутреннему карману.
– На полу обнаружились четкие отпечатки ваших ботинок. Похоже, торопясь к Гольданцеву, вы не слишком смотрели под ноги, а прямо перед подъездом огромная лужа грязи. Следы сметал веником. Ювелирно, должен заметить, сметал. Чистые участки потом той же самой пылью и присыпал, чтобы следов уборки заметно не было. Ручки дверные, как водится, протер, как и все те места, к которым вы, теоретически, могли прикоснуться. Только ванную трогать не стал. Во-первых, все равно бы не успел, а во-вторых, бумаги там достаточно хорошо прогорели. Я проверил – побрызгал «третьим глазом» – о вас ничего нет. А вот к лицу покойного долго пришлось подбираться – ваша ладонь на нем просто горела. Но удалось… Хорошо, что милиция не особенно спешила.
Я подавленно молчал. Слова Довгера вызвали в памяти все безумие вчерашнего дня. Первый испуг быстро сменился нарастающей ненавистью. Удалось ему… Видали благодетеля! Хорошо теперь рассуждать. И ведь стоит рядом, не боится. А ну как я и его шарахну…
Веки над налитыми кровью глазами тяжело поднялись. Я глянул на Довгера, представляя, как схвачу сейчас его за лицо, и кулаком прямо в висок…
Воздух между нами дрогнул и поплыл.
Господи, что это со мной?! О чем я думаю?! Снова пережить весь Тот кошмар?… Нет, не то… Что-то другое ужасает меня гораздо сильнее. Но, что это? Что за ребенок смотрит на меня из-за плеча Довгера? Неужели, я сам?! Такой, каким впервые пришел в этот дом? Но, как… Откуда?!.. Или это… Это старый шкаф своим отражением вернул мне мое же тринадцатилетнее лицо, и это перед ним мне так нестерпимо стыдно!
Нет, нет, уйди, не смотри на такого… тебе здесь не надо… Я и так все понял…
Довгер внимательно следил за моим настроением.
– Ну, вот вы и справились, – сказал он, когда я изо всех сил тряхнул головой, чтобы отогнать видение. – Какие мысли вам помогли? Скажите – это очень важно.
Но я не хотел ничего говорить.
Каким-то новым, появившимся у меня ощущением, понял вдруг, что увиденный образ не помощь, а, скорее, намек, подсказка, или, может быть даже, укор. Но спасти он не может.
– Позвольте мне самому разобраться, – выдавил я через силу.
– Хорошо. Тогда пойдемте к Валентине. Она давно ждет.
Идти решили пешком. Мне не хотелось садиться в транспорт, не хотелось видеть людей. Я и общество Довгера выносил с трудом, несмотря на его оптимистичные надежды, что мне, якобы, удалось «справиться». Нельзя доверять оптимизму, об этом ещё Бунин предупреждал. Глухое раздражение так и клокотало внутри, ожидая малейшего повода для взрыва. Не представляю, как смогу терпеть общение с Паневиной. Эти пожилые дамы всегда так назойливы. Не дай Бог, на самом деле затеется мне что-нибудь читать…
Но, с другой стороны, делать что-то нужно. Я и раньше слышал о разрушительном влиянии сильных отрицательных эмоций, но тогда это были лишь сентенции, которые фактически никак не проявлялись. Теперь же их правота сказывалась на моей собственной шкуре. И сам я, со своими приступами, вряд ли смогу найти выход.
Пришлось покорно идти за Довгером, уповая на то, что новый припадок безразличия не накатит на меня по дороге, и я не сяду в лужу, в прямом и переносном смысле.
Однако, уличный воздух дал некоторое облегчение. Подморозило, и асфальт казался присыпанным тонким битым стеклом. Довгер без конца потирал зябнущие руки, а я, как ни странно, совсем не ощущал холода. Только, с удивлением, заметил, наконец, что до сих пор одет в ту же самую куртку, которую, впопыхах, натянул на себя вчера, отправляясь к Гольданцеву. Как странно, обычно верхняя одежда стесняла меня в любом помещёнии – обязательно надо было её расстегнуть, а, лучше, снять – но сейчас я не ощущал её даже, как одежду. Не раздражала и не жгла синтетическая подкладка, хотя, Довгер говорил, что к синтетике я не смогу прикоснуться. Интересно, а снять-то с себя эту куртку я смогу?
Не откладывая дела в долгий ящик, сразу попробовал расстегнуть пуговицы и внутреннюю молнию. Удалось! Потом удалось высвободить руку из рукава, и надеть его обратно.… Хм, может, с этой синтетикой я взаимодействую потому, что эликсир «захватил» её вместе со мной? Да нет, кажется, я тогда разделся догола.… Но потом-то ведь оделся! И все у меня прошло, как обычно! И телефон сегодня… Трубку-то я смог снять!
Довгер шел рядом, по-прежнему, молча, наблюдая за мной. Может, спросить у него? Наверняка он что-то про это знает, иначе не смотрел бы так заинтересованно на то, как я снимаю и одеваю куртку.
Поборов раздражение, я пересказал свои мысли Соломону Ильичу. Он кивнул, словно только этого и ждал, но ответил не слишком уверенно.
– Я точно не знаю, Саша, но мне кажется, что взаимоотношения человека и вещи – предмет особого изучения. Ваш дядя много мог бы сделать в этом направлении… Возможно, «прощупывая» вас в первый момент, эликсир «позволил» вам одеться в привычную одежду, и, на основе предпочитаемых материалов будет теперь определять степень вашего взаимодействия с материалами схожими. А возможно и другое. Условно говоря, то тепло, которое вы передали своей одежде, сохранялось на ней все то время, пока она не была на вас, и эликсир определил её, как вещь, полную жизни. Но с теми предметами, в которых жизнь замерла, вы взаимодействовать не сможете.
– А телефон? Какая в нем может быть жизнь?!
– Электричество. Вы, может быть, не знаете, но Тесла полагал, что электричество обладает разумом, и этому человеку я склонен верить. А что такое разум, как не форма жизни? Вы могли бы попытаться что-нибудь узнать в этом направлении. Не хотите попробовать?
Я не ответил. Короткий всплеск злобы дал понять, что развивать эту тему не стоит. Какой из меня ученый?! В лучшем случае, могу сунуть два пальца в розетку и послушать, как далеко пошлет меня «разумное» электричество. Если, конечно, оно вообще снизойдет до беседы, потому что в школе физику хуже меня знали только отъявленные двоечники. Уж не насмехается ли Довгер, предлагая тягаться с этим, как там его… с Теслой? Если насмехается, то хуже только ему! Я ведь терплю его общество только ради возможного спасения, но, как только станет ясно, что спасти меня нельзя, тут же отключусь, и шиш он от меня что-нибудь узнает!
Почти весь остальной путь до Паневиной шли молча. Я старался не смотреть по сторонам и прислушивался к себе, чтобы не пропустить начало нового приступа, но он, кажется, и не думал наступать, зато окружающая действительность постоянно отвлекала внимание.
Вот, на некоем подобии клумбы, светится крошечным оранжевым нимбом чахлый кустик поздних осенних цветков. Они словно борются с непреодолимым сном, но ещё живут и отчаянно пытаются раскрыть свои лепестки, как смежающиеся ресницы. А глубоко под ними, в земле, куда холод не успел пробраться, всё уже активно готовится ко сну – мелкие корешки, какая-то живность, паразиты.… О, Господи, а тому дереву совсем немного осталось жить! Похоже, за грядущее лето, гриб, который собирается неплохо перезимовать на нем, довершит свою работу…
Интересно, а сам-то я грядущее лето переживу?
Или лучше, как дядя? Не дожидаясь развития побочных эффектов..?
Вот сейчас, на переходе, пойду на красный свет и посмотрю, что получится. То-то Довгер удивится, когда меня переедет какой-нибудь паршивый «жигуль».
А если не переедет, то, что ещё может произойти? Разобьется, как о столб, или отскочит, как от резинового мяча?
Может, проверить?
Я слегка ускорил шаг и подошел к переходу раньше Довгера. Какая-то тетка уже стояла там и пялилась на светофор. Но стоило мне остановиться рядом, как она тут же сделала шаг вперед. Это показалось более забавным, чем кидание под машину – тетка, совершенно бездумно, на одном только подсознании, стремилась во что бы то ни стало быть впереди меня. И я, уловив её желание, решил развлечься, и тоже сделал шаг вперед. Тетка косо зыркнула, потопталась – впереди была уже проезжая часть – но подсознание все же победило, и через мгновение она стояла на дороге, рискуя зацепить животом проносящиеся мимо машины. Радуясь, что могу совместить приятное с полезным, я, нарочито лениво, шагнул следом…
Жаль, но довести эксперимент до конца так и не удалось. Светофор загорелся зеленым, и тетка сорвалась с места, торопясь на другую сторону.
– Вы опять злились, или хотели проверить на прочность свою сферу? – спросил Довгер, когда и мы перешли.
– Не знаю, – огрызнулся я.
Его прозорливость и тупая упертость тетки заставили мое раздражение клокотать сильнее.
– Проверить хотел, попрется она дальше, под колеса, или все же позволит мне быть первым.
– Глупо! – сердито сказал Довгер. – Вы губите сами себя этими детскими выходками. Разозлились на женщину за то, что подчиняется инстинктам, а не разуму, но сами, только что, мало чем от неё отличались!
– Я ставил эксперимент.
– Нет! Вы ХОТЕЛИ опасности для этой женщины только из-за того, что на короткое мгновение вам не понравились её действия! Вы только что подтвердили свой статус убийцы и свели на нет усилие, благодаря которому дома смогли подавить приступ злобы. Ещё пара, тройка таких выходок, и эликсир, грубо говоря, перестанет «сомневаться», окончательно замкнется, и вы останетесь вариться в собственной злобе, как в адовом котле!
Я хотел ответить, но вдруг почувствовал, как сознание мое раздваивается. Одна часть так и жаждала высказать Довгеру что-нибудь в стиле: «сам дурак», но другая, трудно, со скрипом, все же признавала его правоту. И, пройдя несколько шагов, я все же подчинился последнему, опустил голову и смиренно произнес:
– Я больше не буду.
Валентина Георгиевна встретила нас в раскрытых настежь дверях своей квартиры.
– Я заметила вас в окно, – сказала она, улыбаясь, и тут же захлопотала вокруг Довгера: – Ты, Сема, совсем замерз! Говорила же – не вынимай перчатки из карманов! Мало ли что «оттянутся», а больные суставы разве лучше? Иди в ванную и сразу растирай, иначе опять промучаешься весь вечер.
Она торопливо доставала тапочки, вешала на плечики снятое Довгером пальто, говорила без устали и делала все это, подчеркнуто не обращая на меня внимания. А я вдруг, с приятной легкостью в душе, подумал, что все это нарочно для меня, как для инвалида, которому, ни в коем случае, нельзя показывать, что он инвалид. Преувеличенные забота и внимание, пожалуй, только разозлили бы, а так…
Впрочем, что «так»!? Да, я не инвалид, но и не пустое место! Замерзшие ручки Соломона Ильича ничто по сравнению с моей бедой! Сама зазвала, «хочу, дескать помочь, поговорить…», и тут же: «Сёма, ох, Сёма»! А я, значит, стой тут, в коридоре, и взирай на эту идиллию с умилением и благодарностью…
– Идемте в комнату, Саша, – «заметила», наконец, меня Паневина. – Знаете, у Соломона Ильича очень больные суставы на руках. Ни в коем случае нельзя подстывать. А он вечно забывает перчатки… Ну, проходите, проходите, не разувайтесь. К вам теперь никакая грязь не пристает…
«Кроме вашей собственной», – явственно услышал я её мысли.
Странно, но, почему-то, это дополнение меня не разозлило, а снова привело в чувство. Похоже, эликсир, действительно, «прощупывает» меня, подсовывая различные варианты отношения к той, или иной, ситуации, и следит за тем, какой выбор я сделаю.
Но, в таком случае, все очень даже неплохо! Надо только следить за собой повнимательнее, не допускать расслаблений, и, черта с два, он тогда «замкнется»!
В комнате, на круглом, скатерно-плюшевом столе, лежала раскрытая обложкой вверх книга Джеральда Даррелла « Моя семья и другие звери». Когда-то, в детстве, дядя приносил мне такую почитать, (может быть даже у Паневиных и взял), и я запомнил из неё только какой-то смешной эпизод с муравьедом. В остальном – книга «на любителя», а я таким любителем не был.
– Не хочу это слушать, – непроизвольно вырвалось у меня, под влиянием испуга, что именно такое чтиво Валентина Георгиевна выбрала для моего духовного лечения.
– Но это я сама читала, пока ждала вас, – усмехнулась она. – А вы что, испугались? Не любите Даррелла?
– Не знаю… Я вообще ничего «книжного» слушать не хочу.
– Не хотите, значит, и не будете.
Паневина взяла со стола книгу, поставила её на полку и указала мне на кресло, стоящее прямо против окна.
– Садитесь сюда. В это кресло можно… Я вас пока оставлю, пойду, разогрею Соломону Ильичу поесть. Может быть, и вы…
Она замолчала, вопросительно-настороженно глядя на меня.
– Нет, спасибо, есть я не хочу.
– Ладно. Не скучайте.
Паневина быстро вышла, а я со вздохом опустился в кресло.
«Беги, беги, корми, – подумал со вновь растущей неприязнью. – Прекрасно ведь знала, что почти все человеческое мне теперь чуждо, а, все равно, предложила поесть! Насмехается, что ли? Вот, как тут удержать себя в руках?! Могу представить, что за разговорчик состоится сейчас на кухне. Все кости мне перемоют. Думают, небось, что я ничего не слышу. А я прекрасно слышу даже то, о чем они не говорят! „Он справился?“. „Нет. Пытается, но слабо“. „Что же делать?“. „Посмотрим…“ Господи, вот скучища-то! Одно и то же, одно и то же. Зачем я только сюда пришел? Уже и без них понял, что надо делать…»
Взгляд, блуждающий по комнате, задержался на окне.
Боже мой! Какой же отсюда замечательный вид!
Нет, определенно, положительные моменты есть в любой дурной ситуации. И вид из этого окна настоящее чудо. Никаких строений, только макушки голых деревьев и небо.
О, это небо! И, как это раньше, я не замечал, что поздней осенью оно совсем не хмурое и серое, а живое, многоцветное и такое высокое-высокое, ласковое… Нет, ласкающее… Нет – это небо любящее! А какой покой, какая благость разлита по всей душе! Кажется, ничего не стоит подняться к нему, к этому светлому, огромному пространству, развернуться, как скрученный бинт, и остаться свободным, огромным, всемогущим! Ах, как хочется это сделать! Надо только вспомнить что-то.., что-то созвучное, но забытое. Я когда-то читал… В книге про пирамиды, давно, вечность назад, я читал… Перевод со стен.… Ну, как же там?! О, Господи, не могу! Что-то мешает, отвлекает, злит…
– Саша!
Я нехотя оторвал глаза от света за окном и разом будто окунулся в темную, мутную воду.
– Саша, послушайте нас, пожалуйста.
Паневина стояла передо мной, внимательно всматриваясь в мое лицо.
– Что вы хотите? – недовольным, каркающим голосом спросил я.
– Мы хотим, чтобы вы вернулись и выслушали нас.
Я скосил глаза на Довгера, сидящего за столом.
– Что, уже нашли способ вытащить меня из этого кокона?
– Нет, – ответила за него Паневина. – Но разрушить скопившееся вокруг вас зло, наверное, можно. И вы обязаны попытаться это сделать.
Я хмыкнул.
– Знали бы вы, оба, до чего хорошо и покойно мне только что было.
– Знаем, – подал голос Довгер. – И знаем, к чему это приводит. Олег Гольданцев умер точно так же. Допускаю, что ему тоже было хорошо и покойно, но ваш дядя, почему-то, такого конца своей жизни не захотел. Скорей всего, он понял, что все великие истины гроша ломанного не стоят, если за них нужно заплатить чьей-то жизнью. Нет никакого смысла в таком обмене. Обычная, естественная смерть даст вам такой же покой, для этого не нужны чудодейственные эликсиры.
Знаете, только что, беседуя с Валентиной о вас, я понял простую истину – все то, что дают составы, открытые Галеном, человек уже имеет в себе. И не надо механически добавлять ему лишнего. Все, что чересчур – плохо. Достаточно самому научиться отбирать ненужное, без посторонней помощи, за которую потребуется платить. Весь вопрос в том, что окажется этим ненужным.
У вас теперь два пути. Один – легкий. Можно расслабиться и подчиниться тому, что уже определил в вас эликсир. Замкнуться в себе, отгородившись от мира людей, и ждать того, что будет потом. Честно говоря, этого «потом» я не представляю, но в одном уверен точно: пока вы будете ждать, собирая и генерируя зло, оно медленно, но верно, станет просачиваться в мировую пневму, где его и так уже скопилось слишком много.
Судите сами и поправьте, если я ошибаюсь. Раньше люди, жившие в одном каком-то месте, знали радости и печали только одной своей общины, но теперь, с появлением радио и телевидения, они знают о своем и о чужом. На первый взгляд это, вроде бы, объединяет, но объединяет не только в хорошем. Бесконечные кликушества о конце света, фильмы-катастрофы, ужасы и террористические акты – к чему это ведет? К тому, что люди начинают бояться. И, выпуская этот страх в мировую пневму, его же и потребляют! А как бороться со страхом, и чем? Любовью? Но она его только усиливает, потому что, чем сильнее мы любим своих близких, тем сильнее за них боимся. Остается её противоположность – ненависть. Но ненависть рождает новое зло, а новое зло – новый страх. И самое ужасное, что появилась и новая порода людей, этот страх смакующих! Трупы на улицах городов, где происходят кровавые перевороты или террористические акты; захваченные в плен дети, выброшенные на улицу старики; разбившиеся самолеты и взорванные дома – все это стало всеобщим достоянием, благодаря телевидению. Стремительно мелькающие картинки убийств, жестокости, разврата и откровенной, пошлой глупости подменили все то, что требует душевной доброты и вдумчивого осмысления. Кажется, мы уже перестаем остро воспринимать чужую беду – слишком большое перенасыщение. И оно растет и растет, ускоряясь в своем росте, потому что мы каждый день это видим, боимся, испытываем отвращение, ненависть и плодим, и плодим новую жестокость. Чем дальше, тем больше человеческая жизнь превращается в какую-то бешено вращающуюся воронку, где на поверхность всплывает самое гнилое и пошлое, не способное дать жизненных всходов. Все остальное катастрофически отмирает. Поверьте, я знаю, что говорю – мне есть с чем сравнивать. И не хочу, чтобы и вы вносили в этот дикий процесс свою весомую лепту.
Поэтому говорю вам про второй путь, очень сложный и требующий огромных усилий.
От зла вы уже никуда не денетесь. Оно, как и во всех, сидело в вас и до эликсира, и будет притягиваться после. Но переделать его, извратить, выпустить, как желание от него избавиться, это вы можете!
«Переберите» самого себя. Пересмотрите свое прошлое, каждый значительный эпизод, отделяя нужное от ненужного, а, главное, определитесь в их сути. Этот выбор многое решит в вашем будущем. Он поможет сделать дальнейшее существование достойным, продлит вашу жизнь, и, возможно, благодаря этому, она не будет просто существованием.
Мир вы, конечно, не спасете, но вдруг кто-то другой, кто, как и вы, только безо всяких эликсиров, стоит на перепутье и не может определиться в собственных приоритетах, вдруг он уловит ваши усилия, примет их, и своим выбором повлияет на кого-нибудь ещё. Вдруг эти усилия позволят отыскать лекарство от страха. Сначала двум, трем, а затем и тридцати, и тремстам…
Подумайте об этом.
Каким бы утопичным ни казался вам этот второй путь, им все же стоит пройти. Олег был к нему очень близок, поэтому и советовал вашему дяде вспоминать все самое лучшее из прожитого. Но Вася… Возможно, он не понял до конца всю важность. Или просто не успел…
Довгер замолчал, увидев, что я прекрасно понял его намек.
А мое сознание снова раздвоилось.
«Конечно, не успел, – думала одна половина. – Не успел, потому что хотел уберечь меня от ваших же, Соломон Ильич, дурацких тайн! Теперь-то хорошо рассуждать, со мной все просто – я одинок, брошен любимой женщиной, рассорился с другом, разочаровался во всем, что делал… Теперь и мной можно пожертвовать».
Но другая половина… Она молчала. Перевес уже был на её стороне, потому что, пока Довгер говорил, сильнее всех его слов подействовал на меня бесконечно любящий взгляд, которым смотрела на него Паневина.
Глава пятая. Про уродов и людей
Домой я пошел один. Решительно пресек все попытки Довгера проводить и явственно услышал, как облегченно выдохнула Валентина Георгиевна. Ещё бы! За окном стояла почти ночь, и он, в своем буржуйском пальто, притянет местных аборигенов, как магнит. А со мной теперь ничего не могло случиться. Разве что приступ какой-нибудь. Но, в любом случае, мне лучше было идти одному – надо же когда-то учиться управлять своим новым состоянием.
Впрочем, вот ведь что странно, уже оказавшись на улице и вдохнув морозного воздуха, я, почему-то вдруг совершенно уверился в том, что никакого приступа не случится.
Вот не случится, и всё тут!
Потому что хотелось подумать обо всем, и от этого хотелось сдержаться, а самое главное, хотелось идти по пустым улицам, смотреть на освещённые окна квартир и представлять, что там, в этих квартирах, все хорошо и покойно. И люди живут, хоть и не семи пядей во лбу, но зато приятные во всех отношениях.
Улицы, впрочем, были не так уж и пусты.
На остановках ещё притормаживали редкие маршрутки, выпуская припозднившихся пассажиров, да иногда, через освещённую проезжую часть, под оранжевое мигание светофоров, шатаясь, перебредал какой-нибудь подвыпивший субъект. Но все равно, все они стремились скорее исчезнуть в темных норах подворотен и переулков, словно в этот «нечестивый» час яркий, пусть даже и искусственный, свет распугивал их, как каких-то вурдалаков.
Я прошел целый квартал, когда заметил неторопливо идущую впереди меня трогательную пожилую пару. Они шли по-старомодному, под руку, и каждый нес полупустую авоську. Мне захотелось обогнать их и посмотреть в лицо, но перед арочным входом в какой-то двор пара остановилась, переговорила о чем-то и торопливо в этот двор нырнула. «Господи, уж не целоваться ли?!», – подумал я, с радостью улавливая в себе отголоски странного теперь любопытства. Спешить было некуда и, поравнявшись с подворотней, я последовал за парой.
Увы! Умилившие меня старики профессионально рылись в мусорных баках.
И ведь, что примечательно, весь двор тонул во мраке, и только над переполненной мусоркой сиял единственный работающий фонарь. В его свете я хорошо смог разглядеть два испитых, опухших лица, обернувшиеся на звук моих шагов.
Вот тебе и милые старички!
Возможно, эти двое даже не были так стары, как казались, но теперь это не имело никакого значения. Померещившаяся мне пастораль длиною в жизнь, обернулась уродливым лицом бомжа!
Удивительно, но ожидаемой вспышки злобы это открытие не вызвало.
То есть, сначала, на короткое мгновение, что-то такое зашевелилось – скорей всего, недовольные лица бомжей вызвали ответную реакцию – но я, вполне осознанно, подавил растущий гнев.
На кого злиться-то, Господи!
Давным-давно, (или не очень), были эти двое маленькой девочкой и маленьким мальчиком, которых кто-то любовно пеленал, возил гулять в коляске и поил из бутылочки соком или сладкой водичкой, и мечтал о достойной судьбе для своего ребенка.… Впрочем, возможно, они росли в детдоме. Но и тогда, и девочка, и мальчик обязательно о чем-то мечтали. И это «о чем-то» вряд ли, хоть отдаленно, хоть какой-то самой малой своей частью, напоминало то, что было теперь, в действительности.
Нет, я нисколько их не жалел. Даже тех, мечтающих мальчика и девочку. Жертвой каких бы обстоятельств они ни стали, обстоятельства эти, в конечном счете, созданы были ими же. Но мелькнувший на короткий миг образ беспомощных малышей, неожиданно заставил меня задуматься.
Где, в какой момент своей жизни, теряем мы невинность? Не ту, пресловутую, сексуальную, с которой все так носятся, а ту, о которой говорил тогда, у меня дома, Довгер. Невинность, позволяющую беспричинно радоваться новому дню. Ведь у каждого было это когда-то, как была когда-то любимая игрушка. И мне показалось очень важным понять, под влиянием чего уходим мы из этого состояния и высокомерно забываем о нем, как забываем и любимую игрушку? С какой вдруг стати, решили мы, что для радости обязательно нужна причина, иначе это признак умственной отсталости? А то, что за окном просто светит солнце, и весь этот мир, прекрасный и загадочный, живет, верша свои каждодневные галактические дела, не достаточный повод для счастья? Может быть, в тот момент, когда мы перестаем это ощущать, и рождается тот страх, от которого нет спасения?…
– Э, мужик! – вырвал меня из раздумий глумливый окрик. – Дай позвонить, очень надо.
Я остановился и медленно повернул голову.
Трое парней развязно шли на меня из дворовой темноты. От них за версту разило перегаром и наглой самоуверенностью, и прежний человек во мне испуганно поджал хвост. Правда, в тот же момент он исчез, поглощенный тем новым, что создалось под воздействием эликсира.
– Не дам, – процедил я, сквозь стиснутые зубы.
Бешенство, нарастая, с рычанием стало рваться наружу.
– Ах, не да-ашь, – пьяно изогнулся к дружкам тот, что меня окликнул. – Жмотишься, фря. Так мы щас сами возьмем.
Дружки недобро усмехнулись и пошли в стороны, обходя меня и скалясь, точно волки.
Я стоял неподвижно и чувствовал себя так, будто еле удерживаю на поводке огромного разъяренного волкодава. Ещё мгновение и он разорвет этих уродов в труху! А они, словно нарочно, подходили медленно, смакуя каждый миг, приближающий их триумф.
Триумф?!!
Да эти тупые рыла даже слова такого не знают! Нажрались вонючего пойла и решили, что обрели право решать, как поступить со мной. СО МНОЙ!!! С моей бессмертной душой! У кого-то это уже было? Ах, да, конечно же, у Толстого – «не пустил меня солдат…» Но, черт с ним, с этим солдатом! Тот, француз, возможно, хоть книжки читал, был завоевателем, в конце концов. А эти?!! Эти-то по какому праву собираются испортить мне целый вечер жизни? МНЕ?!! Кто прожил тридцать пять лет, наполненных мыслями, которые в их безмозглые башки никогда не заглянут; полных чувствами и образами, о которых они и представления не имеют; овеянных вдохновением, наконец! Да они даже обращаться ко мне права не имели!
Поводок, внезапно, вырвался из рук, и освобожденная ярость с облегчением растеклась по телу.
Наконец-то!
Подходите, подходите! Я восстановлю справедливость и сам сейчас решу, как вы закончите этот свой вечер!
В Чечне ребята научили меня кое-каким приемам рукопашного боя, но за ненадобностью я ими почти не пользовался – так только, для хвастовства перед друзьями – и особо ловким бойцом себя не считал. Но теперь, в ореоле полной безнаказанности и неуязвимости, все вдруг разом вспомнилось. И, как только, пьяное рыло главаря оказалось в пределах досягаемости, я резко крутанулся и ногой двинул его в грудь. А потом рванулся наносить удары направо и налево.
Кулаки явственно ощущали мнущуюся под ними плоть. Носками ботинок я словно «видел» их ребра, чей-то копчик, берцовую кость, предплечье… Я их ОЩУЩАЛ! Значит, настоящие, мать твою! Настоящие ублюдки, без примесей! Мразь, которую не жалко размазать по этой грязи! Так получи, дрянь! И ты тоже! И этот, который уже ползает передо мной на карачках, сплевывая сгустки крови.… Вот сейчас, одним ударом, перебить ему позвоночник, и сколько душ, не тронутых им в будущем, вздохнут с облегчением!
Но тут один из этих дебилов слезливо, с надрывом заорал:
– Леха, отползай! Убьет!
И моя рука зависла в воздухе.
Леха?!
Это имя столько всего вдруг напомнило…
Друг… Прыжок с моста. Рука, протянутая для рукопожатия. Долгие беседы о высоком.… О том самом высоком, чьим именем я только что приписал себе право убить!
Я замер и попятился, как от чего-то ужасного. Мой волкодав ненасытно щелкнул пастью.
– Убирайтесь отсюда, – прохрипел я, еле справляясь с клокочущим бешенством.
Избитые мною парни подхватили своего главаря и потащили его в темноту, из которой пришли.
А я остался.
Отсеять нужное от ненужного.… Но, Господи, что здесь было нужного?! Ничего! Все плевела – и эти трое уродов, и их действия, и я сам, со своими бойцовскими пируэтами. Может быть только то, что сумел вовремя остановиться? Но, черт возьми, я же мог просто пройти мимо, и ни фига бы они мне не сделали!
– Сволочи! – простонал я, готовый разрыдаться в этом чужом, темном дворе. – Какие же вы все сволочи! Ну, как тут стать человеком?!
Глава шестая. «Мы с тобой одной крови…»
Довгер пришел ко мне на следующий день.
Наверное, даже с утра, но я не помню его прихода. Новое забытье унесло меня из жизни, как крепкий сон. Но, когда я очнулся, первым что увидел, было озабоченное лицо Соломона Ильича.
– Опять? – спросил он, даже не уточняя о чем речь. – А промежуток, как? Продолжительный, или не очень?
Я потряс головой, чтобы отогнать шум, который неизменно появлялся при переходе из одного состояния в другое, и прислушался сам к себе. Шум стал тише и приятнее. Раз от раза он вообще становился все более… оформленным, что ли? Не знаю, на что это получалось похоже, но только не на многоголосый людской хор, поверяющий мне свои секреты. Скорее на странную, диковатую, но величественную музыку.
– Не было никакого промежутка, – вяло пробормотал я, рассматривая пол. – Не помню.… Вчера, когда шел домой, не сдержался, впал в бешенство…
– Но зачем? Что вас побудило?
– Трое козлов хотели отнять мобильник.
– И дальше что?
– Чуть не убил.
Воспоминание о вчерашнем раздражало своей двойственностью. С одной стороны – никакого сожаления об избитых подонках, но с другой – была во всем этом какая-то гадливость.
– Вам стыдно за это, да? – спросил Довгер.
– Мне противно это вспоминать, – неохотно выдавил я.
– Так хорошо! – обрадовался он. – Прекрасно! Ведь, как я понял, ещё вчера убийство Коли Гольданцева не вызывало у вас ни стыда, ни огорчения, а сегодня уже противно вспоминать об одном только желании убить. Замечательно! Это хороший знак. Главное, не расслабляйтесь. И, вот ещё что, не забывайте, все-таки, запирать входную дверь. А то вчера так и оставили открытой. Мне-то сегодня, конечно, было хорошо – не пришлось торчать в подъезде и терзать звонок, пока вы не откроете. Но мог ведь войти и кто-то другой. Вам это сейчас совсем не нужно. Лучше всего, воспользуйтесь эликсиром, который взяли у Гольданцева, и снова обработайте дверь.
– Зачем? – слабо удивился я. – Вы же тоже не сможете больше сюда войти.
Выражение лица Довгера после этих слов неуловимо переменилось.
– А я, Саша, больше сюда и не приду, – произнес он виновато. – Срок визы заканчивается, завтра самолет, и сегодня вечером я уезжаю в Москву. Собственно говоря, за тем и пришел, чтобы попрощаться. Я же не знал, что все так обернется. Думал, приеду, поговорю по душам с Колей. А не выйдет с ним – переговорю с вами, все расскажу. Одним словом, рассчитывал уладить проблему за три дня. Кто ж знал.… Воистину, человек предполагает, а Бог располагает. Свои текущие дела ТАМ я пока бросить не могу, поэтому вынужден уехать…
Он со вздохом потер руки и сцепил их в замок.
– Значит, бросаете нас, – подвел я итог, имея в виду не столько себя, сколько Паневину.
– Нет, не бросаю, – сердито глянул на меня Довгер. – Я еду затем, чтобы отдать свою часть рукописей тому хранителю, которого определит семья. Отчитаюсь за здешние события и изложу свою точку зрения на них… Мне много о чем пришлось передумать… Конечно, судьбу великого открытия один человек решать не вправе, тем более, что знания, хранящиеся у моих кузенов и дядей, поистине уникальны. Возможно, ещё найдется человек, который сможет достойно ими распорядиться. Но хранитель, утративший веру, такого человека не найдет. Поэтому я и отказываюсь от своей миссии… Ничего, семья поймет. У нас уже бывали такие случаи. Помогут завершить все дела в той жизни, которой я сейчас живу, подготовят здесь какое-нибудь место. И, как только представится возможность «прекратить» мою жизнь за границей, я незамедлительно вернусь сюда. Мне есть с кем желать состариться и… окончательно завершить жизненный путь.
– Значит, решили, как дедушка, да?
– Нет, как я сам. Просто, решив стать обычным человеком, не считаю для себя нужным и дальше принимать эликсир долголетия.
Довгер встал и отошел к окну.
Я прекрасно понимал его состояние. «Слышал» мысли, в которых много чего было намешано, а самое главное, ощущал абсолютную правдивость и высказанных слов, и этих невысказанных мыслей.
– Как странно, – пробормотал Довгер, рассматривая замусоренный двор, – вспомнил сейчас Васин дневник и подумал, что нынешнее поколение тоже станет с ностальгией вспоминать все это, как часть своего детства. Вот только обидно, что, вместо цветущих клумб и добрососедских праздников, в их памяти останется только эта обшарпанная помойка.
Он немного помолчал и отвернулся от окна.
– Я вам тут говорил, что разуверился, но это не совсем так. Пропала, скорее, не вера, а надежда. Надежда на то, что эликсиры Галена действительно, когда-нибудь изменят человечество к лучшему, даже в том случае, если найдется приемлемый способ нейтрализовать их смесь. Для этого нужно, чтобы все люди, разом, обрели новые свойства, но подобное вряд ли возможно. А во всех остальных случаях, обязательно, найдутся те, кто все пересчитает на деньги и станет решать, кому быть счастливым, а кому нет. Причем, будьте уверены, сами эти люди эликсирами не воспользуются, потому что сочтут себя достаточно прозорливыми и чуткими, чтобы улавливать единственно важное для себя – спрос и предложение. И чем же тогда, скажите, обновленное будущее человечества будет отличаться от его сегодняшнего настоящего? Полагаю, ничем. Абсолютного совершенства никто не достигнет, поскольку те, кто научится смотреть в глубь вещёй, будут видеть и понимать то, что происходит, но поделать ничего не смогут. А этим мы и сейчас сыты по горло.
Довгер вздохнул и печально посмотрел на меня.
– Давайте лучше, Саша, сходим с вами на кладбище. Я хочу перед отъездом поклониться Васе, Олегу и… Алексею.
– Пойдемте, – согласился я, давно уже предчувствуя эту просьбу. – Только сначала вам придется достать из кладовки лопату.
– Господи, зачем?! – испугался Довгер.
– Затем, что в нашу первую встречу вы интересовались дядиным дневником. Так вот, я зарыл его на кладбище, чтобы спрятать от Гольданцева, но сегодня думаю, пусть лучше дневник будет у вас.
Я действительно хотел отдать Довгеру дядины записи. Хороший он хранитель, или плохой, судить не мне. Но одно не вызывало сомнений – вполне явственное желание сделать ему что-то хорошее, что покажет возникшее во мне вдруг доверие. Это оказалось неожиданно приятно, несмотря на раздвоенность, которая по-прежнему существовала.
– Спасибо, Саша, – прочувствованно сказал Довгер. – Вы не представляете, как сейчас меня порадовали.… Хотя, нет, вы-то как раз и представляете, потому и сделали это, да? Спасибо. Так нужно сейчас хоть немного спокойствия и уверенности…
Не стану отрицать, проскользнуло у меня в тот момент что-то вроде «битый небитого везет…», но не надолго.
Так мы и пошли на кладбище, словно два духовных инвалида, поддерживающие друг друга в немощи.
Пешком идти было слишком далеко, и Довгер предложил, было, доехать на такси. Но тут же сам отказался от этой идеи. Вряд ли я смог бы сесть на синтетическое сиденье, а висеть в воздухе, пугая водителя, не хотелось. Да и вопрос ещё, сумел бы я «зависнуть»? Может, не удалось бы даже влезть в машину.
Короче, доехали на маршрутке. Подождали такую, где народа поменьше, и риск разозлиться на кого-то минимальный. Я всю дорогу стоял, словно пижон, не прикасаясь к поручням, и Довгер, из солидарности, тоже не сел, хотя и выглядел довольно комично – импозантный мужчина, из среды тех, кто в общественном транспорте вообще не ездит, в дорогущем пальто, но со спортивной сумкой в руках. Про нас вокруг всякое думали, и я еле сдерживался, чтобы не взбеситься в ответ. Довгер уже начал посматривать с беспокойством, когда, по счастью, автобус добрался до конечной остановки, откуда до кладбища было рукой подать.
Говоря по правде, я испытывал некоторое беспокойство, выходя на пустынную центральную аллею между могил. С этим новым зрением черт знает что могло привидеться в таком скорбном месте. Даже по сторонам боялся поначалу смотреть. Но зря. Никаких скоплений червей вокруг разлагающейся плоти «видно» не было. Ощущалось только то живое, что укладывалось в этой земле на зимовку.
– Знаете, кажется у таджиков, есть прелестная поэтическая притча, – сказал Довгер, озираясь по сторонам. – Притча о человеке, который пришел к могиле могущественного когда-то владыки. Могила открылась, и рука, высунувшаяся оттуда, протянула человеку саван. «Прости за мою щедрость, – сказал владыка, – но это все, что я получил от жизни». Чудесно, правда? Я всегда поражался тому, как коротко и верно умели древние сказать о самом важном. Богатство, роскошь и власть, к которым мы стремимся, оправдываясь, порой, будущим своих потомков, рано или поздно обязательно обернутся всего лишь саваном. И производя на свет потомков, мы, по сути, предлагаем им тот же самый саван, забывая за земной суетой, что есть вечная, бессмертная душа, чьи богатства так же бессмертны. Жаль только, что духовные богатства давно стали чем-то условным, чересчур гуттаперчевым и абсолютно оторванным от того базиса, на котором должны произрастать.
«Кто бы говорил», – подумал я, косясь на роскошный меховой воротник.
Но подумал впервые, кажется, без обычной злобы и раздражения.
И вообще, с той минуты, как мы вошли на это кладбище, странное умиротворение снизошло на меня. Вроде и не безразличие, а что-то, похожее на лень. Приятную лень, отторгающую всякую резкую эмоцию, которая могла бы вывести из этого умиротворенного равновесия.
Вот в такой благости я и подвел Довгера к дядиной могиле.
Он прошел за ограду, осенил себя крестным знамением и поклонился. Поклонился и я.
– Здравствуй, Вася, – сказал Соломон Ильич. – Ну, вот мы и встретились.
– Только не вздумайте каяться за меня, – буркнул я, стараясь снизить пафосность момента. – Что случилось, то случилось, чего уж теперь…
Довгер кивнул, но пока стоял молча, глядя на дядину фотографию, конечно же, каялся в собственной беспечности, считая, что все произошедшее можно было предотвратить задолго до того, как оно вообще началось.
Потом мы подошли к тому месту, где я зарыл коробку с дневником.
– Здесь? – спросил Довгер, рассматривая ржавую звезду, торчащую из земли.
– Да, здесь.
Он вздохнул и полез за лопатой.
«Неужели будет копать в этом своем пальто?», – подумал я. А потом – сам не знаю, что вдруг толкнуло – встал на колени, выдернул звезду и принялся прямо руками разгребать землю.
– Что вы делаете! – закричал Довгер, но тут же осекся и замолчал в изумлении.
Мерзлая, твердая, на вид, как камень, земля рассыпалась под моими руками, как обычный пляжный песок!
Но ещё более удивительными были ощущения, которые появились в ладонях и пальцах. Я словно «чувствовал», КАК нужно обращаться с этой землей; словно «общался» с ней через руки, прислушиваясь и совсем не прилагая усилий, чтобы «копать». Я просто раздвигал потеплевшие комья, прекрасно различая контуры коробки под ними. А земля, так же чутко уловившая, ЧТО именно было мне нужно, охотно это отдавала, благодаря за аккуратность и бережливость. Кажется, таким образом, я мог бы достать что угодно, даже залежи мрамора и золотоносную жилу из самой неприступной скалы! Странные, невероятные ощущения, очень сильно похожие на счастье.
Наконец руки почувствовали легкие ожоги от пластикового пакета.
– Дальше придется вам, – обратился я к Довгеру.
– Конечно, конечно, – засуетился он и поднял лопату наперевес.
– Осторожнее! – тут же завопил я, особенно не разбираясь, увидел или просто прочувствовал, как затвердели и напряглись земляные комочки под острым краем, направленным на них.
– Невероятно, – пробормотал Довгер, откладывая лопату.
Руками он разгреб оставшуюся землю и вытянул пакет с коробкой.
– Вам не кажется, Саша, что вы только что перешагнули в совершенно новое качество?! Вы же теперь, как Маугли, часть природы не по простому определению, а по сути!
– Не знаю. Может быть, – пробурчал я, снова опускаясь на колени и возвращая землю на место.
– Да как же, не знаете?! Вы бы видели себя! Женщина, пеленающая ребенка, делает это не так бережно, как вы только что раскапывали землю! Вы же почувствовали что-то необычное, да? Расскажите, прошу вас!
Я встал с колен, поднял и отшвырнул подальше, на асфальт дороги, ржавую звезду, а потом честно признался:
– Не могу, Соломон Ильич, слов таких не знаю. Сказать, что все это странно, значит не сказать ничего. И, ей богу, сейчас лучше ничего и не говорить.
– Понимаю, – с готовностью кивнул Довгер. – Но, если это не случайность, если вы сможете так же относиться и ко всему остальному, то, честное слово, тогда нам бояться нечего! Мы с вами вполне можем добиться конкретных успехов и, кто знает…
Он замолчал, приложив палец к губам, потом обогнул памятник и снова встал перед дядиной фотографией, прижимая к груди коробку с дневником.
– Вася, что бы там ни говорили о невозможности жизни после смерти, но это сейчас ты сделал. Я у Саньки твоего таких глаз даже в детстве не видел, не говоря уж про последние дни! Спасибо, друг! Спаси и сохрани…
Соломон Ильич троекратно, по-христиански, перекрестился и, с просветленным лицом, повернулся ко мне.
– Пойдемте, Саша, я хочу, чтобы и Олег с Алексеем тоже вас… прочувствовали и порадовались.
Глава седьмая. Мытарства
После кладбища мы вместе поехали на вокзал. Я решил проводить Соломона Ильича, особенно после того, как узнал, что Паневиной там не будет.
– Не любит она этих вокзальных прощаний, – объяснял Довгер, пока мы шли к остановке. – Говорит, что человек, вышедший в дверь, всегда оставляет надежду, что он когда-нибудь в неё и войдет. А эти монстры – она так поезда называет – увозят безвозвратно.
– Странное видение, – заметил я.
– Да нет, у неё это с юности – страх перед поездами. Родители Валентины погибли в железнодорожной катастрофе, а она только-только вышла замуж и ждала ребенка. За одной трагедией последовала другая, и больше Валентина иметь детей не могла. Или не хотела. Во всяком случае, Алексей считал, что причина бесплодия его жены в большей степени психологическая, чем физиологическая, и старательно искал способ этот психологический барьер переломить. Поэтому, когда друзья рассказали ему об эликсирах Галена, Алексей, естественно, загорелся.… Однажды он попросил разрешения использовать «третий глаз», чтобы понять, как можно вылечить жену деликатно, без нажима. Но я предупредил, что, иной раз, смотреть на близких таким образом бывает очень проблематично. Покровы заблуждений не всегда уместно срывать в собственном доме, и Алексей от идеи с «третьим глазом» отказался. Но попросил меня, как медика, (и неплохого, замечу, медика), прийти к ним и, хотя бы, побеседовать с Екатериной. Я согласился, пришел, глянул на неё и пропал.
– Да, она была красивой женщиной.
– Нет, нет! На женскую красоту я, за свою долгую жизнь, насмотрелся, так что этим меня удивить трудно. Увидел я совершенно иное – полное, абсолютное совпадение её сути и моей. Как говорят, две половинки одного целого. И она смотрела так, будто имела свой собственный «третий глаз». Смотрела внимательно, пронизывающе, понимая то же самое, что понял и я… Конечно, Алексей все сразу заметил, и ему это, естественно, не понравилось. Но, что мы могли поделать? Уж и так держали себя в руках, чтобы не опускаться до пошлого адюльтера. Только после смерти Алексея я пришел к ней, все рассказал о себе, о своей семье, и предложил уехать со мной. Но она отказалась. И, знаете, (вот ведь странно все-таки устроены наши мозги), своим отказом Валентина только подтвердила то, что я в ней увидел. Кто угодно мог согласиться, но не она. «Я, – говорит, – Семушка, всю жизнь цветы выращиваю и знаю – переставь иной цветок с окна на окно, и он зачахнет. Только там и цветет, где пророс и окреп. Лучше ты ко мне приезжай, если сможешь. А не сможешь…, ну, что ж, я тебя и так никогда не забуду…».
На вокзале я ограничился тем, что проводил Довгера до камеры хранения и подождал, пока он забирал свой багаж, состоящий всего из одной дорожной сумки, да и то, кажется, полупустой. Соломон Ильич уложил в неё коробку с дневником, зачем-то похлопал себя по карманам, осмотрелся и развел руками.
– Ну что, Саша, давайте прощаться. Там, на перроне, это всегда как-то глупо. Стоят, молчат, или, ещё того хуже, смотрят друг на друга через окно. Вам подобные места посещать противопоказано, особенно теперь.
– Как хотите, – сказал я. – Счастливо доехать, Соломон Ильич.
– Спасибо.
Мы неловко помолчали, кивнули друг другу и разошлись.
На привокзальной площади, запруженной маршрутками и встречающее-провожающей толпой, сновали таксисты и частники, высматривая особо нагруженных пассажиров. Нагловатого вида молодые люди воровато шныряли глазами по сторонам, и, нервно куря, подходили друг к другу с каким-то коротким сообщением, а затем, сплюнув, как по команде, снова расходились. Обширная дама, тяжело дыша, неслась к дверям вокзала, волоча одной рукой гигантский баул, а другой – девочку лет восьми. Не будь вокруг защитной сферы, она бы проутюжила меня, как танк. А так лишь отскочила, словно стукнулась лбом, и ядовито прошипела: «Господи! Встанут вечно…»
Откуда-то сбоку сильно пахнуло мочой и спиртным, и я поспешил уйти.
Куда же мне теперь?
Домой не хотелось – что там делать? Ходить по улицам тоже не выход – опять привяжется какое-нибудь быдло. А даже если не привяжется, то и на улицах особых дел не было. Уж не вернуться ли на кладбище?
И тут вдруг словно обожгло, а не пойти ли мне к дому Екатерины? Взглянуть на неё по-новому, может, и не стоило так переживать из-за её отказа? Сказал же Довгер – на близких, иной раз, пристально лучше не смотреть. А я посмотрю, не побоюсь, мне терять нечего.
Сказано – сделано!
Идти, конечно, не близко, но ведь и спешить особенно не надо, время ещё есть.
Я задумался, прикидывая маршрут, которым лучше пойти, как вдруг заметил неподалеку страстно целующуюся парочку. Собственно говоря, внимание обратил не столько на них, сколько на замшелую старуху, которая крутилась возле, поливая целующихся бранью и матом. Те, естественно, на старуху внимания не обращали, чем приводили её в полнейшее неистовство.
И эта картина показушной любви на фоне выходящей из берегов злобы, немедленно отозвалась во мне сильнейшим раздражением.
– Совсем стыд потеряли, сволочи! – визжала старуха, – Лижутся у всех на виду, как (нецензурно), ещё бы прямо тут (нецензурно, нецензурно) разлеглись!
Визг старухи разбудил заснувший, было, гнев.
Я и раньше с трудом выносил шумные скандалы, а уж орущих по-базарному теток ненавидел всей душой. От нестерпимого истеричного крика по всей спине словно проросли острые шипы, как у какого-то чудища из фантастического фильма ужасов.
– Рот закрой! – громко приказал я, чувствуя приближение приступа.
Старуха услышала, резво повернулась ко мне, явно радуясь, что сейчас состоится милый её сердцу диалог, и, угрожающе тряся сумкой, завизжала ещё громче:
– А ты (нецензурно) чего лезешь?! Я заслуженный человек! Я имею право! А вас всех…, – и дальше сплошь нецензурно.
Волна гнева радостно взметнувшись, подтолкнула меня, и я пошел на старуху, ещё толком не зная, что сделаю, но, уже испытывая облегчение от того, что подчиняюсь этой волне. Застоявшаяся благость вдруг показалась неудобной, больной и совершенно ненужной. В двух шагах от нас стояла благочинная супружеская пара, которая презрительно морщилась на все происходящее, но при этом совершенно не замечала, с каким интересом слушал старухины словесные выверты их десятилетний отпрыск.
– Идиоты! – процедил я на ходу.
Но тут старуха, словно осознав, что не на того напоролась, шустро юркнула в противоположную от меня сторону и растворилась в вечерних сумерках. (Поразительно, как все-таки эти гнусные скандалисты умеют распознавать, с кем лучше не связываться! Не иначе и у них «третий глаз работает на полную катушку).
Я замер. Гнев, оставшийся без объекта, глухо рыкнул и повернул меня к переставшей целоваться парочке.
– Извините, – неизвестно зачем пискнула девушка, – мы нарочно не хотели делать по её… Совсем достала…
Парень предпочел отмолчаться, но смотрел с вызовом – хорохорился перед подружкой, хотя явно побаивался.
– Вам что, чувств своих не жалко? – спросил я сиплым от злобы голосом. – Не знаете, как их верней опошлить? Испортили себе прекрасные мгновения, ради дешевой показухи. Дома этим надо заниматься, дома! Или там, где никто не видит! А если сейчас весь этот мир взорвется к чертовой матери, что вам останется? Слюнявый поцелуй назло старухе-матершиннице?! Может, ещё скажете после всего этого, что у вас любовь…
От парня ощутимо потянуло словом «придурок», но девушка, кажется, поняла. Стыд разлился по её лицу тусклым малиновым свечением. Совсем сопливая. Похоже, любит этого дурня, определенно любит и во всем его слушается. А вот он – как-то вяло. Наверное, скоро бросит её…
Я развернулся и пошел прочь.
– Правильно, правильно, так с ними и надо, – одобрил мои действия благочинный отец семейства, неизвестно, правда, кого имея в виду.
– А сам чего молчал? – огрызнулся я.
Нет, определенно, на улицах делать нечего!
Может, и к Екатерине не ходить? А то увижу в ней что-нибудь такое, от чего вообще выйду из себя, и тогда – пиши пропало! Конец! Замкнется моя злобная сфера, и буду я, как в котле, вариться в собственном гневе, пока опять кого-нибудь не убью. Эх, сейчас бы снова запустить руки в землю и получить от неё, как Антей, живительной силы. Но здесь, в городе – я это хорошо ощущал – земля слишком придушена. Ей самой требуется помощь. Асфальт, вбитые и вкопанные сваи домов, столбы, железные ограждения, решетки, колеса машин, тяжеленные бетонные кольца труб, выложенные в глубоких прорытых тоннелях, словно просыпанная в рану соль. Всего этого слишком много против одной пары понимающих рук.
Нужно в лес, или опять сбежать на кладбище.
Но ноги сами несли к дому Екатерины.
Светящееся табло на здании центрального телеграфа показало время – половина седьмого. Вот теперь уже надо поторопиться. Если она не пошла по магазинам, то вот-вот должна вернуться домой. И я, затаившись где-нибудь во дворе, смогу без помех «рассмотреть» свою бывшую возлюбленную… (Боже мой, слог-то каков!)…
Я стоял на переходе, в двух шагах от дома Екатерины, когда увидел её, выходящую из автобуса.
Она выделялась в толпе каким-то особенным ореолом – ореолом очень знакомого человека. Как всегда, без головного убора, в одном коротеньком осеннем пальто, на которое, по случаю холодной погоды, намотала вязаный шарф… Господи, как же мне были знакомы все эти её ухищрения! Полное неприятие какого-либо меха, (натуральный она не любила из-за жалости к животным, а искусственный – из-за презрения ко всему искусственному), и особая нелюбовь к длиннополой одежде, (только грязь по маршруткам собирать). Этот шарф Екатерина связала сама на толстенных спицах, чтобы было быстрее, а по унылому серому пальто вышила шерстяными нитками какие-то цветочки и веточки. На мой взгляд, все это получилось довольно небрежно – шарф больше походил на рыболовную сеть, а вышивка на пунктирные линии. Но она уверяла, что в этом-то весь шик – «хэнд мэйд – и упорно не желала признаваться в том, что ей просто не хватало усидчивости.
Екатерина перебежала дорогу, опять же, как всегда, не доходя до перехода и не дожидаясь, когда загорится зеленый свет. Боже мой, вечно она спешит! Сколько раз говорил – ходи по правилам. Как ребенок, ей богу! Рада, что осталась без сурового «взрослого» присмотра…
Порыв ветра взметнул её волосы и швырнул их на лицо, но она даже рук из карманов не вынула, только встряхнула головой. «А голову-то мыть пора», – отметил я машинально…
Толпа, наконец, двинулась по переходу. Пошел и я, не сводя глаз с Екатерины, как капитан корабля, плывущего на маяк. Двинулся, перебирая в уме, словно лоцию, миллионы её привычек – как она реагирует на ту или иную ситуацию, что при этом говорит, что делает, как ест мороженное, как уговаривает пойти с ней в кино, а потом убеждает, что фильм мы, все же, посмотрели неплохой, ведь было же в нем и это хорошо, и то неплохо…
Вот она добралась до подъезда. Сейчас начнет чертыхаться, потому что комбинация цифр на двери для одной руки совершенно непригодна. Так и есть! Уже в который раз она пытается вывернуть пальцы самым противоестественным образом, и каждый раз ничего не выходит. Вот отдернула руку, затрясла ей, а потом принялась рассматривать ногти. Все ясно – сломала. Господи, как же она всегда переживала из-за этого…
Наконец, Екатерина сунула сумку подмышку, нажала кодовый номер двумя руками и, через мгновение, дверь с грохотом за ней захлопнулась. Но я все равно продолжал стоять и смотреть. Что мне закрытая дверь? Не так уж и сложно было представить себе, как Екатерина поднимается по лестнице, рассматривая сломанный ноготь, потом роется в сумочке, отыскивая ключи среди чудовищного скопища, как нужных, так и ненужных вещёй, а потом проклинает вечно заедающий замок… Но вот загорелся свет в её окнах.
Наконец-то ты дома, дорогая!
Прости, что так и не подошел. Прости, что вообще пришел «смотреть» на тебя. Но я за это, кажется, и поплатился. Прав, миллион раз прав Довгер – опасно смотреть на близких слишком глубоко. И вовсе не потому, что можно увидеть какие-то неприглядные стороны другого. Пристальный взгляд, как бумеранг, обязательно вернется, и тогда, держись умник, увидишь сам себя, причем, в самом что ни на есть истинном свете!
Со мной именно так и произошло. Как раз в тот момент, когда я мысленно прощался с уютным светом Екатерининых окон, вдруг словно ударило – а ты-то сам, что из себя представляешь? Ты-то сам до сих пор, как смотрел на людей? Только через призму собственного «я». Все их поступки, образ мыслей и даже внешний вид определялись мною по той шкале ценностей, которую я сам для себя вывел, и которую, естественно, считал единственно правильной. Все, что не укладывалось в это Прокрустово ложе, было беспощадно осмеяно, презираемо и ненавидимо. При этом для себя самого, в качестве негативного, внушаемого чувства, я оставил только ненависть. Пожалуйста, ненавидьте меня, сколько хотите! Почему нет? Чувство сильное, достойное, тем более, что возникает оно, разумеется, от зависти. Но презирать, и, уж конечно, осмеивать меня никто не имел права. Не доросли! И вся моя «шкала ценностей» была, по сути, всего лишь мензуркой с уровнями хорошего отношения ко мне – такому правильному и единственно знающему, как надо жить. Меня понимают, и я понимаю в ответ; мною восхищаются… ну, тут ещё можно подумать, но, в принципе, почему бы и не восхититься тоже. Боюсь, и любовь к Екатерине тоже была лишь зеркальным отражением её любви ко мне. Тогда понятно, почему за столько лет хождения сюда, в этот дом, я ни разу не подумал о том, что вечно заедающий замок на её двери можно починить. Ни разу не удосужился признать, что поганый фильм, который мы только что посмотрели, имеет кое-какие достоинства. Зачем? Пусть Екатерина, затащившая меня на сеанс, старается и убеждает, что время и деньги потрачены не зря. А я – человек честный и прямой – поганый фильм называю поганым, и не вижу причин отступать от СВОЕЙ точки зрения…
Господи, да только ли в этом я грешен?!
Шаг за шагом, перебирая в уме отношения с Екатериной, я вдруг увидел себя совершенно по-новому – будто со стороны. Самовлюбленный, упертый болван, неизвестно на каком основании взявший себе право отделять зерна от плевел, нужное от ненужного, и, при этом, считающий свой суд высшим!
А Екатерина? Она-то, каким меня видела? Неужели, её собственный «третий глаз» смог рассмотреть приятные стороны в том, кто, словно вампир, «питался» её любовью, совершенно не задумываясь, чем же «питается» она сама?
Да ей в ножки за это нужно поклониться!
Но нет, как только «питательная» любовь исчахла, Прокрустово ложе моей шкалы ценностей клацнуло и безжалостно срезало разочаровавшуюся Екатерину вон!
И вот теперь, весь такой правильный, я стою под окнами женщины, любившей меня так давно, разлюбившей совсем недавно, и с ужасом ощущаю, как закостенелое сознание, медленно, но верно, поворачивается, самого меня отправляя в ненужное.
Господи! Какая это боль, отдирать себя истинного от того наносного, ложного, который налип сверху! Ложь, (пусть даже во имя спасения), притворство, лицемерие – все это вросло, пустило корни и отдиралось с кровью! Но я изворачивался, выбирался, как змея из старой шкуры, покаянный, смиренный, готовый любить…
И тогда впервые, неясным, размытым призраком, возникла передо мной идея, как можно завершить всю эту историю.
Глава восьмая. Исход. Нужное от ненужного
Ровно через неделю я пришел к Валентине Георгиевне и совершенно спокойно постучал в дверь, почти не ощущая жжения от ядовитой рыжей краски, которой эту дверь покрасили лет сто назад.
– Хорошо, что вы живете в старом доме, – сказал вместо приветствия и шагнул через порог, широко улыбаясь.
– Сашенька! – всплеснула руками Паневина. – Да вас не узнать! Улыбаетесь, взор ясный, даже румянец на щеках появился. С вами что-то произошло, да?
– Нет. Просто я, по вашему совету, перебрал всю свою жизнь. Знаете, как стакан пшена – черное в одну сторону, белое в другую. Не скажу, чего получилось больше – стыдно. Но в целом, вышло, вроде, неплохо.
Валентина Георгиевна с сочувствием посмотрела на меня.
– Бедненький. Тяжело вам пришлось?
Я вздохнул.
– Да как сказать. Когда все позади, кажется, что не так уж и страшно было.
Паневина понимающе прикрыла глаза, а я, вспомнив прошедшую неделю, подумал: «Страшно было, дорогая Валентина Георгиевна, очень страшно. И теперь я так спокоен и весел вовсе не потому, что все уже позади, а потому, что принято, наконец, решение…»
– А я вас искала в эти дни, – сказала Паневина, отвлекая меня от мыслей. – Соломон Ильич вам посылку прислал. Передал с одним человеком прямо из Москвы. Пишет, хорошо, что там теперь все можно достать… Подождите, я сейчас принесу.
Она вышла в соседнюю комнату и, почти тотчас, вернулась, неся в руках аккуратный деревянный ящичек с крышкой.
– Здесь все натуральное, – гордо сообщила Паневина, поглаживая крышку. – Сема очень хотел, чтобы вы, как и дядя, вели записи, и обо все позаботился. Смотрите, какая прелесть!
Она бережно подняла крышку, приглашая меня полюбоваться содержимым. И, право слово, было чем! Кроме увесистой пачки настоящей рисовой бумаги, в ящике лежал деревянный резной держатель для перьев, коробка с самими перьями и набор фарфоровых чернильниц.
– Какие они чудесные, правда? – ворковала Паневина. – Вы, Саша, когда используете хоть одну, не выбрасывайте её, ладно. Я бы с удовольствием забрала…
– Я вам все потом отдам.
Забота Довгера растрогала. Вещи явно были очень и очень дорогие. Не удивлюсь, если старинные, хотя…
Я потрогал ящик и коснулся всего, что в нем лежало.
Нет, вещи новые. В них ещё сохранился испуг исходных материалов перед обработкой, но испуг не сильный – все-таки тут была ручная работа. Довгер действительно позаботился обо всем.
– Передайте Соломону Ильичу огромное спасибо, – сказал я. – Тронут. Очень тронут. Тем более, что его желание полностью совпало с моим.
– Так вы и сами собирались писать? – обрадовалась Паневина.
– Собрался, да. И вы, уж пожалуйста, не откажите в любезности, сохраните потом мои записи для него, ладно?
Лицо Валентины Георгиевны испуганно вытянулось.
– А вы сами, что же? – пробормотала она.
И вдруг, словно догадалась, всплеснула руками.
– Саша, что вы задумали?! О, Господи! Я же сразу поняла, что-то у вас случилось! Но, умоляю, не спешите! Не делайте ничего такого, что потом нельзя было бы поправить. Дождитесь Соломона Ильича, он поможет, если что-то не так!
Она замолчала, увидев широкую улыбку на моем лице.
– Валентина Георгиевна, я ничего ТАКОГО не задумал. Но, вы же понимаете, положение, в котором я оказался, не позволяет далеко загадывать.
– У вас участились приступы, да?
– Нет. Они не сильней, чем прежде, но все ведь может измениться, не так ли?
– Да. Наверное…
Мы посмотрели друг на друга.
Конечно же, она все поняла. Но, слава Богу, ничего не стала уточнять. Просто проводила до дверей и сказала на прощание:
– Как жаль, что я не могу обнять вас.
А потом поспешно закрыла дверь.
Спасибо, дорогая Валентина Георгиевна, за эти слезы, пролитые по мне. И очень хорошо, что я не стал вам ничего рассказывать. О чем говорить? О том, как во дворе Екатерининого дома неясный призрак подсказал мне выход? О том, как я смертельно испугался того, что выход этот единственный и попытался найти иной? Как ходил по улицам, смотрел на людей и учился их любить? Но из этого все равно ничего не вышло. Единственное, чего я достиг – это умения обращать ненависть на самого себя. Стоило увидеть человека, который чем-то раздражал или отталкивал, как тут же говорил себе: «А ты-то чем лучше?», и злость отступала. Но добрее от этого я не стал. Тем же вечером, когда стоял под окнами Екатерины, уже возвращаясь домой, снова впал в бешенство, увидев трех сопляков, матерившихся через каждое слово. Прошел мимо, а потом взбесился ещё больше, но теперь на самого себя, хотя, что я, в сущности, мог сделать? Читать им мораль? Воспитывать? Все это было глупо, пошло, и, самое главное, неэффективно. По моему нынешнему разумению, заткнуть эти матерящиеся глотки можно было только одним – убить. Но этого-то делать было, как раз, нельзя…
А что можно?!
Можно смотреть на милых забавных малышей и умиляться? Но куда деть мысли, которые возникают при взгляде на их родителей? Кого скопирует, став взрослой, эта прелестная девчушка в невесомых кудряшках? Свою мамашу – совсем ещё молодую, но уже ставшую теткой из-за неопрятности, вываленного живота и вульгарных манер…
Можно радоваться, глядя на влюбленных, которые легко распознавались в толпе по совершенно одинаковому сиянию. Но рядом, в той же толпе, серыми пятнами расплывались одинокие, никого уже толком не любящие лица, и скучные супружеские пары, где и он, и она смертельно устали друг от друга.
Господи, восклицал я тогда, неужели ничего доброго и хорошего мне больше не увидеть?! Но так нельзя! Я должен пытаться! Должен бороться сам с собой. Ведь было же, было то немыслимое, напоминающее счастье, переживание, которое случилось со мной, на кладбище, когда руки погрузились в землю! Может быть, попытаться ещё раз? Что если несколько дней, проведенных там, где нет людей, очистят меня, и вернусь я совсем другим?
И я пошел через весь город, рассчитывая когда-нибудь дойти до какого-нибудь поля или леса. Шел, осматривая пустеющие к ночи улицы, и тоскливо думал о том, что не могу до конца порадоваться собственной свободе. Раньше, когда мы с Екатериной возвращались из поздних гостей или просто ходили погулять, мне нравились и эти пустые улочки, и таинственные ночные тени на них. Особенно летом, когда, после жаркого дня, спускалась приятная прохлада, или снежной, морозной зимой, под тихо падающим снегом. «Очень романтично», – думали мы тогда. Но, может быть, дело было вовсе не в романтике, а в том, что людская суета в такие минуты замирала, и в тайных, непознанных ещё уголках сознания, возникало НЕЧТО?
И этим НЕЧТО вполне могла быть та диковатая музыка, которая, теперь уже постоянно, звучала у меня в голове.
Она звучит и сейчас, когда я пишу все это, только теперь нет больше тайны. Хотите верьте, хотите нет, но слышу я голос нашей планеты. Ту самую музыку, по которой её узнают во Вселенной существа, не растратившие свой мозг на научно-технический прогресс.
Мы так гордились своими полетами в космос, но где теперь эта гордость? Да, конечно, тяжеловесные, дорогостоящие аппараты могут взлететь и улететь очень далеко, но дальше-то, что? Так ли уж много нового узнали мы о своих соседях по Галактике после этих полетов? Или, может, просто заново изобретаем велосипед?
Как-то, в нормальной жизни, я читал о диком племени, чудом избежавшем цивилизации и сохранившем в своих преданиях, в форме сказки, точнейшие астрологические знания о таинственной планете Сириус и его спутниках! А каменные календари майя! Дольмены Европы, испещренные таинственными числами, подчиняющимися законам Галактики! Пирамиды Египта, наконец! Когда-то целые народы могли слышать голос планеты, в этом я нисколько не сомневался. Потому что, слушая музычку из плеера, сфинкса, приветствующего созвездие Льва, не забабахаешь. И тонкий луч, от только что взошедшей звезды, в узкую каменную щель гигантского строения не поймаешь, запусти, хоть тысячу ракет! Тут надобен всего лишь мозг. Полноценный, включенный не на одну десятую часть, а на полную катушку!
И в том лесу, куда я добрался, ближе к рассвету, под высокими, порыжевшими соснами, я СВОЙ мозг подключил!
Скажите, видели ли вы Луну не привычным плоским блинчиком, а именно планетой, висящей над нами? Чудным галактическим подарком, которым нужно и должно любоваться, удивляясь такому близкому и доброму соседству? Ощущали звездное небо не куполом со сверкающими точками, а бездонной, безграничной Вселенной, в которой разнообразные таинственные шарики-планеты живут, перемигиваются, посылают друг другу сигналы? Не казалось ли вам тогда, что все мы, как несчастные сироты, стоим под окнами прекрасного дворца и только смотрим на плавно танцующие тени за окнами?
Если да, то вы должны помнить, каких усилий требует это «видение», как легко оно ускользает, и нужно снова и снова напрягать воображение, чтобы вернуть, ухватить, задохнуться от восхищения перед приоткрывшейся тайной!
А теперь представьте, ЧТО было со мной, когда, глядя на бледный серп Луны и посеревшее, предрассветное небо, я вдруг ощутил, что напрягаться не надо, все ощущения приходят сами, легко и просто. И, одновременно с этим, то ли сам мой взор, то ли бестелесный какой-то дух, смотрящий моими глазами, пронесся сквозь стволы деревьев к линии горизонта, «завернулся» за неё и полетел дальше и дальше, сворачивая в теплый голубоватый шар землю, на которой я сидел!
Как же любил я в тот момент все, что меня окружало!
Любил и безумно страдал, потому что любовь эта была совершенно незаслуженным подарком. Внутри гигантского чувства злоба не растворилась без следа, а лишь свернулась мерзкими черными сгустками, облепившими меня со всех сторон. Они словно искали защиты, и я, запустив руки в землю, безжалостно пытался их отодрать, испытывая при этом такую боль, как будто сдирал собственную кожу. Казалось, что здесь, среди нахлынувших хрустально чистых впечатлений, это обязательно получится – черное отделится от белого, злое от доброго, что-то одно непременно победит, и тогда все со мной решится…
Наивный!
В свой первый день отшельничества я ещё мог на это надеяться. Идеальная выровненная сфера, в которой, по идее, не должно было остаться никаких потребностей и желаний, вся вибрировала и переливалась различными оттенками чувств. Все стихии пришли в волнение, и я, то полыхал, словно огонь, от любви к самому себе, но не к человеку, а к части Природы, которая все в ней принимает и разделяет. То растекался хладнокровием, потому что понимал – стань я опять нормальным человеком, и снова захочется сесть в машину, чтобы доехать куда-нибудь, воспользоваться продукцией какого-нибудь смердящего завода или зловонной фабрики. А то каменел от ненависти к самому себе за те же заводы, машины, железные дороги и бетонные города. За то, что спрос на все это рождает ещё большее предложение. За то, что я – человек, а все мы, человеки, никакая не часть Природы, потому что нельзя так методично травить, резать, жечь, истреблять самоё себя…
Ото всех этих мыслей я вскакивал и несся, сломя голову, сквозь деревья, «быстрее гончих, легче тени…»
Стоп! Где-то я читал эти слова, и почему-то они кажутся мне очень важны. Кажется, именно их пытался как-то вспомнить… Стены египетских захоронений… Величайшая тайна Ухода.
Нет! Не хочу вспоминать! Я не готов уйти, я ещё надеюсь. Человек, как система, устроен гораздо сложнее, чем можно себе представить, но я разберусь! Я раскопаю замысловатую границу между белым и черным, разрою, словно землю, все оттенки между ними…
Увы… К концу третьего дня своего отшельничества весь тысячелетний путь борьбы со злом был исчерпан, и я понял – оно от меня неотделимо. Совершенное убийство всегда будет стоять между мной и нормальной жизнью. И неважно, преднамеренным оно было или случайным. Никогда мне не выдавить из себя ни подонка, ни труса, ни убийцу, потому что эликсир определил во мне все это, проявил, высветил, и теперь, словно издевается – вот он ты, и другим тебе не быть! Ты, конечно же, умрешь – не важно от чего – важно то, что злоба в тебе, до самого момента ухода, будет копиться и копиться, отправляя излишки в мировую пневму. Ну, а после того, как ты уйдешь, все накопленное «богатство», хлынет туда в полном объеме…
А может быть, это не эликсир издевается надо мной, а тот самый призрак, который подсказал такой страшный, но теперь уже кажется единственный путь? Истребить подобное подобным – да, это может сработать…
Я должен убить себя.
Должен и уже хочу это сделать, потому что пришел сюда, поднял глаза в небо и познал такое, после чего никогда не осмелюсь запачкать своей грязной злобой, и без того несчастную, ауру этой планеты. Как там было в Библии? Кесарю кесарево? Что ж, тогда, убийце – самоубийство. Все честно!
Но тут, как ушатом холодной воды, окатило вопросом: а как?!
Отравиться, подобно дяде? Но он сделал это, когда эликсир ещё только вершил свою работу. У меня же процесс почти завершен, и любой яд организм, скорей всего, благополучно переварит.
Как же тогда?
Ясно, что посредством одной из стихий, но какой? Воздух мне в самоубийстве вряд ли поможет, смешно даже думать. Земля? Закопаться в неё и задохнуться? Можно, наверное, но это слишком долго и мучительно. Развести костер и в нем сгореть? Тоже страшно. Причем, одинаково пугают, как мучения перед смертью, так и то, что могу вообще не сгореть – говорил же Довгер про святых мучеников, легенды о которых, возможно, не совсем легенды.
Нет, я не должен допустить в свои последние минуты ни отчаяния, ни ужаса, ни сожаления. Нужен самозабвенный восторг, который, на короткий миг перехода, нейтрализует и злобу, и ненависть.
Выходит, остается только вода? Но, обдумывая этот вариант, я не мог понять, чем заход в воду с тяжестью на шее отличается от закапывания в землю? И потом, опять же, вопрос – сумею ли я войти в воду и утонуть? А вдруг правда – «по воде, аки по суху»?
Это требовало проверки!
Ближайших водоемов было два – крошечная деревенская речушка километрах в тридцати от того места, где я находился, и водохранилище в самом городе. До города было ближе, и я вернулся.
Вернулся затемно, опять же, перед самым рассветом, спустился по бетонным ступеням набережной к воде и попробовал в неё войти. Ощущения были схожи с погружением в клейстер, но я все-таки погрузился! Правда тут же выскочил обратно, получив сильнейший ожег – вода была основательно загажена химическими отходами и всяким пластиковым мусором.
Да, пожалуй, здесь я умру мгновенно. Сразу потеряю сознание и подумать ни о чем не успею. Но, вот ведь беда, о каком самозабвенном восторге может тут идти речь?
Я стоял, смотрел на страдающую воду и чувствовал, как медленно гаснут во мне ощущения планет, Галактик и собственная причастность к мирозданию. Им на смену приходило тяжелое городское раздражение, при котором самоубийство обретало тот же смысл, что и счастливый конец… Господи, как же мне убить-то себя?!
До дома было рукой подать, И я побрел туда, размышляя о способе ухода из жизни.
И тут неожиданный сюрприз! Не успел я перешагнуть через порог, как вздрогнул от резкого телефонного звонка.
Лешка!!!
Мне даже не пришлось смотреть на определитель номера, на котором высвечивался код Москвы, я и так знал, что это он! Схватил трубку, от радости даже не чувствуя пластиковых ожогов, и заорал:
– Да! Аллё!!!
– Привет, Санек, – буркнул Леха, давая понять, что про ссору забыть готов, но, если я намерен её продолжать, то он в общем-то…
– Лешка, друг! Молодец, что позвонил! Я тоже хотел, но твой мобильник ни черта не отвечал, а потом мой разрядился… Короче, черт с ними, с мобильниками, как ты там?!
В трубке облегченно выдохнули.
– Ну, слава Богу, говоришь, вроде, нормально. А то я боялся – начнешь опять бредить, как в последний раз…
– Забудь! Я тогда… Ну, в общем, все уже закончено.
Но Леха не спешил радоваться. Когда он заговорил снова, в голосе ещё чувствовалось некоторое напряжение.
– Ну.., а вообще, самочувствие какое? Не хандришь? Я тут… Короче, долгие политесы разводить не могу – денег мало – скажу, как есть. Ты, старик, только не обижайся, но я сначала Катьке позвонил. А она.., ну, сам, наверное, понимаешь.., сказала она мне, что у вас все кончено. Плакала, между прочим… Но я и ей тогда, и тебе сейчас скажу – может, так и лучше. Уж очень долго вы ни то, ни се. Закисли. Поживете немного врозь, одумаетесь и снова сойдетесь. А ты, пока суть да дело, чтобы умом совсем не тронуться, давай-ка, дуй ко мне в Москву!
– Зачем это?
– Санек, не поверишь! Я тут с одним мужиком классным завязался, он себе команду набирает для нового журнала. Перспективы – страсть! Говорит очень нужны ребята пишущие и умные. Книгой моей заинтересовался.., хотя, ты об этом ещё не знаешь… Но неважно! Старик, ты представляешь, он твои чеченские публикации очень даже помнит! Говорит, «талантливо парень писал…» Короче, я тут мосты навел, и теперь дело за тобой. Бросай ты эту свою сериальную писанину! Здесь интереснейшие дела намечаются! Рискни, не бойся! Может, сейчас тебе и хреново, но жизнь-то по-всякому может повернуться.
– Это да.
– Ну! А я тебе о чем?! Вдруг сейчас тот самый момент, когда надо решиться? Что тебе терять? Ты же всегда любил новые ощущения. Помнишь, как в школе, с моста, а?..
Дальше я не слушал.
Повесил трубку.
Прости меня, Леха! Прости, пойми и не поминай лихом! Что бы ты ни делал для меня в Москве, все это ничто по сравнению с тем, что ты сделал только что!
Конечно же, с моста! Конечно же, в полете! Когда в голове ничего, кроме восторга от этих новых ощущений!
Ах, как здорово ты все разрешил, дорогой мой друг!
А потом.., я даже не успею ничего почувствовать Уйду, как положено – пролетев сквозь воздух, сгорев в воде и, в конце концов, опущусь на дно, на землю, где и останусь обновленным и чистым!
И тут слова, так долго не вспоминаемые, сами пришли мне на ум, как знак того, что решение принято правильное. Нужно немедленно их записать и помнить, помнить, до самого конца! И ещё нужно записать все, что случилось со мной. Я должен объяснить им всем, особенно Лешке и Екатерине, почему поступаю именно так. Пусть не думают, что это трусость, блажь или минутный порыв…
И, вот ведь что интересно, стоит ступить на верный путь, как все начинает складываться одно к одному. Я не знал, каким образом смогу записать задуманное, пошел к Паневиной посоветоваться, а оказалось, что там меня уже ждет все, что необходимо!
Значит, я прав. Значит, колесо моей Судьбы повернулось, и я снова иду к свету, откуда, к счастью, уже не смогу никуда свернуть.
Вот, пожалуй, и все. Точка. Дурная жизнь закончена.
P. S.
Водитель старой синей «Мазды» въехал на мост и сразу увидел нечто странное.
Прилично одетый мужчина стоял по ту сторону парапета, не держась за него руками, и смотрел на воду.
«Самоубийца, что ли?», – подумал водитель.
Чертыхнувшись, он затормозил, высунулся из машины и окликнул странного субъекта через крышу:
– Эй, мужик, ты чего там делаешь?
Мужчина ничего не ответил и даже не повернулся.
Сзади затормозила ещё одна машина, за ней другая. Понеслись недоуменные возгласы:
– Что такое? Почему стоим?
– Господи, он же свалится!
– Эй, придурок, лезь назад!
Водитель «мазды» решился подойти поближе.
– Мужчина, – сказал он, как можно дружелюбнее, – давайте без нервов. Сейчас вы перелезете обратно, и я довезу вас, куда скажете. Лады? А то вон народ нервничает, проехать не могут…
Мужчина повернул голову и улыбнулся.
– Я вас не задержу, – сказал он спокойно.
А потом раскинул руки и прыгнул вниз.
Какое-то время всем стоящим на мосту и ещё не осознавшим до конца, что произошло, казалось, будто мужчина не упадет, а так и будет лететь над водой – слишком уж красиво и как-то медленно он падал. Но потом раздался всплеск, а за ним истеричный визг женщины из последней машины.
И все очнулись.
– Идиот! – заорал водитель «мазды», бросаясь к парапету в ужасе от того, что, возможно, именно его слова спровоцировали этот прыжок.
– Милицию надо! – нервно крикнул полный мужчина из серой «волги».
– Так достань мобилу и звони! – ещё более нервно заорал какой-то другой водитель, который уже тыкал дрожащими пальцами в свой мобильный, но, видимо, ничего не выходило.
Женщина из последней машины рыдала, периодически вскрикивая:
– Сделайте же что-нибудь!
Водитель «мазды» перегнулся и посмотрел на темную воду.
– Что ж тут сделаешь? – пробормотал он. – Не упал ведь, сам прыгнул…
В голове его никак не укладывалось – вот, только что, стоял, говорил, а теперь.., минут пять прошло.., наверняка умер уже. Вода ледяная, да и вообще… Неужели он действительно хотел умереть так ужасно?! Зачем? Кому и что хотел доказать? Ведь все равно, ничего кроме «ну и дурак» от людей не дождется. А жизнь-то ведь по-всякому могла повернуться…
Да, жаль…
Водителю стало ужасно тоскливо. Он не мог сделать ни шага, потому что не переставал думать о мертвом человеке там, далеко внизу, под ногами.
Наконец, кому-то удалось вызвать милицию и, зачем-то, спасателей, и все начали разбредаться по машинам. Гражданский долг был выполнен, а больше они ничего сделать не могли. Нетерпеливые гудки их машин требовательно начали призывать водителя «мазды» освободить дорогу.
«А, правда, чего я стою? – подумал тот. – Я ведь его и не знал совсем».
Он шагнул к машине и тут заметил под ногами скомканный листок бумаги…
…Только съехав с моста, когда идущие сзади машины умчались далеко вперед, водитель «мазды» снова остановился и развернул свою находку. На странном, шероховатом листе кто-то вывел, будто старинным пером:
«Я силен, я пробудился, мое тело не рассыплется в прах в этой вечной земле…
Я бегу быстрее гончих, легче тени, мне нет свидетелей…
Я лечу, взлетаю выше ястреба. Боги услышали моё имя».
Конец
14.07.2007









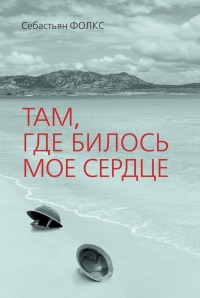
Комментарии к книге «Собственник», Марина Владимировна Алиева
Всего 0 комментариев