Жан-Луи Кюртис Парадный этаж
Предисловие
Жан-Луи Кюртиса (род. в 1917 г.) часто называют «романистом-свидетелем», потому что каждое его произведение (у него уже вышло в свет 10 романов и 4 сборника новелл) дает точное представление о времени, о социальной среде, о проблемах, волнующих его современников. По книгам Кюртиса можно проследить эволюцию французского общества последнего тридцатилетия. Но Кюртис — не бесстрастный хроникер, а человек, глубоко взволнованный гибелью идейных и духовных ценностей, остро чувствующий несправедливость, фальшь и ложь, царящие в буржуазном обществе. Свой яркий талант сатирика, великолепного стилиста и умного аналитика он отдает «бескомпромиссному отстаиванию нравственных гуманистических ценностей» — как сказано в решении Французской Академии в связи с присуждением в 1972 году Кюртису «Гран При» за все творчество в целом.
Советские читатели уже знакомы с романами Кюртиса «Молодожены» (1967)[1] и «Мыслящий тростник» (1971)[2], в которых вскрывались полная несовместимость «общества потребления» с человеческими чувствами, идейный кризис и духовная опустошенность буржуазии.
В сборнике повестей «Парадный этаж» (1976) писатель углубляет свое критическое исследование современного буржуазного общества. Избирая местом действия последовательно Италию, Францию и ФРГ, Кюртис как бы подчеркивает общеевропейский характер прослеженных им явлений, знаменующих собой своеобразный «закат западной цивилизации». Эта идея цементирует в единое целое все три представленные в сборнике повести, столь непохожие друг на друга по манере изложения и по сюжету.
«Парадный этаж» Западной Европы, ее витринная, показная сторона, не в состоянии скрыть духовной и нравственной пустоты. Наиболее отчетливо эта мысль проступает в первой повести, давшей название сборнику. Казалось бы, что может быть утонченнее и прекраснее: Венеция, каналы, гондолы, старинный дворец, графская семья. Но от каналов тянет гнилью, застоявшейся водой, гондола — лишь грязная, пыльная лодка, великолепный дворец — обветшавшее старое здание, давно нуждающееся в ремонте, а отделка его парадных покоев — «оптическое и живописное трюкачество, дерево под мрамор, плоские поверхности, создающие впечатление глубины». Такое же впечатление ложной значительности и фальшивой глубины производят и обитатели этого дворца: графиня Лавиния (в прошлом маленькая английская актриса), ее сын Нино и старый приятель Лавинии, приживал Перси. Это люди никчемные, ни на что не годные, лишенные сердца, души, подлинной культуры, паразиты на теле общества. Им важно одно — удержаться любой ценой на «парадном этаже», жить за чужой счет. Потому и гоняется за богатыми невестами циничный и равнодушный красавчик Нино.
Писатель дает развернутую характеристику каждого персонажа, подробно еще до начала действий рассказывая о них читателю. Такой прием отличается от распространенного теперь в современной западной литературе введения действующих лиц без предварительного знакомства с ними, без всяких объяснений. Кюртис здесь подчеркнуто традиционен, он рассматривает произведение как место столкновения характеров. Повесть, воссоздающая атмосферу старинного дворца, сама чуть стилизована под старину. Но это еще резче подчеркивает ее жгуче современное содержание.
Чтобы предельно обнажить внутреннюю сущность обитателей дворца, автор использует прием контраста, сталкивая их с наследницей техасских миллионеров мисс Сарджент, девушкой с обостренным нравственным чувством, вознамерившейся отдать свое состояние голодающему населению развивающихся стран. Она — полная противоположность Нино и его матери. Трудно представить себе более неподходящую для нее пару, чем Нино, этот ничем не брезгующий алчный охотник за приданым. Это соприкосновение с человеком чистым и бескорыстным служит своеобразной «подсветкой», помогающей писателю создать беспощадный сатирический портрет обитателей «парадного этажа» с их безнравственностью, бесчеловечностью. Но образ мисс Сарджент играет не только служебно-вспомогательную роль. Он интересен и сам по себе. Ее моральная неуспокоенность, стремление помочь людям выглядят анормальными в среде, где нормой стала наглая, беззастенчивая погоня за наживой. Писатель раскрывает ее полную беспомощность, незнание жизни, неуменье найти способ принести пользу людям, показывая на этом примере, что даже благородный, честный порыв обретает в современном буржуазном обществе жалкие и уродливые формы.
Встреча в салоне венецианского дворца — это столкновение двух противоположных жизненных позиций. С одной стороны, бездуховность, аморальность утратившей свои идеалы старой Европы, с другой — неприкаянность, трагическое одиночество и метания молодого поколения, не умеющего найти верный путь к добру, к счастью для всех.
Развенчание «парадной», показной стороны буржуазной жизни проходит через весь сборник Кюртиса и каждый раз воплощается по-новому. Во второй, самой крупной в книге повести «Метаморфоза» читатель переносится с берегов венецианских каналов во французский провинциальный город начала 70-х годов. Предметом сатиры становятся клише поведения, речевые штампы, внешняя, «витринная» сторона образа жизни и мысли так называемых либеральных буржуа. Желая нагляднее, полнее раскрыть фальшь и пустоту этих людей, писатель прибегает к испытанному традиционному приему отстранения, показывая, все происходящее как бы со стороны, увиденное глазами «свежего человека», своего рода «простака» — наподобие излюбленного героя французской литературы XVIII века (Монтескье, Вольтер). Роль такого «простака» выполняет в повести ее главный персонаж Бернар Сарлье, который десять лет прожил в своем имении в Аргентине. При возвращении во Францию ему сразу бросаются в глаза перемены, происшедшие как в облике родного города, так и во взглядах и в речах его близких. Анализ этой метаморфозы составляет содержание повести. Что же так поразило Бернара Сарлье? Даже не самый факт, что произошли определенные изменения (это вполне естественно), но характер этих перемен. Его жена Сесиль из чопорной буржуазной дамы, не скрывавшей своих консервативных убеждений, превратилась вдруг в поборницу сексуальной свободы, в противницу существующего порядка. Их дочь Франсина из снобистски настроенной барышни, занятой погоней за мужем-аристократом, стала вдруг яростной сторонницей и глашатаем радикальных, даже крайне левых взглядов, и теперь подвизается на радио в качестве модного комментатора. А их сын Арно, глуповатый, ограниченный юноша, некогда увлекавшийся профашистскими идеями и даже державший дома портрет Гитлера, «опростился», стал неким духовным вождем, исповедующим социал-христианский реформизм, призывающим уйти от цивилизации на лоно природы, вернуться к простой жизни. Но все эти «метаморфозы» отнюдь не случайны. Они знаменье времени, смена буржуазной моды, происшедшая после мая 1968 года.
Нужно сказать, что сами по себе события, которые потрясли Францию в мае—июне 1968 года, были своеобразным «выхлопом» социального кризиса, зревшего в недрах общества. По оценке советского историка Ю. Н. Панкова, «социально-политический кризис в мае—июне 1968 года вскрыл всю глубину классовых противоречий, накопившихся за предшествующие 10 лет… наглядно показал наличие у французских трудящихся стремления к глубоким социальным переменам»[3]. Поэтому самым важным фактором этих событий было мощное забастовочное движение, крупнейшая за всю историю Франции забастовка, в которой приняло участие около 10 миллионов человек, — забастовка, поставившая под вопрос господство крупных монополий. Но внешним детонатором этого массового движения трудящихся явились студенческие волнения в Париже. Они оказались на авансцене событий. Лозунги и требования студенческих выступлений и стали рассматриваться в буржуазной печати как проявление «майской революции». В них отразился протест определенного круга интеллигенции против морального распада «общества потребления», против наступления технократии на традиционные либерально-гуманистические идеалы. По определению проф. Н. Молчанова: «Это была пестрая смесь анархизма, обрывков марксизма, демагогии маоизма, утопических умствований Маркузе… в целом в движении задавали тон леваки, гошисты»[4]. Но этот многоцветный идейный «коктейль» оказался довольно безобидным для буржуазного строя. Выраженный в такой форме протест не только не расшатывает существующий порядок, но как бы интегрируется в его защитную систему, абсорбируется буржуазией, берется ею на вооружение. Вот это явление и подметил Кюртис. Он показал в своей повести, что буржуазия 70-х годов сумела использовать лозунги, идеи, терминологию «мая 1968 года» для маскировки своей эгоистичной и корыстной сущности.
Подобно тому как Мольер в пьесе «Смешные жеманницы» вывел провинциалок, подражающих «прециозному» стилю парижских салонов, с тем чтобы острее и злее его высмеять, так и Кюртис сознательно выбирает провинциальную среду, где особенно отчетливо, как бы в чистом виде, без примесей, видны приметы новой моды французского мещанства на радикальные суждения и сексуальную свободу, на стиль «ретро» и на увлечение экологией и антиурбанизмом. Это кажущееся неприятие капиталистического прогресса, вольность в поведении и речи на самом деле органично вписывается в общую атмосферу буржуазного общества с его погоней за удовольствиями, с психозом лихорадочного потребительства.
За десять лет отсутствия героя повести Бернара Сарлье не произошло никаких перемен в верованиях и убеждениях правящего класса, просто был выработан «новый свод правил хорошего тона» 70-х годов. Это только современная личина благонамеренности. Именно «личина», прикрывающая пустоту, бессодержательность, неспособность к самостоятельному, оригинальному мышлению. Кюртис разоблачает, по существу, буржуазный конформизм, который увидел еще Флобер, собравший в знаменитом «Лексиконе прописных истин» наиболее типичные штампы высказываний буржуа. В повести Кюртиса фактически представлен «лексикон» новых прописных истин, которые в ходу у современной буржуазии. В этом новом «лексиконе» словесные клише и идейные штампы почерпнуты из «пестрой смеси», выплеснувшейся в мае—июне 1968 года. Как пишет французский публицист Жан-Марк Сальмон: «Май 1968 года — это лаборатория современных идей, первый взрыв, и поднявшаяся пыль еще продолжают оседать в социальном организме общества»[5]. Повесть Кюртиса свидетельствует о том, что кое-что осело и отложилось в словесных штампах и в принятой манере поведения, характерных для современной разновидности буржуазного конформизма.
Но при малейшей угрозе их собственности словесная мишура мигом слетает с этих либеральничающих буржуа. «Я хочу сохранить то, чем владею, и получить то, что мне причитается», — откровенно заявляет Франсина, разом забыв о своих громогласных «левацких» высказываниях, когда возникает реальная опасность лишиться своих доходов, потерять место на «парадном этаже».
Этим «паяцам» и «лжецам», как называет их герой повести, писатель противопоставляет профсоюзного активиста старого рабочего Эмиля. Именно на его долю выпадает задача раскрыть глаза Бернару на причину поразившей его метаморфозы, указать на связь ее с «маем 1968», напугавшим буржуазию. Эмиль подчеркивает отличие так называемой «майской революции» от рабочего движения и предсказывает, что подлинные перемены в обществе будут делом рук трудящихся, в первую очередь рабочего класса. Сатирический портрет либеральной буржуазии, нарисованный в повести, объективно подтверждает правоту слов старого рабочего. Выход из сложившегося положения герой повести видит в том, чтобы привлечь рабочих к участию в прибылях, как бы поделить с ними доходы, и таким способом помешать революционному взрыву. Это, по существу, реформистский путь. Он не способен изменить классовую и антинародную природу капиталистической системы.
Художественная сила повести в резкой, беспощадной сатире на современных либералов, радикалов, гошистов, которые трескучими фразами, словесной шелухой пытаются прикрыть свою хищническую буржуазную сущность. Повесть местами приближается к публицистическому, аналитическому очерку, однако читается с неизменным интересом благодаря блестящему, глубокому анализу, ярким сатирическим зарисовкам, острым, живым диалогам, тонкой авторской иронии. Невольно вспоминаются остроумные философские повести Вольтера, ощущается крепкая национальная традиция.
В третьей повести сборника, «Сады Запада», развенчивается еще одна парадная, показная сторона буржуазной жизни. На этот раз ее культурный «уголок», в который пытаются забиться немецкий музыкант Иоганнес Клаус и его жена Паула. Герой повести помнит войну, бомбежки, он не верит в прочность мирной жизни, ждет неминуемой катастрофы, и эта тема музыкальным лейтмотивом все время возникает в повести, как бы подготавливая читателя к трагическому финалу.
Название «Сады Запада» имеет и определенный символический смысл. В свое время герой повести Вольтера «Кандид» объявил, что он собирается «возделывать свой сад», уйти в свою маленькую, частную жизнь, укрыться от общественных бурь. В повести Кюртиса Иоганнес Клаус собирает гравюры с изображением садов стран Западной Европы, восхищается садами XVIII века. И его образ жизни не что иное, как попытка найти для себя такой «сад», уйти в созерцание красоты, в звуки прекрасной музыки, в любование старой культурой Европы, отгородиться от современности. Кюртис показывает, что это не только иллюзия и неосуществимая мечта, но красивый самообман. Не так уж безобиден этот эстетизм, уводящий от проблем и бурь современности в камерный мирок буржуазного индивидуализма. Писатель и здесь прибегает к своему излюбленному приему противопоставления, точнее говоря, столкновения с иной жизненной позицией. Как и в первой повести, для такого противопоставления избирается представительница молодого поколения, племянница Иоганнеса — Лисбет. Но в отличие от мисс Сарджент она выбрала иной путь, желая изменить лицо мира, — не благотворительность, а террор, примкнула к анархистски-гошистским террористическим группам, особенно страшным и кровавым в их западногерманском варианте. И это накладывает свой отпечаток на характер самого повествования. Если в «Парадном этаже» слышалась ирония, звучала явная насмешка как по отношению к алчным и циничным обитателям дворца, так и в какой-то степени в адрес беспомощной и жалкой наследницы техасских миллионов, то «Сады Запада» написаны, скорее, в духе классической трагедии, с ее неотвратимой роковой развязкой, с монологами протагонистов, утверждающих свое кредо. Не случайно большую часть повести занимает беседа Иоганнеса с Лисбет, выявляющая различие их жизненных позиций. Иоганнес весь обращен в прошлое. Хотя он не принимает современного общества, но, по сути дела, прекрасно к нему приспособился. Он хочет для себя только покоя и личных удовольствий (причем не одних духовных радостей, но и возможности посещать публичные дома). В то время как его племянница готова пожертвовать собственным комфортом, а если придется, и жизнью в надежде изменить существующий социальный порядок. Но к несчастью, она вступает на трагически неверный путь, который несет ненужную жестокость, кровь, смерть, ничего при этом не меняя в устоях самого общества.
Кюртис показывает, что оба они избрали ложный путь и оба обречены на гибель. Старшее поколение, представленное Иоганнесом, виновно в том, что, замкнувшись в своем эгоизме, в своей пассивности, дает возможность для безнаказанного торжества любого зла. Взрыв в концертном зале воспринимается как своеобразное возмездие, как расплата за нежелание что-либо менять в несправедливо устроенном обществе, за нежелание помочь молодому поколению, которое в своей жажде изменить лицо мира готово пойти на преступления.
Повесть «Сады Запада» — своего рода предупреждение, как бы сигнал об опасности, грозящей современному буржуазному обществу, если не принять каких-то срочных мер социального переустройства и нравственного перевоспитания.
Сборник затрагивает, таким образом, наиболее существенные и серьезные проблемы, стоящие сегодня перед французским обществом и перед всей Западной Европой. Писателю удалось как бы «стереть грим» с лица дряхлеющей буржуазной цивилизации Запада, обнажить ее подлинную, весьма непривлекательную личину, разоблачить ложь показного блеска «парадных этажей». Книга Кюртиса — несомненная удача автора, ценный вклад в развитие современного французского реализма, продолжающего классические традиции.
Ю. Уваров
Парадный этаж
— Дорогой мой, сказала я ему, судя по твоим словам, эта юная американка — вполне приличная особа. И уж коли ты уверяешь меня, что она тебе по душе, ты сам знаешь, как нужно поступить, дабы отвратить нависшую над нами катастрофу.
Лавиния долгим, застывшим взглядом подчеркнула драматический характер своего наказа, и Перси это позабавило, как и всякий раз, когда он обнаруживал у своей старинной приятельницы повадки профессиональной актрисы, ведь именно ею она была тридцать лет назад.
— Браво! — воскликнул он. — Воистину слова матери, сознающей свой долг. И что же он тебе ответил?
— Он ответил: «Мать, я никогда не сомневался в том, что спасение придет к нам с Запада».
Перси расхохотался. Он простер руку к высоким окнам, в стеклах которых отражалась игра лучей заходящего солнца на водной глади канала, и провозгласил:
— Курс на Запад! Право же, твой сын не лишен чувства юмора!
Лавиния сдержанно улыбнулась. Возглас, который некогда издавали на Темзе лодочники, подплывая к Вестминстерскому аббатству, воскрешал также в памяти вожделенную надежду великих мореплавателей XVI века, устремившихся на завоевание Нового Света и его сказочных сокровищ. Перси очень любил такие сравнения, такие намеки; но не следует показывать, что ты прекрасно понимаешь их или что они тебя забавляют. Лавиния была теперь слишком знатной дамой и не могла допустить, чтобы между нею и Перси установилось своего рода сообщничество, существовавшее в дни их юности, когда они оба беспечно бегали по Лондону в поисках десяти фунтов стерлингов, чтобы заплатить за квартиру, и в надежде получить приглашение на обед, чтобы не умереть с голоду. Бедняга Перси и теперь еще бегал в поисках десяти или, вернее, из-за проклятой инфляции, сотни фунтов стерлингов, а вот для Лавинии нужда в деньгах ныне выражалась в миллионах: в этом и заключалась вся разница в их положении.
— Что ж, — сказала она, — это почтенная традиция: уже лет сто, если не больше, старинные европейские семьи вступают в союз с американскими толстосумами.
— Подумать только! Девочка с Запада! Лично я всегда страдал при мысли, что в молодости не нашел такой девочки для себя!
Лавиния хотела заметить ему: мол, для того чтобы жениться на богатой наследнице, ему, помимо всего прочего, нужно было бы принадлежать к знатному роду… Но она сдержалась. Милый старый Перси буквально только что приехал к ней с ежегодным визитом. Она подождет до завтра, а уж тогда понемножку собьет с него спесь и заставит попридержать язык.
— И эта юная красотка из Питтсбурга с минуты на минуту предстанет перед нашими восхищенными взорами? — спросил Перси.
— Нино должен зайти за ней в гостиницу. Сейчас он наверху, в своей спальне, пытается придать себе как можно более обворожительный вид.
— Пытается? Лавиния, ты слишком скромно оцениваешь своего сына. В этом у него не должно быть особых затруднений.
Послышался отдаленный шум лодочного мотора и почти тотчас же — своего рода приглушенный призыв, звучащие с мольбой три слога, первый из которых произносился с ударением: «Гон-до-ла! Гон-до-ла!» Словно предсмертный крик какой-то очень дряхлой птицы.
— Не может быть! Этот старый бедолага еще жив? — вскричал Перси.
— Представь себе, еще жив. Каждый раз, когда я слышу его голос, меня охватывает дрожь. Ведь их осталось не больше сотни, и почти все они без работы. Их корпорация постепенно редеет.
— Лик смерти в этом умирающем городе!
— Во всяком случае, в городе, который все глубже и глубже погружается в ил. Ты ведь знаешь, то, о чем пишут газеты, правда. Иногда по вечерам я слышу всплески воды и хлюпанье ила…
— А может, это древний наш мир день за днем все больше погружается в болото своего разложения, своего загнивания? — высокопарно произнес Перси.
Тем не менее непохоже было, чтобы это предположение слишком удручало его, потому что глаза его искрились весельем и даже лукавством.
Лавиния взяла из шкатулки сигарету, закурила, выпустила струйку дыма. Чувствовалось, что каждый ее жест, каждая поза отработаны, что кропотливой тренировкой они доведены до совершенства. Им недоставало непосредственности, но они были безукоризненны. Лавиния была одета в прямую широкую тунику из темно-синего бархата, которая мягкими складками драпировала ее высокую и стройную фигуру «в стиле Обри Бердслея», как говорил Перси. На женщине заурядной этот вечерний туалет мог бы показаться эксцентричным или уж по крайней мере вычурным. Но он так гармонировал с ее необыкновенно величественным обликом, со строго продуманной осанкой жрицы, с классической чистотой черт ее лица — его не пощадили годы, но благодаря толстому слою косметики оно еще поражало своей красотой. Ее подведенные синим глаза сверкали каким-то кристаллическим блеском. В общем, она производила внушительное впечатление и могла вызвать робость у наивных и позабавить искушенных. Она владела своим прекрасным контральто с мастерством, которое дает сцена, но при этом не впадала в присущую английскому театру патетику.
— Да, так вернемся к Нино, — сказал Перси. — Признаться, я весьма удивлен, что при его успехе, при его репутации сердцееда, при том, что его имя без конца мелькает на страницах газет в светской хронике, — признаться, я удивлен, что он до сих пор не женат. Он знаком со всеми наследницами Италии и Англии. Какого же дьявола он до сих пор не добился успеха и не женился на одной из них?
Лавиния с грустью покачала головой.
— Он не добился успеха потому, что не умеет отказывать, — ответила она.
Ее собеседник, судя по всему, живо заинтересовался этим объяснением, хотя уже не раз слышал его во время прежних наездов к своей приятельнице. Они частенько беседовали о возможной женитьбе Нино, взвешивали шансы; но, верно, тема была неисчерпаема и для них всегда волнительна; во всяком случае, если даже привычка несколько притупила интерес Перси, это не так уж явно бросалось в глаза: его очень подвижное и, пожалуй, даже чересчур выразительное лицо, пламенный взгляд, его пылкое красноречие — все, казалось, говорило о деятельной натуре, неизменном внимании, интересе к судьбам других людей, правда, людей лишь совершенно исключительных, делало его желанным наперсником.
— Какая необыкновенная формулировка! — воскликнул он. — Такая лаконичная, такая емкая! Правда, несколько загадочная… Он не умеет отказывать… кому, прежде всего?
Лавиния выдержала короткую паузу и почти гробовым голосом произнесла:
— Самому себе.
Все нюансы самого нетерпеливого удивления поочередно отразились на лице Перси.
— Ты хочешь сказать… Он имел бы… Ты хочешь сказать, что он слишком…
— Я хочу сказать, что он абсолютно не способен держать себя в узде. Когда какая-нибудь девушка дает ему понять, что он в ее вкусе, у него в голове лишь одна мысль. Ты догадываешься какая.
Перси знал свою роль назубок.
— Но по-моему, Лавиния, нет ничего более естественного и здорового…
— Разумеется. Нино существо, безусловно, очень здоровое, и это меня радует. К несчастью, блестящее здоровье имеет свою оборотную сторону. Если бы Нино хоть раз сумел устоять перед теми авансами, которые ему делают, он уже был бы женат. А он всегда уступает. И тогда эти проклятые нынешние девки берут его себе в любовники, у всех на глазах демонстративно проводят с ним недели три, потом бросают вот так — клик! — И, подняв правую руку, она, словно испанская танцовщица, щелкнула большим и средним пальцами. — Я твердила ему сто раз: «Нино, не отдавайся до брачной ночи».
— Господи! Как смешно! Право же, можно подумать, что это в викторианскую эпоху мать дает советы своей дочери!
— Так оно и есть, дорогой. Все эти современные свободные молодые женщины — охотницы. А Нино — высокосортная дичь. Но кто же выйдет замуж, скажем, за фазана?
— И тем не менее его всё же любили. Вспомни, два года назад юная принчипесса…
— Да, то был сказочный случай. Она очень привязалась к нему. Если бы он сумел проявить себя немного более неприступным, она наверняка вышла бы за него замуж. Но бедный Нино — и неприступен?.. Месяц или два они нежно любили друг друга в Сен-Морице, а потом малютка весьма благоразумно вернулась к своей семье, оставив Нино на попечение какой-то немецкой баронессы. Я знаю все. Эти создания циничны до крайности. Когда любовники им надоедают, они передают их другим.
Перси уже был наслышан об оказии с принчипессой и про себя думал, что, право, Лавиния начинает повторяться, но ведь таковы были почти все богатые бездельники, которые поверяли ему свои тайны: из года в год неустанно повторяли они одни и те же истории. Что ж, приходилось смиряться…
— Ты рисуешь предо мною просто ужасающую картину современного общества…
— Можно подумать, что ты знаешь его хуже, чем я. Не прикидывайся, будто ты явился из прошлого века, Перси.
(О, вот это уже нечто новенькое!..)
— И все же рост всеобщей распущенности… — начал было он.
— Послушай-ка, прибереги эту жвачку для своих старых дам.
— Для каких старых дам, ради Христа?
— Для богатых девяностолетних вдов, с которыми, ты обожаешь пить чай.
— Ты не поверишь, Лавиния: среди них есть несколько весьма бойких дамочек.
— Охотно верю. Но они притворяются добродетельными, не правда ли?
Перси сощурил глаза, словно старый язвительный фавн, и вдруг проговорил нежным голосом:
— Все мы таковы, дорогая! Чем ближе старость, тем больше все мы притворяемся добродетельными!
Почти неуловимое движение ноздрей и губ — только натренированный глаз Перси мог заметить это — было единственным признаком того, что дерзость не ускользнула от Лавинии. Перси не сомневался, что возмездие не заставит себя ждать, но он был закален в схватках: завуалированный обмен колкостями стал привычкой почти такой же старой, как и их дружба; впрочем, это придавало ей своего рода пикантность. Ничто так не оживляет беседу, как изящный словесный турнир.
— Одним словом, — вернулась к прежней теме Лавиния, — еще неделю назад, до этой ниспосланной нам Провидением встречи с мисс Констанцией Сарджент из Питтсбурга, наши дела были крайне плачевны.
— Но где же они познакомились?
— Проще простого: в американском посольстве в Риме.
По словам Нино (но милый мальчик, если верить Лавинии, никогда не мог толком ни разобраться, ни рассказать, что приключилось с ним интересного), так вот, по его словам, мисс Сарджент сразу же выделила его, даже можно сказать выбрала, из присутствовавших молодых людей — а один бог знает, какие все они были красивые, титулованные и богатые; но ей явно чем-то приглянулся Нино. По счастливой случайности, за столом они оказались рядом. Они беседовали, как уверяет Нино, «обо всем», главным образом о политике. Положение в мире тревожило мисс Сарджент. Она была озабочена событиями на Кипре. Мысль об Израиле доставляла ей страдание. Ее сердце обливалось кровью, когда она думала о палестинцах. Что же касается Китая…
Тут Перси прервал свою приятельницу:
— Послушай, что за странный разговор между молодыми людьми, которые встретились на званом обеде!.. В наше время мы болтали обо всем, кроме политики, конечно. Мы с упоением сплетничали, словно прислуга на заднем дворе, об интимной жизни наших друзей, обо всем на свете, и как нам было весело!..
— Да, в наше время. Но мы были сама фривольность, мы — наследники ревущих двадцатых годов… Как все изменилось! Отбушевала война. И сегодня у молодежи излюбленный предмет разговора — политика. Ничто не интересует их так, как История.
— Полно, Лавиния, не пытайся убедить меня, что Нино…
— И тем не менее, каким бы невероятным это ни казалось, все так и было… Во всяком случае, он сумел поддержать разговор с мисс Сарджент.
— А ты не боишься, что эта самая мисс Сарджент — одна из тех ужасных нынешних зануд — ведь университеты поставляют их в изобилии, — у которых на языке лишь одно слово: «освобождение»?
— Мне кажется, Нино так не думает.
— Но в ней хотя бы есть шик? Сомнительно, чтобы он был у девицы, которая терзается из-за социальных бедствий.
— Шик? Нино сказал, что она выглядит даже чуточку старомодной. Представляешь себе!.. О лучшем мы и мечтать не смели!
— Красива?
— Об этом Нино не распространялся. Сказал только, что она не лишена обаяния… Верно, его пленили достоинства ее ума и сердца…
Тут Перси посмотрел на свою приятельницу с немного растерянным, даже озадаченным видом, словно он сомневался, хорошо ли расслышал последнюю фразу, или же хотел убедиться, что Лавиния произнесла ее с юмором… Но нет, отнюдь: Лавиния казалась абсолютно серьезной, абсолютно искренней. И произнесла она эти слова не как Лавиния, а, скорее, как графиня Казелли… На лице Перси, словно в открытой книге, одно за другим можно было прочесть: «Ну, здесь ты, пожалуй, хватила через край! Уж не забыла ли ты, что разговариваешь-то со, мной?», «Уж не спятила ли ты часом? Неужели ты и впрямь веришь в то, что сказала сейчас?», «И наконец, если ты сочла уместным говорить со мной нарочито светским тоном, я тоже возьму такой же, ибо у меня нет иного выбора, в этом доме я всего лишь гость…» Вот что выражали взгляды, мимика Перси. Но то, что он проговорил вслух, было вполне благоразумно, хотя и окрашено легкой иронией:
— Все это к чести твоего сына… Кстати, когда произошла сия поучительная встреча — на прошлой неделе?
— Да. И поскольку мисс Сарджент должна сегодня утром приехать в Венецию, Нино пригласил ее на чашку чая. Она сразу же приняла приглашение.
— Так ты говоришь, что ее семья владеет половиной Питтсбурга?
— По словам Нино, почти половиной. Одно из самых крупных состояний Америки.
— Прекрасно! Кажется, я приехал к тебе весьма своевременно! — воскликнул Перси. — В момент, когда ваша судьба на пороге перемен!
— Не знаю, суждено ли ей измениться, но давно бы пора… — Лавиния потушила в пепельнице сигарету. — Ты знаешь, — вновь обратилась она к Перси, — я уже подумывала, не сдать ли мне… — широким жестом она обвела гостиную, — все это? А самой перебраться наверх, под крышу.
На миг Перси искусно изобразил на своем лице оцепенение. Затем порывисто вскочил, настолько сильно он был взволнован.
— Сдать piano nobile[6]?! — вскричал он. — Пока я жив — ни за что! — Потом проговорил умоляющим тоном: — Ты ведь не сделаешь этого, Лавиния? Мы должны держаться до последнего! Ну, подумай немного сама: во всем этом (широкий жест, еще более широкий, чем жест Лавинии) заключается смысл твоей жизни. Что станется с тобой, отрешенной от этой Красоты?
Казалось, оба с наслаждением разыгрывали эту маленькую сценку. Тридцать лет они изображали накал страстей во всем: накал любви, ненависти, восхищения, презрения, экстаза, веселья. Они не говорили о человеке, что он просто милый, приятный, — они его «обожали». В свете попеременно можно было то «умереть от счастья», то «подохнуть со скуки». О какой-нибудь миниатюре они могли заявить, что она «величественна». (Зато фреска Веронезе в пятьдесят квадратных метров на героический или эпический сюжет была в их глазах просто «забавной».) В этом отношении общество для них являлось естественным продолжением театральных подмостков. Перси и прежде уже не раз слышал, как Лавиния говорила о своих финансовых затруднениях, о том, что в один прекрасный день придется, возможно, сдать парадный этаж дворца и перебраться в маленькие комнатки под крышей. Каждый раз он делал вид, будто это сообщение для него — воистину ошеломляющая новость, и, хотя Лавиния прекрасно знала, что он притворяется, это тем не менее нисколько не мешало им продолжать так же разыгрывать комедию непосредственности и получать от нее огромное удовольствие.
— Сдать piano nobile! — ошеломленно повторил Перси и, медленно поворачивая голову, обвел взглядом стены, словно с грустью говорил им последнее прости. «Красотой», от которой Лавиния будет «отрешена», если она решится сдать парадный этаж, были большая гостиная, где они сейчас сидели, прихожая, через которую в нее попадали, галерея, которая ее продолжала: три жемчужины дворца Казелли, одного из самых очаровательных в городе, хотя был он, пожалуй, самым маленьким и стоял в простонародном квартале на малолюдном берегу канала; но отдаленность от центра и относительно скромные размеры дворца полностью искупала изысканность его внутренней отделки. Стены просторной гостиной были обшиты деревянными панелями, имитирующими мрамор; посередине каждой стены были нарисованы ниши, но так искусно, что создавалось полное ощущение глубины, а в каждой нише — статуя бога или «богини, кажущаяся объемной. Весь потолок был расписан облаками и фигурами олимпийских богов, тоже с эффектом перспективы, обманчивой глубины, иллюзией рельефа; в каждом из четырех углов одна из фигур как бы отделялась от потолка и нависала над пустотой, словно готовая вот-вот ринуться на одно из человеческих существ, находящихся там, внизу. Все это оптическое и живописное трюкачество, дерево под мрамор, плоские поверхности, создающие впечатление глубины, нарисованные фигуры, создающие впечатление скульптуры, ощущение, что одни парят высоко в небесах, а другие плавно опускаются вниз, очаровательные девушки и прекрасные юноши (под взлетающими туниками и прозрачными тканями можно было угадать их вполне земные прелести), играющие в мифологических богов и вдохновенно резвящиеся на оперном Олимпе, все это сладострастное изобилие, должно быть, некогда сияло яркими красками: пунцовыми были губы и щеки, нежно-розовыми — груди и бедра, цвета расплавленного золота — волосы, а кругом — ультрамариновая голубизна, зеленое, малиновое, пурпурное; двухвековой налет пыли смягчил первоначальный жар этой пылающей палитры, теперь все поблекло, словно окуталось пушистой дымкой. Выложенный белыми, уже немного пожелтевшими плитами пол, мраморный стол с розовыми прожилками, комоды, украшенные бронзовыми листьями, ломберный столик, инкрустированный эмалью и слоновой костью, картины, фарфоровые вазы, расписанные пасторальными сценками, — вот что дополняло это убранство в стиле позднего барокко, и пагубное влияние времени уже виделось повсюду: в трещинах на плитах пола, в кракелюрах, которыми были изборождены фрески с олимпийскими богами и картины, в облупленных панелях стен, в потертом шелке и бархате, в тысяче других скрытых или явных примет упадка и нерадения.
— Лишиться всего этого? — повторил Перси. — Тогда, Лавиния, уж лучше все продать и вернуться жить в Лондон.
— Я уже подумывала о том, чтобы продать. Если, разумеется, на эти развалины найдется покупатель… Вернуться жить в Лондон? А почему бы и нет? Или уехать в Нью-Йорк.
— Ты покинула бы старушку Европу? — спросил Перси грустно, и трудно было понять, заговорил ли в нем уязвленный патриотизм старого закоренелого европейца или печаль эстета, которого хотят отторгнуть от этих коллекций, от этих сокровищ, от этого святилища Красоты.
— Помилуй, Нью-Йорк теперь — все равно что дверь в соседнюю комнату. Он уже больше не место ссылки.
— И все же, неужто ты не пожалеешь…
— Пожалею, наверное, пожалею обо всем. Ты ведь прекрасно понимаешь, как нерадостно мне будет покинуть все это. Но ты же сам видишь, дом разрушается. Каждую ночь, я уже говорила тебе, я слышу какие-то зловещие звуки. Ты их тоже услышишь. И ведь год от года становится все хуже. В иные вечера мне кажется, что я вот-вот окажусь погруженной в ил, а надо мною — сорок тонн развалин.
— Не надо преувеличивать, Лавиния. Твой дворец еще переживет нас. Допускаю, его надо бы подремонтировать…
— Подремонтировать? Дорогой мой, да кто в наши дни может позволить себе роскошь ремонтировать дворец? Уж только не я! Ныне это стоит десятки миллионов лир. У меня же нет ничего, Перси. Бедный Галеаццо оставил мне одни лишь долги.
На какое-то мгновенье в комнате возникла тень графа Галеаццо. Перси никогда не мог взять в толк, как этот милейший чудак мог полюбить Лавинию, жениться на ней и, главное, наградить ее таким роскошным ребенком, как Нино. Энтомолог-любитель, Галеаццо до встречи с Лавинией знал только одну страсть: бабочек. Страсть дорогостоящая, ибо она заставляла его носиться по свету в поисках редких экземпляров и подвергаться всякого рода опасностям в джунглях и саваннах, в экваториальных лесах и на реках, кишащих крокодилами и пираньями. Изможденный болотной лихорадкой и амебиазом, он в сорок лет выглядел на все шестьдесят. Галеаццо был прелестным человеком, но рассеянность, безразличие ко всему, что не касалось бабочек, нелепые чудачества и вид лунатика делали его существом загадочным, почти нереальным. Однако он полюбил Лавинию; и вот от такого более чем странного союза между энтомологией и театром, между Наукой и Фривольностью появился на свет божий живой шедевр Нино, достойный украшать собой потолок Сикстинской капеллы или полотно кисти Ле Содомы. Всего скорее, по тайным законам генетики, которые управляют наследственностью, все мужские качества какого-нибудь предка Казелли, моряка или солдата, дождались XX века, чтобы, пройдя через вереницу чиновников, банкиров и бездельников, воплотиться в сыне Галеаццо. Вместо капиталов, которые значительно порастаяли к концу XIX века, а ныне в силу некомпетентности Галеаццо в финансовых вопросах иссякли почти совсем, энтомолог, кроме знаменитой коллекции бабочек, оставил своей вдове еще и этот роскошный экземпляр человеческой породы; с другой стороны, чисто английская и ярко-красная кровь сквайров — пожирателей говядины, от которых происходила Лавиния, тоже пошла на пользу здоровому организму последнего графа Казелли.
В первый раз ту, которой впоследствии суждено было стать его женой, Галеаццо увидел на представлении «Отелло», которое давала бродячая английская труппа в театре «Ла Фениче». Лавиния Стрэнд играла Дездемону. Граф был потрясен трагедией. Он искренне страдал, видя, что эту светловолосую невинную красавицу принесли в жертву похотливому африканцу, да еще ревнивец муж подозревает ее в неверности. Во время сцены убийства Галеаццо чуть не лишился чувств. На следующий день, испытывая неведомое ему дотоле смущение, с трудом понимая, что с ним происходит, он представился актрисе. А двадцать минут спустя, заикаясь, попросил ее руки. Решив, что она имеет дело просто с каким-то чудаком, Лавиния весело ответила согласием. Еще через день она поняла, что чудак последователен в своих затеях и предложение вовсе не было минутной прихотью. Выбор между более чем сомнительной карьерой актрисы и перспективой стать графиней, то есть, по ее понятиям, богатой, был сделан почти столь же молниеносно. После полугода страстной любви и супружеского благоговения Галеаццо вернулся к своим бабочкам. Исключительно ради того, чтобы не уронить своего достоинства, Лавиния позволила себе несколько тайных связей, однако упрочение своего положения в свете и финансовые дела семьи интересовали ее гораздо больше, чем все остальное. Перси был свидетелем этой метаморфозы, свидетелем плененным, подтрунивающим и немного желчным в одно и то же время. Ну, а в жизни самого Перси за эти тридцать пять лет ровно ничего не изменилось, кроме его внешности. Он успокаивал себя мыслью, что «остался верен самому себе», но в минуты прозрения понимал, что это, пожалуй, утешение слабое.
— Словом, ни о каком ремонте и речи быть не может, — сказала Лавиния. — Ведь даже Карли продали свой дворец.
— Ну как можно сравнивать! Дворец Карли в три раза больше твоего.
— Но состояние Карли больше моего в тридцать тысяч раз, и все же им не удалось сохранить дворец, это слишком дорого.
— Если ты продашь piano nobile, я буду безутешен, — проговорил Перси, с потерянным видом качая головой.
Лавиния закусила губу и коротко фыркнула, что могло означать многое: или что она вооружится мужеством и пренебрежет горем своего друга, или же что она прекрасно понимает, как ему трудно будет отказаться от привычки четыре или пять недель в году бесплатно жить во дворце XVIII века, пусть даже грозящем обрушиться.
— Что ты хочешь, — вздохнула она, — не я первая, не я последняя, многие доведены до такой крайности. Впрочем, я думаю, что лет через десять мы все докатимся до этого…
— Мы уже относимся к категории отживших свой век! Ты со своим сеньориальным замком и мизерными доходами, я со своим образом жизни, со своим мировоззрением, со своей любовью к Красоте… Оба мы привилегированные. Иными словами — приговоренные. Наступает наш черед! — Похоже, эта перспектива весьма позабавила его. — Послушай, дорогая! — вскричал он, сверкнув глазами и сморщившись от сдерживаемого смеха. — Постараемся хорошо сыграть свою последнюю роль. Подумай, Лавиния, ведь это будет наш прощальный спектакль! Давай же проведем его с блеском! Я так и вижу тебя в скромном черном платье от Шанель, совсем простом, без всяких украшений или, нет, с каким-нибудь одним-единственным украшением, ну, скажем, с твоей брильянтовой брошью — на черном фоне; а на мне, право, не знаю, разве что мой жемчужно-серый костюм?.. Рискну ли я вдеть в петлицу красную гвоздику? Впрочем, какой же я глупец, ведь красный цвет — цвет революции, еще подумают, будто я хочу разжалобить этих гнусных эмиссаров!.. Лучше орхидея! Блестящая провокация эстета перед лицом хама, отчаянный вызов жертвы своему палачу! — Теперь Перси закатился в одном из тех приступов безумного смеха, которые некогда сделали его своего рода знаменитостью между Шафтсбери-авеню и Челси[7], в среде театральных деятелей и артистов, где он охотно изображал то старую провинциальную актрису, то хозяйку светского салона или модного поэта, а то потешался над самим собой и своим легкомыслием. Его любили за это безудержное веселье, за этот талант подцеплять на крючок чудаков и тщеславцев, принадлежащих к обществу в высшей степени утонченному; и именно те, над кем он открыто насмехался, чуть ли не первыми искали его общества. Так он и выжил: с обеда в городе — на светский раут, после летних уик-эндов в деревне — зимой гостил на какой-нибудь итальянской вилле или в марокканском дворце, праздный, безответственный, вечно нуждающийся, темпераментный и — каким только чудом? — всегда безукоризненно одетый.
— Мы будем являть собою чету мучеников ультракласса, наконец-то ультра! Я надеюсь, найдется и фотограф из «Вога», который тайком пристроится в каком-нибудь окне и снимет наш последний путь!
Лавиния не разделяла веселья своего старого друга. В былые времена они могли часами смеяться вместе в состоянии какой-то нервной и умственной экзальтации, побуждавшей их состязаться в остроумии, и оба они доходили до абсурда, стараясь перещеголять друг друга. Эти времена миновали. Прежде всего, Лавиния слишком хорошо знала повадки Перси, механизм его шуток: чем больше к ним прислушиваешься, тем легкомысленнее они становятся. И если материал для своих острот Перси заимствовал из событий дня, данных обстоятельств, случайных встреч, то техника их всегда оставалась неизменной. «Все это пережитки «эпохи чарльстона», — думала Лавиния; да и сам Перси принадлежал к той же эпохе, к концу 20-х — началу 30-х годов. Войны, революции, социальные потрясения, в корне изменившиеся нравы не смогли изменить Перси, и только время наложило свой отпечаток на его лицо. Вот потому Лавиния, глядя на Перси, испытывала иногда мучительное чувство анахронизма, словно оба они, два состарившихся изгнанника, еще носили одежду, сохранили язык и манеры канувшего в небытие века. Но была и другая причина, по которой Лавиния воздерживалась теперь так же непосредственно, как прежде, разделять эти приступы веселья Перси: она разрывалась между желанием позабавиться и сознанием, что ей подобает сохранять между ними дистанцию, быть сдержанной, подчеркивая тем самым разницу в их положении. Разумеется, она знала: у Перси слишком развита интуиция, чтобы он не учуял этого, но в конце концов, если ему это не по душе, может убираться на все четыре стороны, никто его здесь не держит…
— Смешно сказать, — произнесла она с легкой, едва заметной улыбкой, — но это и в самом деле могло бы случиться. Это или нечто подобное. Когда видишь, что творится вокруг, а здесь в особенности…
— Неужели стало еще хуже, чем в прошлом году? Я не читаю газет, а потому не в курсе дела…
— Ужас что творится!
— Господи!
Несколько минут они молчали, и каждый догадывался, о чем думает другой: очень трудно жить в эпоху таких потрясений, если ты вступил в последнюю треть своего пребывания в этом мире, если ты на пороге старости… Не придется ли менять свой образ жизни?
— Знаешь, в Англии дела тоже неважнецкие, — вернулся к разговору Перси. — И не только из-за инфляции. Из-за всего!.. О! — воскликнул он, словно вдруг вспомнив что-то. — Я тебе еще не рассказал… Представь себе, две недели назад я был на чае вместе с Макбет!.. Я гостил в Шотландии в имении тана Гленмера. Ты даже вообразить себе не можешь, дорогая… Чудом сохранившийся уголок… Как в добрые старые времена — куча прислуги… Фермеры — сама почтительность, как в средние века. Это, пожалуй, единственный дом на Британских островах, где все осталось так, как было сто лет назад. Просто мечта для такого закоренелого реакционера, как я. И конечно же, когда я вернулся в Лондон, я почувствовал себя изгоем.
— Изгоем? Почему? Потому что тебе не прислуживали? Но к этому тебе уже пора бы привыкнуть.
Лавиния не любила, когда Перси рассказывал ей о том, что он гостил у своих друзей, более богатых и знатных, чем она. Отсюда и эта не слишком вежливая отповедь.
— Мне прислуживали слуги других, Лавиния, в этом нет никакой разницы!.. А вот и наш Нино, еще более прекрасный, чем всегда!
Молодой человек, который только что вошел в комнату, бросил: «Привет, Перси!» — потом повернулся к Лавинии:
— Мать, тебе удалось найти scones[8]?
— Я обошла чуть ли не все кондитерские города; нет ничего даже отдаленно напоминающего scone.
— Жаль, scones было бы типично по-английски, и, думаю, Конни оценила бы это.
— Мы предложим ей тосты с апельсиновым джемом, тоже недурно.
— Да, еще одно: Мария согласилась надеть наколку и белый передник?
— Я чуть ли не в ногах у нее валялась, умоляла, и она согласилась, но, естественно, в виде особого одолжения. Боюсь, тебе придется сунуть ей деньги.
— Посмотрим. Как тебе мой галстук, Перси?
— Дорогой мой, он просто божествен! С Джермен-стрит?
— Нет. С Вандомской площади. По-моему, зеленый с бронзовым отливом очень идет к моему светло-коричневому костюму?
— Превосходное сочетание! Должен тебе сказать, Нино, ты всегда одеваешься с изысканным вкусом.
— Да, верно… Я полагаю, мать ввела тебя в курс дела?..
— Ну конечно! Сегодня великий день! Мисс Сарджент не выйдет отсюда без кольца на пальце!
Нино чуть нахмурил брови.
— Без кольца? Без какого кольца?
— Это образ, малыш. Я хочу сказать, что к концу вечера, надеюсь, вы уже будете обручены.
— A-а, ну ладно.
У Нино было рассеянно-скучающее выражение лица, какое часто встречается у людей очень красивых, но мало склонных к активной умственной деятельности. Из саксонской и латинской крови, что текла в его жилах, возобладала последняя, придав ему облик юного римского императора. Перси отметил, что за последний год Нино немного отяжелел. Литые и изящные формы прекрасной статуи начинают оплывать жирком. И в самом деле, сколько же ему лет? Перси быстро прикинул в уме. Так, Лавиния вышла замуж года через два или три после окончания войны. Выходит, ему должно быть лет двадцать семь — двадцать восемь. Предательский возраст, когда юноша становится зрелым мужчиной. Очарование молодости постепенно стушевывается, чтобы исчезнуть навсегда. Пора обуздывать аппетит, следить за фигурой. Нино, судя по всему, не очень-то утруждает себя этим. Слишком ленив, никакой самодисциплины. С первого же взгляда можно было разгадать его грубый материализм, откровенно сведенный лишь к его желаниям, который взял верх над духовным началом. В Оксфорде он блистал главным образом в спорте: прекрасно играл в регби, был отменным боксером, великолепным легкоатлетом. Оксфорд наделил его безупречными манерами, и по-английски он говорил, как истый патриций. Вряд ли он часто заглядывал в книгу. Но в конце концов, разве ему так уж необходимо быть интеллектуалом? В том обществе, где он вращался и где намеревается вращаться впредь, достаточно уметь безукоризненно держать себя за столом, играть в бридж, танцевать, ездить верхом и быть галантным и представительным. Этими добродетелями он обладал в полной мере. Он был превосходным образчиком слияния двух рас — английской и итальянской, — как те жеребцы-производители, что появились на свет в результате кропотливого скрещивания и соединили в себе столь различные природные качества каждого из родителей. «О, если бы я был таким в двадцать лет! — думал Перси. — Эта величественная осанка, эта красивая морда и мой живой ум: весь мир лежал бы у моих ног!» К несчастью, когда Перси было двадцать лет, все его остроумие, все его милые шалости не могли затмить слишком невзрачную фигуру, нос картошкой и уже тогда потрепанное личико старого ребенка. Годы сгладили эти немилости природы, и теперь Перси стал тем, чем сделала его жизнь, тем, к чему все предназначало его: «старым забавным господином», который приобрел даже налет своего рода элегантности, так что уже не слишком трудно было поверить, будто в молодости он сумел сыграть шекспировского Пака.
— Пожалуй, минут пять я еще посижу с вами, а потом пора отправляться за ней, — сказал Нино, взглянув на ручные часы.
— Кстати, где она остановилась?
Нино назвал какой-то пансион.
Лавиния и Перси обменялись взглядами.
— Пансион? — переспросила Лавиния на высоких нотах, как бы подчеркивая тем самым невероятность подобного факта или же свое крайнее удивление. — Что за странная прихоть — такой особе, как мисс Сарджент, останавливаться в пансионе!
— В то время как она могла бы позволить себе роскошные апартаменты в «Гритти», — добавил Перси.
— О, ты понимаешь, — немного смущенно пробормотал Нино, — Конни из тех девушек, что любят простоту. В Америке сейчас все такие: никакой роскоши.
— И все же — пансион… Как он называется, ты сказал?
Нино повторил.
— Никогда даже не слышала о нем, — удивилась Лавиния. — Где это?
— За Академией, на набережной Санто Спирито. Напротив Джудекки.
— В таком квартале!..
— Не волнуйся, мать. Я знаю это заведение. Оно вполне респектабельное. Старые дамы-англичанки, преподаватели университета, писатели…
Тут вмешался Перси:
— Насколько я понимаю, у нас нет причин впадать в панику, Лавиния! Желание мисс Сарджент остановиться во второразрядном пансионе на самом-то деле и есть высшее проявление шика. Ты же знаешь, как чувствительны американки. В былые времена столько высмеивали их стремление пустить пыль в глаза, относились к ним как к выскочкам, и ныне они уже не дают заманить себя в ловушку фальшивой роскоши. Простота — вот чем они увлечены теперь. Поразмысли немного, дорогая: когда владеешь половиной Питтсбурга и кучей долларов, презираешь дворцы, годные лишь для кинозвезд, и останавливаешься в семейном пансионе для пожилых дам. Разве это не прекрасно? Я буквально благоговею перед мисс Сарджент, еще не видя ее! Лавиния, предлагаю тебе пари, что я прав!
Лавиния, кажется, успокоилась. Если скромность мисс Сарджент можно отнести на счет изысканной элегантности, тогда, надо надеяться, ничего еще не потеряно. Нино взял со стола газету и перелистал несколько страниц, рассеянно проглядывая заголовки. В газетах он читал только три раздела: происшествия, скачки и светскую хронику.
— Не думаю, что ты прав, — бросил он Перси.
— Я не прав? Но в таком случае, в чем же дело? Уж не хочешь ли ты сказать нам, что мисс Сарджент остановилась в пансионе из экономии? — Он повернулся к Лавинии и с перекошенным лицом прошептал: — Можно умереть от ужаса!
— А ты уверен, Нино, — спросила Лавиния, — что эта юная особа действительно мисс Сарджент из Питтсбурга? Может, просто однофамилица?
— Помилуй, мать, не говори глупостей! Ты забываешь, что я познакомился с Конни в американском посольстве. Посол цацкался с ней, как с родной дочерью. Он знает ее с пеленок.
Разговаривая Нино пробегал глазами список «именитых гостей», но отнюдь не потому, что надеялся найти там имя мисс Сарджент; просто, заходя в гостиную к матери, он никогда не упускал случая осведомиться о заезжих иностранцах — так в африканских резервациях охотники на крупную дичь наводят справки, из каких районов поступили сведения о том, что прошло стадо слонов или обнаружено семейство львов. Никогда ведь не знаешь…
— Но в конце концов, — сказала Лавиния, — сам-то ты, когда разговаривал с нею, мог и без помощи посла разобраться, та ли она, за кого выдает себя?
— Безусловно. Хорошее приданое я чую за сто метров. А она тем более сидела за столом рядом со мною.
Перси широко улыбнулся. Нино проговорил эти слова самым естественным тоном, как нечто вполне благоразумное и само собой разумеющееся. Будь на его месте кто-нибудь похитрее, он произнес бы их с пародийным пафосом, приправленным сарказмом, чтобы создать впечатление, будто он шутит, а на самом деле его интересует не только приданое. Но Нино был выше этих маленьких уловок. Он нисколько не считал зазорным — даже напротив! — говорить, что грезит о «крошке», владеющей приданым в «пятьсот кусков», или что на каком-то приеме он с вожделением пожирал глазами «вот такие огромные камешки», которые украшали одну из дам. Тут он был так же корыстен, как какая-нибудь шпана, кстати, именно их словечками он охотно пополнял свой лексикон. Его глубокая тривиальность искупалась своего рода чистосердечием.
— Да не о том речь, — недовольным тоном сказала Лавиния.
— Не о том? О чем же тогда?
— О том, чтобы знать, является ли эта девушка вполне приличной особой.
— Фьють! — сквозь зубы процедил Нино и со снисходительным упреком покачал головой. — Мать, побойся бога! Ну право же!
— Не дерзи, Нино, и, пожалуйста, не читай газету в моем присутствии, — сухо произнесла Лавиния.
— Я просматриваю список почетных гостей, — невозмутимо ответил он. — В этом году никаких знаменитостей… A-а, вот! И эта здесь?
— Эта? Кто — эта? — нетерпеливо спросила Лавиния.
— Ты ее не знаешь. Одна японочка, с которой я познакомился прошлым летом в Каннах. Вот она, старик, — обратился он к Перси, — она, я убежден, сняла самые роскошные апартаменты в «Гритти».
Он сложил газету, бросил ее на стол.
— Так что же, весь обед вы проговорили только о политике?
— Да. Я слушал вполуха и только поддакивал.
— Должно быть, она была в восторге от такого кавалера… И все же, на мой взгляд, странно, что молодая девушка, которая совершает увеселительную поездку по Европе…
— Вовсе не увеселительную… — перебил Нино. — Если я правильно понял, она путешествует, так сказать, с научной целью. Условия жизни на старом континенте и прочая бодяга. Возможно, для университетского реферата или какой-нибудь другой штуковины в этом духе.
— Возможно? Но сама она ничего тебе не сказала?
— Может, и сказала. Я тебе повторяю, что почти не слушал.
Лавиния даже не пыталась скрыть все возрастающее раздражение.
— Ты, Нино, несомненно, считаешь меня представительницей минувшего века, которая ничего не смыслит в подобных вещах, но, однако же, я полагаю, что молодой человек, имеющий виды на молодую девушку, флиртующий с ней, обязан заставить себя интересоваться тем, что она ему рассказывает.
— О, я держался так, будто ужасно заинтересован ее рассуждениями. В этом я мастак, уж поверь мне. Конни осталась очень довольна мною. И вот доказательство: через десять минут она будет здесь. Ладно, я потопал. Эти американцы точны как хронометры.
Нет, он совсем не походил на молодого человека, готовящегося в первый раз принять у себя молодую девушку, которая ему нравится и на которой он надеется жениться. Все то недолгое время, что Нино провел с матерью и Перси, он казался рассеянным, отсутствующим и оживился, лишь проглядывая список иностранных гостей. Он ходил взад и вперед по комнате, то там, то здесь брал какую-нибудь вещицу, не взглянув, клал ее на место, сцеплял кисти рук, хрустел суставами пальцев… Нино не томился только за игорным столом, на скачках и в постели с женщиной. «Как, — думал Перси, — как мисс Сарджент, какова бы она ни была, могла обратить внимание на этого пустельгу? В таком случае она и сама не лучше. Птицы одного полета… Или, быть может, она одна из этих нынешних вакханок, которые хватают любого красивого мужчину, что оказался под рукой, будь то принц или бродяга… Сейчас мы узнаем это…
— Постарайся выложить все свои козыри! — весело крикнул он Нино.
И так как Лавиния в этот момент, повернувшись к ним спиной, поправляла цветы в вазе, Нино подмигнул Перси и сделал выразительный жест — так итальянские парни из народа обычно заклинают судьбу или подчеркивают свою мужскую силу.
— Мои козыри побить нельзя! — ответил он и вышел из гостиной.
Лавиния опустилась в кресло напротив Перси.
— Он совсем не похож на влюбленного, тебе не кажется? — спросила она.
— Нет, черт возьми, ни капельки…
— И эта девица, которая останавливается в дешевом пансионе… Есть над чем задуматься, не правда ли?
— Да полноте! Разберемся! Клянусь тебе, Лавиния, я сгораю от нетерпения.
Порывы ветра доносили с канала запах гнили, болота. Нужно было бы закрыть окна, но октябрьская жара еще слишком давала себя знать. Некогда Перси как истый эстет наслаждался этой навевающей грусть атмосферой, всем, что окружало его здесь. Теперь он находил все это мрачноватым. Возможно, это наводило его на мысль о его собственном закате или о закате цивилизации, последние огни которой, он был убежден в этом, угасли, задутые войной. Он твердил себе, что, может, и впрямь пришло время добровольно удалиться, прежде чем рухнет все, к чему он привязан, прежде чем Европа, которую он так любит, погрязнет в мятежах и хаосе… Не придется ли вскоре и ему вслед за Лавинией причаливать к заокеанским берегам? Ну что ж, пусть будет так! Курс на Запад!
В глазах Перси люди очень богатые вообще не принадлежали к роду человеческому; в них, безусловно, таилось нечто божественное, и, когда он видел их рядом с собой, он испытывал странное чувство, нечто вроде почтительного страха, какой испытывали наши далекие предки, когда в их дом под личиной простого смертного являлся небожитель. Эти сказочные существа могли говорить, как все прочие, держаться, как любой другой, иметь присущие большинству людей слабости, и все же от этого они не становились менее загадочными, менее необычными. Будь они банальны, будь они даже безобразны, их деньги, их богатство, их связи, их могущество образовывали вокруг них почти зримую ауру. Нельзя и мечтать о том, чтобы любить их, как, скажем, нельзя мечтать о том, чтобы любить Юпитера или Минерву, королеву Викторию или короля Людовика XIV, но можно быть счастливым просто, от того, что слышишь их, видишь: эта несказанная близость вас щедро одаряет… Когда мисс Сарджент в сопровождении Нино вошла в гостиную, у Перси не осталось и тени сомнения в том, что она — самая настоящая Констанция Сарджент из Питтсбурга, наследница огромного состояния. Эта очевидная истина бросалась в глаза, пронизывала до мозга костей, от нее сладко колотилось сердце. Верующие узнают снизошедшего к ним бога даже тогда, когда он скрывается под рубищем нищего. Пусть мисс Сарджент с виду походила скорее на скромную секретаршу, чем на всемирную знаменитость, пусть она вошла в гостиную бочком, словно нескладная испуганная провинциалочка, Перси голову дал бы на отсечение, что она была самой настоящей миллиардершей, высоко котирующейся на Уолл-стрите, запросто заходящей в Белый дом. От мисс Сарджент исходила божественная аура. Перси мог бы пропеть, как в «Лакме»: «О, это она, это богиня»! — и, если в грубом, материальном мире он, верно, слегка склонив голову, пожал бы мисс Сарджент руку, в невидимом мистическом мире символов он рухнул на колени и простерся перед нею ниц.
Лавиния же не обладала ни интуицией Перси, ни его волшебным даром провидения, ни его чутьем верующего, угадывающего присутствие божества. Во всяком случае, она, вероятно, ожидала увидеть личность блистательную (смех, зубы, манера держаться, произношение, туалет, драгоценности, украшения). Но увидела она нечто совершенно противоположное. Она увидела девушку, ни красивую, ни уродливую, маленькое личико которой было почти лишено красок; в общем, бледная инфанта в изгнании, с детства привыкшая жить заточенной в монастыре, чуть ли не в лишениях. Слов нет, синее без всякой отделки платье мисс Сарджент было сшито безукоризненно, и качество материи сразу бросалось в глаза, но что за монашеская простота! И хоть бы колечко на пальце! Даже без часов. А уж о косметике и разговору нет. Светлые, пепельного оттенка волосы зачесаны назад и стянуты узлом низко на затылке: прическа, какую нынче и не встретишь нигде, такие носили перед первой мировой войной, и даже, пожалуй, еще до героинь сестер Бронте… Да, действительно, мисс Сарджент, вопреки всем ожиданиям, не была модницей, а у Лавинии не хватило сил убедить себя, что такой анахронизм, добровольный ли, нет ли, является верхом изысканности.
Когда, едва переступив порог гостиной, мисс Сарджент увидела Лавинию — та стояла, высокая подобная изваянию в своей длинной темно-синей тунике, величественная, словно жрица, совершающая какой-то священный ритуал, — она на миг, едва уловимо для посторонних глаз, чуть озадаченная, замерла на месте и как бы боязливо сжалась, словно испугалась, уж не ее ли дали обет принести в качестве искупительной жертвы. Словно сомнамбула, она быстро прошла несколько шагов, отделявших ее от хозяйки дома, потом мужественно взяла себя в руки, улыбнулась с предельной доброжелательностью, отчего еще более смягчились черты ее лица, протянула руку и с жаром произнесла:
— Счастлива познакомиться с вами!
У нее был хорошо поставленный, но настолько тихий голос, что приходилось чуть ли не напрягать слух. Лавиния оказалась выше девушки на целую голову; с высоты своего роста она обрушила на хрупкую визитершу: «How do you do», промодулировав звонкую бронзу своего мощного контральто. Потом представила Перси, стоявшего слева от нее, и только после этого указала на кресло, куда и опустилась ошеломленная мисс Сарджент. Трое остальных расположились «рядом, и тотчас же, словно для того, чтобы не дать воцариться неловкому молчанию, Лавиния, не мешкая, бросилась в атаку:
— Всю неделю Нино твердил мне только о вас, мисс Сарджент. И у меня такое чувство, будто я уже давным-давно близко знакома с вами. Вы, верно, впервые в Италии?
После этого потрясающего вступления разговор четыре или пять минут тек вполне непринужденно, ибо из четырех собеседников трое говорили разом или так стремительно сменяли друг друга, что создавалось впечатление одновременности. Взволнованная мисс Сарджент слушала их с улыбкой, изредка бросая одну-две фразы, свидетельствующие скорее о ее готовности соглашаться с тем, что говорят другие, чем высказывать собственное мнение; она с восхищением поочередно смотрела то на Лавинию, то на Перси, то на Нино, и трудно было понять, вызвано ли это восхищение их велеречивостью или редкостным пылом, который заставлял этих людей с яростной убежденностью и с интонацией, удесятеряющей значение каждого слова, произносить фразы, незначительность которых граничит с бессодержательностью. Из этой троицы Перси явно брал верх голосовыми данными, богатством интонации, краснобайством. И действительно, помимо привычки выражать свои мысли почти исключительно восклицательными фразами, он обладал также способностью в минуты неуверенности в себе выдавать простейшие истины и самые затасканные банальности за свои собственные блестящие находки и преподносить их собеседнику с такой величайшей силой убедительности, словно была необходимость что-то доказывать, чтобы в них поверили. Так, например, он вдруг склонился к мисс Сарджент и бросил ей прямо в лицо: «Вся Венеция пропитана Византией, не правда ли?» — таким тоном, будто это эстетическое открытие он сделал только сию секунду, и с улыбкой человека, который ожидает, что слушатели не сразу воспримут такую свежую и потрясающую новость. Мисс Сарджент поспешила согласиться, да, в Венеции есть нечто византийское, и несколько раз кивнула головой, чтобы Перси понял: интеллектуальные зерна, которые он рассыпает с таким гениальным мотовством, падают не на бесплодную почву.
Перси чувствовал себя не в своей тарелке потому, что никак не мог нащупать, какого рода разговор подобает ему вести, дабы позабавить мисс Сарджент или же просто понравиться ей. Такая скромность, сдержанность, даже безликость — что же за этим кроется? Глупость? Ни ее лицо, ни взгляд, ни суждения не давали повода для такого предположения. Светский снобизм? Будь так, он разгадал бы ее после трех реплик. Снобизм не таит в себе загадок, он простодушно сразу же обнаруживает себя. Разнузданный интеллектуализм? Пока еще она не сказала ничего такого, что могло бы подтвердить эту мысль. А может, она какая-нибудь новая Пасионария? Нет. Фанатизм оставляет неизгладимый след на физиономии. Тогда что же? Было известно, кто такая мисс Сарджент. Но не было известно, что она собой представляет. И, не нащупав никаких примет, Перси впал в полную растерянность, утратил присутствие духа и даже присущий ему юмор: вот откуда появился этот поток банальностей и безудержное краснобайство, единственной целью которого было скрыть, что это — банальности. И все же он сознавал, что говорит пошлости, выставляет себя с самой невыгодной стороны: светский мужчина, бессодержательный и глупый, да к тому же еще не слишком учтивый, поскольку говорит без умолку. Если бы девица была заражена светским снобизмом, он действовал бы стремительно: главное тут — ослепить! Если она разнузданная интеллектуалка — напропалую блефовал бы, цитировал Кьеркегора, словно он его читал, коснулся бы новых веяний, проблем антикультуры, структурализма, словно он знает, что это такое: все очень просто, право… Если Пасионария, он бы прикинулся измученным консерватором, которого грызут сомнения и завораживает коммунизм: это всегда бьет без промаха. Но мисс Сарджент не подходила ни под одну из этих успокаивающих категорий… В голове Перси одна гипотеза сменяла другую: а что, если мисс Сарджент из числа простаков? Но простаков не по уму, не в этом смысле. Нет. Простаков — то есть людей естественных, лишенных всякого позерства, не разыгрывающих никакой комедии. Эта догадка больше всего встревожила Перси. И правда, люди простые его полностью обескураживали. Он не привык к ним, не умел с ними общаться. Впрочем, если он и подозревал, что они существуют, что еще сохранилось кое-где в мире несколько экземпляров, лично он никогда не сталкивался с ними в тех кругах, где вращался сам; и когда какой-нибудь исключительный случай вне привычной среды сводил его с кем-нибудь из простаков, Перси чувствовал себя настолько выбитым из седла, так терялся от ужаса, что ему приходилось трусливо спасаться бегством. Нет, дети и простаки — вот кому невозможно противостоять, это выше человеческих сил… Итак, если мисс Сарджент принадлежит к этой загадочной и устрашающей категории, что ж, он, Перси, заранее снимает с себя всякую ответственность, а это маленькое сборище, этот чай у Лавинии безусловно кончится катастрофой.
Так как все трое, обращаясь к девушке, почти к каждой фразе прибавляли «мисс Сарджент», она сложила руки и с умоляющей улыбкой сказала:
— Прошу вас называйте меня просто Конни. Меня все зовут Конни.
Она выговаривала слова очень четко, певуче и неторопливо — так разговаривают в высшем обществе в Соединенных Штатах, — и ее интонация, как отметил Перси, тоже была превосходной, тут уж его ухо никогда не ошибалось: он кичился тем, что по первым же словам любого человека может отвести ему соответствующее место в социальной географии.
— В таком случае, — отозвалась Лавиния, — вы тоже должны называть нас по имени.
Мисс Сарджент ответила, что это, конечно же, не составит для нее труда, ведь у американцев именно так и принято, и к тому же она чувствует такую, такую симпатию…
— Вы живете тут круглый год, Лавиния? — продолжала она, обводя взглядом просторную гостиную, высокие полуоткрытые окна и за ними город — его дворцы и старинные дома в оправе переплетающихся каналов, сверкающие лагуны, покой которых нарушали подпрыгивающие с ревом motoscafi[9] или скользящие с легким шорохом редкие гондолы.
— Летом один месяц я провожу в Доломитах, а декабрь и январь — в Лондоне. Но я люблю жить здесь зимой.
— Ведь в это время года город выглядит особенно необычным, — добавил Перси. — Стоит посмотреть на Венецию, окутанную дымкой тумана, промокшую от дождей… Истинный Тернер!
По уверенному тону Перси можно было догадаться, что тема «Венеция зимой» — весьма и весьма старая, уже немало послужившая ему, и есть много прекрасно соркестрованных ее вариантов, которые исполняются в зависимости от того, кто собеседник; сегодня был призван на помощь вариант несколько скромный, экономичный.
— А вы, Перси, чем занимаетесь? Я хочу сказать, каково ваше занятие? — благожелательным тоном осведомилась мисс Сарджент, глядя ему прямо в глаза.
Поначалу озадаченный, Перси ответил не сразу. Оба они, и Лавиния и он, могли позволить себе подчас ужасную нескромность, если им почему-либо это было нужно или просто ради забавы, однако первая статья их жизненного кодекса гласила, что вопросы, касающиеся личности собеседника, запрещены: незнакомого человека не спрашивают, чем он занимается, какова его работа, его ремесло. Потом Перси вспомнил, что непосредственные в общении и сердечные американцы, напротив, допускают подобные вопросы, и в этом они в какой-то мере даже видят знак дружеского внимания. Он колебался: представить ли ему себя подобающим образом, то есть солгать, заявив, к примеру, что он критик в области изобразительного искусства или театральный критик, или же дать честный и тем самым даже вызывающий ответ; и выбрал второе. Приняв преувеличенно серьезный вид, он произнес с некоторой торжественностью:
— Конни, я — профессиональный гость. Это мое ремесло, которым я занимаюсь сознательно и, надеюсь, со знанием дела с тех самых пор, как покинул колледж, иными словами, уже тридцать лет.
Лавиния снова закусила губу и коротко фыркнула, что на сей раз могло означать: «Сорок лет, это, пожалуй, более соответствовало бы документам». Нино расхохотался.
— Проклятый Перси! — вскричал он. — Проклятый старый прохвост! — И был момент, когда показалось — сейчас он хлопнет его по спине, но он удержался от этого жеста.
Мисс Сарджент улыбнулась, явно оценив юмор его ответа.
— О, я убеждена, что вы клевещете на себя, — сказала она. — Вы называете своим ремеслом то, что является вашей добродетелью, вашим даром и, быть может, даже благодатью.
Перси поклонился, признательный за комплимент. Потом спросил:
— А вы, Конни? Каковы ваши интересы, чем вы занимаетесь?
— О, я прилагаю все усилия, чтобы заполнить свои дни. Пытаюсь учиться, пытаюсь… Думаю, желание у меня есть. Скорее, маловато способностей…
Судя по всему, это заявление тоже привело Лавинию и Перси в некоторое замешательство. Самоуничижение, должно быть, казалось им чем-то весьма опасным.
— Представляю, — проговорила Лавиния, — как много вы путешествуете…
— Нет. Я редко покидаю Питтсбург. Там у нас свой сад, и я провожу в нем почти все время.
— Но летом вы, разумеется, уезжаете к морю?
— Несколько раз родители возили меня во Флориду.
— О, Флорида! — восторженно воскликнула Лавиния. — Однажды я ездила туда с мужем, это было… было… бог мой! — так давно! Представьте себе, у Галеаццо, моего мужа, была умопомрачительная страсть: он коллекционировал бабочек. Если хотите, Нино покажет вам коллекцию, она там, на галерее; говорят, это уникальное собрание. Так вот, мы срочно отправились во Флориду за каким-то — уж и не знаю, за каким именно, — экземпляром бабочки, которая встречается только в тех местах. Пока мой муж носился за бабочками по тропическим болотам, лавируя между боа-констрикторами и индейцами-семинолами, я нежилась у бассейна в гостинице. Какой прекрасный край! Какое богатство растительного мира! Какие краски! Запахи! И всюду этот упоительный аромат апельсиновых деревьев!
— И еще более упоительный аромат денег! — хрипло, нарочито вульгарным тоном вскричал Перси.
Лавиния бросила на него испепеляющий взгляд. Эта намеренно циничная шутка, вероятно, имела целью задушить в эмбрионе зарождающийся лиризм графини Казелли (они оба любили разыгрывать подобные номера на публику, стараясь ядовитым словом подрубить под корень острый каламбур, назидательную или «изысканную» комедию, которую начинал другой). Или же, очутившись лицом к лицу с одной из богинь Капитала, Перси решил играть в открытую, дабы воочию продемонстрировать свое уважение к богатству, свою исконную к нему склонность. Только мелкие буржуа считают, что говорить о деньгах неприлично. У аристократов иные понятия! Да и как миллиардерша может порицать Перси за то, что он поклонник Мамоны? Разве король упрекнул бы вас за ваши монархические убеждения? Разве Папе римскому пришло бы в голову порицать вас за то, что вы стойкий католик? Перси частенько имел успех, когда с веселым смешком храбро признавался во всех своих смертных грехах, изображал из себя Диогена, который не отступает ни перед каким признанием, будь оно даже не слишком пристойно. Почему бы мисс Сарджент, несмотря на ее такой благонравный вид, тоже не позабавиться этим?
Но разочарование наступило немедленно. Девушка ответила огорченным, почти жалобным тоном:
— Если бы вы знали, что такое деньги, вы бы так не говорили!
Перси был изумлен. Как она осмелилась? И на что, в сущности, она намекает? Хорошо воспитанный человек не заявляет своему собеседнику, которого ему только что представили: «Вы не знаете, что такое деньги!» — даже если тот признался в крайней скудости своих финансов. И в тоже время было совершенно очевидно — мисс Сарджент толкнуло на эти слова отнюдь не дерзкое намерение задеть его. Злобная выходка так не вязалась с ее обликом. Следовательно, остается предположить, что этой репликой она хотела выказать совсем не пренебрежение, а скорее похвалу: «Вы чисты душой, ваши руки не осквернены тлетворным прикосновением к деньгам». Да, очевидно, так оно и есть…
— Боюсь, — сказал Перси, — я и правда не знаю, что такое деньги.
— В них нет ничего приятного, — проговорила мисс Сарджент. — Деньги — отвратительное бремя.
При этих словах, в которых взрывчатый заряд скандала превосходил все, что прозвучало здесь до сих пор, и даже то, что можно было предположить, Нино бросил на девушку взгляд, полный ужаса; потом его глаза встретились со взглядом Лавинии, и в них она прочла настойчивый, хотя и немой вопрос: «Мать, ты веришь своим ушам? Что все это значит? Разве это не богохульство иконоборца? Не безумные речи сумасшедшей? Перед кем распахнули мы двери нашего дома?»
От Лавинии не ускользнуло смятение сына. Что ж, если мисс Сарджент своими непостижимыми уму высказываниями пытается поколебать ее самые священные убеждения, ей остается призвать на помощь рефлекс людей своего круга, своего воспитания, своего положения: ничем не выдать себя, сохранять спокойствие, постараться сгладить опасную ситуацию, короче, как можно изящнее выйти из затруднительного положения.
— Бог мой, Конни, — беспечно воскликнула она, — возможно, вы и правы! Нино, будь так добр, позвони Марии. Ей уже пора бы принести нам чай.
Нино поднялся и подошел к окну, в сердцах дернул свисавшую там на шелковой ленте сонетку, а Перси между тем бросился на помощь своей приятельнице. Ему потребовалось немало времени, чтобы превозмочь внезапный испуг, пожалуй не меньший, чем у Нино, который вызвали у него последние слова мисс Сарджент.
— Поверите ли, насладиться дивным ароматом цветущих апельсиновых деревьев Флориды уже многие годы меня приглашают мои друзья Лонгуэрты, у них там свой дом. Но хотя я, как вы только сейчас узнали, профессиональный гость, я ни разу не отважился поехать туда, и всего лишь по той простой причине, что я слишком большой домосед: Европа — моя деревня, а Лондон — моя хижина в этой деревне… В крайнем случае я могу отправиться в Танжер к своей приятельнице Барбаре, могу даже решиться заглянуть в Луксор, ведь эти места считаются — или всего несколько лет назад считались — как бы экзотическим продолжением Европы, но — пусть это глупо с моей стороны! — Америка пока что кажется мне такой далекой, такой далекой…
— Но ведь Америка, — возразила мисс Сарджент, — тоже продолжение Европы, только, я думаю, намного менее экзотическое, чем Танжер или Луксор.
Итак, в попытке раскрыть ее карты разговором о деньгах они потерпели фиаско. А что, если попробовать козырнуть знакомством с титулованными особами? Не может же быть, чтобы эта маленькая американка была начисто лишена всех человеческих слабостей! На что-нибудь она да клюнет! Ведь именно стараясь задеть ее за живое, затронуть глубинные струны ее сердца, Перси так естественно, с такой наигранной небрежностью бросил фамилию «Лонгуэрты», упомянул по имени Барбару (Барбара была лишь одна, тем более в Марокко) — хотя эти особы, безусловно, были очень далеки друг другу, даже можно сказать, совсем разные, но, принимая во внимание астрономическую дистанцию, которая отделяла их от простых смертных, их можно было все же причислить к одному созвездию. Однако мисс Сарджент хранила невозмутимое спокойствие. Ни малейшей искорки интереса не промелькнуло в ее глазах при звуках этого имени, этой фамилии. Можно было подумать, что они вовсе не известны ей, что они ничего не пробудили в ее памяти. Нет, это просто немыслимо. Молодая американка ее круга, ее положения не может не знать… И вдруг по телу Перси пробежала дрожь — а если мисс Сарджент так невозмутима потому, что она желает показать хозяевам дома: в этой области ничто не способно поразить ее, она слишком высокого мнения о себе, о собственном величии, и именами, даже самыми громкими, ее не удивишь. Если это предположение справедливо, тогда, вероятно, мисс Сарджент в своем кастовом высокомерии достигла головокружительных высот. Высшее проявление высокомерия. Но это высокомерие по крайней мере понятно, человечно, в тысячу раз более человечно, чем пугающая бесхитростность простаков… Конечно, покорить мисс Сарджент едва ли будет легче, чем покорить Эверест, но ведь Эверест все же покорен. (И к тому же Нино здесь и он еще не выбросил свой главный козырь — чувственность. А этот козырь может решить все.) Перси уже прикидывал мысленно, в какой связи было бы уместно вполне естественным тоном, без тени бахвальства, намекнуть на свои связи, небрежно бросив несколько блестящих имен из «Дебретта», Ежегодного справочника дворянства, и даже — почему бы и нет, не надо бояться — из «Готского альманаха». Когда он назвал Лонгуэртов, Лавиния насторожилась, словно старая кавалерийская лошадь при звуке горна. Она бросила быстрый взгляд в сторону Перси, должно быть, уловила его предупреждение: меняем курс, направим разговор по иному руслу. Она верила в чутье Перси в подобных вещах: он распознавал сноба среди людей внешне совсем далеких от снобизма, как еврей распознает еврея в каком-нибудь мистере Смите с волосами цвета пшеничных колосьев.
— Но есть еще большие домоседы, чем ты, — возразила она Перси, — ну хотя бы милая старая герцогиня Рутланд.
На минуту ошарашенный, Перси сообразил, что Лавиния спешит ему на выручку — так помогают друг другу актеры мюзик-холла во время исполнения импровизированного номера.
— Анита? О, ведь бедняжка уже вовсе никуда не выходит! Она даже каждый раз ищет предлога не поехать в Букингем. И, если захочешь повидать ее, нужно идти к ней; а принимает она чаще всего, в зависимости от времени года, или в зимнем саду, или в парке, там она проводит целые дни.
— Мне кажется, с этой дамой я нашла бы общий язык, — заметила мисс Сарджент, — если бы имела честь быть в числе ее приятельниц.
Перси молниеносно проанализировал в уме этот ответ. Выдает ли он ее снобизм или полное его отсутствие? Когда какой-нибудь истинный сноб заявляет, что он «не имеет чести» знать того-то или того-то, речь всегда идет о человеке, которого по положению в обществе он ставит рангом ниже себя и никогда — выше. Но мисс Сарджент сказала: «Если бы я имела честь…» Такая формула, пожалуй, звучит не пренебрежительно. Это просто формула вежливости. Перси вздохнул. Едва напали на, казалось бы, верный след, и вот уже приходится оставить и его.
Мария в белой наколке и белом передничке вошла в гостиную, толкая перед собой сервировочный столик, на котором было расставлено все необходимое для чаепития.
— Если бы я жила в таком прекрасном доме, как ваш, — обратилась мисс Сарджент к Лавинии, — у меня никогда не возникло бы желания покинуть его. Боже, как все красиво! — И она обвела взглядом гостиную, потом чуть закинула назад голову, чтобы лучше разглядеть потолок.
— Мне очень приятно, что наш старый дом нравится вам, — с сердечностью проговорил Нино. — Право же, по-своему он не так уж плох.
— Не так уж плох? — воскликнул Перси. — Ты хочешь сказать, что он — просто маленькое чудо!
— А кроме шуток, Конни, вам было бы приятно жить здесь? — спросил Нино, улыбаясь, с несколько излишней настойчивостью.
— Пожалуй, если подумать, то я и сама уже не знаю… — пробормотала она. — Наверно, здесь я чувствовала бы себя немного… придавленной таким великолепием.
— Дворцы созданы для вас, — галантно сказал молодой человек.
— Вы очень любезны, Нино… Но, право, я не вижу, с какой стати… И почти убеждена, что не создана для них…
Она смотрела на него с нескрываемым восхищением, пожалуй, даже в ее взгляде сквозило нечто большее, может быть своего рода нежность; а Перси, разглядывая эти два столь различных создания, подумал, что у мисс Сарджент, помимо того недостатка, что она человек простой, есть, видимо, еще и другой недостаток — она наивна: она лишена всякой способности судить и рассуждать здраво. Неужели она не видит, что при всей своей красоте, при своем изяществе породистого жеребца Нино в то же время — тупица… Любезный, слов нет, но все-таки тупица… Разве только чувственность, которая толкает ее к нему, затмевает все остальное? Эрос слеп или предпочитает казаться слепым. Но откуда известно, что ее влечет к Нино именно чувственность?.. В конце концов, никто ничего об этом не знает.
— Спасибо, Мария, — молвила Лавиния. — Вы можете быть свободны. Чай мы разольем сами.
Служанка наклонила голову и вышла. Лавиния с помощью сына приступила к обязанностям хозяйки дома. Этот маленький ежедневный ритуал, особенно если он совершался в такой прелестной обстановке, неизменно действовал на Перси умиротворяюще. Иногда даже, создавая себе на потребу собственную философскую систему, трактующую Историю явно с позиций финализма, он приходил к выводу, что цивилизации, сменявшие одна другую начиная с халдейского Ура и кончая Лондоном времен Эдуарда VII, только и делали, что стремились, сами того не ведая, к этому совершенству, который стал их венцом: к ритуалу five o’clock tea[10], именно такому, каким навеки утвердили его своим эдиктом приверженцы Эдуарда. В этот час вы, как никогда, чувствуете себя в безопасности. Вы уютно устраиваетесь в комфорте чревоугодия и болтовни; если же, кроме того, ваши собеседники элегантны и красивы, а окружающие вас предметы олицетворяют собой чарующее прошлое, тогда вы чувствуете себя чуть ли не в раю. Перси наблюдал за тем, как протекал ритуал: Лавиния-жрица в темно-синей бархатной тунике, с массивным серебряным чайником в правой руке разливала священный напиток в чашечки из тонкого фарфора. Нино, юный император, снизошедший до роли прислужника, с непринужденностью сновал между ритуальным столиком, жрицей и двумя приверженцами веры; на круглом столике об одной ножке он разместил все предназначенное для литургии: тарелки и приборы, вышитые салфетки; он предлагал полагающиеся по обряду яства: апельсиновый джем, смородинное варенье, пропитанные маслом горячие тосты. Оба они, и Лавиния и Нино, выглядели столь величественными и в то же время столь грациозными, что процедура не могла не произвести впечатления на мисс Сарджент. И над этой благочестивой, сосредоточенной вокруг столика группой блаженствовали в розовых облаках олимпийские боги, а из каждого угла на потолке могучий демиург, краснолицый и смеющийся, готов был ринуться к одному из смертных, чтобы, возможно, вознести его на небо. (Один Нино, пожалуй, не выглядел бы там, наверху, чужаком в обществе олимпийцев.) На памяти Перси было столько сценок, подобных этой, столько обедов, приемов, празднеств, проходивших у людей, которые владели богатыми домами, полотнами великих художников и которые могли предложить своим гостям еще здоровую пищу, неразбавленные вина, незараженную воду, еще чистый воздух своих обширных парков или деревенских угодий… Их, этих привилегированных господ, становилось в мире все меньше и меньше, и земли вокруг их надежно охраняемых наделов постепенно отравлялись, заражались… И вот они старались не видеть того, что творилось вокруг, что выходило за рамки их маленьких ежедневных литургий… Сколько времени это еще продлится? Перси отхлебнул глоток чаю, отрезал кусочек тоста на своей тарелке; его не оставляла одна благостная мысль, своего рода молчаливая молитва: «Пока я жив, пусть все будет так!» Он внимательно слушал мисс Сарджент. Она говорила:
— У нас в Штатах не встретишь ничего подобного. Есть, конечно, дома очень красивые, особенно на Юге, но все-таки совсем не то… В какую эпоху точно был построен ваш дворец?
Нино ответил ей на вопрос; но истинным гидом по дворцу Казелли был Перси: он знал его лучше, чем владельцы, он мог бы написать его историю и составить опись всех его сокровищ. В этой области он чувствовал себя уверенно; и он принялся рассказывать, чтобы заставить мисс Сарджент восторгаться красотами гостиной, в которой они находились. Он попросил ее обратить особое внимание на Венеру, вот она там, на потолке, слева от Юпитера, он сказал, что ее приписывают кисти Джандоменико Тьеполо, и, хотя это оспаривается многими знатоками искусства, для него, Перси, здесь нет ни малейшего сомнения. Он объяснил технику эффекта перспективы, рельефа, объема; а заметила ли Конни, что «мраморные» стены на самом-то деле деревянные? Нет, не заметила. Она с одобрением отозвалась об искусности подделки. Маленькая лекция Перси об искусстве, казалось, увлекла ее, и он, вздохнув поспокойнее, подумал: «Вот он, круг ее интересов: не дела, не светская жизнь, не интеллектуализм, не политика, а просто-напросто искусство. Я должен был бы сообразить это раньше. Среди богатых американцев часто встречаются настоящие ценители искусства. Ну что ж, прекрасно, здесь мы не ударим в грязь лицом, и я могу ринуться в бой».
— Вот что очень странно, — проговорила мисс Сарджент не очень уверенно, словно она сомневалась в самой себе или в своих умственных способностях, — очень странно, что… такое изящество так смело достигнуто… достигнуто так смело… путем… иллюзии, то есть, иными словами, обмана. Если я правильно поняла вас, Перси, в этой прелестном гостиной все — обман… Не странно ли, что искусство, во всяком случае данное искусство, зиждется на обмане? И если вдуматься, не печально ли это немного?
После двух секунд изумленной тишины Перси воскликнул:
— О, Конни, но ведь все искусство — обман! Вы с непогрешимой уверенностью ткнули перстом в самое больное место…
— Однако разве не является прописной истиной утверждение, будто великие произведения, особенно шедевры литературы, именно потому и великие, что они правдивы?
Лавиния нахмурилась. Она не любила, когда Перси затевал с ее, да, ее гостями слишком возвышенные интеллектуальные споры. Во-первых, это не принято в приличном обществе. Пусть интеллектуализм остается профессиональным мыслителям и людям богемы. А во-вторых, Лавиния боялась, что она окажется, по собственному ее выражению, «за пределами своей глубины», короче, попросту не сумеет поддержать разговор. А главное, чего ради она должна позволять Перси разглагольствовать, чтобы он тем самым зарабатывал себе пусть даже скромный успех, в то время как она — она! — вынуждена хранить молчание. Она быстро вмешалась:
— Мисс Сарджент, — безапелляционным тоном заявила она, — хочет сказать, что искусство барокко по сути своей театрально. Но именно поэтому мы и любим его… Намереваетесь ли вы, Конни, хорошенько ознакомиться с городом?
— Я не знаю… цель моей поездки немного иная… Но, естественно, я осмотрю все, что считается обязательным: собор Святого Марка и знаменитый музей живописи…
— Академия находится в двух шагах от вашего пансиона, — сказал Нино. — Если вы не возражаете, я составлю вам компанию.
— О, с удовольствием! Спасибо, Нино!
— Живопись — не по моей части, но я кое-что знаю о самых классных ребятах: Карпаччо, Джорджоне, Тинторетто… Я выучил наизусть путеводитель, — добавил он с добродушным юмором и подмигнул.
Мисс Сарджент, похоже, оценила его искренность, его милую простоту: она улыбнулась лучезарной улыбкой, на сей раз непринужденной, смелой и чистосердечной. В этот момент через полуоткрытое окно до них донесся хриплый, душераздирающий крик:
— Гондола! Гондола!
Мисс Сарджент испуганно вздрогнула, словно услышала чей-то предсмертный вопль.
— Господи! — пробормотала она. — Что это?
— Ничего особенного, — отозвался Нино. — Это гондольер, который тщетно ищет пассажира.
Страх на лице девушки сразу же сменился сочувствием.
— Но он кажется таким несчастным, — сказала она. — Может быть… может быть, ему нужно помочь?
— Видите ли, теперь они почти все без работы, — ответил Нино. — Они уже привыкли к этому.
— Привыкли? О, Нино, как можно привыкнуть к тому, что у тебя нет работы, если работа дает средства к существованию?
— Я думаю, они получают пособие, — успокаивающим тоном проговорил молодой человек.
Однако ответ не удовлетворил мисс Сарджент.
— Но почему же он не отправится со своей гондолой в места более… например, на Канале Гранде, по которому я сегодня утром въехала в город. Там очень оживленное движение, я сама видела.
— Да, но вы поймите, — терпеливо принялся объяснять Нино, — на Канале Гранде слишком жестокая конкуренция. А его гондола — старое, прогнившее и очень грязное корыто, никому и в голову не придет сесть в такую развалюху. Да и сам он, бедняга, грязный, и от него разит… Так что у него нет никакой надежды. Вот он и крутится здесь; впрочем, он и живет совсем неподалеку отсюда… И все-таки он надеется подобрать какого-нибудь заблудившегося туриста или любопытного.
— Понимаю…
После недолгого молчания мисс Сарджент обернулась к Лавинии:
— Вы не разрешите мне осмотреть галерею? Судя по тому, что видно отсюда, там очень красиво…
— Ну, разумеется! Нино сейчас покажет ее вам. И еще две или три вещицы в верхних комнатах могут вас заинтересовать…
Нино и Перси поднялись одновременно с мисс Сарджент, и Нино повел девушку к галерее в самом конце гостиной, с которой открывалась широкая сине-зеленая перспектива. Перси проследил за ними взглядом, потом сел. Они обменялись с Лавинией несколькими банальными фразами; оба ждали, когда молодые люди не смогут их слышать, чтобы тогда поговорить свободно. А там, в галерее, мисс Сарджент негромко, нежным и спокойным голоском выражала свой восторг перед теми вещами, теми достопримечательностями, которые мимоходом показывал ей Нино. Девушка, должно быть, разжалобилась над коллекцией бабочек переливающаяся всеми цветами радуги гекатомба! Теперь они дошли до площадки в глубине галереи, и перед ними открылась мраморная лестница, ведущая наверх. Их уже не было слышно, по-видимому, они поднялись по лестнице.
— Ну? Какое у тебя впечатление? — спросила Лавиния. — Эта малышка, право, очень странная.
— Дорогая, мне кажется, что все мы — Нино, ты и я — совершили страшную ошибку. Мисс Сарджент повергла меня в полное смятение, я решительно не могу понять, чего она хочет, чего ищет, увлечена ли она Нино или нет. Какие-то чувства она к нему питает, это очевидно, но чувства скорее дружеские… В общем, давай подождем. Все может свершиться там, наверху.
Но там, наверху, пока ничего не происходило, и Нино тоже думал, чем же кончится этот визит, это чаепитие. Возможно, ничем. Богохульная реплика мисс Сарджент касательно денег, «этого отвратительного бремени», шокировала его, выбила из колеи. Что можно ожидать от девушки, способной на такие высказывания? Он сожалел, что в тот вечер, в посольстве, не проявил большего внимания к разговору с Конни. Ясно, пожалуй, одно: они обсуждали кое-какие актуальные политические проблемы. Конни, не углубляясь в тему, коснулась вопроса о нищете развивающихся стран… Короче говоря, какие-то общие рассуждения, то, что постоянно читаешь в газетах, вызывающая сплин прорва информации, в которой барахтаешься уже многие годы… Но в конце концов одеваешься в своего рода броню: все эти ужасы происходят где-то далеко, они остаются некоей абстракцией, несмотря на фотографии и репортажи. Благодаренье богу, ты не обязан мчаться туда, чтобы воочию видеть, как страдают и умирают те, у кого нет крова над головой, чтобы укрыться, одежды, чтобы согреться, хлеба, чтобы насытиться. Впрочем, что можешь сделать ты? Ничего. Где уж тебе хотя бы в малой степени облегчить всеобщее страдание. Поэтому, не слишком обременяя себя заботами, ты продолжаешь жить на Западе, где дома комфортабельны, пища в изобилии, где почти всё к твоим услугам, если ты молод и обаятелен, как он, Нино, или остроумен, находчив и обходителен, как Перси… С другой стороны, если его соседке по столу непременно хотелось поговорить о «третьем мире», почему он не мог бросить соответствующим тоном реплику, а также не хуже любого другого воспользоваться той или иной подходящей формулировкой, которые каждый житель Запада, с «пристойными» манерами и мыслями, знает наизусть, потому что читал или слышал тысячу раз. Их даже повторяешь почти машинально, не вникая в смысл, ни на секунду не переставая смаковать восхитительные блюда и с вожделением пялить глаза на красивую женщину с оголенными плечами, в изумрудном колье (эта штучка из камешков стоит по меньшей мере четыре миллиона…), которая улыбается тебе с другого конца стола. Ему вроде бы вспомнилось сейчас, будто Конни сказала что-то об эгоизме богатых наций, об их равнодушии или бессилии, и о том, что отныне помощи можно ожидать только от частных лиц: если каждый попытается сделать хоть немного добра… Так, кажется, она сказала? Нино был не очень уверен в этом, но тем не менее припоминал, что согласился, с горячностью согласился с ней и в этом, и во всем прочем — подумаешь, велика важность! Перебирая все это в своей памяти, Нино вел мисс Сарджент через пустые комнаты верхнего этажа, показывал ей: здесь — большой мраморный камин, украшенный аллегорическими фигурами, фасциями и гербами, там — почерневшую от сажи картину, которой не нашлось места в парадных покоях или которую не удосужились отреставрировать. Он то и дело настойчиво предлагал ей полюбоваться через круглые оконца причудливым видом, открывающимся на крыши домов — там тоже все казалось подделкой. А сам старался уловить момент и заранее продуманным обходным путем перейти к теме, на которую до сих пор не позволил себе даже намека. Наконец он решился.
— Моя мать, — бросил он небрежным тоном, — подумывает о том, чтобы оборудовать себе апартаменты в этих пустующих комнатах, а нижний этаж предоставить в мое распоряжение, когда мне придет время устраивать свою жизнь…
— Как это предупредительно с ее стороны! — отозвалась мисс Сарджент.
— Да… Но ведь это вполне естественно, что она предвидит перемены в моей жизни…
Мисс Сарджент немного помолчала, потом спросила:
— Вы, верно, имеете в виду женитьбу?
— Да…
— Понимаю…
Нино пристально всматривался в ее спокойное лицо, повернутое к нему в профиль, но ничего не смог прочесть на нем.
— Как вам понравилась моя мать? — внезапно спросил молодой человек.
— Она такая красивая! — пылко воскликнула девушка. — Замечательная женщина! Признаюсь вам, Нино, я чуть ли не оробела, когда вошла.
Нино рассмеялся.
— Оробели? Правда?
— Я до глупого впечатлительна. Ваша мать так величественна… Какой бесподобной актрисой она могла бы стать! Так и видишь ее на сцене в какой-нибудь большой трагической роли…
Потрясенный Нино остановился, внимательно посмотрел на мисс Сарджент.
— Кто рассказал вам об этом? — спросил он почти с вызовом.
— Что рассказал, Нино?
— Что моя мать некогда, в юности, была актрисой?
Мисс Сарджент подняла на него растерянный взгляд.
— Но… никто! Я совсем ничего-ничего не знала…. О, надеюсь, вы не рассердились на меня?
— Нет, конечно… И все же странно, что вы сделали такой вывод.
— Да нет, почему, не так уж странно.
Она, очевидно, считала, что эта способность угадывать, эта медиумическая интуиция была чем-то вполне естественным. Должно быть, для нее это не было неожиданностью.
— А Перси? — спросил молодой человек после недолгого молчания. — Как вы находите его?
Лицо мисс Сарджент выразило сострадание, даже, пожалуй, нежность.
— Милый старый господин. Такой веселый с виду и такой грустный в глубине души…
— Это Перси-то грустный? Да что вы! Вот тут-то я могу заверить вас, Конни, что вы ошибаетесь. Я не знаю никого, кто так же, как он, вечно бы прыгал, даже, скорее, скакал: резиновый мячик, да и только! Его жизнь — непрестанный праздник.
— Пожалуй, примерно то же самое я и хотела сказать, — тихо произнесла девушка. — Но я, возможно, ошибаюсь. О, если он счастлив, тем лучше, тем лучше! Он такой умилительный! И такой… трогательный!
Нино промолчал. Такой эпитет по отношению к Перси показался ему абсурдным. С другой стороны, он не был уверен, что так уж милосердно называть «трогательным» человека, который ничуть не несчастен ни с материальной точки зрения, ни физически, ни морально. Не заражена ли Конни немного bitchiness[11] этим грубым и ядовитым злословием, которое еще не знают в Италии (итальянская насмешка — совсем другое дело), но которое так широко распространено в англосаксонских странах, что там пришлось даже придумать специальный термин, чтобы обозначить его. Нет. Все в ней говорило о том, что она человек не злой… Ее слова нужно понимать буквально, в их прямом значении. Если она находит Перси «трогательным», значит, он вызывает у нее искреннее сочувствие: ни больше ни меньше, и никакого уничижительного подтекста здесь нет. Нино подумал, что в ней и впрямь слишком много сострадания, если она расточает его на легкомысленного старого клоуна Перси… Его начинала раздражать мисс Сарджент и ее причуды, но что поделаешь, ведь она его гостья, к тому же он имеет на нее вполне определенные виды: значит, надо держаться, чего бы это ему ни стоило. Он думал, что она славная скаковая лошадка, и, невзирая на все ее сегодняшние высказывания — а это уже настораживало, как бы она не сорвалась в конце скачек и не оказалась аутсайдером, — Нино готов был поставить на нее все.
Он толкнул обитую дверь и пригласил мисс Сарджент пройти в маленькие ярко освещенные апартаменты, состоящие из двух смежных комнат: гостиной и спальни. За большими окнами, словно в рамке, открывался далекий вид на город и лагуну. Убранство комнат было весьма странное, нечто в духе современной зеленой молодежи: огромные афиши с кинозвездами, чемпионами бокса или бегов, картина сюрреалистического толка, бюст какого-то римского императора («Каракалла», уточнил Нино), на голову которого была нахлобучена кожаная кепка, по-хулигански сдвинутая на правую бровь, прямо на выложенном красными плитами полу лежали как попало циновки, а на них — проигрыватель, телевизор, груда дисков, транзистор. На кушетку был наброшен белый мех.
— Прелестно, — без особого восторга проговорила мисс Сарджент после довольно долгого осмотра. — Но только, Нино, — вежливо добавила она, — мне кажется, подобная обстановка больше приличествует какому-нибудь юнцу, а не зрелому мужчине…
Услышав этот дружеский упрек, Нино нахмурился. Но он подавил неудовольствие и смеясь сказал:
— A-а, это потому, что в душе я остался совсем юным!
Он усадил мисс Сарджент на кушетку, устроился рядом с ней, но на почтительном расстоянии, и, сам того не замечая, принялся поворачиваться то так, то эдак, принимать позы хорошо заученные, хотя они и выглядели вполне естественно, и все это с целью заставить оценить изящество его фигуры, а уж он-то знал ей цену. Бесчисленные победы Нино убедили его в том, что от него как бы исходит ощущение «кошачьей гибкости». И он развивал в себе это качество. Он знал, что на фоне белого меха, перед этой сдержанной и немного бесцветной девушкой он производит впечатление существа яркого, созданного из материала куда более ценного, нежели мрамор, гипс или даже золото, потому что он излучает тепло и жизнь; в нем чувствовалась дикость тигра, и в то же время это был молодой сеньор, ведущий свой род от древней линии, хозяин этого очаровательного, хотя и тронутого разрушением дворца, и он окутывал свою собеседницу взглядом властным и одновременно нежным, в котором поочередно проблескивали то ласкающая дерзость, то слишком смелые намеки. Мисс Сарджент сидела, как примерная школьница, выпрямившись, сжав колени, и в ее позе не чувствовалось ни напряжения, ни, в равной мере, непринужденности. Она не казалась ни испуганной, ни выжидающей: лицо ее по-прежнему излучало сердечную доброжелательность, словно она очутилась в детской с мальчуганом, крепким, милым, но необузданным, от которого только и жди любой выходки.
— Признаюсь вам, Конни, одна вещь меня весьма удивила, — проговорил молодой человек. — Я позволю себе сказать об этом, поскольку не боюсь быть откровенным с вами…
Мисс Сарджент в знак согласия дважды кивнула головой.
— Меня очень удивило, что вы остановились в этом пансионе; не спорю, он, безусловно, вполне приличный, но, право же, немного скучноват, а ведь у нас есть три или четыре первоклассных гостиницы, где очень весело… У вас были какие-то определенные соображения?
— У меня были самые определенные соображения, — ответила она безмятежно. — Просто мои средства ограничены и не позволяют мне останавливаться в тех дворцах, о которых вы говорите.
Нино потребовалось призвать на помощь все свое хладнокровие, всю свою выдержку, чтобы не показать, какой удар ему нанесен, каким новым потрясением явилось для него это признание. И все же ему пришлось опустить глаза, так как, будучи уверенным в том, что он сумеет держать в подчинении свои мускулы, не дрогнуть, он отнюдь не был убежден, что сможет встретиться с Конни взглядом: внезапная жесткость взгляда может выдать, даже если лицо бесстрастно.
— Должен ли я понять это так, — с осторожностью спросил он, — что ваша семья ограничивает вас в расходах?
И действительно, в голове его вдруг промелькнула мысль, что эта девочка, возможно, немного не в себе и семье пришлось взять ее под опеку. Может быть, ей выплачивают ренту независимо от величины состояния Сарджентов, в ожидании, когда они отделаются от нее, спихнув на руки мужу. Это предположение объясняло многое, рассеивало неясности. Оставалось узнать, чем семья Сарджент предполагает соблазнить будущего мужа? Весомым приданым? Участием в делах? Вот это придется обсудить в деталях…
— О нет, — сказала мисс Сарджент с мягкой улыбкой. — Семья меня ни в чем не ограничивает. Все они чудесно ко мне относятся, и отец, и мать, и брат… Нет, я сама ограничиваю себя в расходах на личные нужды… Добровольно.
— Но зачем? — спросил Нино, поднимая глаза и отваживаясь наконец взглянуть девушке прямо в лицо. Он улыбался, так улыбаются, услышав о какой-нибудь пустяковой причуде.
На сей раз мисс Сарджент как будто немного смутилась, немного заколебалась.
— Затем… затем, что я хотела бы жить как человек, владеющий немногим, — ответила она еще более сдержанным, более слабым, чем раньше, голосом, и она смотрела прямо перед собой, ничего не видя.
Все это показалось Нино чем-то таким же глупым и бессмысленным, как дурной сон. Не пора ли перейти в наступление, сыграть ва-банк? Пока эта девочка не возбуждала в нем ни малейшего желания, но он знал, стоит ему обнять ее и прильнуть губами к ее губам, как старые рефлексы проснутся и все будет просто: привычка. Он вспомнил слова, как-то сказанные ему матерью, укорявшей за его слишком частые приключения, которые всегда кончаются неудачей: «Нино, не отдавайся до брачной ночи». Этот претенциозный совет дамы-патронессы, данный на полном серьезе, тогда позабавил их, они весь вечер смеялись, радуясь взаимному пониманию и тому чуть язвительному юмору, которым оба они обладали и который сближал их, несмотря на различие в возрасте и сдержанность, в любом случае предписываемую семейными традициями. Но по отношению к мисс Сарджент материнский совет был неуместен, ведь Конни совсем не походила на светских амазонок, а именно против них графиня Казелли предостерегала сына. Когда, черт подери, эта девочка влюбится в него, посмотрим, как станет она обходиться со своими деньгами, и если она по-прежнему будет ограничивать себя в расходах… Он хотел придвинуться к ней (может быть, просто для того, чтобы взять ее руку или погладить по щеке), но она снова заговорила с видом прилежной девочки:
— В тот вечер, в посольстве, мне показалось, будто вы с одобрением относитесь к моим словам… А сейчас я думаю, поняли ли вы меня тогда… Нет, простите, я не это хотела сказать! Я хотела сказать: я думаю, ясно ли я выразила свои мысли… Не спорю, и место, и время были выбраны не слишком удачно, о таких вещах не говорят на светском приеме, во время званого обеда… Но не скрою от вас, Нино, ваша любезность по отношению ко мне, симпатия, которую, как мне показалось, вы выказали так быстро, так непосредственно… и потом еще ваша простая, естественная манера разговаривать… среди всех этих людей, когда почти каждый разыгрывает какую-нибудь роль и ни одному из них невозможно сказать даже половины того, что я сказала вам, не попав тотчас в ужасно неловкое положение… все это привело к тому, что я забыла, где нахожусь; а ведь именно в посольстве, больше чем где-либо, нет места искренности; я уже не видела больше никого и ничего, кроме вас, вашего красивого и доброго лица, и мне почудилось, будто среди этого сборища людей — хотя — никто из них, я в этом убеждена, сам по себе не является дурным человеком, но, сойдясь вместе, они становятся — о, боже мой! — такими безнадежно легкомысленными, что испытываешь почти стыд за то, что находишься в их обществе, — так вот, мне почудилось, будто я с вами нахожусь как бы на островке… Я попала туда лишь потому, что меня пригласил посол, он старый друг нашей семьи, даже родственник, он знал меня еще девочкой… Словом, я приняла приглашение; к счастью, встретила там вас, и мне сразу стало тепло на душе, так дружески вы отнеслись ко мне… Вот почему, Нино, я говорила с вами о вещах, о которых, не будь вас, пришлось бы молчать. А ведь вы были совсем незнакомы мне, я едва расслышала ваше имя. Но это, право же, не играет никакой роли: нельзя любить людей только за то, что они носят такое-то имя, занимают такое-то положение или делают то-то и то-то, их надо просто любить, вот и все…
Она вдруг умолкла, словно у нее перехватило дыхание или же после долгой преамбулы она искала способ, как наконец ей излить все, что наболело у нее на душе. Нино не пришел ей на помощь, ибо эта странная речь, сумбурная и в то же время целенаправленная, заинтриговала его настолько («к чему это она клонит?»), что он смотрел на свою собеседницу так, как полицейский смотрит на какого-нибудь подозрительного типа, который вот-вот «расколется», смотрел с пристальным вниманием, что придавало его взгляду инквизиторскую непреклонность, а лицу — неподвижность маски. Мисс Сарджент сложила руки на коленях. Впервые за все то время, что она провела во дворце, она, казалось, искренне страдала, и Нино снова пришло на ум сравнение с подозрительным типом, который сейчас признается во всем. Но что же так тревожит совесть этой девочки?
— Пожалуй, проще, всего — продолжала она, — объяснить вам, почему я приехала именно в Рим, а, скажем, не в Лондон… Ведь совсем не из желания повидаться со своим кузеном Патриком, послом, хотя то, что он в Риме, безусловно, облегчает мою задачу, придает мне уверенности… Я приехала в Рим потому, что там находится организация, занимающаяся проблемой продовольствия в мире и проблемой борьбы с голодом…
— Знаю, — сказал Нино, отчеканивая аббревиатуру названия этой организации. — Вы хотели бы там работать?
— Во всяком случае, я хотела бы предложить им свои услуги и… то, чем владею.
При последних словах она вдруг виновато опустила голову.
Итак, подозреваемая полностью призналась, покаялась в своем преступлении. Нино смотрел на нее, сосредоточив все свое внимание, не уверенный, хорошо ли он расслышал, правильно ли понял смысл ее слов. Он медленно повторил, словно не веря своим ушам:
— Предложить им то, чем вы владеете?
— Я знаю, мое решение может показаться неразумным, — проговорила она, не поднимая головы. — Неразумным и даже… дерзким… знаю это, потому что мои дорогие родители, когда я поделилась с ними своими планами, прямо так и сказали мне… По крайней мере поначалу. Это была их первая реакция. Но в семье меня очень любят и уважают свободу каждого, и в конце концов они согласились, что я тоже имею право распоряжаться своим состоянием, как хочу. Но это повергло их в такую печаль, словно я решила постричься в монахини и навсегда заточить себя в монастыре. И все-таки они понимают… О, они такие добрые!..
— А это… этот ваш план вам самой не кажется неразумным? — спросил Нино с той осторожной мягкостью, с какой обычно обращаются с сумасшедшими или умственно неполноценными людьми, ибо теперь он окончательно убедился, что мисс Сарджент — ненормальная. «Чокнутая, — подумал он, — не буйная, конечно, но из нее явно ничего не вытянешь».
— Мне он кажется совершенно естественным. Я даже не в состоянии представить себе, как можно было бы поступить иначе. Но я не утверждаю, что права.
— И для того, чтобы передать все, чем вы владеете, вы и приехали в бюро этой организации?
Она наконец подняла голову. Чуть заметно улыбнулась, лукаво и в то же время удрученно.
— Да… И вот это, действительно, оказалось ужасной глупостью с моей стороны. Большие организации, вроде этой, настолько пронизаны духом бюрократизма, официальщины, что мое предложение, разумеется, привело их в полное замешательство, по их мнению, оно подрывало их устои и выглядело очень подозрительно… Директор, которому меня представили, проведя сначала через пять или шесть канцелярий, знает мою семью. По-моему, этот достойный господин очень испугался, он, верно, подумал, что я… — она постучала согнутым пальцем по правому виску, — и вежливо — о, весьма вежливо! — проводил меня к выходу, заявив, что частных пожертвований его организация не принимает. Впрочем, по всей видимости, так оно и есть на самом деле.
— Но почему вы не захотели реализовать свой план в Америке? Там ведь тоже хватает обездоленных, быть может, их меньше, чем на старом континенте, но хватает…
— Если бы вы только знали, Нино, как трудно в Америке исполнить то, что я задумала. Встречают вас недружелюбно. А потом, когда узнают, в чем дело, или отворачиваются от вас, словно вы зачумленный, или же начинают делать вам различные предложения, но всегда настолько подозрительные, что создается впечатление, будто они хотят спекульнуть вашими деньгами, будто деньги эти предназначены лично им, а не тем, кто в них нуждается. И очень скоро вы оказываетесь в окружении своры шарлатанов и прохвостов… Вот я и пала духом, а потом подумала, что, возможно, в Риме… А здесь — новое разочарование, уже иного рода… И тогда я решила: буду действовать самостоятельно… Буду ездить по странам, где царит подлинная нищета, сама выискивать наиболее ужасные ее проявления, то, что нуждается в безотлагательной помощи, и срочно принимать меры… Но для выполнения такой задачи я чувствую себя слабой и безоружной… Да и как действовать совсем в одиночку?.. С чего начать?.. Где?.. Вот я и подумала, что мне нужен помощник, сильный и решительный человек, к которому я питала бы безграничное доверие…
Нино добродушно улыбнулся.
— И тут подворачиваюсь я, — вставил он.
— И тут уж моя вина, что я заставила вас подвернуться, — поправила она.
— Вина?
— Да… Вина перед самой собой. И перед вами. К чему говорить об этом? Вы не хуже моего знаете, что я ошиблась.
Дрогнувшие веки были единственным признаком смятения, которое породили в душе молодого человека эти слова. Итак, она сказала, что ошиблась… Но догадывается ли она, до какой степени она ошиблась? И если догадывается, то что думает о нем теперь? Однако во взгляде, обращенном в эту минуту к нему, не чувствовалось ни упрека, ни суровости: напротив, он излучал доброжелательность, почти нежность… Пожалуй, она ни о чем не подозревает. Да лучше и не пытаться разгадать эту загадку. Не все ли равно? Сейчас они расстанутся, и, вероятно, навсегда. Он не сердился на нее, ведь она не была нормальным человеком и, скорее всего, не отвечала за свои поступки. В конце концов, ее «ошибка» стоила ему всего лишь недели несбывшихся надежд и потерянного вечера. Не так уж страшно. Теперь ему хотелось только одного: как можно быстрее избавиться от мисс Сарджент. Но сердиться на нее — нет! Скорее он испытывал к ней сочувствие: подумать только, такой «вывих» при ее-то миллионах и миллионах долларов… Растерянная, что-то невнятно бормочущая, со скрещенными руками и вымаливающим снисхождения взглядом… Нет, он не причинит ей зла. На какой-то миг в нем вспыхнуло желание опрокинуть ее на кушетку именно за то, что она чокнутая и, может быть, слабоумная. Изнасиловать. Влепить несколько оплеух. Запугать. Увидеть ее слезы. И потом сделать покорной рабыней. За то, что она чокнутая и слабоумная… Эти мысли, вернее, картины пронеслись в его голове с быстротою молнии, как и — он сам не знал, с чего бы это? — пробежавшая по его телу дрожь, словно от знойного и опустошительного шквала, налетевшего из какого-то проклятого богом края. Но почти сразу же его желание исчезло. Нет, он не причинит ей никакого зла. Она так беззащитна. И все нещадно будут эксплуатировать ее.
— А вам не пришло в голову, — сказал он, — что, если даже вы пожертвуете все свое состояние, это будет лишь каплей воды в пустыне? Ну, пускай, чтобы доставить вам удовольствие, стаканом воды?
— Но разве стакан воды не поможет взрасти хоть одной травинке?.. О, Нино, умоляю вас, не лишайте меня мужества! Только не вы. Не лишайте меня мужества.
Нино ничего не ответил. Потом, неожиданно для себя самого, взял руку девушки и приник к ней губами. На сей раз это не было пустой галантностью.
Право, он и сам затруднился бы сказать, что на него нашло.
— Я не буду лишать вас мужества, — с улыбкой проговорил он и совсем другим тоном, словно желая положить конец разговору, добавил: — Здесь становится прохладно. Вы не хотите спуститься вниз?
Когда молодые люди вошли в гостиную, Перси бросил на них быстрый взгляд, буравящий насквозь, бесстыдный и грубый, как взгляд сутенера или содержательницы публичного дома. В облике мисс Сарджент не произошло никаких перемен. По этому признаку Перси заключил, что «наверху» ничего не произошло. Девушка поблагодарила хозяйку дома, сказала, как приятно ей было побывать здесь и какое удовольствие доставило ей знакомство…
«Нет, ничего не скажешь, ее манеры совершенно безукоризненны, — думал Перси, — но настолько провинциальны, настолько старомодны, что просто не верится, неужто эта молодая особа живет в современном мире. Какая девушка, какой юноша в наши дни так ведут себя, так разговаривают, знают эти формулы вежливости? Возможно, подобные молодые люди еще встречаются в отдаленных провинциальных замках Пруссии, Франции, Испании. Есть они, верно, и в Америке, в некоторых семьях методистов и квакеров, где детей воспитывают в старых традициях. Семья Сарджент из Питтсбурга, должно быть, входит в одну из этих пуританских сект, в которых высокое общественное положение и финансовое могущество не вступают в противоречие с моральными устоями даже самых непримиримых…» Перси был убежден, что за всю свою жизнь мисс Сарджент не произнесла ни одного грубого слова, и даже больше того — что она никогда не вела беседу ради праздной болтовни.
Когда они спускались по лестнице на нижний этаж, мисс Сарджент сказала Нино, что ему нет никакой надобности провожать ее до пансиона, ведь она не собирается возвращаться туда пешком: она возьмет гондолу… Гондолу того старого господина, который с утра до ночи поджидает одиноких туристов… Нино вскричал, что об этом невозможно даже помыслить: лодка слишком грязная, старый господин — тоже, да и сам путь слишком долог: придется не меньше двадцати минут кружить по лабиринтам пустынных каналов, Конни простудится, ведь она без пальто… И уж коли ей во что бы то ни стало хочется помочь бедняге, то это проще простого: можно дать ему три тысячи лир, вот и все. Мисс Сарджент возразила, что это совсем не одно и то же. Нельзя подавать милостыню. Ни в коем случае. Старый господин, безусловно, нуждается в деньгах, и он их получит; но больше всего он нуждается в вере в то, что еще способен заработать себе на жизнь своим трудом. Пусть сегодня вечером он вернется домой со словами: «Вот я заработал», а не со словами: «Вот мне подали…» Нино выразил сомнение, стоит ли ради этого в течение двадцати минут терпеть такие неудобства, да еще с риском схватить бронхит. Мисс Сарджент заверила его: да, это стоит гораздо большего… «Надо же, — думал Нино, — поднять столько шума из-за шестидесятилетнего гондольера, который, наверно, был бы немало удивлен, узнав, что юная туристка из Америки, да еще миллионерша, озабочена тем, как бы не унизить его достоинство. Небось он первый посмеялся бы над этим, — мысленно заключил Нино, — но раз уж Конни так держится за свои столь утонченные понятия о благотворительности, не следует противоречить ей, не правда ли?» К тому же он чувствовал, что при всей своей мягкости, своей скромности, тихом своем голоске она, по-видимому, особа решительная…
— Полноте, Нино, — сказала мисс Сарджент, — это не будет для меня большим испытанием, поверьте мне. Ничего со мной не случится. Американцы народ крепкий, они не подхватывают бронхит так просто…
— Я знаю, мне не удастся переубедить вас. Но тогда я хотя бы возьму у матери шаль, вы накинете ее на плечи. Подождите меня здесь, я сейчас вернусь. — И, не обращая внимания на возражения девушки, он, перепрыгивая через две ступеньки, взбежал по лестнице.
Стоя у окна, Лавиния и Перси наблюдали за отъездом мисс Сарджент. Темнело. Туман курился над каналом. На противоположном берегу уличный фонарь бросал широкое пятно желтого света, вырывая из темноты кусок мокрой стены, покрытой зеленоватыми пятнами плесени, почерневший, наклоненный над стоячей водой причальный столб, липкий от тины край набережной, засохшую кожуру апельсинов на мостовой. На фоне этой унылой декорации появились силуэты Нино и мисс Сарджент. На плечи девушки была накинута шаль, концы которой она, скрестив руки, придерживала у груди. Нино крикнул: «Гондола! Гондола!» — и хлопнул в ладоши. Звук его голоса прокатился от одной стены до другой, еще более явственно подчеркнув вечернюю тишину, пустынность квартала. Неподалеку послышался шум торопливо приближающихся шагов, затем в желтом круге фонарного света появился гондольер. Нино объяснил ему, чего от него хотят. Когда тот понял, что его позвали затем, чтобы отвезти барышню в Цаттере Санто Спирито, он несколько раз поклонился ей, бормоча: «Сейчас, сейчас, синьорина!» — и исчез в темноте, побежал за гондолой, пришвартованной неподалеку.
— Бедняга! — сказал Перси. — Сколько же дней ему не выпадало такой удачи?.. И можешь не сомневаться, малышка отвалит ему в пять или шесть раз больше, чем причитается…
Он был заворожен картиной, которая открывалась перед ним в десяти метрах внизу, на набережной. Туман все наползал и сгущался с каждой минутой. Мягкое шлепанье весел оповестило о приближении гондолы. Она медленно пересекла желтый круг света и остановилась перед мисс Сарджент.
— Дорогая, — проговорил Перси, — посмотри: Гварди, подправленный кистью Магритта.
Он видел, как девушка пожала руку Нино. Подняла к нему свое улыбающееся и немного печальное личико. Потом с помощью молодого человека прыгнула в гондолу и прошла вперед, к носу, чтобы сесть там на подушку, положенную для нее гондольером…
«Какая странная девушка, — подумал Перси. — Такая странная! Почти непонятная. Больше мы ее, наверное, никогда не увидим. Значит, хотя бы временно, но надо оставить надежду высадиться на западном берегу. Бедный Нино. Сколько же времени еще продлится его безденежное и распутное холостяцкое житье? Бедная Лавиния. Неужели она и в самом деле вынуждена будет переселиться в скромные комнаты под крышей? И бедняга я сам, Перси, ведь мое положение год от года становится все тягостнее…» Он вздохнул. Гондола растаяла в тумане ночи вместе со своей пассажиркой, той, на которую возлагалось столько несбывшихся надежд. От канала тянуло сыростью, запахом тины и холодом. Они закрыли окно. Задернули занавеси.
— Ну что ж, хоть для одного человека визит Конни обернулся сказочной удачей: для старого Джузеппе!
Нино вошел в гостиную, которая теперь была погружена в полумрак.
— Если я правильно поняла твои слова, — сказала Лавиния, — тебе удача не улыбнулась?
Нино пожал плечами. Было непохоже, что он разочарован или хоть сколько-нибудь недоволен.
— О, знаешь, она очень славная девушка. Не в нашем духе, но все же очень славная.
— В каком смысле — не в нашем духе? — спросила Лавиния. — У нас что же, есть свой дух? Вот не подозревала!
Нино сел на кушетку рядом с Перси, непринужденно вытянул ноги.
— Она одержимая, — проговорил он без злобы и раздражения бесстрастным тоном, так обычно говорят, когда хотят дать оценку какому-нибудь факту, явлению, настолько очевидному, что и обсуждать тут нечего. — Я даже подумал, что она с приветом.
— С чем? — нетерпеливо переспросила Лавиния. — Я не владею, как ты, Нино, уличным жаргоном.
— Сумасшедшая, если тебе угодно. Мозги набекрень. Не в своем уме. Чокнутая. У меня мелькнула было мысль, что она находится под опекой. Теперь, правда, я так не думаю. Она одержимая, но не опасная.
— Одержимая? Чем же, великий боже? — воскликнул Перси.
— Ягнятки мои, пристегните ваши ремни, привяжитесь к креслам и наберите в легкие побольше воздуху… — Он сделал паузу и произнес предельно спокойным голосом: — Она хочет отдать все свое состояние бедным.
Наступило молчание. Нино поочередно оглядел мать и Перси, как бы оценивая произведенный эффект.
— Там, наверху, она сказала тебе, что хочет отдать свои деньги бедным? — переспросил Перси.
— Точно. Она выразила это другими словами, но желание ее именно таково.
— Но какого черта она выложила это тебе? Уж тебе-то она должна была рассказать такое в последнюю очередь! И что ей надобно от тебя?
— Ты не поверишь мне, — очень спокойно ответил Нино. — Она хотела, чтобы я ей помог.
— Чтобы ты ей помог? — вскричал Перси визгливым голосом и рывком вскочил. — Чтобы ты помог ей раздавать деньги бедным? Ты?
— Просто нелепица какая-то, — проговорила Лавиния. — Послушай, Нино, ну что ты несешь! Надеюсь, это шутка?
— Вовсе нет, мать. Чистая правда, ошеломляющая истина. Мисс Сарджент окончательно и бесповоротно решила отказаться от своего состояния в пользу обездоленных всей земли, и тогда, в Риме, бог знает почему, она вбила себе в голову, что именно я тот субъект, который может помочь ей в этом богоугодном деле… Одержимая, я вам говорю. Но славная девчонка, несмотря ни на что. В общем, очень симпатичная… Кстати, Перси, она лестно отозвалась о тебе. И о тебе тоже, мать… Словом, вот так-то… Тут мы попали пальцем в небо. Но какое это имеет значение!
Перси молчал. У него вдруг появилось ощущение, будто он отыскал наконец в хитросплетении линий лицо на загадочной картинке. Весь вечер, глядя на мисс Сарджент, он догадывался, что оно где-то здесь, оно лишь пока еще спутано с другими лицами — дурочки, снобки, разнузданной интеллектуалки, борца, эстетки, — порожденными его воображением и предназначенными специально для того, чтобы запутать его, помешать ему сразу найти то, что нужно. Почти весь вечер он томился каким-то беспокойством, словно домашний пес, почуявший постороннего, пусть даже не врага, несущего дому страшную угрозу, но все же существо совсем чуждое, которому здесь просто не место, которому нечего делать в этих стенах, которое может только стеснять всех. Тогда встревоженный пес лает, кружит по комнате, и хозяин извиняющимся тоном говорит гостю: «Не знаю, что с ним такое сегодня, он так возбужден…» Вот и Перси в присутствии мисс Сарджент окончательно потерял почву под ногами, городил глупость за глупостью, залпом выпаливая напыщенные фразы. Теперь лицо видится ясно, оно просто бросается в глаза, его даже можно назвать своим именем, очень простым, очень нелепым, очевидным, оно и возмущает, и заставляет внутренне кричать: «Это немыслимо! В наши дни таких вещей не бывает! Возможно, такое случалось в прежние времена, в далекие средние века, но не теперь, не в наши дни, и в особенности — не в Америке!»
— Что ты думаешь обо всем этом? — спросила Лавиния. — Ты веришь рассказу Нино, веришь в то, что эта девушка одержимая?
Вырванный из раздумий, Перси вздрогнул. Гостиная была окутана сумраком; он смутно видел перед собой Лавинию, очертания ее величественной фигуры.
— Думаю ли я, что… — начал он. — О нет! Мисс Сарджент не одержимая, Лавиния, она… — Он запнулся. Он понимал, что не может сказать то, что хочет; не может здесь, в этой гостиной, перед этой дамой и этим молодым человеком назвать своим именем спрятанное лицо, которое он только что с трудом отыскал. Не может сказать: «Она святая», потому что от этого взрывного слова, наверное, взлетел бы на воздух дворец Казелли, или просто потому, что Лавиния пожала бы плечами, ответив: «Не смешно, Перси». И была бы права. В конце XX века глупо или безумно говорить: «Она святая. Святая Франсуаза Ассизская. Или, вернее, святая Конни Питтсбургская…» А раз так, лучше не называть своим именем спрятанное лицо, лучше сказать что угодно другое — …просто эксцентричная особа! — закончил он, и голос его слегка дрогнул. — Ты же знаешь, там, в Америке, таких тьма. Как сто лет назад в Англии. Вспомни-ка этот старый денежный мешок из Техаса, миллионершу, которая все огромное состояние завещала своим собакам… И мисс Сарджент того же толка.
Мысленно он снова увидел гондолу, тающую в тумане, хрупкую, немного ссутулившуюся, закутанную в шаль фигурку, сидящую на носу, и почувствовал, как у него защемило сердце, словно он только что предал друга или ударил ребенка.
— Ладно, мне надо позвонить по телефону, я поднимусь наверх, — сказал Нино. — Вы меня извините?
Он направился к галерее. Лавиния тоже сказала, что ей необходимо заглянуть к себе в спальню. Перси остался один. Обычно, когда он пребывал в одиночестве, что с ним случалось, пожалуй, лишь у него дома в Лондоне, он обязательно что-нибудь делал: прибирал или читал, писал письма или подолгу разговаривал с друзьями по телефону, слушал музыку. Он почти всегда старался чем-нибудь занять себя, чтобы только не думать, не размышлять, ибо это всегда кончалось тем, что его охватывал страх. И здесь, в этой привычной ему гостиной, он тоже мог бы открыть книгу, альбом или повернуть ручку радиоприемника. Но он этого не сделал. Он сидел неподвижно в полутьме, и на лице его было совсем не свойственное ему выражение: это был совершенно другой человек, вдруг постаревший, бесконечно усталый, чем-то встревоженный и печальный. Потом он услышал шум шагов по плитам галереи, и мужской голос, громкий и звонкий, прозвучал с порога гостиной:
— Э-э, ну и мрак здесь! Чего вы сидите в темноте! Мне нужен свет, как можно больше света!
Нино зажег лампу, потом вторую, третью. Он включил также скрытый прожектор, который подсвечивал потолочную фреску. Несравненные олимпийские боги вынырнули из темноты, выставляя напоказ свои прекрасные белоснежные или смуглые тела под взлетающими тканями и прозрачными покрывалами; и в каждом из четырех углов мускулистый демиург, заранее смеясь удачной шутке, которую он собирается сыграть, готовился похитить смертного на потеху бессмертным. Перси сощурил глаза, встрепенулся, словно пробудившись ото сна. Нино стоял перед ним в том же безукоризненно свежем светло-коричневом костюме, в зеленом галстуке с бронзовым отливом. Вид у него был веселый и даже немного шаловливый.
— Эге, старина, ну и видик у тебя! — вскричал он. — Ты спал, что ли?
— Мне кажется, я действительно немного вздремнул…
— Где мать?
— Мать здесь, — сказала Лавиния, появляясь в дверях, ведущих из прихожей. — Что тебе угодно от нее?
Она все еще была в своей длинной темно-синей тунике; наверное, ходила немного подмазаться и поправить прическу. Нино сделал вид, будто осматривает гостиную, как бы оценивает ее.
— Интересно, способна ли эта разваливающаяся роскошь произвести впечатление на восточную принцессу? — Он повернулся к матери, которая уже приближалась к ним — Мать, мы можем пригласить завтра вечером на обед одного человека?
— Кого ты собираешься пригласить?
— Одну довольно экзотическую особу со слегка раскосыми глазами… Я только сейчас звонил ей по телефону в «Гритти», к счастью, она оказалась у себя. Я на свой страх и риск пригласил ее, и она сразу же изъявила готовность прийти к нам. Представьте себе, она прекрасно меня помнит, хотя мы прошлым летом в Каннах протанцевали с ней всего один вечер… Я даже подумываю, что она прикатила в Венецию не без задней мысли. Она ведь знала, что я живу здесь… Ах, мать, такого, как твой дорогой сыночек, так просто не забывают!
— Нино, прошу тебя, перестань паясничать! Что это за особа?
— Я уже сказал тебе: экзотическая кукла. Но не воображай себе мадам Баттерфляй! Это совсем не то. Огромные предприятия, моя дорогая. Просто колоссальные.
По мере того как Нино говорил, Перси чувствовал, что жизнь, веселье, смех снова наполняют все его существо, словно живая вода из источника, который давно не подавал признаков жизни. Возбужденный, с оживившимся лицом, помолодевший, он вскочил.
— Поворачивай другим бортом! — вскричал он. — Курс на Восток!
— Я не уверена, что это удачная шутка, — колко сказала Лавиния.
Но упрек не охладил восторгов Перси.
— Ах, Нино, и находчивый же ты малый! Всегда что-нибудь придумаешь! Давай-ка, быстро рассказывай: кто она? Чем занимается?
— Чем занимается, Перси? Ну, разумеется, ничем. Она стрижет купоны.
— Возвышенное занятие! Именно то, что нам по душе! И завтра она придет сюда, ты говоришь?
— Если мать согласится принять ее…
Лавиния села, не спеша закурила сигарету, выпустила струйку дыма. Она сидела в непринужденной позе светской дамы, которую весьма мало волнует житейская суета.
— Я приму ее, — произнесла она наконец, — если ты ручаешься, что она вполне приличная особа.
— В этом ты можешь не сомневаться, — ответил молодой человек. — Древний род. Громкое имя. Предки самураи, ты ведь представляешь себе, что это такое…
Лавиния некоторое время пребывала в нерешительности: должна ли она разыгрывать безразличие или, может, даже высокомерие? Или же лучше включиться во всеобщую ажитацию? Ей хотелось бы покичиться перед Перси, даже если он догадался, что она кичится ради него; но, с другой стороны, у нее появилось желание немного позабавиться, расслабиться. Она выбрала середину, приняла половинчатое решение, где легкий юмор соседствовал с чувством собственного достоинства. Придав своему голосу самую что ни на есть пренебрежительную интонацию, она проговорила:
— Самураи, правда? Но верно ли, что самураи вполне, вполне порядочные люди?
Мужчины не обманулись относительно ее намерений.
— Дорогая, ты божественна! — воскликнул Перси. — Только ты можешь говорить такие смешные вещи! Я обожаю тебя!
Обуянные каким-то циничным весельем, все трое расхохотались, в восторге от немного озорного сговора. Перси подумал, как это восхитительно — быть здесь, с этими двумя существами… Мрачная гондола окончательно растаяла в тумане лагуны вместе со своей зябкой пассажиркой. Это уже прошлое. Далекое прошлое. Здесь хорошо. Какое значение имеет все остальное?.. На пороге старости Перси хотел от жизни только одного: с помощью долларов или иен держаться подальше от революций, от несчастий, и пусть всегда будут для него обеды при зажженных свечах, болтовня за чашкой чая, потолки с олимпийскими богами в итальянских дворцах или шотландских замках, произведения искусства, здоровая кухня, полный досуг и сплошные развлечения. В общем, он ведь просит так немного: пусть до конца его дней ему будет даровано счастье жить на парадном этаже.
Метаморфоза
В канун своего сорокатрехлетия Бернар Сарлье осмелился признаться себе, что он не любит больше жену, почти не любит детей и все дела ему осточертели. Пора бежать. И он сбежал в Аргентину, где у его семьи был двоюродный дед и estancia[12]. Двоюродный дед, старый холостяк, слыл пьянчужкой и полусумасшедшим. Estancia, наследство от беарнской ветви их клана, с годами приходило в упадок. Бернар принял на себя и деда, и estancia и был принят ими. Прошло время. Двоюродный дед умер, поместье целиком легло на плечи Бернара, и ему удалось привести его в приличное состояние, даже в какой-то мере вернуть былое процветание. Для Бернара началась вторая жизнь; она была куда больше ему по душе, чем первая. Он упрекал себя в том, что попусту растратил двадцать лет жизни, играя чуждую ему роль, и в то же время испытывал чувство удовлетворения при мысли, что нашел в себе мужество сделать решительный шаг, не дожидаясь, когда стало бы слишком поздно. Простор, свежий воздух, уединение, тяжелая, но сравнительно немудреная работа — все это отвечало его немного диковатой натуре. Боясь превратиться в такого же деклассированного старого чудака, каким был его покойный дед, Бернар старался все же поддерживать дружеские отношения с соседями, живущими за пятьдесят, а то и за сто километров от него. Он наносил им визиты, с широким гостеприимством принимал их у себя, но гораздо большее удовольствие получал от общества своих слуг — с ними он все вечера напролет дулся в карты — и пеонов, людей по большей части весьма молчаливых. Раз в месяц он на машине отправлялся в столицу за покупками. Он не пил, без особых усилий соблюдал умеренность в еде. Спустя некоторое время после смерти деда он взял в привычку привозить к себе в дом какую-нибудь девицу. Она жила у него несколько дней или несколько месяцев; потом, наградив ее платьями и деньгами, он отсылал ее обратно и принимался искать ей замену.
Изредка он вспоминал о жене, детях и других родственниках. Он признавался себе, что, узнай он о смерти кого-нибудь из них, он, наверное, не очень бы горевал; и от самой этой мысли ему становилось горько, но не больше чем на две-три минуты. Как-то он написал жене, что, если она хочет вновь стать свободной, он, естественно, готов пойти ей навстречу: пусть подает на развод. Письмо по своему лаконизму было почти оскорбительным. Ответа на него он не получил. Перед своим отъездом Бернар заключил с братом соглашение об управлении предприятием (заводом по производству ротационных машин), которым они владели на паритетных началах. Сохранив свои акции, он полностью передал управление в руки Леона, договорившись, что за свои труды тот будет получать половину его доходов. Он предусмотрел, разумеется, содержание жены, а также детей — до их совершеннолетия. Все было сделано по закону, зафиксировано в контракте, составленном по надлежащей форме.
Бернар всегда был человеком нелегким. Его шальные выходки, скандалы, переход из лицея в частный коллеж приводили в отчаяние самых терпеливых воспитателей. Занимался он урывками, но, поскольку любые науки постигал необычайно быстро и без малейших усилий, экзамены сдал с блеском; все вокруг прочили ему блестящее будущее. Но он, казалось, был начисто лишен всякого честолюбия. Университетские годы Бернара — это сплошной классический разгул с пьяными ночами, с драками, долгами и несколькими тайными расследованиями полиции, которые семья быстро замяла, воспользовавшись своими связями. Когда стало уже невозможно больше получать отсрочку от призыва в армию, ему пришлось отправиться в казармы. Через две недели после призыва он едва не убил унтер-офицера. Благодаря заступничеству генерала, друга отца, его демобилизовали по причине психической неуравновешенности, что, впрочем, в какой-то степени соответствовало действительности. Удрученная семья не знала, что же ей теперь делать с этим бунтовщиком, для которого нестерпимо любое принуждение. И вот как раз в то время, когда близкие уже потеряли надежду увидеть Бернара остепенившимся и жили в постоянном страхе, как бы он чего не выкинул, как раз в то самое время его угораздило влюбиться в девушку, которая была полной противоположностью тому, что его обычно привлекало, — в обыкновенную жеманную мещаночку, к тому же не очень красивую. И к восхищению родных, которые боялись даже поверить в это, сумасбродный повеса день ото дня стал превращаться, или казалось, что стал, во вполне приличного молодого человека. Наспех сыграли свадьбу. Бернар согласился вместе с братом управлять заводом. Прошло пять или шесть лет, и можно было подумать, что он окончательно образумился. Один за другим родились двое детей. Потом мало-помалу дела пошли хуже. Примерный муж начал проявлять некоторые признаки беспокойства. Безупречный компаньон позволил себе одну или две выходки. Супруга жаловалась на то, что она заброшена, брат — что его эксплуатируют. У Бернара возобновились вспышки гнева, которых некогда так боялись. Он снова стал самим собой, таким, каким его знали всегда. Словно очарование любви, которое на время укротило его, ушло и дремавшая в кем дикость опять пробудилась. И тем не менее еще несколько лет прошли без драматических событий. Все с грехом пополам держалось, хотя с каждым днем положение становилось хуже и хуже, и так продолжалось до того самого дня, когда Бернару исполнилось сорок три года и когда он, грозно, как никогда, глядя на своих близких, резким, как никогда, тоном объявил им, что намеревается покинуть их навсегда. Для виду они немного попротестовали. Сесиль расплакалась и сказала, что она опасается, как бы на семью не легло пятно скандала, опасается не столько за себя, сколько за детей. Это не растопило ледяной холодности Бернара. Через месяц он исполнил задуманное. И едва он смотал удочки, вся семья дружно и с облегчением вздохнула.
Впоследствии, когда Бернар случайно вспоминал о своей помолвке и женитьбе, он всегда недоумевал, почему и как он влюбился в Сесиль; и наоборот, он прекрасно знал, как и почему он в скором времени стал ее ненавидеть. И вовсе не консерватизм жены приводил Бернара в отчаяние; пожав плечами, он смирился бы с этим, если бы верил, что Сесиль искренна в своих взглядах; но он ни капли не сомневался, что это не так: точнее сказать, она перед самой собой играла комедию добрых чувств, хорошего тона, и вот это-то и было непереносимо. Будь она поистине благонравная — пусть: каждый волен придерживаться собственной морали. Благонравная, у которой всегда такой вид, будто она искоса подглядывает, какой эффект производят ее нравоучительные речи, — от этого стрелять хочется! В памяти Бернара запечатлелась целая серия картин, представлявших Сесиль в различные моменты ее великой роли (католическая матрона из высшего света): Сесиль в церкви, Сесиль принимает друзей за чашкой чая, Сесиль деятельно поддерживает депутата консерваторов во время предвыборной кампании, Сесиль школит детей, прививая им хорошие манеры… И всегда нежный, хорошо поставленный голос, спокойное лицо, благожелательный взгляд — хотя время от времени в нем и проблескивали голубые холодные молнии, — умение держаться с достоинством… Бернар сохранил также в памяти небольшую антологию сентенций своей жены: «Возможно, мы совершаем ошибку, привечая у себя столько иностранцев». (Мы — это Франция.) «Если бы мы сумели заставить арабов больше уважать себя, мы сохранили бы Алжир… Но наши внутренние распри…», «Французы неуправляемы», «Если власть лишена силы, все рушится», «Упадок нравов — следствие упадка веры…», «Социальное неравенство будет существовать вечно, равенство — просто обман». Все это было бы лишь смешно, если бы за этим не крылось непреклонное стремление упрочить свои привилегии, защитить свои интересы. Бернар дивился, как мог он некогда полюбить эту вздорную, чопорную женщину. Правда, юная Сесиль в свое время показалась ему более непосредственной, более наивной. И к тому же сама тайна девственности (абсолютно гарантированной в избранном обществе) для молодого человека, который вынужденно или по собственной воле имел связи только с женщинами весьма доступными или даже откровенно продажными, — эта тайна в течение нескольких недель была чем-то завораживающим. Отрезвление наступило быстро! Во-первых, никакой тайны не оказалось. Во-вторых, ничего особенного по сравнению с тем, что он уже знал.
Даже дети не принесли Бернару утешения в столь неудачном браке, но это, пожалуй, произошло по его вине: ему не хватало терпения, и он не умел обращаться с детьми; к тому же у него, должно быть, от природы не были развиты отцовские чувства. Дочь Франсина, несмотря на скверный характер и их бесконечные ссоры, была его любимицей. Позднее, годам к пятнадцати-шестнадцати, она стала такой претенциозной, что несколько раз на дню ему хотелось отхлестать ее по щекам. И конечно же, Бернар не раз срывался. Хватило бы и одной пощечины, чтобы оттолкнуть от себя Франсину. После второй пощечины разразилась война, которая уже не прекращалась. Отец и дочь подолгу не разговаривали друг с другом, впрочем, и виделись-то они редко. Франсина принадлежала к «банде» золотой молодежи и делила свое время между развлечениями, проводя уик-энды в окрестных замках, а все вечера — на танцульках, и весьма неопределенными занятиями на филологическом факультете. Много денег, много позерства, ненасытное тщеславие. У нее был культ аристократизма, титулованных имен; она зубрила «Готский альманах»; она грезила о морских путешествиях на яхтах греческих миллиардеров; она бегло разговаривала на «франгле» — франко-английском жаргоне. В общем, чистейший продукт западной демократии… Едва услышав от нее что-нибудь вроде: «Вечер у X — единственное, что было изысканного на этой неделе» или: «Сходите на новый фильм — это must[13]», — Бернар скрежетал зубами.
С Арно враждебность возникла позднее. Сын для Бернара был разочарованием, он не был наделен внешней привлекательностью. Бернару приходилось делать над собой усилия, чтобы выказать нежность к губастому верзиле с грустными глазами спаниеля. Иногда ему это удавалось, и он радовался, что проявил себя таким хорошим отцом; но чтобы в самом деле испытывать привязанность… Конечно, спору нет, это было жестоко, пожалуй, непростительно жестоко, но что поделаешь: Бернар не принадлежал к числу людей, которые обманывают себя или плутуют с самим собой. «Будь он калекой, я бы его лелеял… А он всего лишь некрасив… Я не могу заставить себя любить его. Порою он даже внушает мне чуть ли не отвращение». Мальчик был ему в тягость, но Бернар всячески щадил его, желая смягчить несправедливость судьбы, разговаривал с ним ласково, продумывая каждое слово, но насколько возможно избегал его, и, когда, мальчика не было дома, ему дышалось вольнее. И все-таки у него сохранились бы вполне приличные отношения с Арно, если бы тот проявил какие-то достоинства ума и души, которые помогли бы забыть о его уродстве. Встречаются люди с отталкивающей внешностью, которые обладают необыкновенным обаянием, потому что их благожелательность, ум или дарование прорываются сквозь телесную оболочку и преображают ее. Но Арно был иным. Ум туманный, вялый, склонный к фантазерству, он принадлежал к числу тех детей, для которых систематическое образование пагубно, потому что оно обрушивает на них поток информации, которую они не в состоянии усвоить, как не в состоянии овладеть речью. Лицей нанес ему некоторый вред. Университет довершил этот процесс. В университет он пришел нерешительным, робким юношей. Через год он приехал на каникулы уверенный в себе, болтливый, но речь его не стала более ясной и выразительной, скорее даже наоборот. Понять смысл его высказываний по-прежнему было довольно трудно. После двух семестров, проведенных на факультете общественных наук, его отчислили. Но, к удивлению Бернара, замкнутость Арно была оценена некоторыми его друзьями. Чем более сын казался Бернару косноязычным, тем более эти ценители человеческого интеллекта находили его глубоким. Арно стал властителем дум небольшой группы молодых людей, которых объединяла принадлежность к классу буржуазии и националистические убеждения. И действительно, политическим идеалом Арно был самый ярый национализм: «Демократия выделяет в тело общества гибельные токсины: нужно восстановить идеи порядка, власти, уважения традиций; рабочий класс имеет право отстаивать свое достоинство, но было бы опасно всегда уступать его требованиям; мы нуждаемся в твердом режиме; сохраним нашу веру в судьбы страны…» И все это в тот момент, когда генерал де Голль готовился подписать с руководителями Фронта национального освобождения Алжира Эвианские соглашения… Возможно, Бернар предпочел бы, чтобы Алжир продолжал оставаться французским. Он сожалел о его утрате, как сожалел об утрате французами престижа в других сферах. Но он достаточно здраво оценивал требования эпохи, чтобы понять: отныне народы стремятся к независимости, к автономии, как каждый индивидуум — к свободе. Он знал также, что справедливость — это непреодолимая страсть, которая жжет сердца людей. И наконец, он предчувствовал, что пришло время общественных формаций, которые выражали бы интересы масс, а это рано или поздно повлечет за собой крах привилегий. Если ты достаточно проницателен и честен, нужно принять эти очевидные новые жизненные процессы, понять, что они имеют свою закономерность. Итак, все то, что Арно и его дружки отрицали, вскрывало, казалось Бернару, или слепоту их разума, или некоторую подлость их морали, эгоистическую приверженность к личным привилегиям, а может, то и другое разом. Что же касается сына, то Бернар считал, что в истоках его ультранационалистических убеждений в действительности лежит глупость, чистейшая и простая глупость, с одной стороны, а с другой — кастовая гордость, сознание, что он принадлежит к социальной элите. Арно не был жадным; и не богатство семьи (завод, собственный дом в городе, поместье, банковский портфель) импонировало ему, а самый факт, что их семья ведет свой род издревле и влиятельна в их краях, что она носит фамилию пусть не аристократическую, но известную в провинции, что она вот уже сто пятьдесят лет владеет предприятиями. Арно был глупый и тщеславный, но относительно бескорыстный.
В обществе благонравной, погрязшей в своем праздномыслии Сесиль, агрессивной, пропитанной до мозга костей снобизмом, едва сдерживающей ярость Франсины, с двенадцати лет занятой охотой на мужа, простофили Арно, увязшего в вареве национализма, сильно припахивающего замаскированным фашизмом, и, наконец, краснолицего Леона, с больной печенью, всегда находящегося на грани инфаркта или инсульта (и несмотря на это, самого приветливого из всей компании), в обществе этих людей, которые не любили его и которых не любил он, Бернар провел мрачные годы, то с яростью, то со смирением вопрошая себя, в результате какой ошибки при распределении судеб ему, да, именно ему, человеку неуживчивому, анархисту по природе своей, выпала такая семья. Белая ворона своего класса, он зато очень быстро и очень хорошо поладил с белой вороной предшествующей эпохи — со своим желчным и почти сумасшедшим двоюродным дедом, которого пятьдесят лет назад услали в аргентинское поместье… Из поколения в поколение повторяется та же самая история.
В памяти Бернара снова всплывали некоторые вечера, некоторые семейные обеды: его переполненная сдерживаемой агрессивности дочь, с презрительным видом: его благонравная жена; обе — стереотип женской элегантности своего круга: платья от Шанель, клипсы с бриллиантами; в конце стола Арно — волосы подстрижены бобриком, как у прусского офицера, негнущаяся спина, затянут в пиджак, напоминающий военный китель; и Бернар словно снова чувствовал своего рода электрический ток, который циркулировал между ним, двумя женщинами и подростком, зажигая в глазах то одного, то другого искры, а каждая реплика проходила сквозь зубы с потрескиванием, словно разряд тока высокого напряжения. Случалось немало бурь, особенно грозная была в тот вечер, когда Бернар обнаружил в комнате сына (он зашел туда, чтобы попросить книгу) любопытный игрушечный набор: два револьвера, кортик и фуражку вермахта, много гербов со свастикой, фотографии грандиозного ночного сборища в Нюрнберге и, наконец, портрет Гитлера, на котором, право, не хватало только автографа. Гнев Бернара поверг пятнадцатилетнего Арно в ужас. Вечером Сесиль, узнав о скандале, упрекнула мужа в горячности: «Нет, поверь мне, в душе он вовсе не нацист!.. Все это просто инфантильность… Да, я знала о существовании этих игрушек, Арно от меня ничего не скрывает… Совершенно невинная забава, уверяю тебя. Юношеская романтика… Мечты о величии… Гитлер для него — Наполеон…»
Покидая в 1963 году Францию, Бернар не задумывался о том, вернется ли он, и если вернется, то когда. Все десять лет, проведенные им в Аргентине, он был так поглощен работой, что ему ни разу не удалось выкроить время и хотя бы на несколько недель съездить домой. Он свыкся с новым образом жизни, со страной, с ее жителями и их нравами с такой быстротой, что это поразило даже его самого. Франция была далеко; все, что происходило там, перепутывалось в его сознании с тем, что происходило в остальном мире, и отзвук событий лишь глухо доходил до дома, затерявшегося среди пампы. Время от времени разражались войны на Востоке, на Ближнем Востоке. Волнения молодежи вспыхивали во многих западных столицах и университетских парках Америки; они ставили в затруднительное положение правительства, потом с началом каникул затихали. Почти повсюду давали себя знать первые симптомы мирового экономического кризиса. На фоне таких столь различных потрясений формировались все человеческие судьбы в XX веке. Поглощенный своей работой, Бернар следил за событиями в мире не слишком регулярно и без особого внимания. Однажды у него случился небольшой сердечный приступ, не тяжелый, но он исподволь заставил Бернара задуматься о себе, о своей жизни. В расцвете физических и духовных сил он вдруг понял, что старость уже подкарауливает его, она не за горами, притаилась на обочине. И тогда он в полной мере осознал, что ждет его в этом добровольном изгнании. Он неожиданно затосковал по небу более прозрачному, горизонту более строгому, городам более древним и жизни более беспечной и, быть может, более возвышенной. В нем проснулся интерес к духовным ценностям, к неведомым ему областям искусства и Красоты. Он сказал себе, что он варвар, неотесанный мужлан; и у него появилось желание стать немного лучше, тоньше, если это еще возможно… Пришло время, решил он, снова собираться в путь, снова менять жизнь, и он тут же наметил себе программу действий. Полгода он будет проводить в Аргентине, полгода — в дорогой его сердцу старушке Европе, ведь это, наконец, его родина. Во время его отсутствия estancia будет заниматься управляющий. Впрочем, Бернар уже давно подумывал создать там своего рода кооператив, хозяйствовать в котором сообща станут все, кто там работает. Он написал брату, известил его о своем возвращении. Он поделился с ним своими планами и попросил его обязательно приготовить для него те деньги, сумму весьма значительную, что составляли его долю прибылей, которые к тому же за десять лет принесли проценты. Он представлял себе удивление, быть может, даже подавленность своей семьи, ведь они, верно, уже считали, что избавились от него навсегда. Встреча, пожалуй, будет нелегкой… Ну и пусть! Эта тяжелая минута останется позади, и он отправится путешествовать, наконец-то насладится долгим досугом… С высоты своих древних крепостных стен, через пролегавший между ними Атлантический океан, Европа манила его.
Первое, что поразило Бернара, когда он ступил на родную землю на аэродроме Орли, был вид полицейского, парня, одетого в туго обтягивающие бедра темно-синие брюки и небесно-голубую рубашку — стоял сентябрь и было еще тепло. Когда взгляд Бернара упал на полицейского, тот как раз открывал элегантную сумочку, которая свисала у него с плеча на длинном ремне (как женские сумки во время оккупации). Заинтригованный Бернар остановился, спрашивая себя, что же этот блюститель порядка намеревается вытащить из своего ридикюля. Полицейский извлек оттуда всего лишь носовой платок и вытер им лоб.
Для вернувшегося на родину изгнанника это было первым признаком перемен, какой-то возможной эволюции…
Поезд, в котором был парикмахерский салон, киоск с сувенирами и gadgets[14], а также snack-bar[15], за четыре часа домчал Бернара домой. Брат, единственный представитель семьи, ждал его на перроне. Он постарел, но не так уж сильно. Он пробегал взглядом окна, ища Бернара, и во взгляде этом было столько беспокойства, столько нескрываемой тревоги, что Бернар подумал: «Кто-то умер. Леон страшится сообщить мне эту весть». Быстро выйдя из вагона, он с чемоданом в руке направился к брату. Они обнялись.
— Я заказал себе номер в «Отель де Франс», — сказал Бернар.
И так как Леон вяло запротестовал, что его, мол, ждут «дома», безапелляционным тоном в нескольких словах пояснил: после столь долгого, а главное, столь радикального отсутствия (ни писем, ни вестей), — отсутствия, походившего скорее на окончательный разрыв, неизвестно, какой прием уготовили ему близкие, поэтому он решил, что разумнее первые дни, пока он не встретится со всеми членами своей семьи и не узнает, сможет ли он жить дома, побыть одному.
Леон пробормотал:
— Как тебе будет угодно.
Леон отметил про себя, что Бернар не изменился, что он так и остался обидчивым сумасбродом, поступки которого невозможно предугадать, таким они его знали и раньше, и нужно смириться с его причудами. В машине Бернар спросил, здоровы ли «все». Да, здоровы. Никакое несчастье не постигло клан. Впрочем, если бы кто-нибудь умер, само собой разумеется, Бернара известили бы. Несмотря ни на что!.. А как все они поживают? Ну что ж, Сесиль просто пышет здоровьем. Франсина тоже. Она вышла замуж за местного дворянчика. Гаэтан де… Возможно, Бернар знает?
— О, ей удалось-таки подцепить дворянчика?! — воскликнул Бернар. — Давно она за ним охотилась.
Да, удалось. Живут они в добром согласии, но почти раздельно: она в Париже, где проводит большую часть времени, он — здесь. Он работает на заводе. Ну, «работает» сказано, пожалуй, слишком громко… Детей у них нет. Зато у Арно уже двое. Впрочем, Леон не припомнит, чтобы он видел жену Арно не беременной, разве только в первые два месяца после свадьбы… Оба сына Леона продолжают учиться: старший готовится защитить диплом инженера, отличный парень, младший собирается поступить в школу поли… Прошло всего несколько минут, а они уже разговаривали так, словно расстались лишь накануне: к ним вернулся их привычный непринужденный тон. Налет горечи, который Бернар почувствовал в первые минуты встречи, увидев, что годы наложили на лицо брата свою печать, исчез, и он понял, что Леон остался прежним, таким, каким был десять, двадцать или тридцать лет назад; и он восхитился этой статичностью, этой незыблемостью, которую время постепенно разъедает, но — так море размывает скалу — не меняет ее субстанции. С обеих сторон по ходу машины тянулся город. Вот здесь перемены просто били в глаза. Огромные магазины («универсамы» — пояснил Леон) пришли на смену некогда располагавшимся здесь лавчонкам. Изменили свой облик кафе; они действительно стали неузнаваемы, но, если отбросить блеск новизны и обилие электрического света, можно было бы подумать, что их оформили так специально для того, чтобы воскресить в памяти двадцатые и тридцатые годы, а может, даже начало века. («Стиль «ретро», — пояснил Леон. — Он теперь возрождается повсюду»). Что же касается одежды, то понять, что в моде, было просто немыслимо. Бернар увидел юбки длинные, до щиколотки, и короткие, выше колен, строгие английские костюмы, цветастые платья, несметное количество брюк. Джинсы, казалось, стали формой молодых, и юношей и девушек. Бернар отметил, что необычайно много красивых девушек. А юноши все походили на американцев… Спору нет, нация улучшается.
В своем номере в «Отель де Франс», развешивая в шкафу одежду, Бернар справился о делах. Леон ответил, что дела идут неважно. Экономический «бум» пятидесятых и шестидесятых годов давно миновал. В течение последних двух лет наблюдается «спад», он производит лишь опустошения. Торговый оборот резко падает. Активное сальдо баланса с каждым месяцем уменьшается: прямо-таки шагреневая кожа. Все труднее и труднее становится сохранять и завоевывать иностранные рынки сбыта: теперь у них появилось два грозных конкурента — Западная Германия и Япония. Да, да, Япония начала производить и экспортировать ротационные машины качеством по меньшей мере не хуже французских и по ценам весьма «конкурентным». Но самые ужасные неприятности доставляют требования рабочих. По малейшему поводу рабочие «распоясываются». За последние пять лет на заводе было семь или восемь забастовок, одна из них длилась целых три недели. Понимает ли Бернар, что это означает? Двадцать один день!.. Социальный климат ухудшается с каждой неделей. Лозунг «Соучастие в прибылях!» витает в воздухе. Возможно, недалек тот день, когда придется пойти на это.
Леон говорил с таким несчастным видом, словно он защищался или заранее искал оправдание тем ошибкам, в которых еще не признался, и, слушая его, Бернар уже предчувствовал, каково будет заключение после этой столь долгой преамбулы: под тем или иным предлогом он (да, он, Бернар) будет ограблен и не получит своих денег, возможно, Леон просто не в состоянии отдать их, как полагалось бы по соглашению, заключенному перед отъездом Бернара в Аргентину. При этой мысли Бернар не испытывал ни разочарования, ни гнева: по правде говоря, он не нуждался в этих деньгах; и потом ведь Леон десять лет тянул на себе весь воз, на нем лежала вся тяжесть ответственности и забот… Но поскольку Бернар любил ясность в делах, он все же спросил:
— Ты можешь сказать мне grosso modo[16], какую сумму составляют теперь прибыли с моего капитала?
И увидел, как Леон, изменившись в лице, после минутного молчания закрыл лицо руками. Бернар подождал, пока приступ пройдет. Этот спектакль был невыносим. Он подошел к окну и посмотрел вниз, на площадь. Жемчужина и гордость города, эта площадь XVIII века была очень красива. Но сейчас, с высоты четвертого этажа гостиницы, она выглядела просто стоянкой для автомашин. Бернар подумал: «Мир, где деньги заставляют плакать шестидесятилетнего мужчину, нужно уничтожить». Странно, что эта мысль возникла у него, когда он смотрел на крыши автомашин, на это море металла, закрывавшее изящный орнамент из разноцветных плит, которыми была выложена площадь; впрочем, если поразмыслить, ничего странного здесь не было, даже напротив: слезы Леона и стоянка автомашин на площади Людовика XV — в какой-то мере явления одного порядка.
Когда Леон как будто успокоился (он вытер глаза носовым платком), Бернар сказал:
— Я огорчен, что я так расстроил тебя, Леон, но ведь мне надо знать, не правда ли? Ты же должен был приготовиться к тому, что я попрошу у тебя отчета?
Леон согласно кивнул.
— В таком случае можешь ты мне сказать все как есть? На что ушли эти деньги?
— Я же объяснил тебе. У нас было столько всяких финансовых трудностей, столько непредвиденных — и таких огромных! — расходов из-за забастовок и всего прочего, что мне пришлось позаимствовать деньги из твоей доли и пустить их в оборот… Я все время надеялся, что мы станем на ноги и я смогу восстановить твою долю, но невзгоды преследовали нас… И потом, что ты хочешь, ведь, по совести говоря, мы думали, что ты уже никогда не вернешься. Ты не подавал о себе никаких вестей, молчал, как воды в рот набрал, и мы были почти уверены, что ты обосновался там навсегда…
Бернар сдержал улыбку: драма оборачивалась фарсом, все это было так наивно… В общем, семья преспокойно похоронила его.
— Послушай, — сказал он, — я вернулся не бороться за свои права, поверь мне. У меня нет ни малейшего намерения, ни малейшего, доставлять тебе неприятности. Досадно, конечно, что ты не можешь отдать то, что мне причитается, но никакой трагедии в этом нет: ты просто уступишь мне часть своих акций, стоимость которых будет соответствовать той сумме, что ты задолжал мне за десять лет.
— Но тогда в твоих руках окажется контрольный пакет акций!
Это прозвучало как вопль. Рыдания были уже неуместны.
— Не думаю, что это многое изменит, — сказал Бернар.
— Это изменит все! Решающий голос будет принадлежать тебе!
— У меня нет намерения воспользоваться этим, во всяком случае, пока что я не рассчитываю входить в дела непосредственно. Следовательно, не буду ни в чем стеснять тебя. Конечно, принимая решения, тебе придется советоваться со мной, но, по существу, решать все будешь ты сам. Даже если я окажусь владельцем контрольного пакета акций, управление предприятием полностью останется в твоих руках. Даю тебе честное слово. И наконец, давай поговорим об этом в другой раз. Подсчитаем все и уладим самым наилучшим образом. Сейчас это не к спеху. Ты веришь мне? Скажу тебе откровенно, Леон: у меня нет ни малейшего желания видеть жену и даже детей, они стали мне чужими. (Вид у Леона стал испуганный. Это, должно быть, шокировало его. Вне успокаивающих условностей он терялся.) Если я через десять лет вернулся во Францию, тому есть много причин, которые ведомы и которые неведомы мне самому. Но одна из них — я хотел повидать тебя, именно тебя.
Они снова обнялись, оба довольно неловко, и Бернар немного удивился, почувствовав себя растроганным. Эмоции — совсем неплохая вещь. Почему он обнаружил это с опозданием на тридцать лет?
— Знаешь, — проговорил Леон, высморкавшись, — сегодня вечером или завтра ты все же должен побывать дома. Сесиль согласна принять тебя. («Какая наглость, — подумал Бернар. — Согласна принять меня!.. Дом принадлежит Леону и мне как неделимая собственность. Там я у себя. Это она втерлась туда».) Она даже распорядилась приготовить твою спальню. Если ты останешься в гостинице, она сочтет это еще одним оскорблением. Тебе не кажется, что ты уже достаточно оскорбил ее?
— Признаюсь тебе: при мысли, что я окажусь лицом к лицу с Сесиль и двумя своими чадами, у меня кровь в жилах стынет. И это не от робости, не от того, что я чувствую за собой какую-то вину, это нечто иное. Ну что мы можем сказать друг другу?
— Прежде всего, Арно и Франсины сейчас нет в городе. Арно с женой уединились где-то в Оверни, я полагаю, в каком-нибудь монастыре…
— Ты не шутишь, Арно обратился к религии?
— Он всегда был верующим, даже немного набожным. Вспомни-ка, ведь это он организовал в своем лицее паломничество в Шартр…
— А ведь верно, я совсем забыл. Нацист в монашеской рясе. А где же Франсина?
— В Париже. Она почти все время живет там. Работает на радио, не знаю точно, кажется, в каком-то журнале для женщин.
— Возможно ли? Она работает? Франсина?
— Скорее, ради того, чтобы чем-то заниматься, «принимать участие», как она говорит. Она ведет весьма независимый образ жизни.
— У нее что же, нелады с мужем?
— Как это ни странно, нет. Когда она здесь, они вроде бы ладят неплохо. Она говорит, что они сообщники…
— Сообщники в каких делах?
— Теперь мне кажется, это слово употребляют, просто когда хотят сказать: мы добрые друзья, мы единомышленники, но позволяем себе прихоти…
— Понимаю. Высший шик. Но скажи, на что же живет вся эта братия?
— Ну, Сесиль я ежемесячно выдавал пособие из твоей доли. Здесь все ясно. Франсину, естественно, обеспечивает муж. Что же касается Арно, то, по правде сказать, мы все содержим его…
— Ибо он не работает?
— Поначалу мы пытались привлечь его к делу. Но он же ничего не знает, ровным счетом ничего. Пришлось отказаться от этой мысли. Впрочем, завод его не интересует. Он с головой ушел в свою миссионерскую деятельность.
— Какую еще такую чертову деятельность? Арно — миссионер?
— Он сам объяснит тебе. Я в этих делах ничего не смыслю.
— Выходит, если я правильно понял тебя, вся семья, живет за счет завода? И ты — единственный, кто работает, мой бедный Леон?
— Гаэтан, в общем, тоже работает…
— Гаэтан — это кто?
— Да помилуй, твой зять! Муж Франсины.
— Я никогда его не видел и даже не уверен, слышал ли когда-нибудь это имя… Что он за человек?
— О, человек скорее легкомысленный. Сам увидишь.
— Короче, весь клан тянешь ты?
Леон вздохнул.
— Чего ж тут удивляться, — проговорил Бернар, — что дела идут не так уж блестяще. Кормить столько дармоедов!.. Мы попытаемся провести кое-какие реформы, а?
— Сомневаюсь, что тебе удастся что-либо изменить. А пока что не хочешь ли ты повидаться с женой?
— Нет. Я пойду туда завтра. Сегодня я хочу подышать воздухом родного города. В одиночестве.
Он вышел на улицу с намерением пообедать, и к впечатлению, которое сложилось у него, пока они ехали с вокзала в гостиницу, добавились новые детали. Он попытался определить его, и первые два слова, которые пришли ему на ум, были: взрыв и изобилие. Казалось, людские инстинкты, и главным образом инстинкты плотские, разом проснулись и требуют немедленного удовлетворения. По всей видимости, цензура, или то, что существовало для этой цели десять лет назад, была упразднена. Афиши кинотеатров, рекламные плакаты, витрины книжных магазинов, огромное количество лавчонок, специализирующихся на продаже порнографии, — и все это в самом центре города — свидетельствовали о том, что главной заботой французов, должно быть, стал секс. Возможно, так оно всегда и было и у французов, и у других народов, но сегодня этот факт был принят, признан, даже больше того: всячески разрекламирован. «Это перекличка многих тысяч караульных…» Это было за пределами допустимого, почти умышленное систематическое возбуждение. Такое нагнетание порнографии походило на круговой обстрел. Бернар не знал, что и думать. В области секса он был — или полагал, что был, — лишен предрассудков. Он всегда считал, что к порывам плоти нельзя подходить с позиций морали и люди, вольны любить в свое удовольствие, соблюдая единственное правило: не посягать на душу другого и уважать свободу каждого. Взрыв, последствия которого Бернар наблюдал на стенах своего города, не оскорбил его нравственного чувства; он шокировал его нарушением хорошего вкуса. Бесчисленные обнаженные тела наводили на мысль о мясном прилавке, и это не вызывало ни веселья, ни сладострастия, скорее наоборот. С другой стороны, за всем этим слишком очевидно проглядывала коммерция. Потребительский капитализм только недавно открыл новый источник прибыли.
В киосках было изобилие газет и журналов, в книжных магазинах — книг, в продовольственных — продуктов, машин на улицах сновало не меньше, чем людей… Рост производства вещей, предметов домашней утвари, украшений, игрушек для детей и взрослых. Можно было подумать, что страна изнемогает под бременем процветания. А в то же время Леон жаловался на кризис. Какой вывод следует из этого сделать? Для Бернара, который десять лет провел в стране со скудным суровым ландшафтом, где хорошего урожая можно было добиться только упорным трудом, вид почти неузнаваемых улиц родного города, с сиянием огней, с рекламами, с которых смотрели размалеванные проститутки, с изобилием промышленных товаров, с непомерным расточительством, казался чем-то немного непристойным и даже внушал смутную тревогу: это уже чересчур, когда-нибудь придется платить за все излишества, которыми, наверное, пользуется не каждый.
Назавтра, несмотря на телефонный звонок брата, торопившего его «прийти домой», он снова решил подождать до следующего дня. Ему хотелось в одиночестве прогуляться по городу, включив все свои антенны, чтобы попытаться уяснить истину или истины эпохи, определить пройденный за эти десять лет путь. Нужно все зарегистрировать, стать чувствительной пластинкой, магнитофонной лентой… Обрывки фраз, которые он ловил на лету на улице, порой были ему почти непонятны из-за неологизмов, изобретений современного арго. Он решил, что перевод с этого странного наречия на французский язык сделает позже. Люди говорили очень быстро, с уверенностью, которую, казалось, ничто не могло поколебать. Молодые люди были очаровательны — непосредственные, непринужденные. Все они выглядели такими безмятежными или, как они говорили сами, «релаксированными». На улице Бернар узнавал многих своих сверстников. Время от времени на него падал испытующий взгляд какого-нибудь прохожего или прохожей, его, по-видимому, тоже узнавали. Из этого он сделал вывод, что не слишком изменился: свежий воздух, физический труд, простая жизнь, должно быть, сохранили ему моложавый вид. Это тайное возвращение к своим близким, в свою страну, в свой город после столь длительного отсутствия взволновало Бернара. Он сам себе казался призраком. Несколько раз он чуть было не угодил под машину. Придется снова привыкать к этому адскому движению. В пампе, там не нужно каждую минуту остерегаться смертельной опасности. В том и заключается одна из странностей новой эпохи, что смерть в облике этих беспощадных астероидов может настигнуть вас в любую секунду. Были и другие странности, менее бросающиеся в глаза, которые Бернар улавливал повсюду и в которых ему еще предстояло разбираться день за днем. Он вспомнил новеллу, которую его заставляли читать в лицее на уроках английского, — «Рип ван Винкль»; это была история человека, который вернулся в родную деревню, проспав сто лет. При «акселерации Истории» десять лет XX века почти равны ста годам прежних времен.
К вечеру, устав, он зашел в кондитерскую выпить чаю. Сел в углу зала, откуда через витрину ему видна была улица. Ширма частично скрывала его от других посетителей. Неподалеку от него кто-то произнес имя Сальвадора Альенде. Прислушавшись, он понял, что чилийский президент нашел смерть в своем президентском дворце, осажденном военной хунтой. Говорящий сказал, что он только сейчас услышал эту новость по радио. Согласно версии хунты, Альенде покончил жизнь самоубийством. По другой версии, неофициальной, он был убит. Бернар питал к Альенде скорее симпатию. То, что его свергли, а может, даже убили военные, достаточно убедительно свидетельствовало о природе заговора и о том, какими социальными силами он был инспирирован. Еще одна акция по защите капитализма. Central Intelligence Agency, ЦРУ, наверное, приложило к этому руку. Но на событиях дня мысли Бернара задержались недолго: ему принесли поднос с чаем, и он принялся за тосты со смородинным вареньем, безмерно счастливый тем, что снова вкушает любимое лакомство своего детства. В этот момент, подняв взгляд, он заметил за окном женщину и сразу же узнал ее: то была его жена. Когда он увидел, что она входит в кондитерскую, у него душа ушла в пятки.
Сесиль оказалась не одна. Ее сопровождала молодая, лет тридцати, женщина, по виду немного напоминавшая козочку, но не дурнушка. Бернар заколебался, может, ему следует немедленно встать и поздороваться с Сесиль, но он отказался от этой мысли: с одной стороны, неожиданная встреча будет для нее потрясением и такая сцена на глазах у посторонних может оказаться тягостной; с другой стороны, ему было любопытно, сразу ли она узнает его и как поведет себя, обнаружив в этом закутке. Но Сесиль даже не заметила его. Женщины выбрали среди еще свободных столиков тот, что находился по другую сторону ширмы, за которой сидел Бернар. Ситуация создавалась вполне водевильная. Теперь он видел сзади левое плечо и левую часть затылка Сесиль, в то время как молодая женщина, напоминавшая козочку, оказалась к нему лицом; и, несмотря на легкий гул голосов в зале, он довольно отчетливо слышал, о чем они говорили.
У молодой женщины был сильный английский акцент. В ее обращении к Сесиль явственно проскальзывали нотки почтительности. Женщины называли какие-то имена. Бернар понял, что речь идет о детях (возможно, о детях его сына Арно), воспитанием которых занималась эта особа. Например, она говорила: «Дени сегодня утром был умницей». Гувернантка, конечно же. «Мисс». В семье поддерживаются добрые традиции… До Бернара вдруг дошло, что он дед. До сих пор он никогда над этим не задумывался. Но от этой мысли ему не стало ни жарко, ни холодно. Он с удивлением слушал голос своей жены. Правда, это был уже не совсем тот голос, что десять лет назад. Изменился его регистр и даже немного тембр: нежное сопрано сменилось драматическим меццо-сопрано, серебряное звучание приобрело бронзовый резонанс. Речь ее сделалась более быстрой и, главное, более властной, чем прежде. Любопытно, любопытно… Что же произошло? Возможно, это просто результат большей уверенности в себе, которая приходит с возрастом… Внешне Сесиль немного постарела, точнее, чуть раздалась в талии, появился двойной подбородок, морщинки у глаз стали заметнее… Но Бернар отметил, что походка ее сделалась еще решительней, победоносней… «Это, должно быть, проявление властности. Меня здесь больше нет, никто не изводит ее. Она правит одна». Он решил, что неприлично дольше сохранять инкогнито, пора предстать перед женой, иначе она подумает, будто он долго подслушивал их за ширмой. Он уже хотел было встать, но в эту минуту слова, произнесенные Сесиль, парализовали его:
— Обеспеченная символика груди.
Бернар не поверил своим ушам: неужели она действительно произнесла эти слова? Продолжение разговора заставило его убедиться в том, что он не ослышался: фраза относилась к фильмам, вернее, к рекламам некоторых фильмов. Англичанка, должно быть, заметила, что все эти рекламы изображают женщин с обнаженной грудью. Бернар не припомнил, чтобы раньше когда-нибудь он слышал от Сесиль об «обеспеченной символике». Употребление этого жаргона вульгарной психоаналитики было новым для нее. В его памяти вдруг всплыл кокетливый полицейский, ищущий свой носовой платок в ридикюле… Внешне оба эти явления не имели никакой связи; и тем не менее каким-то непонятным образом Бернар почувствовал, что они связаны, что между ними существует некое тайное родство. В этот момент англичанка рассеянно, словно на мебель, без малейших признаков интереса взглянула на него. Обуянный неожиданным безудержным весельем, Бернар довольно плутовски подмигнул ей. Захваченная врасплох, молодая женщина открыла рот и поспешно отвернулась. Щеки ее порозовели. Бернар услышал, как Сесиль спросила:
— Что случилось, Маргарет?
Широко улыбаясь, он встал и подошел к столику, за которым сидели женщины.
— Добрый день, Сесиль, — проговорил он самым естественным тоном. — Да, это я подмигнул мадемуазель.
Его жена с ошеломленным видом долгим взглядом посмотрела на него. Потом пробормотала вполголоса:
— Ты здесь…
Бернар раскинул руки, поднял брови, всем своим видом как бы показывая: «Да, разумеется, ты же видишь…»
— Как случилось… — начала Сесиль и не закончила; казалось, она потеряла самообладание. Она огляделась по сторонам, почти испуганно моргая.
— Ты не ожидала такой встречи, — продолжал, улыбаясь, Бернар. — Я тоже. Я собирался нанести тебе визит сегодня вечером или завтра…
— Визит? — спросила Сесиль немного срывающимся голосом. — Леон сказал мне, что ты остановился в гостинице… Я нахожу это… — Она чуть повела рукой.
— Может быть, ты представишь меня даме? — сказал Бернар светским тоном с некоторой настойчивостью; он ласково взглянул на англичанку, все еще румяную от смущения и явно не знавшую, как ей держаться.
— Мисс Хопкинс, — произнесла Сесиль, потом повернулась к своей собеседнице: — Это мой муж, представьте себе!
Бернар церемонно поклонился и пожал руку, протянутую ему мисс Хопкинс.
— Могу я сесть? — спросил он.
Жена согласно кивнула головой, он взял у соседнего столика свободный стул и сел.
— Ну вот и хорошо. Как ты поживаешь, Сесиль? Выглядишь ты прекрасно.
— А как ты?
— Спасибо, я чувствую себя превосходно… Да, я не поехал сразу домой потому, что хотел сначала вновь обрести контакт с городом, Леон должен был объяснить тебе… И еще потому, что… — Он запнулся, приветливо посмотрел на мисс Хопкинс и снова обратился к жене: — Я полагаю, мисс Хопкинс в курсе?.. — Он оборвал фразу, начатую с вопросительной интонацией.
— Мисс Хопкинс в курсе всего, — отчеканила Сесиль. — При ней ты можешь говорить совершенно свободно. Она все равно что член нашей семьи.
— В добрый час! Я в восторге от этого, — ответил Бернар, сознательно пуская в ход все свое обаяние и даже немного перехлестывая через край. — Очень симпатичное приобретение.
Последнее слово заставило поморщиться Сесиль, но, казалось, не задело мисс Хопкинс, которая смущенно, с благодарным видом слабо улыбнулась Бернару. Бернар забавлялся все больше и больше. В эпоху, когда символика груди обеспечена, можно говорить все что угодно, какая разница? Он не поцеловал жену, даже не пожал ей руки. Встреча произошла так, словно они виделись только сегодня утром. И правильно, так и следовало поступить: между ними не должно быть никаких условностей и, главное, никакого притворства. Он удивился, что не чувствует к Сесиль ни малейшей неприязни. Самым точным словом, которым можно было бы определить его душевное состояние в этот момент, было, конечно, «добродушие».
— Я не пошел домой сразу же еще и по другой причине, — продолжал он, — я не был уверен в приеме, который встречу там.
Сесиль в знак согласия кивнула: да, действительно, она это прекрасно понимает… Она разглядывала Бернара, изучая его лицо так, словно была не в силах поверить, что видит его здесь, сидящим перед ней, словно уточняла, он ли это в самом деле, тот, кто некогда был ее мужем…
— Ты находишь, что я изменился? — спросил он.
— Нет, не очень… Ты хорошо выглядишь.
— Не потому, что хочу ответить тебе комплиментом на комплимент, но это правда — ты тоже! Прими мои поздравления! Слушай, а почему ты сказала: «Мой муж, представьте себе!..» Мне это показалось немного бесцеремонным, представь себе…
— Но я и сама не знаю! Не знаю, почему я сказала: «Представьте себе…» Наверное, потому что ты свалился как снег на голову. Это было так неожиданно.
Подошла официантка принять заказ. Бернар сказал ей, что переменил столик, и попросил принести его поднос. Сесиль заказала китайский чай и тосты. Она постепенно вновь обретала способность контролировать и себя, и все, что происходит.
— Ты вернулся насовсем? — спросила она, и ничто в ее лице не выдало ни удовлетворения, ни неудовольствия, которые могло бы породить в ней это предположение.
Бернар коротко рассказал о своем намерении отныне делить жизнь между Европой и Аргентиной. Она задала ему несколько вопросов о его работе там, об имении, о покойном деде. Мисс Хопкинс слушала, в одно и то же время как бы и присутствующая и отсутствующая, и, каким бы «членом семьи» она ни считалась, она была тактична и помнила свое место. Бернару показалось, будто он заметил на ее лице, со вниманием обращенном к нему, даже некоторое восхищение: не иначе как в глазах этой простушки он был окружен каким-то ореолом — ей, верно, рассказали о его юношеских проказах, о его шумных подвигах, о его бегстве… И он тоже не оказался равнодушен к пухленькой блондинке мисс Хопкинс, к ее беленькому личику и уже предчувствовал возможную интрижку…
— А как ты провела эти десять лет?
— Тебя и правда это интересует? — спросила Сесиль, в первый раз с оттенком горечи. — Поскольку ты ни разу не написал нам, не поинтересовался нашей жизнью, у нас были все основания усомниться в этом…
— Но ты так и не ответила на мое письмо.
— Письмо, написанное в таком тоне, где ты давал мне своего рода отпускную, — спасибо!
Опасность возможного конфликта, казалось, встревожила мисс Хопкинс, и она уткнула нос в тарелку.
— Послушай, — миролюбиво сказал Бернар, — согласимся, что мы не слишком печалились друг о друге… Но ведь, если бы случилось какое-нибудь несчастье, меня известили бы, я надеюсь?
— Да, тем не менее… — ответила Сесиль, вложив в свои слова немалую толику иронии.
— И все же, коль скоро я вернулся, могу я спросить тебя, как ты провела эти десять лет? Вопрос вполне естественный.
— Будь спокоен, я провела их настолько хорошо, насколько это было возможно в моем положении — с двумя несовершеннолетними детьми на руках, которых надо было воспитать, вырастить, выдать замуж, женить; с домом, о котором надо было заботиться; с публичной молвой, которая пошла поначалу…
— Да, кстати, как отнеслись к моему отъезду знакомые?
— Надеюсь, ты не будешь удивлен, если я скажу, что все единодушно тебя осудили. Но в конце концов, поскольку тебя и раньше принимали за полусумасшедшего, решили, что за свои поступки ты тоже отвечаешь лишь наполовину. Первое время меня немного жалели. Но потом, довольно скоро, привыкли к новой ситуации. Ты же знаешь, теперь людям начхать на то, что может случиться с их соседями, лишь бы это не причинило беспокойства им.
Бернар согласно кивал головой: «Да, да, конечно». В ответе жены только слово «начхать» удивило его. Раньше Сесиль никогда не употребила бы такого слова, даже не произнесла бы более мягкого «наплевать».
— А дети? — спросил он. — Как они поживают?
— Превосходно.
— Ты думаешь, они согласятся встретиться со мной?
— А почему бы им с тобой не встретиться? Всему даны свои оценки, все забыто. Но с твоей стороны будет разумно не ждать от них проявления особой нежности.
— Разумеется.
Немного помолчали. На лице Сесиль вдруг появилось непримиримое выражение. Бернар откусил кусочек тоста, отхлебнул глоток чаю. Он не доставит жене удовольствия подумать, что сказанные сейчас ею слова опечалили его, открыли старую рану… Впрочем, кровоточит ли еще эта рана? Иногда у него мелькала мысль, что отсутствие привязанности между ним и детьми было главной неудачей в его жизни. Но он приучил себя не думать об этом, как сознательно приучил не думать обо всем том, что могло заставить его понапрасну страдать: он как никто умел презреть то, что ему не давалось. Он повернулся к мисс Хопкинс.
— Вот видите, мадемуазель, — сказал он полушутя-полусерьезно, — это отнюдь не возвращение Одиссея… Кстати, в мое отсутствие были женихи?
— Да, несколько, не прогневайся, — ответила Сесиль тем же тоном.
— Черт возьми, тем лучше! Нужно пользоваться жизнью.
— Именно так я и считала.
Они обменялись взглядами, в которых было мало нежности, но это длилось всего лишь мгновенье. Когда они закончили чай, Сесиль спросила его, не хочет ли он перебраться домой.
— Сегодня, во всяком случае, я провожу вас, — ответил он. — Но пожалуй, денек-другой еще поживу в гостинице…
Ее губы чуть тронула улыбка: это так характерно для Бернара — держать людей в неизвестности, всегда оставлять про запас резервную полосу, лазейку… Главное, чтобы никто не посягнул на его свободу!
Улица Корделье, как всегда, выглядела очень горделивой со своими домами XVIII века, своими булыжными мостовыми, которые не принесли в жертву макадаму. Эта улица находилась «под охраной» как памятник старины, и те, кто жил здесь, заботились о ней — у них имелись к тому возможности. Встреча с родным домом породила в душе Бернара смешанное чувство: ведь он был не слишком-то счастлив в его стенах. Внутри дом несколько подновили; все было освежено, омоложено, но в меру, чтобы не нарушить ощущение устоявшегося богатства, респектабельности, которое всегда вызывало это почти сеньориальное жилище. Леон и его семья занимали парадные покои, Сесиль и гувернантка — третий этаж; в апартаментах под крышей жил Арно. Залы для приемов были огромны. Ими пользовались лишь в самых торжественных случаях. В повседневной жизни вполне обходились более скромными гостиными. Войдя, Сесиль тут же повернула ручку радио.
— Ты не возражаешь? — спросила она Бернара. — Мне нужно прослушать эту передачу. К тому же она уже началась, мы немного опоздали.
Она села. Мисс Хопкинс, должно быть, знала, что их ожидает, потому что лицо ее озарилось, словно она приготовилась внимать небесному хору. Она тоже села. Вдруг из приемника, модулируя своего рода жалобу, прерываемую приглушенными рыданиями, донесся женский голос, глубокое контральто. В первое мгновенье Бернар подумал, что передают какой-то спектакль, возможно античную трагедию; и он даже отметил про себя, что актриса немного переигрывает, но почти тотчас был разубежден самим текстом, усомниться в современности которого было просто невозможно. И действительно, плакальщица, обращаясь к собеседнице, которую она называла Иоландой, говорила как-то странно, ибо речь ее, резко акцентированная, словно набегала волнами, — эту манеру усвоили ныне некоторые слои парижан и дикторы радио, что заставляет иностранцев думать, будто французский язык является языком сильного тонического ударения, как немецкий или английский, — так вот, плакальщица говорила:
— …Да, Иоланда, первое сообщение, которое мы прежде всего должны сделать нашим слушательницам, первое, о чем нам нужно поведать, сообщение прискорбное, я осмелюсь даже сказать, повергающее в отчаяние…
Здесь Иоланда попыталась вставить слово:
— Как и вы, сегодня утром я была опечалена, когда узнала…
— Опечалены? (Первая плакальщица с незаурядной энергией перебила свою собеседницу. Чувствовалось, что она не терпит, когда ее прерывают в самый разгар ее страстного монолога.) Я была потрясена! Я просто ничего не могу делать сегодня, я хожу как неприкаянная… Дорогие подруги, сегодня на другом конце планеты произошло событие, которое, я уверена, вы воспримете как личное горе, как скорбную весть.
Пауза. Напряженное ожидание становится невыносимым. Потом медленно, каким-то сломленным, монотонным голосом:
— Умер президент Альенде.
Новая пауза. Нужно дать слушательницам время преодолеть оцепенение; тем, кто слишком чувствителен и, может быть, упал в обморок, прийти в себя. Иоланда, коварная, циничная женщина, воспользовалась этим, чтобы снова завладеть микрофоном:
— Как вы, возможно, догадались, дорогие подруги, военный путч…
Завывание первой плакальщицы:
— Путч правых экстремистов, вдохновленный правящим классом…
У Иоланды решительно нет сил бороться; побежденная, она безропотно соглашается отдать микрофон своей сопернице, которая теперь объясняет слушательницам природу заговора, расстановку сил, рассказывает о сопротивлении оказавшегося в осаде Альенде, о еще малоизвестных обстоятельствах его смерти…
От удивления Бернар плюхается в кресло. Он спрашивает жену:
— Скажи же наконец, это что, Франсина?
Приложив палец к губам, Сесиль приказывает ему молчать. Она берет программу ОРТФ, протягивает ее Бернару, указав название передачи, которую они слушают. Это была еженедельная передача, предназначенная для женщин, передача, в которую Франсина и Иоланда, рассказывающие о событиях недели и комментирующие их, «внесли живую струю».
Но вот они покончили с политическими событиями. Иоланде удалось завладеть микрофоном, но лишь для того, чтобы поговорить о новых детских пеленках, которые должны значительно облегчить труд молодых матерей. Франсина не соблаговолила вмешаться. По-видимому, вопросы домашнего хозяйства она предоставила своей коллеге. Для себя она сохранила политику и культуру, две животрепещущие темы современности. После пеленок обе женщины, не слишком перебивая друг друга, завели разговор о противозачаточных средствах. Франсина советовала пользоваться «стерилетом», а не прибегать к пилюлям. Иоланда склонялась к пилюлям, но при условии соблюдения диеты, потому что пилюли способствуют полноте. После этого краткого курса прикладного мальтузианства Франсина воскликнула:
— А теперь перейдем к духовной жизни! Что же знаменательного произошло на минувшей неделе?
По ее мнению, единственное замечательное событие в области духовной жизни имело место в гараже на окраине Парижа, где молодая труппа исполняла «Nitchevo», свое коллективное сочинение. Речь шла о почти «брехтовской оратории», разоблачающей гнет царизма в 1904 году. «Оратория» — из-за лиризма текста, из-за того, что актеры прибегают к речитативу. «Брехтовская» — по критическому осмыслению событий во времени. Действие происходило среди бурлаков на берегу Волги, но «причастность» к современности была очевидной. Невольно даже возникал вопрос, как, благодаря чьему недосмотру этот подрывной спектакль получил государственную субсидию. Здесь явно произошло какое-то недоразумение. Франсина издала мятежный смешок — прямо-таки Тиль Уленшпигель! — как бы намекая, что введенное в заблуждение министерство культуры, дав субсидию, заполучило революционное произведение, которое ставит под сомнение «всю систему»… Ибо нетрудно догадаться, что гнет, заклейменный в «Nitchevo», — не только гнет царизма и он существовал не только на берегах Волги… Дальше этого дерзкого провокационного намека Франсина не пошла: борьба против власти должна оставаться приглушенной, еще не время выходить на улицу…
— Во всяком случае, — вскричала она, — слушательницы Парижа и парижских пригородов, бросайте все дела, спешите увидеть «Nitchevo», — и несколько властно, непререкаемым тоном, устрашающе, как бы подразумевая: «Если вы не пойдете туда, вы или непросвещенные дуры, или реакционные мерзавки», она заключила двумя словами сухо, почти угрожающе: — Это must.
Передача окончилась.
Сесиль выключила радио, потом повернулась к мужу, еще не обретшему от потрясения дара речи. Можно было ожидать, что она скажет что-нибудь вроде: «Ну как? Что ты думаешь о нашей Франсине? Тебе было интересно?» Но ничего подобного не произошло Безапелляционным тоном она изрекла:
— Первоклассно. Право, Франсина превосходно работает!
Мисс Хопкинс горячо выразила свое согласие, много раз кивнув головой с энтузиазмом, как это чувствовалось, вполне искренним.
— О, я нахожу ее замечательной! — воскликнула она.
А ведь она, наверное, давно была неизменной слушательницей этих передач; но существуют великодушные натуры, восторженность которых не притупляется привычкой.
— Я не могу опомниться, — пробормотал Бернар.
— От чего же?
Он пожал плечами, неопределенно развел руками:
— От всего. Во-первых, от того, что Франсина выступает по радио. Я думал, она выполняет какую-нибудь небольшую секретарскую работу или что-нибудь в этом роде, но что она ведет передачу… А потом от того, что она говорит такие вещи, как говорила сейчас…
— Ах, вот как! Что же в этом такого уж удивительного?
Бернар в упор с интересом посмотрел на жену, словно пытался понять, что происходит.
— А тебя это не удивляет? — спросил он.
— Нет, ни капли.
— Ты находишь вполне естественным, что она ревет белугой, узнав о смерти иностранного политического деятеля?
— Бернар! — с упреком воскликнула Сесиль. — Не будь тривиален. Она не ревела белугой. Просто она была, как и ты, я полагаю, как и все мы, потрясена…
— Потрясена? — повторил ошеломленный Бернар. — А ты, ты тоже потрясена? Смертью Альенде? — Он встал, сделал несколько шагов по комнате, как бы желая убедиться, что вещи не обрушиваются, землетрясения нет, планета не сошла со своей орбиты. — Но, — снова заговорил он, остановившись перед Сесиль, — когда умерла твоя мать, ты — я помню это очень хорошо — ничуть не была потрясена. Ты приняла это разумно, с непоколебимым мужеством, со смирением, достойным подражания…
— Помилуй, это же совсем разные вещи!
— Быть потрясенной тем, что где-то на противоположном конце земли убит глава государства, мне это кажется… — Он не закончил фразу, тряхнул головой, воздел руки к небу… По всей видимости, это казалось ему чрезмерным. — Или же в таком случае, — продолжал он более спокойно, — ты употребляешь слова невпопад. Ты, верно, хотела сказать: взволнована, огорчена, растеряна… И то даже я счел бы, что это слишком!
— Если я правильно поняла тебя, — сказала Сесиль с кисловатой улыбкой, — ты не одобрял политики Альенде? Естественно, такой землевладелец, как ты…
— Вот к чему ты клонишь! Одно другого не касается! Начнем с того, что я находил его скорее симпатичным, представь себе! Возможно, он натворил ошибок, ведь он не был экономистом, но — бог мой! — несмотря ни на что, можно было находиться только на его стороне… Однако из-за этого быть потрясенным его смертью! Нет, право, я не был потрясен. Вот так! И смертью Джона Кеннеди я тоже не был потрясен. На какое-то мгновенье это меня взволновало. Немного взволновало. Но и все, да! Вот так! Большинство людей невероятно равнодушны. Отрицать это — значит быть слепым или намеренно ослеплять себя. Я же не терплю ни тех, кто намеренно себя ослепляет, ни тех, кто выражает притворные чувства. Твое «потрясена» мне кажется именно таким: притворством… В общем, когда я слышу, как Франсина голосит по радио, словно античная плакальщица, или когда я слышу от тебя, будто ты на грани того, чтобы сделать себе харакири и последовать в могилу за бедным Альенде, я, честное слово, спрашиваю себя, не сошел ли я с ума и вообще, что стряслось после моего отъезда?..
Он ходил взад и вперед по комнате, и мисс Хопкинс разглядывала его, не зная, как ей держаться: выражать осуждение или симпатию; но, главное, она была очень озадачена этим взрывом. Она искоса поглядывала на Сесиль, пытаясь получить указание. Кто-нибудь другой, менее простодушный, чем она, мог бы догадаться, что Сесиль в ярости, хотя лицо ее было спокойно и она вооружилась своей самой сладкой улыбкой.
Сесиль встала.
— Ты не пробыл здесь и часа, — сказала она, — а уже устроил сцену. Одна из твоих удивительных привычек «выяснять отношения»… Неисправим! Ладно, если ты не возражаешь, мы поговорим об этом в другой раз. А сейчас я покажу тебе твою спальню. Ты ведь остановишься здесь, это решено?
Он сказал, что да, решено. Он думал о другом. Перед его мысленным взором возникла Франсина, какой она была двенадцать или пятнадцать лет назад: Франсина на уик-эндах в замках, Франсина, плетущая интриги, чтобы быть избранной «мисс дебютанткой» на своем первом балу, в год, когда ей исполнилось восемнадцать лет, Франсина — кумир золотой молодежи, жаждущая светских развлечений, мечтающая о титулованном муже — и ведь в конце концов она таки умудрилась заарканить его… На каком политическом берегу была она в то время? Бернар припомнил, что несколько недель Франсина, кажется, вместе с братом активно сотрудничала в организации молодых националистов. (Всего лишь несколько недель, потому что социальный карьеризм — это страсть, не терпящая раздвоения, она требует полной самоотдачи.) И вот сегодняшняя Франсина… Что же произошло за это время?
В детской он познакомился со своими внуками: девчушкой лет пяти и мальчуганом трех лет, которыми вместе с бонной-испанкой занималась мисс Хопкинс. Вид этих толстощеких добродушных малышей доставил ему истинное удовольствие. Как удалось суровому Арно произвести на свет такие прекрасные плоды?
Через два дня после того, как Бернар поселился на улице Корделье, приехал вместе с супругой Арно. Бернар был готов к тому, что найдет сына изменившимся, но вот характер этой перемены — тут уж было от чего прийти в изумление! Бернар покинул прусского младшего лейтенанта, разве что без формы — чопорного, холодного. «Он постареет и повысится в чинах; я увижу капитана немецкой комендатуры, все такого же высокомерного, но уже вылаивающего приказы», — говорил себе Бернар. Однако мужчина, вошедший в гостиную, напоминал скорее какого-то замшелого изголодавшегося пастуха, йога, монаха-сенобита, чудотворца — словом, Бернар увидел существо, в котором с виду было крайне мало военного, одетое в вылинявшие джинсы и довольно засаленную замшевую куртку, обросшее и бородатое, как лесовик из сказки. Бернар узнал среди этих рыжих зарослей голубые печальные глаза спаниеля, которые всегда охлаждали его редкие попытки проявить к сыну нежность. Супруга была в положении, и можно было подумать, что она давно переходила положенные девять месяцев; казалось, беременность — ее естественное состояние, в котором она раз и навсегда утвердилась со смешанным чувством христианского смирения и человеколюбивого порыва. С первого взгляда можно было догадаться, что дома супруги увлекаются ремесленничеством, а в общине — религией, что они или расписывают тарелки, или проповедуют божье слово, а может быть, делают и то и другое одновременно. Бернар протянул сыну руку. Оба они были смущены, неестественны; к тому же в Арно чувствовалась настороженность. Он пожал отцу руку, потом сказал почти тоном библейского патриарха;
— Вот моя жена.
Бернар пожал и ее руку, склонил голову.
— Я уже познакомился с малютками, — сказал он, стараясь выглядеть веселым. — Они очаровательны, такие милые.
Это несколько разрядило атмосферу, все заулыбались.
— Дети мои! — воскликнула Сесиль, в свой черед подходя к ним. — Как ты себя чувствуешь, сын мой?
Она поднялась на цыпочки, и Арно склонился к ней. Затем она поцеловала невестку со словами:
— Дорогая Монель.
Бернар про себя взял на заметку имя. У Монель были прямые тусклые волосы. Никакой косметики. Все естественное. Бернар не сомневался, что за столом она отрезает огромные ломти хлеба от огромного деревенского каравая большим ножом, ручка которого вырезана из оливкового дерева; и огромный кусок масла ставится на стол в глиняной миске, которую Монель, возможно, сделала сама. Возврат к простоте… Некогда, в юности, Бернар знал подобных людей, настроенных весьма буколически, которые совершали паломничество в Маноск, как мусульмане совершают паломничество в Мекку; при виде их всегда начинаешь опасаться, не начнут ли они вдруг блеять. Он был убежден, что Монель безупречна «во всех отношениях», и чувствовал себя перед ней отщепенцем, тем, кем она, должно быть, втайне его и считала: гнусным негодяем, который от всего отрекся…
Однако он задал сыну несколько вопросов, из чистой вежливости и из боязни, как бы не воцарилось гнетущее молчание.
— Дядя Леон сказал мне, что ты и Монель нашли себе прибежище в Оверни?
Арно принялся объяснять. Едва ли он достиг какого-нибудь прогресса в умении мыслить и в ясности речи, и Бернар с трудом докопался до сути его высказываний. Бессвязный поток слов, какая-то трясина, и в ней там и сям плавали обломки давно уже потерпевшей крушение идеи:
— …осознание специфических проблем… на ниве самоуглубления… осознание общими усилиями конкретной ситуации, в которой находятся все угнетенные… поиски нового типа отношений между людьми… все параметры человеческого… и помимо традиционной церковной структуры… конкретные проблемы выполнения своих обязательств в локальном плане… сознательность крестьянства…
Бернар с восхищением подумал, что, оказывается, можно говорить так долго и ничего не сказать. Это всегда было особенностью его сына. Несмотря на странный жаргон, склонность к абстракции и косноязычие, два или три пункта, кажется, прояснились, и их можно было, пожалуй, свести к следующему: 1) Арно посвящает свое время, свою жизнь миссионерской деятельности из христианского смирения, но, конечно же, одна из его целей — низвержение власти и иерархии, возвращение к более свободным, более прямым, более коллективным формам религиозных обрядов, 2) похоже, он испытывает тягу к экуменизму, 3) большое место занимают в программе социальные темы; можно даже предположить, что они, по существу, сливаются с темами христианскими. Апостольское служение, пронизанное революционной страстностью.
Пока сын говорил, Бернар разглядывал его. Арно изъяснялся тяжеловатым слогом, с какой-то раздражающей монотонностью. Взгляд его, не в силах выдержать взгляда Бернара, все время бегал. Смущение можно было объяснить встречей с отцом, которого они не видели десять лет, давно забыли и никогда не вспоминали; и вдруг — вот он, воскрес из мертвых… Но не исключено также, что смущение объяснялось одним туманным воспоминанием, которое витало между ними и, возможно, стесняло миссионера неохристианства, — воспоминанием об игрушечном наборе нацистских доспехов с гербом со свастикой, кортиком офицера вермахта и фотографией фюрера…
Через три дня Бернар уже чувствовал себя дома вполне непринужденно, и все, казалось, принимали его присутствие в лучшем случае с осторожным любопытством, в худшем — с безразличием. Дикий зверь приручен? Он сделал вид, что да. Он решил не вступать ни в какие конфликты, даже если у него появлялось желание, как он сам себе говорил, «пощипать перышки» тому или другому: Арно, Сесиль или этому чужаку, с которым он только недавно познакомился, — своему зятю Гаэтану. Он старался никогда не выказывать своего удивления ни их поступками, ни их словами, которые в глубине души ошеломляли его. Рип ван Винкль вынужден был смириться с эволюцией мира, которая произошла за время его долгого сна; ему нужно было подождать, попытаться понять, приспособиться… Особенно повергала его в бездну изумления Сесиль: ее жесты, ее походка были совсем не такими, как десять лет назад. Пусть так, с годами она приобрела властность, превратилась в уверенную в себе матрону, но как и почему исчез ее прежний слащавый тон, невыразимая приторность претенциозной благонамеренной дамы, которая всегда говорит то, что нужно, ни словом больше, и у которой такой вид, будто в голове у нее только блистательные мысли? Естественно, все это было неправдой, у нее в голове тоже кружились всякого рода мерзкие и непристойные мыслишки, как у любого другого, но с виду и на словах — чистая патока… Однако теперь Сесиль скинула эту маску благопристойности. Превращение сказалось даже на лексиконе. Теперь Сесиль, не колеблясь, употребляла самые вульгарные слова, самые грубые выражения; и она научилась произносить их гнусавя, как всякий сброд; конечно, это так, ради смеха, но все же — Сесиль!.. Она говорила что-нибудь вроде (Бернару сразу же резало слух): «Эти суки, меня от них воротит!» Она говорила; «Дети мои, делайте, что хотите, валяйте зевайте здесь у телека, я же смываюсь, иду в киношку. Вы пойдете со мной, Маргарет?» Когда вспомнишь, какой Сесиль была раньше, просто руки опускаются. Однако в глубине души Бернар смутно чувствовал, что по существу ничего не изменилось. Разыгрывалась все та же комедия, но теперь она шла в других декорациях. Сесиль продолжала играть в спектакле, но, говоря театральным языком, она «сменила амплуа».
Что касается Арно, то определить природу перемены, происшедшей с ним, оказалось труднее, поскольку словесное общение с ним было невозможно. Чтобы общаться посредством слов, нужно иметь вразумительного собеседника. Арно же, который постоянно твердил о диалоге («главное — наладить диалог»), был от природы неспособен высказать две последовательные мысли, говорить понятно и связно. Но любопытно, что люди с весьма посредственным интеллектом, кажется, высоко ценили его краснобайство. Бернар имел возможность убедиться в этом, когда один ученик нанес визит мэтру. Этого ученика Бернар некогда немного знал: типичный законченный олух с прочно укоренившейся репутацией глупца. Так вот, он пришел повидаться с Арно, и Бернар, который находился в гостиной, смог присутствовать при их разговоре. Между этими двумя пустомелями произошло чудесное взаимопроникновение. Туманная магма, в которой бредовые неологизмы, газетные штампы, бесхребетные фразы, невразумительные синтаксические стыки изливались друг на друга, постепенно исчезали друг в друге — так лимфа смешивается с лимфой. Оба собеседника, похоже, были удовлетворены беседой, словно они понимали друг друга. Естественно, каждый слушал только самого себя, но иллюзия «диалога» была полной. В своем роде беседа проходила так же успешно, как споры на темы культуры по радио. Бернар оценил всю силу — не слова, нет! — пустословия в современной Франции, Пустословия, ставшего почти противоположностью Слову. Сквозь плотный туман словес иногда вроде бы пробивалось главное направление мысли, если только там была мысль: идеологическая ткань состояла из христианских мотивов, кое-как вытканных на основе каких-то перепевов марксизма. Можно было также заметить влияние Жан-Жака Руссо: возврат к природе, ремеслу, деревенской воздержанности в пище… Но что особенно пленяло Бернара, когда он слушал разглагольствования сына, так это его манера держаться, его вид, его тон: помесь пасторской елейности и воинствующего братства… Мы — духовные вожди, но у нас демократическое равенство; обращение на «ты» обязательно, мы все — друзья, объединенные общей борьбой… Арно рассуждал заумно, тяжелым, вязким слогом, без умолку, мягкая улыбка освещала его глаза и то немногое, что виднелось из рыжих зарослей, неопалимой купины пророка… Это было лицо Христа и в то же время — вполне мирское, лицо гуру и в то же время — партизана. Он явно упивался своей речью, наслаждался в глубине души той ролью, которую играл. «Что за комедию разыгрывает он теперь? — спрашивал себя Бернар. — Как и зачем принял он этот облик?»
Что касается зятя, Гаэтана де…, то он не представлял собой никакой тайны. Славный малый был прозрачен, как горный ручей. Он страстно мечтал стать председателем местной секции клуба автомобилистов; это честолюбивое желание целиком определяло его сущность, давало полное представление о нем. Он был благодушный, веселый и непосредственный, как какой-нибудь младший лейтенантик из водевиля 1900 года, персонаж, для которого он к тому же имел подходящую внешность — смазливый, тщательно одетый. Бернар нашел его скорее симпатичным. Считалось, что он работает вместе с Леоном. В его обязанности входило изучение рынка сбыта, иначе говоря, «внешние связи». В действительности же, как сказал Леон, «он ни черта не делал» и спокойно жил на общие доходы с предприятия. Казалось, он нимало не был огорчен разлукой с женой, даже наоборот. Возможно, он находил способ скрасить свое соломенное вдовство. Короче, эта любезная марионетка с безукоризненными манерами нисколько никого не стесняла.
Город притягивал Бернара, он гулял по нему часами, весь превратившись в слух и зрение, и его внимание привлекали не столько перемены, запечатленные в металле и цементе, в стекле, в плексигласе, в пластике, в вещах, сколько перемена нравов, понятий, языка. Он входил в кафе, прислушивался к разговорам за соседними столиками. Понемногу он привыкал к новым словам, все они были обесценены, так же как деньги. Бернар ловил на ходу немного странные фразы, например такие, брошенные каким-то юношей своим приятелям, собравшимся вокруг игрального автомата: «Потрясно, типы. Кайф! Я прибалдел, словно дурак». Бернар понял, что «кайф» и «прибалдел» выражают своего рода эстетический оргазм, вызванный джазовой музыкой. Сильные ощущения были в чести, так сказать, в порядке вещей. Казалось, что прессой, рекламой, расхожей моралью все население подстрекается к тому, чтобы постоянно жить в пароксизме удовольствия. И в то же время эти убежденные эпикурейцы были убежденными полемистами. Нужно наслаждаться любой ценой, но нужно также — и не менее яростно — отстаивать свои права, протестовать, бунтовать. Семья, школа, власть, еще живущие старые идеологии создавали столько сил принуждения, цитаделей подавления… Читая газеты всех направлений, прогуливаясь по родному городу, слушая разговоры своих сограждан, Бернар Рип ван Винкль солидно просветился и в конце концов определил для себя круг нескольких истин эпохи.
Иногда он приглашал мисс Хопкинс сопровождать его в этих прогулках. Эта свежая и наивная девушка забавляла его; под маской шутливого подтрунивания он кокетничал с ней. У мисс Хопкинс никогда в жизни не было такого праздника.
Две недели спустя после своего возвращения, придя к вечеру домой с одной из таких прогулок, он увидел в гостиной четырех дам, которых Сесиль пригласила на чай. Из небольшого круга прежних приятельниц Сесиль присутствовала лишь одна. Три другие дамы являли собой новое пополнение, более молодое и главное, более развязное. Ничуть не смутившись, Сесиль сказала: «А вот и мой муж» — и представила дам. Одну за другой Бернар поцеловал четыре протянутые руки, удивленный тем, что стихийно всплыл старый рефлекс, забытый за многие годы. Дамы разглядывали его с любопытством и симпатией, не очень точно представляя себе, чем именно он занимался «там»: разведением скота, бандитизмом, герильей или торговлей белыми женщинами. Так как в городе у него была слава человека необузданного или даже полубезумца, они, верно, склонялись к торговле женщинами, занятию, слов нет, ужасному, но в то же время более колоритному, чем скотоводство; во всяком случае, непохоже было, чтобы эта гипотеза охладила симпатию, которую они готовы были засвидетельствовать мужу Сесиль. Впрочем, в наши дни даже в кругу порядочных людей разве можно всегда знать, кто сидит рядом с тобой?
— Да, — говорила Сесиль, — этот шалопай свалился как снег на голову — хоп! — и вот я снова при муже, я, женщина, привыкшая к свободной жизни.
Все засмеялись. Одна из дам заметила, что возвращение мужа к супружескому очагу — явление в наше время куда более редкое, чем его бегство, и, если это произошло, в любом случае надо только радоваться. Задали несколько вопросов об Аргентине. Самая молоденькая из приглашенных спросила, правда ли, что в этой стране, где женщина еще недавно главенствовала в делах, сейчас приняло широкий размах движение за эмансипацию женщин. Бернар мало что знал об этом. Он сказал, что, насколько он может судить, в семьях землевладельцев, где ему приходилось бывать, авторитет женщины-матери очень велик, и это несмотря на преобладание machismo[17]. (Дамы знали, что такое machismo. Они его порицали.) Разгорелась небольшая дискуссия относительно различия между традиционно-общинным матриархатом, особенно в сельской местности, и настоящим «статусом автономии» для женщин в современном городском обществе. Раньше, когда Сесиль приглашала на чай своих — приятельниц, беседа текла приземленная, почти не выходящая за рамки приходских интересов. Бернар оценил пройденный путь. В пылу спора дамы в конце концов забыли, что среди них находится представитель мужского пола, который, впрочем, говорил мало и держался в тени. Обсуждение женской независимости вылилось в разговор о свободе распоряжаться своим телом, и Бернар был весьма удивлен, услышав вдруг такие откровения:
— Я со своим мужем испытываю оргазм один раз из трех, и уж поверьте мне, это не моя вина!
— Согласно последним данным Института сексологии, 62% француженок удовлетворены супружескими отношениями.
— Да, но из этих 62% — я помню эти данные — 37% заявили, что при этом они делают ставку больше на себя, чем на супруга.
Бернар не знал, куда деваться. В юности он раз десять дрался насмерть; раз или два имел дело с опасной шпаной; давал отпор профсоюзным делегатам; однажды разнял двух пеонов, выяснявших отношения с помощью кинжалов; короче, он не боялся ничего и никого; но, слушая, как эти элегантные дамы за чашкой чая разглагольствуют об оргазме, он почувствовал, что у него по спине пробежали мурашки. Он взял себя в руки. Ладно, в конце концов пусть будет так. Он знал, что женщины во всем мире борются за то, чтобы обрести равные права с мужчинами. Он ничего не имел против, это законно, нормально, и можно даже надеяться, что в результате этой борьбы появится более совершенное общество. Ладно. Но в таком случае, что же его покоробило? Что пора сдать в архив некий образ Женщины, созданный в его представлении воспитанием, окружением? Да, наверное… Его собственное чувство machismo содрогалось, когда он слышал, что женщины разговаривают как мужчины, или, вернее, как мужчины не разговаривают, ибо с тех пор, как он покинул стены школы и казармы, он не припомнит, чтобы кто-нибудь из мужчин в разговоре хотя бы намекнул на испытываемый им оргазм… Возможно, во время этой беседы Бернара сбивали с толку преувеличенность тона, акцент. Он сам казался себе простаком, попавшим в какую-то утрированную комедию…
Как-то вечером, когда Сесиль и мисс Хопкинс ушли в кино, он от безделья забрел в спальню жены. Осмотрел книжные полки. Даже если судить по одним только названиям, Сесиль можно было присудить диплом за современность: эротика соседствовала с политикой, фривольный парижский стиль — с серьезной философией, роман-боевик, но хорошего вкуса, — со скандальным репортажем, написанным, однако, журналистом с мировым именем… Бернар полистал какое-то сочинение с зазывным названием, прочел наугад одну или две страницы. Это была порнография высшего класса, несомненно предназначенная для мелких буржуа, у которых от повышения благосостояния мутится разум… Бернар почувствовал сострадание. Бедная Сесиль. Неужели она и впрямь считает себя обязанной читать это?
Выходя из спальни, он услышал голоса: Сесиль разговаривала с какой-то женщиной, но это была не мисс Хопкинс. Он узнал рыдающий голос дикторши, которая объявила о смерти президента Чили: Франсина… Итак, наступил момент лицом к лицу встретиться с дочерью. С первого дня своего возвращения он страшился этого испытания; но оно было неотвратимо. Он предпочел бы дать вырвать себе без наркоза один за другим три зуба… Но как избегнуть этой встречи? Укрыться в своей спальне или сбежать через задние двери было бы ребячеством. Охваченный ужасом, он вошел в комнату, где находились обе женщины.
Франсина стояла посередине маленькой гостиной перед сидящей матерью. Хорошо вылепленная фигура, крепкая и даже в какой-то степени монументальная, гармонировала с ее голосом. Тот же нелепый наряд: неизбежные джинсы, чтобы разом продемонстрировать и принадлежность к поколению юных, и демократический эгалитаризм; но блузка — от изысканного модельера, и все аксессуары — наручные часы, колье, цепочки, браслеты, кожаный пояс — тоже были от лучших поставщиков и оповещали не столько о возрастной категории, сколько о принадлежности к определенному социальному кругу, который в самом этом кругу называли просто «круг». Мы всегда молоды, мы испытываем чувства, которых требует от нас время, но просьба не ошибиться относительно происхождения… Все в одежде было со вкусом продумано… Одним взглядом Бернар оценил ансамбль в целом и в деталях, кое-что отметил про себя. Это длилось какую-то долю секунды… Потом он встретил взгляд, брошенный ему дочерью: такой жесткий, такой холодный, такой вызывающий, что Бернар остановился, пригвожденный к месту. На мгновенье он утратил всю свою уверенность и пробормотал растерянным, почти дрожащим голосом:
— Добрый вечер, Франсина.
Молодая женщина подчеркнула свое преимущество демонстративным молчанием, неподвижностью статуи, словно она ждала, что сраженный насмерть противник рухнет; но она недооценила жизненную силу своего отца, о котором спортсмен мог бы сказать, что он очень быстро «восстанавливает дыхание». Двух или трех секунд ему хватило, чтобы взять себя в руки. Было очевидно: оба они готовы перейти все границы условности. Дочь явилась как враг, чтобы выступить против него, чтобы, быть может, бросить ему вызов? Прекрасно. Она встретит достойного соперника. Окаменев душой и телом, Бернар принял вызывающий вид. Встревоженный взгляд Сесиль перебегал от отца к дочери. Не собираются ли они устроить побоище, чтобы изничтожить друг друга.
— Я полагаю, — сказала Франсина, чеканя каждый слог, — объятия были бы неуместны.
— Я тем более на этом не настаиваю, — отпарировал Бернар.
Сесиль вмешалась:
— О, послушайте! Не собираетесь же вы затеять ссору с первой минуты…
— Об этом не может быть и речи, — ответила Франсина, все еще стоя неподвижно. Немигающим взглядом она смотрела Бернару прямо в лицо. — Зачем ты вернулся?
— Я не обязан давать тебе отчет.
— Ты что, собираешься остаться здесь навсегда?
— Останусь, если пожелаю. Ведь здесь я вроде бы у себя дома. Напоминаю на случай, если ты забыла об этом.
— Мне кажется, — произнесла Франсина после короткой паузы (голос ее дрожал от сдерживаемого гнева), — ты полностью утратил моральное право находиться здесь.
Бернар пожал плечами, улыбнулся:
— О! Моральное право!.. Мне достаточно просто права!..
Теперь преимущество было на его стороне, и Франсина понимала это. Она попыталась нанести удар ниже пояса:
— Мы великолепно обходились без тебя эти десять лет…
— То же самое могу сказать и я; но я не обязан принимать это в расчет.
— Если ты останешься здесь, ноги моей в этом доме не будет.
— Я не стану посылать за тобой.
Сесиль встала.
— Я не могу больше выносить этого… — глухо сказала она и вышла из комнаты.
Бернар — крепко сбитый, спокойный — ждал, когда дочь снова заговорит. Лицо Франсины было искажено гримасой омерзения.
— Что это за история с передачей акций? — спросила она наконец. — Дядя Леон перекинулся словом с моим мужем. Он сказал ему, что вынужден уступить тебе шесть процентов своих акций. Что все это означает?
— Твой муж наш компаньон?
— Во всяком случае, он много лет работает в фирме…
— Стало быть, он наш служащий. А не компаньон. Он может просить прибавки к жалованью, но не отчета. Я не обязан отчитываться перед ним и еще меньше — перед тобой.
— «Я не обязан!..» За две минуты ты три раза сказал «я не обязан!..». Но твои дети, может быть, обязаны сформулировать некоторые требования. У нас — у меня и Арно — нет ни малейшего желания оказаться незаконно лишенными того, что принадлежит нам по праву…
— У вас нет надобности формулировать какие-либо требования, поскольку ваши родители еще живы.
— Арно, по-моему, думает не так…
— Арно полностью поглощен своей евангелической миссией, — с мягким укором сказал Бернар. — Его не заботят земные блага.
— Кроме шуток? С каких это пор? Ерунда: у него жена и дети, их нужно кормить.
— Я не испытываю за него ни малейшего страха, — проговорил Бернар с притворным смирением. — Человек такого недюжинного ума, такой способный, такой красноречивый, как он… Стоит ему только захотеть, и он найдет себе работу. Как и ты, впрочем… Твоя передача на радио великолепна! То, что ты сказала в тот вечер об Альенде и о защитном рефлексе власть имущих… Великолепно.
Франсина сверлила его взглядом, в котором одновременно сквозили ненависть и отчаяние.
— Ничуть не изменился, — пробормотала она. — Весь переполнен сарказмом… Но больше ты меня не запугаешь. Если только тебе это вообще когда-нибудь удавалось… Так вернемся к истории с передачей акций…
— Часть акций, которые твоему дяде придется передать мне, представляют собой эквивалент того, что мне следовало получить наличными, но чего я не получил и не смогу получить по причинам, которые надеюсь непременно выяснить. Все это совершенно законно.
— Но тогда у тебя окажется контрольный пакет акций?
— По-видимому. Это что-нибудь меняет для тебя?
Франсина сказала:
— Я собираюсь проконсультироваться с юристом…
— Дело твое. А теперь, если ты сказала все, что хотела… — взгляд Бернара скользнул к двери, потом снова остановился на Франсине, — ты знаешь, что тебе остается сделать.
Не сходя с места, она слегка качнулась, словно оглушенный ударом боксер. Прежде у нее довольно часто случались стычки с отцом, и каждый раз ей приходилось отступать, побежденной своего рода жестокостью Бернара: перед агрессивностью он не отступал ни на шаг и умел наносить самые страшные удары, всегда точно и уверенно находя уязвимые места. Франсина почувствовала, как слезы бессильной ярости выступили у нее на глазах. Она круто повернулась и вышла. Бернар слышал, как она сбежала по лестнице, как громыхнула входная дверь. Он сел в кресло и закрыл лицо руками.
Следующие две недели Бернар почти каждый день ходил на завод; у него снова установился контакт с рабочими, мастерами, служащими канцелярии; он много работал с Леоном, попросил его разъяснить ему суть новых методов управления. Уже подумывали, не собирается ли он взять дела в свои руки, и сам Леон начал подозревать, что брат решил остаться здесь навсегда. На самом же деле у Бернара возник другой план, пока еще туманный: полностью отказаться от своих акций, но взамен получать пожизненную ренту. Тогда он смог бы свободнее располагать собой, своим временем. За эти недели он пригляделся к своим племянникам, сыновьям Леона, которые были на десять-двенадцать лет моложе его собственных детей, так как Леон женился поздно. Раньше Бернар знал племянников плохо, они были слишком малы, когда он покинул город. Оба юноши покорили его своей естественностью и простотой, а также своего рода мудростью. Они были так же нечестолюбивы, как и он в их возрасте. Никакого стремления подняться по социальной лестнице, к рангам, к положению в обществе. И к деньгам они, казалось, относились спокойно: не делали вида, что презирают их, но и не были их рабами. Старший, Пьер, предполагал, что рано или поздно, возможно, «перехватит эстафету» в деле семьи, но с охотой приобрел бы и другую профессию, например профессию механика. Короче, Бернар был очарован племянниками. С болью в сердце сравнивал он их со своими детьми. Почему его дети совсем другие? Иные гены, иное поколение? Ах, если бы у него были такие сыновья, как Пьер и Луи, он никуда не уехал бы и, верно, был бы счастливым человеком…
Мало-помалу Бернар привык к городу, к своей вновь обретенной родине. Он прекрасно понимал, что какой-то цунами проносится над ними, как и над всей Европой, навсегда сметая множество устаревшего, устанавливая новое. Это началось ещё задолго до его добровольного изгнания, но в последние годы перемены стали особенно разительны, вот почему в первые дни он был так поражен тем, что увидел. Однако перед самым его отъездом в 1963 году его жена, дочь и сын были такими, какими он знал их всегда. Значит, они изменились после 1963 года. Так, например, слушая высказывания Сесиль, он заметил, что некоторые формулировки, некоторые штампы или лозунги, оставшись в общем почти такими же, что и в прежние времена, просто вывернуты с лица на изнанку (или с изнанки на лицо), словно палец перчатки. Там, где Сесиль до 1963 года сказала бы: «Французы неуправляемы», она теперь говорила: «Решительно, французы преклоняются перед Властью!» Вместо «Мы, возможно, совершаем ошибку, привечая у себя столько иностранцев» ныне звучало: «Мы в долгу перед третьим миром». Тусклая хризолида: «Социальное равенство — обман» превратилась в отливающую яркими красками бабочку: «Надежду на радикальные перемены мы можем возлагать только на рабочий класс», — бабочку, которая — увы! — сама опалила себе крылья в пламени мужественного прозрения: «К несчастью, рабочий класс имеет тенденцию к обуржуазиванию». Бернар больше не ужасался, слушая афоризмы жены. Впрочем, тон Сесиль, ее интонация, ее чопорный вид были точно такими же, как и прежде, так что в один прекрасный день Бернара осенило: не есть ли это современная личина благонравия? Не есть ли это новый свод правил хорошего тона, принятый в среде либеральной буржуазии семидесятых годов? Не есть ли это идеи, позаимствованные в гостиных улицы Корделье, в гостиных всех улиц Корделье всех французских городов? У Бернара было такое чувство, будто он наконец-то напал на верный след, один из тех верных следов, которые в полицейском расследовании выводят судебного следователя на правильный путь. Нужно было во что бы то ни стало не упустить его.
Много раз Бернару хотелось отвести Сесиль в сторонку и сказать ей: «Послушай, Сесиль, я не критикую твои нынешние взгляды, но мне хотелось бы узнать от тебя, как и почему ты перешла из одной крайности в другую. Ты была самой типичной представительницей консервативной буржуазии, вся нашпигованная «добрыми чувствами». Теперь ты вдруг потрясаешь красным или по крайней мере изрядно розовым знаменем, а ведь не так уж ты враждебна классу, к которому, по сути дела, всегда принадлежала. Я знаю, только глупцы не меняются. И все-таки я хотел бы, чтобы ты объяснила мне тайну того потрясающего духовного пути, который ты прошла…» Он устоял, удерживаемый щепетильностью, великодушием (а вдруг Сесиль обидится?) и самолюбием сыщика: он сам докопается до истины. Кроме того, их отношения — вполне корректные, но, пожалуй, прохладные — не давали ему права задавать Сесиль подобные вопросы. Ведь Сесиль не спрашивала ни о его прошлой жизни, ни о его планах на будущее. Она, казалось, терпеливо переносила присутствие мужа, ожидая, когда он уедет: ведь он сказал, что уедет через несколько недель или даже через несколько дней.
Конфликт с Франсиной не сжег мосты между ними. В один прекрасный день молодая женщина как ни в чем не бывало вновь появилась на улице Корделье, разве что теперь она обходилась с Бернаром с ледяной вежливостью; она обращалась к нему только в случае крайней необходимости, но, в общем, со стороны не было заметно, чтобы они чувствовали в присутствии друг друга особое стеснение. Им случалось даже садиться за один стол то у себя дома, то в домах друзей — семья часто обедала «в городе». Тогда у Бернара появлялась прекрасная возможность наблюдать, в подробностях изучать самые свежие перемены в дочери. Он начал составлять свод наиболее часто употребляемых ею слов и выражений. Некоторые слова повторялись особенно настойчиво: «отчуждать», «вовлекать», «демарш», «специфика», «значительность»… В скудном умишке Франсины много творилось легенд, но, слава богу, не меньше развенчивалось святынь: того и гляди будут ниспровергнуты все мифы и табу. Среди эпитетов одним из самых любимых был: «взрывной». Два выражения поразили Бернара: «игровой мир» и «эротический церемониал». Нужно разрешать детям свободно веселиться в «игровом мире», а взрослым совершать «эротический церемониал», если это им по душе, бедняжкам нашим… (А может, все наоборот: взрослым «игровой мир», а детям «эротический церемониал»?) Короче говоря, мораль Франсины, судя по всему, определялась беспрерывной борьбой за то, чтобы жить «свободной» и «независимой», не поддаваясь натиску официальной лжи и «отчужденных мифов», которые стремятся закабалить ее. Можно сказать, все это было, пожалуй, не менее захватывающе, чем вестерн, в котором непорочную героиню без конца скальпируют и насилуют; но Франсина слишком мало походила на эту простодушную девушку, обычно очень стыдливую. Франсина отчаянно сквернословила, частенько прибегая к выражениям, которые можно услышать только в солдатской караулке. Но тех, кто окружал ее, казалось, это не коробило.
Бернар отметил также, что радикализм его дочери был догматическим и надменным, как всякий фидеизм. Это был радикализм открыто манихейский: уж слишком четко бросалось в глаза деление представителей рода человеческого на хороших и плохих. Хорошими были те, кто думал, как Франсина. Плохими — те, кто думал не так, как она. И эти последние были не просто заблудшими, а неисправимо испорченными, над которыми тяготела тень первородного греха. Если они в конце концов отрекутся от своих заблуждений, у них, возможно, появится надежда на спасение. Но если они будут упорствовать во Зле, никакая кара не будет для этих отщепенцев достаточно суровой. И Франсина уже клеймила их позорным клеймом: «мер-р-завцы!» Когда она непререкаемым тоном, с отвращением встряхивая головой, говорила о ком-нибудь: «Это мерзавец!», шкура несчастного уже не ценилась ни во что. Отлученному оставалось выбирать лишь между позорным столбом и исправительной колонией. И правда, Франсине была присуща весьма тревожащая склонность к инквизиторству. Она действовала методом запугивания, а так как она была высокая, плотная, большая, монументальная, горластая, непоколебимо уверенная в себе, окруженная ореолом того авторитета, пусть крошечного, но дарованного ей ее положением радиозвезды, то она наводила страх на многих людей, встречавшихся с нею в столовых и гостиных улицы Корделье.
На заводе Бернар часто беседовал со старым мастером, который работал в фирме уже более тридцати лет; его звали мсье Эмиль. Профсоюзный делегат, секретарь профсоюзного комитета завода, человек этот был одним из самых влиятельных на предприятии. Его авторитет был безграничен. Мсье Эмиля побаивались все члены семьи Сарлье, кроме Бернара, который всегда любил его, сам не зная почему, возможно потому, что мсье Эмиль, талантливый самородок, излагавший свои мысли со старомодной безупречностью и выразительностью, как человек, знающий цену хорошему языку, мсье Эмиль представлялся ему эталоном старого француза, неким образом средневековья, сохранившимся — подумать только! — до наших дней, редким экземпляром, тем более ценным, что он, конечно же, не переживет нашей эпохи: скоро такие, как он, совсем переведутся… Бернар ценил его почти романтическую порядочность. Ему нравилось, что мсье Эмиль так красиво говорит и так хорошо держится, будучи в то же время их непримиримым противником, который, по выражению Леона, «не такой уж для нас подарочек». Бернар также чувствовал, что мсье Эмиль отвечает ему такой же симпатией, и ему это было более чем приятно — почти нечаянная радость.
Как-то Бернар решил пригласить мсье Эмиля вместе пообедать. Он боялся отказа, боялся, что старый профсоюзный активист не захочет подвергаться риску скомпрометировать себя, обедая с одним из хозяев. К его удивлению, мсье Эмиль принял приглашение. Они отправились в пригородный ресторанчик, выбор которого Бернар тщательно продумал: ни слишком роскошный, что было бы неуместно и отдавало дурным вкусом, ни чересчур плебейский, потому что он хотел оказать гостю честь, подчеркнуть свое уважение к нему. В ресторанчике все оказалось по-семейному мило, кухня была без претензий, но все блюда — безупречны, а вина — превосходные. Мсье Эмиль, похоже, оценил и обстановку, и стол. Бернар рассказал ему об Аргентине, о своей работе там, о проблемах, которые возникали у него при управлении поместьем, — он полагал, что какие-то конкретные вещи, имеющие отношение к той или иной профессиональной деятельности, могут заинтересовать старика. В середине обеда, размякнув от вкусной еды и горячительных напитков, они предались воспоминаниям о былых временах. Не впадая в интимность, к которой они не стремились и которая могла бы только отпугнуть их друг от друга, Бернар довольно много рассказывал о себе, чтобы мсье Эмиль понял, что он считает его не столько своим служащим, сколько сподвижником и другом.
— Все то время, что я знаю вас, меня не оставляет чувство, будто вы член нашей семьи. — Бернар не стал слишком глубоко разрабатывать эту жилу, иначе можно было бы подумать, что он ударился в давно скомпрометировавший себя патернализм: с человеком, обладающим таким тонким слухом и острым умом, как мсье Эмиль, нужно держаться очень осмотрительно… Он сдержанно намекнул на семейные «разногласия», которые в значительной степени послужили причиной его отъезда. — К тому же, — добавил он, — я не был вполне удовлетворен своей работой здесь. Что вы хотите, управление заводом меня не интересовало! Вы, наверное, и сами поняли это тогда. Меня тянуло к другой жизни, где я был бы один, независим… Я нуждался в просторе, в напряженном физическом труде… С этой точки зрения ферма в Аргентине была идеальным выбором.
Мсье Эмиль кивнул головой. Да, он прекрасно понимает. У него тоже случались периоды усталости, тоски.
— Бывают дни, когда сердце не лежит к работе.
Однообразное существование порою наводит тоску… Какой человек не попытался хотя бы раз коренным образом изменить свою жизнь?.. Бернар сказал, что, если бы ему было двадцать, лет, он пошел бы бродить по дорогам, как хиппи. Что ни говори, а нынешним молодым людям повезло, они могут вот так идти, куда взбредет в голову… Это одна из положительных сторон современной жизни. Бернар не без остроумия рассказал, в какое смятение он был повергнут в первые дни после возвращения во Францию. В наш век достаточно десяти лет, чтобы мир, в котором ты прожил большую часть своей жизни, стал неузнаваем.
— Возьмите, к примеру, моего сына Арно: я был ошеломлен, когда увидел его. И не только потому, что он постарел, это естественно, этого я ожидал, но ведь его вообще словно подменили! Вы его немного знаете, я полагаю? Впрочем, с дочерью, кажется, произошло то же самое. Она совершенно изменилась.
Мсье Эмиль улыбался с несколько загадочным видом. После небольшого колебания он сказал:
— Это последствия мая.
Бернар не сразу понял.
— Последствия мая? — переспросил он. — Вы хотите сказать, мая 1968 года?
— Да. Очень многие вдруг решительно переменили свои взгляды, свою жизнь в ту пору. Или вскоре после.
— Правда? Но почему же? Я плохо представляю себе, что это были за волнения, «революция», как их еще называют. За шесть тысяч километров от Франции, в деревенской глуши… Я и газеты-то читал не каждый день… Вы говорите, что многие тогда переменили свои взгляды?
— Признаться, да. И понимаете, прежде всего из чувства страха. Произошел в какой-то степени тот же феномен, что и в 1944 году, когда свирепствовала чистка: тогда все кричали, что они участвовали в Сопротивлении… Люди испугались. Всё, хотя бы немного отдававшее коллаборационизмом, пользовалось такой дурной славой…
— Это я прекрасно помню. Выходит, в 1968 году произошло нечто подобное?
— В общем, да… Молодежь почти вся продемонстрировала, что она думает, какие чувства испытывает к нашему современному обществу. Все буржуазное и консервативное они огульно заклеймили, включая даже свои собственные семьи. Многое вдруг оказалось весьма некрасивым и одновременно ужасно обветшалым. (Выбор этого немного вычурного слова вызвал у Бернара улыбку.) И потом молодежь проявила себя как сила, с которой надлежало считаться; она была и агрессивна, и в то же время жизнерадостна… Все это привело к тому, что многие испугались то ли оказаться отстраненными, то ли обойденными… Короче, люди были взбудоражены!.. И они прыгнули на ходу в поезд, все как один… Майская революция была отрадной в одном смысле — она многое заставила взлететь на воздух; но все-таки она не смешалась с нашим движением; рабочий класс принимал в ней участие не всерьез, а лишь из тактических соображений… Но на это классу буржуазии было наплевать. Я даже сказал бы, что втайне это их, скорее, устраивало. Вы понимаете?
Бернар прекрасно понимал.
— Дорогой Эмиль, — сказал он, — вы не можете себе представить, насколько интересным оказался для меня ваш анализ. Чтобы разобраться во всем, мне не хватало одного звена… Одного звена в цепи… И мне кажется, вы сейчас дали мне его. Послушайте, я надеюсь, мы можем говорить с полной откровенностью? Вы ведь знаете моих детей, не правда ли? Вы помните Арно, когда ему было семнадцать-восемнадцать лет? Прекрасно. Мне не надо рассказывать вам, на каком берегу он был в те годы. И вот вы видите его теперь: прежде всего, внешний вид… Затем его идеи. Интегрист, каким он был некогда, перешел к самому ярому модернизму. Он принимает участие в движении за обновление церкви или уж не знаю чего… Он был ультра. И вот — прямо-таки революционер. Вы не знаете, как он проявил себя в мае 1968 года? Вы можете быть со мной совершенно откровенны, не боясь обидеть. Все, что я хочу, — это понять.
— Когда у нас началось это брожение и студенты стали устраивать манифестации, насколько я помню, мсье Арно…
— Не называйте его «мсье Арно»! Достаточно просто Арно…
— Я думаю, он уехал в деревню, чтобы спрятаться. Я знаю это, потому что небольшая группа молодежи хотела немножко пощипать Арно, не то чтобы учинить над ним расправу, нет, но поучить его уму-разуму, помочь задуматься… И они устроили манифестацию перед вашим домом. Не очень грозную; неделю спустя они об этом уже и не вспоминали. Ваш сын вернулся к концу месяца. Он даже выступил на одном из форумов. Публичные собрания называли тогда форумами… Я там присутствовал. Ваш сын бросил несколько неистовых фраз против де Голля. Я не смог бы сказать вам, что именно, потому что они были несколько туманны, но все же слушавшие его поняли, что он решительно осуждает де Голля. В общем, он словно бы публично покаялся, остальное его юные друзья предали забвению.
— Арно с давних пор ненавидел де Голля…
— Как бы то ни было, но после этого боевого крещения его можно было встретить повсюду. А через два месяца он уже носил бороду и выглядел так, как сейчас…
— Понимаю… Чудеса, да и только. Я подозреваю, что такая же метаморфоза произошла и с моей дочерью.
— О, перемену в мадемуазель Франсине мы заметили не сразу. Это пришло исподволь.
— Метаморфоза с ней произошла не столь эффектно, как с Арно?..
— Вы же знаете, — ответил мсье Эмиль с добродушной хитрецой во взгляде, — все это не слишком глубоко. Я не хочу никого оскорбить, но думаю, что у них это не очень серьезно. Просто новые идеи витают в воздухе, и нужно идти в ногу со временем. Ведь на идеи, как и на все прочее, тоже существует мода. Но в глубине души люди сохраняют привязанность к своим… к тому, чем они владеют.
— К своим привилегиям?
— Да… Игра в ниспровержение не слишком-то их обязывает, тем более что они чувствуют себя в безопасности за спиной непримиримого антикоммунизма — ведь антикоммунизм не рассматривается в их кругу как явление отрицательное, скорее наоборот… Словом, они ближе к анархистам девятисотых годов, чем к организованным революционерам. И если в один прекрасный день дело двинется, а оно, вне всякого сомнения, двинется, это будет не их заслуга…
Мсье Эмиль не добавил: «Это будет нашей заслугой» или: «Это будет заслугой трудящихся», потому что обладал чувством такта — ведь он обедал со своим хозяином; но намек явно читался на его лице, и все это, в сочетании с его сдержанностью, было так тонко, так восхитительно провинциально и так истинно по-французски, что Бернар, пожимая над столом руку этого славного человека, едва удержался, чтобы не расхохотаться.
— Но, разумеется, — снова заговорил мсье Эмиль, — если рано или поздно дело двинется, не беспокойтесь, они будут тут как тут и начнут кричать громче всех… Что вы хотите, на сцене Истории всегда находился легион статистов, разве не так?..
На этот раз Бернар охотно расцеловал бы мсье Эмиля.
— Какая это была прекрасная мысль — пригласить вас отобедать со мной! — пылко воскликнул он. — Нам надо бы встретиться еще разок, если наш разговор не слишком наскучил вам и вы хотите доставить мне удовольствие. Мне необходимо еще многое узнать от вас, дорогой Эмиль… И потом, — добавил он после нерешительной паузы, — последние дни я много размышлял над одним проектом, который может представить интерес уже для вас. Возможно, мы еще поговорим об этом. А пока, как вы думаете, не выкурить ли нам по хорошей сигаре? Прошу вас, попробуйте. Это гаванские.
Проводив старика домой, Бернар вернулся к себе. Ему казалось, что все наконец стало на свои места, все вдруг прояснилось, как в рисунке, где переплетения линий скрывают контуры фигуры, которую надо отыскать; и когда ее, наконец, удается обнаружить, она начинает резко бросаться в глаза. Ему хотелось бы поговорить с мсье Эмилем еще, расспросить человека более информированного, чем он сам, наблюдаются ли явления, с которыми он столкнулся в своей семье, в других семьях этого круга, в определенных слоях французского или европейского общества; усилились ли теперь эти явления или ослабли по сравнению с тем, какими они были через несколько месяцев или через два-три года после событий мая 1968 года; и наконец, не свидетельствуют ли они о каких-либо подспудно зарождающихся процессах, плоды которых в скором времени всплывут на поверхность.
На улице Корделье его ждала Сесиль, с нею были Монель и мисс Хопкинс. По выражению их лиц он понял, что вечером во время его отсутствия произошло что-то серьезное. У Леона инсульт. Когда спустя десять минут Бернар приехал в больницу, ему сказали, что его брат только что тихо, без страданий скончался.
Пять или шесть недель, которые последовали за этим событием, прошли довольно суматошно: эксперты произвели опись всего недвижимого имущества сначала на улице Корделье, потом в деревенских владениях. Бернар много раз встречался со своей невесткой Мартой и племянниками Пьером и Луи в присутствии нотариуса и ответственных представителей администрации завода. Все эти дни Франсина разрывалась между адвокатом, матерью, мужем и своей работой на радио. Каждые три дня она наезжала домой, словно боялась, как бы в ее отсутствие что-нибудь не затеялось. Когда наконец со всеми формальностями было покончено, Бернар решил проинформировать обо всем семью. И вот наступил день, когда он попросил жену, дочь, зятя, сына и невестку собраться в маленькой гостиной. Надев очки, он с видом заправского администратора или промышленника, каковым он, впрочем, и был, занял за столом место перед грудой папок. Коротко и четко он объявил, что экспертами, нотариусом мэтром Бертомье, бухгалтером мсье Жаме, секретарем профсоюзного комитета предприятия мсье Эмилем и им самим подведен полный баланс. В процессе работы выявилось, что по сравнению с предыдущими годами положение стало значительно хуже. Произошла утечка огромных средств, которая главным образом объясняется отжившими методами организации производства. Однако предприятие можно оздоровить и сделать жизнеспособным, если принять новые формы руководства.
Тут Франсина воспользовалась небольшой паузой, чтобы вставить слово:
— Может быть, ты сразу скажешь нам, какое решение принято относительно раздела акций?
После этого вмешательства последовала несколько напряженная тишина. Бернар неторопливо поправил очки.
— Как вам известно, — сказал он, — я имею право изъять шесть процентов акций из доли брата. Я решил отказаться от этого, чтобы не ущемлять интересов своих племянников. Таким образом, мы — я и они — становимся равноправными совладельцами предприятия, как было и с их отцом. Что же касается меня, то я намерен все свои акции продать.
— Кому? — спросила Франсина. — Я и Арно имеем на них преимущественное право.
— Нет, ведь вы не являетесь и никогда не были моими компаньонами. Преимущественное право имеют ваши кузены Пьер и Луи. Впрочем, на какие деньги приобрели бы вы эти акции?
— Арно и я — твои наследники. И не вздумай нас ограбить. Существует закон.
Резкая, собранная, ощетинившаяся Франсина, судя по всему, решила идти напролом. Другие не обладали ее боеспособностью. Арно, опустив глаза, изучал носки своих ботинок с интересом, которого этот предмет, пожалуй, не заслуживал. Монель рассеянным взглядом блуждала по отделанному под мрамор потолку, весьма далекая от всего, что происходило под ним. Сесиль делала вид, будто что-то ищет и никак не может найти в своей сумочке. Гаэтан выглядел скучающим, угрюмым — завсегдатай шикарных клубов, которого вдруг вытащили на семейный совет. Оглядев эту галерею лиц, Бернар произнес:
— Мэтр Бертомье может проконсультировать тебя на этот счет. Ты и Арно получите в наследство в равных долях — если ваша мать и я не составим завещания — все, чем мы владеем. Но не акции предприятия, ибо ими я распоряжусь сам. Впрочем, по оценке экспертов, предприятие составляет немногим менее одной трети всего нашего состояния. Иными словами, это означает, что, даже проявив по отношению к вам щедрость, я вправе беспрепятственно расстаться с акциями: при двоих детях доля имущества, которой можно распоряжаться свободно, — это третья часть всего состояния. Мэтр Бертомье еще раз может полностью успокоить вас и по данному пункту.
— Выходит, мы не имеем никакого права на завод?
— Никакого.
— А можно узнать, не нашим ли кузенам ты собираешься уступить свои акции?
— Нет. По согласованию с ними и из соображений, которых я только что мельком коснулся, говоря о необходимости ввести новые методы управления, я уступаю их профсоюзному комитету предприятия, в качестве юридического лица представляющего коллектив наших рабочих и служащих. Таким образом, они станут совладельцами Пьера и Луи. Я убежден, что при сложившихся обстоятельствах это наилучший выход. И я не сомневаюсь, что вы тоже одобрите мое решение, поскольку оно вполне соответствует тем идеям относительно соучастия рабочих в прибылях предприятия, которые, как я часто слышал, пропагандировали вы, ты и Арно.
Последнюю фразу Бернар произнес несколько вкрадчивым голосом, словно сознавал, что затрагивает здесь некую догму религиозной морали или даже догмат веры.
Наступило довольно продолжительное молчание, которое было прервано мужем Франсины.
— Но в конце концов, — бойко сказал он, — все это решено без нас: а ведь можно было посоветоваться и с нами!
— Оставь, — каким-то тягучим, немного вульгарным голосом проговорила Франсина. — Ты же прекрасно видишь, они обстряпали дельце между собой, чтобы полностью отстранить нас от завода, лишить нас всяких прав на него… Но это еще не конец, я не собираюсь отступаться…
— Ты не одобряешь моего намерения приобщить к управлению предприятием наших служащих? — спросил Бернар. — А мне-то казалось, что я правильно понял, будто…
— Перестань издеваться надо мной! — закричала Франсина. — Если и есть какое-то противоречие между тем, что я говорю здесь, и тем, что говорю в других местах, мне на это наплевать! Не тебе меня судить, и никому другому! Я хочу сохранить то, чем владею, и получить то, что мне причитается.
— После моей смерти вы…
— Если нужно ждать твоей смерти, то, возможно, придется ждать долго. Слишком долго для меня. А я желаю распоряжаться своим состоянием сейчас.
Она выкрикнула эти слова пронзительным голосом, предвещавшим истерику. Мать и муж умоляли ее успокоиться. Потом Гаэтан повернулся к Бернару.
— Мне хотелось бы знать, — сказал он, — на какие средства профсоюзный комитет предприятия сможет приобрести акции? Где рабочие нашли несколько миллионов новых франков, которые им нужно выложить?
— А им и не надо было их находить, — кротко сказал Бернар. — Естественно, я не требовал от них уплатить наличными. Я потребовал пожизненную ренту.
Оправившись от потрясения, Гаэтан сказал весьма едким тоном:
— От всей души желаю Пьеру и Луи счастья! Не знаю, сознаете ли вы, какое будущее уготовили им… Впрочем, и мне тоже. Если вы хотели этим досадить мне, что ж, удар, пожалуй, достиг цели.
— Чтобы досадить тебе? — вмешалась Франсина. — Да ему плевать на тебя! Он сделал это, чтобы унизить меня и Арно. Он нас ненавидит.
— Ты придаешь себе слишком большое значение, — все тем же спокойным голосом проговорил Бернар. — Мои чувства к вам намного слабее… И наша сегодняшняя встреча — неприятная обязанность, от выполнения которой я охотно отказался бы. Отвечу на вашу реплику, Гаэтан: я убежден, что единственное средство спасти завод и сохранить долю моих племянников — это именно участие в управлении предприятием наших рабочих. Можете не сомневаться, дела Пьера и Луи я принимаю близко к сердцу… Что же касается того, что может произойти в более или менее обозримом будущем, то этого нельзя избежать, — во всяком случае, избежать, поддерживая нынешний статус-кво. Вот так. Пожалуй, я сказал все, что хотел. Да, еще одно: возможно, Гаэтан, ваша должность будет упразднена. Она всегда была какая-то непонятная и, как нам показалось, в свете тех мер экономии, которые необходимо принять, может быть ликвидирована. Конечно, вы получите от завода выходное пособие, а потом вам придется искать работу в другом месте… Такой же совет мне хотелось бы дать и Арно. До сих пор он жил на общие доходы с предприятия. Боюсь, отныне это будет невозможно. Комнаты, которые вы занимаете в доме, можете сохранить за собой. Но чтобы заработать себе на хлеб насущный, вам придется рассчитывать только на себя. Возможно, вы даже будете вынуждены отказаться от услуг мисс Хопкинс… Я знаю, Монель, вы целиком поглощены своей миссионерской деятельностью. И все же, я уверен, вы сумеете так распределить свое время, чтобы уделять больше внимания детям…
В этот момент Франсина вскочила, и все сидящие в гостиной вскочили тоже, словно они испугались, что сейчас она бросит гранату или бутылку с зажигательной смесью.
— Вы только послушайте его! — крикнула она. — Он нас увольняет! Он нам диктует наши обязанности!.. Это уже слишком!
— Франсина, прошу тебя… — пробормотала Сесиль.
— А ты, ты сам занимался своими детьми? — не унималась Франсина, с вызовом глядя на отца. — Ты бросил нас всех, как самая последняя сволочь!
Этот взрыв привел присутствующих в некоторое смятение. Бернар едва сдержал улыбку: ему вдруг вспомнилась популярная в начале века песенка о бедной девушке, которую отец бросил, вместо того чтобы «пригреть у себя под крылышком»… Франсина со своим станом валькирии в роли ласточки из предместья, это довольно смешно… Он готов был сказать ей об этом и еще добавить, что она, пожалуй, слишком увлекается модой «ретро», но подавил в себе желание съязвить, это было бы не ко времени.
— Послушай, — добродушно сказал он, — будем честными: я думаю, для вас это не было таким уж большим несчастьем. Ты сама сказала мне, что без меня вы превосходно обходились. Мне кажется, мой отъезд — один из самых лучших дней вашей жизни… А ты упрекаешь меня в этом, словно в преступлении!.. Ладно, — заключил он, вставая, — я оставлю эти досье здесь, можете ознакомиться с ними. Сесиль, надеюсь, нет надобности говорить тебе, что в отношении тебя ничто не изменилось: ты по-прежнему будешь получать свой пенсион… А сейчас я ненадолго выйду, мне хочется немного подышать свежим воздухом.
Пять пар глаз проводили его до двери.
Бернар спустился на первый этаж и через застекленные задние двери вышел в сад. Он углубился в аллею. Был конец дня. Последние лучи солнца еще золотили осеннюю листву. Бернар вдруг почувствовал бесконечную усталость. Эта полудраматическая, полубурлескная сцена его вымотала. Кроме того, он был недоволен собой: он считал, что ему следовало держаться с большим высокомерием, с большим достоинством, не позволять себе зубоскальства… Вся эта кичливая жесткость никому не нужна… Он обогнул купу деревьев и увидел на каменной скамье мисс Хопкинс, воплощение одиночества и грусти. При его появлении она вздрогнула. Он поздоровался и спросил, не разрешит ли она ему сесть рядом. Да, конечно, она разрешает. Он сел. Помолчав немного, он сказал своей соседке суровым тоном, который можно было принять за подтрунивание:
— Я сейчас объявил им, что вы должны их покинуть, что я вас уволил. Но я умолчал, что немедленно снова найму вас, коль скоро вы выразите на то желание. Вы будете моей экономкой или секретаршей, в общем, кем пожелаете.
— Вы меня уволили? — переспросила она, не понимая, шутит он или нет.
— Да, но до Пасхи вы можете остаться. После Пасхи вам придется покинуть их, потому что у них не станет больше средств платить вам. Им придется серьезно экономить. А вам мы найдем место в другой семье в городе, это нетрудно. Или же, я повторяю, вы можете остаться у меня. — И так как она не ответила и вид у нее был немного опечаленный, он забеспокоился и с живостью спросил: — Вам жаль расставаться с ними?
Она несколько раз по-детски кивнула головой.
— Вы будете сожалеть о детях, я надеюсь? — спросил Бернар, — Ведь не о взрослых же!
— Нет, и о них тоже.
Она смотрела прямо перед собой. Озадаченный Бернар изучал ее профиль.
— Полно! — с пафосом воскликнул он. — Такая чувствительная и естественная молодая женщина, как вы, и к тому же не глупая, не может так уж дорожить этими паяцами!
Она подскочила, повернула к нему возмущенное лицо:
— Как вы осмеливаетесь называть ваших жену и детей паяцами? Это ужасно!
— Может, и ужасно. Но ужасно потому, что это правда, а совсем не потому, что я их так называю.
— Это не правда!.. Они очень милые.
— Славная моя Маргарет, я охотно соглашаюсь, что они были довольно милы с вами, хотя с этим можно было бы и поспорить. Если бы у вас был более опытный слух, вы бы услыхали за их любезностью привычную властность и снисходительность… Ну ладно, предположим, они и впрямь милые. Но не говорите мне, что вы верите в их искренность.
— Что вы хотите сказать?
— То, что сказал. Они лжецы. Все, кроме Гаэтана. Этот всего лишь простофиля, обломок другой эпохи… Но трое остальных!.. Когда-то они довольствовались тем, что плутовали со своим боженькой, это было серьезно только для них и еще, быть может, для бога, если его огорчают такие мелкие неприятности. Но перед остальным миром они хотя бы не скрывали своего нутра. С поднятой головой они заявляли, что они за привилегии, против равенства, за власть, которая им покровительствовала, против демократии, которая им угрожала. Таким образом, они оставались верными своего рода классовой истине, вы понимаете? Это был их способ оставаться честными. Но теперь они плутуют с самими собой и со всеми остальными, это неслыханно.
— Но почему вы утверждаете, что они плутуют? — запротестовала она.
— Потому что убежден в этом.
— Но люди меняются. Меняют свои взгляды.
— Конечно. Но они-то, я знаю, в душе не изменились. Я это знаю. Они лишь приспособились, избрали иную тактику, пытаясь убедить самих себя, что наконец-то постигли истину… Короче говоря, они лгут, и прежде всего лгут самим себе. Но добились они только того, что им никто уже не верит. Они просто-напросто плетут веревку, на которой их, возможно в скором времени повесят.
Она разглядывала его с немного испуганным видом.
— Вы жестокий человек, — сказала она.
— Нет же, бог мой! Я просто человек, который не выносит… всего этого.
— Чего — всего этого?
— Называйте это как хотите: лицемерием, комедией, блефом… Подобные вещи вызывают у меня ужас… Впрочем, не знаю, чего я так волнуюсь. Что за важность! «Все это», о чем мы говорим, всего лишь французский фольклор, Шалости Французского Буржуа конца века… Пусть они идут ко всем чертям. Может быть, они не столь уж опасны. По крайней мере я надеюсь на это. А если судить по моим племянникам Пьеру и Луи, подрастающее поколение не имеет с ними ничего общего, совсем не похоже на них, хотя разница в возрасте между ними всего какие-нибудь десять или двенадцать лет… Вы знаете Пьера и Луи? Потрясающие парни! Они, верно, утешат меня за все.
Они довольно долго молчали, как бы продолжая мысленно диалог, потом мисс Хопкинс повернулась к нему и робко спросила:
— А это правда, что вы никогда не любили их?
— Нет, почему же, вначале… Я продолжал бы любить их, если бы они этого заслуживали…
Она отважилась наградить его едва уловимой ласковой улыбкой.
— Должно быть, вы не очень старались, — проговорила она.
— Правильно, я не очень старался. И я первый же наказан, поверьте мне.
— Но разве поздно исправить?
— Да. Конец игре. Я уже почти старик.
— О нет! Вам до этого далеко!
Он с полусерьезным, полуигривым видом взял ее руку и поднес к своим губам. Казалось, ее ничуть не удивило это проявление дружеской галантности, которую он уже выказывал ей не раз. Слабые лучи солнца еще освещали верхушки деревьев.
— Что вы собираетесь делать, когда будет покончено со всеми формальностями? — спросила мисс Хопкинс. — Останетесь здесь?
— На несколько недель, чтобы на первых порах помочь Пьеру, а потом вернусь в Аргентину. У меня было весьма смутное намерение попутешествовать по Европе: посетить музеи, памятные места, все эти достопримечательности… А сейчас мне уже не хочется. Путешествовать вот так, ради удовольствия, совсем одному — теперь это меня пугает. Я боюсь этих праздных дней… Понимаете, когда я не работаю, я не знаю, куда себя девать. По существу, я всего лишь жалкий мужлан.
— Полно, Бернар, не говорите глупостей.
Они еще долго молчали, потом Бернар сказал вполголоса:
— Стало свежо. Вы простудитесь. Пора возвращаться.
Но оба они даже не шевельнулись. Прошла минута-другая, потом Бернар сказал все тем же мягким и дружеским голосом:
— Мне пришла в голову одна мысль: почему бы вам не отправиться со мной?
— Куда? — с удивлением и не без тревоги спросила она.
— Неважно куда. Почему бы нам не отправиться вместе в путешествие, которое я собирался совершить один? С вами мне будет веселее, я получу больше удовольствия. Что вы на это скажете?
Она ответила не сразу, видно, была в смятении. Наконец спросила:
— Вы говорите серьезно?
— Разумеется. Я был бы счастлив, если бы вы согласились составить мне компанию. Не отказывайтесь… Послушайте, хотите, поедем на вашу родину? Как там сейчас в Англии?
— Так себе…
— Тогда поедемте в Италию.
— Кажется, там еще хуже…
— Возможно, но дворцы все-таки на месте, насколько я понимаю, и картины, и небо… Затем мы посетили бы Австрию и Германию. И Прагу. Я всегда мечтал увидеть Прагу… Ну как, решено, едем? Отправляемся навестить старушку Европу? Или то, что от нее осталось?
Сады Запада
Редко случалось, чтобы Иоганнес Клаус проснулся утром, не ощутив в первые минуты осадка от дурного сна. Сон этот был всегда один и тот же, и не требовалось больших усилий, чтобы растолковать его смысл. Иоганнес все знал наперед: эти душераздирающие картины запечатлелись в его памяти еще с войны, которую он подростком и юношей пережил вместе со своими близкими и миллионами соотечественников. Сон лишь вновь пробуждал в его душе ужас перед союзническими бомбардировками города, вызванное страхом нервное потрясение, чувство клаустрофобии, которое он испытывал, отсиживаясь долгими часами в убежищах и подвалах, атмосферу Апокалипсиса. С тех пор прошло тридцать лет. Город уже давно восстановлен и процветает. Страна возродилась из пепла, обрела былое могущество, разбогатела, достигла благосостояния, ничуть не уступающего благосостоянию победителей; она играет одну из важных ролей на политической арене; но в предутреннем сне Иоганнеса Германия, проклятая и мученическая, все еще продолжала умирать под руинами гигантского пожара. Иногда видения были более отчетливыми, хотя все-таки искажали реальность, то, что он знал или мог себе представить. Например, он никогда не видел близко самолетов, откуда падала смерть; один-единственный раз очень высоко в небе, в просвете меж темных туч, не более чем на две-три секунды промелькнула в сумерках эскадрилья бомбардировщиков — тесный клин черных птиц, к которым сходились разрывы снарядов противовоздушных батарей; но в сновидениях Иоганнеса самолеты летели гораздо ниже и вовсе не походили на обычные самолеты; и они обрушивались на него, словно засекли его одного, единственного среди всех жителей города; и ужас, который наводил на него сон, проистекал, пожалуй, не столько из-за угрозы неминуемой смерти, сколько из-за этого зловещего выбора, из-за сурового приговора, который выносили ему самолеты: «Мы ищем тебя, Иоганнес Клаус. Мы прилетели сюда из далекого далека для того, чтобы отыскать тебя в толпе, где ты мнишь себя надежно укрытым, и уничтожить». Итак, Иоганнес понимал, что посредством сна ему напоминает о себе какое-то живущее в нем существо, которое осознает свою вину и постоянно ждет кары. Но вину в чем? Разумеется, этого ему никогда не узнать. Однако после долгих размышлений Иоганнес пришел к выводу, что его непостижимая вина состоит, скорее всего, не в тех проступках, которые он якобы совершил или помог совершить в прошлом, что вина эта — нынешняя. Но что же было в его нынешней жизни такого, что могло бы дать повод осудить его с точки зрения морали?.. Ведь не несколько же легких тайных интрижек… Если пренебречь этими маленькими вольностями, а их к тому же можно было пересчитать по пальцам, жизнь Иоганнеса была полностью посвящена искусству, что в современном мире могло показаться анахронизмом. Жизнь уединенная и размеренная, откуда изгнаны всякая светская суета, всякое корыстолюбие и злоба. Привязанности здесь были постоянные, хотя, возможно, несколько сдержанные, и весьма немногочисленные; здесь не было места горячности, экзальтация допускалась лишь в утехах ума и в культе Прекрасного.
Иногда дурные сны Иоганнеса были пронизаны отголосками сегодняшнего дня, словно предзнаменование, предчувствие какой-то катастрофы. Образы насилия оставались почти теми же самыми, но, казалось, угроза исходит не из прошлого, а из будущего. Угроза нависла над ним? Над страной? Над миром? Угроза космической катастрофы или какого-то потрясения, которое будет делом рук самих людей? Все рушилось, от взрывов содрогалось пространство; металась охваченная паникой толпа, на фоне которой крупным планом выделялось чье-то лицо с блуждающим взглядом. И вот как раз в то мгновенье, когда появлялось лицо, Иоганнес просыпался.
На несколько минут сон еще оставлял в нем какой-то осадок дурноты. Чтобы вновь обрести спокойствие, необходимо было тщательнее обычного совершить обязательный ритуал, прежде чем перейти от кровати, откуда он вставал осунувшийся, с помятым от сна и ужаса лицом, к столу, где ждал его первый завтрак, за который он садился час спустя, как бы заново отшлифованный, помолодевший, посвежевший и одетый с ног до головы так, словно он собрался с визитом или ждал гостей. Он очень заботился о своем теле, о своей внешности, изо дня в день соблюдал в этом отношении определенную дисциплину, что поддерживало его моральное равновесие, подготавливало почву для других дисциплин — дисциплины труда, чтения, размышления, — делало его более приспособленным, по крайней мере так он думал сам, к столкновениям с внешним миром, будь они даже безобидны — а таковыми они и бывали и сводились, как правило, к обмену банальными любезностями с портье его дома или с поставщиком, к обеду в городе, к встрече с дружеской четой в кондитерской или в кафе; но Иоганнес всегда рассматривал мир как поле битвы и считал, что подтянутый, хорошо одетый человек имеет, пожалуй, чуть больше шансов уцелеть.
В это утро, едва сев за стол к завтраку, он сразу же вспомнил, что сегодня вечером идет на восхитительный концерт в Старый театр. Перспектива дня озарилась предвкушением того, чем он будет увенчан, и последние тени, навеянные дурным сном, тут же рассеялись. Этот концерт был сугубо официальным мероприятием, организованным в честь одного иностранного политического деятеля. На концерте должны были присутствовать бургомистр, по долгу службы один министр и ряд других высокопоставленных лиц из правительственных кругов. Остальную публику, весьма, впрочем, немногочисленную, составляли приглашенные: чиновники региональных и муниципальных учреждений, деловые люди, несколько аристократических семей и семей крупной буржуазии. Иоганнес никогда не попал бы в число приглашенных, если бы не любезность одного из сотрудников бургомистра, его друга, который, испытывая ужас перед музыкальными вечерами, старался всегда, когда представлялась возможность, увильнуть от их посещения и предлагал пойти вместо него кому-либо из друзей; но на сей раз, чтобы пройти через контроль, надлежало подать еще условный знак — настолько тщательно были продуманы все меры предосторожности.
Программа концерта состояла исключительно из произведений итальянских и немецких композиторов, XVIII века. Такой выбор заранее одушевлял Иоганнеса, который отдавал особое предпочтение культуре и искусству этой эпохи, предпочтение нескрываемое, словно она была чуть ли не единственной достойной поклонения. Оркестр и солисты слыли в Европе одними из лучших. Короче говоря, упоительный музыкальный вечер. К тому же сам факт, что он предназначен для узкого круга избранных, его изысканность усугубляли удовольствие, которое заранее предвкушал Иоганнес, но совсем не из светского тщеславия (хотя оно тоже, пожалуй, тлело где-то в глубине души), а скорее из чистого эстетства: красота лиц или, за недостатком красоты, их благообразие, переливы огней, драгоценностей, шелков, сам церемониал, волшебство, которое преобразит все вокруг, — вот это и будет праздник, одно из тех искрометных, как бы химически чистых мгновений, которые даруют жизни или заимствуют у нее свою самую редкостную и самую драгоценную сущность. Некогда Европа знала секрет подобных празднеств, избранная Европа разумеется, Европа богатых, Европа «правящего класса», как говорила крошка Лисбет, чтобы поддразнить Иоганнеса. Он не спорил с ней. Но разве все праздники не являются прежде всего расточительством на потеху избранным? По самой сути своей оскорбительным выпадом против всеобщего несчастья? Что ни говори, а правящий класс Европы стал более бережливым или же более осмотрительным. Празднества с прежним размахом ныне редкое исключение, и проходят они втайне, подальше от народа, в кругу посвященных… Вот и приходится довольствоваться тем жалким подобием, какое являют собою пышные официальные сборища. Остальное дополняет воображение.
В комнату вошла женщина. Иоганнес встал ей навстречу. Он коснулся губами ее щеки, спросил, хорошо ли она спала. Свидетель этой сцены догадался бы, что исполненная уважения, чуть ли не благоговейная встреча тоже являет собою часть ритуала, который эти двое свято соблюдают многие годы; а если бы свидетель не знал, что они муж и жена, он вряд ли сразу пришел бы к такому выводу, столь обходительно они держались друг с другом, разговаривали. Пожалуй, он подумал бы, что это брат и сестра или, еще вернее, старые друзья и один из них приехал погостить на несколько дней к другому; их отношения казались слишком сдержанными для любовников и слишком предупредительными для супругов.
Он осведомился о ее планах на день: в котором часу она думает вернуться? Не забыла ли про сегодняшний концерт?.. Паула ответила, что не только не забыла, но намеренно перенесла урок, дабы иметь возможность вернуться немного пораньше и собраться не торопясь. Она заметила, что им надо в самое ближайшее время пригласить на обед друга, которому они обязаны местами в концерт.
— В какой-то степени это будет ярмо, но Хейнц и Грета всегда так милы с нами…
Паула произнесла слово «ярмо» по-французски. Она частенько прибегала к французскому языку, которым оба они прекрасно владели, особенно Паула — она давала частные уроки. Беседа по-французски доставляла им удовольствие по многим причинам, и прежде всего потому, что это выделяло их среди других: ведь в минувшие времена французский язык был языком европейской элиты.
— Там соберется весь свет, — сказал Иоганнес. — Мы повидаемся с Хильдебрандтами, Омтедами, короче — со всеми…
Горничная внесла поднос с чаем. Они учтиво ответили на ее «доброе утро». Еще слава богу, что у них обоих было много учеников, и учеников богатых, и это позволяло им держать прислугу, как держали прислугу в их детстве и в ее, и в его семьях. Иоганнес любил повторять, что горничная — их единственная роскошь, единственное, от чего они не могли бы отказаться с легкостью.
— Да, там соберется цвет общества, — произнесла Паула с легкой иронией, словно желая подчеркнуть — они-то оба выше всех этих буржуазных предрассудков.
Он разлил чай, намазал маслом тосты; не переставая смаковать этот неприхотливый утренний завтрак, смаковать неторопливо, как люди, которым даже мелочи повседневной жизни тоже доставляют или могут доставлять удовольствие, и нужно выкроить время понаслаждаться ими, они обсуждали свои планы на день, когда и сколько у кого уроков, когда, в зависимости от этого, выкроить время для второго завтрака, для покупок… Они любили порядок, размеренность… Свидетель, который, возможно, не сумел бы с первого взгляда сообразить, что эти мужчина и женщина — супруги, тем не менее почувствовал бы, что они счастливы вместе или, во всяком случае, что у них, наверное, достаточно мудрости и самообладания, достаточно взаимной привязанности, чтобы при своем скромном достатке жить в относительной гармонии. Их вид во время чаепития, их неторопливая беседа об обыденных делах невольно приводили на память буддийских монахов, для которых тайна созерцательной жизни состоит в том, чтобы всегда быть полностью, разумом и чувствами, поглощенными своим занятием, даже если они всего лишь едят миску рису.
Иоганнес развернул газету, которую, как и каждое утро, горничная принесла им вместе с завтраком. Он пробежал глазами первую полосу. На вопрос жены, что в мире нового, ответил, что по сравнению со вчерашним днем — никаких особенных новостей. Пылающие очаги на земном шаре пребывают в том же состоянии, пламя не усилилось и не угасло. Во Франции волна забастовок парализовала металлургическую промышленность. По всей видимости, придется решительно отказаться от Кипра, Израиля и Ливана как объектов для туризма. Здесь, в Германии, новый террористический акт. На сей раз в Лейпциге. Двое убитых и около пятнадцати раненых… Словом, вот так: ничего особенного. Итог, скорее вселяющий оптимизм: всего лишь несколько кровавых столкновений в разных концах света, только две по временам вспыхивающих войны, один государственный переворот в маленькой стране «третьего мира», примерно четыре революции, из которых одна одержала победу, а остальные зачахли в зародыше. Ничего такого уж неприятного. Опять отсрочка.
— Отсрочка? — переспросила она, улыбнувшись этой небольшой вспышке присущего ему мрачного юмора.
— Да, отсрочка перед концом света.
— Кстати, об отпуске, — проговорила она минуту спустя, — ты только что сказал, что Ливан отпадает, но ведь мы туда и не собирались; а не пора ли нам подумать об отдыхе? Сейчас май…
— Я уже подумал. И пришел к выводу, что в этом году Франция нам не по карману. Если же мы надумаем поехать на Боденское озеро, надо будет, не откладывая в долгий ящик, заказать комнаты. Я постараюсь на этой неделе зайти в агентство.
— Значит, мы поедем после Зальцбурга?
— Да, лучше всего — сразу же после Зальцбурга.
— Как ты думаешь, Лисбет в этом году проведет с нами хоть несколько дней?
— Не знаю. Она, кажется, так захвачена… — Он неопределенно повел рукой.
— Чем же, в сущности? — спросила Паула. — Занятия свои она, по-моему, забросила; во всяком случае, никогда о них не говорит.
— О, ты же знаешь, как теперь живет большинство молодежи.
— Представляю, но весьма приблизительно.
— Как воробьи — стаями. В кармане у них ни гроша, но они все-таки существуют, и я не раз думал, как же они выкручиваются. Их странствия, например. Они то и дело перебираются с места на место…
— Может, Лисбет помогает семья?
— Вот уж не думаю. Скорее, мне кажется, она порвала с ними или по крайней мере не живет больше дома. Ты же знаешь их лозунг: «Бунт против нашей буржуазной среды…» Бог мой, подумать только, что подобные идеи, которые были в ходу уже в наши дни и даже задолго до нас, и теперь еще…
— Может быть, теперь это более серьезно, чем в наше время?
— Может быть. Лисбет производит впечатление такой убежденной, такой искренней.
— Не сомневаюсь, что она такая и есть.
Они уже не в первый раз говорили о Лисбет, и всегда почти в тех же выражениях. Лисбет, дочь брата Иоганнеса, входила в круг их немногочисленных друзей. Они знали ее еще ребенком, очень любили и полагали, что она отвечает им взаимностью; во всяком случае, она относилась к ним с нежностью, а с чего бы ей ломать комедию? Это не сулило ей никакой выгоды и потом, как говорил Иоганнес, право, было не в ее стиле. Помимо семейных уз, которыми они пренебрегли бы, если б Лисбет не пришлась им по душе, дело было еще в том, что, пожалуй, одна только Лисбет связывала их с юностью страны, с поколением немцев, пришедших в мир много позже их, не переживших того, что пережили они, — с поколением, за которым будущее нации. Не будь Лисбет, они чувствовали бы себя более оторванными от современного мира.
— Сколько же времени мы с ней не виделись?
— Месяца два, не меньше. Вспомни-ка, в последний раз она была у нас в день своего рождения.
— Да, верно. И с тех пор исчезла. Улетучилась!
— И ни единой весточки… Скрытная она…
— О нет, не думаю, — возразил Иоганнес. — Просто до крайности независимая. Она ни перед кем не желает отчитываться в своих делах и поступках. Отсюда эти полосы уединения, молчания. В ее возрасте я был почти такой же. Не любил рассказывать родителям, что делал, с кем встречался и тому подобное. А ведь, бог свидетель, все было так невинно!
Паула, казалось, обдумывала его слова. Она чуть нахмурила брови, что придало ее лицу неожиданную суровость, хотя обычно, в минуты спокойствия, оно выглядело скорее добродушным.
— Ну, а что касается Лисбет, ты тоже думаешь, что там все столь же невинно?
— Ах, кто знает! Они живут очень свободно. Лисбет совершеннолетняя. Я допускаю, что любовники у нее были, если ты это имела в виду.
— Нет, не это… Я имела в виду невинность иного рода, — ответила Паула, глядя своими голубыми глазами прямо перед собой. Ее руки лежали на краю стола.
— Тогда что же?
Паула тряхнула головой.
— Я уже и сама не знаю, — проговорила она безмятежным тоном. — Что-то туманное, даже в тот момент, когда я задала вопрос. — Она улыбнулась ему, встала. — Пойду собираться. Тебе привезти что-нибудь из города?
— Нет. Разве только газеты…
— Ну, до встречи…
Она была стройная, с почти девичьим станом. Только седеющие волосы выдавали ее возраст. Очень мягкий, с поволокой взгляд не был лишен очарования. И если хорошенько вглядеться в них обоих, можно было заметить, что они чем-то похожи друг на друга. Словно в них таилось что-то такое, что в будущем должно было привести к полному сходству.
В три часа дня Иоганнес закончил свой последний урок фортепьяно. Он чувствовал себя усталым, ему хотелось отдохнуть. Он прилег на кушетку, методично, мускул за мускулом, расслабил тело и попытался выполнить упражнение йоги «отрешение от всего земного». Чаще всего, выполняя это упражнение, он впадал в дремоту, что считалось неудачей, ибо отрешиться от всех земных мыслей нужно было в состоянии бодрствования, а это, откровенно говоря, не так-то легко…
О чем только не думается, когда пытаешься не думать ни о чем! Духовный мир человека не знает отдыха. Казалось, будто вся твоя жизнь, бесконечная вереница пережитого, все образы, запавшие в душу со дня рождения и до сегодняшнего дня, теснились, толпились на пороге сознания, требуя, чтобы их еще раз пережили, перечувствовали. И такая же бесконечная вереница видений, словно длинный непрерывный кинофильм, где реальность переплетается со сновидениями, и ты в этом фильме одновременно и сценарист, и режиссер-постановщик, и самый взыскательный, самый непокладистый ведущий актер… Бесконечное потворство «Я» ко «Мне». Потворство, выражающееся в многообразных формах и часто избирающее — тут-то «Я» проявляет наибольшую изворотливость — окольный путь самобичевания и даже презрения к самому себе. Если ненавидишь сам себя — Иоганнес знал это слишком хорошо, — значит, самым яростным образом себя любишь… Да, все маски сорваны, все гримасы этого «Оно» изобличены, подведен итог. И право, больше уже нельзя обманывать самого себя, но это вдруг снизошедшее к тебе прозрение ничего не меняет: кинолента, которая прокручивается где-то в глубине твоего существа, не останавливается, она продолжает крутиться, наивная, грубая, хитрая, наглая, словно Фрейда и всех психологов, его последователей, вообще никогда не существовало.
Эта глубокая обыденщина, эта ничтожность, населенная тем, что порождено его воображением, какую связь имела она с возвышенным миром Искусства, Красоты и Разума, которым Иоганнес хотел бы посвятить — и порою верил, что посвятил, — свою жизнь? Конечно, что-то связующее существовало, но его трудно было нащупать и еще труднее — определить. «Оно» издевалось над Разумом, игнорировало Искусство и опошляло Красоту себе на потребу, ради собственных целей, всегда циничных, подчас низменных. «Возвышенный мир» был для него блестящим фасадом, под сенью которого «Оно» процветало в полной безнаказанности. Но ведь поэзия, музыка, все прекрасное, создававшееся в течение веков, мудрые мысли, вдохновленные гением, и величие человеческого слова, и ощущение присутствия божества во всех творениях рук человека — все это тоже существовало как «вечная радость», неиссякаемый источник самых чистых эмоций… Иоганнесу хотелось бы верить, что хотя бы эти чувства не лживы и не преступны, ведь если бы они оказались таковыми, вот тогда и впрямь мир рухнул бы.
Он вышел на свою ежедневную часовую прогулку — моцион, предписанный ему доктором; он совершал его неукоснительно в течение нескольких лет: это был один из ритуалов его запрограммированной ради достижения морального равновесия жизни. На обратном пути, заворачивая за угол, он чуть было не столкнулся с девушкой, что шла ему навстречу. Он издал возглас радостного удивления: это была Лисбет.
Они бросились друг к другу в объятия.
— А я поцеловала замок на твоей двери, — сказала Лисбет. — Совсем из головы выпало, что в этот час ты совершаешь прогулку.
— Слава богу, что мы встретились! Какая-нибудь минутка — и разминулись бы.
— Ты — как Кант: в определенный час небольшая прогулка.
— Небольшая прогулка? Час ходьбы почти строевым шагом!
— Соседи не сверяют по тебе часы?
Оба рассмеялись, явно довольные, что видят друг друга. Взявшись под руку, они прошли несколько метров, отделявшие их от дома. Лисбет была стройная, чуть не одного роста с Иоганнесом, и держалась она непринужденно, почти как парень, да и одета была в нелепый мужской наряд: джинсы, полосатая матросская фуфайка. Иоганнес уже и не помнил, когда в последний раз видел ее в платье или в юбке. Скорее всего, когда она еще училась в школе, носила косы и была более пухленькая, чем теперь. Как она с тех пор изменилась! Волосы острижены под Жанну д’Арк… И эта стать породистой кобылки… Но загорелое лицо, усеянное веснушками, сохранило детскую живость; и как всегда — великолепный прямой взгляд, который касается тебя, как суровая ласка или как пощечина. Пожалуй, нельзя было назвать ее красивой. Это было нечто большее. «В ней кроется какое-то безумное очарование», — думал Иоганнес. Он гордился ею, гордился тем, что у всех на виду идет с ней рядом.
— Паулы нет дома? — спросила она, когда они вошли в квартиру.
— Сегодня у нее уроки до пяти часов. Представляешь, как раз утром мы за чаем вспоминали о тебе.
— Выходит, с вами это иногда случается?
— Да, в сущности, чуть ли не каждый день… Сама посуди, ты совершенно забросила нас! Ты же знаешь, как мы оба всегда рады тебя видеть. Мы просто недоумевали, куда же ты запропастилась…
Она неопределенно повела рукой:
— Да шаталась с ребятами повсюду.
Она положила на стол свою кожаную сумку на длинном ремне и рулон, завернутый в белую бумагу, закрученную на концах, чтобы он не развернулся. Вздохнула:
— Подыхаю от усталости! Ты разрешишь? — и растянулась на кушетке, где он отдыхал перед прогулкой.
— Ты, верно, много работала? — спросил Иоганнес не слишком уверенным тоном.
Глядя в потолок, она коротко рассмеялась:
— Работала? В общем, если тебе угодно, да… У тебя найдется сигарета? Мои кончились. Впрочем, я без гроша.
Иоганнес взял с круглого столика лакированную шкатулку, открыл ее, протянул Лисбет:
— Американские справа, слева — немецкие.
Она не глядя взяла сигарету, сунула ее в рот.
— Ой, — воскликнула она вдруг чуть смущенно, — только не думай, что я пришла занять у тебя денег.
— Мне это и в голову не пришло. Что за странная мысль!
— Но ведь я же сказала сейчас, что сижу на мели…
— И все равно я об этом не подумал.
— Все это не впервой. Но я всегда выкручиваюсь. У тебя есть огонек?
Иоганнес поставил шкатулку с сигаретами на ковер около кушетки, потом снова пересек комнату, чтобы взять со столика красивую массивную зажигалку, и вернулся к Лисбет.
— Я заставляю прислуживать себе, словно одалиска, — сказала она с наигранно сокрушенным видом. Потом приподняла правую ногу, выставив носок кожаного ботинка на утолщенной подошве, весьма отдаленно напоминающего женский, — такие ботинки носили солдаты союзнических войск во время войны в Ливии. — Ничего себе одалиска! — заключила она. — Скорее бродяга, вот кто!
Он щелкнул зажигалкой, поднес ее к сигарете.
— Бродяга со страниц «Вога», — любезно дополнил он. — Но вид у тебя и впрямь усталый. И мне кажется, ты похудела.
— На четыре килограмма.
— Но ты хотя бы не ходишь голодной?
Он спросил, живет ли она у родителей. Она ответила — нет, уже много месяцев. Но хотя бы навещает их? Да, изредка.
— Милая Лисбет, я вовсе не собираюсь читать тебе нотацию, но подумай сама, заслужили ли они такое пренебрежение. Ведь они были добры к тебе. Они выполнили свои обязанности…
Она пожала плечами.
— Если бы я вышла замуж, я виделась бы с ними еще реже. Стало быть…
Иоганнес придвинул к кушетке кресло; когда он уже собрался сесть, она протянула к нему руку с сигаретой:
— О, пока ты еще не сел, не будешь ли столь любезен… Дай мне пепельницу.
Он с улыбкой покорился. Лисбет рассмеялась:
— Эта проклятая племянница не часто навещает вас, но уж коли появится, то сразу садится вам на голову!..
С другого конца комнаты Иоганнес принес большую хрустальную пепельницу в форме раковины.
— У нас не так много пепельниц, — сказал он, — ведь ни я, ни Паула не курим… Ладно. Теперь-то я могу сесть? — спросил он ворчливым тоном. — Или мадам угодно еще что-нибудь?
— Извини меня, дружок, но, честное слово, у меня нет сил двинуться. А здесь, на этой кушетке, так хорошо…
Ее непосредственность, ее непринужденность, свободная манера разговаривать и держаться были заразительны. С ней чувствуешь себя полностью раскованным, доверчивым, готовым болтать невесть что или просто без тени смущения молчать. Она всегда была такая — милая, с легким характером. Иоганнес не раз думал, что она, в общем, должна быть счастлива, а если выйдет замуж, сумеет сделать счастливым и мужа.
— А правда, у тебя хорошо, — продолжала она. — Прибежище…
— Только от тебя зависит пользоваться им, если тебе здесь по душе. Двери нашего дома открыты для тебя. Можешь приходить, когда тебе угодно, ты никогда нам не помешаешь.
— Я знаю. Вы оба очень славные.
Она курила как-то нервозно и продолжала глядеть в потолок. Иоганнес наконец сел. Положив руки на подлокотники кресла, вытянув ноги, чуть склонив голову, он ласково смотрел на нее. Присутствие девушки явно доставляло ему радость.
— Ну, как дела? — спросила она, искоса кинув на него быстрый взгляд.
— Прекрасно. Когда ты здесь, все всегда хорошо.
— А у Паулы?
— Как нельзя лучше.
— Чудесно. Рассказывай.
— Что рассказывать?
— Что происходит в вашем мире…
— Как это понимать — наш мир? Это и твой мир.
— О нет! Теперь — нет… Рассказывай, что хочешь.
Иоганнес немного подумал.
— A-а, кстати, — вспомнил он, — как раз сегодня утром мы обсуждали предстоящий отдых. По всей вероятности, мы поедем на Боденское озеро. Паула поинтересовалась, заскочишь ли ты в этом году к нам хоть на несколько деньков. Что ты на это скажешь?
— На Боденское озеро?.. Да, пожалуй, с удовольствием. Когда вы собираетесь туда?
— В сентябре…
— Понятно. Все зависит от того, буду ли я в это время свободна.
— Дорогая моя, я не знаю, чем ты занимаешься, и не хочу быть нескромным, но, право, тебя послушать, так можно подумать, будто ты не располагаешь собственным временем, будто ты ужасно занята!
Лисбет рассмеялась коротко и, как ему показалось, несколько смущенно.
— Ты же знаешь, как это бывает, — ответила она. — Ребята, все такое… — Она снова неопределенно повела рукой.
Иоганнес вдруг подумал, что у нее, возможно, есть любовник. При тех близких отношениях, которые сложились у него с племянницей — ведь теперь они держались словно два приятеля, — она могла бы и сказать ему об этом. Или ее удерживали остатки привитой еще в детстве стыдливости?
— Рассказывай дальше, — потребовала она тоном ребенка, который ждет сказок. — Рассказывай, что у вас тут происходит…
— Но у нас не происходит ничего особенного, горе нам! Ты же знаешь нашу жизнь. Уроки. Иногда куда-нибудь выходим… Боюсь, мне нечего рассказать.
— Ну да! К примеру, ваши последние впечатления от встречи с искусством… — Она улыбнулась, словно подтрунивала над ним. — Обожаю, когда вы с Паулой рассуждаете об искусстве.
— Не смейся над нами.
— Я и не смеюсь. Итак, валяй! Что сенсационного вы видели, слышали, читали в последнее время… Дай мне воспользоваться случаем. Ты не представляешь, какая я невежда. Варвар.
Она притушила в пепельнице недокуренную сигарету и повернулась на бок, чтобы лучше видеть своего дядюшку.
— Но я не знаю, — ответил он. — Погоди! Что же я недавно видел? Да нет, это ни к чему. Просто смешно. Расскажи-ка лучше о себе, будет в тысячу раз интереснее.
— Я тоже ничего примечательного не могу поведать тебе.
— А твои последние скитания? Где тебя носило, бродяга?
— A-а, повсюду. Это неинтересно.
— Но все-таки?
Прежде чем ответить, Лисбет лениво потянулась.
— Была в Дрездене, — проговорила она, не глядя на Иоганнеса. — Город как город. Ничего интересного.
— Ну что ты, напротив! Как ты можешь говорить, что ничего интересного? В Дрездене находится одна из самых замечательных картинных галерей мира. Держу пари, ты туда даже не заглянула!
Она помотала головой.
— Нет, но я кое-что привезла тебе, — сказала она, словно для того, чтобы поскорее сменить тему разговора. — Вон там, на столе, — и она указала на рулон, обернутый бумагой.
Иоганнес был явно заинтригован.
— Ты мне что-то привезла?
— Да. Небольшой подарок. Посмотри.
Он встал, взял рулон и снова опустился в кресло. Согнув в локте руку и подперев ладонью голову, она с веселым любопытством смотрела на него, а он со свойственной ему методичностью осторожно снимал с рулона обертку. Внутри оказалась еще пергаментная бумага, она скрывала то, что, судя по всему, было гравюрой. Иоганнес снял пергаментную бумагу, и на лице его появилось выражение радостного и восхищенного удивления. Он открыл рот, но с губ его не слетело ни единого звука. Наконец он пробормотал:
— Очаровательно!.. О-ча-ро-ва-тель-но!
Осторожно держа гравюру, он отстранил ее от себя на вытянутых руках, чтобы лучше полюбоваться ею.
— Качество отменное, — произнес он глухим от волнения голосом. — Ты совсем сошла с ума, моя маленькая Лисбет!.. Но где же, где, черт побери, ты отыскала эту прелесть? Такие вещи по нынешним временам редкость. Какое прелестное пополнение моей коллекции! — Он порывисто встал и поцеловал племянницу в щеку. — Спасибо, спасибо, дорогая! Ты даже не можешь себе представить, до какой степени я ценю… Нет, конечно, ты представляешь. — Он перевел взгляд на гравюру. — Сады Аранхуэса![18] — прошептал он в экстазе. — Куда бы ее повесить? Послушай, может быть, сюда, как ты думаешь? По порядку, это проще всего.
С гравюрой в руках он подошел к стене. По всем стенам гостиной были развешаны цветные гравюры, все почти одного размера, изображавшие одно и то же: сад, а в саду целиком или частично виднелся господский дом, замок, дворец, простая беседка. От гравюры к гравюре менялся стиль: словно искусно вышитый ковер, цветники французских замков; идущие ступенями террасы, фонтаны, кипарисы на итальянских виллах; купы деревьев и гроты в старинных английских усадьбах. Иоганнес одну за другой называл гравюры и с воодушевлением и эрудицией коллекционера рассказывал о своем оригинальном собрании. Теперь многие, говорил он, собирают гравюры, и обязательно сериями, то есть на какую-нибудь определенную тему. Чем объясняется выбор той или иной темы? Принцип, положенный в основу всех коллекций, один: индивидуальность собирателя, его вкус… Иоганнес знал коллекционеров, которых интересовали только вулканы: они собирали всевозможные виды Везувия, Этны, Стромболи, вулканов потухших и действующих. Другим не нужно было ничего, кроме морских портов, или античных развалин, или экзотических пейзажей, гравюр, иллюстрирующих рассказы о путешествиях по Турции, Персии, Китаю… А вот он, Иоганнес, остановил свой выбор на прославленных садах европейских стран. Ей-богу, он и сам не смог бы точно сказать, когда появилась у него эта страсть, но выбор его, безусловно, не чистая случайность. Скорее всего, это было порождением глубинного влечения к прошлому, тоски по нему… Разумеется, он понимает, что наше представление о прошлом — всегда только иллюзия, мираж, но так уж повелось, люди всегда верили, будто прежние времена были лучшими временами, люди всегда верили в золотой век. Et ego in Arcadia…[19] Знает ли Лисбет знаменитую картину Пуссена, что находится в Лувре? Нет? Но хотя бы по репродукции, по фотографии? Иоганнес слегка присвистнул и покачал головой, делая вид, что удручен таким невежеством. Несколькими точными фразами он описал полотно Пуссена. Да, для него, Иоганнеса, Аркадия — не просто пасторальная провинция Древней Греции; это вчерашняя Европа, Европа XVIII, даже начала XIX века, да, начала, но не дальше, ибо потом уже появились машины, индустриализация и все те ужасы, которые ей сопутствуют, и гнетущая социальная мораль, которая накладывает на все печать уродства и скуки… Но даже в XIX веке существовали еще островки, где можно было упиваться Прекрасным, радоваться жизни… Маленькие германские княжества перед объединением. Вена в период двуединой монархии. Рим эпохи романтизма… Но великой, несравненной Европой остается Европа барокко, Европа Вольтера, Гёте, Моцарта. В этот период совершенство приходит во все области искусства. Совершенство быстротечное и трогательное, чудо равновесия между разумом и чувством, между смехом и слезами… Так и кажется, что все — наслаждение. Вкус достигает непревзойденных вершин, так что он сам для себя одного устанавливает эстетику и мораль. Даже религия утрачивает элементы принудительности, суровости, она становится спектаклем, оперой… И именно тогда садово-парковое искусство также достигает своего апогея во Франции, в Германии, в Италии. Чересчур рационалистическая строгость в планировке французских садов отступает перед новым восприятием природы, новым к ней отношением. К классическому образцу подключаются фантазия, мечта, нега. Появляются купы деревьев, гроты, ручейки, рокайли. В парках при загородных домах, которые французы в XVIII веке изящно называли «фоли»[20], тут и там вырастают удивительные, диковинные сооружения: круглые беседки-храмы в честь Амура, псевдоруины и даже псевдомогилы, дабы услаждать себя меланхолией… Больше чем когда-либо сад отражает состояние души человека, его искусство жить. Он — точный прообраз цивилизации… Вот так-то! Иоганнес смеясь замечает, что не припомнит, приходилось ли ему когда-нибудь так пространно рассказывать кому бы то ни было о своей коллекции… Впрочем, Лисбет знает эти гравюры уже давным-давно и, кажется, никогда не проявляла к ним большого интереса. Именно поэтому Иоганнес был особенно тронут тем, что при явном своем безразличии к его коллекции она позаботилась привезти ему этот великолепный подарок. Да, воистину чудесный сюрприз…
Он выложил все это одним духом, шагая взад и вперед по комнате, время от времени останавливаясь перед какой-нибудь гравюрой, и Лисбет, по-прежнему лежа на боку, подперев согнутой в локте правой рукой голову, слушала его с улыбкой. Она следила за ним глазами, когда он ходил из конца в конец гостиной, разглядывала его, словно какое-то забавное существо, немного нелепое, быть может, или, вернее, умилительное своим эрудированным неведением и болтливостью, своей безобидной причудой… В ее взгляде сквозило нечто вроде любопытства, возможно чуть снисходительного, но в то же время в нем не чувствовалось желания отстраниться, сохранить критическую дистанцию.
Наконец Иоганнес умолк, и Лисбет, переждав несколько минут, дабы убедиться что лекция действительно окончилась, пробормотала:
— Восхитительно! Я могла бы слушать тебя часами!
— Ты смеешься надо мною, злючка!
— Клянусь, у меня и в мыслях этого нет. Ты знаешь, я была готова услышать эти объяснения. Приготовилась и ждала их… Кроме шуток, я люблю слушать, когда ты так рассуждаешь… Щебетанье на темы культуры…
Иоганнес с трудом удержался, чтобы не отшатнуться от нее, и это не ускользнуло от Лисбет, потому что улыбка девушки стала еще шире; но сейчас в ней не было и тени лукавства.
— Ты пойми, — снова заговорила она, — такое я слышу только здесь, у вас с Паулой. Дома, ты же их знаешь, там разговаривают совсем о других вещах. О культуре у них представление весьма смутное, и они не очень-то любят… А в той среде, где я живу сейчас, о ней никогда не говорят, во-первых, потому, что не способны вести такие беседы, а во-вторых — и это главное! — потому, что считают подобные разговоры чуть ли не смертным грехом, самым грязным сквернословием. Алиби буржуазии и правящего класса, представляешь себе…
— Да, очень хорошо представляю, — несколько сухо отозвался Иоганнес, — но ты, ты-то сама что думаешь? Ты тоже разделяешь их взгляды?
Лисбет задумалась. Потом сказала:
— Мне кажется, они правы. И я думаю так же, как и они. Со всей марксистской ортодоксальностью…
Иоганнес воздел руки к небу, изобразив на лице испуг и осуждение.
— Лисбет, дорогая, прошу тебя! Хоть чуточку сдержанности…
— Во всяком случае, я считаю, что они правы, — не сдавалась она. — Только…
Она на секунду умолкла. Иоганнес снова сел в кресло, вид у него был заинтригованный.
— Что — только?
— Ладно, вот что: я считаю, что они правы, и все-таки мне по душе алиби буржуазии. Я отщепенка, вот кто я.
Иоганнес, судя по всему, немного растерялся от этой иронии, граничащей с насмешкой, и можно было лишь гадать, кому она адресована.
— Алиби? — переспросил он с чуть наигранной веселостью. — Не понимаю, почему любовь к гравюрам или садам нуждается в алиби. И при чем тут алиби? Твои дружки, должно быть, пуритане. Но мы живем несколько веков спустя после Реформации.
— Неправда, — кротко возразила она, — мы живем в самый разгар Реформации.
Подняв брови, Иоганнес недоуменно взглянул на нее. Потом, кажется, он понял:
— A-а, ты хочешь сказать: терроризма, революции и всего прочего?
— Да и всего прочего, — повторила она, и в ее горящем взгляде, упорном и нежном, пожалуй, мелькнуло сострадание к этому старому подростку с усталым лицом, что сидел перед нею.
Она вдруг вышла из состояния неподвижности, словно для того, чтобы прекратить этот откровенный разговор, считая его, вероятно, бесполезным. Наклонившись к лакированной шкатулке, взяла сигарету, закурила, снова растянулась на кушетке, несколько раз переменив позу, прежде чем выбрала наконец ту, которая ее устраивала.
— Во всяком случае, — беспечно сказала она, — все это очень красиво, твои разглагольствования о садах… Мне они многое дали, кроме шуток. Раньше я не имела об этом ни малейшего представления.
— Да у тебя и не было особого повода интересоваться ими.
— Нет, никакого. Разве что любопытство или уж сама не знаю, любовь к Прекрасному, что ли… Но теперь… — Она не закончила фразу.
Обычно, если ее ничто не волновало, она предпочитала говорить такими вот оборванными аморфными фразами; туманность мысли подчеркивалась небрежностью ее выражения, и Иоганнес, которого в школе и в семье муштрой выучили высказывать свои мысли как можно более точно («Закончи мысль!.. Не говорят… Говорят…»), думал, неужели вся нынешняя молодежь разговаривает так же, как его племянница, таким же невразумительным языком. Впрочем, нет: ему довелось слышать, как весьма эрудированный в политике сын его друга критиковал федерального канцлера; он говорил четко и выразительно, хотя пользовался при этом арсеналом стереотипных фраз. Должно быть, так оно и есть: нынешняя молодежь непоколебимо отстаивает свое мнение только тогда, когда предмет разговора берет их за сердце — политика была одной из таких тем; это поколение насквозь пропитано политикой…
— Ты хочешь сказать, что у вашего поколения нет тяги к Прекрасному?
— Не слишком, нет… И совсем не к тому, что у вас… Прекрасное, которое порою приходится нам по душе, ты счел бы уродством, оно повергло бы тебя в ужас… И потом, мы не создаем себе систему.
— Из чего вы не создаете систему?
— Из эстетизма. Нам нравятся ощущения, но в их первозданном виде, без всякого интеллектуализма.
— Но почему ты думаешь, что мой эстетизм — система?
— Мне так кажется, — мягко сказала она. — Вся твоя жизнь подчинена этому… Это здорово отдает…
И так как слово опять замерло у нее на губах, Иоганнес закончил за нее:
— Декадентством?
— Если тебе угодно…
— Но мне это вовсе не угодно! Я меньше всего считаю себя декадентом из-за того, что люблю Прекрасное…
Она улыбнулась, ничего не ответила. Иоганнес заговорил снова:
— Но в таком случае, дорогая моя Лисбет, подарив мне эту прекрасную гравюру, ты в какой-то мере потворствуешь моему разложению?
— Да… Я потворствую одному из твоих пороков… Благовидному… — добавила она, понизив голос и через полуопущенные ресницы искоса глядя на него долгим тяжелым взглядом.
Возможно, она разыгрывала из себя продажную красотку из какого-нибудь кинофильма. Иоганнес рассмеялся:
— Выходит, если верить тебе, у меня есть и неблаговидные пороки?
— Как знать…
— Мои прекрасные сады — порок?
— В садах встречаются змеи и всякие прочие маленькие мерзкие твари. — Она поднялась, села на край кушетки, наклонилась, чтобы расшнуровать ботинки. — Ты разрешишь? Насколько приятнее с босыми ногами…
— Не стесняйся, дорогая, поступай как тебе удобнее…
— Чувствую, останься я здесь, я стала бы одной… одной из тех женщин, которые живут только ради собственного удовольствия… Ну, понимаешь, кошечкой…
— Ты была бы очень красивой кошечкой. Я водил бы тебя на кошачьи выставки, и ты получала бы первые призы.
Она откинулась на спинку кушетки, поджала под себя ноги.
— Но скажите, господин Клаус, — произнесла она неожиданно ворчливым тоном, — вы, живущий только ради собственного удовольствия, не испытываете ли вы иногда угрызения совести?
Игра продолжалась. Иоганнес достаточно хорошо знал свою племянницу и понимал — если она ведет такую игру, за этим кроется нечто серьезное. Юмор помогал «проскочить» тому, что она хотела сказать. Он непринужденно взял тот же тон:
— А почему вы считаете, мадам инквизиторша, что меня должна грызть совесть?
— Ну хотя бы из-за твоей жизни эгоиста, замкнувшегося в себе, без тени проклятой трансцендентности!
— Трансцендентности по отношению к чему? Мы, люди XX века, больше ни во что не верим.
— Но, принимая мир самым банальным образом, не скучаете ли вы порою, господин Клаус?
— Я, скучаю? Дорогая мадам Торквемада, что вы говорите! У меня нет времени скучать, я хочу еще столько сделать, узнать, впитать в себя!
В его словах прозвучал легкий вызов. Очевидно, оба они почувствовали это, потому что улыбки стали более язвительными, немного раздраженными. Лисбет была поглощена какой-то подспудной мыслью, ее явно мучили какие-то сомнения, и она, чтобы не выдать своего состояния, прикрылась шуткой. Она всегда держалась естественно, без тени позерства, но это отнюдь не означало простоты.
— Созерцание собственного пупа, по-моему, скучное занятие, — продолжила она. — И созерцание пупа Прекрасного в конце концов неминуемо становится тем же самым.
Иоганнес сделал едва заметное нетерпеливое движение. Эти слова задели его. Они точно слились с теми думами, которые подчас одолевали его, оживили его сомнения. Не далее как сегодня, когда он отдыхал после уроков, какая-то мысль промелькнула в его мозгу, мысль, как он припоминает, о том, насколько естествен или безгреховен эстетизм.
— Ты хочешь сказать, что я околдован самим собой? — прекращая игру, спросил он и продолжил тоном человека, готового честно отстаивать свою точку зрения в вопросах морали: — Успокойся, я тоже говорю себе это. Но все мы в большей или меньшей степени дошли до такого состояния. Не веришь?
— В большей или меньшей… А ведь можно повернуться лицом к другим, не будет ли это освобождением от самого себя?
— Догадываюсь, к чему ты клонишь, — проговорил он и, поднявшись, принялся ходить по комнате. — Сейчас ты начнешь рассуждать о «третьем мире».
— Он существует, — сказала она с упрямым видом.
— Я знаю… Но, Лисбет, дорогая, умоляю тебя: хоть ты не говори об этом! Мы очень любим друг друга, ты сейчас доставила мне огромное наслаждение своим подарком, так не порть же таких счастливых минут!
Она посмотрела на него долгим взглядом, лицо ее было серьезно. Потом сказала:
— Я должна была бы ненавидеть тебя.
— О! За что же? За то, что я не притворяюсь, как многие наши современники, будто мне не дает спокойно жить мысль о голоде в Индии?
— За то, что ты принимаешь мир таким, каков он есть, — ответила она, и в ее голосе впервые прозвучали непреклонные, почти торжественные нотки. По-видимому, она и сама почувствовала, что эта фраза фальшива, заимствована из какого-то догматического учения; именно поэтому она произнесла ее немного неестественным тоном.
— Кто тебе сказал, что я его принимаю?.. Мир, каков он есть… Милая моя Лисбет, не забывай, что я знал его намного раньше, чем ты, знал таким, каким ты никогда не узнаешь, по крайней мере я надеюсь на это. В твои годы, поверь мне, я испытал притеснения, несправедливость, ужас, я все это пережил…
— Тем более не надо смиряться.
— Тебе легко говорить. Когда побываешь в аду… — Он тоже оборвал себя на полуслове.
Лисбет сидела не шелохнувшись, казалось, она ждет продолжения. Иоганнес в задумчивости молчал. Через несколько секунд он очнулся. Улыбаясь, он повернулся к Лисбет и с мольбой, как бы заклиная ее, прижал к груди руки:
— Дай мне дожить свои дни в покое… Прошу тебя! Даже если ты думаешь, будто я живу в мире грез… Даже если предположить, что я виновен — пусть! — я ведь все оплатил авансом…
Лицо Лисбет смягчилось от прилива сердечной теплоты, она прошептала:
— Дорогой дядя Иоганнес…
— Тебе так уж необходимо величать меня «дядей»? Хочешь окончательно доконать меня!
— Ты восхитительный динозавр!
— Лисбет! Ну право же!
— Впрочем, нет, не динозавр. Динозавр — это огромный живой танк, покрытый чешуей. Ты же — крошечная доисторическая ящерица.
— Спасибо.
— Но я обожаю маленьких ящериц…
Снова наступило молчание. Судя по всему, Иоганнес не был расположен закончить дискуссию, не одержав победы.
— Ты говоришь, что я — личность доисторическая… О боги! Но что в таком случае прикажешь мне сделать, чтобы идти в ногу с современной Историей? Разве недостаточно, что я в двадцать лет пережил сорок четвертый год?
— Не сердись, дружок, — миролюбиво проворковала она. — Послушай, лучше дай-ка мне чего-нибудь выпить. Продолжай прислуживать прекрасной одалиске.
— Приготовить чай?
— Нет. Дай мне скотч, полный стакан.
— Ты уже виски пьешь? Да еще в пять часов дня? А я-то считал, что от крепких напитков ты воздерживаешься.
— Сегодня исключение. Мне нужен допинг.
Иоганнес бросил на нее пытливый взгляд, но удержался от вопроса.
Он пошел на кухню, поставил на поднос напитки. Это заняло четыре или пять минут. Когда он вернулся в гостиную, Лисбет все еще лежала на кушетке. Он увидел ее в профиль. И его поразило выражение этого изможденного усталостью лица. В этой застывшей маске, в неподвижном взгляде, в остановившихся зрачках он уловил какую-то растерянность, почти ощутимый ужас. Он подумал: «Она наглоталась наркотиков», потом более четкая, более гнетущая догадка: «Она боится». В этот момент Лисбет повернула к нему голову и с бравым видом улыбнулась. Он поставил поднос на столик, налил виски.
— Ну как ты? — самым естественным тоном спросил он. — У тебя все в порядке?
— Да, вполне.
— Тебя ничто не заботит?
Она окинула его быстрым испытующим взглядом.
— Нет, ничего. Почему ты об этом спрашиваешь?
— Сам не знаю… У тебя такой усталый вид… Да, кстати! Ты сказала, что у тебя нет ни гроша! Может быть, это тебя и заботит? Главное, Лисбет, не делай глупостей: если тебе нужны деньги, я к твоим услугам.
Она несколько раз покачала головой и сказала, что это очень мило с его стороны, но она ни в чем не нуждается, она выкрутится сама.
— Но скажи мне, — продолжал он, — а как же гравюра?.. Это же безумие… Она наверняка обошлась тебе недешево…
На сей раз Лисбет откровенно расхохоталась.
— Послушай, — сказала она, — очевидно, я должна была бы оставить тебя в убеждении, что эта гравюра для меня — огромнейшая финансовая жертва, но это было бы некрасиво с моей стороны… Я надеялась, что ты в какой-то мере догадался…
— О чем догадался, дорогая?
— Что я ее стибрила, вот о чем! Ведь не думаешь же ты, что я дала нажиться этим сволочным торговцам эстампами!
Иоганнес смотрел на нее, не веря своим ушам, чуть ли не шокированный.
— Ты хочешь сказать, — сказал он шепотом, словно кто-то мог их услышать, — что эту гравюру ты украла?
— Да!
— Но это же… это…
— Воровство, — хладнокровно закончила она. — Когда крадут, это называется воровством. Ты мямлишь, но логично.
От волнения Иоганнес стал пунцовым. Он попытался взять непринужденный тон:
— Но… Как же ты это сделала?
— О, старина, все так просто. Тут я непревзойденный мастер. Хочешь, научу тебя?
— Нет, право, я не испытываю желания.
Он подошел к кушетке, протянул Лисбет стакан с виски.
— Ты разочарован, да? — спросила она. — Мой подарок утратил в твоих глазах свою ценность?
— Нет, кое-какая ценность в нем все-таки осталась. Намерение. Ведь его нельзя сбросить со счетов…
— К тому же, согласись: я свободно могла бы оставить тебя в убеждении, что купила гравюру на собственные деньги. И ты ни на минуту не усомнился бы в этом. Разве не так?
— Признаю, ты очень честный человечек.
Оба они рассмеялись, и Лисбет мгновенно помолодела, смех сделал из нее лучезарную девушку. Иоганнес снова сел в кресло, держа в руке стакан фруктового сока.
— И все же, — проговорил он, — не думай, что я одобряю… В отношении буржуазной морали я весьма… устарел. — Последние слова он произнес по-французски.
— Перевод, пожалуйста, — сказала Лисбет.
— Из другого века. Ты права, я динозавр.
— Но вся твоя проклятая буржуазная мораль основывается на воровстве. «Собственность — это воровство». Так сказал один из твоих любимых французов.
— Да, знаю…
— В капиталистическом обществе воровство в крупном масштабе практикуется или, на худой конец, покровительствуется государством. Много веков капиталистический Запад грабил «третий мир» и продолжает грабить его и сейчас под еще более лицемерной личиной. Крупная индустрия эксплуатирует миллионы рабочих. Класс власть имущих благоденствует на спинах бедняков. А ты хочешь, чтобы я испытывала угрызения совести, стащив маленькую гравюрку у старого мошенника-антиквара?
— Дорогая, как же красиво ты говоришь, когда тебе нужно оправдать свой проступок!
— Но кроме шуток, ответь мне искренне: разве я не права?
— Не знаю. Для меня мораль — абсолют, вне зависимости от того, как она рассматривается на данном историческом этапе. В этом я тоже кантианец, как и в пунктуальности.
Лисбет отхлебнула глоток виски.
— Значит, — продолжал Иоганнес, — этот маленький шедевр ты… нашла в Дрездене?
— В Дрездене? — переспросила она с удивленным видом, словно сам вопрос или название города озадачили ее. Потом, казалось, вспомнила: — A-а, Дрезден… — Она опустила взгляд на правую руку, державшую стакан. — Нет, — сказала она. — Здесь. Я нашла ее здесь… Ты никогда не пьешь спиртных напитков? — перевела она разговор на другую тему. — Только фруктовый сок или воду?
— Да, ты прекрасно это знаешь. Мы с Паулой стремимся к воздержанности во всем: ни спиртных напитков, ни табака, никогда никаких излишеств…
— Правда никогда?
— Да, никогда. К чему бы мне врать?
Она пронзила его тяжелым взглядом.
— Но время от времени ты ведь делаешь кое-что, выходящее за эти рамки, не правда ли?
— Нет, можно сказать, никогда!
— Но зачем же столько лишений? Чего ради?
— Дорогая, это же очевидно: ради того, чтобы лучше жить. Мы с Паулой превыше всего хотим сохранить нерастраченными наши способности, во всяком случае то, чем наделила нас природа. Духовная жизнь для нас теперь важнее, чем все остальное… Почему ты так на меня смотришь? Не веришь мне или считаешь, что это притворство?
— Нет, я тебе верю. Духовная жизнь, — повторила она раздумчиво, словно пытаясь запечатлеть эти слова в своем сознании. — Великолепно! В общем, вы счастливы вместе, ты и Паула?
— Да, мне кажется, я могу утверждать это.
Лисбет несколько секунд молчала, глаза ее горели. Потом мягким тоном, но четко выговаривая каждый слог, она спросила:
— Если духовная жизнь — главное и ты абсолютно счастлив с Паулой, зачем же тогда Банхофштрассе?
Иоганнес не вскочил. Лишь чуть сжал челюсти и тут же овладел собой. Они смотрели друг на друга: она — ожидая его реакции, он — в нерешительности, возможно обдумывая, как ему поступить — уйти от разговора или принять вызов… Обычно полицейские стараются заставить вас поверить, будто у них есть доказательства, будто они знают все, и таким образом склоняют подозреваемого к признанию — классическая техника допросов. Иоганнес выбрал среднее — проволочку.
— Теперь моя очередь спросить тебя: при чем тут Банхофштрассе? Почему вдруг ты вспомнила эту улицу?
— Потому что на этой улице я видела тебя как-то вечером несколько недель назад.
— Меня можно увидеть на многих улицах города.
— Иоганнес! — крикнула она весело. — Не будь трусом! Когда мужчина идет на Банхофштрассе, у него вполне определенные намерения.
— Там бывает много туристов. Это весьма колоритное место. Туда ходят из любопытства.
— И из эстетизма?
— Может быть. Но ты-то сама, что там делала ты?
— Я была с ребятами.
— Тоже из любопытства?
— Нет.
— Сбор материала по изучению мелких язв капитализма?
— Мы набили морду одному хозяину.
— За то, что он эксплуатирует бедных проституток?
— Нет. За то, что он стукач. Опасный тип.
— Понимаю… Карательная экспедиция. Да, дорогая моя, ты открываешь предо мною волнующие страницы своей жизни… Если ты уже ходишь бить морду стукачам!
— Не я. Мои товарищи. Но ты увиливаешь.
— От чего увиливаю?
— Я задала тебе вопрос: зачем Банхофштрассе?
— Где ты видела меня несколько недель назад. Тебе следовало бы подойти и пожелать мне доброго вечера, это было бы вежливо.
— Я была не одна. И ты тоже. Ты был со «светской дамой».
— Ты не шутишь? Что-то не припомню, когда я прогуливал светскую даму по…
— Не припомнишь? Высокая брюнетка в мини-юбке, в кожаных сапогах выше колен и блузе с декольте до пупа… С кучей блестящих побрякушек — и в ушах, и на шее, и на запястьях… очень намазанная: веки зеленые, губы кроваво-красные… Может быть, немного яркая, но очень стройная, я это отметила. И видела, как вы вошли в гостиницу, над дверью которой был номер дома, семнадцатый, если не ошибаюсь.
— Какая память! — смеясь воскликнул Иоганнес. — Вот из тебя получился бы великолепный стукач!
Ни он, ни она не казались смущенными, хотя впервые коснулись такой интимной темы, как «личная жизнь»: долгое время инстинктивный стыд не давал им перейти эту черту. Но ведь Лисбет уже взрослая, их отношения стали более непринужденными; и потом, свой допрос она все время вела словно игру, хотя это была отнюдь не игра: просто притворство облегчало разговор. Иоганнес спросил:
— Ну и какой же ты сделала из этого вывод?
— Что духовная жизнь — еще не все и что эстетизм имеет свою оборотную сторону…
— Потрясающее открытие! Надеюсь, у тебя не вызывает удивления тот факт, что люди — существа сложные и в их жизни, наряду со светлыми полосами, бывают полосы темные.
— Нет, не вызывает. Я просто констатирую, что твой жизненный идеал, твоя система морали, наконец, не знаю, что там еще, не очень-то вяжутся… На переднем плане — благородные мысли об искусстве. На заднем — девочка в высоких сапогах… Получается дихотомия.
— Ну и что?.. Прежде всего, умоляю тебя, Лисбет, не употребляй таких слов, это же псевдоинтеллектуализм и, право, выглядит болтовней… Но коли ты находишь его подходящим, я тоже им воспользуюсь: а у тебя разве нет дихотомии? Я не спрашиваю в чем она, я не желаю знать, но меня очень удивило бы, если б у тебя ее не было, если бы и в твоей жизни не было какой-нибудь темной полосы.
Всем своим видом он показывал, что ждет ответа; и что-то словно передалось от него к ней: вопрос, догадка, желание умолчать… Лисбет не отводила своего взгляда от взгляда дяди, и губы ее искривила не то улыбка, не то судорога. Вдруг она скорчила физиономию, изображая притаившегося за углом наемного убийцу, статиста какой-нибудь мелодрамы.
— Т-с-с! — сказала она тихим напряженным голосом, — никому ни слова: я состою в мафии, шеф и его агенты подозревают меня и хотят ликвидировать!
Шутка заметно разрядила обстановку. Иоганнес рассмеялся. Однако подспудно он чувствовал, что шутка эта — не только шутка, что за этим шутливым признанием кроется другое признание, искреннее, но еще не высказанное.
— Ты потрясающий мим, — проговорил он. — Возможно, в тебе погибла актриса.
Это явно поощрило ее: она изобразила нескольких кинозвезд и одного или двух политических деятелей. Пародия получилась удачная, она свидетельствовала о ее исключительно остром взгляде: Лисбет схватывала самую суть, самое характерное. Иоганнес похвалил ее. Но то, что было сказано несколько минут назад, не изгладилось, оно угнетало их обоих и не давало забыть о себе: тема не была исчерпана, они оба чувствовали это. И Лисбет вернулась к ней, закурив новую сигарету и налив себе еще виски.
— Ты не сердишься на меня за Банхофштрассе?
— Нет.
— Правда, ей-ей?
— Честное слово, нисколько. Послушай, мы достаточно дружны, чтобы иметь право разговаривать о чем угодно. В какой-то степени мы свободомыслящие люди. Так-то!
— Но я сегодня вела себя с тобой как шпик…
— Да, немножко… Это меня забавляет. Даже льстит мне: в конечном счете это свидетельствует о том, что ты интересуешься мною, моей жизнью… Но скажи мне, ты очень была шокирована, когда увидела меня там с этой девицей?
— Я? Нет, разумеется. Я подумала: ну вот, сегодня вечером дядя Иоганнес пошел по девкам.
Иоганнес отвел глаза. Он не привык к грубому жаргону молодых, к их манере говорить на сексуальные темы. Это не слишком коробило его, когда он слышал нечто подобное из уст простых парней на улице. Но слышать такое от молодых людей своего круга, а в особенности от молодых девушек, — с этим он никак не мог смириться. Он подумал, что именно в этом и проявляются классовые предрассудки и, главное, условный рефлекс, неискоренимая моральная реакция, заложенная в нем воспитанием. Он испытывал какую-то неловкость от того, что его собственная племянница, маленькая Лисбет, употребляет такие выражения. Он к этому не привыкнет никогда, он уже слишком стар.
— Меня только удивило, — продолжала Лисбет, — что ты был именно с этой девицей. Что она в твоем вкусе, я хочу сказать…
— Ты считаешь, что это некрасиво по отношению к Пауле?
— Видишь ли, я всегда считала, что ваш брак с Паулой прежде всего брак по расчету, — сказала она как о чем-то совершенно естественном и не очень значительном.
— Мы были привязаны друг к другу, — ответил он не совсем уверенным тоном и потупил взор.
— Были? — с ударением переспросила Лисбет.
Он не ответил.
Она чуть ли не рывком вскочила с кушетки, подошла к нему и пылко поцеловала в щеку.
— Я прекрасно знаю! Прекрасно знаю, что вы очень любите друг друга! — воскликнула она. — Ведь вы счастливы вместе, верно? Значит, все остальное не в счет. Главное — вы счастливы!
Она резко повернулась, с силой тряхнула головой, то ли для того, чтобы разбросать волосы по плечам, то ли — привести их в порядок. Они взметнулись перед ее лицом — густая воздушная копна золотисто-янтарного цвета с рыжеватым отливом. Иоганнес залюбовался ею; его вдруг охватило чувство, которое трудно было определить точно, но тем не менее чувство острое, что эта молодая беззащитная жизнь находится перед лицом какой-то неведомой ему опасности. Эта догадка озарила его, словно светом молнии, и исчезла. Но что-то осталось, какая-то тревожная нежность, желание защитить. Лисбет бросила взгляд на часы:
— Пять часов! Мне пора идти…
Он подумал: «Куда?»
В этой праздной, да, по видимости праздной, жизни были какие-то обязательства, встречи… Мужественно, охваченная решимостью и порывом и в то же время — он был уверен в этом — полная опасения и, быть может, тревоги, Лисбет сквозь угрозы и ловушки какого-то беспощадного мира шла к неведомой ему цели. Он поднялся и сказал:
— Ты не дождешься Паулы? Она вернется между пятью и половиной шестого.
— Как раз в половине шестого у меня встреча. Поцелуй ее за меня.
— Она будет сожалеть, что не увидела тебя. Ты же знаешь, как она тебя любит, и она тоже.
— Я еще приду к вам. Думаю, что в ближайшие дни я буду посвободнее.
Он взял ее руки в свои:
— Да, да, приходи к нам, приходи как можно чаще. Ты для нас — маленький луч солнца.
С улыбкой, оба немного взволнованные, они обнялись.
— А как же Боденское озеро? — спохватился Иоганнес. — Как ты думаешь, сможешь ты провести там с нами несколько дней в сентябре? Постарайся приехать.
— Да, я приеду… Если еще буду здесь…
— То есть как это, если еще будешь здесь? Что ты хочешь этим сказать?
— Если я еще буду в Германии, — ответила она не сразу.
— Ты что, собираешься за границу?
— Пока еще не знаю…
Он с настойчивостью, пристально посмотрел на нее.
— Скажи мне, Лисбет, ты в самом деле клянешься, что ничем не озабочена?
Лисбет тряхнула головой.
— Все в порядке, — сказала она.
— У меня раза два промелькнуло подозрение, будто ты чем-то взволнована…
— Нет, уверяю тебя…
— Ну ладно. Но я надеюсь, если у тебя возникнут какие-нибудь затруднения, ты мне скажешь…
— Разумеется, я тебе скажу…
— Послушай, сходи-ка ты к родителям. Обещаешь?
Она согласно кивнула головой.
— Не следует пренебрегать ими, — продолжал он. — Они не заслуживают того, чтобы ты их огорчала.
Весь этот диалог они скорее прошептали, чем проговорили громко и внятно. Это походило на сцену прощания на перроне вокзала перед очень долгой разлукой. Он еще раз поблагодарил ее за гравюру и обозвал «воришкой», несколько раз нежно поцеловав в кончик носа. Это тоже была игра, детская и приятная.
— Итак, обещано? — спросил он. — Ты приедешь побыть с нами в наших садах?.. В конце концов сады прекрасные и они стоят того, чтобы время от времени прогуляться по ним, забыв обо всем на свете…
Когда Лисбет ушла, Иоганнес растянулся на кушетке, которую она только что покинула; заложив руки под голову, он долго лежал задумавшись. У него была привычка мысленно заново перебирать увиденное и услышанное за день, вспоминать разговоры, конечно, не банальные, не обыденные — привычка поглощенного собой нелюдима, каким он видел себя с самого детства, привычка, за которую ему случалось упрекать себя, как за слабость, как за отступление перед жизнью: «Я только считаю, что живу, но я не живу…» Самолюбивые мечты, которые, возможно, сбылись бы, если бы он стремился воплотить их, добиться, чтобы они принесли плоды, остались невоплощенными, бесплодными. В юности Иоганнес хотел стать пианистом-виртуозом. На деле же его музыкальные способности оказались недостаточными для столь честолюбивых чаяний. Пришлось смириться с ролью педагога, и в этом качестве он создал себе в городе превосходную репутацию. Каждый день он играл на рояле для себя; это были счастливые минуты, когда он погружался в меланхолию, сентиментальную экзальтацию и эстетическое наслаждение. Так он брал хотя бы относительный реванш за то, что считал поражением в своей жизни и что с годами стало казаться ему маленькими насмешками судьбы, а ведь терпеть ее уколы — удел каждого. Он прилагал все усилия, чтобы держаться стоически. Впрочем, коль скоро Прекрасное вечно и тебе даровано жить ради него, еще не все потеряно.
Мысленно Иоганнес перебирал их встречу с Лисбет, такой странный разговор, когда племянница пыталась уличить его в вероломстве или в моральной нечистоплотности, словно тем самым она хотела убедить и себя, что, ведя совсем иной образ жизни, чем он, она идет по правильному пути. Чаще всего люди, вступающие с вами в спор, сами не очень-то в ладу с собственной совестью. Чего хотят эти молодые люди с их суровым порицанием общества, ведь оно в конечном счете проявило себя весьма великодушно по отношению к ним, к их требованиям невозможной справедливости, к их мессианским и одновременно апокалипсическим бредням? И еще эта история с Банхофштрассе… Будь Иоганнес холостяком, он и не, подумал бы скрывать от кого-либо свои небольшие похождения; но, пожалуй, и не стал бы особенно распространяться о них — по скрытности характера и еще потому, что полагал: это никого не должно интересовать. Воспитанный человек даже намеками не касается интимных сторон своей жизни. Впрочем, чем больше любят подобные вещи, тем меньше склонны говорить о них. Лисбет относится к вопросам секса как к любой другой теме, но не разоблачает ли эта так откровенно афишируемая объективность ее своего рода пуританизм? Истинные сладострастники обожают тайну. А нынешние молодые люди, при всех их громогласных заявлениях, при легкости их нравов, возможно, и не питают большой страсти к наслаждению. И тем не менее Иоганнес не сожалел о том, что Лисбет узнала о его вольностях. Напротив, он испытывал чувство некоторого удовлетворения. Это совсем неплохо, пусть знает, что Иоганнес все еще полноценный мужчина, что он, как говорят французы, не вышел в тираж. Скорее, она может даже почувствовать еще большее уважение к нему…
Иоганнес не сомневался, что Лисбет нежно к нему привязана. Гравюра, ее подарок, — свидетельство тому. Но кто он в ее глазах? Человек, которому не суждено было стать артистом и который утешается иллюзией приобщенности к искусству? Мелкий буржуа, забавляющийся игрой в эстетизм? Сноб, по-дурацки убежденный, что он принадлежит к духовной элите? Молодые судят старших всегда сурово, с презрением. В двадцать лет преклоняешься только перед признанными гениями и перед героями. Возможно, Лисбет его и не презирает… Ее чувство скорее можно определить так: снисходительная любовь… Иоганнес для нее — представитель минувшего века, и она сказала ему это без обиняков: «милый динозавр». Он вспомнил ночи и дни под бомбами, страх, постоянное ощущение, что смерть стоит за твоей спиной; потом леденящие кровь разоблачения нацистских лагерей, слишком чудовищное преступление его родины, чтобы его можно было постичь во всей его полноте; и смутное чувство вины потом, многие месяцы, многие годы… Вот что выпало на долю милого динозавра XX века. Должен ли ты и тридцать лет спустя сознавать себя виновным в том, что не взвалил всеобщего несчастья на свои плечи или не боролся за то, чтобы облегчить его? Но голод в Индии или где-нибудь в другом уголке земного шара, унижение миллионов людей, «отчуждение» (как говорила Лисбет) еще большего их числа — это тяжелее, чем лагеря, это куда тяжелее. Надо быть святым, чтобы нести такое бремя на своих плечах. Человеческая жизнь так скоротечна. Нужно закрыть глаза на все, кроме счастья, кроме Прекрасного; и ничего не поделаешь, если некая юная Антигона в джинсах и матросской фуфайке является, чтобы обвинять тебя, и заставляет тебя испытывать стыд за свою трусость.
Он взял книгу, наугад раскрыл ее. Это был сборник стихов. Он перечел несколько стихотворений. И словно погрузился в Лету. Поэзия, музыка, произведения искусства; пейзажи; старинные города Европы с их памятниками, их дворцами, их фонтанами; ключевая вода, деревья, цветы; шедевры литературы, где заключена и отражена самая суть человеческой жизни; предметы, рожденные искусными руками ремесленников; вот оно, лекарство от всех болезней духа, бальзам на сердечные раны, утешение… Почти все душевные горести улетучиваются, когда читаешь хорошую книгу, слушаешь прекрасную музыку. Но эти непреложные ценности, вероятно, не будут существовать вечно. Мы готовимся вступить, быть может, даже уже вступили в мрачную полосу человеческой Истории, где мечта и бескорыстность окажутся под запретом, где для таких людей, как Иоганнес, не останется места… «Реформация», — сказала Лисбет. Реформация уже зрела, в умах непримиримых молодых людей, решивших взорвать старый мир и все его авторитеты.
Когда вошла Паула, он еще был погружен в чтение. Как всегда, он встал ей навстречу. Паула выразила сожаление, что не застала Лисбет, и Иоганнес рассказал о ее визите вполне естественным тоном, хотя и опустил эпизод, касающийся Банхофштрассе. Стараясь воспроизвести долгую беседу с племянницей, он чувствовал, насколько это трудно. Казалось, разговор их тек гладко, словно был заранее отдирижирован, нацелен, и в то же время он получался сумбурным, потому что в нем приходилось делать пропуски, о чем-то умалчивать. Паула просила уточнить ту или иную деталь. Все, что касалось Лисбет, живо интересовало ее. Она полюбовалась гравюрой, кажется, оценила подарок племянницы и ограничилась лишь улыбкой, когда Иоганнес открыл ей, как эта вещица была приобретена. Он заметил, что ожидал от Паулы более суровой реакции.
— Я предполагаю, что многие молодые люди не брезгуют такими мелкими кражами, — ответила она, чтобы оправдать свою снисходительность.
— Но ты украла хоть что-нибудь, когда была молодой?
— Ни тогда, ни позже. Никогда. Ни единого пфеннига.
— И я тоже. Почему же в таком случае мы так легко прощаем это другим? Не слишком ли мы терпимы?.. Наверное, я должен был бы приказать Лисбет отнести эту гравюру туда, откуда она ее взяла?
— Она расхохоталась бы тебе в лицо. Она скорее разорвала бы ее на мелкие клочки, чем вернула.
— Да, пожалуй.
— И она тебе так ничего и не сказала, чем занималась все то время, что мы ее не видели?
— Ничего. Туманно упомянула о какой-то поездке в Дрезден. Я спросил, побывала ли она в музее. Конечно же, она об этом даже не подумала. Ты знаешь ее недоверие к «культуре» (он интонацией взял это слово в кавычки), к буржуазной культуре; так вот у меня сложилось впечатление, что оно еще более усилилось. С ней надо быть начеку. Представь себе, был какой-то момент, когда я хотел сказать ей, что сегодня вечером мы приглашены в концерт. Так, между прочим… Но я удержался. Она бы заклеймила нас за то, что мы идем туда. Для нее этот концерт — вершина ультрареакционной, чуть ли не фашистской манифестации.
— Ты думаешь, она до такой степени фанатична?
— У нее, по-моему, это не фанатизм, во всяком случае, не истинный фанатизм. Это инфантильность. Фанатики — люди обычно злобные и унылые. А Лисбет — воплощение веселости и приветливости.
Они попросили прислугу подать им что-нибудь заморить червячка. После концерта они, как обычно, пойдут поужинать в свой любимый ресторан, может быть дороговатый для них, но очень приятный, с обстановкой в стиле конца прошлого века — модернизация не коснулась его — с золотом, лепкой, помпейскими фресками, в ресторан, где даже персонал, казалось, был отмечен печатью той эпохи. Одно из немногих подобных заведений в городе, сохранившихся в первозданном виде: там можно было почувствовать себя героем романа Томаса Манна… После концерта или оперы ужин в этом ресторане являлся продолжением праздника… Им необходимо было пожить еще час-другой в мире Моцарта, Верди, Малера; и впечатления, которыми они обменивались вполголоса, почти доверительным тоном, продлевали полученное от концерта наслаждение, подыскивая для него особые слова, выделяя среди всех прочих, тех, которые они получали раньше, и тех, которые они еще получат, придавая ему собственную окраску, так что в один прекрасный день оно сразу твердо занимало достойное место в памяти и позднее его можно было извлечь из ее недр как одно звено длинной цепи, составляющей их жизнь: «Ты помнишь? Третья симфония Малера, исполнял оркестр… под управлением… на концерте в честь… и потом мы пошли поужинать к Мюльштайну и поболтали с…» Ведь именно это и было счастьем: всегда, в любую минуту жизни осознавать, что ты счастлив; Паула и Иоганнес своей обходительностью, вниманием, нежной заботой друг о друге снискали себе славу непревзойденных мастеров в этой трудной игре.
— В общем, — сказала Паула, — насколько я поняла, она здорово над тобой подтрунивала.
— Да. То была агрессивна, хотя скрывала это под маской подтрунивания, то дружелюбная, близкая! Ведь по натуре она такая непосредственная, такая ясная… И в то же время ее окружает столько темного… И этот разговор — словно головоломка.
— Головоломка?
— Да. Нужно собрать разрозненные куски в определенном порядке. Но каких-то кусков не хватает.
Паула задумалась. Потом сказала:
— Современные молодые люди презирают культуру потому, что они рассматривают ее с ложных позиций. Они относятся к ней как к чему-то кумулятивному, своего рода тезаврации. Если так судить, то культура становится неким подобием мещанской алчности к материальным благам. Но культура — это совсем иное: образ жизни, способ общения с миром. Можно было бы даже сказать, что это мораль, потому что культура неизбежно порождает мысль о терпимости; она не может существовать вне либерализма.
— Я думаю, что именно в этом они и упрекают нас: в либерализме. Для них либерализм — синоним непротивления, а стало быть, и статус-кво несправедливости. Но мне нравятся твои мысли. Очень нравятся. Я бы даже сказал, что они утешительны.
Паула улыбнулась.
— Ты нуждаешься в утешении?
— Увы! Из-за этих желторотых прокуроров, которые всем своим видом показывают, что ты живешь как фарисей или гнусный эгоист, тебя иногда одолевают сомнения.
Они разошлись по своим комнатам, чтобы переодеться. Иоганнес облачился в свой фрак. Это случалось всего два-три раза в году. Паула надела вечернее платье и драгоценности. Когда они уже были готовы к выходу, зазвонил телефон. Иоганнес прошел в гостиную, взял трубку. И сразу же узнал голос на другом конце провода.
— Это я. Ты знаешь, совершенно неожиданно сегодня вечером я оказалась свободной… Ты считаешь, что я совсем обнаглела, но не могла бы я зайти к тебе пожрать? У меня нет ни гроша, а к родителям идти неохота… Ты же понимаешь, блудная дочь возвращается, когда у нее пусто в желудке…
Она тараторила, не давая своему собеседнику возможности вставить слово. Похоже, она была смущена.
— Вы, верно, как раз садитесь за стол? Ты сочтешь, что я перехожу все границы…
— Мы не садимся за стол, сегодня вечером мы уходим. Я огорчен, Лисбет. Нам было бы так приятно поужинать вместе с тобой.
— A-а, вы уходите?
В ее голосе прозвучало разочарование, даже больше чем разочарование — какая-то потерянность, словно перспектива провести вечер с дядей и тетей имела для нее первостепенное значение. Иоганнес был в смятении; и вдруг его осенило.
— Послушай, — поспешно сказал он, — еще не все пропало. Вот что я предлагаю: мы собираемся поужинать у Мюльштайна около одиннадцати часов… Ты знаешь Мюльштайна? Знаешь, где это находится? Шлосплац, около Цитадели…
— Но ведь это ужасно дорогой ресторан!
— Ничего. Не разоримся, приходи… Ведь в кои-то веки ты позволяешь пригласить себя…
— И потом, там слишком шикарно. В моем-то наряде…
— Уверяю тебя, ты будешь выглядеть намного красивей и элегантней всех дам, ты и еще Паула…
— Вы придете туда в одиннадцать?
— Да. Дотерпишь до этого времени? Где ты сейчас?
— У друзей…
— Понятно, но где это? Далеко, близко?
— Не очень далеко…
— Слушай, постарайся прийти. Вот будет здорово. Ты доставишь нам огромное удовольствие, и мне и Пауле… Договорились?
— Хорошо, договорились. А куда вы идете сейчас?
Иоганнес секунду поколебался, потом отважился:
— Мы идем в Старый театр.
Едва он произнес эту фразу, как не столько услышал, сколько почувствовал: на другом конце провода, в той комнате, откуда Лисбет звонила и где она, возможно, была не одна, — да, почувствовал, воспринял не слухом, а какими-то другими органами, как внезапно напряглось, охваченное тревогой, все ее существо. Последовали две или три секунды молчания, оцепенения, потом голос Лисбет — бесцветный, почти неузнаваемый — произнес:
— В Старый театр?.. Ты сказал, в… Но ведь там званый вечер!
— Да, я это прекрасно знаю, дорогая. Но мы получили приглашение, совсем случайно, через одного нашего друга, который…
— Не ходите туда!
Это был почти крик — негодования? ужаса? — трудно сказать, но крик, хотя и хриплый, приглушенный; Иоганнес улыбнулся, его позабавила такая странная, такая сильная реакция, столь не соответствующая тому пустяковому поводу, который ее вызвал, потому что в конце концов, каковы бы ни были убеждения Лисбет, присутствовать на этом концерте все-таки не преступление. «Что за девчонка! — подумал он. — Принять так близко к сердцу…» Он ответил, растягивая слова, как мудрый и уравновешенный человек, который пытается успокоить раскапризничавшегося из-за пустяка ребенка:
— Об этом не может быть и речи, Лисбет! Мы уже собрались. Послушай, ты переходишь всякие границы…
— Не ходите туда! — голос все тот же приглушенный, но, казалось, задыхающийся, испуганный, или это ее исступление придавало ему паническое дрожание?.. — Если вы пойдете туда, вы никогда больше меня не увидите! — Потом уже другим тоном, с другой интонацией: — Иоганнес, умоляю тебя!.. — и вслед за этим звук, который мог быть только рыданием.
— Послушай, это уже слишком, должен тебе сказать… Ладно, мы уходим. Ждем тебя в одиннадцать, поужинаешь с нами в…
Но в трубке послышался новый крик, еще более хриплый; и тихий голос, почти приглушенный, голос, каким говорят, чтобы не услышали соседи или кто-нибудь, находящийся в комнате рядом:
— Подождите, я еду, я хватаю такси, я…
То, что он услышал за этим, походило на икоту. Да, голос умолк, издав нечто вроде сдавленной икоты… Словно гнев был настолько силен, что парализовал речь. Потом, почти сразу же, послышался сухой щелчок в трубке. Их разъединили. Все еще держа трубку в руке, Иоганнес проговорил: «Алло! Алло!» — но услышал только непрерывный гудок. Может быть, их по ошибке разъединила станция? Это случается довольно часто. Он посмотрел на трубку, которую держал в руке, пожал плечами, положил ее на рычаг. Все произошло невероятно быстро. Он машинально взглянул на часы: половина девятого.
— Звонила Лисбет, — сказал он, входя в спальню. — Хотела прийти поужинать с нами. Когда же я сказал ей, что мы уходим на этот концерт, она просто завопила… Ну, разумеется, не в буквальном смысле слова, но все же отреагировала как-то странно. Знаешь, у меня были какие-то подозрения, но это, пожалуй, еще хуже, чем я опасался.
— Что она тебе сказала?
— Умоляла меня не ходить туда… Только и всего! Уж не сошла ли она с ума!
Сидя перед туалетным столиком, Паула расчесывала волосы. Она прекратила свое занятие и взглянула через зеркало в лицо Иоганнесу.
— Умоляла? — переспросила она. — Она тебя умоляла?
— Да. Она даже сказала, что, если мы пойдем туда, мы никогда больше ее не увидим. Ты права: теперь я думаю, что она и впрямь настоящая фанатичка.
— А… потом? Чем закончился разговор?
— Она сказала: «Подожди, я еду…» Да, я уверен, она сказала именно это, хотя говорила так странно, таким сдавленным голосом, сдавленным от гнева, похоже… Да, мне кажется, что она сказала, будто берет такси… И тут — щелк! — бросила трубку!
— Она бросила трубку?
— Или же нас разъединила станция.
Паула сидела не двигаясь, все еще устремив взгляд на отражение Иоганнеса в зеркале, ее рука с гребнем застыла у виска.
— Ты уверен, что она сказала: «Я еду…»? — спросила она.
— Да, мне кажется, именно так…
Паула очень медленным движением поднесла гребень к волосам и начала приглаживать их. Теперь она смотрела в зеркало не на Иоганнеса, а на себя. Лицо ее по-прежнему оставалось спокойным, непроницаемым.
— Что ты обо всем этом думаешь?
— Ничего. А что, по-твоему, я должна думать? Конечно, все это несколько странно, но…
— Но?
— Лисбет странная девушка.
— Ее реакции слишком преувеличены, разве не так?
— Весьма.
— Боже мой! То, что мы идем на этот концерт, не повод вопить! Уже не возомнила ли она, что сможет помешать нам пойти туда, прочитав нам проповедь марксистской морали? Она просто сумасшедшая!
Он подошел к телефону, вызвал такси, вернулся в спальню. Паула сидела в задумчивости. Иоганнес с восхищенным видом оглядел ее с головы до ног. Отметил ее элегантность. Это тоже был ритуал перед выходом. Сам он в своем безукоризненно сшитом фраке выглядел очень импозантно, и никто, право, не мог бы представить себе эту фигуру на улице, пользующейся в городе дурной славой.
Путь до театра занял немало времени, несмотря на образцовую службу порядка, которая дирижировала потоком машин с помощью пронзительных свистков и четких, словно сигналы азбуки Морзе, жестов. Вечером на город обрушился ливень: на мокром асфальте двоились огни и все блестело, сверкало — черные кузова автомобилей, белые непромокаемые накидки полицейских, белый барьер, сдерживавший толпу зевак, отблески огней в освещенных витринах. Иоганнесу было по душе это ночное кружение города, вырванное из тьмы светом прожекторов. Балдахин из красной драпировочной ткани возвышался над главным входом театра, красная ковровая дорожка покрывала ступени лестницы; два ряда жандармов в униформе стояли навытяжку… Все предусмотрено. Среди сбившихся кучками гостей — за цепочкой жандармов и перед ней — Иоганнес и Паула узнавали знакомых, обменивались с ними рукопожатиями. Иоганнес испытывал легкое приятное возбуждение, история с Лисбет забылась, временно отодвинулась куда-то, он, возможно, вернется к ней через час, сегодня вечером, завтра, это не срочно, не важно… Он был счастлив вновь увидеть своих друзей, из которых многие носили солидные имена или владели солидным состоянием. Они давно уже не встречались в тесном кругу, главным образом из-за неравенства в положении, но, когда случай вроде сегодняшнего сводил их здесь, или в Зальцбурге[21], или в Байрёйте[22], Иоганнес дорожил их приветливостью, их старомодной и потому особенно приятной любезностью; и это чувство причастности (хотя и очень отдаленной ныне) к определенной социальной среде, к определенному классу льстило ему. Привыкший быть откровенным с самим собой, он не скрывал от себя, что это внутреннее удовлетворение в какой-то степени исходило от сознания — прочувствованного, пережитого — «привилегированности»: без денег, без намека на власть, без имени, без положения, Иоганнес тем не менее принадлежал к социальной элите, во всяком случае к тем, кто имеет особые преимущества, к тем, кого, в частности, приглашали на официальные празднества, где ему и доводилось сталкиваться с сильными мира сего. Это в известной мере опьяняло. И если это признак моральной слабости, то она, безусловно, простительна: все люди, на какой бы ступени социальной лестницы они ни стояли, предпочитают думать, что они не лишены индивидуальности, что они не совсем безлики, безымянны. Право же, только очень сильный человек умеет пренебречь всякой суетностью…
Иоганнес не мог похвастаться этим качеством; «Человеческое, слишком человеческое… И к тому же я не обязан ни перед кем отчитываться. Если мне приятно находиться здесь, среди ста пятидесяти тщательно отобранных лиц, почему я должен искать себе оправдание?» Хриплые, словно лающие голоса объявили о прибытии официальных лиц. У входа в театр засуетились представители службы порядка, в толпе зевак раздались жидкие аплодисменты. Жадное любопытство совсем притиснуло приглашенных к двум рядам жандармов. Под беспрестанными вспышками магния господа во фраках, дамы в длинных вечерних туалетах поднялись по устланной ковровой дорожкой лестнице. Лица их были знакомы, они то и дело мелькали на страницах газет и журналов, на экранах телевизоров. Вот бургомистр большого богатого города, вот государственный министр, вот излучающий благожелательность полпред иностранного государства. Они расточали направо и налево беспричинные улыбки, которые являли собой истинное воплощение оптимизма. Они вселяли в тебя уверенность. Нет, мир не может находиться на краю пропасти, если такие мужи пекутся о его судьбе. Да, если Европа ведома такими пастырями, она пройдет еще через столетия со своими нетронутыми богатствами, со своими сокровищницами искусства и человеческой мысли, со своим двухтысячелетним наследием, со своими несравненными рецептами могущества и благоденствия. Приглашенные в свою очередь тоже зааплодировали, еще более дисциплинированные, чем зеваки за белыми барьерами. Иностранный полпред в знак приветствия поднял на высоту плеча правую руку. У него были испещренные прожилками лиловатые набрякшие мешки под глазами, желтушные зрачки между длинными ресницами египетской танцовщицы, густые седые волосы. Он походил на пастуха-кочевника и на пророка. Его уместнее было бы видеть не в светском фраке, а в грубошерстном коричневом плаще, творящим среди песков пустыни или на фоне безмолвных вод молитвы. Присутствие этого жителя Востока рядом с бургомистром, чистокровным представителем германской расы, было глубоко символично. Два дня назад полпред уже имел долгую встречу с федеральным канцлером в Бонне, и газеты не преминули подчеркнуть исторический характер этой встречи — зримый знак того, что прощение даровано и получено, после ужасов прошлого скреплена дружба, дана торжественная клятва на будущее. Было заключено несколько немаловажных торговых соглашений. И вот сегодня иностранный гость приехал в большой провинциальный город, чтобы ознакомиться с тем, что называли «индустриальным комплексом», глубже узнать страну. Он слыл большим ценителем музыки, и именно поэтому в его честь устроили этот концерт с участием лучших сил в чудесном Старом театре. Вслед за официальными лицами приглашенные вошли в зал. За свою жизнь Иоганнес не впервые входил сюда, и каждый раз получал от этого не меньшее наслаждение. Зал — нечто голубое и белое с золотом — был небольшой, но превосходный: маленький придворный театр, таких в Европе осталось всего несколько. Расположенные полукругом ярусы лож походили на пчелиные соты, пустотелые и вогнутые, и каждая из ячеек украшалась теперь двумя шелестящими светлыми пчелами на переднем плане и двумя бело-черными шершнями на заднем. Ячейки, освещенное маленькими хрустальными люстрами, отделялись друг от друга тремя небольшими колоннами с тонкими канелюрами, где кремовый цвет оттенялся цветом потускневшего золота. Фриз из лепных листьев шел полукругом между ярусами; из этого растительного изобилия тут и там выглядывали крошечные амуры, жирные, как головастики, веселые, румяные, игривые. Убранство ушедшего века, настолько красивое, что оно казалось даже нереальным; убранство немного безрассудное и одновременно восхитительно разумное, которое благоговейно сохраняют и на поддержание которого тратятся огромные средства. Здесь многие самые знаменитые немецкие и итальянские композиторы отдавали на суд публики свои оперы, свои симфонии. Здесь прославленные государи устраивали празднества по случаю бракосочетания или рождения наследного принца. Здесь чувствуешь себя преемником той фривольности и возвышенности, дерзкая хрупкость которых устояла перед крушением империй. Иоганнес жадно смотрел по сторонам, впитывая всю эту красоту, эту роскошь, сохраняемую для избранных, эту квинтэссенцию цивилизации, которая могла стать прекрасной только потому, что она не пеклась о справедливости… Музыканты занимали свои места на сцене, настраивали инструменты. Громом аплодисментов встретили появление дирижера, чье лицо было более известно, чем лицо канцлера. Стоя выслушали два национальных гимна. Потом публика снова села на свои места. Шум стих, и наступила та самая тишина, которая Иоганнесу всегда казалась почти пугающей. Смычки нависли над струнами, готовые обрушиться на них. Все музыканты неотрывно смотрели на дирижера, который стоял прямой и неподвижный, с поднятыми, словно для призыва, руками.
И вдруг затворы распахнулись во всю ширину, и волна хлынула, сразу заполнив собою все пространство. Это триумфальное аллегро Иоганнес слышал уже множество раз, знал его наизусть, но великие творения неисчерпаемы, каждое новое соприкосновение с ними открывает в них что-то новое. У Иоганнеса эта первая часть всегда ассоциировалась с ощущением какой-то скачущей, немного насмешливой радости; теперь он с удивлением услышал в ней еще и почти воинственную уверенность, победоносную волю, которая устанавливала свой порядок в мировом хаосе. Свободная, мелодичная инвенция, широкая оркестровка не позволяли забыть, что в этой области упоительной фантазии разум сохраняет свои позиции. Правда, это было характерно для всей музыки той эпохи. Музыкальные фразы, такие же строгие, как математические формулы, были изящны, пленительны. «Почему жизнь тоже не является произведением искусства? — думал Иоганнес. — Если люди способны замышлять и создавать такие шедевры, как эта музыка, этот театр, как прекрасные сады, которые во все времена были идеальным образом счастья, почему же они не сумели побороть хаос в жизни? Почему не сумели превратить жизнь в один громадный сад? В этой голубой с золотом раковине, где я сейчас нахожусь, происходит нечто зыбкое, но оно поистине является таинством, посвящением: посвящением в величие человека. Вокруг, за пределами этого мирского храма, находится мир людей: хаос и нищета, смерть царят повсюду; оружие стало достаточно мощным, чтобы уничтожить всю жизнь на планете, уничтожить не один раз, а, согласно последним данным, более тридцати; космическое самоубийство отныне вполне реально; пытки практикуются повсюду, и повсюду безнаказанно; необъяснимый антагонизм; ненависть между представителями разных рас, разных классов; повсеместное насилие и террор». Таким был в эту минуту охваченный конвульсиями мир, и казалось, долго так продолжаться не может; впрочем, ведь многие так и считают, что конец близок… Тревога, которая охватывает ныне стольких людей и от которой кое-кто ищет спасения, прибегая к дозволенным и не дозволенным законом наркотикам, не является ли она симптомом более или менее осознанного страха? Мир охвачен страхом… Иоганнес вдруг увидел лицо Лисбет в тот момент, когда он неслышно вошел в гостиную, ее потерянное лицо… И она, она тоже боится, но чего? Он вспомнил, как она, словно бы шутя, сказала в ответ на его замечание о темных полосах в ее жизни: «Я состою в мафии. Они подозревают меня и собираются ликвидировать…» Шутка, конечно. Но часто шутка служит лишь ширмой, призванной прикрыть нечто серьезное, или же она — замаскированное признание, которое облегчает внутреннее напряжение того, кто его делает, и в то же время снимает подозрения того, к кому оно обращено. И впрямь, не состоит ли Лисбет в какой-нибудь банде молодых и опасных преступников? Она украла гравюру. Кто знает, может, это воровская шайка, замешанная в преступлениях куда более серьезных, чем похищение гравюры у антиквара? Но нет: это так не вяжется с Лисбет. Он пошел по ложному пути. Правда, верно, где-то в другом. «Не буду больше думать об этом, — приказал он себе. — Я в концерте, музыка волшебная…» И он сосредоточился, попытался отогнать теснившиеся в его мозгу ненужные мысли, выбросить из головы все, чтобы всем своим существом погрузиться в музыку… И это ему удалось; до конца симфонии он весь был во власти музыки. Аплодисменты и зажегшийся свет вырвали его из грез. Сейчас будет небольшой антракт перед исполнением следующего произведения. Соты зажгли в своих ячейках хрустальные люстры, наполнились гулом, напоминавшим жужжание пчел. Иоганнес на миг повернулся, чтобы взглянуть на сидящих в официальной ложе, она находилась через пять лож от них. Бургомистр и его гость, слегка склонясь друг к другу, переговаривались. Обменивались ли они впечатлениями об услышанной сейчас симфонии или же обсуждали вопросы политики, международной торговли? В глубине ложи можно было заметить жандармов. Иоганнес повернулся к жене. Она со вниманием следила за чем-то в правой стороне зала. Он проследил ее взгляд и увидел в тесном проходе между литерными ложами и задними рядами партера мужчину в светло-сером костюме, который как-то боком, словно краб, медленно прохаживался взад и вперед. «Этот здоровенный детина, должно быть, инспектор полиции, — подумал Иоганнес, — или, во всяком случае, кто-то призванный следить за порядком. Что ж, все нормально, здесь и должно быть много представителей службы безопасности и неусыпное наблюдение. Так всегда бывает на официальных мероприятиях». Предположение Иоганнеса подтвердилось, в противоположной стороне зала другой человек в светло-сером костюме ходил параллельно своему коллеге — в этом, казалось, и состояла его задача. Оба они почти одновременно исчезли за дверьми между литерными ложами. Все это длилось несколько секунд.
— Полицейские, — сказал Иоганнес Пауле.
Она кивнула головой, подтверждая, что таково же и ее мнение.
Он спросил:
— Тебе нравится? Восхитительно, не правда ли?
Она улыбнулась. Ему показалось, будто она выглядит не так хорошо, как в начале вечера, что лицо ее немного осунулось. Устала, наверное. Сегодня у нее самый напряженный день… И выглядела она сейчас более хрупкой. То ли его размягчила музыка, то ли недавние напоминания о Банхофштрассе пробудили в нем угрызения совести, по правде сказать не слишком сильные, которые он все же порою испытывал, то ли по каким-либо другим причинам, неясным даже ему самому, но он почувствовал где-то в глубине души прилив нежности к ней, своего рода признательность просто за то, что она здесь, рядом с ним, такая спокойная, такая умиротворяющая. И он поклялся себе впредь избегать всего, что могло бы помешать их взаимному пониманию… Дирижер снова вышел на сцену, поклонился, его встретили аплодисментами. Тишина. Смычки нависли над струнами. Легкое стеснение в груди.
На этот раз мелодия развивалась широко, плыла медленно и торжественно, словно движение королевского кортежа. Музыка немного формальная, немного вычурная, но исполненная достоинства. Она внушала мысль о том, что человеческие установления имеют смысл, что они заслуживают уважения и надобно относиться к ним с почтительностью. Иоганнес слушал эту прелюдию, и ее наивная помпезность забавляла его. Он думал о том, что в современной музыке нет ничего равного этой величавой пышности. Можно ли представить себе современного композитора, пишущего марш на избрание главы государства, на открытие парламента или по случаю какой-нибудь знаменательной даты национальной истории? Все это ушло в далекое прошлое, теперь ничего подобного не сыщешь. У Иоганнеса не хватило времени поразмышлять о моральных и социальных импликациях, потому что после короткой паузы началась вторая часть; по вдохновению она очень отличалась от первой, и с трудом верилось, что они составляют части одного произведения. Однако это был все тот же музыкальный язык, плавный, ясный, обманчиво простой; но то, что слышалось не было больше голосом города или монарха, народа или знати, это был какой-то внутренний голос: он разговаривал сам с собой; а может быть, он был голосом чего-то, заключенного в нас самих, чего-то невыразимого, что выше всяких слов: любовь неизвестно к кому, молитва неизвестно о чем, безысходная тоска, бесконечно ясные грусть и радость. Может быть, это голос нашего «я», самого искреннего, самого чуждого всему тому, чем мы являемся каждый день для мира и для самих себя. Иоганнес закрыл глаза. Никто не знает, откуда берется это ощущение счастья, которое, кажется, медленно раздирает все твое существо, пронизывает его острой болью. Музыка совершенно иного мира, чем наш… Иоганнесу хотелось не думать ни о чем, но он не мог совладать со своими мыслями: то, что пронеслось в его голове в эту минуту, если бы это можно было сформулировать точно, чтобы выразить общедоступным языком, была мысль, что даже один этот музыкальный отрывок, одна эта мелодичная партия виолончели, едва поддерживаемая пиццикато скрипок, может оправдать существование рода человеческого… Впрочем, нет, он не оправдывает ни зла, ни горя, ни смерти, он не оправдывает ничего. В таком случае какая же связь (Иоганнес уже задавал себе этот или близкий к этому вопрос сегодня утром) между этой сверхъестественной музыкой и, к примеру, тем, что совершалось в концлагерях, адом жестокости и ненависти? Но между ними нет непроходимой пропасти. И разве то, о чем часто и настойчиво писала послевоенная пресса, а именно что самые кровавые палачи могут подчас быть честными гражданами, примерными супругами, добрыми отцами, преданными друзьями, любителями цветов и животных и (это самое загадочное) страстными поклонниками Моцарта и Шуберта, не является ли в духовном плане скандальным? Как звали начальника лагеря неподалеку от Дрездена, который забавы ради отдавал на растерзание своим доберманам еврейских детей, а по вечерам играл на рояле сонаты Баха, и, кажется, играл весьма недурно? Возможно, этот монстр наслаждался и ларго, которое Иоганнес слушал сейчас, и, возможно, как и Иоганнес, он тоже с трудом сдерживал слезы?
Дрезден…
«Где тебя носило, бродяга?» — «A-а, повсюду. Это неинтересно… Была в Дрездене…» Но несколько минут спустя, когда он поинтересовался, не в Дрездене ли она нашла эту гравюру, она переспросила — «Дрезден?» — с таким удивленным видом, словно уже не помнила, что сама говорила о нем несколько минут назад. Тогда это не поразило Иоганнеса; он подумал только, что она устала, рассеянна; но сейчас он заново увидел всю сцену в мельчайших подробностях, и его вдруг осенило, что Лисбет солгала, что она не была в Дрездене… К чему эта ребяческая ложь? Иоганнес понимает, что все это время он не переставал думать о Лисбет, об их странном разговоре, как не переставали его тревожить тени, залегшие вокруг нее, между ними… И теперь он чувствует беспокойство, оно становится почти давящим. Он медленно, фразу за фразой, повторяет короткий разговор по телефону, он слышит икоту в конце разговора, икоту, словно Лисбет сдавили горло, потом щелчок в телефонной трубке, которую положили на рычаг. Она сказала, что находится «у друзей»… Но она ли так внезапно бросила на рычаг трубку? Она? Или кто-нибудь другой?.. Иоганнес глубоко вздыхает, чтобы успокоиться. Он обводит взглядом зал. Покоренная аудитория… Скрытая от всех в полумраке волшебная раковина… И бесконечно модулируемая музыкальная фраза, которую на фоне отрывистых, танцующих звуков пиццикато выводит виолончель… Прекрасное вечно… Закрыть глаза… Погрузиться в это счастье…
Сначала он почувствовал неожиданный ожог в плече и в правом виске. И одновременно — слепящий белый свет, грохочущая молния, порыв ветра. Одна секунда оцепенения, застывшей тишины. Потом все разом: крики ужаса, кто-то рывком вскакивает, кто-то шатается, падает; снова взрыв, молния, гром; безумная паника охватывает сто пятьдесят человек, бросает их к дверям. Иоганнес тоже вскакивает; чувство жжения в плече и на виске сменяется острой болью. Рядом с собой, там, где сидела Паула, он видит залитое кровью лицо с безжизненным взглядом и две хватающие воздух руки. Он наклоняется, берет жену помогает ей подняться, поддерживает ее. Как и все остальные, он — воплощение безумия и ужаса, но сознание в нем живо, и без всяких слов, без всяких формулировок оно все расставило по своим местам. Части головоломки наконец разом сложились, крича, что Лисбет умерла, что она убита, «ликвидирована» сегодня в половине девятого вечера в незнакомом доме, откуда она готова была бежать.
Теперь Иоганнес знал, что сады его жизни опустошены, опустошены навсегда.
Примечания
1
Французские повести. М., «Молодая гвардия», 1971.
(обратно)2
М., «Прогресс», 1975.
(обратно)3
Истории Франции, т. 3. М., «Наука», 1973, с. 499.
(обратно)4
«Литературная газета», 16. XI. 1977.
(обратно)5
Jean-Marc Salmon. Hôtel de l'Avenir. P., Presse d'aujourd'hui, 1978.
(обратно)6
Парадный этаж (итал.).
(обратно)7
Шафтсбери-авеню — улица в центральной части Лондона, на которой находится несколько театров; Челси — фешенебельный район Лондона. — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)8
Пшеничные или ячменные лепешки, популярные на севере Англии и в Шотландии.
(обратно)9
Моторные лодки (итал.).
(обратно)10
Послеобеденный чай (англ.).
(обратно)11
От слова bitch — дрянь, сволочь (англ.).
(обратно)12
Поместье (исп.).
(обратно)13
То, что необходимо увидеть, прочесть и т.д. (англ.).
(обратно)14
Хозяйственная новинка, забавная игрушка (англ.).
(обратно)15
Ресторан-закусочная (англ.).
(обратно)16
Приблизительно (итал.).
(обратно)17
От macho — мужчина (исп.).
(обратно)18
Бившая резиденция испанских королей.
(обратно)19
И я жил в Аркадии (счастливой) (лат.).
(обратно)20
Прихоть, причуда; ист.: загородный домик
(обратно)21
Город в Австрии, родина Моцарта.
(обратно)22
Город в Баварии, где был построен театр для исполнения произведений Вагнера.
(обратно)

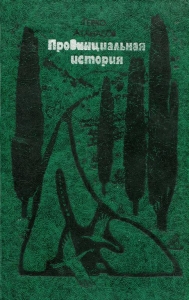

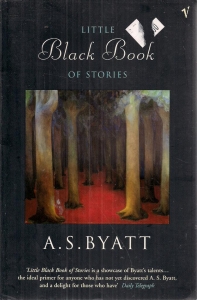


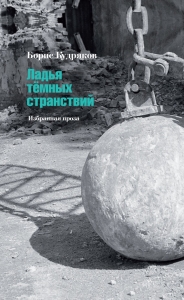




Комментарии к книге «Парадный этаж», Жан-Луи Кюртис
Всего 0 комментариев