Шустрый очень русская повесть Владимир Дмитриевич Романовский
© Владимир Дмитриевич Романовский, 2015
© Тициан Вечеллио, иллюстрации, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Все слова в повести понятны из контекста. Но ежели возникнет заминка, автор просит читателя обратиться к Справке на последней странице, там все объяснено.
Copyright © by Author1. По санному следу
Велика земля, амичи, внушительна и мёрзла, колючими стволами утыкана, звездами холодными и луной равнодушной тускло освещена, а ветер, амичи – просто сил никаких нет, будто одного мороза мало, нужен еще и ветер обжигающий, не подчиняющийся логике, вольный в выборе средств, как палач во время пытки – невозможно предугадать, откуда подует, где проберет.
И бродят вокруг звери злые, зимние, изголодавшиеся. Костра опасаются звери, но костер опасен также и невольному путнику: тем, что, согревшись и переполнившись оптимизмом, может путник задремать возле него, сомкнуть усталые очи свои, привалиться набок, подумать – ну, всего несколько минут полежу вот так, с закрытыми глазами, уж больно хорошо – только этого и ждут звери, как чувствуют, подлые. Со зверями договориться еще труднее, чем с людьми, то есть вообще нельзя, не послушают.
А бывает так, что костер почти догорел, а новые сучья таскать сил нет, просто нет никаких сил, а рассвет все не наступает, и кругом глаза горящие, жадные: блядский бордель, не поймешь, то ли они действительно там, то ли мерещатся тебе, и ни огнестрела, ни ножа, ни даже дубины с тобою нет. Как глупо, амичи, пройти полмира, участвовать в исторических событиях, решать дальнейшую судьбу этой, не побоимся слова, цивилизации – и вот так вот, одному, беспомощному, стонущему, продрогшему до сверлящей боли в суставах, до звона в ушах и в мозгу, быть разодранным тупыми тварями, не осознающими всего, не побоимся слова, величия произошедшего и продолжающего происходить.
Но чудеса, бывает, случаются не спросясь и не предупредив. Не загрызли Шустрого бескомпромиссные волки, не задрал очнувшийся вдруг от спячки ирритабельный медведь, не навалились на теплое еще тело никогда не водившиеся в этих краях гиены, жив Шустрый, жив!
Тусклому рассвету Шустрый не обрадовался, просто отметил про себя, без эмоций, что вроде бы светлеет, этуали в небе одна за одной исчезают, сереет пространство вокруг, виден объем стволов и веток. Эмоции были целиком заняты холодом обволакивающим, болью омерзительной в ребрах, в бедре, в боку и в плече, желанием жить, и усталостью. Боль в ногах почти не чувствовалась – поморожены небось. Сапоги – нет, сапогами назвать нельзя, что-то невиданное, абсурдное, почти совсем бесполезное. Сук в руке, обернутой тряпкой, все тяжелее, но бросить нельзя. Упадешь, не встанешь, уснешь, сдохнешь, а жить надо.
Бор кончился, открылось огромное серое в бледно-рассветном освещении пространство. На пространстве этом Шустрый заприметил что-то похожее на санный след и пошел к нему, не отводя глаз, опасаясь, что если отведет, то след исчезнет, сделает вид, что померещился.
Две параллельных линии – значит, где-то есть люди, будем надеяться, что совсем близко. Создатель симметрию недолюбливает, прямые линии не в его стиле, тем более параллельные. Как бы говорит Создатель человеку – ежели заприметишь где что-то похожее на симметрию, значит, свои рядом, туда и иди, горемыка, и в будущем постарайся один не оставаться, человеку нужно общение, без общения пропадешь.
Постанывая в голос, Шустрый добрался, несколько раз падая в снег и поднимаясь тяжело, до санного следа.
Стало ещё светлее, и обнаружилась равнина с лесом вдалеке слева, а чуть дальше по ходу – пологий спуск. Замерзшая река. Санный след некоторое время шел вдоль реки, а потом свернул вниз, и продолжился по заледеневшей и покрытой снегом поверхности. Шустрый остановился, выпростал свободную руку, и поправил ею тряпки, закрывавшие голову и шею. Обнажившееся запястье обожгло безжалостным морозом.
Вскоре, спустя всего две или три вечности, санный след перешел к противоположному берегу реки, и начался подъем.
Дался он Шустрому с огромным трудом. Но дальше, за подъемом, показались вдалеке хибарки, и над некоторыми из них поднимался дым – в хибарках топились печи, возможно в них завтракали неспешно по причине зимы – зимой работы почти нет в этой местности – люди. Шустрый поковылял к хибаркам по санному следу.
Через некоторое время ему навстречу рысью направилась лошадь, тянущая за собой сани с ездоком, укутанным до глаз в добротное и теплое, по крайней мере по сравнению с тем, что было на Шустром. Ездок крикнул что-то на местном наречии, которое Шустрый не понимал, но в крике звучало недовольство, и Шустрый благоразумно решил, что надо убраться с дороги. Он сошел с санного следа в сторону, и тут же потерял равновесие и упал на снег. Сани проехали мимо, и ездок что-то такое сказал, злое, на прощание. Шустрый поднялся, припал на колено, снова поднялся, и вернулся на твердую поверхность.
Еще через несколько вечностей он прибыл к хибаркам. Одна из них стояла отдельно, на отшибе. Возможно, хозяин ее был индивидуалист и не любил тесное соседство. Может, он был астроном, предпочитающий рассматривать и корректировать карту звездного неба в полнейшей тишине, или композитор, не любивший, когда мелодии, возникающие в его музыкальной голове, перебиваются суетными разговорами, дурацкими выкриками и жалобами. Шустрый добрался до крыльца, встал, мыча, на кривую ступеньку, и постучал верхним концом сука, на который опирался, в дверь, чуть при этом не завалившись на спину.
За дверью раздались шаги. Грохнул засов, дверь приоткрылась, на пороге возник белобрысый мове-гарсон лет пятнадцати в длинной и очень грязной холщовой рубахе. Из приоткрытой двери повеяло на Шустрого спасительным теплом и запахло горячей едой. Но Шустрый заставил себя не завораживаться едой и теплом. Нужно было что-то говорить – это было главное. Люди, нуждающиеся в помощи, должны говорить – иначе им не помогут, сделают вид, что не понимают, что нужно путнику помороженному, обернутому в тряпьё непонятного цвета, еле стоящему на ногах. Может, он натуралист, и его интересуют названия местной флоры, или же, к примеру, он меломан и хочет осведомиться, где здесь ближайший оперный театр, а они не знают ни того, ни другого, извини, парень, не можем тебе помочь.
Он собрался с мыслями. Что сказать мове-гарсону, о чем попросить? Ну, понятное дело – тепла, еды – но как обратиться, как назвать собеседника?
«Сударь» – слишком официально, «господин мой» – глупо. Тем более, что наречия, на котором Шустрый изъясняется, здесь не понимают, а он не понимает их наречия. Ужасно неудобно это. Нужно сказать что-то очень простое, и в то же время вежливое, и переполненное дружелюбием, показывающее, что вот он, Шустрый – абсолютно безопасен, жалок, слаб, и от милости открывшего дверь зависит целиком – так вот не будет ли открывший так добр, не окажет ли благоволение самое малое? «Приятель» – нет, слишком фамилиарно.
Шустрый вытащил из-под тряпок свободную руку, протянул вперед в вежливом, слегка заискивающем, жесте, и сказал:
– Дорогой друг…
Малый отвернулся. Шустрый стал ему неинтересен. За малым возникла мрачная фемина средних лет, с ненавистью посмотрела на Шустрого, и что-то бросила по его адресу, какие-то злые слова, судя по тону – что-то вроде «Убирайся отсюда, говно».
Это было, наверное, справедливо. Справедливость – она такая, встречается там, где ее меньше всего ждешь, и где от нее меньше всего толку. Наверное у женщины этой погиб в баталии муж, и в Шустром она видела врага, принимавшего участие в отнятии у нее мужа. Шустрый продолжал стоять перед ними, матерью и сыном, пытаясь улыбаться – получалось плохо, щеки не двигались, губы не растягивались, одеревенели.
Тут вдруг за спиною фемины возник здоровяк набыченный, средних лет. Отодвинув фемину, он сделал жест рукой и сказал несколько слов злым тоном. Смысл был понятен – «А ну, пошел отсюда». Или что-то вроде этого.
Дверь захлопнули и заперли.
Шустрый немного постоял, собираясь с силами, а затем осторожно спустился с крыльца, качнулся, восстановил равновесие, и направился к группе хибарок, скучившихся в ста шагах от той, куда его не пустили. Мимо проехали еще одни сани с закутанным седоком. Куда это они все едут, подумал Шустрый. И решил, что они едут браконьерствовать. Что ж, занятие почтенное в некоторых весях. Сам Шустрый никогда не браконьерствовал, но с браконьерами многими был знаком и их не осуждал. Воры – иное дело. Воровать у простых людей – зазорно, у них и так всего мало. А дичь пострелять или дерево-другое срубить для домашних нужд – не обеднеет владелец! Скорее всего просто не заметит. Да и вообще – почему большинство владельцев земель и лесов таковыми рождаются, и забот не знают, не жнут, не сеют, а остальные перебиваются кто чем?
На полпути к группе хибарок Шустрый почувствовал, что у него вдруг неожиданно прибавилось сил. И даже эмоции, помимо самых насущных, возникли. Вот и день хороший, подумал он, солнечный, и дымок из трубы самой близкой хибарки с соломенной крышей очень пригласительно выпрастывается, уютно, и вообще на свете хорошо жить, когда что-то умеешь, и люди кругом, и ты среди людей, и тепло, и сытно. Он даже замычал было песенку, но подул вдруг опять ветер, и пробрал, и обжег. Он приблизился к двери хибарки и стукнул в нее верхним концом сука дважды. И стал ждать. Потом стукнул еще раз. Дверь открылась. За дверью стояла молодая женщина, некрасивая, с ногами враскаряку, в длинной грязной холщовой рубахе, с нечесаными распущенными волосами, заспанная. Шустрый выпростал свободную руку из-под тряпок, протянул вежливо вперед, и потерял сознание.
2. И отписывали мелом
Игорный дом с красивым фасадом помещался на углу дурно мощеной улицы и состоял из трех этажей. На втором, игровом, пахло пылью, подсохшим потом, и едким трубочным дымом. Вокруг пяти столов толпились офицеры в мундирах, невоенные дворяне во фраках, и сыновья самых богатых купцов, тоже во фраках, чьим отцам недавно, за помощь в снабжении обозов, обещали титулы и прочие блага.
Сынок отсчитывал в уме штоссы, выжидая, когда валет ляжет по левую руку Банкомета во второй раз. Валет лег, и Сынок придвинулся ближе, ожидая теперь окончания штосса. Когда штосс закончился, Сынок подошел вплотную к столу и, разыгрывая смущение, сказал:
– Позвольте, господа…
Все повернулись к нему, и пришлось сделать вид, что он смущен еще более. Игроки рассматривали его будто в первый раз – молодого офицера с каштановыми волосами и мягкими усиками, стройного, среднего роста, с лицом простодушным. Заулыбались.
– А сколько? – спросил толстый Банкомет, поправляя роскошные ухоженные тыловые усы и подняв глаза на Сынка.
– Пятьдесят тысяч.
Сделалось замешательство.
– Простите, сударь, – сказал банкомет. – Вы не оговорились?
– Я не оговорился.
Вокруг притихли.
– Это чрезвычайный случай, – вежливо сказал Банкомет. – Боюсь у меня нет с собою столько.
– Одолжитесь у друзей, – посоветовал простодушный Сынок.
Некоторое время Банкомет смотрел в глаза Сынку, что-то прикидывая. Сынок слегка улыбнулся.
– Хорошо, – сказал Банкомет. – Господа, будьте любезны.
Несколько дворян и офицеров, а также один сын богатого купца, заинтересованные развитием событий, стали вытаскивать бумажники. Искомая сумма набралась быстро. В виду чрезвычайности случая принесены были две запечатанные колоды. Сынок вскрыл свою, Банкомет свою. Банкомет стасовал колоду и предложил Сынку снять, Тот снял, после чего сразу выхватил из своей колоды валета червей, и положил на стол, лицевой стороной вниз. Затем неспеша вынул бумажник, и поверх карты поместил пачку ассигнаций.
– Сколько здесь? – спросил Банкомет, хмурясь. Пачка показалась ему недостаточно увесистой.
– Пять тысяч. А вот остальные сорок пять.
Поверх ассигнаций лег вексель. Банкомет потянулся было за векселем, но тут же убрал руку – неприлично.
– Как ваша фамилия, сударь? – спросил он.
Сынок назвал фамилию. Вокруг обменялись взглядами.
– Сын того самого генерала? – спросил Банкомет, впечатленный фамилией.
– Племянник.
Банкомет кивнул.
Фамилия известная. Тянуть дальше было неприлично. Он взял в руку колоду и начал метать. Лицо Сынка не выражало ровно ничего, кроме ранее всеми отмеченного простодушия. Зрители с возрастающим интересом следили за игрой.
Налево, в нечет, и направо, в чет, падали пятерки, семерки, короли, и все это не имело значения. Но наконец из колоды выскочил валет – в нечет. Сынок был к этому готов, ничего другого он и не ожидал. Банкомет, стараясь не улыбаться, переместил к себе деньги и вексель. Тут же на стол лег следующий вексель – на сто тысяч.
– Угодно? – спросил Сынок, и позволил себе улыбнуться.
Банкомет чуть помедлил, а на лицах дворян и офицеров выразилось восхищение. Сынок продолжал стоять в непринужденной позе, положив руку на эфес кавалерийской сабли.
«Он сумасшедший», подумал Банкомет. И сказал спокойно:
– Разумеется, сударь.
В этот раз валет Сынка не заставил себя ждать – лег в нечет пятой картой из новой колоды.
Выражение лица Сынка не изменилось – все то же простодушие.
– Когда вам будет угодно рассчитаться? – спросил Банкомет.
– Завтра утром, – спокойно ответил Сынок. – Если вас не затруднит…
– Нисколько, – заверил его Банкомет, протягивая визитку.
– Одна лишь заминка есть, заранее прошу прощения, – уточнил Сынок. – Дело в том, что с тех пор, как я вернулся с позиций, я много сплю и поздно встаю. На позициях не поспишь. Теперь вот роскошествую. Иногда даже до одиннадцати часов сплю. Поэтому «завтра утром» в данном случае означает – ближе к полудню. Вы не против?
– Зачем же, – почти возмутился Банкомет. – Чтобы я мешал сну защитника отечества? Спите сколько вам угодно, сударь. Хоть до вечера. Если вы зайдете, а меня не будет дома, передайте деньги моему дворецкому, я ему доверяю.
– Благодарю вас, – ответил Сынок. – Честь имею.
Он коротко по-военному поклонился и вышел из залы, сопровождаемый восхищенными взглядами.
Так не бывает, подумал он. Чтобы одна и та же карта проигрывала четыре раза подряд – такого не может быть, это противоречит логике. Он еще раз позволил себе так подумать, после чего, выйдя на улицу, успокоился и собрался с мыслями.
Денег в столице у него не было больше никаких, кроме нескольких ассигнаций в кармане на мелкие расходы. Вне столицы тоже не было. У дяди-генерала были прямые наследники, коим с племянником делиться было не с руки. Было имение, принадлежавшее ранее погибшему на войне отцу, а теперь матери Сынка, и ему, Сынку, тоже. Имение следовало заложить или продать.
Но до имения нужно сперва доехать.
Можно имение сбыть, никуда не уезжая – какому-нибудь столичному, но и это заняло бы время, следовало бы списаться с матерью и ее управляющим.
Также, можно было, наверное, застрелиться, но очень не хотелось.
Не отдать карточный долг – дело немыслимое.
Следовало идти – к знакомому Иудею, либо к Азиату. Сынок выбрал Иудея.
Час стоял поздний, и ему пришлось долго стучаться, прежде чем экономка открыла дверь. Сам ростовщик жил на втором этаже. Пришлось подождать в лавке. Иудей, пожилой полный мужчина с нависающими кустистыми бровями, спустился вниз в скором времени, одетый небрежно, заспанный, недовольный. И сказал сухо:
– Здравствуйте.
– Здравствуй, наиподлейший.
Иудей усмехнулся. Наиподлейшим его как-то назвал заезжий поэт-южанин, и все картежники столицы, с которыми ему приходилось иметь дело, об этом каким-то образом прознали и всякий раз пользовались случаем подразнить ростовщика – что по каким-то особым, личным причинам, доставляло ему удовольствие.
– Чем могу служить?
– Нужны деньги.
– Сколько?
– Сто пятьдесят тысяч.
Наиподлейший решил, что ослышался.
Обращались к нему часто, долги и проценты платили почти всегда, потеря нескольких сотен время от времени его не смущала. Опытный, он определял платежеспособность любого клиента, обменявшись с ним несколькими словами, и ошибался очень редко. При этом был он человек благосклонный, и даже добрый, и известны были случаи, когда он просто отказывал просителю, дабы предупредить будущие неприятности – именно ради блага самого же просителя. Также он однажды, оставив просителя в лавке, отправился к кредитору сам, и заплатил долг целиком, а вернувшись, прочел просителю длинную лекцию о том, что ежели у человека вся жизнь впереди, а кругом много возможностей, то и не следует эти возможности хоронить, поддавшись сиюминутной страсти. Словом, был он убежден, что честность, доброта, и даже известная степень щедрости, в коммерции могут быть выгодны, если быть достаточно твердым.
Но – сто пятьдесят тысяч?! Одна пятая этой суммы считалась во время оно вполне приличным состоянием. Удачно вложив такую сумму в недвижимость, в лес, или в прииски, можно было рассчитывать на безбедную жизнь.
– Простите … сколько?
Сынок повторил.
– Когда?
– Сейчас.
Иудей что-то прикинул в уме, помялся, вытер толстым запястьем лысый лоб, и сказал:
– У меня столько не найдется. Если вы готовы подождать неделю или две…
– Не могу, – возразил Сынок. – А у кого есть?
Иудей с сомнением смотрел куда-то мимо Сынка.
– У кого … у кого. Интересные вы вопросы делаете, сударь.
– У Азиата?
– Нет, что вы, у него и трети такой суммы зараз не наберется. Почему бы вам не подождать?
– Ну я ведь сказал уже, что не могу.
– Ну, хорошо, только из уважения к вам, сударь … Есть у азиата знакомый, темная личность. У него, возможно, вы получите искомую сумму. Но имейте в виду, он человек опасный. И проценты возьмет очень большие.
– Мне все равно.
– Живет он…
Получив адрес опасной личности, Сынок тут же туда отправился. Личность оказалась действительно неприятная, жила на отшибе, вид имела свирепый, показывала в лицемерной улыбке гнилые зубы, а происхождения была совершенно неизвестного. Написав вексель, Сынок спрятал ассигнации в портмоне и собрался было уже идти, но личность его остановила.
– Не спеши, бегун, – сказала личность. – Вижу, что находишься ты в затруднении. Я мог бы тебе помочь.
– Пожалуйста, обращайтесь ко мне на вы, – попросил Сынок.
– Горячий ты парень, – заметила личность.
– Настоятельно прошу.
– А если нет, то что же ты сделаешь?
– Отбивную сделаю, – ответил Сынок. – Из вас, почтенный. Пожалуйста, не испытывайте мое терпение.
– Я вас проверял! – заявила личность. – Вижу, что вы человек решительный и смелый. Именно поэтому я и хотел бы вам помочь.
– Спасибо, я не нуждаюсь в помощи.
– Как знать! Я предлагаю вам коммерческую сделку. В этом нет ничего зазорного, ровно ничего такого, что могло бы оскорбить ваше достоинство. Вы сможете расплатиться со мною в течении нескольких месяцев, и даже получить немалую прибыль сверх этого. Позвольте продолжить?
Сынку было жалко имения. Да и с мутер придется объясняться, а она такая прямолинейная, такая в высшей степени наивная дама!
– Продолжайте.
– Вы из хорошей семьи, и в данный момент у вас с матушкой вашей есть имение, заложив или продав которое, вы планируете расплатиться по векселю. Я правильно вас понял?
Сынок хотел было возразить, что это нее ее, темной личности, свинячье дело, как именно он будет платить по векселю, но решил послушать, что еще скажет личность.
– Закладывать ничего не надо. Имение свое вы и сохраните, и преумножите. Нужно всего лишь … всего лишь…
От темной личности Сынок вышел в задумчивости необыкновенной.
На позициях было проще.
Возмущенные поведением потерпевшего сокрушительное поражение и позором покрытого тирана, страны составились в коалицию, назначили коалиции номер, и начали кампанию по свержению. Пехотинцы и конники при поддержке артиллерии теснили безоговорочно раздробленные, деморализированные, плохо обученные, наспех набранные резервные силы тирана, продвигаясь вглубь его тиранических владений, осаждая и захватывая город за городом. Приготовились дать решительный бой подле городка с некрасивым названием, составили план, утром пошли в атаку. Неожиданно для всех тиран нанес контрудар, повергший всех в шок, и сам перешел в наступление. Пронумерованная коалиция бросилась врассыпную, несколько дней отступала, но вскоре снова собралась с силами – и так далее. У Сынка погибли отец и дядя, самого его ранило. Провалявшись в госпитале месяц, Сынок заскучал, военные действия не представляли более для него никакого интереса, и командование по просьбе одного из высокопоставленных знакомых отправило его в заслуженную отставку с двумя орденами. Всё понятно, никаких недоговоренностей.
А здесь, в мирной столице, все было туманно, неопределенно, и никакие последствия никаких действий нельзя было предсказать точно – все время оставались какие-то неувязки, требующие внимания, и полная неизвестность впереди. Проиграл имение – казалось бы, мешок за плечо, посох в руку, и иди себе по миру, и распорядок дня планируй соответственно. Но нет, имение можно спасти. Хорошо! Спасти? Спасём, раз есть такая возможность. Да, возможность есть, но нужно совершить несколько поступков, кои дворянину не к лицу, что бы не болтала по этому поводу темная личность. И нужно будет поступки эти в будущем скрывать. Это раз. А два – будет ли от поступков этих неблаговидных толк – еще неизвестно. Вот и решай, что делать – посох или поступки? Поступки или посох?
3. Красивый столяр
Прибежал Пацан с корзинкой – принес Шустрому поесть. Шустрый очень нравился Пацану, возможно даже больше, чем Полянке, его, Пацана, матери. Когда в начале своего пребывания в поселении Шустрый стал понемногу приходить в себя, Пацан тут же взял себе в привычку возле него виться, и Шустрый был ему благодарен за это, а Пацан – Шустрому. До этого никто не уделял Пацану столько внимания, все были заняты – работой или разговором – а Шустрый, болеющий и слабый, ничем занят не был. Научил Пацана играть в кости, которые сам вырезал из деревянного бруска кухонным ножом. Все время с ним говорил на своем наречии, и Пацан, жадный до внимания, глотал слова, запоминал, старался говорить на наречии сам, и неплохо в этом преуспел. Он также пытался научить Шустрого наречию местных. Что-то Шустрый усваивал, но медленно и плохо.
В корзинке помещалось обычное – гречка, засоленная овощная дрянь, краюха хлеба. Раз в неделю бывала говядина, реже курятина. Как все южане, Шустрый испытывал страсть к вину, но как раз вина в хозяйстве не находилось. Вино было в барском доме, и Пацан сообщил Шустрому, что мог бы ради него украсть несколько бутылок из погреба, но Шустрый возмутился и объяснил, что красть нехорошо. А брага, которую иногда здесь пили, была отвратительна на вкус, да и голова от нее болела страшно после потребления.
Местные относились к подопечному Полянки (такое прозвище было у матери Пацана) насмешливо, но с пониманием. Мужа Полянки, отца Пацана, человека тяжелого нрава, имевшего привычку колотить жену и сына каждый второй день без особых причин, проезжие офицеры забрали с собой на позиции, да так и не вернули. И вот объявился Шустрый, и она его выходила да и приголубила – кто осудит безутешную вдову? Осуждали, конечно, но без особой злобы, слегка.
А когда оклемавшийся басурман представлен был Старосте и приглашен в дом на отшибе, тот самый, что повстречался ему первым по приходу в селение, то и вовсе осуждать перестали: с помощью жестов Шустрый объяснил Старосте, что следует дому и крышу чинить, а не соломой латать, и стены утеплять, и новую дверь ставить, и совершенно необязательно ждать лета, и все это он, Шустрый, умеет делать, и сделает. Старосте стало любопытно, и вскоре по селению пошел слух, что Шустрый – замечательный плотник, вернее даже не плотник, а самый настоящий столяр. Сбегались смотреть, как он работает. Обсуждали, дивились. Местный плотник был тоже хорош, но он до сих пор не вернулся с позиций, и никто не знал, вернется ли. Писем плотник не писал – грамоты не знал, и нужды особой, скорее всего, в барской этой забаве не находил.
В дом, где жила Полянка, давно уж, сразу по отбытию мужа на позиции, подселилась ее, Полянкина, кузина с хромым мужем и шумными вороватыми детьми, и Шустрый переезжать к ним не пожелал, остался в гранеро, в котором Полянка его выхаживала. Гранеро он починил, обустроил, надстроил и расширил, и по его просьбе в обмен на столярные работы печник сложил ему печь с дымоходом и красивой трубой. Хотел сложить без трубы, ради экономии дров, но Шустрый настоял, чтобы была труба, потому что топить по-черному – глупо, амичи, так и задохнуться недолго. «Как у всех»? Мало ли что. Нет уж, без трубы не согласен.
Иногда былые раны давали о себе знать, и Шустрый заваливался в своем перестроенном гранеро безвыходно на день-два – поспать, отдохнуть, набраться сил.
Вечерами приходила к нему Полянка, некрасивая толстая молодая женщина, мать Пацана, впустившая его, погибающего, погреться и поесть. В первую же ночь сняла она у него с шеи медальон с вражеским гербом и куда-то спрятала. Несколько дней спустя он потребовал медальон вернуть, и она послушно вернула.
Во всякой женщине есть что-то хорошее, это точно. Шустрый лежал на спине, а Полянка копошилась над ним, по-хозяйски усаживаясь, надеваясь на детородный орган, и некоторое время спустя с лица ее уходило хмурое выражение, лицо расслаблялось и начинало сиять, и становилось почти прекрасным – Шустрому нравилось, и он с увлечением ласкал крупные груди Полянки с крупными же ареолами, трогал напряженные соски, гладил и мял ей обнаженную жопу, обхватывал за талию, и вскоре Полянка забеременела.
Нотиция об этом дошла до самой Барыни. Полянку выпороли, потом еще раз выпороли, чтобы не огрызалась, и посадили на один день в армарио.
Крестить басурмана в правильную веру да и женить его на Полянке – дело вроде бы нехитрое, но сперва воспротивился Поп, враждебно к пришельцу настроенный, а потом Барыня вспомнила, что брак вольного басурмана с крепостной Полянкой не к ее выгоде. Женить-то их нужно, но не сразу, и подумавши, и соблюдя предосторожности.
Зима кончилась, начались работы и заботы, басурман проявлял себя с хорошей стороны, и столярничал в барском доме – Барыня кивала одобрительно, глядя на результаты работы – обновленные карнизы, стол для кухни, затем и для столовой, порожки, шкафчики – все умел Шустрый! С Барыней басурман объяснялся жестами и теми несколькими словами местного наречия, которые запомнил. Симпатичный парень, по-своему почтительный. Дело выгодное – вольный плотник работает задарма. Крышу и еду получает, об оплате не спрашивает.
Но долго это продолжаться не могло, так не бывает. Всем хочется основательности, определенности какой-нибудь. Так думал Шустрый, и также думала Барыня, стоя перед зеркалом в неглиже и обрызгивая женственные свои запястья парфюмом, доставленным ей с оказией из поверженной, но все еще не побежденной, империи, тирану и захватчику подвластной. Всякий раз во времена перемирий и обходных маневров, когда армия тирана посылала переговорщика в стан пронумерованной коалиции, в портмоне у него лежало несколько любовно упакованных пузырьков, которые затем передавались через старших офицеров курьерам, отвозившим пузырьки в соответствующие страны коалиции. Самый дорогой способ доставки, поскольку самый быстрый. Иные способы включали обход военных действий по дуге и занимали гораздо больше времени.
4. Художества
Как раз в это время в усадьбу заглянули выехавшие «в народ» представители столичной артистической богемы – Художник и Поэт. Такое в столице сделалось поветрие – выезды на природу для более близкого знакомства с народом, который так удачно ассистировал государю в общем деле выгона зарвавшегося разгромленного тирана с исконных территорий. Оба визитера вдохновлялись деревенским пейзажем и видом народа обоих полов. Художник рисовал красками на холсте понравившихся ему представителей сельской жизни, а Поэт все это описывал в торжественных стихах.
Барыня приезду богемы очень обрадовалась, поставила всю прислугу на уши, кормили деятелей искусства до отвала, стелили мягко. По вечерам Художник играл на стареньком клавикорде в гостиной, а Поэт танцевал с Барыней менуэты и польки. Если верить злой на язык прислуге, Барыня несколько раз охотно, со сладострастными стонами переспала с Поэтом, а Художник перелопатил огромное количество крестьянок – в бане, под кустом, на сеновале, в гранеро, в барском доме, на поляне в лесу.
Помимо крестьянок, ему понравилась также горничная Барыни по прозвищу Мышка. Художник заявил, что у нее лицо – точь-в-точь как у Святой Елизаветы, и сделал с нее в этой связи несколько эскизов, и пообещал один оставить ей (и не оставил). Во время сеансов научил он Мышку некоторым басурманским словам, похожим на те, что употреблял в объяснениях с местным людом Шустрый.
Как-то утром слегка похмельный Художник заглянул во двор к Шустрому и некоторое время, морщась, смотрел, как тот строгает, а потом заявил, что в нем, Шустром, что-то есть от древнеримского воина, и что это необходимо запечатлеть. Шустрый знаком показал, что не понимает. Тогда художник выразил тоже самое на наречии Шустрого. Тот не удивился – наречие его имело популярность во многих странах – пожал плечами и сказал, что шутка глупая. Художник возразил, сказал, что вовсе не шутит. Шустрый еще раз пожал плечами. Художник раззадорился, убежал, и вскоре вернулся, волоча мольберт, холст и краски. Скипидар он забыл, и пришлось одалживать у Шустрого.
Все остальные четыре дня он торчал у Шустрого, малюя портрет – в блестящих на солнце латах, с мечом (несколько раз он попросил Шустрого попозировать всерьез, и, стоя в гордой позе, Шустрый вместо меча держал в руке пилу. Сходились смотреть, но художник работал медленно, и проходил час-другой, а на холсте ничего нового вроде бы не появлялось, и все уходили разочарованные. Зато на следующее утро на том же холсте обнаруживалось много новых деталей, и все опять удивлялись и смотрели. Пару раз зашла и сама Барыня, тактично молчала, с восхищением следила за работой Художника.
Пацана Художник время от времени гонял – то за водой, то за съестным на барскую кухню. В ночь перед отъездом богема как-то особенно разгулялась и разбуянилась, так что даже Барыня побоялась принимать активное участие в веселье – Художник и Поэт плясали в обнимку на лугу, пили горячительные напитки не утруждаясь разливом их в стаканы, играли в прятки-обнималки с девками и бабами, прыгали через костры и заставляли прыгать других, стреляли из охотничьих мушкетов по бутылкам и горшкам, набили морду Старосте и подожгли его гранеро, который к счастью удалось быстро потушить, ушли в лес и там заблудились и уснули, пришли обратно утром, собрались и уехали на телеге в губернский город, оставив после себя недоумение и – в случае Барыни – ностальгическую грусть по веселым дням далекой беззаботной юности.
5. Женщины
Самой красивой бабой в селе была, безусловно, Ивушка, жена крепкого, зажиточного мужика по прозвищу Грибник. Замуж за него Ивушка вышла шестнадцати лет, ничего толком еще не соображая – Грибник посватался, родители согласились с радостью, белесую косу раздвоили. Временами лысый кряжистый Грибник колотил жену – не за провинности какие-нибудь, а впрок. Также, не любил он, когда на супругу его заглядываются посторонние, и чуть что – лез драться, особенно когда выпьет. Заглядываться перестали.
Работала Ивушка не меньше, а пожалуй что и больше других – исполнительная была, да и крепкая, несмотря на худобу – коромысла с полными ведрами таскала не сгибаясь и шаг широкий не замедляя.
Восемь лет как замужем, с тремя детьми, сохранила Ивушка свою красоту. Красота, впрочем, на любителя.
Белокурая, с широко расставленными синими глазами, с точеным носом, большим красивого рисунка ртом – это все хорошо, да. А вот тело ее очень женственным назвать было нельзя. Худая – в столице сказали бы «стройная» – чересчур – и гибкая – тоже чересчур, передвигалась она по поверхности так, будто сделана была из гибких прутьев, скрепленных хитрыми шарнирами. Некоторым нравится, но в сельской местности предпочитают округлых. Шустрый некоторое время к ней приглядывался. Она это заметила, и тут в ней, на двадцать пятом году жизни, проснулась женщина. Она стала следить за собою, прихорашиваться, тщательнее расчесываться, чаще мыться. Как-то однажды пришла она к Шустрому, чтобы тот ей коромысло починил, а коромысло принести забыла. Полянка была на работах, Пацан торчал, скорее всего, на речке. Шустрый стал целовать Ивушку, и постигло его разочарование.
Блондинке положено быть мягкой, гладкой, ласковой, податливой, и говорить томным грудным голосом. Данная блондинка стеснялась, чуралась, отстранялась, возражала стыдливо и пискляво, и несла такую хуйню несусветную, что Шустрый понял: в любовницы она не годится. Хлопот будет много, есть такие женщины, которые хлопоты создают из ничего на гладкой поверхности при солнечной погоде, а толку – толку почти никакого. Чего пришла, спрашивается, если теперь отталкиваешь? Кокетничать тоже нужно уметь. Связь, таким образом, закончилась не успев начаться.
А вот приземистая девка с толстыми лодыжками по прозвищу Ака-Бяка понравилась Шустрому как только к нему подошла и задела бедром – после вечерней службы, по пути к дому. Не задень она его – вполне намеренно – он бы на нее и внимания не обратил, мало ли некрасивых девок на свете. В селении ее считали шлюхой, и это было несправедливо: до Шустрого у нее было только два любовника, и при этом один из них – барин из соседней усадьбы. Об этом знали, но все равно считали шлюхой. Впрочем, осуждали ее не сильно, а так, зубоскалили, полагая, что если б не блядство, не бывать девке в объятиях мужских никогда, с такими-то лодыжками, с носом кривым, с ноздрями вечно красноватыми, будто у нее все время насморк, с голосом постоянно простуженным, и с ушами оттопыренными.
А было так:
Молодой соседский барин задержался на охоте, время позднее, холод собачий. Постучался барин в усадьбу. Барыне он сразу понравился. Барин залпом выпил стакан горячительного напитка, и отправили его в баню, дабы предупредить простуду. Тревожить прислугу барыня не захотела, а Ака-Бяка как раз болталась под ногами – замещала заболевшую, лежащую в жару, горничную Мышку, не знавшую еще в то время никаких басурманских слов. Отправили Аку-Бяку баню топить. Натопила, а сама в предбаннике уселась передохнуть. Ноженьки свои внушительные на скамью водрузила, прикорнула, задремала. Пришел молодой барин, помылся, попарился, разбудил Аку-Бяку, попросил ему спину потереть. В свете печи не очень разглядел, какая она – красотою ли блещет невиданной, или уродина, хоть в лес от нее беги. Стал ласкать и целовать, а ей понравилось, да так понравилось, что стала она от восторга кричать в голос. Барыня, перед распахнутым окном в гостевой спальне, собственноручно готовившая гостю белье и халат, крики Бякины услышала, да и рассердилась. На другой день Аку-Бяку выпороли, конечно же, а через два дня приехал молодой барин в гости. Барыня, наедине с ним оставшись, объяснила ему, что, мол, негоже ему, дворянину, чужих крепостных девок лопатить почем зря. Осознав свою вину, попросив нижайше прощения, барин провел ночь с Барыней, и стал наезжать по два раза в неделю, на Аку-Бяку больше не смотрел, а потом, когда явился на земли государевы басурманский тиран с войском в целях подчинения бывшего союзника, то и ушел молодой барин с тираном воевать, и до сих пор воюет победоносно, славою себя и государя покрывая.
А второй мужчина в жизни Аки-Бяки был мельник, женатый, с пятью детьми. Жена мельника, баба здоровенная, на голову его самого выше, прознала и устроила мужу разнос, как полагается, с метанием утвари в голову. Дошло до Барыни, не любившей чрезмерного разврата, и вызвали участников в барский дом на суд. Позвали Попа. Поп бушевал, обзывал всех страшными библейскими терминами, и уверял, что не допустит и не будет попутствовать. Барыня намеревалась уж Аку-Бяку продать, мельника наказать, но вступилась жена мельника. Стоя посреди горницы, возвышаясь надо всеми, руки на груди скрестимши, сказала она, что вообще не понимает, почему и зачем все так разгорячились.
Ее заверили, что все к ее же выгоде, к чистоте ее семейных уз.
Она спросила, каких еще уз, чего на девку-то несчастную накинулись?
А она у тебя мужа увести хочет!
Жена рассмеялась, а потом заверила всех, что не позволит возводить поклеп на слабых.
Ей напомнили, что Ака-Бяка спала с ее мужем – на мельнице, в бане, на сеновале.
Жена ответила, что ничего этого не знает, и знать не хочет. Что муж у нее – честный работник, оброк платит всегда в срок, с детьми ласков, ее саму никогда ласки не лишает, подарки дарит, цветы полевые собирает в букеты, платье ей новое из города недавно привез. И что ежели у нее муж красивый да видный, то вовсе не значит сие, что его во грехах подозревать следует – а подозревают только из зависти. И что безответных несчастных девок, коих не наградил Господь красотою, нельзя обижать – грех это! И что ежели некоторые высокопоставленные лица, здесь не присутствующие, возжелали вдруг свести с несчастной девкой старые счеты, то вовсе сие не означает, что все должны под ревностную дуду упомянутых высокопоставленных лиц плясать, сиськами потрясая.
Оборотились к мельнику, а тот, вдохновленный жениным примером, сказал, что к мельникам с древних еще времен неприязнь – совершенно незаслуженная. Он, мельник, не колдун, не тать, не сводник, а добрый христианин. Ему заметили, что ходя по незамужним девкам, он обижает таким образом жену, причиняет ей суффранс. На что мельник возразил, что с они с женою как-нибудь сами выяснят, промежду собою, кто чего причиняет и учиняет, и что дела семейные никого касаться не должны. И добавил, что Ака-Бяка, сирота несчастная, никакие семьи разрушать не собиралась и не собирается, а если принимает от него, мельника, подарки и гостинцы, то это еще не повод считать, что она блядища отпетая, а просто ей все завидуют и из зависти своей черной хотят девку несчастную уморить – так вот не бывать этому. И, ежели на то пошло, он ее, Аку-Бяку, в дом пустит как если бы она ему дочерью родной приходилась. Все посмотрели на жену мельника, а та, голову гордо подняв, сказала, что сама же это первая мельнику и предложила, и нет тут никаких поводов к зубоскальству.
По предположениям соседей, позже, дома, жена устроила мельнику очередной разнос, чтобы впредь думал, что говорит – она ему покажет пускать всяких шлюх в дом, что это еще за блажь такая, за такую блажь можно и какабусом по кумполу.
А потом появился в селении Шустрый, и как только окреп, помылся, приоделся, стал столярничать и на людях показываться, так Ака-Бяка на него глаз и положила.
И стал сеновал свидетелем утех Аки-Бяки с басурманом. Завораживающе действовало на Аку-Бяку басурманово наречие: ни слова не понимала она из того, что он ей говорит, но волшебной музыкой звучала речь его, и ей казалось, что он ей рассказывает про дальние страны, где живут веселые и добрые зажиточные люди, про невиданные горы с сахарно-снежными шапками на вершинах и шумные леса, про теплые величественные реки, высокие терема с утепленными стенами и наружным выводом дыма, хороводы на цветастых лужайках, живописные узорчатые кареты, запряженные белыми скакунами цугом, бархат и атлас. И что непременно когда-нибудь он ее туда увезет и все это ей подетально покажет.
6. Свинина по-самсотосски
Где находится губернский город Шустрому объяснил Пацан, и спросил, зачем ему это нужно.
– Любопытный я, – сказал Шустрый. – Хочу посмотреть, что там к чему. Поедешь со мною?
– Мне позволено?
– Со мной позволено.
Утром привезли недельную почту, и Шустрый через Пацана объяснил Почтарю, что хочет посмотреть на город. Почтарь некоторые время разглядывал Шустрого, а затем пожал плечами и согласился. Более того, оказалось, что он даже знаком в немалой степени с наречием столяра, и может на наречии этом выражать некоторые свои мысли. Крестьяне часто снаряжали в город телеги – и продавать, и покупать ездили, но телега едва ползет, а Почтарь на легком своем шариоте с рессорами, фонариком слева и бубенчиками под дугой, ездил очень быстро, прохожие только и успевали в стороны шарахаться и ругаться с досады.
Пацана брать с собою Почтарь не хотел, но Шустрый сказал:
– Он меня сопровождает. Ничего не испортит и не сломает. Я за него ответствую.
Почтарь странно посмотрел на Шустрого и ничего не сказал. Забрались в шариот и поехали.
До города добрались часа за два. Шустрый поблагодарил Почтаря и сказал, что в следующий раз непременно ему заплатит. Почтарь отмахнулся, забрался опять в свой шариот, кнутом щелкнул, и быстро уехал, звеня бубенцами.
Пацан порасспрашивал по настоянию Шустрого встречных, выбирая тех, которые были одеты почище. Не все хотели отвечать, некоторые ругались и отмахивались, бабы прятали глаза и спешили мимо, но попался наконец человек, который не стеснялся и повел себя порядочно, и вскоре выяснилось, что ремесленники живут на двух примыкающих друг к другу пыльных рю.
Последние быстро отыскались. Из открытых дверей и окон соответствующего дома доносился грохот, скрежет, и характерное фить-ххх, фить-ххх – шум, производимый молотками, рашпилями, рубанками и пилами. По соседству имелась и кузня – не такая, как у Барыни в хозяйстве, кривая-косая, только гвозди для забора ковать, а основательная. Немного постояв перед домом, где обитали и работали столяры, Шустрый решил, что здесь и без него справляются.
Пацану решительно всё было интересно, он смотрел во все глаза, и особенно ему понравился вышедший на улицу глотнуть свежего воздуха столяр – в необычной одежде, сшитой как будто из одного куска материи, в фартуке и роскошных «городских» сапогах.
Шустрый потащил Пацана дальше. Улица уперлась в относительно широкую, местами мощёную, магистраль, с каменными домами, каретами, каменной церквой с высокой колокольней и золотым крестом, и красиво одетыми барами и барынями. У Пацана округлились глаза.
– Ты здесь никогда не бывал? – спросил Шустрый.
– Нет, никогда.
Они шли по магистрали, Шустрый держал Пацана за руку, чтобы тот не зазевался и не потерялся, и внимательно смотрел по сторонам. Показалось слева по ходу заведение – с вывеской, как положено, с небольшим столиком на улице для особо почетных гостей – по случаю теплой погоды. У входа стоял человек в безупречном фраке и высоком цилиндре, длинный, худой, с продолговатым лицом и темными с проседью волосами. Шустрый безошибочно определил, что это как раз и есть тот, кто ему нужен: Ресторатор. Он остановился на почтительном расстоянии и придержал Пацана.
– Спроси у него, нужны ли ему работники какие-нибудь. Починить, почистить, помыть.
Ресторатор повернулся к ним и посмотрел непонимающе.
– Ваша милость, – начал было Пацан, но хозяин его перебил, обратясь напрямую к Шустрому:
– Простите, сударь, вы не из тех самых ли весей, которые в данный момент здесь не принято упоминать в беседе?
Сказал он это на наречии Шустрого. Не очень правильно, ломано, но отчетливо, и без иронии. Шустрый кивнул.
– Не смею надеяться, – сказал Ресторатор, наклоняя голову влево. – Вы умеете готовить?
Шустрый слегка удивился, поправил одолженный у Старосты «выходной» сюртук, и ответил:
– Да, умею.
– Что именно вы умеете готовить? Вы южанин?
– Да.
– Ну так что ж?
Шустрый сообразил наконец, что Ресторатор – северо-восточный сосед. В голове возникло привычное с детства «везде успеют, сидели бы, суки, дома, жевали бы свою капусту, запивали пивом…», но он уже говорил:
– Утку блуазье, с опавными мирошами. Эскалоп сансуси фру-фру, цыпленка ургольского лизю, свинину по-самсотосски, гуся…
– Благодарю, спасибо, – сказал Ресторатор. – Вы … хмм … не могли бы … продемонстрировать?
– Отчего ж, – сказал Шустрый, немного подумав. – Мог бы.
– Прямо сейчас?
– Можно и сейчас.
– А парнишка пускай на улице подождет.
– Нет, уж это лишнее, парнишка пойдет со мною.
– Ну, хорошо.
Они прошли внутрь заведения. Ресторатор объяснял:
– Повар мой заболел, или застрелился, я не знаю точно, но его уж третий день как нет. Посылали к нему домой, там никого. Поварята стараются, как могут, их у меня двое, я тоже стараюсь, но все по заготовкам, а заготовки кончились. Я растеряю клиентов. Свежие продукты только что привезли – хорошо ли будет, если они испортятся? Или мы их испортим, пробуя из них приготовить – ну, скажем, того же упомянутого вами цыпленка лизю? Шайсе! Цыплята первосортные, зелень тоже, а вот поди ж ты…
Никогда поварским искусством не занимался Шустрый профессионально, но готовить любил – по славным традициям городка и региона, в которых на свет выпростался. По большим праздникам мужчины женщин в кухню не пускали. И Шустрый считался хорошим поваром, с выдумкой.
На кухне оказалось чисто, просторно, вот только что не очень светло – окно под самым потолком, но это, амичи, не страшно, с мелочами свыкаешься. Один неумеха-поваренок сидел на стуле, подперев подбородок кулаком. Второй копошился в углу, переставляя с места на место утварь. Увидев Ресторатора, поварята вскочили и вытянулись – чувствовалась школа северо-восточных соседей, у них дисциплина всегда на первом месте.
– Вот новый повар, – сказал Ресторатор.
Поварята поклонились новому повару.
С уткой, понятное дело, любой деревенский тротель совладает – сельдерей, оньон, соль да перец, да шапелюр не скупясь – насадил на брошетт, водрузил над огнем, и знай себе поворачивай (Шустрый показал Пацану, как нужно поворачивать, и Пацан с энтузиазмом взялся за эту работу, да так лихо, что его пришлось останавливать и объяснять, что вертеть нужно помедленнее и равномерно – это скучно, зато потом вкусно и не выпорют розгами). А вот хороший соус из средств подручных капабелен приготовить лишь жантийом вдумчивый и изобретательный, точных пропорций не знающий принципиально, а подбирающий ингредиенты, повинуясь лишь наитию – то того добавить, то этого.
Знаменитые крутым нравом баски, естественные исторические враги всего прибрежного люда, готовят на палубах своих дурацких прогнивших посудин соусы, подходящие ко всему – хоть к рыбе, хоть к дичи – не от недостатка воображения, а от того, что жизнь басков, что на море, что на суше, полна событиями, требующими постоянного действенного участия, нет времени посидеть, подумать, поэкспериментировать. Люди же сухопутные веками пробуют, меняют что-то, добавляют, убирают, и много времени проводят в сравнительных раздумиях. Но, конечно же, добрый соус всегда начинается с редукции, без редукции никуда, это даже безмозглые баски знают!
Шустрый выбрал из ряда отполированных до ослепительного блеска какабусов средних размеров посудину с двумя ручками и бесцеремонно водрузил ее на треножник над горящими углями. Сверкнул прекрасный (отдадим должное северо-восточным соседям, они все делают на славу), бритвенной остроты, нож, и на деревянном шнайдебретте замелькали эстрагонная полынь, головки шалота, тот же сельдерей, томат, и неизвестно откуда взявшиеся в этих весях агаричи биспори. Все это полетело в какабус, и залилось белым вином, и сверху прикрылось топфдекёлем. Шустрый оставил щель, чтобы было куда выходить лишней отработанной влаге.
Затем стал он приглядываться: какие еще продукты имеются в хозяйстве? И обнаружил много интересного – и поросенка, и цыплят, и куропаток. Разного вида овощей были целые горы! Просоленная треска его озадачила. Он подозвал Ресторатора.
– Это откуда? – спросил Шустрый.
– Это треска.
– Я вижу, что треска, а взялась она откуда?
– Не понимаю.
– До ближайшего океана многие недели пути. Сама не приползла, а везти ее летом, когда тепло, на такие расстояния – это как же?
– Поставщик, похоже, сам их разводит, в садке. Я так предполагаю.
Шустрый не поверил, треску оставил в покое, и вернулся к приготовлению блюд из цыплят, куропаток, и поросенка. Можно было сделать рагу из зайца, подходящие приспособления имелись в наличии, но блюдо это, если его правильно готовить, требует двух, а то и трех дней заведомых действий, за три часа не управишься.
Меж тем лишняя влага выпарилась из какабуса, а сам какабус, снятый с огня одним из поварят, успел остыть. Отделив желток от белка в дюжине яиц и погрузив их в керамическую кёсьроль, Шустрый добавил туда смору, и еще смору, и велел одному из запыхавшихся от приглядывания за четырьмя блюдами поварят мешать, пока смесь не превратиться в эмульсию. Все это затем вылили в какабус и вернули на раскаленные угли. Получившийся вскоре после этого, готовый к употреблению соус был подан на конце спатулы Ресторатору. Тот опешил и слегка отстранился – не привык к такому обращению. Северяне чопорны, южане проще.
– Попробуйте, – сказал Шустрый.
Ресторатор осторожно взял спатулу из рук Шустрого и попробовал. Глаза его увлажнились, рот растянулся в улыбку восхищенную. Аккуратно положив спатулу на дубовый стол, заставленный плошками, он взял Шустрого за плечи, придвинул к себе, и крепко обнял. Уж это было лишнее. Северо-восточные соседи, несмотря на чопорность, сентиментальны до неприличия.
Пацан был так поражен сценой, что перестал даже вертеть утку. Шустрый, не освободясь еще от объятий, махнул свободной рукой и сказал:
– Э! Э! Не прерывай процесс, жопа.
К открытию – трем часам пополудни – были готовы и утка, и дичь. Пацану выданы были рубаха, портки, и сапоги как у поварят, только меньше размером, а Шустрый получил в подарок от Ресторатора целый гардероб – и тут же облюбовал красивую вышитую рубаху, добротные панталоны, мягкие башмаки, и фартук, чтобы не запачкать пузо. Появились красиво, чуть вычурно, одетые первые посетители, последовали заказы, полилось охлажденное белое вино, и вскоре посыпались из зала восхищенные возгласы. И продолжились.
Ресторатор смекнул, что день-два, и по городу – в соответствии с малыми его размерами – разнесется слух о невиданных кушаниях в его заведении. Поварятам было велено привести еще и своих братьев, можно даже троюродных, штуки по две каждый. Ближе к закату Шустрый снял фартук и объявил, что остальное поварята управятся разогреть и подать сами; а ему, Шустрому, следует заплатить за труды. Ресторатор, соединив тевтонские свои руки за спиной, встал перед Шустрым и сказал, что хочет нанять его на постоянной основе.
– Четыре дня в неделю, – сказал Шустрый. – В остальное время поварята пусть сами стараются, благо заготовки им будут предоставлены и метода разъяснена.
– Да, конечно, дорогой друг, – сразу согласился Ресторатор, а Шустрый мрачно улыбнулся фразе печально знакомой. – Я буду вам платить … ну, скажем, четыре денария в неделю!
Шустрый не знал почти ничего о покупной способности местной валюты, но неожиданно Пацан пришел ему на помощь, встав рядом и сказав:
– Семь.
– Семь? – удивился Ресторатор. – Что – семь?
Пацан подтвердил:
– Семь денариев. И мне пятьдесят две унции с денежкой.
Ресторатор посмотрел на Шустрого, и Шустрый кивнул.
– Шесть, – сказал Ресторатор.
– Семь, – уперся Пацан, и Шустрый ему вторил:
– Семь. И пятьдесят две унции ему.
– С денежкой, – напомнил Пацан.
Ресторатор согласился.
– Деньги вперед, – заявил практичный Пацан.
Ресторатор и тут не возражал.
Его спросили о транспортных средствах. Оказалось, что за совсем небольшую мзду новый повар и его подопечный могут нанять гиг с нестарым еще, бодрым фердом, хозяин живет в четырех кварталах. Шустрый не ожидал, что все сложится так удачно в первую же поездку в город.
Глубоким вечером восхищенный Пацан рассказывал Полянке о приключениях дня, сыпя басурманскими словами. Полянка гладила разбухшее свое плодосодержащее пузо, мало что понимала, и выглядела растерянной. Не верить она не могла – гиг, запряженный фердом с недовольными глазами и подрезанным хвостом, стоял перед домом, Шустрый возился с упряжью и кормил ферда овсом из ведерка, которого ранее в хозяйстве не было.
С этого момента Полянка прониклась совершеннейшим к Шустрому благоговением. Демиург был для нее Шустрый, античный герой, умеющий всё, знающий всё, говорящий на красивом наречии, сам красивый до невозможности (это было не так, но таким он ей казался). Она гордилась тем, что он с нею живет, ласкает ее по ночам, говорит нежные слова, и даже готовит ей неслыханной вкусноты блюда раз от разу. И что за жизнь у других женщин, у которых нет своего Шустрого – морока, а не жизнь, тоска и скука. Букет ромашек, бусы, браслет, платье – заботливый Шустрый, предупредительный Шустрый, Шустрый-мечта. Не спит ли Полянка? Она носит под сердцем его ребенка – как ей повезло! Несказанно! Иным вечером, украдкой, когда Шустрый спал, уткнув рыжую свою щегольскую бородку в стену, вставала Полянка, отходила в угол, и там тихо благодарила Всевышнего за то, что повстречался Шустрый ей на пути, и из всех женщин, которых мог выбрать – а выбрать он мог любую – выбрал для сожительства именно ее, Полянку!
Наверное я красивая, думала она с сомнением. Может он видит во мне такое, чего другим не разглядеть. А что? Грудь у меня очень даже ничего, хоть и отвислая. Ноги толстоваты и кривоваты, но когда я, например, лежу на спине, чуть приподняв одно колено, они кажутся привлекательными. Кожа у меня нежная. Пальцы красивые.
Пальцы у Полянки действительно были красивые, не испорченные еще работой и заботами.
Об отлучках Шустрого и Пацана в город вскоре прознал Староста, живший с женою и сыном на отшибе, отдельно от всех, ибо негоже старосте соседствовать с отребьем. И пришел Староста к Шустрому побеседовать о справедливости. Состояла она, справедливость, в том, что часть дохода следовало отдавать через Старосту в пользу барского сундука, ибо живет Шустрый на барской земле. Шустрый запротестовал было, но сметливый Пацан предупредил прения, предложив лично Старосте двадцать унций в неделю, если тот никому ничего не будет более говорить, а если заинтересовавшиеся поселяне вздумают болтать лишнее в присутствии вхожих к Барыне, их будут по приказу Старосты пороть нещадно. Староста почесал сперва под мышкой, потом в затылке, поморщился, да и согласился. Шустрый уловил суть дебатов, и спросил потом Пацана, из каких, собственно, фондов он, Пацан, собирается еженедельно подносить Старосте взятку, на что Пацан резонно ответил, что грех пополам, десять унций с него, Пацана, и десять же унций с Шустрого.
– Что будет, если узнает Барыня? – спросил Шустрый.
– Придется платить ей, больше. А пока она не узнала, будем платить Старосте, меньше.
Резон. Шустрый все же подумал, что не улавливает чего-то очень важного в отношениях хозяйки и ее батраков и работников.
Ну вот к примеру, он сам не батрак, не сезонный работник, в поле не ходит, а ремесленник – ему полагается плата за выполняемую столярную работу, сдельная ли, подневная ли, в конце каждой недели, чтобы поехать после посещения церкви в город и там выпить и погулять, как это принято, наверное, во всем мире. Но до сих пор еще ему ни разу не заплатили. Еда есть, крыша есть – а сколько за все это вычитают из его платы – и каких размеров плата, и когда она будет ему вручена – он не знал, а спрашивать опасался. Все-таки он не местный, со стороны пришел. Ну, может, когда сезонные работы кончатся и всех рассчитают, тогда, наверное, и ему заплатят, и можно будет опротестовать, если недодали – наверное так? Или не так? Он спрашивал об этом Пацана, но Пацан отвечал странно, не совсем понимал вопрос – в общем, не знал сам.
7. О браке
Полянка вошла в барский дом, голову повесив. Именем, данным ей при крещении, ее давно никто не называл. Полянка и Полянка, хотя ничего особенно коровьего в ней не было – уж и не помнил никто, почему именно ее так назвали – видимо, что-то в детстве было такое, пошутил кто-то.
Барыня ждала ее в гостиной, сидя в кресле с кофейной чашкой в руке. Сквозь открытое окно, помимо света, в гостиную поступал волнами воздух, переполненный запахами деревенского утра, которые Барыня ненавидела, но терпела и не срывала недовольство свое на других, считая такое поведение ниже своего достоинства. Была она худая, энергическая женщина с большими глазами и темными с проседью волосами. Замуж вышла в столице, сына родила там же, но муж вдруг вбил себе в голову, что нужно пожить на родной земле.
Барыня говорила ему, что это глупо: какая еще родная земля, когда имение пожаловано было отцу мужа в то время, когда муж, взрослый уже, уехал на обучение за границу, а вернувшись, обнаружил, что он сын помещика – но он настоял на своем. После переезда произошли события, в результате которых пришлось отказаться от многого – в том числе и от квартиры в столице, после чего сделалась вдруг неизвестно зачем эта дурная война, и муж с сыном, сказав множество патриотических фраз, отправились на позиции, а самой Барыне пришлось многое скрывать. Муж погиб, а сын должен был вот-вот вернуться.
Уж десять лет жила барыня на якобы родной земле мужа, и даже вела хозяйство, потому что больше было некому – муж оказался мечтательный, и нужно было как-то выживать, пока пронырливые люди все не разворовали и всех не облапошили, а крепостные не обнаглели до самого распоследнего лимиту. Имение не процветало, но и не увядало, перебивалось как-то. Оброк платили исправно даже когда началась дурацкая война.
Полянка с виноватым лицом встала перед Барыней, глаза долу, руки впереди на бедрах, ноги вместе.
– Отлежалась? – спросила Барыня. – Отъелась? Как Малышка поживает?
– Хорошо, Барыня.
– Крепкая Малышка-то?
– Крепкая, Барыня.
– А басурман твой что же?
Полянка не поняла вопроса.
– Ты смотри, Полянка. Все это весьма подозрительно. Такая ты вся разнесчастная, замуж никто не хотел брать даже по моему высокому пожеланию, Староста, дурак, только рукой махал – кому она, Полянка, нужна, будто девок мало кругом, которые и краше и умнее. И вдруг – вышла, да сразу и родила. А муж на войну, а там его из пушки бах. Казалось бы, с твоей-то рожей, жить тебе вдовой до скончания веку, с одним мальцом. А тут вдруг подворачивается басурман. И выбирает из всех баб именно тебя. Чем ты его приголубила? Как окрутила?
Полянка молчала. Не хотела говорить, что Шустрый видит в ней то, чего не видят другие, про груди и про ноги, и так далее.
– Ну, хорошо, положим, тебе просто повезло, Полянка. Но как же ты, не спросясь, не обвенчавшись … Ведь это, мать моя, блуд, а? Скажи, Полянка, блуд это?
– Блуд, Барыня, – согласилась Полянка.
– Вот я же и говорю, что блуд. Мне уж и мужики жаловались на тебя, а не только что бабы, да и Поп недоволен. И ведь правы. Правы, а?
Полянка опять промолчала.
– И вот порешила я, что сейчас самое время вам с басурманом обвенчаться. Не жить же во грехе дальше, у меня ведь тут не вертеп. Пусть его крестят в настоящую веру, а после совет вам да любовь. Ты видишь – я не злая, не деспотичная, я очень даже в душе терпима ко всем вам, дуракам и дурам. Да и детей твоих жалко. Что басурман твой, скоро ли научится по-нашему говорить? Ты его учи!
– Немного научился.
– Немного, да.
– Он работает все время, Барыня.
– Столяр он хороший, это я знаю. Вон, видишь, какие шкафчики настенные мне соорудил? Почти как в столице. И крыльцо мне как починил – а перила какие придумал, а? Но нельзя во грехе, нельзя. Зови его сюда, зови, я с ним говорить буду.
– А он…
– Рот закрой и марш за басурманом!
Полянка вышла. Барыня налила себе в чашку свежего кофе: любила делать это сама, по старой привычке, не обращаясь к прислуге. Надев очки, стала она читать начатую вчера статью в газете. Газеты ей доставляли в неделю раз, специальной почтой – она любила их с юности, удовольствие получала от чтения, хотя в большинстве случаев почти сразу забывала, о чем было написано. К ее сожалению, в те дни в газетах о театре писали мало, а Барыня особенно любила читать именно о театре.
Автор статьи рассказывал о славных боях, даваемых отважной справедливой пронумерованной коалицией разгромленному в прах деспоту.
Ему, деспоту, постоянно давали бои, а он, разгромленный, все отбивался, и даже иногда, полагала Барыня, переходил в наступление – поскольку если бы он все время отступал, то бои отодвигались бы вместе с ним к западу, но время от времени бывало так, что в газете ничего не сообщали о боях, или пересказывали сведения о более ранних, а потом вдруг новый бой – восточнее, чем предыдущий. В общем, не желал повергаться деспот. Ну, хоть вот из страны его выперли, да сын жив остался – и то хорошо, думала Барыня, уверенная, что не чувствует особой грусти по поводу потери мужа и отсутствия вестей от любовника только в силу твердого своего характера.
Шустрый вошел, чуть прихрамывая, в гостиную, остановился и молча стал смотреть на левое ухо барыни. Она подняла голову. Он сказал:
– Добрый день, сударыня.
Она сердито что-то ответила на местном наречии. Шустрый сделал вид, что понимает, и коротко поклонился. Одет он был как местные – в длинную рубаху, повязанную на талии веревкой, коротковатые портки. Ноги босые по случаю теплой погоды – вперся без сапог в гостиную, негодяй. Сюртук надеть тоже поленился. Волосы отросли, и усы с бородой тоже. Рыжеватый блондин, крепкий, среднего роста.
Барыня еще немного поговорила сердито, а потом перешла на более резонный тон – будто к равному обращалась. Знакомо: когда вышестоящие обращаются к тебе, как к равному, это значит, что тебя хотят использовать в каких-то своих целях. Не обязательно корыстных, но без учета твоих собственных нужд. Шустрый нахмурился, потом чуть улыбнулся, и сказал вежливо:
– Не понимаю я, что вы мне говорите, сударыня.
Она опять рассердилась и даже чуть повысила голос.
Домой Шустрый вернулся в плохом настроении. Бывший гранеро, расширенный, с двумя пристройками, с дощатым полом и чердаком – выглядел неплохо по местным стандартам, и это несмотря на то, что перестраивал его Шустрый почти без посторонней помощи. Пацан иногда помогал. Староста выделил ему было каких-то неумех, которые часто отлынивали и старались все делать медленно и плохо, а часть инвентаря унести с собою с целью его продажи впоследствии. Соседям дом Шустрого нравился, некоторые даже восхищались – эффектно получилось, и добротно, кто бы мог подумать, что из какого-то гранеро сраного – и так далее. Дом вольного ремесленника.
Войдя в завидный свой дом, Шустрый перво-наперво спросил Полянку:
– Как Малышка?
Полянка ответила:
– Хорошо, сытая, спит.
Она научилась за время сожительства с Шустрым изъясняться на его наречии – нескладно, сбивчиво, путаясь в словах, но он ее понимал.
– А Пацан где?
– Ушел на море.
– Какое море?
– На реку.
– Ясно. Чего от меня хочет Барыня?
Полянка отвела глаза, а потом и вовсе повернулась к нему боком, глядя в одну точку. У нее были плохие манеры, как и у всех здесь, впрочем, кроме Барыни.
– Полянка, отвечай, чего хочет Барыня.
Полянка молчала. Редко, но с нею такое бывало – молчит и молчит. А дело-то небось важное! Потеряв терпение, Шустрый подошел к ней, схватил за волосы, и хлопнул по щеке. Полянка зажмурилась, подвыла, заревела, и сказала:
– Барыня хочет, чтобы ты женился.
– На ком? На ней?
Полянка не поняла и продолжала реветь.
– Женился – на ком? Чтобы я женился … а! на тебе, что ли? Женился на тебе?
Она все плакала, и это раздражало. Хотелось определенности. Он еще раз хлопнул ее по щеке, и тогда она наконец сказала:
– Да.
Он отпустил ее, потом погладил по голове, потом еще погладил.
– Ну так я, пожалуй, женюсь.
Полянка еще два раза всхлипнула, затихла, и посмотрела на него.
– Женюсь?
– Я женюсь. На тебе. Раз уж Барыня так этого хочет, – добавил он, но Полянка не уловила иронии и посмотрела на него странно. – Женюсь. А то действительно, живем с мы тобой во грехе, что же тут хорошего.
– Ты … – сказала Полянка и остановилась, ища нужное слово. И не нашла.
– Я. Что я?
– Тебе нужно идти в церковь.
– Сейчас еще не время, до вечерней службы далеко.
– Нет, не идти в церковь, а…
Шустрый понял. В детстве его двоюродный дядя женился на женщине из соседней страны. В соседних странах по-другому крестят. Нужно креститься заново. Иначе нельзя жениться. Почему-то все считают, что это правильно, и что так угодно Господу. Будто, знаете ли, амичи, у Господа дел других нет, как только следить внимательно – не собрался ли кто жениться на бабе из другой страны? И ежели собрался, то крестился ли он снова, или же вовсе нет? И если нет, то непременно сразу лично идет понижать расценки и повышать тарифы.
Шустрый посмотрел на Полянку. Ей-то как раз все равно, кто какой веры. Следовательно, пожелание исходит от вышестоящих – от самой Барыни.
В дом вбежал Пацан, увидел Шустрого, обрадовался, и сказал:
– Я вот такого сома только что видел! – и показал руками, какого. – Блядский бордель, землерои на берегу кричали, спорили, что такого большого никогда раньше не было. Маман сегодня с утра злая была, и по дому бегала, будто у нее пушка в жопе. Что сегодня на ужин? Вот ебаное говно, я коленку как рассадил!
И показал коленку.
– На ужин сегодня получение тобой пятнадцати плетей за хамство, – механически отозвался Шустрый, думая о своем. – Не смей обижать мать…
– Я не обижаю, я из любви чистой, – заверил его Пацан.
И обратился к матери на наречии местных. Та, оживившаяся и переполненная надеждой, ответила что-то скандальным голосом. Пацан слегка обиделся, и тоже что-то ей сказал скандальным голосом. Шустрый пытался вникнуть в суть перебранки. Замелькали знакомые слова вперемешку с незнакомыми.
– Не цепляйся ко мне, дура! Блядский бордель! – кричал Пацан.
– Как ты смеешь так говорить с матерью, орясина! – кричала Полянка.
Шустрый уловил, что, по мнению Полянки, Пацан рожден ей на сущую погибель, а Пацан не соглашался, и говорил, что ничего плохого не делает, а она к нему все время цепляется, как вонючая пиявка. Что-то в этом роде. Никакого отношения к браку и крещению в иную веру разговор не имел.
Ужин Шустрый приготовил сам – курица, приправленная травами и луком, с гречкой. Суп он в этот раз варить отказался, хотя Пацан очень любил суп. Полянка кормила Малышку в уголке пышной своей грудью, напевая какую-то песенку, когда в дом без стука вбежал знакомый Пастух и что-то прокричал восторженно. Шустрый посмотрел на Пацана, и Пацан объяснил:
– Сын Барыни с войны вернулся. Все бегут к крыльцу. Можно я тоже побегу?
– Побеги.
8. Барин приехал
Наутро Сынок проснулся с легкой головной болью, вскочил с постели, помычал немного, подержался за голову, и пошел к умывальнику. В усадьбе ходили, бегали, переговаривались. Сынок быстро умылся, оделся и направился в столовую, где его уже ждала свежая, радостная Барыня.
– Садись, садись, сейчас тебе будет кофий, – сказала она жуайельно, и потрепала его по голове, а он поморщился. Тогда она его поцеловала в щеку, а он прикрыл глаза. – Что, голова болит? Ну, не грех, не грех! Нужно же было тебе вчера выпить на радостях, да и мне тоже! Какой ты у меня красивый, а? Как из сказки.
– Сказка есть ложь и поклёп, – сказал Сынок. – А у тебя, мутер, и кофий в хозяйстве водится? А то я думал, вы здесь лишь квасом пробавляетесь, в патриотизме тыловом погрязши. А что это у нас Поп делает с утра пораньше? Это что же, порядок у тебя тут такой – Поп за тобой заходит, чтобы на службу вести? Остроумно. Эй, Поп, по жопе хлоп, что вы тут торчите, скажите на милость?
– Не паясничай, служба позже, – сказала Барыня. – Он тут по другому совсем делу. Несуразица вышла, как бы брожение умов не началось. Я тебе вчера не рассказала? Я уж не помню.
– Нет, ничего такого не говорила. Брожение умов?
Барыня не знала, можно ли говорить об этом сыну – что в собственном имении пригрели вражеского мужчину. Как-то он это воспримет? Отец погиб, сам Сынок натерпелся, а тут вдруг вон чего. Рассердится? Выгонит? Шустрого гнать незачем, он хороший парень. А неудобно как-то. Не говоря уж о том, что … впрочем, об этом действительно лучше не надо…
– Понимаешь, – сказала она, – тут к нам…
– Заявляем тебе со всею строгостию, Барыня, – возвысил голос Поп, подходя. – Басурмана я крестить не буду! Пусть отправляется в ад, где ему и положено вечность коротать! Причуды твои, Барыня, хороши, когда невинны оне. Мы супротив невинных твоих причуд ничего ровно не имеем, и согласны со всем нашим обхождением их терпеть. Но – крестить басурмана?! Это – уж нет, прости, ежели что не так. Здравствуй, молодой барин.
Подбежала служанка, подала Сынку чашку с кофием. Сынок отпил глоток, поморщился, еще отпил, и спросил:
– Что за басурман? Ничего не понимаю. Вы тут все обезумели. Что жизнь в провинции с людьми-то делает!
Барыня начала объяснять, что вот, пришел голодный, промерзший…
– А, ну так что же? – удивился Сынок. – Зачем его крестить? Он и так крещеный. Разве что из арабов каких-нибудь, или турок? А может иудей?
– Нет, не из арабов, – Барыня покачала головой. – Полянку он обрюхатил.
– Опять ничего не понимаю. Какую Полянку?
– Баба есть у нас, вдовая.
– А! Понял. А крестить – это что же, наказание такое, что ли? – спросил Сынок иронически. – За то, что обрюхатил?
– Не дури, – велела Барыня, а Поп засопел возмущенно. – Не дури. Жениться ему надобно на ней.
– Утопить его надо, – проворчал Поп.
– Батюшка, – возразил Сынок, – а не вспомнить ли нам с вами заповеди? Мутер, басурман этот твой хочет у нас остаться, что ли?
– Уже остался, – сказала Барыня. – Работает, столярничает. Дом построил себе.
– Так он давно у нас?
– Да с прошлого ноября еще.
– Ага. А обрюхатил … Полянку … – Сынок засмеялся. – Да, так обрюхатил он ее – когда именно?
– Стыд и срам кромешный, – сказал Поп, глядя в потолок.
– Она его выходила, – объяснила Барыня. – Никого не спросясь, поместила в гранеро, носила ему поесть. В дом свой вдовий не совалась с ним, там нынче ее кузены живут, народ дикий, боялась, что прогонят или убьют басурмана. Так всю зиму в гранеро с ним и своим отпрыском и прожила.
– Каким отпрыском?
– У нее сын есть, подросток.
– А, да, ты ж сказала – вдова. Так она на сносях, или?…
– Родила уж, только что. Семи месяцев. Девочку. Думали помрет – нет, выжила. Так ведь ее даже крестить нельзя!
– Понимаю твои затруднения, мутер, – сказал Сынок. – И ваши тоже, батюшка. А он не хочет креститься? В смысле – в настоящую нашу веру? Вот ведь прощелыга!
– Никто не понимает, чего он хочет. Он только на своем языке изъясняется.
– Удивлен я, мутер, – сказал Сынок, ставя чашку на стол и глядя – с неподдельным удивлением – в лицо матери. – А ты что же…
– Не ко времени удивление твое, – сказала строго Барыня, и Сынок замолчал.
– Стыд и срам, – повторил Поп, и тоже замолчал, приняв позу, олицетворяющую непреклонность.
Помолчав вдоволь, Сынок сказал:
– Может, мне с ним следует поговорить?
– Уж не обессудь, – Барыня кивнула. – Будь добр. Ты мужчина в доме. А то у нас время сейчас горячее, до того ли. Пойдут мужики лясы точить, а когда ж работать-то будут, а у нас и так не все хорошо с хозяйством, да и урожай собирать надобно.
– Я поговорю.
– Не о чем говорить с басурманом, – веско сказал Поп. – Одно слово – утопить.
– Заповеди, батюшка, не забывайте о заповедях, – напомнил ему Сынок. – Что ж, мутер, зови басурмана.
9. К вопросу о рабовладении
Шустрый понял, что его ведут – почти тащат – к усадьбе. Он рассудил, что, возможно, с ним будут говорить о принятии другой веры.
Вместо Барыни в гостиной наличествовал в расслабленном одиночестве красивый молодой парень в узорчатом шелковом халате поверх чистой рубахи. Их оставили наедине. Шустрый молчал, а парень его изучал. Шустрый понял, что это сын Барыни, о котором так горячо толковали вчера.
– Присаживайтесь, – сказал парень – и Шустрый понял. Да и странно было бы, если бы не понял – парень говорил на его, Шустрого, наречии, вот только произношение было другое – так говорят в столице, на юге по-другому произносят. – Присаживайтесь и расскажите мне, кто вы такой. А, простите – я здешний землевладелец, сын…
– Да, я понимаю, – сказал Шустрый.
– Вы надолго к нам?
– Вы это в шутку спрашиваете?
Сынок засмеялся.
– Простите, – сказал он. – Вы все еще мне не представились.
– Я – Шустрый.
– Прозвище военное?
– Нет, по жизни.
– Что ж, господин Шустрый, вы не хотите называть свое имя – у вас, возможно, есть какие-то причины, не буду настаивать. Откуда вы родом?
– Вам это известно, сударь.
– Я хотел спросить – из каких именно весей?
– Из южных.
– Понятно. В оперном театре бываете?
– Где?
– Тоже понятно. А в деревне вы занимались…
– Я столяр.
– Хорошо знаете свое дело?
– Жалоб по сию пору не было.
– Прекрасно. Люблю людей, знающих свое дело. И какие же у вас планы на будущее? Собираетесь остаться здесь, у нас, или вернетесь в южные свои веси?
– Не решил еще. Но не хотелось бы злоупотреблять гостеприимством.
– Вы вежливы и тактичны. Вы здесь прижили ребенка, насколько я понимаю?
Шустрый не ответил.
– Предрассудки, предрассудки, – сказал Сынок задумчиво. – Вас принуждают жениться?
– Принуждают?
– Поп, и матушка моя.
– Да вроде нет. Просят. Но для этого я должен…
– Знаю, знаю, – Сынок кивнул. – Но видите ли, господин Шустрый, вас обманывают.
– Обманывают? Почему? Каким образом?
– Вы знакомы с законами нашего государства? Вижу, что нет. О крепостной зависимости слышали?
– О чем?
– Все люди, которых вы видели за все это время, за исключением священника и почтальона – крепостные. Не понимаете? Ну, это вроде как рабы.
– Как – рабы? Какие рабы?
– Обыкновенные.
– Как в Африкь?
– Почему ж, не только в Африкь. Рабы были везде, всю историю человечества, и сейчас есть. Только в некоторых странах рабство стали отменять, следуя веянию моды – как вот в вашей стране, например. А у нас еще не отменили.
– Не понимаю.
– Это сложный вопрос, деликатный.
Шустрый пожал плечами.
– Что-то не так? – спросил Сынок.
– Рабы – они работают … в каменоломнях, и их бьют … плетями. А в Нуво Монд они собирают на полях хлопок круглые сутки, пока не упадут и не умрут, а вокруг ездят на конях надсмотрщики с кнутами.
Шустрый произнес последнюю фразу автоматически – что-то вспомнилось, из чьих-то рассказов, и понял, что фраза прозвучала глупо. И замолчал.
Сынок сказал:
– Рабы работают везде. Бьют их за нерадивость. Если вы до сих пор этого здесь не видели, значит, все это время нерадивости у нас в имении не было. Чем отличается раб от свободного человека? Ну вот, к примеру, раб не может никуда уйти или уехать без воли хозяина. И работать может только на хозяина. Если хозяин добрый, он разрешит рабу на два-три дня в неделю отлучиться в большой город и там заработать что-нибудь для себя, или продать излишки, не пошедшие в трибют или себе в амбар. Но только если хозяин разрешит. В остальное время раб работает только на хозяина, и безо всякой оплаты.
Последнее задело Шустрого. Все остальное большого впечатления не произвело – людей, работающих в поле, и плохо справляющихся с работой, пороть следует в любом случае – рабы они или не рабы. Уйти – зачем же батрак уйдет, если у него работа есть? Уйдет – неизвестно еще, найдет ли другую, а сезон тем временем закончится. Но вот бесплатно работать – это уж слишком. Как же это – без оплаты? Это неправильно.
– Это неправильно, – сказал он. – Кто же станет бесплатно работать? За работу надо платить.
– Рабам не платят, – заверил его Сынок. – Наоборот – рабы платят хозяину, и произведенным, и вырученным. Платят столько, сколько скажет хозяин. И если хозяин назначает плату непомерную, раб не может уйти искать другого хозяина, а должен смириться с долею своею.
– Странно.
– Это только на первый взгляд. Люди к любому положению быстро привыкают, и думают, что по-другому и не было никогда. Но позвольте я продолжу. Согласно законам нашего государства, господин Шустрый, человек, женившийся на … рабыне … сам становится рабом и поступает во владение ее хозяина или хозяйки.
Ого, подумал Шустрый. А не разыгрывают ли меня?
– Не понимаю…
– Прекрасно понимаете. Если вы женитесь на … Полянке … – Сынок усмехнулся, – вы станете моим рабом, и рабом Барыни. Бить вас, разумеется, никто не будет, мы люди цивилизованные. Да и зачем вы мне в качестве раба? Совершенно лишнее это, господин Шустрый. Но закон есть закон, и пока закон не отменили, ему следует подчиняться. И если вы, например, захотите отсюда уехать, я не смогу вас отпустить. Я смогу вас только продать – другому хозяину.
– А если я убегу?
– Вас будет ловить полиция, и поймает. И, выпоров розгами, приведет в кандалах – снова сюда.
– Как же так … Это несправедливо.
– Не все законы справедливы.
– Ну, не знаю…
– Знаете. Ну вот, к примеру – жили вы там у себя, на ваших югах, росли, играли, учились, потом освоили столярное дело. И небось планировали, что вот, поработаете, накопите денег, и построите себе дом.
– Нет, дом мне от дяди достался. Пополам с братом.
– Да? Ну, это все равно. Ну и вот, зажили вы в этом доме, и собирались, наверное, найти себе женщину телом пышную и нравом жуайельную, жениться, растить детей, и быть счастливым. По большим праздникам собираться с друзьями да родственниками, пить доброе вино, петь песни. Было такое?
– Было, – признался Шустрый. – Родственники, правда, в основном проходимцы и подонки общества, но друзья были хорошие, и брат у меня хороший парень, и была у меня одна баба на примете…
– Ну вот видите! И вдруг ни с того ни с сего государи наши, ваш и мой, повздорили между собою. Казалось бы, нам с вами какое до этого дело? Ан нет, господин Шустрый! Приходит к вам однажды офицер и рекрутирует вас в войско. И бросает вас в самое пекло. Баталии, шум, уланы носятся на конях, тесаками размахивая – не угодно ли? У меня, между прочим, тоже планы были – не хуже, чем у вас, смею вас уверить, ан нет, пришлось и мне в войско транспортироваться. Спрашивается – что мы-то с вами не поделили, господин Шустрый? Мы ведь друг друга даже и не знали совсем! А идти пришлось. Это как – справедливо? А?
– Ну…
– Нет, господин Шустрый, совершенно это несправедливо. Выяснять отношения должны те, кто поссорился. Ну, в крайнем случае, одного-двух секундантов иметь при себе, а не полстраны. Нарушились и ваши планы и мои – по воле государей. Казалось бы – следовало нам с вами отказаться! Сказать – не пойду, еще чего! Но воля государя – закон. И мы с вами пошли. И вот мы здесь, в интересном положении. Вот какие бывают законы, господин Шустрый. Ну так вот, возвращаясь к марьяжной теме, жениться вам … не то, чтобы нельзя, а как-то так … Я бы не рекомендовал. До поры до времени.
– Какого времени?
– А вот смотрите. Вы в данный момент не раб, а человек свободный. Значит, вы можете жить, где хотите, и зарабатывать деньги, где хотите, и деньги эти ваши. И, заметим, Барыня с вас за проживание на ее земле не берет ни гроша, дом вы себе оборудовали – дерева одного сколько ушло, а? И снова ни гроша с вас не взяли…
– Я для Барыни столярничал, и для местных, много.
– Понимаю, чистый бартер. Но теперь разговор иной. Вы стали отлучаться в город, и что-то там, в городе, делать – гиг у вас появился в хозяйстве. Не думаю, что вам его подарили. Стало быть, появился у вас доход. Я вам вот что скажу, господин Шустрый: накопите денег и купите у нас Полянку.
– А это дорого? – спросил сообразительный Шустрый.
– Не очень. Да и – дорого, не дорого – это как сказать. Что вы умеете делать, помимо столярничания? В городе вы столярничаете, небось?
– Да, – соврал Шустрый.
– А, скажем, волосы стричь умеете? Или бороды брить? Иной брадобрей нынче очень неплохо зарабатывает.
Шустрый решил, что лучше ничего не уточнять и ни о чем не рассказывать. Спокойнее оно как-то. И ответил:
– Не пробовал.
– Понятно. Учителем … э … нет, разумеется, вас не возьмут, выговор у вас … да и чему вы будете учить дворянских отпрысков – не столярному делу ведь … да и платят мало, меньше, чем столярам. Ну да сами разберетесь. Придумаете, как доход увеличить. Как наберется нужная сумма – так сразу и купите Полянку, я дам вам бумагу, и вы на ней женитесь.
Шустрый подумал немного и спросил:
– А сколько вы за нее возьмете?
Сынок ответил:
– Ну, ежели ее одну, то денариев пятнадцать она стоит.
Сумма значительная. Шустрый спросил:
– А в кредит нельзя? Чтобы вы подписали бумагу, что, вроде бы, я ее уже купил, а деньги я заработаю и заплачу потом?
– Нет, господин Шустрый, нельзя. Я бы и рад – я к вам расположен – но у всех … э … рабовладельцев есть репутация, и у меня тоже, и я ею дорожу. Если я поверю вам Полянку в кредит, пойдут толки. Меня объявят вольнодумцем, а это нежелательно.
Шустрый чуть поразмыслил, перепугался, и спросил:
– А дочь моя … и Пацан…
– До Пацана вам дела нет, а дочь ваша, к сожалению, тоже является рабыней. И ее тоже следует вам у меня купить. Если хотите, конечно.
– Мне есть дело до Пацана.
– Я не хочу вас слишком уж утруждать, господин Шустрый. Мальчики дороже девочек. Эдак вы лет десять будете работать, пока не накопите нужную сумму.
Шустрый так и не понял – издевается над ним молодой барин или говорит правду. Или и то и другое.
10. В дополнение к вопросу о рабовладении
Пацана Шустрый нашел у реки – тот кидал в нее камешки, слушал булькание и смотрел на расходящиеся круги. Круги его завораживали. Круги многих завораживают. Увидев Шустрого, он помахал рукой. Присели.
– Слушай, а это правда, что вы с матерью рабы?
– Что значит – рабы?
– Ну, вас можно покупать и продавать.
– А. Ну да. Можно.
Пацан удивленно посмотрел на Шустрого – глупый вопрос. Будто раньше не знал!
– И вы должны работать без оплаты?
Пацан не понял вопроса.
– Вы как бы собственность Барыни. Да?
– Ну да, ага.
– И она может вас продать.
– Да.
– А Попа она может продать?
Пацан снова странно посмотрел на Шустрого. Не разыгрывает ли его Шустрый?
– Ну так может или нет?
– Продать Попа?
– Да. Может?
– Попа нельзя продать. Ты чего?
– Почему нельзя?
– Потому что он Поп. Не продают попов.
– Не понимаю.
– Продавать можно … – некоторое время Пацан вспоминал сложное взрослое слово. – Крепостного. Крепостных продают. Поп не крепостной, он батюшка.
– Креп Ост Ной, – повторил Шустрый.
Пацан засмеялся и поправил Шустрого. Шустрый еще раз повторил.
– Не так, – сказал Пацан.
– А я – крепостной?
– Ты?
– Я.
Пацан обиделся.
– Я серьезно спрашиваю! – сказал Шустрый. – Я – крепостной?
Пацан надулся и стал смотреть на небо.
– Я – не крепостной? – повторил Шустрый.
– Нет.
– Почему?
Пацан потерял всякий интерес к теме.
– Ты ответь, – настаивал Шустрый.
– Ты пришлый.
– А крепостные пришлыми не бывают?
Пацан снова насупился.
– Не бывают, я спрашиваю?
Пацан начал терять терпение. И сказал:
– Как же они могут быть пришлые? Крепостные не ходят туда-сюда, они где рождаются, там и сидят.
– Всегда?
Пацан решил, что не похоже, что Шустрый его дразнит. Просто Шустрый не из этих мест, и действительно многого не знает. Он пораздумывал, вспоминая всех, кого знал.
– Всегда сидят на одном месте. Если конечно нет войны.
– Не понимаю. Объясни.
Пацан опять задумался, подыскивая примеры.
– Ну вот как с моим отцом, – сказал он. – Он был крепостной, но потом сделалась война, и его взяли на позиции.
– А крепостной может стать не-крепостным?
Пацан сказал:
– Не знаю.
– А барином?
– Барином не может.
– Почему?
– Барином нужно родиться.
– Понятно. Как хорьки, да?
– Что – как хорьки?
– Ну вот хорек родился хорьком, – пояснил мысль Шустрый. – И не может стать, например, медведем или сусликом.
– Да, наверное так, – сказал Пацан, подумал, и добавил философически: – Такова жизнь.
11. Коммерция
– Ну, уговорил столяра креститься и жениться?
– Забавный он, столяр твой, мутер. Я его уговорил сперва Полянку у нас купить.
– Зачем?
– Забавы ради.
– Я тебя серьезно просила…
– Да, я понимаю, это неимоверной важности вопрос. Я непременно прослежу за всеми стадиями.
– Ты легкомысленный!
– Водится за мною такой грех. Послушай, мутер, мы с тобою остались одни, и мне следует позаботиться о нашем с тобою будущем. После мучительных раздумий я пришел к выводу, что совершенно не обязательно нам с тобою жить в деревне. Здесь тоскливо, люди медлительны, нравы патриархальны, а веселятся тут так, что, глядя на это веселье, хочется выть на луну и грызть заборы. Нам с тобою необходимо перебраться в столицу.
– В столице жизнь дорогая, – резонно заметила Барыня. – Чего тебе здесь не хватает, сын мой? Земля есть, дом есть, есть губернский город, где ты подыщешь себе со временем подходящую невесту, покладистую. Перестроим усадьбу, закажем, может быть, новую мебель.
– Ах, мутер, что нам с тобою губернский город и какая-то мебель! Мы не созданы для сельской местности, понимаешь? Посмотри, во что ты превратилась! Деревенская матрона, только что чепца не хватает. А что за прическа? Вернее, отсутствие таковой? Так скоро ты и квас начнешь пить!
Барыня промолчала. Она иногда пила квас, и ей нравилось.
– А ведь ты вовсе не стара, мутер, и можешь даже в некоторой степени нравиться мужчинам.
Барыня молча и с достоинством согласилась, что может.
– Нет, как хочешь, мутер, нам с тобой нужна квартира в столице, сходная с нашей прежней. Апартаменты с просторной гостиной, высокими окнами, гобеленами, настоящим дворецким и поваром, а не кухаркой. Чтобы можно было принять гостей – хоть по приглашению, хоть случайных. И нужен выезд с хорошими лошадьми, чтобы не стыдно было ездить в гости. Тебе необходимы новые туалеты, да и я непрочь иметь достойный человека моего положения гардероб. И деньги на карманные расходы, чтобы их можно было не считать по гривеннику всякий раз. Смешно сказать, мутер – ну не срамно ли дворянину бояться сесть за карты с друзьями дабы не проиграть сотню-другую! Что за жизнь!
– Действительно, это не очень хорошо, – сказала Барыня. – Кто-то может подумать, что ты скуп.
– Вот! Верно глаголешь, мутер! Изволь, я все улажу. У меня есть прекрасный план, превосходный! Дело верное.
– А это совсем хорошо, – одобрила Барыня. – Я знаю, Сынок, ты умный и рассудительный. С раннего детства такой. И я прекрасно понимаю, как это унизительно – не играть в карты из экономии! Ведь ясное дело – ты лишнего не проиграешь, ты бережлив, всегда такой был, с самого раннего анфансу.
– Совершенно верно, мутер, ты прекрасно меня поняла.
– Тогда скорее приступай к исполнению своего верного плана, – поощрила Барыня.
– Он уже частично в таковое приведен, мутер. Но есть, признаюсь, затруднение.
– Какое же? Говори, не стесняйся.
– Мне нужна доверенность на имение, мутер.
– Зачем?
– Нельзя иначе. Вот ведь, мутер, права пословица, встречают не только по одежке, но и по статусу. Одно дело, если я сын помещицы. И совсем другое, если сам помещик.
– А ты говори, что сам.
– Нельзя. Канцелярия, матушка, содержит архивы в безупречнейшем порядке. Все остальное вкривь и вкось – это даже комично, я тебе расскажу потом несколько случаев – а вот именно архивы в порядке. И люди, заключающие сделки, имеют дурную привычку проверять (за взятку, разумеется, в нарушение законов приватности) действительно ли имярек состоит в определенных статусе и благоденствии. Глупо, конечно, до степени абсурда, но это так, увы. А для доброго завершения упомянутого дела, мутер, мне необходимо, чтобы проверяющие убедились, что я именно и являюсь помещиком. Потому и нужна мне доверенность.
– Ну, раз нужно, значит нужно, – согласилась Барыня. – Будет тебе, Сынок, доверенность.
– Я в тебе не сомневался, матушка. Ну-с, помимо доверенности, нужно мне и в самом имении уладить кое-что. Ты, матушка, человек разумный, опытный, но все-таки женщина. Порядок ты любишь, но не всегда можешь его, порядок, блюсти там, где он чрезвычайно нужен.
– Да уж, сынок, бывает, такое проморгаю, что потом самой стыдно делается.
– Вот, например, я заметил, мутер, что девок да баб у нас в хозяйстве больше, чем мужиков.
– Да уж, Сынок, это так от веку заведено…
– Нет, от веку, мутер, заведено, чтобы на каждых десять мужиков приходилась одиннадцать, в крайнем случае двенадцать, девок и баб. А у нас все пятнадцать наберутся.
– Что поделаешь, Сынок: война. То в солдаты, то в партизаны – поразобрали мужиков-то. Вот даст Бог – кончатся баталии, так мы всех, кто жив остался, обратно к себе и потребуем, в соответствии с законом.
– Ну, баталии – когда они еще кончатся!
– Надеюсь, что скоро. Всех она утомила, эта война, в газетах только про нее и пишут. Про театры – раз в месяц что-нибудь попадется, незначительное, а про войну всякий раз пишут.
– Да ты не спорь со мой, мутер, на эти темы. Уж я-то знаю, я на этой самой войне все видел, все испытал. А у нас пока что избыток женского полу в хозяйстве. А ты, наверное, слышала, что в столицах некоторые высокие чины устраивают у себя в особняках театры. И опера у них, и балет, и просто драматическое действие. Слышала?
– Э, Сынок, ты за кого меня принимаешь? О тебе, сосунке, и не мечтал еще никто, когда я все театры столичные объехала и облазила!
– А хорошее небось время было, матушка?
– Куда уж лучше! Я почти все пиэсы тогдашние пересмотрела, все оперы переслушала!
– Мольера часто, небось, ставили?
– И Мольера, и Еврипида, и господина Фонвизина!
– Эх! – сказал Сынок. – Как хочется жить в столице! … Ну да ладно, авось и поживем скоро. Так вот, мутер, есть у меня там, в столице, хороший знакомый. Имени не назову – обещал хранить в тайне. У него есть свой собственный театр…
– Как у господина Шереметева?
– Уж точно не хуже. И вот ему как раз недостает две дюжины душ женского полу – для хора и исполнения заглавных ролей. А у нас как раз избыток. Понимаешь, мутер? Это редкий случай, который просто грешно было упустить. И я, поразмыслив крепко и вдавшись в детали, заключил с господином сим договор, в силу которого я обязуюсь поставить ему девок и баб, а он мне будет делать платежи от каждого представления, четверть сборов. А сборы, матушка, немалые. В театр этот повадились ходить самые высокопоставленные особы, и друзей из шестой коалиции приводить, и всем этим персоналиям денег совершенно не жалко, они их даже и не считают вовсе.
– Да у нас столько девок нет. Две дюжины, говоришь?
– Да зачем же только девок, помилуйте, мутер! Можно и вдов, и замужних.
– Да как же замужних-то, Сынок! А что скажут мужья? А дети?
– Я одобряю, матушка, твою прогрессивность и твое похвальное желание входить в положение даже самых подлых сословий. Я, признаться, даже и не ожидал от тебя такого! Я рад, что мысли твои соответствуют просвещенной современности. Однако, мы с тобою хозяева, надеющиеся улучшить положение свое, и дело слишком серьезно, чтобы прислушиваться нам теперь к гласу народному. Что скажут! Да ведь не на Голгофу их поведут, баб этих, а на сцену. Оденут прилично, научать петь или плясать, кормить будут досыта – да они только обрадуются такой жизни.
– Да, но мужья-то…
– А мужьям они будут высылать время от времени столичные гостинцы и пряности, чтобы не слишком грустили. Да ведь и не навсегда они уедут, а на год-два всего. Завтра я сделаю обход, посмотрю, какие годны для дела, какие нет. Положись на меня, мутер, для меня твое благо так же дорого, как собственное, как минимум.
– Это-то я знаю, Сынок. А все-таки как-то странно…
– Новое по началу всегда странно. Когда господин Ньютон написал о всемировом притяжении друг к дружке небесных объектов, тоже казалось странно, тем более что писал он по-латыни. А потом ничего, привыкли, и даже, говорят, пользу неимоверную извлекли впоследствии.
12. В актрисы
На закате, по окончании работ, но до вечерней службы еще, Сынок с блокнотом совершил объезд владений своих. Вечер выдался теплый, рабы и рабыни сидели на скамейках и на траве возле курных изб, дети копошились вокруг. Осмотрев семейства и записав в блокнот имена приемлемо выглядящих девок и баб (их оказалось меньше, чем неприемлемых, косых, кривых, непомерно тощих или толстых, коротконогих, и так далее, как всегда оно бывает), Сынок спешился у дома Грибника, в одной руке блокнот, в другой кнут, и спросил его, рассевшегося вальяжно, где шастает его жена, почему ее не видно. Грибник мрачно ответил:
– Учится себя вести, барин. Внутри она.
– Как это – учится?
– Учится.
– Позови, пусть выйдет.
– Нехорошо, барин. Эдак учеба не впрок ей выйдет. Нельзя учебу прерывать.
– Позови, я сказал.
Грибник нехотя поднялся и зашел в избу. Сынок соскочил с коня.
Через некоторое время появилась на пороге Ивушка – сгорбленная, голову в плечи втягивающая, с огромным почти черным синяком под глазом.
– Ох-хо, – сказал Сынок. – Ты чего это, Ивушка? Я тебя вот такусенькой помню. И уж тогда была ты прелестна до невозможности. А ну-ка выпрямись. Распрямись, распрямись.
Не смея ослушаться молодого барина, Ивушка распрямилась, глаза ясные пряча.
– Это что же? – спросил Сынок вышедшего за Ивушкой Грибника. – Это и есть твоя учеба, милый мой?
– Она самая, – подтвердил Грибник. – Она знает. Уговор известный. Блудишь – поступай на учение. Сегодня после службы еще доучивать буду. Я ее в строгости держу, барин, у меня не побегаешь по сеновалам. Я мужик старых порядков придерживающийся.
– Молодец, – сказал Сынок.
– Как же не молодец, а, барин? – воодушевился Грибник. – У нас трое сопляков по лавкам неухоженные, а гадина эта знай себе сторонних мужиков взглядами одаривает. К басурману нашему ластится, оторва. Нужна ей наука, барин, ох как нужна! Я ж добрый, я понимаю – слаба баба, иной мужик посмотрел – а особливо басурман наш – так сразу вся и растаяла. Ну, ничего, Бог даст, выпью в субботу, и науку-то доведу то полного изнеможения, так что не будет таять больше, заледенеет в камень на всю жизнюшку ее поганую блудную.
Сынок снова кивнул, после чего щелкнул кнутом Грибника поперек щеки. Грибник вскрикнул, согнулся, завыл, держась за щеку. А Сынок, теперь уже с замахом, стегнул его по спине. Грибник припал на колено, выгнул спину, как древнегреческий атлет на тренировке перед играми, и со страхом поглядел на барина. Сынок подошел к Ивушке, взял ее за плечи, повернул к себе, за подбородок взял, и стал разглядывать синяк. Внушительный синяк. Ну да ладно, авось за неделю пройдет.
– Надо тебя лекарю показать, – сказал он. – На всякий случай. У нас как раз нынче лекарь ночует, вот и покажем. – Он повернулся к Грибнику. – Вот что, дядя. Хоть раз тронешь ее, хоть косо посмотришь только, хоть одно бранное слово выскочит, я с тебя живого кожу сдеру. Надрежу саблей вокруг, чуть выше пупа, руками за твои возьмусь, потяну кверху да и сниму, как бабы рубаху снимают, через голову. Понял? Я спрашиваю – понял?
– Э … барин … что это вы … я ведь…
– Каприз у меня такой, – объяснил Сынок. – Блажь накатила. Ну, пойдем, что ли, Ивушка, покажемся лекарю.
Блокнот он сунул в карман, коня взял под узцы, и рукояткой хлыста подтолкнул Ивушку, и она, глядя испуганно, пошла в сторону усадьбы.
И заходил по дворам и палисадникам слух, что молодой барин вскоре отбудет в столицу, а девок и баб, тех, у кого наружность поприятнее, заберет с собою в актрисы. Что это такое – в актрисы – представлялось смутно, но вроде бы это плясать в ярких нарядах под умную музыку для ублажения господ. Мужики засокрушались, а девки и бабы заохали, некоторые, впрочем, притворно, потому что плясать в ярких нарядах никакая баба не откажется, что плохого, и все лучше, чем то, что есть – с таким-то мужем. Детей вот жалко, у которых дети есть, как же дети без мамки, но, наверное, из столицы можно будет присылать детям гостинцы в утешение, да ведь и не навсегда забирают-то, а на несколько месяцев всего, в крайнем случае на год. А урожай как-нибудь без них дособерут. А иные убивались искренне, потому что незнакомое пугает, а они уж тут привыкли, с рождения живут, и вроде бы жизнь не так уж и плоха, а в столице еще неизвестно, что будет, там дома большие, а люди все себе на уме.
А Ивушку-то молодой барин в усадьбу забрал. Кто-то предположил, что для блуда, и Грибник начал уж было свирепеть да маяться, но кто-то другой заметил, что для блуда у молодого барина есть горничная Мышка, ночует в барской спальне с первой же ночи, как барин вернулся, девка некрасивая, но бойкая, Художника анадысь так охмурила, что днями возле нее сидел, все рисовал, и чуть с собою не увез. А барин меж тем ее грамоте басурманской учит для развлечения своего.
В полдень, лежа на сеновале с Шустрым, Ака-Бяка возбужденно пыталась ему все это втолковать. Шустрый, оперевшись на локоть, ласкал полную грудь Аки-Бяки, а она все болтала и болтала, и делала большие глаза, и он начал прислушиваться.
– Вот меня, наверное, возьмут, – говорила Ака-Бяка. – Я ведь ничего на вид, а? И плясать умею лучше всех. А в столице я буду жить в каменном доме, и кормить будут с барского стола. Твою дуру Полянку не возьмут, она косая, какому барину приятно видеть, как перед ним косая баба ногами грохочет да жопой машет.
Шустрый помылся из ведра и пошел домой задумчивый. У самой двери его нагнал Пацан и сообщил, что во время жатвы … Но Шустрый его перебил.
– Актрисы, – сказал он, старательно выговаривая. – Бабы в актрисы, барин, столица. – И прибавил на своем наречии: – Что это все означает?
– А ты еще не знаешь?
– А я еще не знаю. Рассказывай.
Пацан рассказал, что ранее услышал и понял.
– Плясать перед господами? – удивился Шустрый. – Да ведь тут не Турция. Что-то ты не то говоришь, Пацан, хуйня какая-то.
– Нет, не хуйня, – возмутился Пацан. – Я знаю, что говорю. Надевают на них наряды, и в горнице пляшут, а лакеи на лютнях играют и на … этих…
– На блокфлейтах, – подсказал Шустрый.
– Да, на блокфлейтах.
– Дурак.
– Сам дурак.
Шустрый почесал в затылке.
– А Ивушку барин у себя в саду второй день учит, – добавил Пацан.
– Я думал – Мышку.
– Мышку для развлечения, грамоте, а Ивушку для дела.
– Чему учит?
– Речам. Я сам видел.
– Подглядывал?
– Ага. Ивушка стоит перед ним и говорит речи красивые, а барин ее поправляет.
– Актрисы! – догадался Шустрый. Ранее его сбила с толку разница в произношении слова. – Вот оно что. В театр.
– Что такое театр?
Шустрый стал было объяснять – он вообще любил объяснять Пацану разные разности, Пацан слушал всегда внимательно, а Шустрому нравилось, когда его слушают, глотая каждое слово, но вдруг он осекся. И задумался крепко.
– Эй, ты чего? – спросил Пацан.
– Подожди, подожди … Не вертись … Не вертись, блядский бордель, дай подумать!
Пацан замер. Шустрый подумал.
– От мужей забирают? – спросил он.
Пацан не понял вопроса.
– И девок, и баб тоже? – уточнил Шустрый. – Замужних-многодетных тоже берут? В актрисы?
– Вроде бы да.
Малышка спала, и Полянка тоже спала, привалившись на бок. Шустрый велел Пацану посидеть с ними, а сам полез на чердак и там, на чердаке, отворил тайник и пересчитал сбережения.
13. Покупка
Когда что-то покупаешь, всегда хочется быть уверенным, что тебя не облапошили. Лучше всего иметь для этой цели нейтрального свидетеля. Прилюдно облапошивать не всякий возжелает, срамно это. Шустрый задумался. Ни Полянка, ни Пацан в свидетели не годились – заинтересованная сторона. Почтаря нужно было ждать еще дня три. Пастух честностью, судя по выражению лица, не отличался, а кузнец Шустрого ненавидел. Остальные слишком тупые. Оставался Поп, которому не нравился Шустрый, а Шустрому не нравился Поп. Он с детства недолюбливал священников, не понимая толком, почему, вроде бы ничего плохого они ему не сделали – а недолюбливал. Священников многие недолюбливают. Но более подходящих кандидатов не было.
Отстояли вечерю, и Шустрый, держа Пацана за руку, приблизился к Сынку, которого, вольнодумного, на вечернюю службу заставляла ходить рассудительная мать, и сказал:
– Вечер добрый, сударь. Пожалуйста, выслушайте меня, и пусть священник тоже выслушает.
Сынка просьба заинтересовала. Что такое придумал молодой басурман? Любопытно. Подошли к Попу. Тот насупился, надул щеки, глаза закатил.
– Вот, батюшка, – сказал Сынок. – Человек хочет со мною говорить в вашем присутствии.
– А меня его присутствие тяготит! – выпалил Поп. – Пусть к своим кахволикам идет и там крестится слева направо сколько влезет на погибель души своей!
– А хорошо ли будет, батюшка, – резонно возразил Сынок, – если кахволики ему помогут после того, как отказались помочь вы? Слава пойдет, батюшка. Не срамите правильную веру. Давайте по крайней мере выслушаем человека. Неужто вам не любопытно?
– Нет, совершенно, – ответил Поп. – Совершенно не любопытно. Вот ни капельки.
– Говорите, что за дело, – сказал Сынок Шустрому. – А я переведу.
– Нет, не нужно, благодарю, – возразил Шустрый. – Пацан переведет.
– Пацан? – удивился Сынок, глядя на Пацана. – Он умеет?
– Да.
– Способный, – одобрительно сказал Сынок, кивнув. – Надо же! Полна земля самородками. Надо бы его тоже грамоте обучить.
Он засмеялся, а Шустрый тем временем сделал знак Пацану и стал говорить медленно, с паузами, обращяясь к Сынку, а Пацан переводил Попу.
– Во время прошлой нашей беседы вы дали мне понять, – сказал Шустрый, – что сожительница моя является вашей рабыней, и если я хочу сделать ее независимой от вас, мне следует ее купить.
Пацан вместо «сожительница» сказал «жена» и вместо «независимой» – «непродажной», но Поп суть уловил.
– Где это видано, чтобы басурманы наших баб покупали! – возмутился он. – Не будет этого!
– Почему ж не будет, – вмешался Сынок. – Это, батюшка, уж даже и на самодурство похоже, замечу вам. – Он повернулся к Шустрому. – Весьма интересное предложение. И сколько же вы хотели бы за нее заплатить?
– В прошлый раз вы сказали – пятнадцать денариев.
– Да? Я так сказал? Что ж. У вас и деньги с собою?
– Да.
– И бумаги составлены?
– Какие бумаги?
– Купчая. Все-таки женщину покупаете, а не пуговицы для сюртука.
– Я не знал…
– Вижу, что не знали. Ну да ладно. Сейчас мы попросим у священника бумагу и перо, и всё поправим. А священник, как лицо публичное, исполнит тут пред нами роль нотариуса. У него даже и печать есть, для тех случаев, когда кого-то отпевают или крестят, ее и приложим.
Поп, не понимая, о чем речь, снова вмешался:
– Ты, молодой барин, волен в своих желаниях, но тут уж позволь! Как! Нашу бабу – басурману! Пусть она хоть тыщу раз шлюха – а все равно грех! Да еще и в церкви! Нельзя в церкви! Акт торговли – нельзя!
– Ну ведь не душу же ее он у меня покупает.
– Богопротивно сие!
– Слушайте, батюшка, – сказал Сынок веско, сталь зазвучала в голосе, и некоторые вспомнили вдруг, что он человек военный, – вы мне надоели. Делайте, о чем вас просят. Причитающееся вам за услуги вы получите, в обычном размере. Нужны бумага, перо, печать. Шагом марш! Мы вас подождем во дворе. Да уж и свечку захватите.
14. Расторжение сделки
Говорят, что ревность – услада людей недалеких. Говорят так в основном люди, ревности в больших количествах не испытавшие.
Сынок отлучился в город по своим барским делам, Барыня пила чай в саду, а Ивушка, надев красивое голубое платье, пожалованное ей молодым барином, решила спуститься в кухню да пожрать с утра, а кухарка неприязнь свою пусть засунет себе в жопу – и на лестнице повстречалась с горничной Мышкой, женщиной учёной. Та волокла наверх тряпки да метлу. Проходя мимо Ивушки, учёная Мышка сделала вид, что споткнулась, ухватила Ивушку за волосы льняные, и дернула крепко. Ивушка потеряла равновесие, качнулась вперед, и покатилась вниз.
– Ай-яй-яй, – сказала Мышка. – Какая с твоей стороны неосторожность великая, Ивушка, ай-яй-яй.
Ивушка лежала внизу, постанывая. Попыталась подняться и не смогла.
– Ну, ничего, я вот только в спальнях приберу, и сразу тебе на помощь прибегу, ты увидишь, – сказала ей Мышка. – Так поспешу, так поспешу, ты удивишься! Удержу не будет, никто не помешает мне на помощь тебе придти, так и знай!
И ушла в спальни. Ивушка еще раз попыталась подняться, но резкая боль в ноге не позволила. Ивушка стала кричать.
Вошла через некоторое время Барыня и спросила:
– Чего ты орешь? Что стряслось? Чего ты разлеглась на полу, дура?
– Нога! – сказала Ивушка.
– Что – нога?
Барыня подошла и присела возле Ивушки. Задрала ей подол, посмотрела. Сказала:
– Ничего себе. Как же это ты сверзилась, ты чего, под ноги не смотришь совсем? Эка дура тупая. Эй, кто нибудь!
Пришел Дворецкий. Барыня велела ему послать кого-нибудь за Лекарем. Через час прибыл Лекарь. Ивушку перенесли в ее, молодым барином отведенную, спальню.
Вскоре вернулся и сам молодой барин, пошел в спальню, осмотрел ногу Ивушки, поговорил с Лекарем, выругался страшными словами с досады, выпил коньяку, и велел приготовить себе ванну.
Мышка, хлопоча возле ванны, спросила молодого барина фальшивым голосом, вставив два басурманских слова, что его так основательно заботит. Сынок посмотрел на нее подозрительно, выпил залпом рюмку коньяку и сказал:
– Это не ты ли, сволочь жопатая, Ивушку с лестницы свергла?
– А чего я, чего сразу я, – запротестовала Мышка. – Ходит расфуфыренная, а я за ней следи. Где же это видано, матушки-присвечницы, где только у некоторых баб берется такое надмение и свирепость по относилости к их же содомницам…
Сынок сообразил, что содомницы отношение имеют больше к дому, чем к Содому, но в подозрениях своих утвердился, и хрястнул Мышку по шее. Не очень, правда, сильно. Она навострилась было реветь и причитать, но он сказал, что еще один звук, и он ей ноженьки узлом завяжет и собственные сиськи грызть заставит. Мышка примолкла.
– Придется тебе теперь в столицы ехать, фемина пучеглазая, – сказал он. – Свет программы вышел из строя, ну так вот тобою и заменим. Хотел я тебя поберечь для дальнейших утех, да видно не судьба.
Мышка по поводу света программы поняла плохо, но сообразила, что такая поездка дорого ей обойдется в смысле социального статуса, она ведь, как ни крути, любовница барина, а не актриса какая-нибудь сраная, и выложила главный свой козырь:
– Уж прости, барин-батюшка, уж не гони меня от себя теперь, ибо не ко времени меня теперь гнать.
– Кто тебя гонит … А? Чего?
– Будет у нас с тобою, барин, ребеночек.
– Какой ребеночек, что ты мелешь … – начал было Сынок, но менее уверенно. – Ты в положении, что ли?
– Я в самом несчастном положении, – заверила его Мышка. – Положение мое из рук на пол. Согрешила я с тобою, потому на все воля барская, указ величественный. Взял ты меня невинную девицу, поизмывался надо мною беспочвенной во славу свою лютую, и вот изволь примириться теперь с долюшкой, из такого твоего поведения нисходящей.
Прикинул Сынок – отъезд через неделю, да недели три на путешествие, да на обустройство и обучение, а дура эта занеможет, потом начнутся рвоты, а после и пузо отрастет. Может и не его забота, но все-таки. Да и дитя ведь не какое-нибудь, а барское, носит в себе Мышка. Много детенышей приживают баре с крепостными, и не то, чтобы зазорно это было – но все-таки живут бастарды при усадьбе, растут при усадьбе, не то, чтоб свои, а всё ж родная кровь – и растят их бережно. А не отправляют в столицы, где времени растить бережно у Мышки не будет. Также, бастардов определяют в более далекие деревни, но у Сынка с Барыней таковых во владениях не числилось – чай не столбовые дворяне, а так, военщина недавняя вперемешку с черт-те чем. С театром и блядством.
По примеру разгромленного тирана, слушавшего всякое утро письма, пребывая по горло в воде, сынок принял ванну, оделся в домашнее, и послал казачка-отрока за Шустрым, который как раз собирался к завтрашнему отбытию в губернский город. Пацана рядом не было, но казачок, друживший, как все подростки, с Пацаном, знал несколько слов на наречии Шустрого, и сумел ему объяснить, что молодой барин желает и соизволяет его, Шустрого, видеть непременно.
– Что ему от меня нужно? – спросил Шустрый.
Этого казачок не знал.
Шустрый поцеловал спящую Малышку, подмигнул Полянке, и пошел с казачком.
Сынок принял Шустрого в горнице, предложил присесть, а потом сигару – Шустрый от сигары отказался, и сказал:
– Я виноват пред вами, господин Шустрый. Намедни я поступил опрометчиво, по капризу, и приношу вам извинения. Вот новая бумага, вот и печать. Расторгнем нашу сделку. Время сейчас не такое, чтобы сделки заключать. Идет война, государство наше нищает. Мне нынче нужны все женщины, в моих владениях состоящие. Благоволите, господин Шустрый.
– Даже не думайте, – возразил Шустрый. – Я ее у вас купил, документ, это подтверждающий, у меня есть, и продавать ее обратно мне нет выгоды.
– Есть выгода.
– Нет, сударь, нет выгоды.
– Есть, уверяю вас.
– Вам, сударь, нужны актрисы – я знаю. Купите у соседей, за ту же цену. Полянку оставьте в покое. Нижайше прошу.
– Нет времени разбираться мне сейчас с соседями. Вам не о чем беспокоиться, господин Шустрый. Содержать ее будут очень хорошо, кормить досыта, одевать в лучшее. А через год-другой она вернется, и вы снова ее у меня купите, и даже сможете эмансипировать.
Шустрый не понял, что значит эмансипировать, но это не имело значения.
– Нет, – сказал он.
– Не беспокойтесь также и о Малышке, – сказал Сынок. – У нас две бабы только что родили – вам известно, конечно же. Так что недостатка в кормилицах нет. Более того. В знак благодарности за ваше содействие я напишу вам дарственную, и Малышка будет ваша. Даром, господин Шустрый. Если хотите, и Пацана включим.
– Нет, – сказал Шустрый.
– Ну, вы заладили! Нет да нет. Откуда в вас такое упрямство? Вы ведь не с островов.
– Я не с островов. Нет.
– Ну, хорошо, Шустрый, тогда поговорим о выгоде. То есть, я поговорю и покажу, а вы послушаете и посмотрите. Вот, например, бумага с красивым гербом, видите? Что тут написано?
– Я не умею читать.
– Умеете, но только на своем наречии. Я вам переведу, не беспокойтесь. А написано тут, что вы, как солдат армии противника, подлежите строжайшему учету. Цензусу.
Шустрый искоса посмотрел на красивую бумагу с гербом, печаткой, ровным шрифтом – и слегка струхнул.
– Что же из этого следует? – спросил он.
– Согласно высочайшему указу, пленные, по прохождении учета, распределяются по волостям, вот список волостей. Как видите, нашего региона в списке нет. Не ищите – нет. Далее. В волостях этих у солдат армии противника есть выбор. Они могут участвовать в восстановительных работах. Либо заниматься своим ремеслом, отмечаясь еженедельно в полицейском участке. Третий вариант – они могут добровольно принять новую веру и присягнуть на подданство государю нашему.
Как все сложно и противно, подумал Шустрый. Везде эта бюрократия. Отмечайся, присягай, подписывай. Проходимцы во власти, одни проходимцы. Гильотины на них нет.
– У меня есть права, – сказал он более или менее автоматически. Фразу эту он помнил с детства.
Сынок засмеялся. И сказал:
– Сленг двадцатилетней давности. У нас не принято пока что. Вы находитесь на нелегальном положении, господин Шустрый. Поэтому никаких прав у вас не может быть даже в теории. Вы не участвуете в восстановительных работах, не отмечаетесь в полиции, и находитесь в регионе, в котором находится вам не положено. Вы подлежите немедленному аресту и переправке в регион распределения. Полиция прибудет, если нужно, сегодня к вечеру. Вы меня понимаете? Все ваши соотечественники и другие члены тиранической шайки давно учтены и распределены. Вас в первую очередь будут рассматривать как лазутчика, провокатора, поджигателя – я имею в виду, что до распределения вас могут и не довезти. Попадется полицейский, у которого старые счеты с вашим людом, разоренная деревня, погибшие близкие – и пристрелят вас по дороге, и закопают где-нибудь у обочины. Креста даже не поставят сверху.
– Блядский бордель, – сказал Шустрый.
– Согласен, но – такова жизнь, не так ли! Я вам не враг, господин Шустрый. И мне бы в голову не пришло вас стеснять, если бы не чрезвычайные обстоятельства. Не убудет с вас, и с Полянки вашей тоже не убудет! Вот пятнадцать денариев, вот бумага, вот перо. Подписывайте, господин Шустрый! Либо подписываете, либо ждите вечером жандармов.
Кошмар, подумал Шустрый. Самое плохое – посоветоваться не с кем! Все кругом либо тупые, либо ничего не знают, либо враждебно настроены. Есть Пацан, но от него толку мало. Можно посоветоваться с Ресторатором – северо-восточные соседи – люди ушлые, практичные. Но до Ресторатора надо сперва доехать. А тем временем сюда прибудут … да, жандармы … И неизвестно ведь, что посоветует Ресторатор. Который, между прочим, тоже боится полиции, а в каком он сам тут статусе – кто ж его знает.
– А что если я вызову вас на дуэль? – предложил он.
Сынок снова засмеялся. И сказал:
– Ну какая дуэль, господин Шустрый. Вы ведь не дворянин? А на дуэлях дерутся лишь с равными.
– Бывают исключения.
– Бывают, согласен. Что вы предпочитаете, шпагу или пистолет?
Со шпагами Шустрый не имел дела никогда, и знал при этом, что Сынок душегубству с помощью этого инструмента обучен с детства – все они, люди нежного происхождения, этому обучаются.
– Пистолет, – сказал он.
Сынок улыбнулся радужно, открыл ящик стола, и выволок оттуда пистолет работы необыкновенной, с красивой узорчатой ручкой. Шустрый поднялся со стула.
– Не беспокойтесь, – сказал Сынок. – Ничего страшного. Хочу вам кое-что продемонстрировать.
В руке у него появился кожаный мешочек с порохом. Порох посыпался в воронку, за ним последовала пуля, и несколькими движениями шомпола Сынок завершил приготовления. Всякий профессионал сразу узнает другого профессионала. Шустрый, следя за действиями Сынка, не увидел ни одного лишнего движения. Так сам Шустрый работал – рубанком, пилой, молотком. И кухонным ножом.
– Видите вон на той полке – сувенир от северо-восточных соседей? – спросил Сынок.
Шустрый пригляделся – шагов за двадцать, противоположная стена горницы. Действительно, полка, а на ней фаянсовая фигурка какой-то, черт ее знает, экзотической плясуньи.
– Маман любит очень, – объяснил Сынок. – Остатки сословных предрассудков.
Шустрый не понял, что такое сословные предрассудки.
Сынок взвел курок и выстрелил почти не целясь. Шустрый вздрогнул. Пуля разнесла фигурку в мелкую пыль.
– Вот такая будет у нас с вами дуэль, господин Шустрый, – предупредил Сынок. – Вы ведь и пистолет-то в руках не держали никогда, все больше мушкетом да штыком орудовали, не так ли.
– Хмм … – сказал Шустрый. – А что если я вас прямо здесь задушу, вот просто так?
Сынок улыбнулся Шустрому, как ребенку.
– Попробуйте.
Шустрый снова поднялся. Сынок не двинулся с места. Шустрый подошел к Сынку, делая вид, что расслаблен и развязен – так подходили его соплеменники-южане к негодяям, прикидывая, куда и как их бить. Шустрый был крепкий парень, драк не искал, но сам от драки не бегал, знал, что к чему в этом деле. Он сделал обманное движение и свалил Сынка правым ударом в ухо. То есть, он думал, что валит. На самом деле Сынок удар молниеносно блокировал, схватил Шустрого за горло, рванул на себя, и что-то такое с ним произвел, противоестественное – Шустрый и мигнуть не успел, как обнаружил, что согнут пополам, морда прижата к письменному столу, а правая рука завернута за спину. Вертлявый легкомысленный Сынок, оказалось, был ловок и обладал немалою силой.
– Ну вот и кончились ваши аргументы, господин Шустрый, – сказал за спиной Шустрого Сынок. – Подпишите бумагу. Это не только требование, но и дружеский совет. Поверьте мне.
Наконец прибежали на шум – дворовые и Барыня.
– Что здесь происходит? – закричала Барыня с порога. – Кто стрелял?
– Между мною и господином Шустрым конфликт произошед, – сказал Сынок, отпуская Шустрого. – Но он уже улажен, мутер, не изволь себя расстраивать и горячиться.
15. Диалог с совестью
Шустрый пошел не домой, а на сеновал. Там никого не оказалось. Некоторое время он лежал на сене, размышляя. Сунул руку в карман, вытащил ассигнации. Пятнадцать денариев.
Следовало упорствовать. Во-первых, нельзя верить всему, что говорит Сынок. Во-вторых, если бы жандармы его арестовали и повлекли к неведомой судьбе, и даже убили бы по дороге, до неведомости не доехав – он был бы чист перед Богом, совестью, Полянкой, Пацаном, и Малышкой. Полянка его выходила, а он ее предал. Он ничтожество.
А вдруг с жандармами приехал бы судья, и сказал бы, что Шустрый в своем праве?
Ох вряд ли. Дело не только в разности социального положения дворянина и ремесленника. и не только в том, что Шустрый на нелегальном положении – вполне может быть, что Сынок врёт, с него станется – но не в этом дело, не в этом! Он, Шустрый, действительно не венчан с Полянкой, и нет у него на нее никаких прав. Здесь, в этих весях, еще и нравы какие-то расхлябанные. На юге, где он родился, его бы за такое сожительство сами сельчане бы отвели к судье. Предварительно набив ему морду.
Надо было на ней жениться. Принять местную «правильную» веру, и жениться. Крест и алтарь – они везде крест и алтарь, и, как рассказывали ему в детстве, даже иные короли крестятся повторно, чтобы население не раздражать, как знаменитый Анри Кятр, к примеру.
Прошлого не вернуть, о повторном крещении нужно было думать раньше. Нужно что-то делать прямо сейчас. Что делать, амичи? А?
Эх! Шустрый поднял глаза к потолку и покраснел.
Ну? – спросила у него его совесть.
Надо бы помолиться, сказал он ей. Попросить прощения у Всевышнего.
Нельзя, сказала совесть.
Почему, спросил он.
Стыдно, сказала совесть.
Стыдно просить прощения у Бога? Умолять нижайше о прощении? Ползать, причитать – пожалуйста, прости меня? Стыдно?
Да, стыдно, сказала совесть. Ужас как стыдно. Что ты наделал, Шустрый, дружок мой, что сотворил! Беззащитную женщину продал, судьбу ее дальнейшую оценил в две недели работы своей у Ресторатора. Пятнадцать денариев. Где ж это видано.
На пятнадцать денариев много можно купить, возразил Шустрый, плавая в вязком стыде.
Да, много, саркастически сказала совесть. На половинку денария серебром тоже много всякого можно купить. Жила себе женщина, жила. Зла особого никому не делала, сына неблагодарного растила, тут являешься ты, брюхатишь ее, а потом продаешь. Дочь без материнской ласки оставляешь, сына без материнской оплеухи. Увезут ее, а ты пойдешь искать кормилицу.
Я ничего не мог поделать, возразил Шустрый. Так вышло. Нет, ну правда – вышло так. Что я мог сделать? Ничего я не мог сделать.
Ты уверен, спросила совесть.
Нет. Но хотелось бы обратиться к Всевышнему.
Стыдно, сказала совесть.
Но что-то нужно делать прямо сейчас. Что-то такое, чтобы не было стыдно перед Ним. Прямо сейчас.
Сейчас надо идти домой. Не ждать тут на сеновале любовницу, а идти домой.
А дома что?
Он представил себе Полянку. Полянка как Полянка. Он представил себе Малышку. Малышку жалко. Заберут Полянку, придется Малышку одному растить. С помощью Пацана. Он представил себе Пацана, и ему стало не по себе. Он вдруг понял, что не сможет смотреть Пацану в глаза. Можно все свалить на подлых вышестоящих, на Сынка, на Барыню – Пацан бы поверил, и стал бы вместе с Шустрым сокрушаться, и тогда Шустрому пришлось бы – черт его знает, застрелиться, что ли? Украсть у Сынка его дурацкий пистолет, и застрелиться, как подобает солдату, у которого нет другого выхода.
То есть, струсить. То есть, отвести глаза – не смотреть. Но куда их отведешь, если Бог – везде? Куда ни посмотри, от Его взгляда не убежишь. Если даже Пацану не можешь в глаза смотреть, то Богу – тем более, сказала совесть.
А Сынок, между прочим, подсказала совесть, ни в чем формально не виноват перед Богом.
То есть как, возмутился Шустрый. Такая сволочь – и не виноват?
Не виноват, подтвердила совесть. Полянка – его собственность. Поэтому он может поступать с Полянкой, как ему удобнее. Вот если бы ты, Шустрый, был женат на Полянке…
Опять! Опять все упирается в это.
Хорошо, подумаем в этом направлении. Если то, что говорит Сынок о законах государства – правда, то, женившись на Полянке, Шустрый бы стал его, Сынка, собственностью. Кому от этого стало бы легче? Приятнее? Утешительнее?
Да, сказала совесть, но в то же время Полянка была бы твоею, Шустрый, собственностью. Вассал моего вассала. И, уведя Полянку от тебя, дружок мой Шустрый, Сынок бы творил беззаконие с точки зрения этики небесной, которая превыше всех земных, и грех был бы на Сынке, а не на тебе, Шустрый. Понял, дурак?
Он вздохнул, спрятал ассигнации в карман, вылез на свет Божий, и зашагал к дому, щурясь на закат.
16. Правда об актрисах
По пути он, поддавшись смутным каким-то мыслям, повернул, и вскоре оказался возле барского мезона. Смеркалось. В саду сидели Барыня и Сынок, на плетеном столе горела свеча. Сынок курил сигару, а Барыня раздраженно пила что-то из хрустального бокала и отгоняла ладонью от лица сигарный дым. Шустрого они не заметили. Он встал неподалеку, прислонившись к дереву. Поразило его, что разговаривали сын с матерью на его, Шустрого, наречии, и при этом, в отличие от сына, прононс у Барыни был явно не столичный – растянуто-провинциальный, южный, будто бы родом она из одних краев с Шустрым.
– Совершенно незачем считать меня дурой, – говорила Барыня.
– Вовсе нет, мутер.
– Заткнись. Какие актрисы из наших коров! Я сама из актрис, ежели на то пошло! И брат мой до сих пор актерствует – там. (Она показала рукой на закат). Вовсе не в театр собираешься ты их везти. Последнему полотеру понятно, что театр этот называется по-другому.
– И что же?
– А то, что мера эта крайняя. А ты вовсе не человек крайностей. Значит, что-то случилось, что-то ты скрываешь, если хочешь, меня не спросясь, половину наших баб сдать в бордель и получать от этого доход. И самое верное, что предполагается – имение ты проиграл в карты. Так ведь, скажи?
– Так.
– И долг оплатил, воспользовавшись услугами ростовщика.
– Да.
– Тебе не следовало этого делать.
– Больше неоткуда было взять.
– Я не об этом.
Сынок аж закашлялся.
– Что вы имеете в виду, мадам? – спросил он.
– Ты знаешь.
– Я дворянин, – веско сказал он. – Я не мог не оплатить карточный долг, это не принято.
– А мне что за дело! Ты меня – и себя тоже – по миру пустил. Это дело с борделем – тебя облапошат, обдерут.
– Не облапошат и не обдерут.
Дальше Шустрый слушать не стал.
17. Побег
Войдя в дом, он сказал Полянке:
– Одевайся.
Пацан выскочил из угла, желая Шустрого напугать. Шустрый дал ему подзатыльник и сказал:
– Ты тоже одевайся.
– Зачем?
– Пойдем к Попу. По-воскресному одевайтесь, оба.
Полянка и Сынок уставились на Шустрого. Малышка, проснувшись, что-то такое начала произносить, восторженно-требовательное.
– К Попу? – переспросила Полянка.
– Жениться я на тебе буду! – объявил Шустрый. – Одевайся. Быстро. Малышку не трогай, дай ее сюда. Быстро одевайся, сука, а то как дам по жопе толстой!
Полянка полезла одеваться. Пацан хотел было задуматься, и едва не получил второй подзатыльник.
– Будешь мне переводить у Попа, – объяснил Шустрый.
Сам он быстро переоделся в лучшую свою одежду – в рубашку, подаренную Ресторатором, сюртук, штаны и сапоги, купленные в в губернском городе. Слазил на чердак, отсчитал из тайника сумму. Попы жадные. Ладно.
Семейство свое погрузил он в гиг, и поехали они к церкви. Поп жил во флигеле.
Дверь открыла Попадья – баба вздорная и глупая.
– Вам всем чего? – спросила она. – Убирайтесь, крысиное племя. Ты чего расставилась, подстилка вражеская? Приплелась с басурмановым отродьем в честный дом, гадина? А ты чего выставил на меня свои хлопалки? Поди, поди.
– Надо поговорить с Попом, – сказал Шустрый, и Пацан перевел.
– Я этого ничего не знаю, и батюшка не знает. Ишь, повадились.
Шустрый поднялся на крыльцо и попытался Попадью отстранить. Она заверещала, но тут в гридницу вышел сам Поп. Выглядел он благодушнее, чем обычно – наверное, успел выпить и поесть.
– Тише, женка, тише, – сказал он. – Не ярись так, капундра моя жупёлая. Вам чего, басурманы?
Шустрый вынул из кармана деньги и показал Попу.
– Приму веру, а потом женюсь.
Пацан перевел.
– Завтра, – сказал Поп. – Нет, не завтра. Через неделю. Через месяц. Через сто лет. Пошел вон. Проклятый басурман.
По последнему слову Шустрый определил смысл всего остального.
– Здесь пятьдесят денариев, – сказал он.
Поп, намерившийся было и дальше ругаться, запнулся. И сказал:
– Нет свидетелей. Да и церковь надо открывать.
Пацан перевел.
– Завтра будет поздно, – сказал Шустрый. – Святой отец, не берите грех на душу.
Пацан дважды запнулся, переводя – не хватало слов. Но Поп уловил мысль.
– Учить меня собрался? – спросил он, набычась.
– Завтра женщин увезут. Никто из них актрис делать не собирается.
Пацан удивленно посмотрел на Шустрого. Шустрый сказал:
– Переводи, жопа.
Пацан перевел. Поп воззрился сперва на Пацана, а потом на Шустрого. Помолчали, а затем Шустрый добавил только одно слово, которое и переводить-то не нужно было (а Пацан и не знал, как его переводить):
– Бордель.
Поп переменился в лице. Попадья приготовилась закричать, но он схватил ее за волосы и сказал:
– Иди спать, кобыла старая косматая. Глаза б не глядели. Иди, говорят тебе!
Попадья втянула голову в плечи и ушла.
Поп еще немного постоял, а потом оборотился и потопал куда-то вглубь дома. Шустрый понял, что нужно идти за ним – и пошел. За ним пошел Пацан, а за Пацаном Полянка с Малышкой на руках.
Комната, куда их привел Поп, похожа была на кабинет, только книг было мало. Поп оперся массивным своим задом об письменный стол, посмотрел на Шустрого, и сказал, глядя на ассигнации, которые Шустрый сжимал в кулаке:
– Это все, что у тебя есть?
Пацан перевел.
Шустрый закатил глаза, вздохнул, и сказал:
– Есть еще столько же. Принести?
Пацан перевел.
Поп мотнул головой.
– Спрячь в карман.
Выслушав перевод, Шустрый уставился недоуменно на Попа.
– Грех великий – живешь во грехе, – сказал Поп. – Ты! – он кивнул Пацану. – Скажи ему, что грех это великий.
– Да он знает.
– Не твоё соплячье дело, что он знает. Говори.
Пацан перевел. Шустрый повернулся к выходу.
– Стой, дурак, – сказал Поп.
Шустрый понял и остановился.
Поп открыл ящик стола и вытащил оттуда несколько ассигнаций.
– Больше дать не могу, – сказал он. И Пацану: – Скажи ему.
Пацан перевел. Поп продолжал:
– Ферд твой только срать у крыльца умеет, а гиг дурацкий развалится на первой же колдобине. Возьмешь мой шариот с кобылой. Эй, малый, ты говори ему, не стой с открытым ртом! Возьмешь моего ферда, черт с тобой … Деньги захвати все, какие имеются, бери шлюху свою, малого, и новоснесенное вражье отродье, и езжай себе. До утра не жди. Разбоя в округе большого нет, авось пронесет, только помолиться не забудь. В губернском городе не останавливайся, езжай дальше, и побыстрее. Всю ночь, и потом весь день. Если повезёт, доберешься до Иволги, это такой городок, там заночуете. Рта не открывай, притворись, что немой, пусть малый за тебя говорит. А то ведь удавят басурмана ненароком. … Езжай южными дорогами, там меньше канцелярствуют. За постой плати вперед, и не скупись. Всё, езжайте.
Шустрый выслушал перевод до конца.
– А если я останусь?
– Раньше надо было думать! – сказал Поп, и Пацан перевел. – Раньше! Принял бы веру, женился бы, отметился бы в полицейском участке, заплатил бы Барыне причитающееся за собственность – и всё, баба твоя, и дочурка твоя, и пасынок тоже твой. Но ты стал раздумывать да разгадывать – дораздумывался.
Шустрый возразил:
– Но ведь, согласно закону, я бы тогда был Креп Ост Ной.
– Это еще почему?
– Потому что женившийся на Креп Ост Ной тоже становится Креп Ост Ной.
– Это кто тебе такое сказал?
– Молодой барин.
– Вот же сволочь, – с чувством сказал Поп. – Нет, все наоборот. Во всяком случае, в нашей губернии. Ах сволочь! – Он строго посмотрел на Шустрого, а потом на Пацана. – Я этого не говорил.
Шустрый и Пацан кивнули одновременно.
– Езжай, езжай в свое басурманство. Если хочешь … тфу ты … И женись ты на дуре этой зловредной, иначе нехорошо ведь! Грех! Крести ее в свою басурманскую кахволическую веру и женись, прошу тебя. Всё! Я пойду пока попадью колотить, в разум приводить, иначе она завтра всем разболтает. Она и так разболтает, но поколотишь – может и не сразу опомнится. Ты этого ему не говори! … А, уже сказал? Эх … Всё. Чтоб я вас здесь не видел больше никогда. Всё, всё!
Он замахал на них руками.
18. Серебряники
Шариот Попа действительно шёл, в отличие от гига, очень гладко, молодая лошадь бежала легко. Заехали домой. Шустрый велел всем сидеть в шариоте. Полянка запричитала было, и Шустрый, перепугавшись, что кто-нибудь услышит, ляпнул ее по щеке.
Взяв остатние деньги, съестное, и кое-что из своего столярного инвентаря, Шустрый снова погнал лошадку вперед – но придержал поводья шагов за сто до барской усадьбы.
– Я сейчас вернусь, – сказал он Пацану. – Если маман откроет рот, запихай ей туда что-нибудь, ватрушку, что ли. И следите, чтобы Малышка не запищала.
В саду никого не было. Подобрав с земли камень потяжелее, Шустрый подошел тихо к столу, положил на него пятнадцать денариев, и придавил сверху камнем.
19. Расследование
Первым делом допросили всех дворовых, потом перешли на селян, и выяснилось, что многие были свидетелями ночного визита Шустрого к Попу, и свидетели эти охотно делились информацией, приукрашивая и уточняя наглый и злостный поступок Шустрого, и делали далеко идущие предположения.
Сынок явился к Попу, а тот, защищаясь нападением, стал ругаться сразу после приветствия.
– Сколько ж можно терпеть басурмана у нас! – ругался Поп. – Сил же никаких нет, вражья сволочь живет на нашей земле! Не бывать этому! Скоро к самому государю в палаты влезут!
– Земля не «наша», а моя, – заметил Сынок. – Вы ему денег дали?
– Помилуй, барин, как же не дать. Я бы всё отдал, чтобы он отсюда убрался! Грех это! Несносный басурман совратил бабу и жил с нею, как ни в чем не бывало! Он бы и с мужчиной бы жил в содомстве, если бы остался!
– В содомстве, святой отец, мужчины живут в столице, да еще на позициях, а не в глуши. И в каком же направлении они поехали в твоём целомудренном шариоте, святой отец?
Поп подумал и сказал:
– Туда, знамо. За горы.
И показал рукой на восход.
– Туда? – удивился Сынок. – На прииски, что ли? Обильна златом Земля Ермакова? Не завирайтесь, отче.
– Не веришь – не спрашивай, – отвечал скандальным басом Поп. – Я говорю – туда, значит – туда! Что ж я, врать, что ли, буду! Пред Господом Нашим!
– Я не Господь Наш, что вы, батюшка, я всего лишь местный помещик.
– Не богохульствуй! Господь везде, все видит, все слышит. Как же мне и врать-то пред Ним, душу свою губить – ради чего? Ради басурмана?
– Душу губить – да, не с руки, – задумчиво сказал Сынок, глядя на Попа. – Не знаю почему, но мне кажется, батюшка, что вы хотите ее, совершенно напротив, таким образом спасти. Это похвально, но позвольте вам заметить, что ложь ваша является, при всех богоугодных намерениях, государственной изменой. На Страшном Суде вас могут и помиловать, до него далеко, многое может перемениться, а вот на суде государственном к вашим художествам вряд ли отнесутся благосклонно, ибо время нынче военное. Вы покрываете заведомого врага, возможно лазутчика. Жизни вас не лишат, ибо за вас может вяло заступиться Синод, но каторга вам светит – это уж точно. Я бы мог за вас замолвить слово, у меня много хороших знакомых в известных местах, но сделаю я это только в том случае, если вы скажете, какой дорогой встал на путь фужетивный наш столяр с инфернальным семейством своим. Нет, на восход не нужно мне тут заново показывать, не поверю. А верных дорог у нас тут только две – на запад и на юго-запад. Какую же из них избрал он, скажите, будьте добры.
Попу было очень страшно, но, во-первых, Сынок преувеличивает насчет государственного суда, а во-вторых, он действительно не знал доподлинно, в каком направлении поехал давеча Шустрый.
– Вот тебе крест – не знаю, – сказал он. – Это чистейшая, самая святая правда на свете.
– Не знаете.
– Не знаю.
– Ну и черт с вами.
Через час Поп, сидя у себя в горнице, пил малыми дозами прозрачный горячительный напиток, закусывая его малосольными огурцами и время от времени хватаясь за голову, а попадья ему выговаривала:
– Вот ты наворотил. Ну, я за тебя вступаться не буду. Ишь чего придумал! Ты о семье-то подумал? А? Что немилость и на нас упадет? О детях подумал? Ни о чем ты не подумал!
– Умолкни, проклятая, – отвечал Поп, выпивал залпом, и снова наливал.
20. Направление
Если не знаешь точно, куда ехать, а знаешь только приблизительное направление; если кругом опасность, и неизвестно, где ее больше, где меньше; если разбойник ограбит, жандарм арестует, а простые жители, завидя, могут сдать жандарму просто так, без всякой для себя выгоды окромя возможности позлорадствовать всласть – выбирать нужно где теплее. А теплее – это к югу. Шустрый, человек практический, наверняка выбрал юго-западную дорогу. Так решил Сынок, седлая скакуна.
Купить у соседа. Так посоветовал Шустрый. Цена та же, побочных расходов, возможно меньше.
Много ты понимаешь, Шустрый! Не с руки мне сейчас к соседу ехать. Да и негоже человеку твердому и принципиальному решать заново то, что уже решил ранее.
И Сынок, сложив бумаги в портмоне, полетел по юго-западной дороге.
21. Iura Humana
Велики просторы, амичи, и редки на этих просторах селения, городки и городища, постоялые дворы, ехать нужно долго. От городка к городку перебирался немой столяр с семьей, спал урывками в шариоте, будя Пацана и отдавая ему поводья. Полянка охала, Малышка часто плакала.
Полянка говорила, что чем так страдать и мучиться, лучше было ей «поехать в актрисы». Ну, помыкались бы без нее год-другой, а там глядишь и вернулась бы она. Пацан стал ее стыдить, она огрызалась, а затем Шустрый с помощью пацана объяснил ей, что за актрисы и почему. Пацан, для которого «все это» было не меньшей новостью, и до которого дошло наконец значение слова «бордель», был поражен. А Полянка сказала, что и это не очень страшно, ну и подумаешь, притерпелась бы, а теперь вот она кашляет, потом заболеет и издохнет по милости «всех», и ничего в этом нет хорошего, сколько не ищи.
Дождь перестал, Полянка, оставив Малышку мужчинам, отправилась в придорожные кусты посрать, и долго там возилась, а Шустрый тем временем объяснял Пацану:
– Это она хорохорится, не обращай внимания.
– По-моему, она серьезно говорит.
– Да, и может даже верит в то, что говорит, но ты все равно не обращай внимания. Неужто ты думаешь, что она вот так вот, с легкостью, бросила бы тебя, Малышку, меня – и поехала бы сношаться с чужими мужчинами? Она же своевольная, мать твоя. Ты что, не знаешь? Не потерпела бы она, чтобы ее чужие мужчины лапали. В ней врожденное чувство достоинства. И она этим достоинством дорожит. Да и любит она очень крепко.
– Кого?
– Тебя, Малышку, меня. Не уехала бы.
– Не уверен, – сказал Пацан, хмурясь. – Очень она твердо это говорит.
– Хочешь – проверим?
– А как?
– Есть один верный способ.
Полянка вернулась в шариот, и Шустрый, взяв вожжи, сказал:
– Вот что, Полянка, если тебе действительно так всё надоело, и хочешь ты в бордель, так тому и быть. Разворачиваемся и едем обратно, сдам я тебя с рук на руки Сынку.
И стал разворачивать шариот.
– Что он говорит? Я не всё поняла, – сказала Полянка базарным голосом, но не очень уверенно.
Пацан перевел все дословно.
Полянка насупилась. А Шустрый, развернувшись, щелкнул кнутом, и шариот полетел в обратном направлении. Ехали минуты две, и вдруг Полянка залилась ревом и закричала:
– Нет! Миленькие, да что же это, да за что же мне такое! Нет! Не брошу я вас! Вы без меня пропадете! Нет! Стой!
И вцепилась в локоть Шустрому, чуть не выронив Малышку – Пацан подхватил.
Шустрый остановил лошадь, посмотрел мрачно в умоляющие, полные любви, глаза Полянки, и сказал:
– Больше мне не перечь, блядь такая.
Она поняла. Снова развернулись и продолжили путь на юго-запад, а Полянка накинулась на Шустрого и стала его целовать – в щеки, в губы, в шею, в уши, и тереться щекой о его грудь. Шустрый передал вожжи Пацану, который, держа одной рукою Малышку, еле успел их ухватить.
В третьем по счету городке нашлись постой, ужин, и лавка ростовщика. Пацан, сопровождаемый Шустрым и следующий его инструкциям, улаживал, покупал, договаривался – и справлялся со всем на славу, проявляя находчивость в нужные моменты. Переночевали, и на рассвете снова отправились в путь.
Пошел дождь, и к вечеру все, кроме Малышки, кашляли и ругались с досады.
Прибыли в небольшой город. Некоторые дома оказались каменные. Повстречались по пути несколько калек в остатках униформы, просящих милостыню Христа ради. Местные. Воевать они более не могли в виду увечий, некоторым не хватало конечностей, для работы не годились – лишние рты, не нужные боле ни государю, ни отечеству, ни даже семьям своим в случае тех, у кого таковые имелись. И хотя Шустрый, бывший их противник, спешил, и вовсе не был сентиментален, все же он трижды остановил шариот, и, спрыгнув на землю, молча дал каждому половинку денария серебром, и продолжал путь, не слушая благодарных излияний. Полянка и Пацан тоже молчали.
В центре, возле старенькой деревянной церкви, остановились. Пацан порасспрашивал прохожих. Оказалось, что сразу за городом помещался постоялый двор, бывшая ямская станция, ныне переоборудованная и снабженная дополнительными удобствами вроде ночных горшков. Простыней не нашлось, только солома. Шустрый пообещал себе, что выспится – силы на исходе.
Малышка плакала несколько раз за ночь, а под утро притихла и уснула сладко – тоже умаялась. Рассвет они проспали. Шустрый проснулся от топота ног за дверью. Глянул в окно – солнце забралось на серьезную высоту. В дверь застучали.
Он вскочил на ноги, вспоминая, куда сунул сундучок с заряженным накануне пистолетом. В дверь ударили ногой. И еще раз ударили. Он кинулся к сундучку. Засов отвалился, дверь распахнулась.
– Смирно! – раздалась команда на наречии Шустрого, и он вытянулся, так и не успев открыть сундучок, потому что увидел дуло, направленное ему в лоб.
Пацан вскочил, протирая глаза. Малышка проснулась и заплакала. И после этого окончательно проснулась и рывком приняла сидячее положение Полянка.
За спиной Сынка стояли двое – здоровенные парни.
– Это полиция, – сказал Сынок в ответ на вопросительный взгляд Шустрого. – Наречия вашего они не знают, поэтому я вам скажу, как есть. Фемину мы заберем в любом случае, а вы – как хотите. Терпению моему пришел конец, и одно слово от вас, которое мне не понравится, послужит толчком к развитию неприятных для вас событий, вплоть до казни за эспионаж. Но сейчас они еще не знают, что вы эспьон. Они думают, что вы мастеровой, укравший у меня собственность, и что я готов вас простить и не наказывать, если собственность моя будет мне сейчас же возвращена. Вы должны быть мне за это благодарны. Если малый ваш … – он посмотрел на Пацана … – скажет сейчас хоть что-нибудь … вы понимаете … Не говоря уж о том, что господам блюстителям порядка обещано вознаграждение, и поэтому верят они только мне. Я вижу, что вы пришли к благоприятному для всех выводу. Бушевать не будете?
– Нет, – сказал Шустрый.
– Вот и хорошо. А ты не будешь?
– Нет, – сказал Пацан, косясь на Шустрого.
Сынок оборотился к полицейским.
– Возьмите женщину и отведите в карету. И там меня подождите.
Перепуганную Полянку взяли под локти. Она вздумала было оказать сопротивление, но посмотрела на Шустрого, и он покачал головой – нет. Она растерянно оглядывалась, и ее пришлось слегка подталкивать. За дверью она зарыдала в голос, и у Шустрого сжалось сердце.
Сынок спрятал пистолет и вытащил бумажник.
– Ну-с, – сказал он. – Деток-конфеток считайте моим подарком, так и быть. Да и лишние рты с теперешним упадком – лишняя забота. Свои расходы я не считаю, потерянное время тоже. А за Полянку с меня причитается – те же пятнадцать денариев. Из них я вычитаю два – на горячительные напитки полицейским. Вот, пожалуйста.
Он отсчитал тринадцать денариев и положил их на тот самый сундучок.
– Зря вы не сменили экипаж, господин Шустрый. Поповский шариот бросается в глаза.
– Да, – сказал Шустрый. – Не учел. Жалко.
– Всё, господин Шустрый. Надеюсь, мы никогда с вами больше не увидимся. Я человек вовсе не злой, и поэтому желаю вам в жизни счастия безо всякой меры. – Он повернулся к Пацану. – И тебе тоже. Равно как и сводной сестрёнке твоей.
Он быстро вышел.
22. Кормилица
В приграничном городке нашлась лавка, торгующая ювелирными изделиями, золотом, драгоценными камнями, и прочими предметами вожделения многих. Шустрый держал на руках Малышку, а Пацан торговался – и выторговал на все оставшиеся сбережения двадцать две золотые монеты не очень большого размера. Каждую, даже не прося совета у Шустрого, попробовал на зуб. Настоящие.
Двое нищих просили милостыню возле церкви. На одном был мундир с короткими солдатскими фалдами, на другом картуз ополченца. Ополченец выглядел приемлемо, а вот с солдатом, на взгляд Шустрого, было что-то не то. Шустрый тихо велел Пацану спросить, какого он полку, послушал ответ, присматриваясь к глазам и прислушиваясь к интонации. Конечности у солдата все были на месте. Возможно, он снял мундир с погибшего или раненого; также возможно, что он этого раненого, нищего ветерана, сам же и ранил, а потом прикончил. У нищих свой мир и свои войны. В карманах у Шустрого оставались еще какие-то медяки, и он отдал их нищим.
Нашелся словоохотливый пьетон, который объяснил, что всего лишь двух кварталах отсюда живет солдатская вдовушка, месяца два назад родившая, и буквально вчера ребеночка потерявшая. Пацан, практичный, тут же сказал:
– Кормилица.
Отправились к вдове. Их тогда много развелось повсюду. Постучались.
Вдовушка оказалась худая, мрачная, и не хотела пускать. Пацан кивнул Шустрому, и Шустрый взял вдовушку за горло, чтобы не кричала. Пацан, с Малышкой на руках, объяснил тем временем, что вот, путники они, следующие в края заграничные, а там тепло и сытно, а меж тем вдовушек солдатских с молоком в вымени пруд пруди, не захочет – не надо, придушим и найдем следующую, а захочет – может ехать с ними. А им дитё надо спасать, дитё не ело давно.
Шустрый отпустил Вдовушку. Та с ненавистью посмотрела на Малышку на руках у Пацана.
– Мы тебе заплатим, – сказал Пацан, вынимая золотую монету.
Монета произвела впечатление. Вдовушке хотелось с горя выпить, но было не на что.
– Я не знаю, есть ли у меня еще молоко, – сказала Вдовушка.
Пацан, не обращаясь даже за консультацией к Шустрому, сказал:
– Сейчас проверим. Сядь.
Вдовушка села. Ей дали на руки Малышку. Малышка заплакала. Вдовушка обнажила не стесняясь грудь и придвинула к ней Малышку. Малышка моментально нашла сосок и стала сосать не хуже, чем насос, движимый изобретением господина Уатта. Вдовушка поморщилась. Потом еще поморщилась. Но вскоре щеки ее разгладились, глаза прояснились, а на лице появилось подобие улыбки.
Лет двадцать ей, подумал Шустрый. Может двадцать два.
Накачавшись молоком, Малышка сперва обосралась, а когда ее помыли и закутали, уснула сладко на руках у Шустрого.
– Поедешь с нами, – сказал повелительно практичный Пацан, стараясь не думать о судьбе матери – о ней следовало подумать, и подумать крепко, но после, когда все уладится, когда Малышка будет в безопасности.
– Никуда я не поеду, – мрачно сказала Вдовушка.
Пацан подумал-подумал, и вознамерился уже хлопнуть ее по щеке, чтобы не умничала, и чуть сие не произвел, но Шустрый поймал его руку.
– Послушай, – сказал он Вдовушке. – Мы дадим тебе денег на обратную дорогу, и найдем попутчиков честных. Мы не причиним тебе зла.
Она слушала завороженно звуки чужого ей наречия. Ей действительно нечего было терять. Были в городе кормилицы, которым было чего терять, но Шустрого с Пацаном принесло именно на эту улицу, и именно в этот дом.
Пацан перевел слова Шустрого.
23. Защита отечества от подлых врагов
Дальше дело пошло споро. Боевые действия велись где-то к северу от тех мест, по которым проезжали Шустрый с Пацаном, Малышкой, и Вдовушкой. Нищета кругом стояла страшнейшая, со следами недавних потрясений, но золото действовало безотказно, и почти везде находились и ужин, и ночлег. Одежда приобрела негодный вид – непонятно, какого цвета, где сшита и для каких целей, и это было путешественникам на руку – никто не предполагал в голос, что явились они из иной части коалиции, или везли с собою серьезные деньги. Оборванцев везде полно. Ферда поповского продали вместе с шариотом, и ехали теперь с попутчиками, за небольшую плату.
Везде встречались нищие калеки, на многих – элементы униформы. Некоторым Шустрый давал мелочь – не всем подряд, деньги следовало экономить.
– Мы ведь вернемся за маман? – спрашивал временами Пацан. – Когда вернемся, нужно ей гостинцев будет купить, и платье.
– Обязательно, но только сначала нужно утвердиться, нажить добра, чтобы были деньги, и чтобы маман не срамно было в дом пригласить.
– Это понятно. А долго нужно утверждаться?
– Надеюсь, что не очень.
Прибыли в большой город, основанный еще древними римлянами. Шел октябрьский дождь. Над узкими улицами возвышались готические громады церквей, известняковые стены серели сквозь пелену дождя. На Пацана город впечатления не произвел – он очень устал и хотел спать. Вдовушке город нравился, она таких раньше не видела. Ей также нравился Шустрый, но это она старалась скрывать.
Идя по улице, Шустрый заприметил знакомого в военной форме и быстро отвернулся, и потащил Пацана, несущего Малышку, за рукав. Вдовушка повлекась за ними. Повернули за угол. Нужно было убраться из города, но Шустрый опасался, как бы ему, когда будет его очередь нести Малышку, не пришлось нести еще и Пацана. Необходим отдых.
Нашли постой – мезон о трех этажах для заезжих, заплатили вперед за ночь, но не успели еще взять ключ от комнаты, как в крохотный вестибюль вошли трое – все военные.
– Хо, Шустрый! – сказал жуайельный голос.
Оказалось – давнишний знакомый, вместе служили.
Вдовушка смотрела испуганно, а Пацан делал вид, что слишком устал и смотрит на всех мутными сонными глазами, тем более что это было правдой. Хотя на самом деле он тоже боялся.
– Привет, – ответил Шустрый, стараясь улыбаться.
– Ну! Где пропадал, почему живой?
– Ребята, мне нужно выспаться, я вам всё завтра расскажу.
– Это хорошо, что расскажешь, а только до завтра ждать нельзя.
– Почему?
– Никак нельзя, Шустрый! Что это ты на улице от меня нос воротил?
– Не воротил.
– Сделал вид, что не замечаешь. Нехорошо, солдат! Ты не дезертир ли часом?
– С чего ты взял!
– И не лазутчик вражеских сил? А?
– Ну какой я лазутчик!
– Это жена и дети твои?
– Э…
– Парень на тебя совсем не похож. Женка ничего, грудастая. Как поживаете, мадам? Ну да ладно. Парень большой, авось и прокормит семейство в твое отсутствие. Ну, пойдем, Шустрый.
– Куда пойдем?
– Как куда? В казарму. Куда ж еще. Кончилось твое увольнение, Шустрый, на рассвете выступаем. Лишняя одежонка солдатская найдется, мушкет ты получишь. Ужином накормим. Можешь и жену с детьми взять с собою на предмет ужина, потом домой сами доберутся.
– Слушай, я сейчас не могу.
– Не можешь – значит дезертир. В отставку решил выйти? Не выйдет, Шустрый. Ну, в крайнем случае, если будешь настаивать, можем тебя расстрелять, как дезертира. Шучу. Да ты не бойся, это ненадолго, через месяц-другой дома будешь. Император дает коалиционным псам решительнейший бой, всех победит одним махом! А потом мир на пару лет. Будешь ты герой, Шустрый! Повезло тебе. Идем же.
Практичный человек, Шустрый прекрасно понимал, что к чему.
Потеряв почти все войско в раннем снегу на востоке, разгромленный тиран, отказавшись повергаться, набирал и добирал новые батальоны непрерывно, все ужесточая методы и все снижая критерии отбора. Первыми пошли к нему не управившиеся поучаствовать в восточной кампании вояки, за ними ринулись те, кого жизнь в войске манила относительной сытостью по сравнению с жизнью вне войска. Потом шли те, кто не очень хотел – но понимал, что облегчит таким образом житье родным и близким – потому что продовольствия на истощенных поборами в пользу войск территориях хватало далеко не на всех. Но кончились и такие рекруты – теперь посланцы императора уж и просто скоблили по дну бочки – за вознаграждение и привилегии офицеры выполняли сдельную работу, забирая всех, кто мог держать в руках мушкет и самостоятельно передвигаться по ландшафту. И совершенно все равно, если есть у новобранца дети, старики-родители, братья-сестры малолетние – такое время, не до мелочей теперь. Возможно, что за здоровых и бывалых платили больше – Шустрый, здоровый, крепкий ветеран, был удачной находкой рекрутирующего офицера. Даже будь он, Шустрый, дезертир – об этом ведь вовсе не обязательно сообщать.
– Жене и парню надо поспать, – сказал Шустрый веско. – Очень устали. Я их только в комнату отведу и баиньки уложу.
– Мы пойдем с тобой.
– Нет. Подождите меня здесь. Ну не убегу же я! Здесь только один выход. Мне нужно дать им инструкции.
– Какие?
– Частное дело. Семейное.
Подумав, офицеры согласились.
В комнате Шустрый не стал даже запирать дверь, сразу насел на Пацана.
– Название моего села помнишь?
Пацан, глядя испуганно, кивнул.
– Как туда добираться помнишь? Названия рек?
– Да.
– Поспите тут пока что. Если я не вернусь до завтра, разменяешь здесь пять или шесть монет на медяки и отправишься, с Малышкой и … этой … Остальные не меняй. И не подавай виду, что они у тебя есть. Везде говори, что едете к дяде. Твоему дяде.
– Я без тебя не поеду…
– Заткнись. Делай, что велят. Как моего брата зовут помнишь?
Пацан кивнул.
– Расскажешь ему всё. Он тебя не прогонит. Он единственный приличный человек во всем регионе, ему нужно держать марку. С женой его не цапайся, она стерва злопамятная. Он пекарь, учись у него пекарному делу. Понял? С этой дурой расплатись, найди ей провожатых на обратный путь.
– Чего это я ей буду платить? Ей уже заплачено, да и кормим ее все время, она за троих жрет.
– Ты это брось, – устало и зло сказал Шустрый. – Нельзя обманывать, и нельзя воровать. Из последних даже денег – извернись и заплати ей, понял? Иначе, когда я вернусь, я даже разговаривать с тобой не стану никогда, выгоню на просторы! Мне в роду татей не надобно! Ясно? Блядский бордель, ясно, я спрашиваю?
Пацан снова кивнул.
Шустрый снял с шеи медальон и надел Пацану. Пацан мрачно смотрел на него.
Шустрый отворил окно, поглядел вниз. Повернулся. Пацан положил Малышку на кровать рядом с сидящей Вдовушкой. Шустрый подошел и поцеловал ее, спящую, в нос. Обнял Пацана, и его тоже поцеловал в нос. Подумал, и поцеловал Вдовушку в лоб. Она опешила. Шустрый быстро перелез через перильца окна, повис на руках, и спрыгнул вниз со второго этажа.
В комнату вошли минут через пять. Обнаружили, что Шустрый отсутствует. Велели Вдовушке взять Малышку на руки. Она поняла и взяла, ни слова не говоря. Поманили Пацана. Вывели. И повели всех в казарму.
В казарме Пацана и Вдовушку покормили, и смотрели с интересом, как Вдовушка кормит Малышку. Через час пришел Шустрый – следил, мучился, и не выдержал.
24. Взрослый поневоле
Переночевали в том же мезоне, куда ранее определялись на постой, теперь без Шустрого. На утро Пацан обнаружил себя в непривычном положении: он являлся теперь безусловным главой странного семейства, состоящего из сводной сестры трех месяцев от роду и посторонней женщины, Вдовушки-кормилицы, которой, судя по всему, некуда было идти.
У него не было твердой уверенности, что ему самому есть куда идти.
В незнакомые края он направлялся с Шустрым, а теперь, без поддержки Шустрого, какого ему придется там?
Ехать выручать мать из беды – бессмысленно. Ему еще нет пятнадцати лет, а денег едва ли только на путешествие хватит – с кем он там будет бороться, какими способами, из каких средств давать взятки? А и освободит он мать из борделя в столице – что дальше? Возвращаться в имение Барыни и Сынка? Они тут же маман пошлют обратно, а его выпорят, и этим всё закончится.
Нужно продолжать путь, найти город, возле которого расположено селение, где живет брат Шустрого. Самого его брат, может, и не примет, но уж племянницу свою, родную кровь, взять должен. После этого Пацан останется с Вдовушкой с тусклыми глазами – и все, больше никого кругом нет, а деньги к тому моменту кончатся.
25. О терпении
Полянку доставили сперва в деревню, а затем, в составе запланированных двух дюжин, в столицу, в трехэтажный дом на окраине со множеством комнат.
Несколько дней девушек и женщин кормили, учили подмываться «по-городскому», и помимо этого было им выдано по два платья каждой – платья всем понравились, кроме Полянки, которой было все равно.
Полянка молчала, ела мало, ни с кем не говорила.
Вскоре появились первые клиенты. При первой же попытке ею овладеть Полянка чуть не откусила клиенту ухо. Скандал замяли, клиента щедро одарили, Полянку выпороли и посадили в армарио на три дня, держа ее на хлебе и воде. Затем повели мыться.
Следующему своему клиенту Полянка попыталась выцарапать глаза. Ее еще раз выпороли, снова заперли.
Опасная Личность велела Сынку разобраться и взять дело под контроль. Сынок пытался говорить с Полянкой, но что бы он ей не обещал, Полянка оставалась непреклонной.
Прибыла сама Барыня, познакомилась с Опасной Личностью, порассматривала векселя, объявила Сынку, что видеть его не желает, и пусть он на некоторое время куда-нибудь удалится, в какую-нибудь гостиницу, в сопровождении одного слуги, коему вменялось бы следить, чтобы в карты Сынок не играл.
Полянку на неделю оставили в покое, из дома не выпускали. Она маялась в отведенной ей комнате.
Затем пришло письмо из далеких весей от Шустрого. Письмо это, разбирая по слогам, прочла Полянке, очки себе на нос водрузив, Опасная Личность.
«Любовь моя», писал Шустрый, «не всегда в жизни получается так, как мы хотим». Наречие Шустрого, как уж было сказано, Полянка понимала не очень хорошо, а Опасная Личность коверкала некоторые слова, но смысл Полянка уловила. Писал Шустрый, что обстоятельства заставляют его забыть о ней, спасшей его, и родившей ему дочь. В весях, где он, Шустрый, появился на свет, есть у него семья, дом, и дело. Он обещал, что Пацану и Малышке будет хорошо – очень хорошо. Что они вырастут вольными и ни в чем не нуждающимися.
Это последнее убедило Полянку. Раз детям будет хорошо, то все остальное, наверное, менее важно. С Шустрым она не обвенчана, Малышку прижила с ним во грехе, и хорошо еще, что так все кончилось, могло быть и хуже.
На некоторое время впала Полянка в полнейшую апатию, перестала есть.
А по прошествии еще некоторого времени пришла ей в голову мысль: вот, например, вырастет Пацан, станет столяром, как Шустрый. Свободные столяры много зарабатывают. И вот, скажем, пройдет лет десять или двадцать, и приедет Пацан ее, Полянку, разыскивать. И даже захочет ее, например, купить. Хорошо бы было! Следовательно…
Следовательно, подумала Полянка, нужно ждать и терпеть.
26. Прекрасен мир
За время общения с Шустрым Пацан привык либо болтать, либо слушать, и теперь ему очень этого не хватало. По первости он хотел было пообщаться со Вдовушкой, но та отвечала односложно на любые вопросы, либо вообще не отвечала, что, конечно же, является признаком дурных манер, но ничего не поделаешь, некоторых людей хорошим манерам за несколько дней научить невозможно. Вдовушка исправно кормила Малышку, когда они ехали в ривьебату, необременительно и всегда ненадолго отлучалась, когда ей нужно было поссать, посрать, или подмыться, ела любую пищу не капризничая, и молчала.
Смену пеленок они производили по очереди.
Ривьебату следовал в южном направлении.
По берегам росли деревья, и листья на них были частью все еще зеленые – в отличие от более северных мест, и было чуть теплее, чем раньше, и вообще было много впечатлений, и Пацану хотелось выговориться, особенно сейчас, он чувствовал себя одиноким – и стал он было искать общения с попутчиками, но Вдовушка его остановила. Взяв его за рукав, она потянула его к себе. Он приблизил ухо к самым ее губам, и она сказала:
– Будет лучше, если ты не будешь ни с кем болтать. Если тебе хочется подремать, привались мне на плечо. Но разговоров ни с кем не заводи, так оно спокойнее.
Он оценил ее выдержку, и даже не обиделся – просто кивнул. И стал смотреть на воду, а потом и вовсе задремал, заклевал носом, и когда осознал, что клюет носом, а это не очень удобно, и шея затекает, действительно положил голову Вдовушке на плечо.
Прибыли в еще один большой город, в котором, как оказалось, стоял военный контингент. Как всегда на большой войне, трудно было определить, что за контингент, за кого воюет, а также – кому именно в данный момент принадлежит эта территория. В городе везде толклись солдаты в униформах, с мушкетами, говорящие на непонятном Пацану наречии. Это его слегка шокировало – он-то думал, что наречий на свете всего два, и он владеет свободно обоими. Некоторые невоенные жители города тоже говорили на этом же непонятном языке. Тут он вспомнил кое-что, и заключил, что на наречии этом говорят люди, которых Шустрый назвал «северо-восточными соседями». Так казалось по интонациям – что-то похожее звучало в интонациях Ресторатора.
Практичный Пацан, глядя на население, нашел, что оно одето чуть лучше нищих северян, и что они с Вдовушкой, в тряпье, слегка выделяются на этом фоне, что нежелательно. Никого ни о чем не спрашивая, он повел странное свое семейство по улице и вскоре повстречались они с лавкой старой одежды. Возможно до войны тут продавали новую одежду, или шили на заказ. Успев присмотреться (как он думал) к местным, Пацан выбрал себе почти новый синий сюртук, темные панталоны, и красивые башмаки с пряжками. Сделав один шаг в этих башмаках, он тут же их снял – очень жалко, но оказались они неудобные, а ему нельзя сейчас стирать себе ноги, он отвечает за Малышку. Менее броские кожаные башмаки, потертые, оказались в самый раз. Он взял у Вдовушки Малышку и велел ей выбрать себе чего попроще. Вдовушка обошла лавку несколько раз. И потом еще один раз. И потом еще. Пацан извелся, глядя на нее. Наконец она выбрала себе какое-то очень строгих тонов платье.
– Вот ничего, – сказала она.
– Нет, – сказал Пацан. – На тебя будут на улице оглядываться.
– Остальное здесь ужасная дрянь, – сказала Вдовушка.
– Не до красоты, – заявил Пацан. – Выбери что-нибудь другое. И побыстрее, иначе я тебя просто задушу. – И добавил на наречии Шустрого: – Блядский бордель…
Вдовушка слегка, кажется, обиделась, но все же нашла что-то цветастое и одновременно выцветшее, с нелепыми украшениями на плечах и боках – она уже хотела отложить платье в сторону и идти смотреть другое, когда Пацан сказал:
– Вот, то что нужно. А дрянь эту на боках можешь оторвать к чертовой бабушке.
Он расплатился с хозяином лавки.
На пристани Пацан некоторое время прислушивался к говору то того, то другого человека, пока не услышал знакомое наречие. Подойдя к двум собеседникам и ведя Вдовушку за руку, он осведомился, в какое время отплывает следующий ривьебату. Оказалось, что только утром.
В вестибюле маленького грязного отеля, пока портье принимал плату и искал ключ, к ним подошли четверо явно выпивших солдат. Увидев деньги, Пацана, и Вдовушку с Малышкой, солдаты воодушевились и подошли ближе. Один из них сказал что-то развязное, изображая вежливость. Другой потянулся, чтобы погладить Вдовушку по щеке. Она отстранилась, а Пацан встал между солдатом и Вдовушкой. Солдат улыбался, одновременно размышляя, насколько сильной должна быть оплеуха, выданная Пацану за вмешательство, и в этот момент Вдовушка сказала ровным голосом, с оттенком бескрайнего презрения, на наречии, понятном солдатам:
– Что это ты себе позволяешь, майн херц? А твои дружки – они из-под какого замшелого камня выползли? Я вдова майора фон Клайста. Путешествую инкогнито, посещаю кузину. Вы не желаете ли, чтобы о вашем поведении узнал генерал Рёсс?
Услыша слова и интонацию, солдаты слегка подобрались, а при звуке обоих имен и вовсе вытянулись почти в струнку, глаза долу.
– Убирайтесь, и не смейте мне более попадаться на глаза – никогда! – гневно сказала Вдовушка, сверкнув дотоле блеклыми глазами.
На солдат было жалко смотреть. Они сглотнули – почти одновременно – и стали отступать, время от времени слегка кланяясь.
Меж тем клерк отеля наконец вылез из каморки и сдал гостям комнату на третьем этаже.
Заперев дверь, Пацан спросил:
– Что ты им сказала? Что за … наречие … такое?
– Не твое дело, – отрезала Вдовушка. – А ты будь находчивее в следующий раз. Они за нами увязались, когда ты прилюдно вытащил золотой.
– Я?
– Ты. Искал деньги на хлеб, и вытащил. Трудно было не заметить.
Это было вовсе не то, что ей хотелось бы ему сказать.
Например, ей хотелось бы ему сказать, что она действительно вдова – именно майора фон Клайста. И что на пограничье есть много смешанного люду и много смешанных же браков. И что с обеих сторон, отцовской и материнской, течет в ней самая настоящая дворянская кровь. И что имя фон Клайст очень хорошо известно среди контингента северо-восточных соседей, и что невероятно он почитаем и любим – особенно начальством, и что начальство обожает оказывать единовременные необременительные услуги вдовам и сиротам прославленных воевод.
Но ничего этого она не сказала – не сочла нужным.
Выспались, поели в припортовой таверне, и отправились в путь, вниз по реке. Осень в этих краях буйствовала значительно мягче, чем на севере и на востоке, солнце грело, а не просто подсвечивало, ветер освежал, а не кусался, другие пассажиры – в основном купеческого звания – проявляли дружелюбность и не досаждали праздными разговорами. Вдовушка прикорнула на одном из сидений и первый раз за долгое время крепко уснула. Когда часа три спустя Пацан обнажил ей одну грудь и пристроил сверху Малышку, Вдовушка обняла ее одной рукой не открывая глаз. Когда Малышка насосалась до изнеможения и колик в пузе, Пацан взял ее на руки, быстро прикрыв грудь Вдовушки.
Тактичный народ – эти соплеменники Шустрого! Никто не пялился, не мешал, не шутил глупо. Впрочем, может это только купцы тактичные. Это еще проверить надо.
В следующем большом городе Пацан, сопровождаемый неотлучно Вдовушкой с Малышкой на руках (в таком раскладе они, по мысли Пацана, производили наиболее благоприятное впечатление – младший брат, старшая сестра с дочерью) выяснил, что для дальнейшего путешествия следует пересесть на почтовую барку.
Вдовушка восприняла барку равнодушно, как и все остальное, а Малышка вообще ничего еще не соображала. Другие пассажиры, человек семь или восемь, мужчины, переговаривались между собой, шутили, некоторые обращались к Вдовушке (она молчала в ответ) и к Пацану (он отвечал односложно, памятуя о совете странной своей спутницы) – купцы и зажиточные фермеры, в основном – не восхищались происходящим, но самого Пацана барка и то, что было дальше, потрясли до глубины души.
Шустрый упоминал что-то о каналах, о том, как плоскодонную посудину с крытым парусиной верхом волочит канатом, вышагивая по специальной мощеной дорожке вдоль канала, целенаправленный мул. Но он ничего не рассказывал ни о том, что канал идет то через лес, то через поле, под ласковым южным солнцем, ни о том, что по пути встречаются эклюзы.
Когда барка приблизилась к первому эклюзу, Пацан вытаращился, повернулся к Вдовушке, и, одной рукой держа Малышку, молча показал пальцем. Вдовушка пожала плечами. Пацан сделал большие глаза, приблизил свое лицо к лицу Вдовушки, и спросил:
– Ты знаешь, что это такое?
Она сказала тихо и равнодушно:
– Шлёйзе.
На эклюзе появился смотритель, сутулый но мощный дядька в расстегнутой на груди рубашке и сюртуке, в высоких сапогах, и стал вертеть рычагами. К ужасу и восторгу Пацана впереди зашумело, и вода в канале начала вместе с баркой опускаться вниз, обнажая крепкие каменные стены эклюза. Когда барка опустилась, казалось бы, на самое дно, смотритель снова повертел какие-то рычаги, и ворота впереди начали плавно отворяться, а за ними открылась следующая часть канала, та, что ниже. Барка продолжила путь. Ради одного того, чтобы все это увидеть, стоило пересечь полмира. Пацану очень хотелось поделиться своим восторгом, но делиться было, несмотря на обилие людей вокруг, не с кем.
27. Новая семья
В вилль от близлежащего городка они шли пешком. Можно было нанять кого-нибудь с лошадкой и шариотом, но Пацан объявил, что деньги кончились. На самом деле у него оставались еще целых две золотые монеты, но он решил их приберечь на крайний случай.
Над виллем возвышалась, раза в четыре превосходя высотой самый высокий его дом, готическая церква. Выглядела она еще величественнее, чем городские церкви. У столиков таверны, и внутри, и снаружи, сидели местные жители, отдыхая от забот – был полуденный перерыв. Почти все дома в вилле оказались каменные, либо частично каменные, и имели такой вид, как будто их построили несколько столетий назад. Черепичные крыши очень понравились Пацану – яркие, жуайельные. Жители, правда, выглядели мрачновато. Мужик средних лет, приглянувшийся Пацану, молча выслушал все вопросы, не ответил ни на один, и пошел своей дорогой, не прощаясь. Наверное, он немой, решил Пацан. И обратился к женщине с корзинкой, которая послушала-послушала, и сказала:
– Чтоб вам всем сдохнуть.
И пошла себе.
Пацан удивился.
Повстречался молодой мужчина в чем-то длинном, до самой земли, черном – местный поп, предположил Пацан, и сразу к нему обратился.
– Да, знаю Пекаря, у нас тут его все знают, – жуайельно отозвался местный поп. – Добрый день, мадам.
Вдовушка кивнула и поправила что-то там на Малышке, без надобности, и возможно просто из стеснения.
– Все наши нынче на него злы, – продолжал местный поп. – Он вчера задрал цены на все, что продает, скотина такая. Винить его нельзя – у него те же убытки, что и у всех, и цены на зерно, понятное дело, сказываются, и мельник тоже лютует с ценами, но все свалилось именно на Пекаря, поскольку он производит конечный продукт. Вон там за холмом пекарня, по правой стороне улицы.
Только теперь, шагая в указанном направлении, Пацан отметил, что помимо сердитости многие жители городка выглядят – ну, не то, чтобы пьяными, а так, слегка навеселе.
Объяснялось это просто. Несколько лет подряд в соседней, знаменитой на весь мир, провинции выдавался фантастический урожай винограда. Собрали и растолкли столько, что девать было некуда. Поборы в пользу армии следовали один за другим, но уменьшалось лишь количество еды, а вино не убывало, и стоило очень дешево. Но вином сыт не будешь, особенно на голодный желудок.
Однорукий калека в униформе сидел, привалясь к стене церкви, и вроде бы дремал. Рядом с ним стояла недопитая бутылка с вином.
Парадная дверь под вывеской, ведущая в пекарню, казалась маленькой, неказистой, будто стеснялась сама себя. Пекарня занимала весь просторный первый этаж, а на втором, скорее всего, жил сам пекарь. Прилавки стояли пустые, но в глубине помещения явно горели печи – оттуда шел жар. Пацан позвал:
– Ола! Есть кто нибудь?
Откуда-то издалека донесся голос:
– Идите все к дьяволу! Перерыв!
Пацан посмотрел на Вдовушку с Малышкой на руках. Вдовушка на него не посмотрела. Никакой поддержки.
Вот сейчас сдам племянницу на руки дяде, дам Вдовушке предпоследнюю золотую монету, пусть катится куда хочет, а сам наймусь юнгой на пиратский корабль, подумал он. Шустрый много рассказывал про пиратские корабли, просоленные палубы, напрягшиеся паруса, пьянящий ветер с брызгами, сокровища, взятие купеческих судов на абордаж, и прочие увлекательные вещи.
Он пошел на голос. Прошли два помещения с печами, мешками с мукой, плошками, утварью – пусто. Пекарь обнаружился на заднем дворе, сидел один у плетеного столика под деревом и пил из высокого стакана красное вино, как какой-нибудь древнегреческий философ.
– Добрый день, – сказал Пацан.
Пекарь нехотя обернулся.
В том, что он брат Шустрого, сомнений не было. Похож. Даже очень похож. Так же сложен – ну, может плечи чуть шире – такой же рыжеватый блондин. Вот только лицо не озорное, а мрачное, суровое. Нос крупнее, чем у Шустрого. И одна нога деревянная.
– Тебе чего? – спросил он.
– Это твоя племянница, – сказал Пацан, указывая на Малышку на руках у Вдовушки. – Дочь твоего брата. Сам твой брат на позициях сейчас, а это его дочь. Мы хотим есть. И помыться было бы неплохо.
Пекарь помолчал, потом встал и проковылял на деревянной ноге к Вдовушке. Посмотрел на Малышку.
– Ты ее мать? – спросил он.
– Она по-нашему не говорит, – поспешил объяснить Пацан.
– Не говорит? Уж не из северо-восточных ли соседей?
– Что-то вроде этого.
– Мать?
– Нет. Кормилица. Ты ее не обижай.
– А мать где?
– Не твое дело.
– Всё, идите отсюда. Быстро. Пока я не рассердился.
– Не спеши, – по-взрослому сказал Пацан. И снял с груди медальон.
Пекарь уставился на медальон. Взял в руки. Повертел.
– Ну, я не знаю, – сказал он. – Правда, что ли?
– Брат твой велел мне все тебе рассказать. Но сначала дай поесть. Тогда может и расскажу, блядский бордель.
Пекарь усмехнулся.
– Садитесь, сейчас принесу.
Через некоторое время Пацан и Вдовушка ели суп – совсем такой, как готовил Шустрый, невероятно вкусный – а Пекарь держал на руках Малышку и рассматривал ее. И пытался расспрашивать Пацана о том, о сём, но Пацан отвечал односложно и уверял Пекаря, что подробнее расскажет после, а сейчас очень есть хочется.
А потом пришла пекарская жена – полноватая черноволосая хохотушка из совсем-южных соседей («Римляне мои прибыли!» – объявил Пекарь без улыбки) с тремя детьми, один мальчик и две девочки, и в саду стало сразу жуайельно и уютно. Хохотушка стала общаться с Вдовушкой, что-то ей говорить, всякие глупости, Вдовушка отводила глаза, но в конце концов улыбнулась – Пацан никогда раньше не видел ее улыбку. Он стал ей переводить глупости, а дети резвились вокруг – бегали друг за другом, кричали друг на друга, и даже дрались – разговоры взрослых были им скучны, и Пацан понял, что он уже взрослый. Ну, может не совсем еще, но почти.
– Рассказывай подробно, – потребовал Пекарь.
И Пацан стал рассказывать. Рассказывал он сбивчиво, прыгая от события к событию, и не в хронологическим порядке. Ему не хватало слов, чтобы все объяснить, обрисовать быт барыневой усадьбы, о некоторых вещах ему стыдно было говорить, а об иных он просто не знал. Но слушали его Пекарь и Хохотушка очень внимательно. Хохотушка сидела рядом с Вдовушкой и угощала ее кофием и вкусностями, и гладила по плечу – очень прониклась судьбою этой молчаливой женщины. Малышку ласкали то Пекарь, то Хохотушка, и даже дети несколько раз подошли погладить – всем она, Малышка, нравилась. Врожденное обаяние, наверное.
Выяснилось, что Пекарь потерял ногу на недавней войне, той, которая предшествовала восточной кампании.
28. Интермеццо
– Что же было дальше? – спросил Жених, приподнявшись на локте и с восторгом глядя на полуобнаженную свою молодую невесту, сидящую в красивой позе на постели, с распущенными волосами, с бокалом вина в руке. – Дальше что?
– Не кричи, – предупредительно сказала Невеста. – А то узнает мой братик, чем мы тут с тобой развлекаемся до свадьбы, и такой нам шторм устроит с молниями и шквалами – ты знаешь, нрав у него крут! Сам сперва полгорода переёб, а потом женился и сразу стал ханжить напропалую.
– Сей дворянин из мещан действительно не отличается покладистостью, – согласился иронически Жених.
– Ого! Ты что же, титулом своим решил передо мною павлинить? – притворно удивилась невеста, вздымая рыжеватые брови. – Молчи уж. Без денег братика моего сидели бы мы с тобой в глубочайшей жопе, родословную бы твою читали по вечерам на каком-нибудь чердаке.
– Я не против, – уверенно сказал Жених. – Я бы тебя прокормил. Мы неделю только торчим в северной столице, а у меня уж три заказа на портреты.
– Да, ты у меня очень одаренный, – сказала Невеста. – С другой стороны, если бы не влияние братика, не видать бы тебе этих заказов … Ну ладно, ладно, не сердись.
– Расскажи, что было дальше.
– Расскажу, пожалуй. Вдовушка четыре года спустя вышла замуж и нарожала кучу потомства, муж служил в мэрии … Оно, правда, по секрету скажу тебе, что первый ее отпрыск черты лица имеет замечательные – на братика моего очень похож, очень. Первая любовь, как я понимаю.
– Ага, – сказал Жених. – Я так и думал.
– Ничего ты не думал, – заверила его Невеста. – Это я тебе только что сказала, а может всё неправда! Может я специально тебе голову морочу.
– Я опять же не против. Обожаю, когда ты мне морочишь голову. Что сталось с Шустрым?
Она поставила бокал на прикроватный столик, поменяла позу, и сказала:
– По всей видимости, отец мой погиб в так называемой «Битве Народов», коя имело место через десять дней после того, как его рекрутировали.
– Бедный парень!
– Золотой человек был, судя по тому, что о нем братик рассказывает.
Жених некоторое время думал, а Невеста им любовалась.
Он спросил:
– И всё это ты знаешь со слов господина Барона?
– Ты опять за свое! Не язви, любимый, а то по уху дам. Братик мой титул себе купил, это верно. Что в этом плохого? Коммерция честнее разбоя, коим занимались твои предки.
– Мои предки были разбойники?
– Конечно. А что же, были в старину иные способы приобрести титулы и земли?
– На войне.
– А войны кто ведет?
– Аристократия.
– А она аристократией стала потому, что народ к ней пришел и земли свои подарил? Или все-таки имел место вооруженный захват, он же разбой?
– С тобой не сговоришь! Ладно, рассказывай, что было дальше.
– Дальше … Дальше были годы. Шли годы.
29. Коммерческий успех
Шли годы. Окончательно поверженный тиран отошел в мир иной на одиноком скучном острове посреди океана. Первый Жандарм Европы, бледный, лысый, и вечно мрачный, вскоре за ним последовал, чем воспользовалась молодая знать в северной столице. Государственный переворот не удался – несколько пушечных залпов по мятежникам дали всем понять, насколько серьезный человек новый государь, Второй Жандарм Европы. Судя по слухам, именно там, на обстреливаемой пушками площади, и погиб бывший любовник Барыни, любитель охоты в холодную пору. Впрочем, в новом, теперешнем ее статусе он, любовник, не захотел бы с нею и знаться.
Одним из первых указов нового государя был указ об легализации публичных домов столицы. Гетеры подвергались теперь строгому учету, и проверялись государственными медиками раз в неделю на предмет болезней.
А тем временем в другой части континента росла и ширилась империя иного толка – торговая. И в монархиях, и в республиках вошли в моду бюро, шкафы, столики, и прочие предметы обихода, производимые знаменитым концерном, во главе которого стоял некий безродный (как поговаривали) южанин, приемный сын Пекаря. Говорили, что сперва он учился пекарскому делу, потом стал владельцем нескольких ресторанов, но в конце концов выбрал для себя именно столярничание, и изделия его почти сразу стали популярны. Он переехал в столицу – Город Света, как говорили уже тогда – там устроился подмастерьем, был произведен в ученики, затем в партнеры, и вскоре стал полноправным владельцем. Приемный его отец, одноногий Пекарь, приглашен был вместе с семьей и сводной сестрой…
– Это, как ты понимаешь, я, – самодовольно сказала Невеста.
– Да, понимаю, – согласился Жених.
…в столицу, где Пацан составил ему протекцию, и вскоре появилась в столице новая пекарня, очень популярная. Столицу несколько раз тряхнуло – бунты следовали один за другим – но аристократия, некогда разгромленная тираном, держалась за власть, как клещ за жопу, отстреливалась, и на каждый бунт отвечала репрессиями. Ни на мебельное дело, ни на пекарню это почти не влияло.
30. Жуайельный император
Барон велел кучеру остановиться за квартал от церкви, а мощному свирепому Азиату, нанятому им для охраны и защиты от случайностей, посидеть в шариоте. Церковь эта окраинная за год изменилась разительно. Не текла более крыша, не дул в щели ветер, одаривая служителей и прихожан простудой, стены заново отштукатурили и побелили, купола позолотили – стояла церковь будто новая. Барон отметил про себя, что не ошибся. Год назад он был здесь проездом, случайно зашел, и случайно увидел Попа, которого помнил с детства, а Поп его не помнил совершенно. Оставил Барон Попу пачку ассигнаций, зная заранее, что этому, данному Попу, доверять можно – себе он из денег, пожертвованных на приход, не возьмет ни гроша, сколько бы не пилила его сварливая Попадья.
И вот теперь, утвердившись в этом своем убеждении, входя в храм и видя у алтаря знакомую фигуру, Барон улыбнулся и решил, что, как и в прошлый раз, не будет лезть к священнику с излияниями, не будет требовать, чтобы тот его узнал, ни о чем не будет его расспрашивать – а просто оставит ему незаметно столько же, сколько в прошлый раз.
Он конечно же выделялся среди окраинных прихожан – толстый, розовощекий, лысоватый иностранный купец, в роскошном фраке, богатой шубе с бобровым воротником, со щегольской тонкой тростью в руке.
Священник, враждебно настроенный к иностранцам, не замечал Барона просто из принципа.
Отстояв службу и сделав то, что намеревался, Барон тихо вышел и снова сел в шариот нанятого им ранее лихача.
Через четверть часа лихач подкатил к особняку над каналом. Барон велел подождать, и свирепый Азиат остался в шариоте. С легкостью удивительной для такого грузного тела, Барон в три прыжка одолел высокую лестницу.
Горничная открыла дверь и впустила гостя.
Минут через пять в гостиную вышел Император.
Барон вскочил и склонился в поклоне перед его величеством.
– Добрый день, Барон, – попроветствовал его правитель. – Рад вас видеть. Прекрасно выглядите! Какие новости?
– Вот, ваше величество, как и обещал…
Барон вытащил из портмоне кожаную папку и раскрыл ее на столе перед Императором.
– Ага! – сказал Император. – Прекрасно, прекрасно!
И он стал рассматривать, страница за страницей, чертежи шкафов, секретеров и бюро.
– Замечательно, – сказал он наконец. – Безупречный вкус! Стало быть, летняя резиденция и … вот этот самый особняк, Барон, в котором мы сейчас находимся. Сколько вы с меня возьмете?
– Ваше величество, я бы с превеликим удовольствием подарил бы вам все это, но монархам не к лицу получать подарки от человека, о котором ходят слухи, что титул свой он купил.
Император хохотнул.
– Вы действительно купили себе титул?
– Да, государь. У меня не было выхода. В прошлом моем звании аристократия не желала иметь со мною никакого дела.
– Вот же прощелыги! Откуда столько ханжей кругом, а? В наше-то просвещенное время! … И что же, с тех пор доходы ваши выросли?
– Да, государь.
– Аристократы много мебели нынче покупают?
– Нет, ваше величество.
– Нет?
– Покупают мало, и, между нами говоря, норовят заплатить как можно меньше. Иногда приходится продавать в убыток.
– Как же так! Зачем же вы продаете?
– Всякий раз, когда аристократ покупает у меня одно бюро, тут же прибегают десять богатых купцов, и покупают столько, что я порою не успеваю производить.
– Ах вот почему вы хотели бы мне подарить все это! Если десять купцов прибегают за аристократом, то за императором…
– За императором их прибежит тысяча, ваше величество.
– Остроумно! Купцы тщеславны?
– Гораздо более, чем аристократы, государь.
– Как это забавно! Ну, стало быть, мне вы все это продадите…
– По номинальной цене.
– Как это оказывается выгодно – быть императором!
– И не говорите, государь! Я всякий день вам завидую.
Император рассмеялся. Барон позволил себе улыбнуться.
– Но, – заметил император, – мне далеко не все дешево достается.
– Дело не в дешевизне, государь.
– А в чем же?
– А вот, изволите ли видеть, приходит ко мне в контору с утра якобы покупатель. Просматривает каталоги, задает дурацкие вопросы. А я уж по глазам его вижу, что ничего он не купит, а просто пришел провести время. Но я вынужден его присутствие терпеть, воспомнив о своей репутации вежливого человека.
– А будь вы императором? Попросили бы уйти?
– Нет, ваше величество. Будь я императором, я просто дал бы в морду.
Император уронил папку на стол и захохотал.
– Благодарю, Барон, – сказал он, утирая слезы. – Давно я так не смеялся!
– Всегда рад служить, ваше величество.
– Вы правы, я тоже терпеть не могу бездельников. Ну-с, детали доставки и оплаты вы обсудите с моим секретарем, он навестит вас в гостинице завтра утром.
– Благодарю вас, государь. Да, изволите ли видеть … скромный презент…
Он положил на стол продолговатый пенал. Император поднял крышку. Внутри оказался браслет тонкой работы.
– О! – сказал Император. – Ого! Уж не хотите ли вы…
– Когда вашему величеству захочется сделать приятное какой-нибудь даме … – сказал Барон, улыбаясь.
– … в чьей резиденции мы в данный момент находимся. Остроумно, – заметил Император. – Вы дерзкий человек, Барон, но мне это даже нравится. Хорошо. Мне тоже хотелось бы сделать вам какой-нибудь подарок. Просите, чего хотите.
– Я не хотел бы обременять вас, государь…
– Не попросите?
– Хмм.
– Понимаю, Барон. Признаться, я вам тоже слегка завидую. И вашей ловкости, и вашему остроумию, и даже вашему положению. Аристократ бы не посмел отказаться, когда император предлагает.
– Позвольте вопрос, ваше величество.
– Слушаю вас.
– Что бы вы попросили, будь вы на моем месте?
– Я? … Хмм … Ну, не знаю. Ну, например…
– Будьте добры, государь, отмените крепостное право.
Император сделал усилие, чтобы снова не рассмеяться.
– Да, вы остроумны, Барон. И дерзки. Ну а все-таки. Чего бы вы хотели?
Барон покачал головой.
– Я действительно хотел бы попросить ваше величество об одном одолжении.
– Я вас слушаю.
– Дело в том, что по всем странам ходят упорные слухи…
– О чем же? – спросил Император, насторожившись.
– О том, что вы, ваше величество, интересуетесь решительно всем, что происходит в мире, в том числе и литературой.
– Да, – настороженно сказал Император. – Есть у меня такая слабость.
– И вот, изволите ли видеть, литераторы вашей страны написали много интересного за последнее время … много. Я бы расспросил критиков, или самих литераторов, но мнение у людей предвзятое, каждый любит что-то свое, а у вас, государь, репутация человека объективного, и безупречный вкус. Я как раз собираюсь в книжную лавку. И если ваше величество соблаговолит мне что-то порекомендовать, книги или авторов…
– Вот странная просьба! – сказал Император. – Но я конечно же ее исполню. Но как же вы будете читать – вы ведь?…
– Я знаком с языком ваших подданных, государь.
– Вот как!
– Да, государь. Я здесь родился. Но это тайна, никто об этом не знает, кроме нас с вами. Прошу вас, государь, меня не выдавать – это может повредить моему делу.
– Разумеется, Барон, ваши тайны вашими же и останутся. Еще раз вас благодарю…
– Государь…
– А, да … авторы, книги…
Император придвинул к себе чернильницу, взял из стопки чистый лист, немного подумал, и написал четыре фамилии.
– Вот эту вещь особенно вам рекомендую, – сказал он, подчеркивая имя автора и заключая название опуса в кавычки. – Вы любите стихи?
– Не очень, ваше величество.
– Я тоже не очень. Но эта вещь особенная.
31. Мадам
Когда в театрах не было особо интригующей премьеры, Барыня любила проводить вечера в небольшой уютной комнате на третьем этаже.
Некогда энергическая и предприимчивая, нынче она все более отходила от дел. Дела велись двумя феминами, некогда состоявшими у нее в крепостных, и велись неплохо. Дом приносил стабильный доход, пусть и не очень большой.
Те, кто никогда не содержал публичный дом, думают, что промысел сей прибылен невероятно, но это не так. Всякий месяц расходы приближаются к доходам, и нужно только успевать поворачиваться – улаживать конфликты, чинить крышу, чистить комнаты, разоряться на новые платья для девушек и женщин, держать вышибал, давать взятки полиции, министерству, и врачам. Не говоря уж о том, что в публичных домах иногда рождаются дети, коих отдавать в приют для сирот зазорно, да и некоторые матери настаивают, чтобы дети были при них – потому что ребенку необходима материнская, а не казёная, ласка. При этом некоторые из детей, живших в доме, являлись, как ни крути, внуками и внучками Барыни. Из некоторых даже толк какой-то получался. К примеру, отпрыск Сынка и Мышки, девятнадцатилетний, работал нынче приказчиком в лавке неподалеку, и еда поступала в дом со скидкой. А, скажем, семнадцатилетняя дочь Сынка и Ивушки устроилась актрисой в театр, завела обширное знакомство, и многим в этом кругу рекомендовала именно Барынин, а не другой, публичный дом – а это гораздо эффективнее, чем объявления в газеты давать.
Один молодой купеческий сын, поддавшись веяниям, кои вменяли людям просвещенным сочувствовать участи падших женщин, после нескольких ночей, проведенных за плату с Мышкой, женщиной просвещенной (наречие и письмо, начатки которых некогда преподал ей Художник, она помнила, и за годы жизни в столице улучшила с помощью частных уроков у оставшегося бывшего врага, ныне служащего гувернером в богатом доме, и купчонок млел, слушая басурманскую речь в ее исполнении) женился на ней, и увез ее в другой город.
Популярный драматург, посетив дом и проведя несколько очаровательных часов в постели с Акой-Бякой (с большой скидкой: Барыня благосклонно относилась ко всему, что связано с театром), предложил ей роль в новой своей пиэсе. Неожиданно для всех, Ака-Бяка укрепилась на подмостках и действительно стала вскоре актрисою довольно известной в столичных театрах. На бенефисах ее всегда присутствовало много состоятельной молодежи. Взрослый сын ее обращался к ней всякий раз, когда ему нужны были деньги, и она никогда ему не отказывала.
Зашел без стука Сынок – гладко причесаный, чисто и современно одетый, и все равно весь какой-то потасканный, что ли, пороками отягощенный.
– Мутер, – с порога сказал он, – что происходит? Я не понимаю! Объясни!
– А что такое? – спросила Барыня, отвлекаясь от пасьянса. – Что это ты такой взбудораженный?
– Да помилуй, мутер! Подхожу к Ивушке и велю ей выдать мне пять тысяч, а она нос воротит и говорит, что сейчас свободных денег в доме нет! Что за наглость! Я что же, проситель какой-то с улицы, что ли?
– Если Ивушка так сказала, значит так оно и есть, сын мой.
– Да как же, мутер! Вчера клиентов были целые батальоны! С таким количеством контингента можно Индию завоевать!
– Расходы тоже немалые.
– Ах, оставь, пожалуйста, мутер! Знаю я все наши расходы.
– Успокойся. И скажи: зачем тебе столько денег разом? Пять тысяч, говоришь?
– Лучше семь.
– Для каких целей? Чего тебе не хватает, чадушко? Все у тебя есть: квартира хорошая в центре, гардероб, прислуга, ложа в опере.
– Нужно, раз говорю.
– Любопытная я стала. Возраст, что ли, такой, не знаю – а прямо раздирает меня любопытство! Для чего тебе такие деньги?
– Жениться я хочу, мутер. Очень выгодно хочу жениться.
– Ну да?
– Именно.
– А деньги – на пускание пыли в глаза невесте? Или отцу невесты?
– Положим, что и так. Что ж тут плохого? Не я, так другой будет перед ней деньгами сорить, а поскольку сын твой все-таки я, а не кто-то другой, то и тебе лучше, если я сорить буду. Куш невероятный, мутер, фантастический.
– Да не сезон сейчас. Где это ты раздобыл невесту, да еще такую богатую?
– На балу.
– Я понимаю, что не под прилавком на рынке. На каком балу? Да правда ли, что она богата? Как-то не верится.
– Зачем же, мутер. Вы уж верьте мне. Кому вам и верить, как не мне.
– Ох сомнительно что-то. Послушай, Сынок, уж ты смирись с участью: из хорошей семьи за тебя не отдадут! А нищих аристократов кормить мы не станем, это совершенно лишнее.
– А вот представь себе, мутер, что нашел я компромисс!
– Поди! Давно искал? Тщательно?
– Давно и тщательно. И нашел. Чудо, а не девушка! И сказочно богата!
– Лет ей сколько?
– Не знаю точно. Лет девятнадцать или двадцать.
– Дурак.
– Отчего же, мутер, отчего же?
– Купчиха какая-то, небось? Говори. Купчиха?
– Как сказать.
– Не понимаю. Ты не знаешь, купчиха ли она?
– Понимаешь, мутер, когда у отца такое состояние, так уж грани сословные зыбкие становятся.
– Какое состояние?
– Ух.
– Ты меня пугаешь. Миллионщик он, что ли?
– Более чем.
– Не верю своим ушам. Фамилия ему как?
Сынок назвал фамилию.
– Да ты что! – сказала Барыня. – Ты не шутишь?
– Нисколько.
– Всемировой мебельщик?
– Поставщик лично государя императора, мутер.
– И ты думаешь, она за тебя пойдет? С твоей-то репутацией?
– Это дворянам репутация важна, мутер. А мебельщику главное, чтобы ему на шею не сели, чтобы не брать на себя долговые обязательства тестя. Ну и титул потомственный-наследственный дочери не помешает, я думаю.
– Да ты с нею говорил ли? С дочкой его?
– О, да! Мутер, она такая смешная, такая милая! И так всему верит, что ей говоришь, такая наивная барышня! Идем мы с нею под руку вчера…
– Ты уж с нею и под руку ходишь?
– Да, а что?
– Смотри. Купцы – они какие бы не были богатые, а все равно в обхождении не намного дальше мужиков ушли. Узнает отец, пошлет к тебе трех парней крепких.
– Ах, нет, мутер – зачем же. Все очень деликатно и цивилизованно.
– Чем ты ее привлек?
– Обижаешь, мутер. Я, конечно, не первой молодости, но учтив, обходителен, остроумен в беседе, изыскан в манерах, и вообще являю собою образец современного образованного человека. Изволь, мутер, я спешу очень, у меня с нею назначена встреча, мы опять идем гулять в парк, кататься на санях.
Барыня открыла ящик стола, вытащила пачку ассигнаций, и протянула Сынку.
– Здесь две тысячи. Посмотрим, что из этих твоих ухаживаний выйдет. Чем черт не шутит, может, слезешь наконец с нашего иждивения.
– Благодарю, мутер. А Ивушку пороть надо.
– Это тебя пороть надо. На Ивушке все дело держится.
– Да ладно! С ее обязанностями любая дура справится.
– Беги, беги на свидание, рыцарь.
– До вечера, мутер.
Оставшись одна, Барыня дораскладывала пасьянс и задумалась.
Она уж чуть со счета не сбивается, сколько у нее внуков и внучек. Разумеется, если об этом узнает отец предполагаемой невесты-купчихи, никакой свадьбы не будет, а учитывая низкое происхождение миллионщика и свойственные такому происхождению предрассудки – Сынка и впрямь могут поколотить. С другой стороны, миллионщик не местный, заграничный, может и не будет наводить справки. Может, женившись на наивной купеческой дочке, остепенится Сынок? Может, она нарожает ему в законном браке детей, которых он действительно будет любить, а не то, что теперь?
Дверь снова отворилась, и снова вошел Сынок, сопровождаемый лысоватым господином в богатой шубе и с тростью.
– Вот хозяйка заведения, – говорил Сынок господину. – Вот она вам все объяснит, во все вникнет, если что не так – исправит. Мутер, этот господин чем-то недоволен, по-моему. Я побежал, я уж опаздываю.
И Сынок скрылся за дверью.
Барон встал рядом с креслом напротив стола.
– Что вам угодно, сударь? – спросила Барыня.
– Не позволите ли присесть, сударыня? – учтиво спросил Барон, и произношение его в этот момент очень напоминало произношение Шустрого – возможно, он родился в тех же весях, что и заблудившийся, сойдя с военной тропы, столяр.
По шубе и фраку под ней, а также по тонкой трости, опытная Барыня определила, что имеет дело с человеком состоятельным. С такими нужно быть любезной – от них много прибыли выходит в конце всякого месяца.
– Присаживайтесь.
Барон присел.
– Я, сударыня, вот по какому делу. Я, изволите ли видеть, являюсь братом девицы, за которой ухаживает ваш сын.
– Ах вот как! Очень приятно.
– А мне не очень, сударыня. Я выгляжу немного старше своих лет, и в столице вашей все подумали, что я не брат ее, а отец.
– Понимаю вас, сударь. Но позвольте заметить вам – вы такой степенный, такой солидный человек, что ошибиться легко.
– Не от этого происходит неприязнь моя, – заверил ее Барон. – А от того, что сын ваш, сударыня, за сестрою моей увивается. Жениться на ней я ему, конечно, не позволю, это нонсенс. Но мне неприятно даже то, что их просто видят вместе.
– Почему же? – спросила Барыня, сузив глаза. – Вы считаете, что мой сын…
– Я считаю, что сын ваш бездельник и пьяница, – веско сказал Барон. – И что честной девушке он вовсе не пара.
– Что вы себе позволяете, сударь!
– Тем более, что у девушки есть жених, который временно уехал в пригород, но вернется через день или два.
– Подите вон, сударь.
– Сударыня, я заплачу вам столько, сколько вы скажете, если сын ваш свои ухаживания прекратит.
– Я сказала…
– Пятьдесят тысяч.
Барыня осеклась. К серьезным суммам она питала уважение с ранней юности.
– Впрочем, – сказал Барон, пожимая плечами и переходя на язык страны, в коей жили Сынок и Барыня, – я мог бы просто дать ему в морду. И сберечь таким образом эти самые пятьдесят тысяч. Он много пьет, от военной выправки и следа не осталось, хлипкий стал. Ладно, это все вздор, а поговорить я с вами, сударыня, хотел вот о чем. Когда-то давно, лет пятнадцать назад, я уж посылал человека в этот город, чтобы выяснить, что сталось с одной из ваших бывших крепостных, а именно, с женщиной по прозвищу Полянка. Ответ я получил, и ответ неутешительный. Ее к тому времени не было уже в живых. Год назад, посещая столицу лично, я навел дополнительные справки. Ответ был тот же, но появились сомнения. Я не люблю, когда всякое говно вроде вас и вашего сына морочит мне голову. Потому-то я и требую, чтобы вы дали мне прямой ответ. Если Полянка жива и по-прежнему находится в вашем распоряжении, я ее у вас куплю. За те же тринадцать денариев, которые за нее заплатили в прошлый раз. С учетом времени, разумеется, сумма выросла – двадцать денариев дам. Говорите: жива Полянка?
Барыня не верила своим глазам.
– Позвольте, – сказала она. – Неужели … вы ее сын?
– Я ее сын, – подтвердил Барон. – А сестра моя – ее дочь. А все государи Европы – мои хорошие знакомые. Равно как и все судебные приставы. – Он поднял трость и стукнул ею по краю стола, на котором Барыня раскладывала пасьянс. Барыня вздрогнула. – И вам даже в голову не может придти пугать меня бумагами, согласно которым я тоже являюсь вашей собственностью. Кто поверит содержательнице публичного дома?
– Ничего этого не нужно, – миролюбивым и несколько виноватым тоном сказала Барыня. – Я признаю, что выгляжу в твоих глазах чудовищем…
– На вы, пожалуйста, сударыня.
– В ваших глазах. У меня во время оно не было иного выхода, но я отдаю себе отчет, что содеянное простить трудно. Мать ваша скончалась восемнадцать лет назад. К сожалению, это правда. Вы хотели бы посетить могилу…
– Нет, – сказал Барон. – Не сейчас. Я просто хотел посмотреть вам в глаза, сударыня. И послушать, что вы скажете. Посмотрел и послушал. В церкви вы бываете редко – это странно, ибо как правило люди из вашей области деятельности очень набожны – замаливают грехи ежедневно. Вам, наверное, стыдно обращаться к Богу. От Него ведь ничего не утаишь, невинной овечкой не прикинешься. А я не Бог, и потому вам не стыдно, бровью не поведя, лгать мне в лицо. Помогают вам в этом, наверное, опыты вашей молодости – вы ведь из актрис в дворянство проникли?
– Я не лгу вам, сударь, – строго сказала Барыня.
– Прекрасно, прекрасно! Да, вы были очень хорошей актрисой, это сразу видно. Вы сами верите в то, что говорите. Я вернусь завтра, сударыня, в это же время. Оповестите мою мать, пожалуйста, если вас не затруднит. Я увезу ее с собою. Честь имею.
Он вышел. Некоторое время Барыня пребывала в странном состоянии – не могла ни о чем думать, и двинуться с места тоже не могла. Понемногу она совладала с собой.
В полдень спустилась она в большую гостиную и обнаружила там сидящих за столом возле окна Ивушку и Полянку. Они только что вернулись с прогулки вдоль набережной и бурно обсуждали текущие дела. Полянка показывала Ивушке бумаги, объясняя, что недосдача не должна превышать определенные размеры, а Ивушка уверяла ее, что не может за всем и вся уследить, что и без того она целый день на ногах.
Барыня смотрела на них и думала – как меняются люди. Вот ведь эти две крепостные бабы – казалось бы, дуры набитые, а вот поди ж ты! Полянка выучилась читать, писать, и считать, и все счетоводное хозяйство борделя держалось именно на ней. Она вела строгий учет, получала и распределяла суммы, знала, каким инспекторам и каким кровельщикам когда и сколько причитается, какие клиенты кому сколько платят. Ивушка ни читать, ни писать не выучилась – зато организатором она стала превосходным. Она принимала на работу – не только девушек, но и вышибал, музыкантов, стекольщиков – и выгоняла с работы за провинности, список которых на каждого из обитателей дома всегда держала в голове, организовывала закрытые вечеринки, имела связи с портными и рестораторами, заказывала дорогие парфюмы из далеких весей – и так далее. Иными словами, от Полянки и Ивушки зависело решительно всё – настоящими содержательницами были именно они, а Барыня так привыкла на них полагаться, что днями на пролет романы женские читала да пасьянс раскладывала, а по вечерам выезжала на прогулки и посещала театры.
Ивушка с годами не подурнела, напротив – в элегантном платье и перчатках производила впечатление если не светской дамы, то во всяком случае обеспеченной купчихи. В широко расставленных ее глазах светилась даже некоторая надменность. Полянка же растолстела, одевалась как попало, хоть и не бедно, не очень за собой следила. Но вела себя уверенно, никого не стеснялась – а какая была стыдливая да пугливая в молодости!
У Ивушки в столице родилось трое детей – от Сынка. Две девочки воспитывались в пансионе. Мальчика определили в военное учреждение. Давным-давно Ивушка запретила Сынку даже смотреть на нее, как на женщину. Требовала относиться к ней уважительно. Нынче Ивушка имела постоянного любовника где-то в городе. О сельских своих детях, ныне уж давно взрослых, прилюдно не вспоминала.
У Полянки никто не родился – и любовников не было. К соитию она питала отвращение, и как только были обнаружены и по достоинству оценены Барыней ее способности к счету, а было это давно, она сразу отказалась обслуживать клиентов в постели, и Барыня пошла ей в этом на встречу.
Обитатели дома заменили Полянке семью. Научившись читать на двух наречиях, она по праздникам перечитывала то самое, единственное, письмо от Шустрого, качала головой, и заливала горе мадерой. Со временем горе стало притупляться.
– А не пора ли нам перекусить? – спросила Барыня.
Ивушка и Полянка повернулись к ней – так увлечены были спором, что не заметили, как она вошла.
– Да, действительно, – сказала Ивушка. – Жрать хочется – сил нет!
Она встала. Полянка тоже встала, улыбаясь добродушно.
– А ты только чаю выпьешь, – велела ей Ивушка. – Ты скоро в дверь не влезешь!
– Поднатужусь да влезу, – парировала Полянка, усмехаясь.
С Барыней и Ивушка и Полянка были теперь почти на равных.
32. Подумай
Вечером дом наполнился гостями. Ивушка, убедившись, что все идет гладко, ушла на свидание с любовником, а Полянка засела у себя в комнате с книжкой, которую пыталась читать – про девушку по имени Памела. Наречие Шустрого было ей знакомо лишь по верхам, хотя практики в доме было много, и она часто затруднялась, не понимала, что читает – а именно на это наречие и был переведен знаменитый роман. Затрудняясь, Полянка начинала клевать носом.
Она встрепенулась и выронила книгу, когда услышала хлопанье двери – в комнату вошла Барыня.
– Что угодно? – спросила Полянка – без подобострастия, дружелюбно.
– Поговорить надо, – сказала Барыня, усаживаясь напротив. – Ты помнишь своих детей?
– Детей, каких детей, – начала была Полянка, и запнулась.
– Тех самых. Мальчика и девочку.
– Помню, – сказала Полянка мрачно. – Зачем вы меня тревожите? Нам с вами не следует говорить на эту тему. Что было, то было.
– Я очень пред тобою виновата, – заявила Барыня. – Очень.
Полянка промолчала.
– Не знаю, простишь ли ты меня. Дело в том, что дети твои нынче в городе.
Полянка открыла широко глаза.
– Как? Где?
– Остановились в гостинице. Я хочу, чтобы ты подумала.
– Подумала?
– Возможно, твой сын захочет тебя забрать с собою. Он человек состоятельный, во многих кругах известный.
– Мой сын?
– Да. Твой сын.
Полянка зажмурилась крепко, а потом распрямилась и сказала:
– Говорите.
– Дочь твоя тебя не помнит совсем, разумеется, а сын помнит смутно. За это время вы стали друг другу чужие. У вас разные интересны и разные устремления. Подумай. Не будешь ли ты ему обузой, и не будешь ли ты сама тяготиться – ведь жить придется далеко отсюда, за горами, за долами. Там у тебя никого нет. А здесь ты все знаешь, сыта, тепла, занимаешься делами. Тебя здесь ценят, понимаешь? А кто тебя будет ценить там? Сын твой постоянно в разъездах. Даже если у него есть внуки – они тебе чужие. Вот и подумай – нужно ли тебе с ним ехать.
Но Полянке думать было не нужно.
– Я поеду, – сказала она. – Где он?
– Он зайдет завтра, ближе к полудню.
– А где он сейчас?
– Не знаю точно. Подумай, Полянка.
Полянка трясущейся рукой налила себе мадеры, поднесла к губам, но не выпила – поставила на столик.
33. Письмо
Было много слез и объятий, и сперва было приятно, лестно, и Барон даже немного стеснялся, конфузился, но объятия и слезы все тянулись и тянулись, и мешали Барону проверять бумаги, согласно которым Полянка являлась теперь его собственностью. Далее выяснилось, что у Полянки столько вещей, что двум здоровенным парням, которых нанял Барон, все их в карету перенести за один день не удастся, да и карета не выдержит – прогнутся оси, отскочат от осей колеса, рухнет карета наземь и развалится с треском на куски. Поэтому было решено, что теперь Полянка возьмет с собою только самое необходимое, а за остальным пришлют завтра телегу. Или три телеги.
Самое необходимое крепкие парни снесли вниз в три приема и погрузили – в карету, на крышу, и на козлы.
– Не могу на тебя налюбоваться! – говорила Полянка, цепляясь за рукав Барона.
– Да, маман, да, – говорил он, подталкивая ее, как мог нежно, к выходу.
– Какой ты стал взрослый, красивый!
Барон придвинулся к ее уху и сказал:
– Хорошо, только давай поскорее отсюда уберемся. Пожалуйста.
Он боялся подвоха, и вообще жалел, что приехал за матерью сам. Следовало послать за ней парней и кучера, а самому ждать в гостинице.
Барыня следила за всей этой суетой, стоя возле притолоки с чашкой кофию в руке.
Толстая Полянка вдруг оторвалась от сына, подбежала к Барыне, и порывисто ее обняла. Чашка полетела на пол. Барыня позволила сжать себя в объятиях, не сопротивлялась. Барон поджал губы.
Сели в карету.
– А Малышку я скоро увижу? – донимала Барона Полянка.
– Скоро, маман, скоро. Она в той же гостинице, ждет тебя.
– Как я переживаю! Сыночек, а она красивая?
– Ничего себе, привлекательная.
– А она не испугается?
– Не испугается.
– А где мы будем жить?
– В моем поместье.
– У тебя есть поместье?
– У меня их несколько.
– Да, мне Барыня говорила, только я не верила … Все не верится мне, что вижу тебя! А большое поместье-то?
– Как целая губерния.
– А сколько у тебя душ? И прислуга есть?
– У меня только наемные работают. Прислуга тоже…
– А лес там есть рядом?
– Есть и лес, и озеро, и море совсем недалеко.
– Море?
– Да. Летом можно в нем купаться. Закаты красивые.
– Ты женат ли?
– Женат, маман.
– Я так и ожидала! Хочу видеть твою жену!
– Увидишь.
– Дети у вас есть?
– Четверо.
– Мои внуки! Я буду нянчить внуков!
– У них есть гувернантки.
– Это совсем не тоже самое. – Полянка почесала под мышкой. – Когда родная кровь, это совсем другое дело! Отношение другое. Как я хочу увидеть внуков! Мальчики, девочки?
– Два мальчика и две девочки. Старшей недавно одиннадцать лет исполнилось.
– Как хорошо все получилось! Но сперва Малышка! Хочу видеть Малышку. – Она некоторое время думала. – Скажи, – спросила она, – Малышка похожа на отца?
Барон странно на нее посмотрел.
– Похожа? – переспросил он. – Ну, усов у нее нет…
– Нет, а вообще, похожа?
Черты Шустрого помнились смутно, но некоторое сходство, конечно же, было. Особенно сводная сестра напоминала Барону Шустрого, когда задумывалась о чем-то своем – тот же мрачноватый взгляд, тот же поворот головы.
– Есть что-то общее, – сказал он.
– Ты ей об этом не говори, – наставительно сказала Полянка. – Бог с ним, с отцом ее. Что он себе выбрал то и выбрал, никто его осуждать не волен.
– Особенно выбирать не приходилось, – заметил Барон.
– Ну конечно, конечно, – согласилась Полянка. – Какой же может быть выбор? Человек женатый, семейный, да вдруг на войну! А потом к нам попал. Ну и решил вернуться к жене и детям – как же за такое можно осудить?
– Какой жене? К каким детям? – спросил Барон недовольным тоном. – Что ты, маман, такое говоришь?
– Ну как же! Я все знаю, все знаю! Не бойся! Вот только видеть его не хочу, а так – пусть живет себе счастливо.
Барон посмотрел на Полянку в упор.
– Мам, – сказал он. – Шустрый погиб в «Битве Народов». Почти двадцать лет назад.
– Как это – погиб? Ты что? Да как же это … Ты меня таким образом успокоить решил? Зачем мне такое спокойствие? Это жестоко! Он мне сам письмо написал.
– Письмо?
– Да. Оно у меня в сундучке хранится. Вон, видишь, сундучок? Вот в нем оно и лежит. А ты говоришь – погиб он! Зачем ему погибать? Хороший человек, пусть живет.
Барон приподнялся, протянул руку, и переволок сундучок на сидение.
– Покажи-ка письмо, маман.
Поглядев на него удивленно, она открыла сундучок, отодвинула в сторону бумаги и бижутерию, и вытащила письмо, пожелтевшее от времени.
– Я уж его наизусть знаю, – сказала она. – Пишет он мне все как есть, ничего не утаивая. Но, – спохватилась она, – тебе читать его нельзя, он мне написал, это личное!
– Дай-ка его сюда.
– Нет, не надо.
Она спрятала письмо обратно в сундучок и закрыла крышкой.
– Что было, то было, – сказала Полянка. – Осуждать никого не хочу, не хочу омрачать счастье.
Барон кивнул. Потом взял сундучок, переставил, повернулся к Полянке спиной, чтобы не мешала, открыл, вынул письмо и стал читать. Полянка причитала, кричала, плакала, пыталась перелезть через него, зайти сбоку, отобрать письмо, но он удерживал ее одной рукой, и письмо дочитал до конца. И положил его себе в карман.
– Что ты делаешь, что ты! – закричала Полянка.
– Успокойся, – велел ей Барон. – Успокойся, тебе говорят!
– Это мое, это личное, никого не касается!
– Написано очень хорошо, – сказал Барон. – Слог приятный, почерк красивый. Только вот писал это вовсе не Шустрый.
– Перестань, что ты брешешь! Писал! Что это тебе в голову взбрело?
– Не Шустрый это писал.
– С чего ты взял!
– А он писать не умел. Грамоты не знал.
Полянка посмотрела на него испуганно и стала вытирать слезы рукавом.
– Как не знал? – спросила она ошарашенно.
– Так. Столяр он был. И повар еще. Зачем ему грамота? Цифры разбирал кое-как. А читать и писать не умел.
– Ну значит кто-то за него написал. Он говорил, что писать, а другой писал. Отдай письмо.
– Отдам, но не вдруг. Позже отдам.
34. Ланданбайтерша
Мода на постройку роскошных гостиниц распространилась во время оно во все веси, новые здания, предназначенные для приема и квартирования обеспеченных гостей, спешно строились то тут, то там, несмотря на военные действия и шаткость курса обмена валюты. В некоторых гостиницах имелись даже, для особо эксцентричных особ, большие деревянные корыта: дно и стены корыт покрывались простынями, затем корыто по требованию гостя наполнялось подогретой водой, и четверо отельдинеров, взявшись за специальные поручни, доставляли корыто в номер. Таким образом, за отдельную (немалую) плату гость мог омыть плоть свою в любое время суток.
Ночные вазы менялись в номерах ежедневно, отхожие ямы во дворах, куда выплескивали их содержимое, плотно прикрывались деревянными и жестяными щитами.
Когда год назад Барон собирался в северную столицу, рекомендованы ему были три гостиницы. Он выбрал первую, именем «Имперская», когда увидел в вестибюле на стене портрет Шустрого в одежде и доспехах некоего абстрактного римского императора, а может просто легионера. Как портрет попал в вестибюль он не знал, и справки наводить не стал. Возможно где-нибудь, в одном из номеров гостиницы, висит также и портрет учёной горничной Мышки, подумал он.
А было так:
Настали у Художника трудные времена, и он, будучи человеком импульсивным, одним махом снес все свои законченные запасы к Ростовщику-Иудею, тому самому, который когда-то отказался давать Сынку в долг сто пятьдесят тысяч, и направил к Опасной Личности. Купив у Художника несколько холстов, Ростовщик быстро их пристроил, с немалой выгодой для себя. Римского императора – в гостиницу, а Святую Екатерину – в кахволический храм на главной улице города.
Барон не счел нужным сообщать сводной своей сестре, что на самом видном месте в вестибюле висит портрет ее отца. А сама она не обратила внимания. Мало ли картин висит на стенах. Жених, правда, заинтересовался было, поскольку сам был художник, но вскоре решил, что стиль у автора портрета какой-то очень уж патриархальный, слишком аккуратные везде мазки, и композиция не очень.
Невеста и Жених лакомились сливами из вазы для гостей, и одновременно поднялись с кресел, когда портье, сыпя любезностями и кланяясь, ввел в вестибюль Барона и какую-то толстую не то мещанку, не то и вовсе крестьянку в вычурной «этнографической» шали. Жена Пекаря, Хохотушка, вполне устраивала Невесту в роли мамы, существовали меж ними взаимопонимание и привязанность, но редко встретишь женщину или мужчину, которым не любопытно хотя бы посмотреть на «всамделишную» свою родительницу. Невеста рисовала в своем воображении портрет матери, представляя ее себе представительницей высших слоев демимонда – по-своему элегантной, вмеру расчетливой дамой в роскошной шляпе, модном платье и перчатках – Ивушка как раз бы подошла на эту роль. Увидев крестьянку в дурацкой шали, переваливающуюся, суетную, Невеста слегка испугалась, и даже хотела убежать и спрятаться в номере, но присутствовал Жених, и было неудобно перед ним проявлять слабость. Светски улыбаясь, Невеста пошла навстречу Полянке.
– Это она? Она? Малышка? – почти закричала Полянка, оборотясь к Барону.
Барон кивнул.
Полянка бросилась к Невесте, задыхаясь, плача, и раскрыв объятия. Невеста совладала с собою и позволила себя обнять, и терпела, слегка пригнувшись, пока Полянка, ниже ее ростом, покрывала ей лицо поцелуями, привстав на цыпочки, держала ее за щеки ладонями, плакала, и снова целовала. Продолжалось бы это еще очень долго, но Барон вмешался, взял Полянку за плечо, и сказал:
– Ну, хватит, маман, успеешь еще.
Полянка отстранилась с сожалением и залопотала на наречии, с которым Невеста не была знакома, держа Невесту за руку. Тем временем отельдинеры ввезли на тележках некоторые Полянкины вещи – сундучки, узлы. Полянка заметила, всплеснула руками, закричала, что привезла Малышке гостинцев, и ринулась к сундучкам. Барон погнался за нею, схватил за локоть, и сказал:
– Маман, ты всех конфузишь. Что ты бегаешь, будто у тебя пушка в жопе! Будет еще время, будут гостинцы!
– Нет, нет, обязательно, смотри, какая она худенькая!
– Блядский бордель!
– Не нападай на меня, орясина!
И вскоре вежливой Невесте – и присоединившемуся к ней вежливому Жениху, пришлось осторожно пробовать на вкус – пряники, творожные блинчики, и прочие домашние изделия. Жених, человек светский, хвалил, пробуя, каждое изделие, и вообще держался непринужденно, никакого ровно стеснения не испытывая.
– Кто это такой? – спросила Полянка у Барона.
– Жених Малышки. Помолвлены, скоро свадьба. Он художник, любит пожрать и выпить.
Полянка с восторгом посмотрела на Жениха.
– Счастье-то какое! – сказала она. – Какой видный парень!
И, подойдя к жениху, заговорила, сбиваясь, не очень складно, коверкая слова, но все же – на понятном ему наречии, чем приятно его удивила, а Невесту дополнительно шокировала. Невеста предпочла бы, чтобы мать была полнейшей дикаркой, знающей только одно наречие – тогда, по крайней мере, не было бы понятно, какие глупости она лопочет, и некоторые сочли бы ее мудрой женщиной. Полянка обращалась к Жениху на «ты». Как обращаться на «вы» на этом наречии она просто не знала – Шустрый с Пацаном не научили, не было повода. Барон подумал, что она сейчас выложит все свои познания, все прибаутки и призказки Шустрого, и расскажет Жениху, что у него сладострастный взгляд и огромный хуй, но обошлось. Жених, вытирая руки белоснежным платком, беседовал с захлебывающейся от восторга Полянкой, отвечал на вопросы, задавал вопросы, шутил, и легким смехом показывал, что, вот, это шутка, и нужно смеяться, и Полянка смеялась. Барон жестом подозвал отельдинера и велел принести шампанского.
Видя, что Жених – из вежливости ли, или из художественного интереса, занят с Полянкой, Невеста кивнула Барону, и они отошли на некоторое расстояние, встали под портретом Шустрого, на который ни Полянка, ни Невеста не обращали никакого внимания.
– Веди себя прилично, сука, – сказал Барон Невесте. – Что еще за новости, блядский бордель! Матери чураешься, стыдишься! Не будь неблагодарной пиздой.
– Ну, слушай, какая-то она, не знаю … – сказала Невеста. – Взбалмошная какая-то. И пахнет от нее.
– Это от волнения. Помоется, наденет все чистое, и будет благоухать.
– Как-то я не знаю даже, – сказала Невеста. – Я думала, она загадочная, криминальная, и все такое. А она ланданбайтерша какая-то, как только что из коровника.
– Мы все из коровника, – заметил Барон. – За исключением твоего жениха, который, в отличие от тебя, ведет себя прилично. Ты ни разу ее даже не поцеловала, сука.
– Да ладно тебе! Ты тоже ее стесняешься.
– Не болтай попусту.
– Она будет с нами жить?
– Да.
– Хорошо, что я скоро выхожу замуж.
– Будь мы сейчас одни, я бы тебе сейчас дал по уху.
– Да ладно! Сам не рад, что нашел. Жили без нее, и дальше бы жили прекрасно. А еще ведь будут встречи с его родителями – как нам такое чудо им представить? Они люди светские, смеяться будут.
– Нет, зачем же. Смеяться будет она, когда светские люди слезно ее попросят «одолжить» им денег из домашнего бюджета, чтобы не обанкротиться и замок родовой не потерять.
– При чем тут домашний бюджет?
– А я ей передам в руки все хозяйство.
– Ты с ума сошел! Что скажет экономка!
– Экономка ежели что и скажет, то не при нас. Пора ее гнать, хватит, наворовалась. А маман я доверяю.
– «Маман»!
– Да, маман. Доверяю, и тебе советую. Она за тебя горой встанет, в обиду никому не даст. Ты вот что, дура тощая, ты пока ее займи, не все ж твоему Жениху отдуваться. И веди себя прилично, иначе я тебе так по морде бесстыжей дам, что забудешь, какой нынче день и год. А мне нужно отлучиться на полчаса. Понятно?
– Зачем ты ее нашел!
– Я спрашиваю, понятно или нет?
– Пошел ты…
– Эй!
– Ладно. Уж так и быть. Займу твою доярку.
– Вот и хорошо. И еще. Тут один пожилой шалопай назначил тебе свидание.
– У тебя что, шпионы по всему городу?
– Почти что так. Какая разница. Тебе не стыдно? Ты же говоришь, что любишь своего Жениха.
– Он занят часто, все время рисует что-то. Да какое свидание! Просто встреча. Прогулка по парку, совершенно невинная.
– Не ходи.
– Не указывай мне!
– Не ходи, гадина.
– Не указывай мне! Что хочу, то и делаю, не ущемляй мою свободу!
– Дура.
– Сам дурак.
Барон кивнул и пошел к выходу.
– Куда же, куда же, – запричитала Полянка.
– Он скоро вернется, не волнуйтесь, – сказала ей Невеста, подходя. – Вы уж выпили шампанского? Давайте еще спросим, и сядем вон в тех креслах.
35. Эпистолярный жанр
В сопровождении свирепого Азиата поехал Барон на канал и там, на набережной, сверяясь с блокнотом, быстро обнаружили они нужный особняк.
Дворецкий доложил хозяину дома, что прибыл известный всему миру торговец мебелью. Фамилия торговца была хозяину хорошо известна – в гостиной на почетном месте стоял секретер «как у государя». Сынок вышел в гостиную в роскошном халате и со щегольской курительной трубкой в руке. Он посмотрел на мощного Азиата, улыбнулся, и, не гнушаясь, протянул руку торговцу. Барон, чуть поколебавшись, руку пожал. Присели у камина, а Азиат остался стоять.
– Чем могу служить? – спросил Сынок. – Не желаете ли выпить? Еще немного рано, а впрочем, у всякого свой распорядок дня.
– Нет, спасибо, – сказал Барон. – Вы меня не узнаете?
– Как же вас не узнать, любезный! Не только гравюры – даже портрет видел, когда побывал в вашей стране года три назад. Все-таки нашим портретным мастерам до ваших далеко пока что.
– Я не об этом. Возможно, мы встречались ранее.
– Не припоминаю. А впрочем, позвольте…
Сынок вгляделся в черты Барона.
– Действительно, мне почему-то знакомо ваше лицо, – сказал он. – Может, мы с вами встречались … э … на войне? Нет, вы для этого слишком молоды.
– Мне все говорят, что я выгляжу старше своих лет.
– Да? Странно, поскольку людям больше пристало вам льстить. Ну, вам лет тридцать пять, я думаю.
– Вы правы. Так где же и когда мы с вами встречались, сударь?
– Любопытно, любопытно, – сказал Сынок, улыбаясь, разгадывая загадку. – Где же? Вы не играете ли в карты?
– Очень редко, и только чтобы доставить удовольствие коллегам.
– Может, на каком-нибудь балу? – предположил Сынок. – Нет, скорее всего тоже нет … Судя по вашему произношению, вы южанин?
– Вообще-то да. Но не совсем. По рождению я ваш земляк, сударь.
– О! Правда? Приятно видеть, что соотечественники имеют влияние в разных сферах за границей. Вот что значит трудолюбие и упорство! Ну и талант, разумеется. Народ наш талантлив. Осталось совсем немного – чуть больше свободы, и мы удивим весь мир!
– Возможно, сударь, поскольку народ действительно талантлив и щедр. Между нами говоря.
– Разумеется, Барон, разумеется.
– При этом, – продолжал Барон, – народ талантлив во всем, за что бы не брался. Не подумайте, что я говорю это просто потому, что сам являюсь выходцем из народа – нет, это совершенно объективная оценка, сударь.
– О, безусловно, Барон, я понимаю – вы человек не только умный, но и практический, кому, как не вам, здраво судить о таких вещах. Вы много путешествуете…
– Да, сударь. Спешу в частности отметить следующую деталь: народ наш … ничего, что я говорю «наш»?
– Барон, я в душе всегда был республиканцем. Дворянство – тот же народ, у всех у нас общие предки.
– Рад, что вы так думаете. Да, так вот, сударь – народ наш талантлив во многих областях деятельности.
– Совершенно с вами согласен. Совсем недавно я посетил книжную лавку, и мне там рекомендовали стихи молодого поэта – выходца из народа. Если вы все еще помните родное наречие, я мог бы вам одолжить книгу – превосходные стихи, Барон!
– В данном случае, сударь, мне хотелось бы поговорить с вами не о стихах, а об эпистолярном жанре. У меня с собою есть образец этого жанра, и я бы хотел, чтобы вы на него взглянули и оценили. Мне дорого ваше мнение, сударь.
Сынок удивленно посмотрел на Барона. И сказал:
– Разумеется, Барон. Боюсь, что не совсем улавливаю…
Барон вытащил из кармана письмо и протянул Сынку.
Некоторое время Сынок читал и разглядывал письмо. Вежливая улыбка сошла с его лица. Он посмотрел на Барона.
– Кажется, я понимаю, кто вы на самом деле, – сказал он.
– Я польщен, сударь. Понимание – великое дело.
– Что же вам от меня нужно?
– Мне нужно знать, кем это писано.
– Судя по почерку, писала наша тогдашняя горничная по прозвищу Мышка.
– Под вашу диктовку?
– Нет. Таких писем было тогда много, некоторые печатали в газетах. Письмо списано с газетной заметки.
– Следовательно, это ваша матушка велела Мышке написать письмо.
– Нет. Это я велел, по настоянию одного знакомого, человека весьма опасного, но с практическим складом ума.
– Зачем?
– Нельзя было терять времени. Вашей матушке требовался какой-то исход, завершение, иначе бы она еще пять лет лежала и стонала. А для дела требовалось ровно две дюжины девушек и баб, это было одним из условий, которое я не посмел нарушить. Человек, с которым я имел тогда дело, любил точность и безукоснительность.
– Понятно. Зачем вам нужна была именно моя мать? Вы могли бы купить недостающую девушку или бабу в соседнем селении.
– В соседнем не мог. Я был тогда в ссоре с соседом…
– Когда это вы успели?
Сынок усмехнулся.
– Вам нужны подробности? Хотя – пожалуйста. Я соблазнил его дочь. Увлечения молодости.
– Ясно. Вы осознаете чудовищность содеянного?
– Чудовищность? Барон, прошу вас быть осторожнее в выборе выражений.
– Осознаете или нет?
– Барон, вы неправы, – сказал Сынок. – Вы руководитесь в данном случае предубеждениями – это понятно, поскольку вы лицо заинтересованное. Но вы должны же, как человек объективный и практический, понимать…
– Что понимать?
– Что я не мог поступить иначе. Хотел, признаюсь вам, но не мог. И вы на моем месте поступили бы так же.
– Сомневаюсь.
Сынок некоторое время молчал, а потом сказал:
– Человечество перепробовало все возможные формы правления. Народовластие, монархия, олигархия, диктат – все это уже было, и будет еще не раз. И всегда, при любом правлении, есть звания. Кто-то рождается у самого трона – или, если вам угодно, председательского кресла – кто-то в самых низах, кто-то между. Несправедливость не в устройстве, а в том, насколько злоупотребляют люди разных рангов своим положением. Иной рабовладелец бывает справедливее и добрее работодателя. Иной раб совершает поступки столь благородные, что память о них многие века служит примером аристократии. Все зависит от человека, а не от звания.
– Считаете ли вы, что поступили благородно?
– Нет, я просто действовал в соответствии с обстоятельствами. Ни разу, насколько я помню, не был я ни чрезмерно жесток, ни даже чрезмерно коварен. Скорее наоборот.
– А письмо это – не подлость ли, сударь?
– Не будь этого письма, ваша матушка могла бы скончаться от горя и тоски. Поскольку, как видим, господин Шустрый за нею до сих пор так и не приехал.
– Шустрый погиб в тот же год в «Битве Народов».
– А, да? Не знал. Примите мои соболезнования. Но если бы он не погиб – все равно, вряд ли бы он за нею вернулся. Именно за нею. Уж скорее за Акой-Бякой. Помните такую?
– Помню. При чем тут Ака-Бяка?
– Она была его любовницей некоторое время. Их сын сейчас учится в военной школе.
– Понятно, – сказал Барон. – Ну, так и быть, оставим это, сударь, я к вам вовсе не за этим пришел.
Сынок удивленно поднял брови.
– Вот как! А за чем же?
– Мне доложили, сударь, что вы ухаживаете за богатой невестой.
Сынок распрямился в кресле. Сказал холодно:
– Не вижу, каким образом этот аспект моей личной жизни до вас касается, Барон.
– Я прошу вас, сударь, ухаживания эти оставить. В столице много девушек, как, впрочем, и замужних дам, у вас большой выбор. К этой девушке приближаться больше не нужно. Она по легкомыслию своему назначила вам сегодня свидание, вы хотите с нею погулять по парку. Пожалуйста, не делайте этого.
– Прошу вас не указывать мне, Барон, и прошу вас покинуть мой дом немедленно.
– Покинем, покинем, – заверил его Барон. – Но не вдруг. Вы, сударь, упорствуете?
– Не забывайтесь, сударь!
– Упорствуете?
Сынок встал. Барон тоже поднялся и сказал:
– Я это предвидел, сударь. Я этого не хотел, но упорство ваше не оставляет мне выбора.
Он сделал знак мощному Азиату. Тот приблизился.
– Что это вы задумали? – спросил Сынок.
– Сейчас сей свирепый муж вас подержит, сударь, а я дам вам в морду. Не очень сильно, но достаточно, чтобы появился синяк под глазом. Это будет мне гарантией, что в парке вы сегодня прогуливаться не будете, ни под руку с барышней, ни даже в одиночку.
– Вы поступаете опрометчиво, Барон, – сказал Сынок.
Барон еще раз кивнул Азиату. Азиат схватил Сынка за грудки. Но тут Сынок, который, по расчетам Барона, был хлипок, ослаблен алкоголем и развратом, а о военной выправке давно забыл, в свою очередь схватил за грудки Азиата и ударил его лбом в лицо. Азиат ослабил хватку, и Сынок дважды, очень быстро, ударил его кулаком в ухо. Азиат лег на пол, держась за ухо и за нос. Барон набросился на Сынка, но долговязый вертлявый Сынок перехватил бьющую руку, очень больно наступил Барону на ногу, а руку вывернул ему за спину. Барон почувствовал, как ноги его отрываются от земли. Его бросили на пол, надавили сверху на спину коленом, и сказали:
– Насколько я понимаю, Барон, упомянутая барышня – ваша сестра. … Все думают, что дочь, и я тоже так думал, а на самом деле – сестра … Вам следовало сразу об этом сказать, а не морочить мне голову ветхими письмами и взываниями к справедливости. Теперь, когда я узнал о вашем родстве и происхождении, я, разумеется, на свидание с нею не пойду. Вас же я смиреннейше прошу в благодарность за это не подсылать ко мне наемных убийц. Это было бы с вашей стороны совершенно неэлегантно.
Он отпустил Барона и встал. Барон поднялся на ноги. Азиат продолжал лежать на полу, держась за голову. Барон подошел к нему, наклонился, потряс его за плечо (Азиат замычал от боли) и сказал:
– Вставай, жопа. Да будет сие мне уроком. Брать с собою следует людей проверенных. Вставай, тебе говорят!
Азиат поднялся.
– Прощайте, сударь, – сказал Барон.
Сынок коротко поклонился.
36. На римской страде
Никакие дети Аки-Бяки, кто бы ни был их отцом, Барона не интересовали. Он не стал наводить справки. Два крытых возка – первый с художественным Женихом и ворчливой Невестой, второй с Бароном и Полянкой, устремились на юго-запад, намереваясь успеть к двухтысячелетней страде до весеннего таяния снегов, которое так затрудняет передвижение, размывая и превращая в вязкую грязь любые дороги, кроме римских. Достигнув города, стоящего на страде, пересели в кареты.
Войны велись в те годы лишь за пределами Европы. Войска северного государя рыскали по всему континенту, не допуская конфликтов, выполняя роль жандармов. Земли вздохнули свободно и занялись обычными делами – посевами и строительством – не боясь, что их вытопчет конница, спрессует сапогами пехота, сожжет артиллерия, а чудом уцелевшие всходы заберут в пользу войск, в очередной раз встающих на защиту и во славу того или иного отечества.
Римская страда привела путешественников в южные веси, к теплому, ласковому морю. Полянка восхищалась восходами и закатами, строем тополей вдоль дороги, холмистыми полями и живописными на них коровами, буйной весною. На остановках Невеста менее, чем раньше, чужалась матери, затаенная враждебность сменилась более естественным для дочери снисходительным пренебрежением. Обходительный Жених водил Полянку на вечерние прогулки на всякой остановке, угощал разными местными кушаниями, которые ей очень нравились, хоть и не без того, чтобы не упомянуть всякий раз похожие, а то и вовсе непохожие, фантастически вкусные блюда и сласти, кои готовились якобы всякий день в ее родном селении. Уж не помнила она, автором каких именно из шедевральных этих блюд был Шустрый. Всего не упомнишь.
Наконец прибыли в город, где Барон начинал свою карьеру, и в нескольких верстах от которого все еще производила популярные свои изделия изначальная пекарня. Супруга Барона с детьми вышли встречать гостей. Подтянулись из столицы одноногий Пекарь с Хохотушкой и взрослыми уже детьми.
Помытая, в свежей одежде, умиляясь и плача, Полянка приступила к завоеванию расположения внуков.
37. Парфюм
Сыграли свадьбу, Жених и Невеста отправились в свадебное путешествие в Вечный Город. Полянка некоторое время баловалась с внуками и внучками, но из-за постоянного ее присутствия в их жизни новизна впечатлений стала стираться, к тому ж невестка ее невзлюбила, а она, соответственно, невестку, как часто бывает. Привыкшая чередовать возню с малышами с делом, приносящим доход, Полянка стала слегка тосковать. И сказала Барону, что скучает по родным местам, общению с друзьями и близкими, а на тополя глаза б не глядели – куда лучше березки, хотя именно березок в ее родном селении никогда не видели, а в столице они встречались лишь изредка, посаженные любителями деревенской экзотики.
Человек практический, Барон сразу понял, в чем дело, велел матери взять его под руку, позвал карету, и поехали они к его знакомому, жившему неподалеку и управляющему фабрикой духов. Веси сии давно уж на всю Европу славились и парфюмами, и растениями, из которых парфюмы производятся. Так случилось, что Парфюмер, владелец фабрики, как раз собирался выгнать в шею своего главного счетовода, который взял себе в привычку приходить на службу в нетрезвом виде, прикладываться к бутыли во время финансовых своих занятий, и к концу дня доходить до полного изнеможения и окосения.
Парфюмер сперва не понял, о чем и речь. Где же это видано, чтобы счетами занималась женщина! Да умеют ли женщины считать? Они даже готовить не умеют, не то, что считать! Что дальше? Эдак скоро женщин и в войско брать придется, и на бирже терпеть.
Но Барон отвел его в сторону и объяснил, что данная женщина – женщина особая. И что счетоводством она занималась не где-нибудь, а в северной столице. Что поделаешь – времена меняются, и нынче даже в Африке и в Нуво Монд некоторые женщины занимаются вещами, совершенно не соответствующими их полу и воспитанию. И это помимо того, что данная женщина является ему, Барону, родной матерью, и позволив ей вести счета, Парфюмер очень его, Барона, обяжет.
Парфюмер пожал плечами и сказал, что почему бы и не попробовать, раз Барону так хочется.
Полянку усадили в кресло за столом, положили перед ней бумаги, и определили к ней помощника счетовода – ассистировать, дабы разобралась она, что к чему. Производство, заказы, плата за работу, взятки таможенникам, налоги, транспорт – по первости у Полянки аж в глазах потемнело, и решила она, что никогда во всем этом не разберется. Однако уже на третий день стала находить в предоставляемых ей бумагах описки, ошибки, а также прямое воровство со стороны служащих и партнеров. Парфюмер, выслушав ее сбивчивый отчет (многие слова она произносила на своем родном наречии, и он не всё понимал, что она говорит) и просмотрев бумаги (в этом он разбирался хорошо), пришел в ужас и восхищение. Явившемуся к полудню пьянице-счетоводу дали от ворот поворот, Полянку посадили в отдельный кабинет с окном, за которым открывался прелестный вид на город и море вдалеке.
К концу второй недели она уже без помощи Барона села в карету и отправилась на фабрику. А к концу месяца сама явилась в кабинет к Парфюмеру и объяснила ему, где и какие изъяны обнаружены ею в системе учета, и как можно их исправить, отчего и выйдет хозяину немалая экономия. Не во всем она была права, но все же права настолько, что Парфюмер тут же положил ей жалование немалое, написал на ее имя несколько доверенностей, а по окончании рабочего дня усадил в свою собственную карету и повез знакомить с банкиром, с которым имел дело много лет. К концу лета Полянке доверены были все финансовые операции фабрики, все банковские транзакции.
Внукам и внучкам своим она покупала гостинцы и рассказывала сказки, и они, увидев ее с новой стороны – как самодостаточного и полезного члена общества – воспылали к ней новой любовью. Невестка ее возненавидела, а Полянка смотрела на нее свысока.
Приблизилась осень, и Барон засобирался в столицу. Перед отъездом он, придя в церковь на службу, пожертвовал значительную сумму в пользу прихода, поставил свечу, и помолился за душу Шустрого. Из всех живущих людей, которых Шустрый когда-либо знал, он был единственный, кто вспоминал о нем почти всякий день.
Справка
Iura Humana – права человека
Амичи – друзья
Анфанс – детство
Армарио – чулан
Брошетт – вертел
Вилль – деревушка, городок
Гранеро – сарай
Жантийом – джентльмен
Жуайельно – весело
Ирритабельный – раздраженный
Какабус – кастрюля
Капабелен – способен
Ланданбайтерша – крестьянка
Мадам – вежливое обращение к замужней женщине; также – содержательница публичного дома
Майн херц – сердце мое
Мове-гарсон – плохой мальчик
Нотиция – весть
Нуво Монд – Новый Свет
Пьетон – прохожий
Ривьебату – речной корабль
Рю – улица
Страда – дорога
Суффранс – страдание
Тротель – балбес
Фемина – женщина
Ферд – лошак
Фужетивный – беглый
Шайсе – говно
Эклюз – шлюз
Эспионаж – шпионаж
Эспьон – шпион
Этуали – звезды

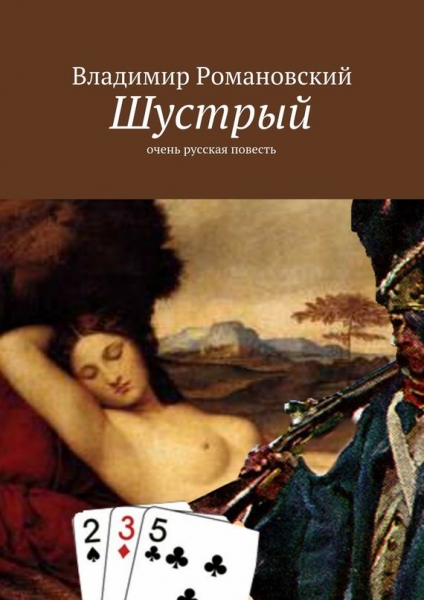

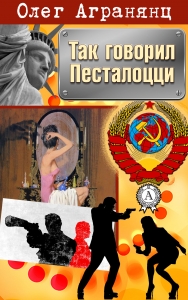

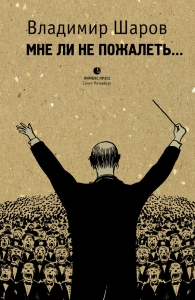


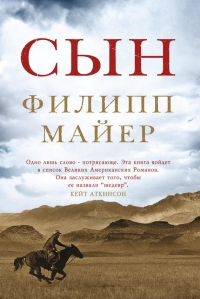



Комментарии к книге «Шустрый», Владимир Дмитриевич Романовский
Всего 0 комментариев