Алина Литинская
Эхо шагов
Довоенная графика художника Ибрагима Литинского
Мой отец — Ибрагим Литинский (1908–1958) — известный украинский художник.
Еще до войны его работы привлекли внимание классика русской живописи Михаила Нестерова, и между художниками завязалась переписка (сейчас письма Нестерова к отцу хранятся в ЦГАМЛИ Украины). Имя отца упоминается и в официальных справочниках Украины.
Однако судьба художника сложилась так, что работы двух важных периодов жизни были утрачены. Довоенные работы, хранящиеся в доме, исчезли во время оккупации Киева 1941–1943 годов. А те, что созданы в эвакуации и отправлены прямо с выставки из Ташкента в Киев, затерялись в неразберихе почтовых пересылок военных лет. Среди утерянного была картина, которую отец считал главной в своей жизни: она посвящена его матери.
Тем ценнее крупицы уцелевшего.
Особенно дорога мне избранная графика довоенных лет, выжившая Бог весть каким образом. Может быть, была взята с собой в эвакуацию? Может, где-то в доме нашла укрытие? Не знаю.
Мимолетные карандашные реплики-наброски и вполне законченные графические портреты — все это лица родных мне людей. И в каждой работе я вижу не только их, но и отца, его мастерство, его руку и глаз, а главное — мир его чувств и отношений. И будоражат они память и не дают покоя.
Особенно память о тех, кто не пережил 41-й год.
Дорогие мои близкие,
серые мои одуванчики…
(Из разговора)
Воскресенье
И не день и не вечер, не рассвет и не сумерки, и освещение странное и ниоткуда, и время повисло и висит в этой застывшей картине, и состояние это не меняется и измениться не может, а может лишь прерваться.
Оно и прерывается глухим ударом о землю.
Я открываю глаза, пытаюсь понять что-то, но ничего не понимаю, поворачиваюсь на другой бок и тотчас засыпаю снова.
Во сне продолжаю слышать звук ударов, и мне представляется зал на первом этаже соседнего дома, где сквозь открытые окна видно, как люди в ненормально больших перчатках изо всех сил лупят по резиновой груше, а та, словно дразнится, упрямо возвращается на прежнее место. Люди что-то яростно выкрикивают, а груша глухо стонет.
Я не удивляюсь людям с кожаными кулаками в моем сне и тому, что они там делают — я не знаю, есть ли в снах место удивлению — но что-то внезапно выталкивает меня на поверхность, в реальность бабушкиного голоса:
— Воскресенье… Маневры… Тревожат людей… Чуть свет…
Я сплю? Вроде, нет. Чуть свет. Рассвет. Что дрожит на потолке? Ах да, это от медной люстры. Я смотрю, как пятно прыгает и добирается до стены и думаю, что оно притворяется, что ему весело. Почему? — не знаю. Я люблю наблюдать за ночными играми отблесков предметов бабушкиной комнаты. Я забываю, что днем это называется самоваром, или зеркалом, или круглой шишечкой от никелированной кровати, и смотрю, как они, не сдвигаясь с места, подрагивают. Сегодня отблеск люстры скачет не так, как обычно…
…Меня каждую субботу привозят сюда, к маминым родителям и оставляют на ночь. И я жду этого, как праздника. Только здесь паркет отражает, как в зеркале воды, ножки кресел; только здесь постоянный устойчивый запах отутюженного белья; только здесь терраса, под которой стелется море зелени, а за ней — Подол, а вдали — Днепр. И нигде больше не будет такого душистого земляничного варенья к воскресному чаю. А чаепитие летом на балконе, а вокруг балкона — ничего, кроме неба и птиц, и он парит, парит над городом…
— Спи, дитя, спи — убаюкивает голос бабушки и снова сетует на маневры и на «чуть свет».
Но все это тонет в блаженном предрассветном сне и желании спать еще и еще, ибо только в детстве снится, что спать хочется.
Улица… Улица. Все, как было, все, как есть. Дома, деревья. Стул под каштаном, где всегда сидит старик-сосед. Все на месте, но улица пуста. Она так пуста, что, кажется, ее населяет только пустота и одиночество. И я бегу. Что гонит меня — не знаю. Чего боюсь — тоже не знаю.
Страх, безумный страх и удары чего-то о земной шар. И я укрываюсь в углублении какой-то подворотни, спиной врастаю в чугунные ворота и слышу, как глухие удары перерастают в ритм марширующих сапог по булыжной мостовой. Ближе, ближе… А улица остается пустой. Что марширует в моем сне?
— Ты меня слышишь? — говорит бабушкин голос. — Вставай.
Я поднимаю глаза. Часы. Они висели здесь всегда, но сейчас они без цифр, и стрелки вздрагивают от ударов. Или оттого, что заблудились в пустом белом пространстве?
— Ты меня слышишь? Просыпайся же!
Я открыла глаза и увидела родителей. Зачем они пришли так рано?
Я понимаю, что что-то случилось, и поскорее снова закрываю глаза.
Потому что ничего не хочу знать, ничего не хочу слышать. Здесь, на самом верхнем этаже, как в гнезде на высоком дереве, в самом надежном и защищенном в мире месте, не хочу слышать ничего плохого об этой жизни.
Зачем они пришли так рано?
Мы еще не пили чай.
Мне еще не дочитали историю о Кае и Герде.
И, вообще, вот-вот пойдет дождь, небо низкое-низкое и цвета моего сна — темное в лиловых разводах, и радио, пожалуйста, не включайте, еще хотя бы пару минут.
А папа скажет: Подол дымится.
А бабушка скажет: Война…
Сабина
С годами я вижу их все отчетливее. Прежде я сказала бы «как странно». Теперь же это не кажется ни странным, ни мистическим. Я знаю, что время поднимает что-то из памяти, из самых глубинных ее слоев, и помещает в верхний слой моего сознания. И всплывают мельчайшие подробности бытия — звуки шагов, запахи, мимолетные интонации, — не замечаемые тогда, в потоке других впечатлений детства. Может быть, это усиливается и тем, что еще дремлет в молодые годы: болью. Болью за этих людей и постоянно возрастающим чувством вины перед ними.
Помню бабушку. Из всех моих бабушек ее одну я называла так. Всех остальных — по имени: так было принято в семье. Но на самом деле она была не бабушкой, а прабабушкой. Звали ее Сабина. Бабушка Сабина.
— Бабушка, а где ты была, когда была маленькой?
— В Палестине.
Сабина-Палестина, Сабина-Палестина.
Слова похожие, слова сходятся.
— Что ты говоришь, майн кинд?
Она спрашивает, не поднимая головы. — Где Палестина? О, это так далеко…
— А чем ты ехала? Трамваем?
Она пожимает плечами. То ли не расслышала, то ли неохота пускаться в долгие объяснения. Она иногда жестом заменяет разговор. Так, видно, проще.
Живут они в маленькой комнате с моим прадедом Давидом. Разговаривают друг с другом редко — по крайней мере, мне не запомнилось их общение. Дедушка все время молится, и если открыть дверь в комнату во время его молитвы, он жестом показывает, чтобы ему не мешали.
В комнате есть толстые книги с незнакомыми мне буквами, но их читает только дедушка. Я не помню бабушку с книгой. Вижу с ножницами и иголкой. Она вырезает из своих и дедушкиных старых рубашек квадраты и обшивает края — носовые платки. И мне кажется, что все они похожи на бабушку и вырезаются из одной рубашки: тоненькие, почти прозрачные, в мелкие, как крупа, черные точечки.
У бабушки темные волосы с редкими пролесками седины, голова чаще всего наклонена над шитьем. И только однажды — в памяти это осталось вспышкой неожиданного движения — она резко вскинула голову, вытянула шею и выкрикнула куда-то в сторону:
«Закрыть ворота на замок!
Ловить этих негодяев!
Страшна будет моя месть».
В комнате находился соседский мальчик Рома. Он большой, ему лет десять-двенадцать. И сколько же времени пройдет, пока я узнаю, что рассказывала она ему в тот раз о «Разбойниках» Шиллера.
А сколько лет было бабушке? Не знаю. И спросить не у кого. Бабушка — и все. Моему отцу было уже лет тридцать, наверное, а он был ей внуком. Впрочем, не в возрасте дело, а в количестве шагов, проделанных по дорогам.
Так вот, сегодня мне эти слова кажутся предостережением. Впрочем, какие слова того, предвоенного, времени не покажутся нам сегодня предостережением?
— Бабушка, а как ты поехала в Вену?
Это знала даже я. Были в комнате два предмета под общим названием «Это еще из Вены»: овальный столик на гнутых ножках и тяжеленный, вычурной формы, чугунный треножник для цветов. И если столик хоть как-то был задействован в скромной обстановке комнаты, то треножник был сущим бедствием: о него спотыкались, ушибались и без конца переставляли с мета на место. Время от времени кто-нибудь выносил его в коридор и ставил у стены, но вскоре дверь приоткрывалась, и чья-то неведомая рука водворяла злосчастный треножник на прежнее место решительно, словно ставя точку. Бабушка что-то беззвучно шептала одними губами и обреченно кивала головой: дескать, так и знала, никуда не деться от этой помехи.
Милые мои «Еще из Вены». Кто мог знать, кто мог думать тогда, что останетесь вы единственной вещественной приметой пребывания своих хозяев в доме? Что когда мой отец, вернувшись, войдет в комнату, то увидит треножник и стол, словно оставленные в напоминание, словно и война способна ужаснуться перед чем-то, что страшнее ее, и проявить нежданное и запоздалое милосердие.
И проживут «Еще из Вены» в доме — нашем, своем — еще 60 лет. И сейчас, думается, живут, хоть и в другом, но не чужом для меня доме, и пусть живут, где живут, и дальше пишут свою историю. Что им, вещам, сделается?
А дерево столика всю жизнь сохраняло запах бабушкиной комнаты, и я узнавала его всякий раз, когда снимала скатерку…
А треножник остался не только в памяти, но и в раннем натюрморте моего сына… Вот какая судьба у тех вещей, что «Еще из Вены». Что им сделается?
— Бабушка, а как ты ехала в Вену?
— О, майн кинд, как в Вену, как из Вены — всю жизнь рассказывать. Расскажу, расскажу, когда подрастешь.
Я подросла. Но она не рассказала, не успела.
Как прожила она жизнь? Знаю, что пережила всех своих детей, а с последней дочерью — Фридой — умерла в один день, 29 сентября 41 года. Почему она жила своей тишиной и замкнутостью этой маленькой комнаты? Почему была какой-то тихой и отдельной от всех, выполняющей каждый день одни и те же привычные движения? Например, каждое утро у ее постели появлялся тазик с холодной водой, мягкая тряпочка и жесткое полотенце, и начинался беззвучный ритуал обтирания: одна рука, другая, плечо, шея… Кожа, как старый поблекший атлас. Все это так непохоже на умывание других людей в доме, с фырканьем и лужами под умывальником.
И так же медленно и привычно бралась белая фаянсовая чашка, наполнялась чаем, и сухарь ванильного запаха утопал в ней.
…И нет такого раза, когда бы от звуков «Серенады» Шуберта не сжалось бы что-то внутри, не покатилось бы волною вверх, к горлу, и куда-то назад, где живет этот клубок, не разматываясь, вот уже сколько десятилетий. Почему «Серенада»? Бабушка пела ее, не пела, а так, мурлыкала, со словами и без, своим старческим, ломким голосом:
«Песнь моя, лети с мольбой Тихо, в час ночной».И то странно: пела она ее на русском языке, в то время, как немецкий был ее вторым родным после еврейского. Вот так. Верно, для того, чтобы осталось это во мне: «Песнь моя, лети с мольбой…».
Я любила слышать ее шаги. Различала их среди всех шумов за стеной. Она ходила короткими, как тире, шажками — вроде торопилась куда-то. И отец через годы, через войну, потери и смерти скажет, когда речь пойдет об утерянных его работах: «Какое это имеет значение по сравнению с тем, что в коридоре не слышны их шаги». Теперь и я знаю: когда за стеной раздаются знакомые шаги — это не шум и не помехи среди дня и ночи. Это драгоценные знаки чьей-то жизни, которую дай Бог сохранить подольше.
Коридор
Жили мы тогда в огромной густонаселенной коммуналке с длинным, в несколько поворотов, коридором. Даже для такого многолюдного вместилища он был непомерно велик и напоминал ствол искореженного дерева с редкими ответвлениями.
Таким, по крайней мере, он мне представляется сегодня.
Пробираясь сквозь темное пространство, жильцы старались как можно скорее проскользнуть к своему убежищу и с облегчением захлопнуть за собой дверь. А под дверью оставалась полоска света.
Я умирала от любопытства: как живут там, за этой полоской? Как сидят? Как говорят? Как едят? От чего отделяет меня дверь, за которую меня никогда не зовут? И тогда я пускалась в путешествие, которого жаждала и боялась одновременно. Боялась потому, что жила во мне уверенность, будто наш темный коридор темен не потому, что нет в нем лампочки, а потому, что он вообще такой. Есть же на свете темные вещи. Конечно, что-то таится в этом мраке, но что? — не знаю и боюсь этого. А полоски света неудержимо влекли, как влекут иные миры. И к тому же их можно пересчитать.
При повороте из нашей комнаты, сразу направо, у стены что-то сложено. Кажется, дрова. Да, дрова. В комнате печь топится дровами. Отниму руку и сделаю два-три шага. Один-два-три, без опоры, не держась, тараща в темноте глаза. Не задеть бы поленья, а то опять будут иголкой выковыривать занозу. Снова нащупываю стенку, и чуть вперед, несколько шагов, ближе к полоске. Вот, наконец-то, полоска «раз». Там живут очень тихо. Стой, не стой — ничего не услышишь, ни радио, ни патефона. Не слышно даже маленькой девочки Верочки. Она еще плохо говорит, и кроме «мама» и «папа» говорит слово «кондукушка». Все смеются, и она, глядя на всех, тоже. Я думала, ее мама, тетя Нюся, не умеет говорить, но, оказывается, умеет, только мало и очень тихо. Ее папа работает в гастрономе. Верочка приходит иногда к нам, садится на маленький стульчик и делает вид, что читает газету.
Ну, нечего стоять. Так тихо, что кажется, словно там никто не живет.
Поворот. Осторожно, здесь углубление в стене, мне очень нравится это слово — «ниша», но из нее опять что-то с грохотом падает. Из глубины коридора появляется бабушка и говорит, прижав палец к губам: «Шшш, Верочка, должно быть, спит», и закрывает дверь. Бабушка больше всего на свете боится кого-нибудь потревожить. Она так рассеяна, что не замечает, что говорит это мне.
Пронесло. Пробираюсь дальше. Здесь особенно темно. Когда я узнаю слово «аппендицит», мне вмиг представится этот участок коридора — ничейный и никчемный.
Внимание, полоска «два». Тетя Аня работает кондукторшей трамвая. И это о ней Верочка говорит «кондукушка». Я постою; если она дома, она поставит пластинку. У нее часто играет пластинка «Тачанка», правда, до нее кто-то тонким голосом пищит про пожарника, потом нудная песня про какую-то луну, а потом, наконец, «Тачанка». Я подожду. Тетя Аня помногу раз заводит эту пластинку, и, может, я еще раз услышу. Я просила маму купить такую пластинку, но она не покупает. У нас есть патефон, но нет «Тачанки». Зачем тогда патефон?
Я стою здесь долго, даже глаза привыкли к темноте, и уже не так страшно. Кроме того, я жду: а вдруг откроется дверь над полоской «три», что напротив тети Ани. Хоть бы открылась. Хоть бы вышел дядя Ростик. Я всегда хочу его видеть, но он редко выходит. А мне необходимо сказать ему важную вещь, но никак не решаюсь.
А вещь эта — вот какая. С историей.
Вывели меня однажды на улицу и сказали «никуда не отходи, стой и жди». А я была послушной до идиотизма. Стою, стою, не двигаюсь никуда. Вдруг смотрю — у стены ямка. И светится. А в ямке окно. Глубоко так, заглянуть почти невозможно. Я и так, и сяк, голову набок, даже на корточки присела, хочу как-нибудь исхитриться и посмотреть, что же там. И увидела вот что: ярко зеленую поверхность, как угол лужайки, а по ней белый шар катится. Откуда и куда — непонятно. И только иногда по зеленому мелькнет чья-то тень. Так, макушка только. Видно, кто-то катает это шар. Зачем? И, кажется, не один. Что еще в этой комнате? И тогда я ложусь плашмя, и лицом приникаю к решетке и вижу угол какого-то помещения, а на стене висят… рога. Настоящие рога. Я такие видела у Оленя в сказке «Снежная королева». И понимаю, что между Зеленью и Рогами есть связь, как между травой и оленем.
Но почему все это под домом, где мы живем и ничего не знаем об этом? И что такое этот шар, который катится неизвестно куда и зачем? И какая такая тайна в этой зелени, что окрашивает собой окно, ямку и даже мою руку, если просунуть ее между прутьями решетки? Долго, видно, размышляю, потому что замерзла изрядно.
О том, как мне влетело — не скажу. Но зато узнала я две полезных вещи. Во-первых, что лежала она, то есть я, на решетке подвала Клуба Охотников, и, во-вторых, что дядя Ростик за это меня тоже по головке не погладит, потому что заглядывать в окна вообще нехорошо, а как нехорошо заглядывать в окна Клуба Охотников, дядя Ростик знает лучше других, потому что он там работает сторожем.
С тех пор я полюбила дядю Ростика, как Клуб Охотников. За все: за рыжие усы и седую голову, за то, что пахнет от него, как от переплетов папиных книг, за то, что ходит он не как все, а припадает чуть на одну ногу, и даже за его башмаки, один из которых чуть выше другого. И за то, что он иногда приглашает к себе в комнату и угощает слипшимися леденцами из круглой коробки с картинкой. И стол у него не как у нас, а низкий и длинный, а на нем молоток и маленькие гвоздики, а под столом много разной обуви. Ему все носят старую обувь, и он ее за это чинит.
Ну, чего я стою? Он не выйдет, у него громко говорит радио, а тетя Аня сказала, что когда дядя Ростик уходит, он включает радио на полную катушку, и что она скоро сойдет с ума. Интересно, когда? Не пропустить бы.
И все-таки я стою, и чего-то жду, и тяну время, как тяну его сейчас, через много десятилетий, потому что не знаю, как перейти, перешагнуть, перепрыгнуть из коридора довоенного дома через всю войну в наш двор, в май сорок пятого, когда слову Победа будет несколько дней отроду и все будут думать, что война ушла навсегда, а дядя Ростик пойдет через двор и остановится возле колонки, где мы берем воду, и к нему подойдет человек, который во время оккупации поселится в его комнате, здесь, за полоской номер «три», перед которой я стою (имя его, к сожалению, знаю, но помнить не хочу) подойдет и выстрелит несколько раз в упор. Я в это время буду идти через двор с бидоном. По воду.
Все. Больше ничего не скажу, потому что остальное не имеет значения.
Но, тогда, в коридоре нашей довоенной коммуналки, окончаний историй еще не было, все истории только начинались, и я твердо знаю, что дядя Ростик выйдет, и я его увижу, не сегодня, так завтра, а пока очень важно не расшибиться о железный сундук с острыми углами. Он где-то рядом, в двух шагах. Вечно царапаю то плечо, то руку, а тетя Аня говорит, что у нее уже ног не хватает, чтобы разбивать об этот сундук. Неправда, хватает. Я видела. Но до сундука еще две полоски — «четыре» и «пять». Там живут мальчики Валера и Рома со старшей сестрой Валей. Она совсем взрослая и ярко красит губы, но мне не нравится, что, проходя мимо, она говорит: «Ну и что, я уже не школьница», будто ее спрашивают. Их папа носит военную форму, а мама белую блузку, даже на кухне.
Над сундуком что-то висит. Кажется, корыто. Когда начнут бомбить, оно упадет и накроет собой кошку. Та будет долго орать, а потом ее вытащат — живой и невредимой, а Ромка скажет, что это у нее бомбоубежище такое — корыто. Рома вообще очень умный, из него будет человек, говорит тетя Аня. Валера будет военным, он хочет «как папа».
Но никто из них не вырастет и никто не состарится. Из всей семьи вернется только Валя, которую трудно будет узнать. Она будет стоять возле дома, переминаясь без конца с ноги на ногу, как грузины давят виноград, заглядывать в лица прохожих и говорить: «Я выхожу замуж, я выхожу замуж». И кто-то тихонько спросит:
— А как зовут твоего жениха?
— Лейтенант, конечно.
И так много дней, и так много лет.
Осторожно. Последний поворот. Острый угол стены вроде надкусили, и из него сыплется известка. Не испачкаться бы. Держусь на расстоянии, но не помогает, все рукава оказываются в пятнах. От темной матроски они плохо оттираются, и я знаю, что мне влетит. Мне вообще влетает за эти путешествия: вечно, мол, она влезает в какую-то паутину и пыль, и где только она ее берет. Ходить недалеко. Но оно того стоит. Вот оно, окончание пространства, дверь, распахнутая в жаркую кухню. Рядом с кухней живет толстая тетя, которая все говорит: «Когда я работала в Осовиахиме», но я ее боюсь и быстро миную ее дверь, чтобы поскорее очутиться в кухне, где всегда людно и светло. И плита, которая топится дровами. И гул примусов. И пахнет жареными семечками. И соседки колдуют над островками-столиками, а столиков столько, сколько полосок на полу в коридоре. И кошка Мурилка, когда к концу дня плита остывает, ложится на нее, как сфинкс.
А между плитой и окном, в углу, сидит моя няня Лукерья, грызет семечки и разговаривает с огромным, заросшим усами и бровями дядей. За глаза его называют Кавалер Степан. Мне нравится это имя: Ка-ва-лер. Когда Валера вырастет, у него тоже будет полное имя Кавалер. Однажды Кавалер Степан вложил мне в ладошку горстку семечек, очищенных от шелухи, а мне их почему-то (почему? — до сих пор в толк не возьму) запрещали строго-настрого. Няня Лукерья заволновалась: «Не можна дытыни». А дядя Кавалер Степан так просто говорит: «Трошки можна».
Лукерья легко соглашается, улыбается так, что курносый ее нос становится крошечным, и велит только потом попить водички, а я, дурья моя голова, возьми да и ляпни со всем чувством: «Спасибо, Кавалер Степанович!»
Толстая тетка Осовиахим начала так хохотать, что крышка от кастрюли упала на пол и задребезжала, словно тоже хохочет. А няня Лукерья страшно рассердилась: «Тоже скажут такое… он мне не такое глупостное слово. Он мне… товарищ».
Скоро Лукерья и Степан поженились.
А потом… ох, что будет потом.
29 сентября 1941 года — день расстрела в Бабьем Яру в Киеве. Каждый год в этот день заказывается Поминальная молитва — Кадиш. От нашей семьи называются четыре имени:
Давид Гринфельд
Сабина Гринфельд
Фрида Литинская
Моисей Литинский.
Ушли втроем
Они ушли втроем. Прадед Давид остался дома: по старости он уже не мог ходить.
Говорил сосед: «Дедушка молился с утра. То был Судный День. А потом…»
Подождите. Дайте войти в комнату в самом начале дня, пока в коридоре еще раздаются их шаги. Я тихонько стану спиной к окну и лицом к кровати, на которой сидит дедушка. Он раскачивается, прикрыв глаза, и ремни вокруг его рук такие же темные, как кожа, и кажется мне, что они приросли к ней, и он говорит — говорит, как поет, и ему вдруг не хватает воздуха, он сглатывает, делает вдох, и откуда-то из глубины горла достает оборвавшуюся нить звука и продолжает это свое бесконечное моление. Он знает то, о чем молится, и о том, что написано в толстой книге, что всегда рядом с ним, больше других, и к нему приезжают раввины из других городов учиться этому знанию. Чему — не знаю. Раньше не объяснили, а теперь спросить не у кого.
Я стою, потому что хочу знать не то, что происходило, а то, как это было. Вот сейчас войдут те трое, что уходят — куда? — и что-то ему скажут. Должны ведь что-то ему сказать. Первой подойдет его дочка, моя бабушка Фрида. Она высокого роста и держится всегда очень прямо, движения ее плавны, но она так нервничает, она не знает, что сказать, и говорит тихо, растягивая слова, и длинный старенький саквояж дрожит в руке. Она говорит, что уезжают они не надолго — нельзя долго жить на чужбине, — что присмотрит за ним Лукерья, пока они не вернутся. У нее в спешке выпала шпилька, и узел волос на затылке готов рассыпаться по коричневому платью — она всегда в нем выходит на улицу. А волосы у нее светлые и ниже пояса, я видела, как она по утрам их расчесывает. Сейчас она не замечает, что они в беспорядке. Она растерянно оглядывается вокруг, она рассеяна и может что-то забыть. Она часто что-нибудь забывает. И лицо ее печально. У нее и до этого дня лицо бывало печальным, я запомнила его таким.
Я не вижу дедушки Моисея рядом. Вероятно, он не зашел в комнату «к старикам», дал проститься самым близким — дочери и жене. Может быть, стоит он перед своим рабочим столом и смотрит на стопки книг по своему керамическому делу и думает, что бы из них могло бы «там» пригодиться. А может быть, он уже знает, что «там» ему ничего не пригодится, и просто стоит и смотрит. Он очень мало говорит и, наверное, знает больше других.
Бабушка Сабина совсем крошечная по сравнению с мужем. Она растеряна и не понимает, что происходит. Я не слышу, что она говорит, она, кажется, ничего не говорит. Странно, она в пальто. Я первый раз в жизни вижу ее в пальто — на моей памяти она ни разу не выходила из дому. И то ли стала она намного меньше за эти годы, то ли пальто не ее, а с чужого плеча, но выглядит она в нем неуклюже и непривычно. Но не выходить же на улицу, не отправляться же в дорогу без пальто. Сентябрь на дворе.
Она касается дедушкиной руки, морщинистой, как кора дерева. И ничего не говорит. Слышит ли он их? Понимает ли? Или, как всегда, раздражен, когда прерывают молитву?
А может, все не так было.
Я слишком долго стою спиной к окну и не увидела, как они ушли. Тихонько, не простившись, тайком от него, потому что сказать нечего и лучше не говорить того, о чем не знаешь, как сказать.
А дедушка молится, молится. А потом снимает с рук ремни, с плеч талес и зовет — кого? Бабушку, наверное. Он постился весь день, он голоден.
А может, все это идиллические картинки по сравнению с тем, как оно было на самом деле. И было все намного проще и страшнее.
60 лет стою я в этой комнате, но не узнала ни на йоту больше, чем знала тогда, от няни Лукерьи, когда мы вернулись домой.
— Я пошла провожать ваших, тележку заняла у соседей. На чемоданы посадили бабушку Сабину, она до угла дошла, а дальше не могла, встала возле стенки и говорит: «Не могу». Ну, я ее на чемоданы, а сзади шли Фрида и Моисей. Фрида медленно ходила, знаешь как. Моисей Савельевич держал ее за руку, чтоб не потерялась. Потом шли до Сенного базара, там по Мельника и вниз на Сырец. А там — страх Божий народу, а по бокам уже эти стоят (она ни разу не сказала, кто «эти»), а один здоровый такой мужик меня как пхнет, как за шкирку: «Чи ты здурила, куды беременная прэшся?», я тележку кинула, а бабушка как закричит «Готеню-Готеню, куда же ты?», а я вже не чую, не бачу и бегом. Дома була — вже темно. Не принесла, кажу, тележку. Нету тележки. У дедушки в комнате, смотрю, темно. Свет не горит, ну, не свет, а свечка, света же не было уже…
Все. На этом ее рассказ обрывался всякий раз. Она не сказала, что увидела, а чего не увидела, когда вошла в комнату. Не сказала, потому что, верно, ее и не спрашивали. Что было делать с этим знанием? Мстить? Кому? Всему миру? Войне? И продолжала я играть с соседскими детьми, повзрослевшими, как и я, за годы войны, все в той же коммунальной квартире. Но игры уже были не те — время их прошло. Да и в смутных наших коридорах что-то повисло, словно материализовалось из детских страхов и предчувствий, не давая ни радости, ни смеха.
И особенно тяжело было встречаться в коридоре с пожилым соседом, самым тихим, что в гастрономе продавцом работает, который и так-то ростом невелик, а, видя меня, буквально складывался вдвое, уступал дорогу и говорил: «Проходите, дорогусечка», хотя ни одному человеку в мире не пришло бы в голову обращаться ко мне на «Вы» в то время. И почему-то руки складывал сосед за спиной, вроде, чтобы места много не занимать. И голова в вечном диагональном наклоне, глаз не видно. Мне было невыносимо жаль этого человека, и я малодушно улыбалась, чтобы поскорее куда-нибудь деться, хоть сквозь землю провалиться. Это он говорил: «Дедушка молился весь день, а вечером я зашел в его комнату, чтобы проверить затемнение на окнах. Смотрю, а он мертвый. Дедушка был сильно верующий, вот его Бог и прибрал в Судный День».
В комнате соседа оказался наш рояль, на который ему была выдана квитанция оккупационных властей. Отец купил рояль во второй раз.
Но я не хочу об этом думать. Спасибо судьбе, что он — хотя бы он — вернулся. И простоял он в доме еще 60 лет, послужив следующим трем поколениям. А о соседе и размышлять не буду.
И только Лукерья, с навсегда печальными глазами, не дождавшаяся своего Степана с фронта, потерявшая ребенка в эпидемиях и нехватках войны, не изуродовала ни души своей, ни совести и говорила о тех, кого проводила, не опуская глаз и не лукавя, называя их, как живых, по именам, не заменяя их местоимениями.
«Дытыно, и стоыш ты, и ходыш чисто як бабушка Фрида, и чай мени зробыла, дай тоби Боже здоровья, як вона — солодкий такий…»
С тех пор я думаю, что сладкий чай — от любви.
Дети сердятся.
Мой отец — художник Ибрагим Литинский
Мы были музыкой во льду…
Борис ПастернакРазбирая отцовские записи — сотни разрозненных листов и листочков, — все больше смирялась с мыслью, что лежать им и лежать, и ждать своего часа. Хотя что это значит — «своего часа» — представляла себе смутно. Пока однажды не решилась рассказать об отце с помощью его же записей.
Пусть многие из них не имеют ни начала, ни конца, и пусть память о событиях или об их отзвуках в рассказах близких поможет мне сложить их в относительно завершенные эпизоды…
Пусть возраст записей неизвестен — ничто не датировано, и о времени можно судить лишь по состоянию бумаги и чернил…
Пусть даже содержание записи — не показатель времени: многое отец записывал годы спустя…
Пусть некоторые листки превращены временем в обрывки с одной-двумя фразами…
Но, в конце концов, настает момент (это, наверное, и есть «свой час»), когда понимаешь, что это не так уж важно: это не дневниковые записи, и событийность, если она и есть, важна как причина эмоционального состояния. А оно и есть главное — и в жизни, и в творчестве, и в записях.
В некоторых случаях отец придумывает себе собеседника: всегда легче обращаться к кому-то, пусть вымышленному, чем в пустоту. Встречаются и неотосланные письма. Но они заметно отличаются от обращений к несуществующему адресату. Так, «кому-то» отец рассказал историю знакомства с моей матерью — одну из самых волнующих историй своей молодости. И я узнаю ее потому, что мне она была рассказана в свое время с той же, чисто отцовской интонацией. Иногда мысль выражена одной или двумя фразами.
А то, что удалось сложить в законченные абзацы и эпизоды, сохраняет тонкость и красоту рисунка. На сей раз — словесного. Но, конечно, только в контексте прожитого и созданного художником его архив приобретает смысл и плоть.
«Была весна…»
Была весна, сумерки и воздух такой, что пить его хотелось…
Я возвращаюсь с этюдов. Было мне тогда двадцать лет… Этюд в этот день удался. И от всего этого, и от того, что дышалось полной грудью, хотелось орать во всю глотку и на весь свет…
Вместо этого прыгал, как сумасшедший, через лужи…
Этюдник раскрылся, и тюбики с краской разлетелись…
Собирал их почти наощупь, в темноте, — помню ощущение шершавой наклейки под пальцами — почему-то уличные фонари тогда долго не зажигались…
Завернул за угол и вдруг притих. По улице двигались, словно тоже притихшие, темные фигуры с чем-то светящимся в руках. Будто несли светлячки. Я подошел поближе — да это же подснежники! Они буквально фосфоресцировали в темноте…
Отцу двадцать лет. Значит, был это 1928 год. Кажется, именно тогда его выгнали (или годом раньше?) из Художественного института. Выгнали за «непролетарское» происхождение, сразу после первого курса: опомнились. В доказательство своей лояльности к пролетарской эстетике, он должен был снять галстук и белую рубашку — буржуазные пережитки — и надеть косоворотку. Он не снял галстук, не надел косоворотку, а надвинул на ухо берет, набросил плащ и пошел учиться в студию известного педагога-живописца Михаила Михайловича Ярового. «Научить нельзя, можно только научиться», — всегда повторял отец.
Он учился у Ярового главному: ремеслу. Дисциплине глаза и руки. Немногословной точности рисунка. И — насколько мне позволяет судить память — неуменью жить вне работы.
Сколько его помню — он с кистью либо с карандашом. И если не рисуется ничего более, моделью становится собственная рука. И если сидеть невмоготу, то из положения полулежа — угол крыши напротив. И небо. И птицы косяком…
Жаль, конечно, института. Татлин хорошо учит — успел год у него позаниматься. И у братьев Стенбергов. Но что делать: выгнали.
Я хочу одного: работать. Когда знаешь, чего хочешь, то и отбираешь точно, а не все подряд.
Михаил Михайлович Яровой был непрост и славился жестким характером. Терпеть не мог халтуры и легкого отношения к ремеслу. Не терпел богемной неорганизованности. И еще: не терпел позировать. Особенно студентам. Потому портретов Ярового почти нет. Почему единственным художником, ради которого сделано исключение, был Литинский — можно только гадать.
Живописный портрет работы моего отца исчез во время немецкой оккупации Киева, как и вся остальная коллекция его работ.
Но ему предшествовали карандашные наброски и, как окончательное решение — композиционное и пластическое — графический портрет, который, по сути, явился эскизом к будущему живописному. Как видно, и автор рисунка, и его учитель считали портрет законченным и самостоятельным, коль значится на нем: «Портрет художника М. М. Ярового». И подпись отца: И. Литинский. 1933 год.
…А живописный где-то есть, где-то он бродит. Впрочем, как очень, очень многое из отцовского наследия.
А рисунок-портрет всю жизнь у нас в доме висел. Вот и сейчас висит передо мной.
А то, что отец не снял галстук и белую сорочку, подтвердила удивительная история с фотографией, которую мне сын однажды принес. Лет через шестьдесят после описываемых событий.
Леня тогда работал в Музее истории города Киева и иногда имел дело с архивами.
— Мама, кто это?
Сын указывает на центральную фигуру групповой фотографии.
— Яровой, — говорю я (сын-то его узнал по рисунку деда, который постоянно видел).
— А это кто? — указывает на стоящую сзади фигуру.
Я ахнула: — Мой отец. И твой дед.
Действительно. Стоит отец, совсем молодой.
И в рубашке. И с галстуком.
И подпись: студия М. М. Ярового. Киев. 192? год. Последняя цифра стерта. Конец 20-х годов, должно быть.
— Где взял фотографию?
— В куче архивного хлама.
Чуткость это такой же талант, как умение слышать и видеть. Это талант души.
…Едем с Самом (Самуил Кручаков, художник, друг отца. — А. Л.) на этюды…
Вышли на платформу, дождь только прошел. Первое, что увидел: дерево, а под ним лужа. Вода в ней слегка подрагивает. Обычное дерево. Обычная лужа.
А рядом парнишка лет 5–6 ревет без умолку. Сам спрашивает:
— Ты не знаешь, чего он ревет?
— Знаю. Он не знает, что с этим делать.
— С чем?
— С этим чувством. С тревогой. Видишь лужу? Видишь дерево? Видишь отражение дерева в луже? И он видит. К дереву он уже привык, а к отражению — нет. Может, он впервые его заметил. Это уже другое дерево. Это уже феномен искусства. А с ним никогда не знаешь, что делать. Ты знаешь?
Самуил хохочет. То ли надо мной, то ли на нервной почве.
— Может, искусство, — его душат горловые спазмы, — это и есть безумие, когда не знаешь, что с собой делать, куда девать желания и как перевести их в действия? А может, все проще? Парню лет 5, может, просто у него штаны мокрые? Давай подойдем.
— Ни в коем случае! Не двигайся! Не трогай, ничего не трогай, пусть ревет. А штаны у него сухие.
— Изверг… Давай все-таки, подойдем. Ревет больно громко. Может, ушибся.
— Пройдет. А если то, что я думаю, — ничего не поможет. Он сам себе поможет, когда начнет что-то делать.
— Ну и напридумаешь ты… Ну и наворотишь…
На базаре поет лирник. Голову запрокинул в небо, как на трубе играет, без слов, открытым ртом. Я побоялся оскорбить его звуком падающей монеты и стал ждать. Когда он опустил лицо, я увидел, что он незряч. У него нет глаз. А для того, чтобы петь то, что он пел, не нужно ничего. А для того, чтобы видеть, то, о чем он пел, не нужны глаза. Нужен только талант…
Поле, ветер, песок, ковыль, тоска, воля… Горе.
Мою мать звали Юдифь…
Я боялся поднять на нее глаза.
Ты не поверишь, в первую минуту я подумал: не может быть; не может человек быть так прекрасен.
Мою мать звали Юдифь.
Описывать ее — не мое дело: мама. Со своим голосом, с манерой называть меня полным именем с самого раннего детства, с лицом, которое я увидела и запомнила раньше всех других лиц на свете.
Я помню, как обращался отец к маме, и этими словами подписал он свой рисунок. И дата: 1937 год. Даже если бы он был подписан двадцатью годами позже — это ничего не изменило бы: тот же характерный поворот головы, тот же профиль, та же пластика. И те же его слова. Этот рисунок послужил прообразом будущего живописного воплощения, также исчезнувшего во время оккупации.
А рисунок этот на тоненькой ненадежной бумаге, почти на тетрадном листке, хрупкий и такой ветхий, что страшно в руки взять, сохранился, вероятно, все в той же, чудом уцелевшей в войну папке и хранится по сей день в семейном архиве. А для меня это и отец, и мать — в одном рисунке: хранит он и ее черты, и его руку и голос.
И сохранился еще более ветхий листок бумаги, еще одно свидетельство отцовского голоса в посвящении моей маме. За давностью лет чернила выцвели почти до незримости. И все-таки, вот эти строки:
Как жарки твои губы Как сладки твои руки Как краток час свиданья Как горек час разлуки Подруга дорогая Наполненный тобою Я бодро вновь шагаю Походкой молодою Как сладки твои губы Как жарки твои руки Как краток час свиданья Как горек час разлукиКогда семья вернулась из эвакуации в ту же коммунальную квартиру, когда стали понемногу обживать закутки и коридоры, когда осветили переднюю и израсходовали за первую зиму торф — аккуратные брикетики, сложенные у стены, — увидели на посеревшей от пыли и трещин известке контуры маминого портрета. Тот же профиль, шляпа с полями, и даже прорисованное платье. Кто? Кто перенес композицию портрета на стену? Вероятно, тот, кто его унес? Кто он?
Отец говорил: рука профессионала. И уголь грамотно зафиксирован. Что означает этот «привет» — намек на то, в чьих руках портрет?
Соседи говорили: живопись увезли немцы. Но чем дальше, тем меньше верится в это. Национальность художника (и — увы — его родителей) были хорошо известны, а библейская красота модели вряд ли могла просоответствовать вкусам «завоевателей». Никакие это не немцы. Скорее всего, кто-то из художников («рука профессионала»), кто оставался в Киеве во время оккупации и кто знал об этом портрете.
В какую сторону света кричать «Ау-у!»? Но снова слышу я голос отца: «Какое все это имеет значение по сравнению с тем, что в коридоре не слышны их шаги…»
…И снова пришла весна.
Как-то вечером возвращались мы с С. с этюдов. Было ветрено, и тени от фонарей раскачивались на стенах, как гигантские качели. Мы возбужденно громко перекликались, словно с разных берегов реки, никак не остывая после горячих споров.
…И вдруг я понял, что мы стоим перед ее домом.
— Давай зайдем, — сказал С., я познакомлю тебя с…
С кем? Как ее зовут? Я даже не спросил, о ком идет речь и откуда он ее знает. Я был уверен, что речь идет о ней. И пошел покорно, как Фауст за Мефистофелем.
Двери нам открыла Она…
Я переступил порог, как впервые бросаются в реку. Вы поверите, я не сразу мог посмотреть на нее. Казалось невероятным, что человек может быть так прекрасен. И в то же время — ничего неожиданного. Я мечтал о ней, вот о такой…
Мы молча стояли друг перед другом. И в одно мгновение я вспомнил тот далекий вечер, что был нереальным и остался в памяти чем-то удивительным…
Это было год назад… Я до сих пор не помню… что было раньше — услышал ли голос или увидел лицо… Она покупала подснежники…
Проскользнула мимо, обдав ароматом, подобно которому я не знаю, и исчезла за поворотом.
Я видел ее долю мгновения, а узнал бы из тысячи…
…Однажды на улице, в толпе, мелькнул ее профиль — и она исчезла…
Валеев — сатир. Мы с ним писали один натюрморт, а потом — в гигантском зеркале на всю стену — два автопортрета одновременно.
Однажды, придя к нему, что-то уловил:
— Кто был? — Злодей смеется. — Кто был?
— И она заинтересовалась…
Улыбается краем губ.
— Кто был?
Валеев — ироничен. От него нескончаемый поток тягучих изысканных слов.
— …И она заинтересовалась автопортретом… Твоим…
И он начинает сосредоточенно что-то искать на столе. Находит зубочистку.
Кажется, я схватил его за ворот и начал трясти.
— Кто?..
— Некая прекрасная особа… Желает познакомиться с оригиналом…
В комнате ощущалось Ее присутствие, и все остальное не имело значения.
Валеев произнес Ее имя, а я повторил его, как эхо.
Мы стояли друг перед другом, и я вдруг припал к Ее груди, как припадают к святыне…
…Рассвет за окном и голос Ее совсем близко, рядом с моим лицом.
— Метла уже шуршит.
То, что увидел я на Владимирской Горке, было до того неожиданно, до того волнующе красиво, что у меня перехватило дыхание.
В тишине, в торжественной волшебной тишине, облитые льдом от самых корней до кончиков мельчайших веток, стояли деревья.
Как в сказке, как завороженные стояли они, искрясь на свету, и переплетенные кроны их казались сделанными из хрустальных кружев.
А за ними, за раскинутыми внизу просторами, из-за дальних далей Днепра — всходило Солнце. Начинался день.
— Не бойся произносить слово «красота».
— Я не боюсь. Я стесняюсь.
Пригревало весеннее солнце — не то холодное, сказочное, виденное в ледяном царстве Владимирской Горки, а — наше, славное, обжитое, хорошо знакомое, необходимое не как роскошь, а как жизнь… Таяли ледяные кромки луж… Навстречу мне шла старуха с корзиной подснежников. Я встретил ее так, словно мы условились о встрече. Через минуту вся корзина с цветами, за неслыханную цену, принадлежала мне, а еще через минуту я снова стоял перед Ее домом, опасаясь, как бы мое сердце не оглушило соседей…
Была еще одна встреча, с которой, собственно, все и началось. Встреча не с моей мамой, а с ее изображением: вот с этими фотографиями. Случилось это в студии художницы Клавдии Ивановны Романюк.
Теперь ее имя упоминается редко… Собственно, совсем не упоминается: жизнь и судьба ее наследия сложились трагично.
Сведения о Романюк скупы и обрывочны. Знаю лишь от родителей, что была она талантливым портретистом-фотографом (что видно по работам), что была гонима всеми возможными средствами из-за несоответствия своего все той же пресловутой пролетарской эстетике (смешно было бы предполагать иное, глядя на фотографии), что снимала она только женские портреты, что была одинока и уже в конце 20-х — начале 30-х была немолода… Что, когда началась война, побоялась бросить архивы и осталась в Киеве, в оккупации… Что однажды нашли ее в студии мертвой — то ли скончалась от сердечного приступа, то ли стала жертвой насилия.
А негативы и отпечатки портретов исчезли бесследно. Таким образом, все, что осталось от творчества замечательного портретиста, — это случайно сохранившиеся работы в частных коллекциях. Их изначально было немного: художница, говорят, была очень избирательна. А уж после того, как прокатилась война, опустошив все и вся… Что говорить, раритеты исчисляются крупицами. Тем дороже то, что хранится в нашем доме.
Для меня эти портреты как часть природного зрения: вижу их столько, сколько помню себя. И имя «Романюк» — это название тому, откуда пришли эти портреты. И что обозначило веху семейной истории. Потому что, увидев их впервые (именно эти фотографии), отец спросил у Клавдии Ивановны: «Кто это?»
Я мысленно приказал себе: каждый день по этюду.
…Вокруг были такие мотивы, что глаза разбегались. Я напоминал себе алчного старика из восточной сказки, попавшего в пещеру с сокровищами.
…Если у художника засыхают краски на палитре, это — саботаж. Или, может быть, он умер?..
— Санчо, где ты?
— Я здесь, — откликалась Она.
Она сама называла себя так, когда укладывала сумку с провизией и тяжелый складной этюдный зонт. И шлепала босыми ногами по траве или по песку…
У нее смуглое и строгое лицо. Оно остается оливковым и зимой, а летом покрывается розовым пушком.
…Она сидит перед зеркалом.
— …И вообще, я добродетельная жена. По при-зва-ни-ю. Ясно?
Она говорит сквозь шпильки в зубах, ловко изгибаясь в талии, чтобы увидеть в зеркале затылок.
Не-е. Я-то знаю, что это игра. Веселая игра.
— Санчо, где ты?
— Я здесь!
Пока я пишу этюд, она в стороне сидит тихо-тихо. Я даже не знаю, что она делает. Я никогда не оглядываюсь, а она никогда не подходит во время работы. Это негласный, необъявленный, неподписанный договор.
Между нами установились какие-то законы отношений, которые мы не называем и не обсуждаем. Просто они есть. Она их слышит безошибочно, и я благодарен за это.
Ей свойственно все, кроме посредственности.
Художник всегда одинок, но дайте мне единомышленника в моем одиночестве, и я смогу победить армию…
Единомышленник — это тот, кто не посягает, а тихо, тихо, тихо… Единомышленник это тот, кто тихо-тихо есть.
— Санчо, где ты?
— Я здесь, — отвечает она сквозь шпильки во рту.
Поразительно. Как ни крути, как ни переставляй, обстановка остается одной и той же: этюды на стенах, рояль и ноты на пюпитре, круглый стол и цветы, тахта и ковер со стены до пола.
И где бы я ни был — меня, как магнитом, тянуло домой. И даже если Ее нет дома, в комнате царит Ее дух, Ее запах, атмосфера Ее присутствия от где и как попало брошенных в спешке вещей.
Наше жилье принимает ее лицо, и это, слава Богу, не зависит ни от каких новшеств…
Художник Михаил Нестеров. Рубеж
Письма художника Михаила Нестерова.
Многоуважаемый Собрат!
Мне было очень приятно Ваше очень такое хорошее, такое молодое письмо. Оно внесло в мою жизнь, в мою уходящую жизнь сознание, что жизнь прожита как-то не совсем бесцельно…
Вот наступят более теплые дни, и соберусь (в Третьяковку), полюбуюсь вновь вашей искренней живой картиной.
Буду ожидать Вашего приезда в Москву, Вашего с Вашим другом посещения меня (имеется в виду Самуил Кручаков, соавтор по картине «Шевченко в казарме». — А. Л.).
…Работайте с доверием к природе, к человеку, любите и то, и другое любовью простой, искренней, и вы получите доказательства взаимности.
…Приезжайте поскорее, буду ждать вашего приезда в Москву. Приезжайте, побеседуем об искусстве, о том, что нам близко всем.
Привет вашему другу, будьте здоровы и благополучны…
…Здоровье мое «так себе». Да иным оно и быть не может: 1-го июня мне исполнится 79 лет!
30 мая 41 г. Мих. НестеровИз переписки отца с художником Михаилом Нестеровым сохранились два письма: одно датировано 9 февраля, второе, последнее, — 30 мая 1941 года. (Письма Михаила Нестерова к И. Литинскому находятся в ЦГАМЛИ Украины, «Фонд Литинского»).
30-е мая 1941 года. Совсем недолго, совсем накануне… Еще двадцать три дня… Еще можно остановиться, оглянуться на несколько месяцев назад, увидеть Москву, Третьяковку, Всесоюзную выставку, двух молодых, ошалевших от счастья художников — Самуила Кручакова и Ибрагима Литинского, — похвалу классика, переписку с ним…
Все складывалось удивительно, наредкость удачно, вот-вот будет закончена следующая картина. Для совместной работы над ней художники сняли в Киево-Печерской лавре мастерскую — бывшее место богомазов, — и работа эта почти готова — многофигурная, сложная композиция. Кто мог знать, кто мог предвидеть, что через три месяца от нее не останется и подрамника…
А у Литинского еще не до конца реализован договор с Театральным музеем Украины. Уже добрых два-три года работает он над портретами корифеев украинских театров. Два портрета А. Саксаганского, портреты Натальи Ужвий, И. Паторжинского, Терентия Юры, А. Ватули уже в музее. Предстоит еще работа с Бучмой и Шумским (пока они только в набросках — эскизы приняты уже худсоветом и ждут реализации).
Осенью предстоит следующая выставка. А осталось 23 дня. Еще двадцать три дня они будут счастливы и беззаботны.
И в доме будут раздаваться шаги близких людей…
День начала войны был днем начала наших несчастий…
Накануне мы уснули счастливыми, наполненными жизнью и такими заманчивыми перспективами, а проснулись обездоленными.
Как будто каждому из нас этой ночью был прочитан приговор, о котором никто ничего не знал, а он, приговор, уже висел над нами, отметив каждого своей страшной печатью.
Возвращение
…Руины… Руины…
Я стоял среди них и не верил своим глазам.
Улицы не было. Был лишь ее прах, который можно было узнать только по шпилю на башенке дома, там, напротив, где когда-то заканчивался силуэт крыш на фоне неба, где заканчивалась улица, переходящая в площадь. Было светло; дома не бросали теней на улицу: домов не было.
Было тихо. Десятки и сотни людей бесшумно работали среди руин.
Молча собирали люди обломки домов, без слов, без звуков, и это было страшнее, чем если бы над руинами разносился плач.
Наверное, он уже прокатился над городом и затих здесь.
Трамвай в тот день не ходил. Утро было серым, и улица, ведущая к городу от вокзала, выглядела как лицо близкого человека: осунувшимся и постаревшим в разлуке.
Я медленно тащился, не отдавая себе отчета в том, что я, наконец, в Киеве. Не верилось. Это, казалось, уже давно стало достоянием воображения. Как во сне: скорее, скорее и — ни с места.
Скорее, чтобы взглянуть на окна того дома. Темные окна темны по-разному: те, что за светомаскировкой темны иначе, чем те, за которыми никого нет.
Одни темны, другие мертвы. Хочется оглядеться, глазами поздороваться с хмурыми домами и незрячими окнами, но — нельзя. Ничего нельзя, пока не подвергся я главной экзекуции — экзекуции родного дома.
…Вон те два окна на втором этаже.
И балкон.
…А каштан перед домом вырос.
Наверное, когда он оденется листьями и цветом, с балкона можно будет дотянуться до ветки. Но это будет в мае, а сейчас ноябрь…
Я стою внизу перед домом и разглядываю что-то под ногами: ступеньку перед входом. И количество щербинок по краю.
Хожу по кромке тротуара и что-то слушаю в гулкости булыжной мостовой. Разглядываю асфальт, как будто можно разглядеть, кто шел, кого вели, а кого тащили.
А в подъезде что? Ничего. Трещины на стенах. С маленькой дочкой — игра была: на что похоже пятно на краске? Где-то здесь был слон без хобота. Не знаю, где.
О чем я думаю? Что за фокус — моя психика?
В подъезде остался знакомый запах. Не совсем тот, но все-таки узнаваем. Раньше здесь больше пахло съестным.
На первом этаже жили врачи. И кажется, по фамилии… не помню.
(А почему — жили?)
…И мама всегда шутила: мы знаем, что у них на обед. По запаху.
Но почему — жили?!
И я вбираю воздух в легкие, чтобы не захлебнуться, когда взлетаю по лестнице — и один, два, три, четыре-восемь! Остановка. Поворот. Один, два, три, четыре-восемь, дверь налево, звонить два раза, дверь мне открыла…
Дверь мне никто не открыл. Она не была заперта и открылась сама. Со звуком — скрипом, похожим на голос родственника…
«Возвращение»
Темное заброшенное помещение — сарай? — и две фигуры: мать и сын. Она примостилась на чем-то, на фоне мрачной стены, он — на коленях перед ней.
Картина называется «Возвращение». Само пространство трагично по ощущению пустоты и холода. А масштаб фигур — почти в натуральную величину — уравнивает их с окружающим.
Перед картиной толпятся люди.
От одного из зрителей пришло письмо: «Это потрясает, это потрясает… Я прошел войну, видел много горя… О войне я не видел ничего сильнее. Может быть, оттого, что войны-то там и нет. Только горе от нее».
Ташкент. 1943 г. На выставке представлены работы местных художников и тех, кто был в эвакуации.
В ноябре 1943 г. освободили Киев. Отец рванулся домой, на Украину. Выставка к тому времени еще функционировала, и снимать работы со стен было негоже. Отец оставил их («их» потому, что это была не только картина «Возвращение», но и ряд портретов) и, заручившись обещанием руководства Союза художников, уехал на Украину. Обещание было выполнено: работы отправлены в Киев. И весь багаж исчез с лица земли.
Поиски велись несколько лет, но тщетно. Нет работ и нет главной из них: картины «Возвращение». Остались немногочисленные наброски и эскизы. И рассказы моей матери о том, какова была реакция на работу: благодарные зрители на выставке, благодарные и растроганные «братья-художники» и — совсем другое — блюстители идеологий:
— Почему воин на коленях?
— Почему на переднем плане сапоги?
— Почему у матери трагическое лицо?
— Почему воин спрятал свое лицо?
— Где торжество победы? Где грудь колесом?
— Где радость встречи и где, наконец, ордена?
— И вообще, не вызывает ли работа ассоциацию с «Блудным сыном»?
А ведь правда: и сапоги с налипшей грязью на переднем плане, и лица воина не видать, а орденов и подавно, потому что стоит он на коленях и спиной к зрителям… А радость встречи…
Что знали, а чего не знали через два года после того, что произошло в Киеве 29 сентября 1941 года?
Какая уж тут радость…
Сейчас и не знаешь, где и в чем логику искать: коль такие опасения вызывала работа эта у чиновников от искусства, что же с выставки ее не отпускали? Неужели только для того, чтобы Судьба совершила еще одну непомерную свою жестокость?
А иногда вдруг мелькнет и вовсе ненужная мысль: так ли случайно исчезновение работы? И тут же отвечаю себе голосом отца: «Какое это уже имеет значение…»
Мысль о повторении работы не покидала отца до конца жизни. Этюды, датированные концом 40-х и 50-ми годами, говорят о мучительном продолжении темы гибели близких.
…И появляется еще один этюд под названием «Голова матери» — художник так назвал его и этим отнес в разряд эскизов для будущей работы. И под руками женщины условно намечена округлость — предположительно это линия головы сына. И сходство с предыдущим портретом Матери из утраченной картины… И в других набросках снова две фигуры: мать и сын.
Никуда это не делось, ни боль, ни тема.
И вопрос, который он так ни разу не произнес вслух, но постоянно задавал себе и пытался ответить с карандашом в руках: «Как это было?»
И возникает фигура старой женщины, так похожая на уже виденную в рисунках фигуру бабушки Сабины. И со скрипкой. Непривычно держит она футляр, неловко.
А позади эта смертоносная форма немецкой каски и взмах прикладом.
И кукла в руках ребенка. Это не сентимент: дети шли туда с игрушками. И движение, которым женщина в ужасе закрыла лицо, так похоже на движение моей мамы.
И так перепутаны судьбы и лица, и так переплелись времена в зрении художника с тем, о чем он молчал всю жизнь. И только однажды на моей памяти он заговорил, глядя на людей, собравшихся в доме: «Возникает чувство защищенности, когда нас много. Пусть иллюзорное, но оно дает силу. А те все шли, шли толпами, шли, и никто их не защитил».
Если у судьбы есть палитра, то на ней слишком много темных красок уделено моей жизни. Я чувствую себя постоянным должником перед собой, перед близкими, перед своей жизнью. Судьба в который раз выбивает прямо из-под рук что-то, что уже было вот-вот «на мази». И долг растет. И силы уходят.
Немного Средней Азии
Больница. Ночь. Тревожный сон палаты.
…А где-то там, за дувалами, за садами, за темной кромкой гор — Киев.
Там война.
Голубые зарницы беспрерывно вспыхивают на стене соседнего дома и тревожат, не давая уснуть. Весна 42 года.
По соседству, за садовой оградой, трамвайный парк. Оттуда зажигаются зарницы, доносится лязг железа и трамвайные звонки. Их проверяют короткими контактами, они — звонки — похожи на вскрики. Дома, да и вообще где-нибудь, а не в больнице, я люблю звук трамваев — это голос живых улиц. Но здесь, рядом с депо, звонки кажутся слишком настойчивыми и утомительными. И тревожат, тревожат. Эта маленькая жизнь трамвайного депо вызывает ассоциацию с мировой разноголосицей. Все на что-то похоже. Звонки, как птицы. Искусственные.
…Удивительно гордое, молчаливое лицо Мурада. Я вижу его чаще в профиль, он постоянно смотрит в окно. Кажется, он все время кого-то ждет, но никто не приходит к нему.
Он живет в своем достоинстве и одиночестве. Поэтому он выживает: гордость не дает умереть.
Из неотправленных писем:
Дорогой друг!
…Сегодня был хороший день. Меня вывезли на балкон, откуда виден парк, а за ним город в голубой дымке, и отсюда я писал.
Впервые за долгое время.
Какое это счастье, писать.
…Если бы я не боялся впасть в сентиментальность и излишний пафос, я бы рассказал, что в то время, когда я пишу это письмо Вам, по радио передают концерт Рахманинова. И я испытываю то — я вспомнил это чувство, — что испытал когда-то, когда заплыл далеко-далеко в море. Это было в юности. Но я помню упругость зеленой волны, и, кажется, именно тогда я подумал и осознал, что это и есть чувство жизни.
Счастлив тот художник, кто может вызвать это чувство.
Мне видна дорога — совсем рядом, — по которой идут машины, телеги и ослики.
Видимо, дорога идет на рынок: везут тюки с рисом. Он сыплется из дырявых мешков, и я вспомнил Мальчика-с-Пальчика и великие рисунки Дорэ.
Ночью в саду сторож играет на зурне — гортанный непривычный звук неведомого мне инструмента. Но он так близок волнующему запаху цветущего миндаля и так органично смешивается с запахом сырой земли… И все это — звук, запахи, ночной воздух — льется в открытое окно потоком другого, нового для меня мира…
Ослики, Мальчик-с-Пальчик, извилистая дорога вверх, и неизвестно, что за поворотом, Дорэ, зурна… И опять ничего невозможного, и опять искусство право.
Война окончена…
Дорогой Николай,
…вы с Леной подаетесь в Киев, и я безумно завидую. Правильно ли понял из твоего письма, что после гастролей остаетесь (остаешься?) в Киеве на кинофабрике для съемок в каком-то фильме? И ты словом не обмолвился — в каком. И что ты будешь в нем делать? Если я правильно тебя понял, это вопрос решенный. Напиши хоть, кто оператор и режиссер.
…Разыщи на Фабрике моего большого друга, оператора Даню Демуцкого, передай привет и скажи: как только приеду в Киев — объявлюсь. Они с Довженко работали несколько лет (вспомни «Землю»), были, как братья. Жаль, разошлись. А потом Даня уехал надолго. Далеко. В войну, в первые дни ташкентской эвакуации, мы всей семьей (втроем!) жили у них в такой крошечной комнатке, что всем вместе, даже стоя, трудно было поместиться.
А на стене висело узбекское сюзанэ с пятью кругами, и Даня говорил, что хоть живем мы в тесноте, но зато каждому по солнцу в солнечном Узбекистане.
У меня остался небольшой рисунок от той поры, все собираюсь передать. Если увидишь его (и Валю, Валентину Михайловну — она прелестная женщина и преданный человек), скажи, что должны мы свидеться, я очень хочу их повидать. Если, Бог даст, благополучно доберусь домой…
(Подмосковье, санаторий «Пески», 46 г.)(Николай Павлович Яновский — актер театра им. Вахтангова. Елена Павлова — его жена, актриса. Друзья дома. — А. Л.)
Помню этот рисунок, сделанный моим отцом в Ташкенте. Он всегда висел над столом Даниила Порфирьевича — дяди Дани.
Голова его в наклоне: он всегда что-то мастерит-обтачивает. Это «что-то» называется монокль. Этим объективом снимал удивительные вещи — удивительные по мягкости и благородству передачи.
Я не могла поверить — оптика, объектив — и вдруг такие бытовые, обыкновенные помощники, как наждак, пилочка…
И тем не менее, именно их я видела в руках дяди Дани и на его столе. Но, честно говоря, не они меня интересовали, и не круглые, выпуклые, как рыбий глаз, стекла. Над столом висел темно-желтого цвета пористый картон — видимо, от обувной коробки. А на картоне жутким, корявым почерком выведено:
1. Чайковский. «Ромеина жилетка»
2. Вивальди. «Пресно-приснисьему»
3. Мясковский. «Винигретто».
Запомнила дословно.
Дядя Даня говорил, что этот список пластинок он «увел» из сельмага и что он часто привозил подобные списки из экспедиций. Что в сельмагах бывал охотно не только потому, что там хлеб и другую еду продают, а потому что пластинки стоят там копейки — все давно уценены — и выбор намного разнообразнее, чем в столичном универмаге.
Ну, и списки — особый интерес…
У Даниила Порфирьевича была уникальная по тем временам фонотека, которую он собирал много лет с большим пониманием и вкусом. Недаром был он сыном музыканта. А рядом с сельмаговским списком, на книжной полке, объявление:
«Хватит! Больше никому книг не даю!»
И не давал.
Иногда сельмаговский документ сменялся другим, подобным.
Но теперь-то я уж знаю: умел он шутить, да так, что никак не заподозришь его в подвохе. Говорил же, объяснял много лет подряд, что украл параллакс и перфорацию. И, кажется, не одну. Признавался в каком-то учреждении, куда его вызывали и допрашивали.
Сослали его в Ташкент как украинского националиста. Почему и за что — думать бесполезно. Припомнили, конечно, что и отец его, Порфирий Демуцкий, хоть и был известным фольклористом и даже имя его значилось в энциклопедическом справочнике, был непомерен в любви своей к украинской музыке. Но с ним разобрались. С ним уже покончено.
А вот Даниил Порфирьевич пусть поживет вдалеке от Украины. В Узбекистане. Там его держали на контроле, вызывали «куда надо», вопросы задавали, что он такое сделал-навредил.
Он и отвечал.
Но главное: он там кино снимал. «Тахир и Зухра», «Похождения Насреддина» стали классикой. На этот раз, классикой узбекского кино.
Ну, как не вспомнить здесь Сергея Параджанова, рожденного в Тбилиси армянина, принесшего славу украинскому кинематографу фильмом «Тени забытых предков» — более десяти международных премий во славу украинской культуры. А Украина ему, Параджанову, за это еще одну зуботычину.
И Демуцкого — подальше от Украины. (На несколько десятилетий раньше, но стиль, как видно, не менялся).
Передо мной Советский Энциклопедический словарь (Москва, 1980, Из-во «Советская энциклопедия»):
«Демуцкий Дан. Порфирьевич (1893–1954). Сов. Оператор. Снимал фильмы реж. А. П. Довженко „Арсенал“ (1929 г.), „Земля“ (1930 г.) и др. Гос. премия СССР 1952 г.»
Что такое «и др.»? Годы ссылки? Годы работы на Узбекфильме? Название фильмов, снятых в Средней Азии? И что за Гос. (читай: Сталинская) премия в 1952? Не указано. Может быть, за участие в фильме «Подвиг разведчика»? Ладно, пусть «Арсенал» и «Земля» значатся в словаре. Эти фильмы — эпоха. Их хватает, чтобы стать классиком.
С Довженко обошлись не лучше. Правда, не в Узбекистан выслали, а выдворили чуть ли не насильно в Москву, поближе к всевидящему оку.
О том, что происходило с ним в столице мы узнали из его дневников, опубликованных после 1956 года, после его смерти. Это были годы унижений и изощренных издевательств и, кроме как трагедией, это кончиться не могло.
В 1959 году — Ленинская премия. Посмертно. Киевской студии присвоено имя Довженко. Демуцкому — также место почетное в музее Киевской студии. Все посмертно: и имя Довженко, и место в музее. Собирались создать кабинет-музей Даниила Демуцкого. Не знаю, собрались ли. Вряд ли. Впрочем, все еще впереди.
Но я возвращаюсь в памяти своей к тому времени, когда все еще были живы и полны надежд. Однажды мама говорит, что Даниил Порфирьевич и Валентина Михайловна просят зайти к ним. Я обрадовалась: давно не виделись.
Сидим мы с Валентиной Михайловной на кухне, пьем чай, а Даниил Порфирьевич в комнате за столом письменным что-то мастерит, как обычно. А комната красивая и почти пустая: лишь посредине круглый стол с изысканными стеклянными посудинами, поставленными тесно друг к другу. И стол сверкает, как драгоценный камень. А в углу, в углублении возле балкона, письменный стол Дани. Он как-то и незаметен в комнате, весь свет фокусирует на себе стекло. И сюзане на стене. Все то же узбекское сюзане. Валентина Михайловна шутит (научилась у Дани мрачным шуткам):
— Теперь уже все наоборот, теперь уже сюзане сослали в Киев за узбекский национализм.
Даня заходит в кухню и говорит вполголоса, словно мимоходом:
— Поснимать бы…
И Валентина Михайловна, как эхо:
— Поснимать бы… Тебе когда удобно?
Я еще не понимаю:
— Что?
— Ну, посниматься. Фотографироваться.
С тех пор я люблю это слово: «посниматься». Что-то хорошее, с интонацией дяди Дани.
Это длилось весь день, с утра и до вечера. Долго ставили свет, а я должна была сидеть, не двигаясь, потому что: «блик на обоях», «свет на щеке», «куда наклоняешь голову, сядь, как сидела», «платок спадает», «посмотри в объектив», «не смотри в объектив». Это потому, объясняет Даня, что для живописца его глаз, его зрение и есть объектив. Прямая связь: глаз — холст. У фотографа и оператора есть посредник — оптика. Он и работал всю жизнь с посредником и союзником — моноклем, у которого затирал вручную края, для мягкости границ кадра, для мягкости изображения. И этого хватило ему, чтобы войти в историю как непревзойденному мастеру пейзажа и портрета. И снимал он фотоаппаратом на ножках, укрывшись с головой черной тряпкой, как в журнале «Нива» начала века. И красивая, бесшумная Валентина Михайловна всегда рядом, всегда ассистирует.
И я счастлива, что они тогда «поснимали» нас с мамой.
А насчет книг Даниил Порфирьевич был прав: дал он мне почитать книгу, очень редкую, старинную, с «ятями», но назад получить не успел: инфаркт. Книга вернулась в дом, где была уже только Валентина Михайловна.
И вновь пришла весна
…«Пришла весна долгожданная» — очень просто и знакомо, как хлеб и как молоко. Слышу чью-то интонацию — не помню, чью. Кто угодно может так сказать. «Пришла весна долгожданная». И дома, наверное, уже открыли балкон, и на паркете лежат солнечные пятна.
У меня за окном стоит дерево — береза. Я люблю ее, не боясь (а может, и боясь немного, но не очень — дерево ни в чем не виновато. Во всяком случае, в дурном вкусе людей), так вот: не боясь впасть в сентимент, люблю свою березу. Когда больничная палата надолго становится обителью, дерево за окном — больше, чем дерево.
Люблю смотреть на ее бесшумную жизнь и на ее терпение.
В этом есть надежда: осенью она так беспомощно взмахивала своими ветвями, и гнулась под ветром, и теряла листья!
И вдруг однажды утром засияла, засверкала, выровнялась и успокоилась. Переродилась в новое, зимнее состояние.
Может быть, так и происходит рождение красоты? Там — где-то — в глубине чего-то — зреет торжество?
Банальность и хрестоматийность идет на ум, но это мое несовершенство. Березка-то стоит. Ее это не касается.
Сейчас важно, что оба мы ждем весны.
Сегодня утром пришла няня с тряпкой и ведром, сорвала бумагу с рамы и распахнула окно. Белая оконная рама задела ветку с набухшими почками, и в комнату хлынул воздух весны.
Няня забралась на подоконник, чтобы протереть окна, и давай приговаривать:
— Весна долгожданная, пришла весна долгожданная.
И так приговаривает, словно ребенка купает.
Прошлой весной я это слышал от нее же.
Год прошел.
* * *
Дорогой Макс Леонидович!
Вот и открылась моя выставка. Совершенно неожиданно меня обрадовали таким теплым, таким хорошим приемом, что я был взволнован до крайней степени…
Мне аплодировали, и я не знал, куда мне деваться…
Я был счастлив услышать, что, оказывается, и нянечки, и врачи, и больные сочувствуют моей работе в стенах стационара во время лечения, моему «неуставному», так сказать, существованию.
Что ж, спасибо им и за отношение, и за выставку.
А из «Вечернего Киева» так никого и не было. Но это ничего. Зато как тепло говорил поэт Леонид Вышеславский! Да только ли он? В общем, все говорили хорошо.
(Макс Поляновский — московский журналист, автор статьи «История одной картины», посвященной созданию картины «Танки идут на фронт» художника И. Литинского. Статья была напечатана в журнале «Огонек» в 1949 году. — А. Л.)
«Выставка — необыкновенная во всех отношениях. Настоящие работы настоящего художника, которые впечатляют так, что забываешь обо всем — об условиях и обо всем прочем…
Работы полны поэзии. Они — торжество человеческого духа.
Желаю новых взлетов!»
Леонид Вышеславский«Во-первых, Вы мне открыли с новой для меня поэтической стороны то, что я постоянно вижу и знаю, — знакомые уголки. Во-вторых — какая сила духа художника! Сколько бодрости и надежды! Сколько красоты и лиризма!
Надеюсь не последний раз быть на Вашей выставке».
Медбрат Парфенов«Все свежо, зрело, талантливо.
Только Ваша воля к жизни помогла создать столь жизнеутверждающее искусство…»
Ирина Холеева«Хорошим — хорошо, и от хороших — хорошо.
Спасибо за радость видеть вас счастливым…»
Надежда ГурниковаНе это ли имел в виду Михаил Нестеров, говоря в письме о взаимной любви Художника, Человека и Природы?
Сегодня приснился удивительный сон: широкий, с голубыми лужами двор и кучки мокрого снега по краям. Мальчишка лет десяти склоняется над лужами, разглядывает что-то в них, как в зеркале, зачерпывает ладонью воду, и ручейки, стекая с пальцев, искрятся, играют малыми струйками на солнце. Затем мальчишка лепит снежки и бросает их куда-то далеко.
Смотрю: мальчишка — это я в детстве. Хлюпаю по талой воде и снежной жиже. Иду и сочиняю стихи:
Пришла весна долгожданная.
Тает снег у ворот…
Странно, я взрослый иду рядом с собой — ребенком. И думаю, как бы он не промочил ноги. А он пытается перешагнуть через лужу — и никак, никак.
Потом вдруг смотрю — это девочка. Дочка. Как она попала сюда? Это ведь школьный двор — вон моя школа. И я пытаюсь бежать к ней и не могу…
Открываю глаза. Птица за окном что-то прокричала, деловито повернула голову налево, направо. Поглядела на меня одним глазом, клюнула себя под крыло и — улетела.
Тюбик белил и охапка пионов
Киев. Лето. У меня на балконе подруга пишет этюд: море зелени под балконом, за ним — светлые силуэты домов на Крещатике и — уходящий вверх в закатную дымку Печерск.
И вдруг кончились белила. Прервать работу — загубить работу: освещение уходит.
Кажется, есть выход: в домах напротив, в мансардах, располагаются художественные мастерские. Наверняка найдется кто-то, кто выручит.
Звонит. Откликается бывший однокашник по институту.
— Белила? Конечно, есть. Куда нести? Напротив? Пушкинская? А фамилия? Как? Не художник ли? Да он мой учитель!
Нет, говорят ему, художник Литинский никогда не преподавал. Ошибка.
— Какая разница! — кричит кто-то в трубку с такой силой, что мне в другом конце комнаты слышен его голос. — Разве дело в этом? Передо мной его портреты: Саксаганский, Ужвий. Он? Замечательный мастер. Я не расстаюсь с ним.
Через минуту тюбик белил, охапка белых пионов (откуда ему было знать, что отец любил именно белые пионы и что они в последнем, незаконченном натюрморте?), журнал «Образотворче мистецтво» с репродукциями работ отца были доставлены человеком в синем халате, заляпанным краской. В нем он пересек Крещатик, и в этом тоже было что-то очень знакомое.
— Выставка, что же выставка? Была? — спрашивает гость, оглядываясь по сторонам. А мне как-то совестно признаться, что единственная была за два года до смерти и вовсе даже не в выставочном павильоне. Что и ретроспективной не было — никто толком не объяснил в Союзе художников, почему выставка, бывшая уже решенной, вдруг… рассосалась. И что же это за фантомные силы, что не давали состояться выставке? Что за рок по пятам ходил?
Не могла я ничего объяснить моему новому знакомцу (а объяснений и нет) — посмотрела не без удовольствия на его лицо, когда он путешествовал глазами по стенам («Какой художник! Никто сейчас не пишет такой воздух! Он аж звенит у него в пейзажах»), и проводила гостя, пообещав посетить его мастерскую. А в памяти, сознании, подсознании, слухе — где, не знаю, — застряла фраза: «Да у вас здесь настоящая, действующая выставка».
Шло время.
…Как получилось — не знаю. Верно, фраза о постоянно действующей выставке в благую минуту была сказана: проросла. Мои друзья — художница Зоя Лерман и искусствовед Игорь Дыченко — тому свидетели. В один прекрасный день мы одновременно произнесли: будем делать выставку. Домашнюю. И сделали. Почему Домашнюю? А какую, коль не домашнюю?
На Союз художников и Художественный фонд давно уже расчета не было. Снимать зал, оплачивать помещение, охрану и прочее?.. Немыслимо.
А в доме есть место. И работам в доме хорошо. Вот и сделали, что могли: Домашнюю.
Но все-таки это была Выставка. И имя художника возродилось. И пресса заговорила. И телевидение заинтересовалось. И люди… Зрители. Посетители. Мы даже не догадывались, какого джина из бутылки выпускаем.
В буклете, сделанном Игорем Дыченко к открытию, установлен трехдневный срок выставки: 28, 29, 30 мая 96 года. А в Памятном Альбоме последняя запись датирована 19-м марта 97 г. Больше полугода прошло со дня ее открытия.
И думаешь: какой же благодатный материал — работы И. Литинского, если не произошло с ними того, что было вполне реально: не растворились они в интерьере и не утратили своей художественной ценности, поглощенные словом «Домашняя», а остались предметами выставки, которая не вошла в противоречие с контекстом дома. Органично и не оскорбительно для себя она стала на время его частью. И то, что она разместилась в доме, где продолжалась обычная повседневная жизнь, сделало само событие необычным. Но это, разумеется, нисколько не снизило зрительской оценки.
Сорок лет прошло между той выставкой, на Батыевой Горе, и этой, Домашней. Хорошо, что они были. Спасибо судьбе. Во всяком случае, так бы сказал мой отец, художник Ибрагим Литинский.
Подписи к портретам
Артист
Есть обитаемая духом
Свобода — избранных удел…
О. Мандельштам «Encyclica»Дорогой друг!
Как ни странно, радионаушники, которыми меня снабдили, заметно улучшили мое существование: это и связь с миром, это и музыка (что тоже связь с миром).
Вчера слушал Мазурки Шопена — словно впервые. Музыка обрела для меня второй смысл: смысл дома. Вижу лица, вижу руки, ноты на пюпитре. И слышу, кажется, больше и «горше», чем прежде… Война что-то делает с нами, с музыкой, со всем вокруг.
…Вспоминаю моего друга, дирижера, необычайно талантливого человека. Если Бог даст нам встретиться всем вместе, непременно «подружу» вас. Представляю, как он увлечет Вас своей стихией, своей музыкой и рассказами. О нем легенды ходят: он и такой-сякой, и выдумщик, и фантазер, и приврать любит. С последним я категорически не согласен: когда гений фантазирует, открывайте уши и слушайте. И если даже сию минуту это покажется чем-то невероятным, ждите. Наберитесь терпения и ждите, и вы увидите: фантастика оказалась правдой. Или, может быть, и была правдой, но мы этого не знали, а он, имярек, знал.
…Где-то он, мой друг Натан? Жив ли? Хочу думать, что жив. Хочу думать, что все мы живы…
…Видел его в работе: захотелось посмотреть на руки и лицо. Это поразительно, что за руки: пальцы толстые, короткие, но когда берет он дирижерскую палочку — нет им равных по пластике. Если бы была формула «музыка-руки», то вот они, эти руки, — музыка.
В кульминационном моменте средней части Шестой симфонии Чайковского: в наивысшей точке он словно захлебнулся, внезапно остановился, прижал руки и замер. И простоял так несколько мгновений — недвижим. А музыка грохотала, неистовствовала и неслась куда-то. А он неподвижен. Наконец, он подхватил ее, и они понеслись вместе.
…Помню его обращение к кларнетисту. Эту нежность, с которой попросил он соло (кажется, это называется «Рассказ Франчески»), сколько всего в этом некрасивом на первый взгляд человеке… Где взять эту неповторимость? Нигде. Разве что у мамы с папой.
Простите, что признаюсь Вам в любви к другу.
Надеюсь, когда-нибудь расскажу ему о Вас.
С надеждой на это —
Ваш И. Литинский.Кто этот «дорогой друг», которому адресованы строки письма моего отца — трудно сказать. Письмо не датировано, но, видно, это время войны, эвакуации, госпиталя. То есть, 42-й или 43-й год.
Очевидно одно: речь о дирижере Натане Рахлине. Даже если бы вскользь не было упомянуто его имя — сходство слишком убедительно. Не говоря о том, что у отца (и у семьи), насколько мне известно, не было другого друга-дирижера.
Моя память о нем с самого раннего моего детства до той поры, когда он, вытесненный в Казань, наезжал в Киев (дочка с семьей оставались там), наезжал как гость. И ничего нелепее, неестественнее придумать нельзя было. И невозможно без боли было слышать: «Ректор консерватории ко мне очень дружески настроен» или «Кафедра симфонического дирижирования заинтересована…»
Натан Рахлин. Имя, ставшее легендой Киева, надеется на возвращения в Киев, благодаря хорошему отношению… да кого бы то ни было.
Превосходный оркестр создал он в Казани (а разве мог создать Рахлин плохой оркестр?) Но разве повод это, спрашивает он, чтобы остаться там навеки? Я там никто, говорит он. Я здесь Натан Рахлин. В Ленинграде, в Москве, в Европе… Но там Натан Рахлин не нужен.
Ты знаешь, что такое замок Радзивиллов? Ты не можешь себе представить этот зал, эти окна — готические окна, уносящиеся в небо… Я в Польше дирижировал симфонией Дворжака и «Манфредом» Чайковского… Этот зал открывают самым почетным гостям… Я даже растерялся… И вдруг я услышал музыку… Это тема из первой части концерта Чайковского, но не главная, а та, что рядом, связующая… И доносится музыка издалека. Представляешь, замок Радзивиллов и музыка издалека… То ли украинская песня перешла в Польшу, то ли из Польши перекочевала на Украину. Все равно…
Он смотрит мимо меня и обращается явно не ко мне, хотя в комнате больше никого нет. Почему бы, спрашивает он кого-то с такой болью, что я невольно оглядываюсь, почему бы не поработать с любым оркестром, в любой точке земного шара, а потом вернуться домой? В Киев, конечно. Так живут все музыканты. Где? Как где? Всюду! Разве это неправильно? Что плохого в этом?..
Он говорит без адреса. Он просто говорит, что Тосканини, например, не мог бы жить не там, где он хочет. Хоть в Риме, хоть в Милане, хоть в Париже… Он говорит очевидные вещи, настолько очевидные, что становится тревожно за него. Он подымается и уходит, не прощаясь, видимо, потому что не замечает этого, и продолжая на ходу говорить что-то горькое.
И все-таки, он вернулся в Киев. Но только для того, чтобы быть похороненным на Байковском кладбище.
Долгое, как сама жизнь, знание друг друга. Знание друг друга, а потом друг о друге с нечастыми встречами, потому что жили мы в разных городах.
— Позвони мне после двух часов в гостиницу. В два заканчивается репетиция, пойдем куда-нибудь перекусим.
Вечером перед концертом:
— Что же ты не позвонила? Я ждал.
— Я звонила. Было все время занято.
— Не может быть! Я ни с кем не разговаривал. Я так устал, что пришел в гостиницу и сразу рухнул. И, чтобы не пропустить твой звонок, положил трубку рядом с собой под подушку.
Можно вспомнить бытующие в киевском фольклоре рассказы о том, как, входя в троллейбус, снимал галоши, выходя из поезда, сдавал пальто проводнику, и много-много другого…
Это был 1965 год, июнь, Новосибирск. Натан Григорьевич приехал на гастроли с концертами. Ему предстояло дирижировать оркестром Новосибирской филармонии (к слову, хороший оркестр создал в Новосибирске дирижер Арнольд Кац. Хотя такие вещи неудобно говорить «к слову»). Это был первый выезд Рахлина после того, как обосновался он в Казани. Чувствовал себя не очень хорошо, но был воодушевлен предстоящим концертом. Одним словом, Рахлин был в «форме».
Оркестр встретил Маэстро, стоя аплодируя ему. Было видно, как расплывается лицо Рахлина в улыбке, как ловит он знаки уважения и пиетета, как радостно чувствовать ему в себе прежнего Рахлина, вызывающего овации. И он оживал на глазах. («Артист — всегда артист», — говорил он, признаваясь в том, что одни называют его силой, а другие — слабостью: в острой необходимости в аплодисментах. Артист — всегда артист).
Репетиция началась с Пассакалии Баха. И почти сразу — работа с каждой группой отдельно, по кусочкам, по партитурным буквенным обозначениям.
Конечно, думалось мне, тот — родной оркестр, понимает с полужеста… Но и тот, родной, — уже не родной: сменил состав и привыкает к новому дирижеру.
И все-таки, что-то изменилось во внешности события, у Маэстро появилось более четкое ощущение времени в работе. Творческие, почти домашне-семейные отношения с Украинским оркестром позволяли забыть о законах циферблата, что было вечной темой обсуждения с профсоюзными деятелями, как и то, что «нельзя же, в конце концов, репетировать, добиваясь днем одного, а вечером, на концерте, делать прямо противоположные вещи: давать другие темпы, требовать иного звучания групп… Оркестр возражает. Профсоюз его поддерживает».
(Теперь, через столько лет — десятилетий, те немногие, что сохранились от прежнего рахлинского состава оркестра, на вечере памяти Маэстро говорили о его творческой стихийности, об импровизационной природе его таланта… А тогда это называлось иначе… И шли парламентеры к жене, к Вере Львовне. Чтобы повлияла. А та смеялась: со мной, говорит, как с мамой трудного ребенка. Влияйте, говорят, а то школа-профсоюз не справляется).
Сейчас Рахлин деловит и организован, и репетиция идет напряженно: трудно добиться нужного баланса в звучании групп. Вся репетиция до перерыва посвящена Пассакалии.
Перерыв. Рахлин поворачивается лицом к залу и видно, как он измучен. По лицу бегут струйки, а о полотенце, что на шее, он, конечно, не помнит и пытается управиться с неудобствами при помощи рукава. Он и на концерте забывает, в каком кармане платок. И даже, когда в каждом кармане по платку, добраться до них сложно. Почему-то.
Натан Григорьевич семенит по ковровой дорожке к выходу — он торопится в буфет. Он всегда торопится в буфет, потому что есть очень хочется после напряженной репетиции.
Ему преграждает дорогу концертмейстер оркестра и говорит что-то, держа партитуру перед собой.
— Что? — переспрашивает Н. Г.
В зале царит обычная оркестровая разноголосица, обычный шум перерыва (я люблю это облако звуков над оркестром, когда каждый инструмент бросает короткие реплики из своих партий и это создает специфическую атмосферу перед началом концерта или спектакля).
Я слышу, что говорит концертмейстер:
— Натан Григорьевич, может, удвоить басы в этом месте? Будет плотнее звучать. Попробуйте, а?
Натан Григорьевич закрыл уши ладонями, пробормотал:
— Подожди, дай послушаю.
И замер. И простоял так несколько секунд с закрытыми глазами и ушами.
— Нет, — покачал головой. — Тяжело звучит.
И побежал-засеменил дальше по дорожке.
— Натан Григорьевич, известно, что Ваш конек — симфоническая музыка Чайковского.
— Что?! С чего ты взяла?! — и брови кверху. И негодование, и изумление.
— Ты с ума сошла! А Лист? А Берлиоз? А ранний Шуберт? А Бах? А?.. А?.. — он загибает пальцы, он перечисляет, он в смятении.
Опустим ту подробность, что разговор этот происходил в телевизионном эфире (в любом случае, эфир от этого только выиграл), но вопрос «С чего ты взяла?» заслуживает ответа. Потому что взяла я это от него же за 20–25 лет до этого разговора, когда я называла его Пластилиновый дядя, потому что все, что выходило из пластилина, было похоже на него, дядю Натана.
Однажды он спросил:
— Ты знаешь, кто такая Франческа да Римини?
Ребенку в том возрасте, в каком я тогда была, подобный вопрос задавать бессмысленно.
Но он тут же добавил:
— Если бы ты знала, как я ее люблю!
И вздохнул так судорожно, так тяжело, что я подумала: тете со странным именем осталось жить недолго, помочь ей уже нельзя, несмотря на любовь (а ей и в самом деле нельзя было помочь, но как раз по причине любви).
Теперь-то уж понимаю, что вопрос не ко мне, а к кому-то, и любовь его была не к Франческе, а к кому-то. В том числе, и к Франческе, может быть.
Но идея любви постепенно совместилась с идеей любви к музыке. В том числе и к музыке Чайковского. И это не так уж неверно: «Ромео и Джульетта», «Манфред», «Итальянское каприччио», та же «Франческа да Римини»… Не говоря уж о симфониях. Мы, киевляне, свидетели: на протяжении многих лет каждое исполнение, каждый концерт был событием.
А вот эти строки из отцовского письма, где речь о довоенном Рахлине и «Франческе». Так что зря Вы сердитесь, Натан Григорьевич.
— Леня, — обращается он к моему сыну, — можно у кого-нибудь из соседей раздобыть гитару?
Для меня это неожиданность. То, что Рахлин играет на оркестровых инструментах — известно (особенно хорошо на медных духовых, сказывается школа военного оркестра). То, что, по его же признанию, любой инструмент (кроме фортепиано!) ему доступен — тоже знали. То, как однажды, в юности, вышел из аварийного положения тем, что срочно раздобыл баян и исполнил перед конкурсной комиссией Тему с вариациями из Седьмой симфонии Бетховена — знали от него же.
Но гитара!?
Через минуту мы перестали понимать, что происходит. Ни до, ни после ничего подобного мы не слышали.
Это не было произведением с началом и концом, это была импровизация без обозначенной мелодии (лишь иногда казалось, что где-то возникают очертания танцев Гранадоса), это была прихотливая игра динамики звука и ритма, а звук возникал откуда-то из глубины инструмента, но сейчас Натан приник, припал ухом к грифу, а гитару прижал к себе, и все ради этого удивительного звука, который и гитарным назвать — сильное преуменьшение.
Натан улыбается: — Ты впервые слышишь?
Он взял несколько аккордов и начал рассказывать, что…
…Что когда приезжал Сеговия (Сеговия! Первый в мире гитарист, легендарный испанец), так вот, когда приезжал Сеговия, мы встретились, и я ему играл. Знаешь, что он сказал? Что он не будет играть там, где играл Рахлин. Потому что Рахлин это делает лучше.
Я не буду рассуждать «было — не было», это не имеет значения. Я памятую отцовское письмо и понимаю: что бы он ни говорил, он говорит правду. И если Сеговия еще этого не говорил, то непременно скажет. Хоть давно уж его нет. Их нет.
Натан Григорьевич отложил дешевенькую соседскую гитару, похлопав ее по дереву, — спасибо, мол, не подвела, — поднялся и сказал:
— А теперь поджарь мне картошку. Вон в той большой сковородке. Только не говори моим домашним.
Прошло много лет. Киевский Оперный театр. Торжественный концерт. Прекрасный дирижер. Шестая симфония Чайковского.
В антракте бывшая консерваторская однокурсница находит меня, и мы буквально в один голос говорим:
— Хорошо играют. Но мы траченные люди. Мы слушали Шестую в исполнении Рахлина. Всё. Никого кроме.
МиВ
Всего на свете двое есть — совесть да смерть.
Русская пословицаМашина затормозила у входа в корпус, из нее вышел человек и, оглядевшись, направился к крыльцу.
Проходя мимо, бросил: «Где Нина?», словно весь мир должен быть готов к ответу.
Я поняла, кто это: Миша Вайнштейн. С его женой Ниной и детьми — их двое — мы живем в тесном соседстве, дверь к двери, вот уже целый месяц здесь, в Седневе, в Доме творчества, что под Черниговом.
И сегодняшнее утро началось с волнений «приедет — не приедет?» и вот, значит, появился.
— Где Нина?
И сделал шаг ко мне.
— Ты прости… Мы ведь знакомы?
Мы никогда не виделись прежде, но это ничего. Дескать, ждали приезда и все такое… Здравствуйте.
И в этот момент на балконе первого этажа замаячила голова моего сына. Миша решительно направился к нему и совершенно неожиданно положил ладонь на его лоб. Я хорошо запомнила это движение, удивившее меня движение человека — неважно кто он, мужчина или женщина, — привыкшего опекать.
Потом много раз я буду видеть — замечать это движение среди Мишиных жестов и всякий раз заново удивляться тому, как естественно гнездится оно в Мишиной пластике, руке, в самом Мише.
— У него температура!
Температура — не то слово. Ленька был простужен, как первый простуженный человек на земле. И лежал он под одеялами, напоенный чаями из седневских трав, которыми пропахла вся комната (через годы сын признается, что этот запах он уже терпеть не мог), и так не хотелось увозить его отсюда, из этой благодати, в жаркую городскую пыль, а на балкон он выскочил, потому что «я не виноват, я машину услышал…».
— И не вздумай увозить его отсюда, — говорит Миша. Как будто я давно уже обсуждаю с ним это «увозить — не увозить». — Здесь воздух лечит. Место благодатное, не даром художники этот дом отгрохали. А доктора хорошего найдем.
И слух стал свидетелем: не «найдешь», не «найдется» (сам), а «найдем».
А «дом отгрохали» — это вместо слов «Дом творчества». Слово «творчество» он употреблял редко и чаще всего на бумаге. Например, в заявлении на путевку:
«Прошу… в Дом творчества».
Или в хлопотах «это ему… для творчества».
А о себе он таких слов не говорил и вообще старался как можно проще высказываться:
— Я тут накрасил что-то…
И отворачивал от стены холст, перед которым становилось неловко за свою незрячесть.
Жил в нем стыд перед словами.
Помнится и такая сцена. Но случилась она много позднее, и чтобы снова увидеть ее, я должна передвинуть свою память во времени на несколько лет вперед.
Все тот же Седнев. Закат. Скамейка. Рядом с Мишей пожилая дама — художница. Разговор спокойный, предвечерний, и тихая музыка, как в кино, из окон доносится.
По своей привычке Миша разговаривает и рисует одновременно — блокнот и шариковая ручка всегда при нем. Короткие взгляды на собеседницу, мгновенный прищур, чуть откинутая голова, чтобы изменить угол зрения — обычная беседа, обычная работа, привычные движения… Набросок готов.
Миша вырывает листок из блокнота, подписывает — МиВ — ставит дату — июль 1980 г. — и протягивает собеседнице.
Та принимает рисунок, удовлетворенно улыбается и кивает — (замечательный портрет) — а затем говорит Мише:
— Пусть рисунок будет у вас. Когда я умру, отдадите его моей дочке.
Пауза измерялась секундами. Что? Что скажет?
«Ах, чтовычтовычтовычтовы?» Или что угодно, чтобы унять неловкость сцены (дама и впрямь была раза в полтора старше). А Миша скажет:
— Хорошо.
И вложит рисунок назад в блокнот. И встанет, подавая собеседнице руку:
— Пора к ужину.
Через год мы разыщем пожилую художницу и вручим ей рисунок.
Так и лежал он в блокноте, в ящике комода, что стоит под полкой в Мишиной мастерской. Но самого Миши там уже не было.
Мы знакомы давно, уже две минуты, но только теперь я вижу, как напряжены его глаза, да и весь он.
Миша огляделся, сел на скамейку, выпрямил затекшие ноги… Хорошо.
Что-то начинает медленно-медленно, постепенно-постепенно отходить в нем, словно поводья внутри ослабевают: вздохнул, как если бы отпустило удушье.
— Благодать. Конечно, хотелось бы побыть здесь день-другой, поработать. Никак нельзя. Работы начаты, надо до ума доводить. Двадцать первого выставком. Ты ведь не была у меня в мастерской? (Конечно, нет, по причине незнакомства). Приехал путевки продлить, всего на один день. Пусть Нинка с детьми здесь сидят, нечего им в городе делать. Жара, духота. В мастерской? Нет, в мастерской ничего, жить можно.
А он там и жил. С утра до вечера. Потом, если работы много, с вечера до утра. А потом снова до вечера. И так неделями.
Вес воздуха удвоен-утроен запахом красок и растворителя, этаж высокий, за окном крыши, что пышут жаром, словно печки.
Но жить можно, а главное, нужно.
Работы полно.
Холсты-холсты вдоль и поперек стен, торцом и плашмя. Миша отворачивает работу, дает посмотреть минуту-другую и ставит на место, краской к стене. Без комментариев.
Портреты, натюрморты, пейзажи, портреты… Снова портреты. Галерея лиц. Такое впечатление, что начинает что-то происходить со зрением. Словно убрали что-то, что мешало видеть не предмет, а его суть. Конечно формой, конечно цветом, конечно фактурой — густые мазки создают почти рельефный объем — но это не все, чем достигается эффект проникновения.
И тогда пытаешься скорректировать свое зрение по Мишиному и видишь, что вот этот удивительный, нарядный, торжественный в цвете и такой емкий, хоть и небольшого размера натюрморт (я потом ловила себя на том, что представляла его себе много-много больше) есть не что иное, как мусорное ведро с выброшенными цветами, флаконами и прочим сором из мастерской («Красота, она — всюду», — сказал бы кто-нибудь, но не Миша, из-за очевидности факта);
и жаркая гамма в натюрмортах желто-оранжевых тонов — «признание не шепотом, а в голос» — любовь его к каждой клетке этой жизни;
и серо-голубое прозрачно-утреннее освещение;
и полевые цветы в стекле;
и солнечные пятна на полу открытого балкона;
и беззащитность затылка и ладоней спящего ребенка — во всем этом такое живое, пульсирующее чувство жизни.
И ощущение, что художник швыряет пятна цвета так мастерски, так точно, чтобы не нарушить ту нежность, что живет в нем, ту трепетность, которой дышит каждое полотно.
Что ни скажешь — все не то, все мимо. И я понимаю, что мастерская — это место, где в словах исчезает надобность.
А Миша в это время идет к умывальнику, бормоча на ходу, что там, наверху, еще всего до фига, и что смогу еще досмотреть, когда захочу.
А у меня вырывается одно слово: «Когда?»
— Что — когда? Досмотреть? Да когда хочешь.
— Не то. Когда ты успел?
— Как когда? Я — старый. Выставка? Нет не было. Рано, говорят. А мне уже тридцать восемь Ста-арый я, старый.
Уже сказано, что место, где мы находимся, называется мастерской.
Хорошее слово, от слова Мастер.
В нем и Поэт, и Ремесленник уравнены в правах одного цеха, одной профессии. Один без другого — никак, и это видно по тому, из чего состоит мастерская: из книг (ни одной случайной), старой мебели, изысканных рам, нетесаных табуреток, наскоро сколоченных скамеечек (под ноги натурщикам), сухих цветов, украинской керамики, французского фарфора, деревенских рушников, старых фотографий, чужих и не чужих скульптур (Миша прекрасно лепит малые формы), молотков и гвоздей, рулонов, кистей, ящиков с материалом… Живописи. Собственно, ради нее существует все остальное. А это вот кресло — трон, где еще ему быть, как не здесь, в услужении достоинству художника…
А эта койка-раскладушка для Миши Вайнштейна, которого ближе к ночи ноги не держат, когда нет сил чайник вскипятить — вон там, за занавеской плитка, а дотянуться нет уже и охоты, — когда есть только одно желание: уложить свое тело в горизонталь, полистать пару минут что-нибудь из журналов и… провалиться в сон. Если, конечно, повезет. Если обойдется без приступа и без Скорой.
И все здесь, включая огромный буфет — не буфет, а целый город от пола до потолка, со скульптурной, резьбой, ящичками и закоулками — избыточная роскошь немецких резчиков эпохи «до социализма» — и даже изморозь на окнах, которая зимой появится и которая так к лицу этой мастерской, — все, абсолютно все, самые несовместимые вещи, живут в гармонии, созданной безупречностью Мишиного вкуса.
И уйти отсюда очень трудно, можно сказать — невозможно.
— Миша, кто эти люди?
Я держу пачку старых, явно начала века, фотографий.
— Люди.
— ?
— Просто люди. Я собираю старые фотографии. Люблю лица.
Сейчас, когда я пишу это, вспоминая Мишин голос и Мишины интонации, меня искушают такие, якобы, его слова о фотографиях:
— Лица всегда несут отпечаток времени;
или
— Тип лица меняется во времени;
или
— Каждой безымянной фотографии можно напридумывать, нафантазировать биографию;
или
— Одежда, аксессуары и лица всегда познавательны;
и еще много чего.
Но он ничего этого не говорил.
Почему меня так и тянет написать это — не знаю. Может, потому, что это — стереотип. Но он это не говорил именно потому, что это — стереотип.
Даже слова «люблю лица» он, кажется, тоже не произносил (это и так ясно из его портретов). А сказал он доподлинно следующее:
— Собираю старые фотографии.
И все.
А меня все мучит: а вдруг бы ему попалась фотография кого-нибудь из тех, кто его избивал в детском доме? Что бы он с ней сделал? Резал бритвой? Поливал кипятком? Это был бы не Миша.
И так страшно били — по спине, по почкам. Почки не выдержали. Миша еще тогда, в детстве, заболел, но долго не признавался в этом.
С тех пор врачи сражаются с этой болячкой, по сие время, да…
Да Миша все знает. Он даже знает, сколько ему осталось. Но говорит об этом странно, как бы со стороны. Без злости. Без жалости к себе. Но защиты ищет: и в людях, и в разных лечениях-врачеваниях.
— За что меня били? Ты наивная. За что бьют в детдоме? За то, что еврей, за то, что художник, а не пэтэушник, за то, что не курю, за то, что не подворовываю. Хотя, если бы подворовывал, били бы еще крепче.
Хотя куда еще…
Лица, лица. На холстах, на картоне, на ватмане, на простых блокнотных листках. Масло, темпера, фломастер, сепия, обычная шариковая ручка.
Я смотрю в лица и хочу понять, что ищет в них Миша.
Даже самый легкий, самый «краткий» набросок — это концентрация увиденного в человеке. И здесь не только те, кто… ну, скажем, «положительные». Всякие, всякие. Кто это? Миша смеется. Невесело как-то. Одними губами.
— Ты знаешь, у меня портрет Григория Сковороды не приняли. Знаешь почему? Он у тебя, говорят, похож на еврея. Он у меня, говорю, похож на мудреца.
Теперь-то уж, через десятилетия, можно и порадоваться: слава Богу, что не приняли. У работ судьбы, как у людей: никто ничего не знает.
Хорошо, что не приняли, хорошо, что осталась дома. Картина прямо с выставки попала в один из лучших музеев страны. И находится там по сей день. А Миши на этой выставке, на первой своей персональной выставке, не было. Он умер за шесть лет до нее.
А все боялись, что рано выставку делать Вайнштейну.
А выставка и впрямь была триумфальной.
И была однажды такая фраза вскользь: «Я еврей и всю жизнь пробираюсь сквозь свое еврейство».
Так и не спросила его, что он имеет в виду. Меньше всего производил он впечатление ущемленного — напротив, в общих чертах вполне успешен.
И корни, пущенные в среде обитания, делали его надежным и прочным в своей нише.
И был он любим братьями-художниками.
И было у него редкостное чудное качество: родственность всему хорошему.
Иначе и не скажешь.
Чувство такое — там, где Миша, там надежно и хорошо. И творит он благо. Без объяснений.
Однажды появляется он неожиданно в Новогодний вечер.
Пришел и — с порога:
— Как светло! И елка.
И сел. И чудный Новый год был, никого чужих: семья и Миша.
А под утро пешком пошел домой. Так ему захотелось.
И остался на память об этой новогодней ночи этюд — какие-то полуфантастические очертания в синем пространстве.
И все-таки, что-то вибрировало над ним, какая-то струна издавала далекий-далекий звук, сквозь реальную повседневность, сквозь все, чего касаются глаза и руки. Какая-то печальная нота звенела издалека.
Может, это и было то, через что он пробирался?
Миша со старшим братом Володей попали в детский дом, когда умерла Бабушка. Отца убили на войне в первый же год, вслед за этим умерла мать. Детей подхватила Бабушка.
Пишу слово Бабушка с заглавной буквы (когда-то Миша сказал мимоходом, а мне это врезалось в слух и память), потому что это как имя собственное. У нее не было другого имени для детей, а других, кто называл бы ее по имени, рядом не было. Была эвакуация, старая женщина и двое детей. И остались две работы в память о том времени: «Шел первый год войны» — большая живописная композиция, и «Братья». На выставке о них говорили, как о двух автобиографичных работах.
Вся реальность — это реальность памяти… Как в «Синей птице» возникает образ бабушки — реальной в ощущении полуреальной в зрительной памяти: Миша был слишком мал, когда ее не стало. Но на ней знакомое домашнее облаченье. И делает она то, что положено ей по Судьбе — касается детей. Такой она и запомнилась художнику. И это было его последним впечатлением от детства.
Брат Володя — отчетливее, реальнее. Себя художник представляет в детском высоком стульчике — довоенная атрибутика. Слева на стене фото мамы с папой, справа фото бабушки с дедушкой, между ними братья. Картина так и названа: «Братья». В ней что-то от фотографии НА ПАМЯТЬ.
Но: рука Володи на спинке стула, собственно, из нее состоит спинка-дуга, и начинается она, рука где-то не там, где положено, а со спины. Словно и не его рука.
Эта рука решает работу. О ней можно говорить бесконечно (о ней и говорили на протяжении всей выставки), с нее можно начинать диссертацию о реальности и ирреальности в искусстве. Ее можно трактовать: что хотел сказать автор? И предполагать, гадать, доказывать…
Миша ничего этого не слышит. И вряд ли бы он сказал что-то еще, кроме того, что уже сказано в работе «Братья». Но, быть может, он согласился бы со словами совсем молодого человека (нам показалось, он студент-дирижер), словами о том, что если бы нужно было все объяснять, не было бы ни музыки, ни живописи, ни театра, а были бы слова объяснений.
Есть на свете сонаты Шуберта с реальной болью о духовных идеалах, и есть на свете Шостакович, по которому будут изучать 20-й век как цепь реальных трагедий.
Мне кажется, что эти работы в их ключе. Слушайте и смотрите.
Все. Меня работы потрясают.
«Бабушка» — настоящий симфонизм цвета: теплые-теплые фигуры на фоне холодной серо-голубой стены. Это — шедевр. И ритм, и пластика, подлинно полифоническое произведение.
А «Братья» — вообще, это удивительно: это живопись, но глаза закрываешь — и послевкусие, как от графики. С одним красным пятном. Но мышление художника симфонично. Иногда кажется, что набросок — это затакт к серьезному монументальному произведению и в наброске — зерно симфонии, как и случается в вступлениях к крупным произведениям.
А вообще, смотрите, смотрите…
Вышесказанное хотелось бы взять в кавычки, но не могу: это не цитата, а воспроизведение по памяти. Так или почти так говорили на выставке, куда пришли… кто только не пришел. И художники, и музыканты, и натурщики… да кто хотел, тот и пришел, Миша был бы счастлив.
Когда Володя заканчивал школу, Мише было лет 10–11. хорошо еще, что учились в одной школе, художественной, вместе ездили. Вернее, не ездили, а бегали. Толпы озябших людей, ожидающих транспорта, посадки-пересадки, а в транспорте холод немилосердный. И брать его, трамвай, надо штурмом… Одним словом, легче пробежаться.
У Володи время трудное: выпуск на носу. Но он идет на все пятерки, вроде, отличие светит. Если так, значит, художественный институт становится реальностью. Если ничего не помешает…
Выпускной вечер — настоящее торжество. Володя Вайнштейн — победитель. Будут вручать ему торжественно грамоту, аттестат. Конечно, Миша будет в зале. А где ему быть в такой вечер? Не в детском доме оставаться, когда у ребят праздник. Володя взял брата с собой, чтобы еще и подкормить. Вон, столы накрывают мамы из родительского комитета, а Мишка вечно есть хочет.
После вечера, после счастливой ночи — на Днепр. Как положено, рассвет встречать. И малый Мишка с ними. А куда его девать?
Решили искупаться на рассвете, как боевое крещение в канун новой жизни.
У Володи был спортивный разряд, и он первый пошел в воду. Лег на спину и… запел. И понесло его тихим-тихим течением, без всплесков, без беспокойства для утренней тишины.
Только песня.
И вдруг она прервалась, и голова Володи исчезла под водой.
Володю не нашли.
Так Миша стал свидетелем того, как ушел последний из семьи.
«…Не останавливайся, Машка, не останавливайся…»
Он очень далек от назиданий, и в общении с учениками, и вообще с людьми. С младшими, в особенности. Это — не назидание. Он слушал Машу — впервые. Это был сольный концерт ее на предпоследнем курсе консерватории. Следующий год последний, решающий. Играла она удачно, настроение было приподнятым.
На обратном пути из консерватории нас застал дождь — весенний, теплый. Стоял апрель. Миша раскрыл зонтик над Машей, чуть отстранившись от попутчиков. «Машка, не останавливайся… То, что сейчас — прекрасно, но все еще катится само; ты еще студентка. То, что будут через год и дальше…»
Через год. То, что будет через год, лучше не знать заранее. Это будет 81-й год, последний год Миши Вайнштейна.
А пока невозможно думать об этом и верить в это. Пока — праздник.
— Слушай, — говорит Миша, — а вся эта гурьба к тебе идет? Это замечательно! А куда ты их денешь? Куда посадишь?
Дошли до угла, Миша говорит:
— Не ждите меня, идите вперед, я догоню.
Через десять минут приходит:
— На, отнеси эту торбу на кухню, может, что сгодится.
Ничего себе — «сгодится». Чего только там нет.
А Миша трется вокруг плиты на кухне, ему от той «торбы» — ничего, ни-ни.
— Супу дашь? Урра! Мне снова лучше всех! Мне суп дали!
Ну, что за свойство! Вокруг него никогда не бывает обыденности. Даже тощая куриная нога притворилась роскошью натюрморта. Золотистое вино в бокале подрагивает и искушает. А Миша хохочет, не замечая соблазнов.
— На кого я похож? На Генриха? На Ричарда?
Берет надвинул на ухо.
— На Рембрандта?
Перед уходом:
— А шалахмунэс (угощение с собой)? А шалахмунэс детям?
Шалахмунэс — это святое. Никто не уходит без него. И мой выросший взрослый сын кричит мне вдогонку, когда я ухожу:
— Мама, шалахмунэс!
По сей день. Почти.
Такое длинное, такое путаное путешествие по жизни. Перечитала — вспомнила: где мы сына моего оставили? Неужели на балконе? Или улегся в постель? В Седневе оставили, в Доме творчества.
Мы с Мишей зашли в комнату поглядеть на Леньку (сейчас пойдем искать Нину с детьми), а тот с любопытством смотрит на Мишу. Вроде видит его впервые, а Миша ведет себя, как старый знакомый. Я говорю:
— Дядя Миша — папа Вовы и Даши Вайнштейн.
— И тети Нины? — спрашивает догадливый Леня. Миша хохочет громко, заливисто:
— А ведь прав, подлец!
Нина, Ниночка. Вот она стоит рядом в своей широченной юбке с оборками и никогда никуда не торопится. И загадочно улыбается глазами. Она не знает, что такое циферблат. Она не решает проблемы. Они либо разрешаются сами, либо висят — висят, пока не усохнут. Она ни в чем не виновата: она оккупирована. Всю ее территорию заняла женственность, не оставив места ни для чего другого. Когда она ходит, она все равно стоит.
Она знает, что мы смотрим на нее глазами Миши и что так будет всегда. И она пример того, что на свете есть вещи, прекраснее понятий вины и правоты.
А пока Миша говорит:
— Пусть Ленька ко мне приходит. По средам. Только без глупостей. Слышишь?
Вспоминаю об этом лишь затем, чтобы признаться: все мы завидовали Лене. И Маша, и я.
У Маши была уловка: она могла сделать вид, что тоже хочет учиться рисованию. У меня же и этого не было.
Год ходил мой сын к Мише — и это было счастливое время его жизни.
…И все все знали и все равно не могли поверить, что это может случиться. Что когда-нибудь этот человек может не прийти, не одарить, не осветить собой.
Как-то вечером, нежданно, прямо из мастерской, приходит и в дверях, не переступая порог:
— Помираю, братцы…
В одной руке Ленины часы — тот забыл их в мастерской, в другой руке — апельсин. Рядом с ним лицо Миши еще отечнее, еще землистее.
Так он и будет стоять в проеме, пока эта дверь будет существовать в моей памяти. Но ни тогда, ни в последующие два с половиной месяца ему уже помочь не могли: это был обвал.
Сколько же людей на свете знали Мишу!
Это не только братья-художники, и не только врачи, которые его любили, и не только натурщики, и не только столяры и плотники из Худфонда, и не только дежурные из мастерских, и не только поэты, писатели. Пришли совершенно чужие люди. Случайно однажды столкнувшиеся с ним и обогретые им походя, ненароком, из-за его неиссякаемой потребности делать что-то хорошее для людей. Подходили (как же быстро докатилась до них дурная весть), обращаясь к нему с укором, как к живому: «Ну, что же ты, Миша…», словно он подвел, словно чего не доделал или не дал им довершить чего-то.
Таким и осталось это чувство, каким оно было в восемьдесят первом. Ничего не изменилось.
P. S. Как бы отдельной страницей существуют воспоминания о том, как провели мы год после Миши в мастерской, рассматривая и держа в руках каждую работу; о том, как увидели в нем, в Мише, нескольких разных художников, о том, как они уложились во времени, влившись в русло зрелого художника Вайнштейна; о том, как вольна была его кисть, о том, как смело пробовал он разные манеры письма и как менялся его вкус; о том, как прошла выставка — через шесть лет после смерти Миши — и как узнали о том, что был он, оказывается, преследуем за то, что ослушался «генералов» (или пешек?), запрещающих художникам разговаривать и видеться с Марком Шагалом, посетившим Москву; а он, Миша, бывший мальчишка из детдома, запрыгнул в лифт, в который вошел Шагал, и видел его лицо близко целых… столько-то секунд. Небоскребов в Москве, как известно, нет. И что сделал он потом по памяти крошечный портрет Шагала — миниатюру удивительной красоты. И что Шагал ничуть не заблуждался насчет того, где находится. Потому что крикнул, выходя из лифта: «Остерегайтесь!» Но не сказал — как.
И что мы, находясь в мастерской, не только радовались и печалились, но и воочию убеждались, что сама жизнь Миши — беспрерывный творческий акт, и что последние годы — годы постоянно пульсирующей тревоги за близких людей. Но выход у художника был только один: работа. И он работал до последней возможности.
Тоша
…и здесь кончается искусство
и дышит почва и судьба.
Б. ПастернакБывают дни, которые запоминаются именно тем, что ничего в них не произошло. Ничего не произошло, кроме самого дня, его освещения, последовательности того, что называется «ничего не произошло», и той скрытой, тихой музыки, что заключена в самом течении такого дня.
Сижу я как-то под вечер в мастерской Миши Вайнштейна и жду. То ли сына, то ли самого Мишу, когда кончит он свои дела, — не помню. Миша что-то мастерит, кажется, подрамник, а я сижу и гляжу. И жду.
Солнце посылает косые лучи, похожие на лучи прожектора, а в них пляшут, кружат, суетятся обитатели воздуха мастерской, обнаруживая свою, не касающуюся нас, жизнь. Только солнце и может позволить себе роскошь этого представления в доказательство того, что то, что мы высокомерно называем словом «пыль», совсем не то, что мы думаем, не то, что мы сметаем, и уже совсем не то, что презираем.
Сомнительная философия, говорит Миша, не вынимая изо рта пучка гвоздей. Но что правда — то правда, говорит… занятие это завораживающее… в детстве, в школе… училка из класса… того… иди, говорит, в коридор, в коридор, бездельник. Будто… в том коридоре… кто-то стал тружеником. (Миша вынул последний гвоздь и вытер губы).
Мне стало безумно смешно. На мой беспричинный смех Миша удивленно пожал плечами, улыбнулся, отвернулся, и в этот момент в мастерскую приоткрылась дверь. Кто-то просунул голову, оглянулся по-птичьи налево-направо, ища глазами кого-то (не «кого-то», а Мишу, разумеется), и исчез так же внезапно, как появился.
Миша позвал:
— То-ош…
Открыл дверь в коридор и крикнул вдогонку:
— Тоша, зайди.
Сделал шаг, чтобы догнать, — нет, бесполезно. Тоша не зайдет. Кто другой зашел бы, а Тоша — нет. Не зайдет.
Ладно. Потом.
Что-то изменилось. Миша больше не возится с подрамником, не стучит молотком, а рассеяно сворачивает в рулоны серую бумагу и ставит в угол.
— Ты подожди, я схожу, посмотрю. Сейчас вернусь.
Вернулся. Все нормально, говорит. Тоше кобальт был нужен. Уже раздобыл. Все в порядке.
И все рано, что-то изменилось. Стало беспокойно, и непонятно отчего.
Лицо. А за ним ничего, кроме имени Тоша. (Да и не имя это, а что-то круглое и уменьшенное, словно пуговица на детской одежде).
И даже не знаю, кто это. (Миша отвечает коротко: Тоша. Художник). Очки. Круглые, как иллюминаторы. А за ними… вот, то, что за ними, и осталось в мастерской вместе с очками. Как в печке тяга. Осталось и поселилось в воздухе сквозняком.
И солнце спряталось.
И мы ушли из мастерской, словно были там по его, солнцу, расписанию.
Сколько лет прошло?
Много лет прошло. Несколько лет, густо наполненных печалью. Миши уже не было с нами. Однажды я увидела Тошу — сперва очки, а затем Тошу — в вестибюле здания мастерских. Я уже знала: это художник Анатолий Лымарев. Знала по портрету Миши. Тоша (все равно Тоша. Никто его иначе не называл ни тогда, ни после) сидел один возле будки дежурных, и было видно, что скверная погода за его очками овладела им нынче вполне.
Он подошел и сказал: — Когда сад зимой спит, никому не приходит в голову упрекать его за это. Все знают: он копит силы для работы. Почему художнику отказано в этом праве?
Я удивилась: — Кем отказано?
Тоша подумал минуту и сказал:
— Художником. Самим художником отказано. Себе же.
Мы с Ниной Вайнштейн были заняты выносом скарба из Мишиной мастерской (не мастерская — кладовая ото всей жизни) и попросили помочь нам. Тоша сразу включился, словно ждал этого, погрузил-разгрузил и даже повеселел немного. А потом, на обратном пути, я пригласила его к нам домой.
И Тоша пошел. Сразу пошел, без особых уговоров и возражений. Пришел, и как-то так получилось само собой — не ушел. Только, пожалуйста, говорит Тоша, позвони вот по этому телефону, скажи, что со мной все в порядке. Мою жену Света зовут.
Уж и не помню, как протекали события, но стало наредкость легко и естественно, словно только так и должно было быть. Сын молча уступил Тоше свое место для сна, балконная дверь распахнулась к теплой погоде — стоял апрель на дворе — и члены моей семьи встретили появления Тоши как что-то само собой понятное, не требующее пояснений. И каждый день был ко всеобщему успокоению. Стало так хорошо и равновесно, что нам почти не надо было говорить что-либо, разве что «привет» и «спокойной ночи».
Через несколько дней Тоша взял пастель и поехал на этюды. И привез серый-серый речной этюд. И подписал его тепло и сердечно (насколько же легче и лучше писать такие слова, чем произносить).
…А по дому ходила юная моя дочка Маша, у которой как раз в это время были дополнительные основания быть красивой, кроме оснований, данных фактом ее рождения. И была весна, и удивительное, мягкое освещение, приглушенное расстоянием балкона, и множество цветов в доме — это было всегда, а по весне, тем более. И вокруг Маши что-то кружит, что-то витает. И она играет «Крейслериану» Шумана, и если даже в тот момент не «Крейслериану», все равно «Крейслериану», потому что, мне кажется, она всегда играет «Крейслериану».
И Тоша снова берет пастель у моего сына и начинает Машин портрет, волнуясь так, словно от этого зависит больше, чем портрет. Даже дырку протер, снимая лишний слой пастели, правда, сразу закрыл ее, «заштопал» (я нахожу этот след как знак того, что это на самом деле было, а не приснилось мне).
Длилась эта работа несколько сеансов. И можно было видеть, как меняется лицо Тоши: ему самому все больше нравился портрет, и, видно, радость от работы и была тем, в чем он больше всего нуждался.
А потом Тоша поехал на птичий рынок и купил щенка белого пуделя. Давно, говорит, обещал своей дочке. И уехал со щенком домой. И мы все успокоились окончательно.
У Тоши была маленькая мастерская, скорее предназначавшаяся графику, чем живописцу. Было в ней тесно и неудобно, и он просил большую. Тоше дали большую, но не в том здании, а в другом, на другом конце города. На вопрос «Как тебе на новом месте?» Тоша отвечал: «Как на другой планете». Там не было тех, к кому привык Тоша и кто привык к нему.
Мне довелось побывать там однажды. Наш родственник из другого города попросился к Тоше в мастерскую, настолько впечатлили его те две работы, что висели у нас в доме. Тоша принял нас радушно, хотя его радушие не было обставлено словами. Для Тоши слова, как хлеб: только необходимое, лишь для поддержания жизни, и никаких словесных излишеств. А для выражения радушия — масса других примет: лицо, руки, глаза. Наконец, щедрость в показе работ.
Обычное дело для художника: показывать работы. Работа ставится — убирается, ставится — убирается. В тот раз это происходило при полной тишине. На редкие реплики гостя — кстати, весьма образованного в искусстве, — Тоша отвечал глазами, плечами, очками… в лучшем случае — междометиями. Слов я решительно не помню.
…А воздух накалялся от безумного темперамента цвета в работах.
От множества-множества солнц;
от горячей земли;
от оранжевой глины и золотого тумана.
И уж если сливы, то небо — земля — сливы, и ничего кроме. И даже рисунок на платьях женщин — тоже сливы.
А если одуванчики, то весь горизонт в то утро обрамлен одуванчиками.
…А Тоша молчит.
Кабы знать… Кабы знать в тот день, что вижу Тошу в последний раз. Ну, и что было бы? Ничего не было бы. И запомнила бы не более того, что могла запомнить. Разве что сказала бы ему более открыто и откровенно, что думаю о нем, об его искусстве. Ну, и что? И счел бы он это за бессовестную лесть и рассердился бы, наверное.
Хотя я не помню его рассерженным. Помню болящим и одиноким.
7-го ноября — плохой день.
Он давно и многим не нравится. Но почему-то в этот день все пьют. Лучше от этого день не становится и стать уже не сможет. А может стать только хуже.
Как так случилось, что в новом здании мастерских в этот день никого не оказалось — сказать трудно. То ли по мастерским народ ютился, не подавая о себе знака, то ли по домам? Тоша пришел — дежурная потом говорила — походил, походил. Постучался в разные двери… Что почувствовал он, можно только гадать.
И пошел к себе в мастерскую…
Я вспомнила: тогда, в восемьдесят втором, когда мы шли ко мне после разгрузки, я спросила у Тоши:
— А почему ты так строго запрещаешь себе отдых, который дозволен деревьям зимой? Ты об этом говорил час назад. Может, это и есть твой естественный ритм? Зачем противиться?
Тоша ответил сразу, как человек, часто думающий об этом:
— Страшно. Страшно не проснуться.
…Тоша пошел к себе в мастерскую и сделал то, чего боялся. И от чего нет лекарства.
А через два года, на его первой персональной выставке — посмертной — другой художник, тоже талантливый, тоже умный скажет, примерно, так: «Не ищите, не корите, не ропщите. И жил, и умер он в соответствии с собой… И похороны его были в соответствии… пышные похороны — не про него. Оркестр с Карояном — тоже не про него. А три пьяных лабуха — по стопке до и стакану после — это про Тошу».
А я вспомнила, что сказал мой родственник из Новосибирска на обратном пути из Тошиной мастерской:
— Он не молчит. Он кричит. Но молча. Через живопись.
Брус
Шиповник так благоухал,
Что даже превратился в слово…
А. Ахматова«И у времени есть колыбель». Значит, есть и зрелость, и завершение. Может быть, это нечто со своими законами старения, моложения, сжатия, растяжения?
Есть же что-то, что позволяет сказать: «Время состарилось и ушло», или, напротив, «Время молодело и было нам к лицу».
И снова мысль вертится вокруг Миши Вайнштейна. Почему-то кажется, что его жизнь — это концентрация времени, времен, связка неразмотанных нитей. За какую не потянешь — непременно чью-то судьбу вытянешь. И так причудливо и неожиданно переплелись его времена с судьбами и временами других людей.
— Миша, кто это? — спрашиваю я, стоя посреди мастерской Вайнштейна. — Вон там, на полу, холст лежит плашмя, краской в потолок смотрит. Кто этот человек?
— А-а, ты не знаешь. Это один свердловский художник.
А я гляжу, и хоть лица не узнаю, но что-то притягивает, что-то проясняется в портрете.
— Миша, а как его зовут? Тоже Миша?
МиВ удивленно поднял брови.
— Да. А откуда ты его знаешь? Миша Брусиловский.
Миша Брусиловский. Брус.
Так и будем его называть, чтобы не было путаницы с именами.
…И постепенно, постепенно. Иначе непонятно, что за чем.
Было это в году 51-м — 52-м.
Пришел к нам в дом парнишка, который только-только окончил художественную школу, пробовал поступить в институт — бесполезно. Не приняли. Время на Украине было жестоким. Моя подруга рассказывает спустя десятилетия, как поступала она в те же годы и в тот же институт. Рассказывает со смехом (хорошо, что чувства юмора хватает), как процент «дозволенности» никак не мог совместиться с ней. И то ли ей поделиться, то ли проценту умножиться — одним словом, получалась такая ерунда, что даже ректору не по себе стало. «Ну, что мне делать, Зоя? По арифметике этого года получается, что ты больше нужного процента. Приходи через год». Пришла, слава Богу. Прекрасная художница Зоя Лерман.
Итак, Брус не поступил в тот год в институт, и у него образовался свободный год. Он сразу привязался к нашему дому и приходил почти ежедневно, причем, трудно было сказать, к кому именно: к каждому в отдельности или ко всем вместе. И теперь, через столько десятилетий, память держит, как на ладони, основную мизансцену тех вечеров.
В большой комнате вокруг стола происходит некое действо: отец с Брусом рисуют. Рисуют и разговаривают одновременно. Время сохранило наброски, шаржи и автошаржи от тех вечеров. А слух — музыку интонаций: от легких словесных перебрасываний, словно словесного пинг-понга, до спокойного течения разговора, устланного отцовским баритоном, и редкие всплески реплик: «Посмотри, как Дорэ это делал… Одному Богу известно, как он строил перспективу… Сам себя научил всему…»
Я не вижу, что происходит за круглым столом, я лишь слышу, что делается в комнате: слушаю «в два слоя» (по сей день сохранила странную привычку слушать из двух разных источников звука. Иногда возникает удивительная, неожиданная полифония).
Значит, сижу я за роялем и зубрю Полонез Шопена (для точности cis- и c-moll) и слушаю то, что позади меня. И возникает сложная звуковая картина: скрип старых половиц под мамиными шагами, ее короткие реплики, похожие на рокот оркестрового инструмента; я слышу неожиданно возникающие острова в звуках: паузы. А в них явственно различимое чирканье карандашей; и вдруг — резкий звук зажигающейся спички, и тотчас скрип двери. Это мама «курит в коридор», стоя в комнате.
Что-то шуршит на столе, что-то шуршит со стола — вероятно, толстенный том папиных любимых фламандцев;
и Бруса тихие и совсем короткие реплики — он почти ничего не говорит (неразговорчив, кажется, по сей день), но когда улыбается, как ни странно, слышно: «въезжает» в улыбку коротким смешком, носовым звуком;
слышен знакомый перезвон чашек и мамино неизменное: «тебе чай на рояль или…», и это последнее перед тем, как крутанусь я на круглом стульчике лицом к комнате, и всякий раз удивление: как светло! Сидела-то я, уткнувшись в пюпитр, делая вид, что меня абсолютно не интересует то, что происходит в комнате. А Брус в это время делал вид, что его абсолютно не интересуют Полонезы Шопена. И «хукал» носом.
Я очень люблю этот автопортрет: Брус в соломенной шляпе-бриле. Шляпа эта очень ему шла, и он носил ее повсюду: на пляж, на этюды, в парк, где проходили концерты.
Киевские парки над Днепром — это особенное место, и мы проводили там лето не хуже, чем если бы проводили его в Венском, Булонском или каком-нибудь другом, Бог весть, каком лесу.
Но чтобы добраться до этих райских мест, надо было пройти весь Крещатик, от Бессарабки до самого конца, до самого того места, где стоит легкая, как игрушка, Филармония (бывшее Купеческое Собрание), а за ней — море зелени. Вот в нее-то мы и окунались, переходя из одной плоскости в другую, из парка в парк по лестницам и мостикам.
Особенно славен был Мостик Любви, или Чертов мост, или Петровский мост — названий у него несколько. Но самое верное — Петровский мост, потому что висит он над въездом в Петровскую аллею. Но, разумеется, правильность названия интересовала нас меньше всего, а интересовали всякие жуткие истории, что рассказывали об этом мостике. То студент вниз головой кинулся; то гимназистка порешила себя тем же образом; то двое — студент и гимназистка — целовались, стоя на нем, а он возьми да и рухни как раз в этот момент.
Но, заметьте, все персонажи из дореволюционного времени и все умирали из-за любви. Пересказывались-то пересказывались все эти истории — уж какое поколение по счету? — но верили мы только в то, что мост однажды под кем-то провалился. Верили, потому что он, казалось, готов был каждую минуту это сделать: между досками под ногами широченные щели, и видно, как пешеходы и машины снуют, словно жуки, по асфальту. К тому же доски под ногами ходуном ходят. Ужас. Одну даму, говорят, чуть ни краном снимали: дошла до середины и — стоп. И ни с места. Словно столбняк на нее напал. От страха.
Вскоре мост закрыли на ремонт и… конец. Конец страхам, легендам и сказкам. И долгое время отсутствие моста причиняло изрядное неудобство посетителям парка, которым приходилось в обход, делая немалый крюк, попадать в тот парк, куда вел известный Мостик.
И вот Мост предстал вновь: отяжелевшим, повзрослевшим, не то, что прежний, что был пугающе несерьезным и легкомысленным. (И столь же прелестным). Этот же явно был лишен иллюзий. Как после получения высшего образования. И странно: ему не столько обрадовались, сколько оценили его функциональность: стало удобнее. Без сказок и историй. А ведь ждали как части романтической ауры парка. Ждали праздника. Но, видно, всему свое время.
И все-таки, хорошо, что наша юность пришлась на пору мифических «опасностей»: пробежишь так через мостик, Жанной Д'Арк себя почувствуешь, а Брус держит за руку (чтобы с курса не сбилась) и приговаривает: «Не смотри вниз, только не смотри вниз».
Конечно, для того, чтобы попасть в парк, можно сесть в троллейбус: он как раз через Крещатик идет. Но — бриль…
Шляпа-бриль не выдерживает ни тесноты, ни давки. А Брус улыбается и молчит. И прячет золотистую мохнатость лица в тень от шляпы. И не снимает ее, шляпу, ни за что. Так что бегом, бегом. Или, как говорила мама: лётом.
А мы, в общем, и летали, не давая своим резиновым тапкам увязнуть в размягченном асфальте Крещатика.
«Прилетали» мы в Парки над Днепром…
Откуда это выражение-название? Оно не совсем точно. Днепр виден голубой лентой вдалеке, а Парки (их три, цепочка из трех парков) над Подолом, над Набережной, над Пещерами, входы в которые запутаны старым кустарником (в Киеве пещеры на только в Лавре. Из этих пещер, что у подножия холмов, мальчишки через много лет после войны еще носили советское и несоветское оружие). Парки над лавиной зелени холмов. И надо всем Подолом.
А выражение «Парки над Днепром» — это так, для красоты.
Торопимся мы, главным образом, в один парк: Первомайский. Там музыка, там симфоническая раковина, где каждый день репетиции, а вечером — концерты. Там Натан Рахлин. Там каждый день совершается то, что через годы назовется эпохой для Киева, и эпоха эта будет носить имя «Натан Рахлин».
Но это мы знаем сейчас, а тогда нас просто тянуло в те места, лучше которых не было.
Чуть в сторону от раковины — Мариинский дворец, по-царски изысканный и благородный, голубой и легкий на фоне неба — таким его, видно, задумал Растрелли. И хоть только там ему и место в строгости и величии, но все равно: он есть памятник. А тянет нас к живому месту. И ничего живее той раковины нет, потому как место то «намоленное» музыкой. И ряды скамеек голубоватого цвета, как в униформах, и здесь никогда не бывает жарко: столетние деревья, уходя в небо, смыкаются макушками и гасят все лишнее: и лишний шум, и жаркие лучи солнца.
Однако деревья шумят не «лишним шумом». Один мой сверстник-киевлянин по сию пору, напевая тему Итальянского Каприччио Чайковского, в паузе шуршит, протягивает «ш-ш-ш-ш…» до следующего звука (в который раз сожалею, что на странице нет звуковой дорожки), «шуршит» и поясняет, что вот это «ш-ш-ш», мол, это в паузе шумят деревья в Первомайском саду: Натан Рахлин дирижирует Итальянское Каприччио, а деревья шумят.
Ну, вот, пришли мы в Первомайский парк, разместились на зрительских местах — в дневное время мест больше, чем вечером на концерте, можно даже ноги чуть выше примостить под передним сиденьем, на перекладине, никому не мешая. Миша вертелся, вертелся и начал рисовать. Сперва слегка, что-то вроде наброска, а потом, видно, втянулся, достал большой лист бумаги — и вот, хранится у меня от той дневной репетиции портрет. В память о времени, которое очень скоро кончилось.
Брус вскоре уехал в Ленинград, поступил в Академию Художеств, я поступила в Консерваторию, и развело нас время на десятилетия.
— Миша, — спрашиваю я Вайнштейна, стоя все еще посреди мастерской и не сводя глаз с портрета, — а откуда ты знаешь Бруса?
— О, это давнее дело. Я еще пацаном был, когда он приходил к нам в детдом, часто прибегал, мы его своим считали.
Вот так-то. А я и не знала. Он никогда не рассказывал о своих дружбах. Ни тогда, в юности, ни позже, когда мы встретились Бог знает через сколько лет. Через целую жизнь. И совсем невесело. В больнице это случилось.
…Я открыла глаза и в сумерках палаты увидела человека, который сидел рядом и держал меня за руку. В первую секунду я подумала, что это врач проверяет пульс. В следующую поняла, что не врач — нет на нем халата, и вообще, не похож он на врача. А на кого похож? Не знаю. Ни на кого. Что-то сквозь послеоперационный дурман мерещится, что-то расплывчатое. Что-то недавно виденное. На Мишину работу, вот на что похож. На портрет. Чей-то.
…Он назвал меня по имени первый. Так, как называл, когда мы летели через весь город.
Миша — МиВ — обещал нам эту встречу, встретимся, говорил, втроем, когда Брус приедет, но встретились мы вдвоем: Вайнштейна уже не было. Родителей — ни моих, ни Бруса — тоже не было. Изрядной части лет хватились — как не бывало.
Но это ничего, говорит Брус. Все это не беда, раз мы есть. Вот через пару дней будешь дома, и все будет хорошо.
Через несколько дней Брус на балконе пьет янтарный чай, а с ложечки стекает золотистое варенье, и косые лучи уходящего солнца ложатся на стенку, на скатерть, на лицо. А посветлевшие его волосы вбирают освещение заката. И все это мне почему-то напомнило бриль.
А Брус, как всегда, молчит. Только вдруг сообщил, что, может, с выставкой поедет во Францию. Там у него дочь и внук.
(Однако. И на том спасибо).
И показал слайды работ.
Ну, говорю, хорошо молчишь. Не зря. Все накопил: и мастерство, и знания. И мифология, и философия — все здесь. А главное — живопись.
Но что сейчас говорить об этом? У меня нет работ, предъявить нечего. Придется поверить на слово: Брусиловский — хороший художник.
Вот и все.
Нет, не все.
Когда Брус ушел, начался пожар. Самый настоящий пожар в самом прямом смысле слова. В кухне загорелась занавеска.
Но как-то обошлось в тот раз.
Через год Брус появился снова. Рассказал о Франции (немногословно, как всегда), показал слайды новых работ (сколько ни восхищайся — все пустое: работы от этого не появятся); снова сидели мы на балконе, пили чай с алычевым вареньем, снова проводила я Бруса до дверей. Даст Бог, встретимся еще. Даст Бог, увидимся. Что еще можно сказать друг другу на прощанье? А когда я вернулась, то увидела: на балконе все полыхало огнем.
Брус, объясни, что это значит?
Коллаж
…Смягчается времён суровость,
Теряют новизну слова,
Талант — единственная новость,
Которая всегда нова.
Б. ПастернакМного лет нет этого человека, а всё не научилась думать о нём в прошедшем времени. Живя в Киеве, мы давно привыкли знать, что он «где-то»: то в Тбилиси, то в Ереване, то в Прибалтике, то в Москве. То в зоне.
Во время «перестройки» (слово это он терпеть не мог) стал «выездным»: опять «где-то». В Киеве появлялся всё реже и реже в последние годы. Но всё равно знали: где-то есть. Приучил он нас чувствовать своё присутствие, даже когда его нет. Видно, так и будет, пока мы живы. Я не берусь ни оценивать, ни тем более судить. Я попробую рассказать о фактах, лишь о нескольких фактов из истории сорокалетнего знакомства.
Бывает же так: всё радостное сплетается в один клубок.
Первые дни чудной киевской осени. Падают каштаны. Ими набиты карманы и портфель. Зачем — неизвестно. Просто приятно держать в руках тёплые гладкие кругляшки. Да и не поднять жалко: лежат на асфальте и смотрят. Вскинешь голову, а там — синь, а на фоне её — зелёная гуща с золотистыми пятнами. Праздник.
Воздух — медовое хмельное угощение. Первый день первого курса.
Лечу в консерваторию и прилетаю назад, домой. В дверях мама. Смеётся.
— Всё, как в кино!
— Что?
Подходит, говорит она, к ней молодой человек, представляется режиссёром киностудии, предъявляет какое-то удостоверение и говорит, что видел её с девушкой, вероятно, дочерью, и просит приехать на студию для фотопробы к фильму «Андриеш».
В условленный день на проходной нас ждал пропуск с указанием корпуса и номера комнаты.
Корпуса, этажи, лестницы, нужная дверь. Табличка: «Киногруппа „Андриеш“»… (оказалось, никакой киногруппы ещё не было, она была только в зародыше. Комнату он одолжил. Канцелярский стол — тоже. И табличку соорудил наскоро. Но…) Дверь распахнулась так, словно за ней ждала армия тех, кто распахивает двери… и в лицо мне ударили два зелёных глаза — прожектора. Они изучали меня не более секунды, характерным мгновенным стоп-взглядом. И началось.
Человек сел за стол (в комнате ничего, кроме стола и трёх стульев) и движениями факира стал извлекать откуда-то разные кусочки ткани.
— Зелёный тюль — для первого эпизода.
— Белый атлас — платье во втором эпизоде.
— Цвет бирюзы — ваш цвет.
— Чёрный бархат…
Снова мгновенный взгляд.
— Ничто не даёт такой глубины цвета, как бархат.
На стол ложится чёрный бархатный лоскут, а на него из рукава (похоже, действительно из рукава) падает бело-розовая жемчужина. Упала и — покатилась. И — на пол. Он нагнулся за ней и почему-то страшно смутился. И пригласил нас пройтись по территории студии.
По дороге говорил-говорил без умолку, словно не давая опомниться.
Говорил, что учился у Игоря Савченко, окончил ВГИК в его мастерской, получил назначение на Киевскую студию и страшно этому рад: здесь ещё недавно работал Александр Петрович Довженко. Кивнул в сторону Щорсовского павильона — там снимались легендарные фильмы до того, как Украина расправилась с Довженко.
Тогда ещё никто не предполагал, что студии будет присвоено имя Довженко, с которым надлежаще расправились, и что ровно через двадцать лет, после не менее легендарного фильма «Тени забытых предков», точно так же расправятся с Параджановым, а ещё через двадцать пять лет воздвигнут памятник на территории той же студии. Но это — потом. А пока он — начинающий режиссёр и живёт в общежитии, где поселился с друзьями-однокурсниками: Геней Габаем и Суреном Шахбазяном. И непременно познакомит нас. Габай, о, Габай! — он великолепен. Герой. Умница. Нельсон. Красавец. Не вздумайте влюбиться. Сурен Шахбазян говорит очень тихо, и потому его все слышат. Не произнёс ни одного лишнего слова в жизни. На вопрос: «Куда идёшь?» — отвечает: «В один дом, по одному делу». Гениальный оператор. Он должен делать фотопробы.
Мама заметила, что незадолго до этого Даниил Демуцкий (оператор Довженко) сделал серию её и моих портретов. Сергей оживился: «Вы позволите посмотреть?».
— Как хорошо, что вы в консерватории учитесь. Музыкальность вам пригодится. Я тоже учился в консерватории, у Нины Львовны Дорлиак. У меня — тенор. Был.
И запел. Сколько помню, пел он романс «Не ветер, вея с высоты…». Пел проникновенно, очень серьёзно, высоким-высоким голосом, глядя куда-то поверх. Потом, много позднее, я услышу, как он потешает слушателей комическим исполнением романса «Средь шумного бала».
Вопросы — ответы:
— Где? — Средь шумного бала…
— Как? — Случайно…
— В чём? — В тревоге мирской…
— Чего? — Суеты…
— Что сделал? — Тебя я увидел…
— Уточните: — Но тайна…
Но это позднее. А пока: «Не ветер…».
Узкая дорога между яблоневыми деревьями — целый сад, посаженный Довженко, — он всё время оглядывается на нас с мамой, приближается и неожиданно говорит: «Вам надо играть на арфе», отходит на несколько шагов вперёд и смотрит так, как будто я уже играю на арфе, здесь, сию минуту; куда-то в сторону смотрит пристально, будто ждёт кого-то… И вдруг. Действительно: и вдруг. Из-за кустов вышла лошадь и пошла, пошла. И прямо на меня. Я оторопела. Все оторопели. А та подошла, стала на задние ноги, а передние попыталась положить мне на плечи. Я — навзничь. Боже, что тут поднялось: гвалт, суматоха. Меня подняли (ничего страшного), лошадь увели (извините, необъезженная), а Сергей… исчез. Через минуту появляется: в одной руке псевдостаринная чаша со льдом («извините, что без шампанского»), в другой — гранат. Я ещё не знала, что это — символика. Ещё не было «Цвета граната» («Саят Нова»), ещё не было «Сурамской крепости» и «Ашик Кериба». Ещё не видели зёрен, как драгоценных камней в разломанном гранате, ещё не видели вытекающего из плода сока — как живой крови.
Тогда ещё ничего не видели и не знали. Я лишь видела человека, совершающего странный ритуал преподношения граната:
— Прошу вас, не печальтесь. У нас в Грузии это считается хорошей приметой. Если девушку ударяет лошадь, это к счастью…
Кино было без меня. Но на всю жизнь этот человек остался в жизни моей семьи, нашего дома, да и в моей.
А через два года некто, вышедший из зоны («Зэк Володя в сером клетчатом костюме»), из той зоны, что Сергей именовал «Артеком» и где пробыл четыре года, принесёт коллаж от него. Коллаж-сюжет. Кто-то в восточном халате, похожий на хана, предлагает гранат. Продублированная головка итальянки Пикассо, у одной закрыт глаз: мама скончалась в тот год. Лошадь, колесо, восточные письмена, сухая бабочка. Вечная, удивительная символика Сергея. И мамина фотография, через которую «проросло» дерево-травинка, и две детские головки из персидских миниатюр по бокам. Из чего делались коллажи там, в зоне? Да из чего попало (не считая присланных ему фотографий): из мешковины, из растений, из фольги от молочных бутылок, из того, что можно было вырезать из открыток и журналов. Да, по сути, нет того, что не могло бы родить коллажную идею. Вплоть до тоненькой наклейки на консервной банке. Вот уж воистину и в буквальном смысле: «Когда б вы знали, из какого сора…».
Открытка, посланная ему к Новому 1977 году, вернулась в виде коллажа — поздравления моим детям. Вернулась 30 декабря. А ровно через год, 31-го декабря 1977 года, вернулся он. Внезапно, нежданно. Но не в Киев, а в Тбилиси. Только с вокзала позвонил.
Ходынка. Сумасшедший дом. Дверь не закрывается, всё время кто-то входит, кто-то выходит. Посреди маленькой комнаты — ведро мимоз. У Сергея странное отношение к цветам: он равнодушен к живым. Но уж если приносит, то вёдрами. Однажды перед Новым годом принёс ведро анютиных глазок. Живые цветы — под ёлкой, рядом с Дедом Морозом из ваты.
Ведро мимоз — совсем не то, что веточка. Дурман в доме.
— Как по-вашему, что я делал эти два месяца в Тбилиси? Вокруг меня все пили, пели и плакали. А я отращивал «ёжик»! И торговал люстрами.
Не слушайте его. Потом он скажет совсем другое, а потом — опять другое и тоже правду. Когда он был в зоне, на студии состоялось собрание, на котором специальным протоколом было закреплено решение больше никогда не принимать Параджанова в ряды коллектива. Это был юридический нонсенс, но не это его печалило: среди подписавших протокол были те, кем он дорожил.
Он молчал. Он делал вид, что не знает, и молчал. Но на студию никогда не вернулся, хотя было много заманчивого: кому, как не ему, снимать фильм о Врубеле?
Он дарил идеи, дарил щедро, походя, и тем, кто его любил, и тем, кто предал. «Ну и что? Какая разница?».
Строки из лагерного письма:
«В тумане над освещённым лагерем всю ночь кричали заблудшие в ночи гуси. Они сели на освещённый километр. Их ловили голые заключённые, их прятали. Их отнимали прапорщики цвета хаки. Наутро ветер колыхал серые пушинки. Шёл дождь, моросило. Крушение… Косяком ушедшие, мои тёти и дяди — серые одуванчики».
Когда импульс превратился в сценарий «Лебединое Озеро. Зона» — он отдал его другу. Он раздаёт всё: идеи, пиджаки, бижутерию — лагерное ювелирное искусство, — мимозы. Сейчас он смеётся, плачет, без остановки ходит по квартире, заглядывает в лица, отворачивается от меня, кричит моей двадцатилетней дочке: «Маша, убью! Не смей переписываться с зэком!», как будто не он был виновником этой переписки, как будто не он направил Маше письма «одного гениального парня» с тремя судимостями, как будто не он просил Машу присылать в зону книги и ноты для «гениального парня»; и вообще, как будто не он организовал в зоне студию, а потом — выставку работ осуждённых и просил всех присылать всё, что возможно, для коллажей и поделок. Теперь он кричит на неё, на меня, на себя, кричит, что зона — это ад, через который все должны пройти, это Данте, это Босх, это надо знать. Что вышел из лагеря случайно, и только поэтому не было оркестра. Симфонического. Слава Богу. Что вызвали на допрос — накручивали ещё три года — поставили лицом к стене, а он вдруг почувствовал, что в него летит пух — пуховое бельё, присланное Лилей (Брик). И что объявили амнистию. И отпустили. Что-то не то, что-то должно было быть иначе.
Выдержать это невозможно. Дверь не закрывается, полон дом незнакомых людей: «Ну и что? Какая разница? Всё равно они скажут меньше и хуже, чем скажу я сам. Они, как правило, бездарны». Подсадных уток не берёгся, жалел их и поил чаем. Чуял их с первого взгляда и — насквозь. И всё равно не берёгся. Разговоры — круглые сутки, телефон раскалён, со стола не убирается.
Однажды вечером звонок:
— Где Светлана? Вы все ничего не понимаете. Я старый и больной человек, мне нужны чистые носки и тарелка супа…
Следствие очень рассчитывало на неё: «бывшая жена». И — ничего. Ничего, кроме почитания и любви к художнику. Все провокации, шантаж, унижения, вся мерзость отлетала от неё, как шелуха. И Сергей преклонился перед Благородством. Письма из зоны к ней и сыну — особая часть его, параджановского, чувствования и писания. Цитировать не буду: они вышли отдельным изданием в Армении.
Когда Сергея арестовали, его сыну едва исполнилось 15 лет. Через год получать паспорт. А что написать в нём, когда благодаря местным газетам и радио имя Параджанова стало нарицательным? И через год, когда Сергей уже будет осуждён на 5 лет строгого режима, молоденькая паспортистка выжидающе поднимет глаза на Сурена:
— Ну что? Какую фамилию и национальность будем писать?
Он ответит очень спокойно:
— Параджанов. Армянин.
Это не подвиг, это судьба, которую он не придумал себе, но от которой и не уклонился.
Когда Сергея Параджанова вели через двор Лукьяновской тюрьмы в Киеве, он обратил внимание на два старых здания: одно в стиле Екатерининской эпохи, второе — образец Столыпинской архитектуры. Ему было 49 лет, и он был полон страха за свою судьбу, за судьбы Светланы и Сурена. Но глаз художника зафиксировал то, что фиксировал всегда: красоту. Он не знал, что его сын Сурен через 26 лет пройдёт по этому же двору, что обыск в доме будет учинён в день открытия выставки его отца, которого уже почти десять лет не будет на свете, и что обыск этот не даст того, что хотели найти (а что искали в квартире Сергея?), и что всё равно пройдёт он через этот тюремный двор и через другие тюремные дворы, и напишет матери о том, что во дворе Лукьяновской тюрьмы два интересных здания: одно Столыпинской, другое Екатерининской архитектуры. И что подпишет записку: «С арестантским приветом, твой сын Сурен, по кличке „Архитектор“».
Тогда Светлана вспомнила, что моя мама часто повторяла: «Есть еврейская молитва: Господи, не пошли мне всего, что я могу вынести!». Я думаю об этом каждый день.
А вообще, разговор о тебе, Светлана, я хотела начать с того, что с тех пор, как в марте 1955 года Сергей привёл тебя к нам, мы не расставались (я опускаю такую безделицу, как география). И было в нашей жизни всё, что могло быть, всё, что эта жизнь — согласно еврейской молитве — могла выдержать. Не было лишь одного: отступничества.
И что Сергей, вернувшись из лагеря, сказал: «Светлана превратилась в лебедя».
…Вы ничего не понимаете — я болен и стар. Мне нужны чистые носки и тарелка супа. У меня диабет…
На часах был 1978 год. Только 1978-й. Впереди — ещё двенадцать лет жизни. Ещё «Сурамская крепость», ещё «Ашик Кериб», ещё не даст покоя «Исповедь»: он успеет снять только один план на лестницах своего тбилисского дома, и это будет последним, что он снимет.
Пока мы едем на кладбище, на могилу моих родителей. Мартовская промозглость, под ногами хлюпает серая каша. Он в коротком летнем пальто и кепи, на ногах вместо туфель что-то очень символическое и поношенное. Идём через кладбище молча. Он останавливается перед мавзолеем с одним словом: «Гурген». Смотрит долго, задумчиво, машинально смахивая налипший снег с мрамора, и говорит так, как будто продолжает прерванную мысль:
— Мы суетны… Мы слишком суетны. А потому не верим, что это будет. А это надо уметь. Смерть надо уметь организовать так же, как и жизнь.
Он вынул крошечное зеркальце из кармана и поставил на выступ мавзолея. Не это ли движение через несколько лет превратится в гениально простую коллажную метафору, принесённую в дар памяти друга, Андрея Тарковского: погребальный венок, а в середине — зеркало. И будет это незадолго до его собственной кончины.
С кладбища возвращаемся голодные («Я мечтаю об общепите»), уставшие; но как только выходим из зоны кладбищенской тишины, он словно сбрасывает с себя эти два часа:
— Пошли в комиссионку! Ну, пожалуйста, ну, на минуту. Я что-то покажу тебе.
Ждали его там, что ли, — не пойму по сей час. Человек двадцать, не меньше, взяли его в тугое кольцо. А он — вроде не замечает никого — уверенной походкой, прямо к посудному отделу. А толпа за ним, как шлейф, тянется. Девочка-продавшица заулыбалась, как старому знакомому.
— Покажите, пожалуйста, вон ту чашку, вторую справа; нет-нет, наверху. Сколько стоит сервиз? Полторы? Нет, не первую, а вторую. Нет, не всё равно…
И на ухо:
— Это сервиз «Эрмитаж». Ему цены нет. Красота безумная (любимое выражение).
Почему «Эрмитаж» — не спрашиваю.
Он придумывает названия-биографии на ходу.
Шаль — Комиссаржевской.
Стул — Павла I.
Жёлтая керамика из Львова — Таиланд (или Гаити).
А вот эта чашка — из сервиза «Эрмитаж». Прелестный, тонкий, как яичная скорлупа, фарфор на его руке — как на подставке.
Цветочный орнамент на фоне окна, кажется, излучает свет. Все замерли. Рука медленно сжимается в кулак. Крряк. Продавщица едва не теряет сознание. Толпа ахнула. А он — тихонько на ухо:
— Здесь была трещина, не падай в обморок.
И громко:
— Остальное — заверните!
Черепки в платок и в карман. Это для коллажа.
Пакет большущий, поднять нельзя: сервиз на двадцать четыре (уже двадцать три) персоны. Садится в машину и — уезжает Бог знает куда.
Через день является неожиданно, без звонка. В руках странный пакет. Разворачивает и извлекает оттуда — поднос. О, это целая история!
Жил в нашем доме поднос. Давно, с довоенных времён. Во время войны он исчез вместе со всем остальным имуществом. Я о нём слышать не слышала: кто вспоминал о таких вещах на фоне других потерь?
Однако помню, как однажды пришёл отец (это было уже после войны) с подносом и какой-то утварью. Мама всплеснула руками: — Откуда?!
— Купил, — говорит папа, — на барахолке, случайно, наш собственный поднос. Он стоял на земле с ручками от водопроводных кранов и какими-то штучками для счётчиков.
(Точно таким же образом вернётся в дом чуть позднее одна из маминых фотографий).
Простоял этот поднос дома лет, наверное, двадцать. Родная, привычная глазу вещь. Она и в одном из отцовских натюрмортов — на рояле с белыми пионами.
Сергей любил этот поднос, особенно с красными плодами. И однажды мама подарила ему его. А он — вечная его манера — тут же передарил. Наполнил гранатами и ещё, Бог знает, какой красотой, и понёс к ногам друга-юбиляра («Дары императору»). Всё. Все забыли о подносе.
И вот, через столько лет, Сергей извлекает из пакета всё тот же поднос и ставит его на стол. Я онемела. И после множества абсолютно бессмысленных движений, наконец, говорю:
— Серёжа, это же моё детство… А теперь я тебе его дарю, пусть он будет у тебя в доме.
— Ну, конечно! Подарил детство и тут же его отнял!
И поднос остался и жил своей привычной жизнью у меня — у себя — в доме, на большом круглом столе ещё, наверное, лет двадцать.
А когда я уезжала из Киева, поднос сочли «невыездным». Почему — Бог весть. Если в нём что-то ценное осталось, то только память. И оставила я эту вещь у своей подруги Светы «до лучших времён». Но, видно, так угодно было судьбе, она распорядилась так для того, чтобы побывать этому подносу — свидетелю и участнику многого — на выставке работ Параджанова в Киеве. И стоял он на столе, наполненный гранатами, как если бы поставил его Сергей. А потом Светлана передала его с оказией (пройдёт — не пройдёт?), и он беспрепятственно добрался до меня. И вот передо мной стоит: вернулся. Что бы он мог рассказать, кабы заговорил?
Сергей собрался уезжать в Тбилиси.
Поезд вечером, а он заболел. Отложить отъезд невозможно. Прибегаю и застаю: лежит он в кухне на лавке в парчовом халате. Руки на груди сложены, а сверху — икона. Глаза закрыты. Вроде и не дышит.
— Серёжа…
Тишина.
— Серёжа…
Никакого впечатления.
В доме полно народа, но все в соседней комнате и говорят шёпотом. Страшно. Какая нелёгкая заставила меня приподнять икону — не знаю. Приподняла, а под ней — электрогрелка. И сразу крик:
— А-а-а, что ты наделала! Красоту нарушила. Я болен, мне плохо. У меня температура. Ты давно была на Птичьем рынке?
— Очень.
— Ну и зря. Красота безумная. Посмотри, что я купил.
Из угла смотрело жалобно беспородное существо.
— Знаешь, что это? Это настоящий щенок, — и называет что-то, не имеющее отношения к собакам.
Еле поднялся, еле спустился к машине.
Перрон полон провожающих, все оживлены, все что-то рассказывают друг другу (конечно, о Сергее), а он тихонько пошёл к вагону и сел у окна. Перед ним густо драпированная тканью корзина, как царская колыбель. А из неё выглядывает морда щенка. В окне его лицо: бледное, больное, измученное.
Так они и сидели, пока поезд не тронулся. А перрон продолжал жить своим шумом.
В июне 1997 года, к семилетию кончины, на территории студии Довженко поставили памятник Параджанову. Голова, три колонны, символизирующие три культуры, аккумулированные в его творчестве: украинская, грузинская, армянская.
И образы Марички и Ивана из «Теней забытых предков». Там нет «Слова о полку Игореве», там нет сказок Андерсена. Нет, потому что он их не снял. Не дали. Не успел. Нет «Демона», которого он мечтал снять с Майей Плисецкой.
В заметке, сопровождающей фотографию в газете, сказано, что на открытии присутствовали президенты Украины, Грузии и Армении, и что многочисленность выступающих подтверждала мысль о том, что он, Параджанов, при жизни был признан гением. И Довженко был признан при жизни. И другие — тоже. Дело, видно, привычное.
Гениев жалко.
Как-то шла экскурсия по музею студии Довженко. Было это в 80-х годах, Сергей был ещё жив. Экскурсовод рассказывает о Довженко, о Дзиге Вертове, о Демуцком (прижизненно уничтожаемых, а посмертно — в музей). Особая гордость современного украинского кино — «Тени забытых предков». Речь экскурсовода прерывается немолодым человеком. В штатском. Он просит адрес Параджанова. Нету, говорят ему. Не живёт Параджанов в Киеве, а только наведывается иногда. Человек протягивает листок бумаги — дескать, когда приедет, отдайте ему это, там мой телефон. Пусть позвонит, хочу покаяться, я его арестовывал.
Сергей позвонил. Не сразу, он терпеть не мог звонить. Для него сущей мукой было набирание номера и вращение диска. Всегда кого-то просил набрать нужный телефонный номер. А на этот раз — позвонил.
Ответил женский голос.
Сергей назвался и попросил такого-то.
Пауза.
— Его нет, — ответил голос. — Он умер две недели назад.
Не знаю, почему вспомнилась эта грустная, ещё одна грустная история. Наверное, потому что Сергей был огорчён ею: может, ему захотелось соединить на минуту свою историю с историей этого человека; а может, из уважения к своей судьбе, к своему горю он бы принял его открыто и щедро; а может, дал бы ему облегчить душу и покаяться.
А каяться было в чём, судя по тому, что творилось в квартире Сергея с 17-го декабря 1973 года — дня его ареста. Какая засада — настоящая волчья засада! — была устроена в квартире при погашенном свете (в окнах едва мерцал крошечный огонёк); и кто были эти люди? ГБ? Милиция?
И что можно было искать в квартире человека, который не работал вот уж восемь лет? В доме после них остался тяжёлый перегарный дух.
В квартире потом поселился кто-то из домоуправления: «А ещё говорили, здесь жил интеллигент… И дырки от гвоздей в стенах. Вот сколько дыр. Кто оплатит ремонт?».
Это — предпоследний этаж дома, на котором светятся цифры 1941. На доме через дорогу — 1945. Площадь называется Площадью Победы. Теперь на доме с цифрами 1941 висит мемориальная доска: «Здесь жил Сергей Параджанов…». А мне вспомнилось, как однажды Сергей принёс кому-то туфли. Срочно надо продать, деньги нужны.
— Сколько стоят?
— Тридцать.
— Но здесь написано: 27 руб.
— Ну и что? Их носил Параджанов. Наносил ещё на три рубля.
Открытие мемориальной доски проходит сутолочно. Место многолюдное: универмаг рядом, несколько троллейбусных остановок, трамвайное пересечение, а на первом этаже дома кафе «Вареничная», возле которого всегда ютятся выпивающие. И эта толпа перед подъездом перегородила тротуар. Цветы, речи. Жильцы тревожно выглядывают из окон: что случилось опять? Из «Вареничной» выходит женщина в наколке и фартуке официантки. Взгляд на доску: «А-а… Сергей Иосифович».
— Вы его знали?
— А кто его не знал? Такого больше нет. Он приходил к нам часто. Иногда со знакомыми, иногда один. Мы ему отпускали в долг. А однажды принёс связку подсолнухов — длинных-предлинных. Долго искал, куда поставить, ходил по залу, а потом воткнул в урну возле кассы. Они что-то долго не вяли. Что говорить? Теперь уж все про него говорят…
Взглянула ещё раз на доску:
— Что-то он мне не похож здесь…
И ушла.
Незадолго до смерти Сергей попросил своего друга-скульптора вылепить его голову с чашей-выемкой в затылке. Пусть там собирается дождевая вода, и пусть её пьют птицы.
Ничего не уходит из зрения. Разве что суета. Время лишь добавляет точности. Теперь, когда мы живём «через сто лет» (он говорил: «Через сто, когда мне будет сто тридцать, сто сорок, сто пятьдесят… вы увидите…»), так вот, теперь мы видим: то, что тогда звучало парадоксом, фантазией, а иногда и фарсом, оказалось обыкновенной правдой. Без логики, без доказательств. Самой правдой. Вижу вокруг него карусель, приводимую в движение самим фактом его жизни. А он один и неподвижен. И взгляд его пронзителен и точен, как тогда, когда он впервые распахнул передо мной дверь.





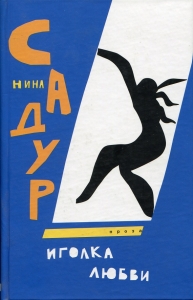
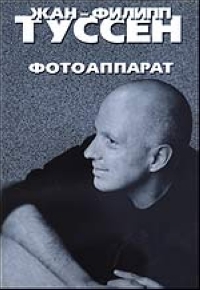





Комментарии к книге «Эхо шагов», Алина Ибрагимовна Литинская
Всего 0 комментариев