Вера Кобец СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ ЭПОХИ ЗАСТОЯ книга рассказов
Несколько слов от автора
Оглядываясь сегодня на время «застоя», послужившее фоном и материалом представленных здесь рассказов (фрагментов?), чаще всего ощущаешь его змеящимся, долгим, нелепым, смешным разноцветным сном. Присутствуют все атрибуты: расплывчатость лиц, совмещение несовместимого, назойливо выступающие вперед незначительные детали, а главное — готовность воспринять абсурдное как неизбежное и логическое.
Сон. Почему так важно, чтобы он превратился в повествование (организованное, впрочем, тоже по принципу сна)? Что побуждает? Ностальгическое желание украдкой вернуться хоть на денек в недавнее, но уже так далеко отодвинувшееся прошлое, или стремление «выступить на процессе» и дать свои свидетельские показания? Пожалуй, последнее.
Долгие годы мы жили огороженные крепостными стенами.
Стены защищали от сквозняка, разумно ограничивали порывы и наделяли временем для сладких и терпких мечтаний.
Еще стены способствовали образованию особого — как стало теперь понятно, оранжерейного — климата.
Многое в этой оранжерее было неладно, и лучшие бутоны засыхали, не раскрывшись. Воспоминания о них были остры и упоительны. С годами они накапливались и становились медом, заменявшим нам хлеб и соль подлинной жизни.
Мед несбывшегося действовал как наркотик и погружал нас в цветной полусон.
В полусне мы (благополучные) хихикали. Играли в надежды, в любовь, в страдание.
Иногда клюквенный сок оказывался настоящей кровью. Тогда вдруг прозревали. Но всего только на минуту.
Эта книга росла десять лет. Каждый кусок был бы, наверно, немыслим без предыдущего, хотя часто спорил с ним и тянул в свою сторону. Между зарубками порой недели, а порой годы. Иногда они стоят густо и едва ли не наезжают друг на друга, иногда между ними огромные интервалы. Отдавая себе отчет во всем этом, я все же решаюсь предложить эту книгу как целое: вытащенный из-под обломков кусок картона, разрисованный временем, запечатлевший то, что успело пройти перед странно замедленным взглядом, то, что взгляд различил и зафиксировал, и то, что, зафиксировав, успел отлить в слова.
«Титаник» медленно погружался в воду. Все смотрели — никто не верил. Танцевать было уже лень. Иногда погружение казалось простой аберрацией. Не было точек отсчета — не только крысы, но и чайки сбежали. Тишина. Или все-таки музыка?
Пусть это скажет читатель.
Судьба Веденеева
Ночью мне показалось, что я проснулась от грома. Грохнуло и оборвалось, потом еще раз, еще. Наконец стало понятно, что это стучит подоконник. Наружный. Приподняв голову, я разглядела, как поднялся лист железа, а потом стукнул о каменный выступ, стукнул не просто так, а неистово, с бешенством. Не ровен час, оторвется, подумала я, да и прохожего по голове. Я вдруг увидела, как, подняв воротник, торопливо бежит, огибая лужи, человек в длинном темном пальто и в галошах. Так одевались лет тридцать назад, когда я впервые запомнила странное слово «прохожий». В альбоме, на первой странице, была тетя Валя, веселая и молодая, в берете. Рядом деревья, а в уголке — высокий мужчина в шляпе и в длинном пальто. «Это кто?» — «Как кто? А… это прохожий. Он попал в кадр случайно». Случайно попал и живет в нашем альбоме. Живет в нашем альбоме, но мы про него никогда ничего не узнаем. Прохожий. Мне очень хотелось получше его разглядеть, но это не удавалось: на фотографии была только спина. Грохнуло снова. Я встала, прошла к окну, посмотрела на улицу. Дождь барабанил по лужам, деревья мотало, скамейка блестела под фонарем. И еще пахло намокшим пальто. Полузабытый, давно исчезнувший запах. Зонтики, что ли, его уничтожили? Или метро? Ведь сильней всего запах намокших пальто ощущался в трамваях. Сивушный, тяжелый, тоску нагоняющий запах. Молчание, теснота, серый ватник кондукторши с орденским иконостасом из разноцветных катушек. «Цзинь», — дергает за веревку кондукторша-командир; сигнал к отправлению подан, и вагон медленно пробирается дальше по темным ноябрьским улицам, подслеповато моргая рядами прямоугольников-окон. Трамвай пробирается к своей цели — к кольцу, и пассажиров в вагоне становится меньше и меньше. Только что — теснота, и вдруг сразу пусто. Привычно и равнодушно глядят друг на друга два ряда желтых скамеек, на них чернеет всего три пятна: закутанные в платки бабка с внучкой, девушка с худеньким синеватым лицом, какой-то мужчина с портфелем. Мужчина сидит, опустив на грудь голову, черные поля шляпы бросают тень на лицо, и кажется, что лица нет. Человек-невидимка, ворчу я раздраженно, а впрочем, не много ли чести? Скорее уж человек в футляре образца сорок девятого года. Я говорю это, наверное, слишком громко: мужчина слышит меня и оглядывается. Какое-то время мы молча рассматриваем друг друга, и наконец я, не веря еще себе, узнаю Веденеева.
Раньше я знала его хорошо только в двух ипостасях: быстрым в движениях стройным светловолосым юнцом с цепким взглядом и стариком в кресле, с ногами, укрытыми пледом. Полвека, во время которых молодой человек превращался в благообразного старца, были как кадры поврежденной кинопленки, рвущейся во всех важных и интересных местах. Я знала, что, выехав — и неожиданно — из витражного дома, он жил на Васильевском острове, где-то у Невки. Ясно чувствовалась сырость двора-колодца, отчетливо виден был и силуэт Веденеева, два раза в день проходившего сквозь подворотню. Все остальное терялось в засветке. А реальностью, фактом был только рассказ «Сизиф», появившийся осенью двадцать девятого года. Рассказ был страшный. Дочитав его, я долго бродила по улицам. Казалось невероятным, что тогда, во времена «Серапионов», рассказ этот просто-напросто не заметили. Но почему так случилось, оттого ли, что он не понравился, или оттого, что журнальчик был очень уж несолидный, выходил крошечным тиражом, а номер с «Сизифом» и вовсе не состоялся, и отпечатано было всего лишь несколько экземпляров, сказать было трудно. Когда я попыталась выяснить что-то у самого Веденеева, он отмахнулся с усмешкой: «Ну какой может быть результат, когда речь идет о Сизифе?» И мне пришлось отступиться, так же как приходилось и раньше, ну, например, когда очень хотелось узнать, почему Веденеев всю жизнь проработал архивной крысой. Были ведь и другие возможности. И я о них знала. Знала, что приходил к нему с каким-то предложением сам Сухоржевский, профессор, специалист по «поэтам пушкинского круга». Сцену свидания Веденеева с Андреем Никитичем Сухоржевским я всегда вижу очень отчетливо. Учитель — шляпа, трость, пелерина (было в нем много декоративного, и он в себе это пестовал и любил) — и ученик, все еще быстрый в движениях, хотя лицо пожелтело и волосы поредели, сидят в грязноватом архивном «предбаннике», друг против друга, по разные стороны грубого, исцарапанного, чернильными пятнами испачканного стола. Учитель говорит длинно, красиво и бархатисто. Мимика, жесты его убедительны, но слов не слышно. Звук, звук! Но черт-механик заснул, наверно, и я никогда не узнаю, что же сказал Сухоржевский и что же ответил ему Веденеев, и буду поэтому только гадать, строя нелепые предположения, почему, когда кончен был наконец разговор, мой герой, вставши со стула одновременно с профессором Сухоржевским, как будто и не заметил протянутой на прощание белой холеной руки, а быстро, решительно наклонил голову (руки по швам) и щелкнул как-то подчеркнуто вежливо каблуками. «Душенька, это дешевая мелодрама», — сказал как-то раз Веденеев, когда я изложила ему свою версию. «Что же поделать, когда вы вели себя как в мелодраме», — отрезала я. В последние месяцы мы с ним нередко пускались в какие-то кухонно-раздраженные перепалки. Время, когда я смотрела благоговейно на этого старца с трагически-горькой судьбой, кануло, увы, в лету, и я теперь стала бесцеремонной, назойливой, въедливой, но, к сожалению, это не очень-то помогало. И потом были вопросы, которые все же я не решалась ему задавать. В первую очередь о жене. Она не должна была появиться. Ведь он считал: одиночество — это путь к книге. Книга — суть, смысл его жизни. И все же жена была. Я ее не придумала. Она сама появилась в загроможденной и темноватой, но, в общем, уютной комнате на Васильевском. Пришел ли сюда уют вместе с ней? Не знаю, ведь раньше я видела Веденеева только на улице, когда он проходил подворотней. Теперь, с появлением его жены, ритм и темп его жизни переменились. В движении я его больше не видела. Видела, как он сидит за столом — спиной к комнате. Именно в эту пору у него появилась привычка, читая, поигрывать машинально слоновой кости ножом. Рукоятка ножа была в виде головы льва. Лев был роскошно кудрявый и улыбался. А жена Веденеева, наоборот, была грустной (печальной? угрюмой?) и вечно куталась. Без шерстяного платка на плечах я ее никогда не видела. Платок, безусловно, вызывал жалость, но все же симпатии к этой женщине у меня не было, и грызла мысль, что, может быть, и она виновата в том, что работа так странно застопорилась и пачка живых листов превратилась — или же постепенно начала превращаться — в бумажный хлам, годный только для печки. И все-таки Веденеев не сжег свой роман. Листы погибли, когда разбомбило квартиру. Женщина умерла еще раньше от голода, и Веденеев остался совсем один, и прожил еще тридцать лет, и стал старцем с вольтеровски тонкой улыбкой, живущим в светлой квартирке в большом новом доме напротив приятного сквера. Как он попал сюда? Где он был раньше? «Здесь, — отвечает мне Веденеев сорок девятого года. — Можете все осмотреть, хотя осматривать нечего». Я озираюсь. Хозяина комнаты нет, но сейчас это неважно. В трамвае я его хорошо разглядела, увидела нос крючком (ни в молодости, ни в старости он таким не казался), прямую линию рта, которая изогнется потом в улыбке-усмешке, морщины, четкие и почти щегольские, на лбу, на щеках. Его лицо мне кое-что сказало. Осмотр жилища может дать больше. Так, что же я вижу? Голые стены, тени на потолке, железную спинку кровати. В углу стоит кухонный стол, и на нем керосинка. У окна, очень высокого, щелевидного, втиснут еще один стол, и на нем папки, книги. Посередине — листок бумаги, придавленный пресс-папье. Пресс-папье мне знакомо так же, как мне знакомы костяной ножик с головой льва и чернильница. «Но ведь ваш дом разбомбило. Как же могли уцелеть эти вещи?» «Такое случалось», — медленно, будто подумав, говорит Веденеев. «И значит, Роман спасся тоже?» «Нет, — он вздыхает, но вздох звучит подозрительно и фальшиво. — Все было завалено штукатуркой. И похоронено». Глупо, нелепо, логики в этих словах ни на грош, но я понимаю, что он ни на шаг не отступит от второпях брошенной версии. Он сидит, положив ногу на ногу, на табуретке. Его глаза кажутся мертвыми, и он весь неподвижен. Я жду, почему-то я абсолютно уверена, что он начнет говорить. И в самом деле, проходит какое-то время, и он оживает. Смотрит внимательно: «А хотите, я расскажу вам, как все вернулись три года назад, в конце мая?» И он начинает рассказывать, как шел по пустынной пыльной набережной, шел навестить неблизкого, в общем, знакомого, о котором случайно узнал, что тот болен; шел медленно, потому что жара была страшная (в мае бывают такие жаркие дни), вытирал пот со лба и вдруг понял: что-то случилось. Что? Непонятно. Но ощущение было отчетливым, резким и незнакомым. «Что же это?» — сказал чуть не вслух Веденеев и тут же понял: нет боли. Исчезла. Впервые за долгие-долгие годы его душа не болела. Боль растворилась в усталости, или расплавилась на жаре, или же утонула в тоскливой ненужности его жизни. «Кажется, я потерял то последнее, что у меня оставалось», — подумал тогда Веденеев. Он сделал шаг, другой, третий, он как-то не понимал, сон это или явь. С большим трудом, чуть задыхаясь, он дошел до угла Менделеевской линии и вдруг почувствовал — или это ему показалось? — давно забытый, томящий, дурманящий запах. Запах персидской сирени, росшей когда-то возле витражного дома. «Да-да, и здесь тоже персидская, я это помню», — сказал Веденеев. Он стоял на углу, держался рукой за решетку и вдыхал запах-воспоминание. Пруста он, разумеется, знал, и в этот момент даже вспомнил, но эта «литературность» не помешала. Все вновь возвращалось; разъятость исчезла, и, как когда-то, он будто поднялся в воздух на небывалом летательном аппарате, сосредоточенно и спокойно смотрел на лежавшую внизу жизнь.
Придя домой, вечером, он зажег лампу и начал писать какой-то рассказ, или притчу, или отрывок. Закончив, понял, что это — глава из Романа, глава, с которой он будет теперь начинаться. «Глава называлась „Черти на Аничковом“?» — быстро спросила я. Он кивнул. Потом начал рассказывать снова. И я увидела странные силуэты за окнами в брошенном, темном, холодном дворце, услышала голоса, которые невозможно назвать человечьими. «Если хотите, прочтите мне этот кусок», — сказал мне Веденеев. «А разве можно?» — «Конечно, ведь его давно нет». Странное пояснение. Я развязала тесемки коричневой папки и побежала глазами по строчкам, но они прыгали, корчились и рассыпались. «Трудно?» — спросил Веденеев и рассмеялся злым смехом. Его глаза снова казались пустыми и мертвыми. Комната накренилась, и я поняла, что мне нужно отсюда бежать. Теперь я знаю достаточно, я поняла, поняла. Быстро набросив халат, я кинулась к двери — задела за стул в полутьме. Севка пробормотал что-то, громко и недовольно. «Что делать, если проснется?» Чувство вины вдруг схватило меня за загривок. Я замерла, как воришка, которого вот-вот схватят. Но нет, все было в порядке. Мой муж спал, укрывшись чуть ли не с головой одеялом, — только вихор на макушке торчал.
Год назад, когда началась Веденеевская эпоха, Севка встревожился не на шутку и велел мне сходить к Алексею Перфильеву, своему другу, зубру и асу-невропатологу. Затея мне показалась дурацкой, но бунтовать я не смела. Рассказать Леше о моей новой жизни? Что ж, расскажу. Мы встретились с зубром и асом недалеко от его института и часа два гуляли по набережной — погода, к счастью, благоприятствовала. «Ну, вот что, — сказал мне наконец Алексей, — если ты хочешь посидеть годик дома и отдохнуть, так и скажи это Севке прямо. Он мужик добрый: прокормит тебя. А приплетать к вашим делам Веденеева, который был гением, но почему-то оставил нам, грешным, один только шизорассказ, на который ты абсолютно случайно невесть где наткнулась, — это, пожалуй, не совсем честно. Но, главное, ты себе не внушай, что твой долг — заняться судьбой Веденеева. Все-таки это, прости меня, бред. А вот усталость — это реально, тут я не спорю. И диссертация, и болезни младенца, и весь наш прекрасно организованный быт. Посидишь дома — порядка в хозяйстве будет побольше, и всем полегче. А деньги — что? Их всегда или нет, или мало». Севке он, вероятно, сказал то же самое, и, думаю, Севка был недоволен. Но возразить не решился. Леша Перфильев — специалист с большой буквы. Хороших специалистов Севка всегда ценил и поэтому больше не отговаривал меня бросить работу, смолчал, когда я сообщила, что подала заявление об уходе, но стал обращаться со мною иначе, чем прежде: с жалостью и брезгливо. По временам это было невыносимо. «Севочка, ну зачем же ты так?» — не удержалась я один раз, и вдруг он взорвался: «Ты сделала все, что хотела. Вся наша жизнь отдана Веденееву. Я терплю это. Ты хочешь, чтобы я был в восторге? Я не в восторге». «Сева, я буду стараться», — сказала я совершенно бессмысленно, и он решил почему-то, что я над ним издеваюсь.
Выбравшись в коридор, я оказалась в каком-то другом измерении, гула ноябрьской бури здесь не было слышно, и тишина оглушила. Помедлив минуту, я прошла в Котькину комнату. Мой мальчик спал, сбив одеяло в комок, свесив правую ногу. Пятка была умилительно маленькой. «А будет ражим детиной», — подумала я и сама не поверила. Мне было как-то не приложить к нему будущее. Семь лет назад он пришел к нам из своего таинственного небытия и посмотрел на меня голубыми — даже белок был голубоватым — глазами. Потом прошло время, его глаза стали серыми. Оки сохранили всю свою ясность, но обрели новую определенность: уже не весь мир был отражен в них, уже появился свой угол зрения. А теперь глаза Котьки стали такого же цвета, как у отца, — светло-карие с прозеленью — и были всегда широко открыты: глядели вокруг себя с любопытством. Я аккуратно расправила одеяло — укрыла мое голоногое чудо. Он заворочался, что-то бурча, потом наконец примостился уютно. Его уже не было видно — только вихор на макушке торчал.
В кухне гудел холодильник. Он был изрядным брюзгой, но по ночам мы неплохо соседствовали. Я вынула пачку листков из-за банки с мукой, пересмотрела последние записи, вычеркнула страницу и попыталась передать ощущение той жары, что висела над городом в день, когда Веденеева вновь поманил и повел за собой вдруг воскресший Роман. Я очень старалась, но без толку. Из окна дуло, и еще очень мешал тот знакомый, к которому шел Веденеев. Кто это? Друг гимназической юности? Или же сослуживец, случайно, как он сам, попавший в архив? Знакомый — обросший темной щетиной человек с лихорадкой в глазах — лежал в дворницкой и был покрыт лоскутным деревенским одеялом. Что, его дворничиха приютила? Или он жил с этой дворничихой, может быть, даже скрывал такую деталь биографии от старых друзей (друзей не было), ну хорошо, от старинного друга, то есть от Веденеева, которого встретил случайно, совсем недавно, возле Адмиралтейства и вдруг подумал, что эта встреча — знак и надежда на перемены. «Р-р-р», — сказал холодильник. «Я понимаю, — ответила я, — и признаю, что ты прав. Какой-то заросший щетиной друг детства, лоскутное одеяло — все это может и подождать. Я должна либо записать быстро то, что я узнала от Веденеева, либо пойти и лечь спать, чтобы завтра все шло путем. Но ведь я знаю, что мне не заснуть, уж лучше я посижу здесь, подумаю, ведь кто знает, может быть, этот больной (умирающий?) в дворницкой на самом деле важнее всего остального? Может быть, он и есть Веденеев, а тот, за которым я так упорно иду по пятам, всего лишь подделка, двойник? Что, если снова проследить все с начала? А где начало, в четырнадцатом году?» Нет, тот подросток, так же как и ребенок, которым он был еще раньше, не занимал меня. В общем, я знала: судьба Веденеева началась в девятнадцатом, когда он, чудом выживший после тифа, вышел, совсем еще слабый, на улицу.
Ему было семнадцать лет, минувший год сделал его сиротой, мир, привычный и чуть надоевший, как то какао, которым поили его по утрам, исчез, улетучился, испарился. Вокруг стояли роскошные декорации, но спектакль, к которому он опоздал, был уже сыгран. Он вспомнил, как мучили его в детстве слова «Конец Римской империи», и ему было странно, что он приобщился к событию, по своей важности не поддающемуся осмыслению. Ему было трудно, и он пытался найти опору, защиту. Он сделал правильный ход: работая в некой конторе, где разбирали два года назад потерявшие смысл документы, поступил в Зубовский институт. Здесь изучали искусство, здесь изучали литературу. Но Веденееву было не спрятаться от постоянного чувства, что он живет между обломками, среди развалин. И храм культуры, к которому он приобщился, казался ему бутафорским, и мертвыми были слова. «Ну наконец-то жизнь стала входить в колею», — радостно говорила тетушка Веденеева Мария Петровна, раскладывая пасьянс. Она хозяйничала теперь в квартире родителей Веденеева, преобразовавшейся в соответствии с ситуацией: в бывшей столовой жил некто Андрей Степанович, в спальне родителей — матрос Коля Скворцов. Выпив, Коля был весел и пел, а потом вдруг впадал в тоску и начинал кричать дико, надрывно: «Вот они! Вижу! Идут! Идут, гады! Не подходи, не трожь, сволочь, ты же покойник, отойди, гнида!» Унять его могла только Мария Петровна. Она входила к Скворцову спокойно и деловито и говорила: «Нельзя так, голубчик. Молитесь, молитесь заступнице», — а потом брала Колю за руки и крестила, а он плакал, а она отводила его — покорного — к кровати, укладывала, как маленького, укрывала одеялом, еще раз крестила и уходила, а его всхлипывания становились все реже и реже и наконец замолкали. Племянник несколько раздражал Мария Петровну. Однажды она начала с ним беседовать о гордыне. «Смирение — главная из добродетелей, — говорила она. — А кроме того, нужно помнить, что все, все от Бога». Племянник не отвечал ей; через какое-то время нашел себе комнату около Кронверкской, и широкий рукав реки отделил его от квартиры, хранившей память о мальчике в белых носочках, о нем же постарше, читавшем «Дубровского» и «Отверженных», а потом, позже, «Подростка» и «Воспитание чувств», «Бесов» и «Петербург», Вячеслава Иванова и Мережковского.
Квартира, в которой нашел обиталище Веденеев, была по стечению обстоятельств грязной и шумной, а комната — неудобной, и все же он захотел сюда въехать, и дело было не в чем-нибудь — в витражах. Витражные окна были на всех площадках: от первого этажа и до пятого. Лестница уходила торжественно вверх, и через красные, желтые и зеленые стекла лился сияющий, радостный свет. Корзины фруктов, невольники, ангелы-девы в спадающих складками золотистых одеждах — все было нелепо и все было празднично, и Веденееву, когда он вставлял ключ в замочную скважину, чтобы потом до утра погрузиться в содом коммунальной квартиры, чудилась некая вакханалия в пышном соборе, и его жизнь среди хохота, рева и брани случайных соседей была как бы естественной ее частью. По ночам, когда все в квартире наконец затихало, Веденеев писал маленькие истории, напоминавшие, может быть, сказки Гофмана. Потом, постепенно, возник большой замысел. Почувствовав смутно абрис романа, переплетавшего фантастически прошлое и настоящее, Веденеев сначала скептически улыбнулся и отогнал прочь несуразные мысли, но вскоре со смешанным чувством тревоги и радости понял, что они оплели его и что он пленник невесть откуда возникших фантомов. Несколько месяцев он пытался сопротивляться. Он резал нити ножами иронии, распутывал узелки с помощью доводов логики, но с каждым днем становился беспомощней и зависимей. И вот тогда, в этот период тоски, ожиданий, видений, он в первый раз встретил Юнну, юную девочку в красно-клетчатой юбке. Собственно, это и встречей назвать нельзя. Он стоял на площадке, а наверху хлопнула дверь, и мимо него пронеслись, как во сне, девочка и собака. «Тише, Бурбон, Бурбон, тише!» Но язык высунут до отказа, и с мягким рычанием, вздохами, топотом мчится огромное, густой шерстью покрытое тело и тянет вслед за собой хозяйку, а она, легкая, ловкая, смуглая, тоже стремится за ним и проносится мимо, и в этом есть что-то от мифа, от вечности и от мечты о полете. Может быть, было, конечно, не так. Может быть, Веденеев давно был знаком через того же Андрея Никитича Сухоржевского, часто его, студента, к себе приглашавшего, с отцом Юнны, доктором и меломаном, может быть, он и дочку уже раньше видел, все это уже неважно. А вот та встреча, тот образ, мелькнувший перед глазами, то ощущение приглашения к жизни сыграли, как это ни странно, огромную роль и в большой степени помогли ему одолеть и растерянность, и чувство краха реальности, которые столько лет были основой его душевного состояния. Девочка в красно-клетчатой юбке, как символ движения жизни, не раз приходила на память. Он усмехался, качал недоверчиво головой, потом срывался вдруг с места и шел, сам не зная куда. Эти кружения по городу были круженьями по лабиринтам души; он метался, но знал уже, что впереди есть и свет, есть и выход. И вскоре он начал писать Роман.
Да, все было так, но дальше я вязла в сомнениях. Однажды вечером Веденеев подробно поведал мне о своей сделке с судьбой, о договоре с «витражным богом», о жертве кровью. Я его слушала открыв рот, но в какой-то момент разглядела название книги, которую он держал на коленях. Это был «Доктор Фауст». «Как вам не стыдно! — в ужасе закричала я. — Это какие-то хлестаковские штучки. Вам они не к лицу, Александр Алексеевич!» С досады я чуть не отправила в мусор «Начало романа», но вовремя спохватилась и, положив все в папку, написала «Судьба Веденеева, вариант первый».
Холодильник молчит. Вместо него решили подать свой голос часы. Тикают громче и громче. Но я стараюсь не слышать их. Ведь Веденеев сидит напротив меня в своем кресле. Он, правда, задумался и беседовать явно не расположен, но, может быть, он согласится прочитать мне хоть три странички из своей книги. «Александр Алексеевич, я вас очень прошу, прочитайте, пожалуйста, мне то место, где Отец пригвоздил Сына к кресту послушания, а сам смотрел на мученья Его и говорил „истинно, истинно“, а потом вдруг усомнился и поднял ввысь жалкое мертвое тело. Мне очень важно услышать этот кусок, прочитайте». Но Веденеев не отвечает. Надо задеть его за живое, расшевелить: «Кажется, я понимаю, почему моя просьба вам неприятна, и вы ведь убийца, Юнну убили вы». Впервые я говорю это прямо. Прежде витавшее в воздухе слово «жертва» наконец обретает конкретность и в то же время теряет какой-то важный оттенок. После томительной для меня паузы Веденеев говорит холодно и спокойно: «Не понимаю, почему вас так тянет в пошлятинку? Можно подумать, романы для горничных — ваше любимое чтение». («Так мог бы сказать ваш отец, но не вы», — отмечаю я в скобках.) И Веденеев, скорей всего, слышит оговорку. Голос его смягчается. «Почему вы так уверены, что она умерла? Состарилась — это бесспорно». Он берет с подлокотника книгу и погружается в чтение. Он опять ускользает и оставляет мне только обрывки, калейдоскоп ярких и бледных картинок, какие-то реплики, Юннин смех. Как жалко, что с Юнной я разговаривать не умею. Веселая девочка с ярким румянцем всегда бежит мимо, не замечая, не откликаясь. Ей остается всего шесть месяцев жизни. За это время она полюбит Веденеева, спасет его, перельет в него все свои силы, погибнет, как погибают матери в родах. И как не прав Веденеев! Ведь, в самом деле, неважно, умерла она от горячки, не вынеся его бегства, или же просто погасла. Ее смех замолк, и она, та, летящая, перестала существовать, когда ей было семнадцать. И виноват в этом он, никто больше. Закутавшись поплотнее в халат, я стала писать. Дело пошло очень быстро и даже легко, и я все писала, пока вдруг кто-то не потянул меня за рукав. Тут я испуганно вскинулась. «Четверть седьмого», — сказали часы. «Кошмар и ужас», — охнула я и, мгновенно убрав все следы преступления, на цыпочках пробежала по коридору и моментально заснула.
Будильника я не услышала, и сборов Севы и Котьки, конечно, не слышала тоже. Проснулась, когда мой сын крикнул мне в самое ухо: «Холодной водой оболью!» Тогда я открыла глаза и увидела, что они оба стоят у тахты. Они были почти одинаковые в своих свитерах, синих с белым, связанных Ольгой Михайловной; только один был большой, а другой совсем маленький. «Вы как подобные многоугольники», — сказала я с удивлением. Но они не услышали. «Две просьбы», — сказал Севка строго. И оказалось, что нужно поехать к Богданову за чертежами и непременно закончить отчет. «Но ведь ты говорил — к четвергу». — «Я так думал, но ситуация изменилась». Инструкции Севки, как всегда четкие и обстоятельные, я слушала через силу: глаза закрывались. «Она засыпает! — Костик захлопал в ладоши. — Опять ничего не услышит и все перепугает. Скажи ей скорей про обед!» — «Что сказать?» — «Папа, ведь мы же договорились!» «Ах да, — Севка прокашлялся. — Мамочка, мы объявляем бойкот всем яичницам и сосискам. Выводы сделай сама». «И еще сделай „негра в сметане“», — со смехом закричал Котька. «Время. Идем!» — сказал ему Сева, и, помахав мне на прощанье, они друг за другом вышли в прихожую, откуда какое-то время я слышала их голоса: чириканье Коти и добродушный Севкин басок. Никаких разногласий, подумала я. Все проходит спокойно, по-деловому, а когда с Котькой я, то крик стоит на весь дом: «Я не надену, не буду, шерстит, ненавижу!», и я кричу в ответ: «Что ж, ненавидишь — не надевай!» А вечером кашель, горчичники, и уже ничего нельзя сделать, и болезнь входит на две-три недели, и я варю морс и тру яблоки, езжу на рынок за творогом, читаю ему часами и строю из кубиков замки. А сама с раздражением чувствую, как течет время, и растворяется, и исчезает…
Проснулась я поздно, взглянуть на часы было страшно. Чтобы хоть как-то наверстать время, я стала крутиться в бешеном темпе. Взялась за уборку, в которой квартира давно нуждалась. Блеск наведу, чистоту, красоту, думала я, принимаясь за дело. Вода лилась из всех кранов сразу, тряпки и швабры мелькали в воздухе, пахло бытхимией. Солнце, вдруг вылезшее на небо, смотрело на меня с большим удивлением и с усмешкой, но я все больше входила в азарт. Вытащить все барахло из кладовки и выбросить все к чертовой бабушке! Сколько раз Севка мне говорил, что ему нужно место для инструментов. Раз-два! И тут зазвонил телефон. Я перепрыгнула через коробку с каким-то тряпьем и, отодвинув ногой старый Котькин велосипед, вовремя добежала до аппарата. «Ира, ты не забыла, что я тебя жду?» — спросил голос Богданова. «Как, разве три?» — «Около половины четвертого». Да, сюрприз… «Владик, я замоталась, но сейчас выйду — приеду к тебе через час». — «Скорее, через два с лишним. Но это неважно. В четыре я должен быть у врача, тубус оставлю соседке из сорок шестой. Звони к ней долго и громко: она глуховата». — «А может быть…» Но куда там, Владик повесил трубку. Я всегда знала, что он относится ко мне скверно. В последнее время он демонстрировал это в открытую. Да, час туда — час обратно, а у меня обед не готов. И как же быть? Разумеется, помогло бы такси, но у меня и так адский перерасход. Я быстро вытряхнула из кошелька рубль и трешку, оставила две монеты по пять копеек — так деньги целее будут — и выскочила за дверь. Добежав до угла, я сразу увидела очередь из «зеленых огней» на стоянке. Да, на другом сэкономить бы, но рассуждать было поздно. А вот и автобус. Я поднажала, но он ушел перед носом. Стоя на остановке, я на все корки ругала Богданова. Его болезнь была явно дипломатической. Сидя дома, он занимался ремонтом, а заодно уж готовил к сдаче отчет. Мог бы и сам привезти свои чертежи, но и я тоже могла бы съездить за ними пораньше. Вздохнув, я с раздражением посмотрела на серый забор, на тетку в шубе, на подползающий к остановке троллейбус. Двери открылись. Старуха с палкой пыталась выйти и не могла, женщина, пялившая глаза в окно, открыла вдруг рот и зевнула, и тут я сообразила, что на троллейбусе можно добраться до площади, а там масса вариантов, годится любой. Рванувшись вперед, я успела вскочить. Двери захлопнулись, и я сразу же вспомнила, что в кошельке у меня всего десять копеек. Ладно, не страшно, я попрошу пятачок у соседки Богданова. Потом, правда, придется тащиться к ней еще раз — отдавать, не признаваться же Владьке, какая я недотепа. Он ведь из этого анекдот сделает, и весь институт за животики будет держаться. Мне все равно, но Севку я не могу подводить: по моей милости он и так стал объектом здорового любопытства.
На прошлой неделе, когда все собрались, потому что Макс Груздев спихнул наконец свою кандидатскую, Сережа Лосев увел меня в кухню и объяснил популярно, как все, собственно, выглядит. И оказалось: защитив диссертацию, я без всякой причины, просто так, с бухты-барахты ушла с работы и села дома. Обсудив это событие всесторонне и не создав ни одной сколько-нибудь убедительной версии, институт начал ждать, что же дальше. А дальше было вот что: Севка, всегда работавший не за страх, а за совесть, вдруг начал бегать с кошелками, узнавать у буфетчицы Раи, не привезут ли бифштексы, дважды беседовал с Люсей Петровой о разных способах варки борща, на заседании в кабинете директора вытащил из портфеля ботиночки Котьки и объяснил всем: «Пардон, мне сегодня в сапожную мастерскую», словом, поставил себя в положение, когда начальство косится, мужики ржут, а бабы только и думают, как бы к рукам прибрать (и приберут, вот увидишь, и поделом тебе будет). Да, все это было невесело, но я знала, что институтские сплетни не так уж трогают Севку. Работает он, как работал, а вот что действительно его мучает — это реакция Ольги Михайловны. Мнением матери он всегда дорожил, и до сих пор, в общем, остался пай-мальчиком, который только тогда и спокоен, когда мама хвалит. А сейчас Ольга Михайловна явно считает всю ситуацию недопустимой, но при этом ведет себя в высшей степени благородно: демонстративно молчит и холодно протягивает руку помощи. Вчера она позвонила мне и спросила подчеркнуто вежливым тоном, не стану ли я возражать, если Сева и Костик будут два раза в неделю ужинать у нее. Ну, скажем, во вторник и в пятницу… Я много раз порывалась поехать к Ольге Михайловне, поговорить с ней, объяснить все. Но как я могла надеяться, что меня поймет Ольга Михайловна, если Анюта не понимала? С Анютой — когда умерла ее мать — мы целый год жили вместе. Пять лет назад, когда меня сняли вдруг с диссертабельной темы и Севка сказал, что помочь мне, пожалуй, нельзя, Анюта отправилась к Кузьмину и, как потом рассказывала всем Алла Макаровна, не сморгнув, заявила: «Пожалуйста, не надейтесь, Олег Петрович, что вам эта подлость удастся. Кирсанова бессловесна, но я шум устрою. И, если надо, большой». Так вот, если Анюта на все мои просьбы не дергаться и не дергать меня говорит: «Ты не видишь, куда идешь, ты ведь лунатик, и тебя разбудить надо, прежде чем ты окажешься на карнизе», то на какое и чье понимание можно рассчитывать? Ох. Вот и площадь.
Перескочив из троллейбуса в подкативший пятидесятый, я сразу повеселела. Может, еще все успею. Главное, затолкать рухлядь обратно в кладовку. Пачка пельменей у меня есть. Ну поругаются, но не съедят же? Пельмени съедят, а меня не съедят тарабарщина. Тара-рабарщина, бьют барабаны. Что это? Да, сон, который я увидела утром. Теперь он вдруг вспомнился совершенно отчетливо. Я была в комнате Веденеева. Он лежал, вытянувшись, на своей койке. Лицом к потолку. Я поняла, что он болен. «Он очень болен», — подтвердил «голос за кадром». Веденеев повернул голову, будто прислушался к этим словам. «Роман душит меня, сказал Веденеев. — Сначала он давал силы, а теперь убивает». Он весь напрягся, как будто к чему-то прислушивался, и тихо добавил: «Но меня все же спасут». — «Кто?» Я шевельнулась, хотела к нему подойти, но Веденеев вдруг поднял руку и щелкнул в воздухе пальцами. «Мы в театре, — сказал он. — Смотрите!» И тотчас же дверь отворилась и в комнату резво вбежали какие-то парни в спортивной форме. Подхватив Веденеева за ноги и под мышки, они понесли его прочь. Лестница залита была красным, как в фотолаборатории, светом. Витражи, вспомнила я. «Скорее», — крикнули парни, несшие Веденеева. «Куда мы?» — «В квартиру доктора», — пояснил чей-то гнусавый голос. Фамилия отца Юнны до сих пор оставалась мне неизвестной. Доктор Штольц? (Пахнет «Обломовым».) Доктор Красаускас? Доктор Корсунский? Я шла какими-то длинными пыльными коридорами. Где же квартира доктора, так поразившая, а потом исцелившая Веденеева своим покоем, уютом, теплом? Где шоколад? Где бульон? Где книги в глубоких шкафах? Где лампа под розовым или кремовым абажуром? И где, наконец, смуглолицая, нежная, быстрая девочка в красно-клетчатой юбке? Где пес Бурбон? Где все это? «Свет», — сказал кто-то, и я очутилась в большом круглом зале. Сверкал оскаленно будто к концерту готовый рояль. Всюду стояли цветы, разбросаны были какие-то безделушки, какие-то перья. Веденеев сидел в большом — на колесиках — кресле. Ноги укутаны пледом, и он, молодой, был все же очень похож на себя старика. Девушка в красно-клетчатой юбке прыгала через скакалку. «Юнна!» — позвала я. «Двести три, двести пять, двести десять», — считала она.
Я чуть не проехала остановку, но в последний момент спохватилась. Район, в котором живет Владик Богданов, — это район унылых, барачного вида пятиэтажек. Построены они вроде уже лет десять назад, но вокруг до сих пор все не прибрано. Кое-где, среди голых площадок, качели, песочницы и деревянные домики. Два-три ребенка на ветру, на юру. Наверно, когда-то, в глазах Веденеева, весь город был вот таким: неуютным, пустым, продуваемым, страшным… Добежав до подъезда Богданова, я поднялась быстро на третий этаж, увидела четкое «сорок шесть» на одной из квартир, позвонила. Подождала — нет ответа. Нажала снова: длинный — короткий — два длинных — прерывистый — длинный. И тут дверь у меня за спиной распахнулась. «Что ж это вы хулиганите? — крикнула тетка с шумовкой в руках. — Слышит, что дома нет, а трезвонит. Я думала, мелкота со двора набежала, а это вон кто! Ведь взрослые люди!» Она захлопнула дверь. «Слышимость в этих пятиэтажках роскошная», — буркнула я и попыталась язвительно улыбнуться, но не сумела: улыбка скривилась. Так. И что же мне делать? Ждать, когда Владька вернется из поликлиники? А кто сказал, что он сразу вернется? Укатит, скорее всего, на весь вечер. Я постояла в раздумье, потом пошла медленно вниз. Две копейки у меня оставались, и я решила позвонить Севе. С трудом найдя автомат, я аккуратно набрала номер. В трубке пищало. «Алло, — закричала я что было силы, — будьте добры, попросите Кирсанова!» Но в ответ зашипело, защелкало — связь прервалась. Выйдя из будки, я пошла в сторону остановки, потом вдруг повернулась, бегом добежала до дома Богданова и, взлетев вверх, вжала палец в знакомую кнопку: «Не боюсь теток с шумовками, пусть обругают. Что делать? Не возвращаться же мне без Владькиных чертежей!» Я долго звонила. Никто не вышел. Этажом выше плакал ребенок. Где-то бубнило радио, и, потеряв надежду, я стала неторопливо спускаться по лестнице.
На часах было без пяти пять. Я поняла, что в автобус не сяду. Контролер, шум, скандал. Закон подлости бдит, и вероятие, что меня уличат в безбилетном проезде, — огромно. Если идти пешком, путь займет часа два. Попросить у кого-нибудь пятачок?.. Девицу в куртке и с сумкой через плечо я все-таки пропустила, двух девочек лет по тринадцать я не решилась остановить и тут же дала себе слово: больше не пропускать никого. Высокий старик шел навстречу. Неторопливо, спокойно. «Простите, вы не могли бы… шептала я, репетируя. — Простите, так получилось…» Я быстро шагнула к нему — и онемела. Передо мной был Веденеев, вставший с кресла старик-Веденеев. Секунду мы простояли друг против друга. Потом, прошептав, вероятно беззвучно, «простите», я пошла дальше и уже спиной видела, как он улыбался одним углом рта и высоко поднял правую бровь. Остановиться? Догнать его? Заговорить? Но даже если я просто поверну голову, я все испорчу. Миф об Орфее и Эвридике. Ну нет уж, я этой страшной ошибки не повторю. Живой Веденеев! Какая огромная радость. Жалко, что этой радостью я ни с кем не могу поделиться. Никто не поймет, почему теперь ближе Роман, «сверкавший где-то вдали стоглавым собором, манивший к себе и звавший еще с тех пор, как впервые он вдруг случайно увидел его за Невой, и улыбнулся, вздохнул, отвернулся, но все не мог забыть, и, решившись (ах, Юнна, Юнна), бросился наугад и вслепую искать…»
Я вдруг поняла, как упорно работал он над Романом, выехав из витражного дома. Служба была ерундовой, он умудрялся не замечать ее. На службе он копил силы, а вечером и ночью писал. Но Роман двигался очень неровно, толчками, и иногда появлялись куски, отвечавшие замыслу, цельные, но потом сразу же все начинало крошиться, и башни, прямо и дерзко глядевшие в высоту, вдруг рушились в одночасье. И приходилось все делать заново, но и новое было обречено. То чувство целостности живого, которое в давний, с трудом вспоминаемый день Веденеев вдруг ощутил на площадке витражного дома, которое зрело в нем все то время, пока он жил, выздоравливая, в квартире у доктора, теперь, после бегства от Ифигении-Юнны, пропало бесследно; и в странный какой-то момент то ли прозрения, то ли самообмана, потеряв интерес ко всему, что копилось годами и называлось Собором-Романом, написал Веденеев рассказ «Сизиф» — единственное, что мог написать в том своем состоянии. И это был рассказ-вопль, заклинание, и, напечатав его, Александр Алексеевич смутно и неосознанно, но напряженно ждал отклика. А от кого и какого — не знал. В долгом томительном ожидании, как один скучный день, пролетела зима. А весной, теплым мартовским утром, он сел в трамвай и поехал к витражному дому. Поднялся, как во сне (может быть, что и впрямь вся поездка приснилась), по очень знакомой и все-таки сильно уже изменившейся лестнице и узнал от кого-то унылого, что никакой доктор здесь не живет и не жил, хотя табличка с нарядными буквами «Доктор Корсунский (Красаускас?)» была, как и раньше, над бронзовой ручкой звонка. «Куда же они уехали?» — думал, бредя по улице, Веденеев и, как бы ища ответ на этот вопрос, еще раз, лет через пять, поднялся на четвертый этаж — там было темно, — зажег спичку и прочитал четкое «Доктор Красаускас» (дверь в квартиру была заколочена). Так. И этот, второй, визит был, безусловно, реальностью. Да-да, он поднимался по лестнице, он убедился, что дверь заколочена, но в то же время он в глубине души понимал, что, может быть, это парадный ход заколочен, может быть, черный ход остался, и, может быть, Юнна и доктор живут по-прежнему в этой квартире, хотя, вероятнее всего, «уплотненные». От этой мысли он отмахнулся, она была неприятна и тяжела. Усталая, постаревшая, тусклая жизнь — нет, это было бы слишком чудовищно. И вот тогда в первый раз промелькнуло: а может быть, Юнна давно умерла? И странно, эта догадка сняла вдруг какое-то бремя с души. И он вернулся к работе. Немного позже написал цикл «Апокалипсис». Стихи погибли вместе с Романом во время блокады. Но о Романе он не жалел. Роман казался ему неудавшимся. Я вдруг с облегчением вздохнула, мне показалось, что я ухватилась за чью-то надежную крепкую руку. Только бы не обман, подумала я суеверно, но уже знала, что нет никакого обмана.
Журнал, в котором был напечатан «Сизиф», я вытащила из шкафа, когда искала книжку для Котьки (он слишком разбегался, был красный, мокрый, и надо было немедленно усадить его, успокоить). «Сказку, сейчас я найду тебе сказку…» И все-таки я успела прочесть полстранички рассказа, почувствовать, как озноб бежит по спине. «Ну, слушай, Костик, жил-был однажды…» Чья это вещь, интересно? Какой-то особенный, сильный и горький слог. И каждое слово — как шаг, и каждый шаг — все труднее… А дело происходило на дне рождения Котьки. Праздновали его в квартире Ольги Михайловны, по ее просьбе, разумеется. «Пять лет — это первый юбилей в жизни», — сказала она и собрала кучу людей (только взрослых); и груда подарков высилась, как гора, и Котька был страшно доволен, и принимал поздравления, а когда дядя Митя, брат Ольги Михайловны, лихо поставив его на стул, закричал трубно: «Ну, брат, пять лет — это не шутки, это событие, и ты теперь больше не маменькин тютя — мужчина!» — то принялся бегать, как сумасшедший, по комнате, в шляпе ковбоя и с пистолетами, палил из четырех стволов сразу и громко выкрикивал: «Бах! Я не маменькин! Бах-бах-бах! Я не маменькин!» — «А чей же ты? Папенькин?» Севка поймал Котьку и поднял над головой. Они оба смеялись, и я тогда в первый раз поняла, что они страшно похожи. Потом я неоднократно пыталась сообразить, существовал ли «мужской союз» до того дня рождения, и не могла дать ответа. «Сказку, еще одну сказку, про троллей!» — бушевал Котька. Он был все также в азарте. «Лучше, я думаю, уложить его спать», — сказала мне Ольга Михайловна. «Да, вероятно, вы правы». «А лучший подарок — пищалка, — говорил Котька. — И еще кот в сапогах, и еще бензовоз…» Он говорил сам с собой, сам все знал и вопросов не задавал, а я читала при слабеньком свете «Сизифа», и еще прежде, чем прочитала его до конца и увидела инициалы А. В., которыми он был подписан, я уже знала, что это рассказ — обо мне.
Когда-то, не помню, в связи с чем, я сказала Анюте: «Ты понимаешь, все в моей жизни „с чужого плеча“, не мое, ну и поэтому все идет прахом, как бы я ни старалась». Она изумилась: «Да как же ты можешь?» И я замолчала — не могла найти правильных слов… Какое-то время загадка А. В. занимала меня. Журнальчик на ломкой тонкой бумаге был без конца, без начала. Снова и снова читать «Сизифа» сделалось для меня наваждением, манией. Я знала его уже наизусть, но сила воздействия не слабела. Однажды я поняла, что А В. — Александр Алексеевич Веденеев. И тут же возник молодой человек в светло-сером костюме, откинул со лба прядь волос, осмотрелся. Потом кто-то с грохотом вытащил кресло и стукнул ножками об пол. В кресле сидел старик, тонкогубый, насмешливый. Руки, большие и белые, в сеточке вен, ровно лежали на мягком темно-коричневом пледе, а глаза были прикрыты, и сквозь прикрытые веки он неотрывно смотрел на бегущую вдалеке (на экране? на движущейся дорожке?) веселую девочку-девушку в красно-клетчатой юбке. Проследив этот взгляд Веденеева, я тоже стала прилежно ее рассматривать. Но рассмотреть ее было непросто. Она все время бежала, ежесекундно менялась, дразнила, смеялась, размахивала руками. Меня она знать не знала, не видела, не замечала, но в то же время притягивала к себе сильней и сильней. А так как, в отличие от Веденеева, я не была прикована к креслу, то в какой-то момент сорвалась вдруг и побежала вперед, побежала неловко, с одышкой, роняя предметы, толкая кого-то. «Ириночка, ты не блажи, — говорила Анюта. — Работай тихонько, и, если ты в самом деле права, через год-два у тебя будет книга. И перейдешь ты из инженеров в писатели, и никто тебе слова не скажет». Она улыбнулась лукаво, она меня очень любила, а я была перед ней виновата: мне было не рассказать так, как надо, о молодом Веденееве, о витражах. Подумав, я завела речь о невозможности совмещения жизни и мертвечины. «Хватит, — сказала Анюта. — Ты мелешь чушь. Постарайся, пожалуйста, думать о ком-нибудь, кроме себя. У тебя Сева и Котька». Она смотрела решительно, строго, также смотрела, наверно, на Кузьмина, грозившего лишить меня диссертации. Голос похож был на голос Юнниного Бурбона. Анюта встала, легким движением быстро поправила блузку и вышла. «Кажется, что-то вы начали понимать», — сказал Веденеев в тот вечер, и я расцвела вся, а потом скромно потупилась: «Я знаю, что мне будет трудно, но, кажется, я готова ко всем испытаниям». Видимо, я ожидала в ответ похвалу, но Веденеев только поморщился, чуть усмехнулся, махнул безнадежно рукой.
Войдя в квартиру, я сразу же поняла, что Сева и Костик дома. «А вот и отгадка, вот и отгадка», — радостно прыгал, размахивая руками, мой сын. Сева, нагруженный, вышел из комнаты: «Я тут собрал кое-что из вещей. Мы с Константином перебираемся на Потемкинскую». «Мы будем жить у бабушки Оли, мы будем жить у бабушки Оли, — пел Котька, очень довольный происходящим. — А ты к нам в гости придешь?» — спросил он меня. Я молчала. Это было так страшно, немыслимо, непоправимо. И было понятно, что именно этого я и боялась почти целый год. Боялась? Да, очень боялась, но не ждала. Я надеялась. Хотя на что, Господи, я надеялась? «Мама, конечно, придет к нам, как только станет немножко свободнее», — сказал Севка сухо. «И бабушка Оля испечет маме яблочный пирог?» — «Естественно. Ты одевайся, а то мы поздно приедем». Через минуту они уже были готовы. Кинуться Севке в ноги? Обнять? Плакать, молить до тех пор, пока он не отменит это свое чудовищное решение? Он добрый, он должен простить меня, он простит. Я сделала шаг вперед, но он сразу опередил меня. «Разве ты чем-нибудь недовольна? Именно к этому ты и стремилась. Ты умеешь добиваться своих целей». Лицо у него было твердое, но без упрямства. Хорошее, волевое лицо человека, который уверен в своей правоте. «Тебе повезло, он надежный», — сказала в какое-то давнее время Анюта. Мне, вероятно, действительно повезло. «Завтра я позвоню тебе. Ты будешь вечером дома?» — спросил меня Сева. «Ты без нас не скучай», — сказал Костик. Они двинулись к выходу. Котька — в коричневой куртке, в синей с помпонами шапочке, в синих рейтузах и в сапогах, которые год назад я купила ему в магазине «Андрюша». Захлопнулась дверь. Потом я услышала, как гудел увозящий их лифт. Я все стояла в передней. Руки вдруг стали дрожать, а потом я вся как-то странно задергалась. Надо бы сесть, догадалась я и прошла в кухню. «Р-р-р», — зарычал холодильник. «Вот мы и остались вдвоем», — сказала я ему очень спокойно и начала тихо плакать. Плач становился все больше похожим на завывание. Слушать его было дико и неприятно, и в то же время мне было отрадно, что я так плачу. «Не надо, это юродство», — сказал вдруг отчетливо чей-то голос. Кто это? Ольга Михайловна? Севка? Но ведь их нет здесь. «Попробуйте взять себя в руки», — сказал тот же голос, и я поняла, что со мной говорит Веденеев. «Да как вы можете, — крикнула я сквозь слезы. — Ведь это все вы — ваш „Сизиф“! Если бы я на него не наткнулась, я продолжала бы жить нормально. Нормально! Вы понимаете? Вы, вы во всем виноваты!» Я захлебнулась, упала на стол головой и мычала. Картинки мелькали перед глазами: Котька смеялся мне прямо в лицо и кричал: «Даже ездить в автобусе не умеет», Ольга Михайловна обнимала за плечи огромную тетку с шумовкой и говорила с интеллигентной улыбкой: «Вы правы, вы, к сожалению, правы», а рядом Анюта тянула ко мне чудовищно длинные руки, кричала: «Я спасу тебя, хочешь не хочешь, спасу». Где-то все это было. Наверное, у Булгакова. Что это? Литературные костыли? Я попыталась разумно все объяснить, разумное объяснение помогло бы, но мыслей не было и слов тоже не было. Какие-то сцены-видения в сполохах света ехали на меня, как по рельсам, а потом вдруг смешались в одно безобразно орущее шествие, и оно двинулось на меня, хохоча, угрожая. «Только бы не сойти с ума, — в страхе шептала я, — только бы не сойти с ума». Я крепко вцепилась руками в стол. Кухню качало вверх-вниз, вправо-влево. «И бортовая, и килевая, — стонала я. — Господи, помоги мне!» И постепенно грохот стал утихать, остались только шум ветра, рычание холодильника и мои всхлипы. Тогда я медленно подняла голову и сразу встретила очень спокойный сочувственный взгляд Веденеева. «Значит, вы еще здесь, — пробормотала я, плохо соображая, где я, что со мной. — Я безобразно реву, и я что-то кричала, но я попытаюсь сейчас успокоиться». «Ничего страшного, — мягко сказал он. — Поплачьте, вам станет легче». Его ответ удивил меня. «А вы впервые такой покладистый, добрый. Я вас сегодня на улице встретила. Правда». «На улице? — переспросил он, и его интерес был явным, неподдельным. — Если так, значит, я прожил отменно долгую жизнь. Мне это приятно. Парадоксально, но чуть ли не с детства мысли о старости занимали меня. Старость казалась загадочнее, чем смерть…» Он был спокоен, как олимпиец; он поднялся на вершину, с которой все видно, все ясно. С холма своей старости он с интересом, спокойно взирал на долину. «И все же, откуда в вас это самодовольство? — спросила я, вдруг почувствовав, что сейчас, в этот момент, я могу узнать главное, что момент этот нужно не упустить. — Александр Алексеевич, — голос окреп, стал жестким. — Вы прожили жизнь, но так и не написали Романа, не сделали ничего, от всего отказались, не совершали поступков, хотя и убили однажды любившую вас чудесную девочку. Почему вы так спокойны?.. Молчите? Скажите мне, объясните, я не позволю вам спрятаться в этом молчании. Что это значит? Вас попросту нет?» Я поняла вдруг, что два-три усилия, и я его уничтожу. Роман, судьба, нить — все окажется вымыслом, и я буду свободна. Свободна? — комком встало в горле. Тоскливая тишина застучала в висках. Но Веденеев заговорил вдруг, и ножик с головой льва постукивал в такт словам, убеждая. «Я прожил свою жизнь, — сказал Веденеев с напором. — И это, наверное, главное. Ну а Роман? Что же, Роман написан… Хороший, даже прекрасный Роман об абсурде, о долге, о Мастере… Роман написан. Он строился, как вы знаете, долго. Горел. Кто знает, сумел бы ли он без меня состояться… — Он смотрел прямо перед собой, приподняв правую бровь, как будто чуть удивляясь и даже не веря себе. Вольтеровская улыбка не покидала лица. — Не нужно было вам этого говорить. Вы сами должны были догадаться. Но вам очень трудно, и вы так просили о помощи, что я не смог промолчать». Он продолжал улыбаться, он смотрел ласково и с состраданием. «Но это слишком жестоко, — сказала я, — я не знаю, кто мог так жестоко распорядиться?» «Собор не строится в одиночку», — ответил мне голос, и у меня все заныло в душе. Я вдруг увидела Город, каким он был в юности Веденеева: пустой, светлый, гулкий… Синие воды Невы и высокое синее небо. Казалось, что Город мог поместиться весь на ладони. Он был неживой и прекрасный. Я осторожно вздохнула, и в тот же момент появились какие-то признаки жизни. И город начал расти, а жизнь стала густеть, суетиться, и понеслась беспорядочным, говорливым потоком, и охватила уже и меня, потащила куда-то напористо, шумно. «Знать бы еще куда?» — вслух спросила я и услышала смех. Нет, Веденеев не мог так смеяться. Смех был заразительный, звонкий, счастливый. Котька? Я покрутила отчаянно головой. Но Котьки не было видно. Девушка в красно-клетчатой юбке бежала ко мне, раздвигая цветущие ветки. С каждой секундой она приближалась, и я могла уже видеть веселый смеющийся рот, и глаза, окруженные щеткой ресниц, и родинку над губой, похожую почему-то на пятнышко шоколада. «Она жива, — крикнула я. — Александр Алексеевич, посмотрите, она, безусловно, жива. Александр Алексеевич! Слышите?» Но Веденеева не было в кухне. Тикали озабоченно-громко часы, и полусонно рычал холодильник.
Полеты и проводы
Двадцать четвертого октября, в мой день рожденья, всегда играли во что-нибудь глупое. Сначала — лет до шестнадцати — во взрывчатку. Все приносили с собой что-нибудь, что трещало, хлопало, хлюпало, и незаметно подкладывали друг другу на стулья или в карманы. Если кого-нибудь удавалось схватить во время попытки подложить «порох», на пойманного немедленно накладывали штраф. По части штрафов все были изобретательны. Штрафы придумывались со сладострастием, заранее.
Потом появилась другая игра: «найти бутылку». На стол не выставлялось ни одной — все были тщательно запрятаны. Искали по очереди, очередь устанавливалась считалочкой. Каждый пришедший имел свою, собственного сочинения, неплохо рифмованную. Наверное, так трансформировался в нас всеобщий бум поэзии.
Одна из считалок, Алешина, сделалась чем-то вроде гимна. И ее знали уже не только в нашей компании. Как-то раз в электричке я слышал, как ее пели, аккомпанируя на гитаре, какие-то не похожие на нас типы. Тошно было. Алеша в то время уже погиб.
Ну а теперь, здесь, когда в одном городе собралась добрая половина нашей старой компании, да еще увеличилась за счет тех, кто хотел к нам когда-то примкнуть, да не успел, не сумел, постеснялся, мы снова играем двадцать четвертого октября в игру, которая, может быть, и нелепа среди людей, которым за тридцать, а если быть точными, даже и к сорока, но увлекает всех чуть ли не больше, чем в давние времена взрывчатка и поиск заветных бутылок. В прошлом году, в разгар споров о назначении штрафа, я вдруг вспомнил, как мы впервые наткнулись на этот вид развлечения: в девятом классе, когда заболел математик и у нас был «свободный урок», кто-то предложил пофантазировать на тему «Куда ты пойдешь, впервые приехав в Париж». Мы все тогда только что прочитали «Праздник, который всегда с тобой». Названия улиц и площадей Парижа манили нас и пьянили.
— …Театральная площадь, площадь Труда, Шестая линия…
— Штраф.
— Это еще почему?
— Ты пропустил остановку.
— Не может быть. Ты что-то прослушал…
— Не спорить. Вторая попытка.
— Ланская, Удельная, Озерки, Шувалово, Левашово…
— Штраф.
— Он разорится сегодня.
— Ладно, еще один шанс: троллейбус номер один. От Александро-Невской до площади Льва Толстого…
Вечерний, почти пустой, может быть, и последний. Водитель-педант, и объявляет все остановки, хотя двери приоткрывает на долю секунды. Торопится. Невский пустой. Лишь далеко впереди неторопливым жуком ползет синий троллейбус. Это «пятерка», и, сверкнув искрами от проводов, она неспешно уходит налево, по улице Гоголя, про которую я никогда не запомню, была она просто Морской, или Большой Морской, или Малой. Она-таки стала улицей Гоголя и отличается этим от близлежащей Гороховой, накрепко зацепившейся за свое, в общем, случайное имя. «Адмиралтейский проспект». В дверь успевает прорваться запах цветущих каштанов. Ангел с тяжелым крестом парит над площадью, не замечая всех нас. Троллейбус приостанавливается на секунду у Эрмитажного сквера, а потом плавно въезжает на мост, и нам навстречу сверкает великолепие линий, форм, красок. Музыка! Я попрошу вас, маэстро!..
Мы едем домой от Витальки Сабанцева, у которого только что прошумели и прокричали весь вечер. Мы едем домой.
…Пушкинская площадь, проспект Добролюбова, Пионерская, Ленина…
— Штраф.
— Ты с ума сошел. Я же три года прожил на Кировском.
— И все-таки штраф…
Дождь шел в тот вечер. И было отчаянно холодно. Выскочив из метро, я почти сразу промокла, на остановке автобуса не было ни души. Вероятно, он только что отошел. Ждать, стоя под этим страшным дождем, не хотелось. Зонтика не было. Две остановки. Я лучше пройду эти две остановки пешком. Я быстро пошла вдоль проспекта. Лужи были какие-то очень глубокие. Холодно, холодно. Как мне хотелось скорее домой! Тех двух парней я даже не видела, от дождя я ослепла, да и темно уже было.
«Девушка!» — крикнул вдруг кто-то над самым ухом, и я увидела прямо перед собой мерзейшую харю. Он весь из студня, подумала я и содрогнулась от отвращения. Расставив руки, Студень дышал мне в лицо и бессмысленно улыбался. «А вот мы ее и поймали!» — сказал кто-то сзади меня. Я закричала — крик вырвался прежде, чем я смогла что-то понять. Парень, который загородил мне дорогу, детски и радостно засмеялся. Да он идиот, ненормальный, вдруг поняла я, и это мне показалось страшнее всего. Тот, кто был сзади, обхватил меня, крепко сдавил грудь руками. Студень смеялся все громче и радостнее. Я закричала еще раз, рванулась и побежала. Но мне удалось пробежать всего несколько метров. Споткнувшись, я плюхнулась в лужу. Дождь барабанил с удвоенной силой, но теперь, когда я бежала, он не хлестал меня, а укрывал, защищал. С трудом поднявшись, я пошла, чуть прихрамывая. Ногу я подвернула, но, вероятно, не страшно. Я понимала уже, что смогу дойти до дому. Дома я отогреюсь и успокоюсь, дома забудется Студень с его кретинской ухмылкой и эти мерзкие прикосновения. Я продолжала идти по лужам, боль в ноге становилась слабее. По лестнице я поднялась почти без труда.
Дом.
В прихожей было темно.
Я повернула выключатель: все двери закрыты. Тихо. Дремлют плащи на вешалке, сонной лягушкой сидит на полочке телефон, бегемот улыбается мне с картинки календаря. «Сейчас все будет в порядке, — говорю я себе, снимая мокрые туфли, — сейчас все будет в порядке, я дома». И в этот момент раздается звонок, резкий и раздраженный звонок несется из брюха только что спавшей лягушки. В комнате с грохотом отодвигается стул, и почти в ту же секунду Мишка оказывается у аппарата. Его взгляд с удивлением останавливается на мне: «Я не слышал, как ты вошла. Очень промокла?» Я пожимаю плечами. «Игорь?» — говорит Мишка, говорит, в общем, негромко, но все равно голос заполняет все уголки. Мишка вообще умеет «заполнить собой пространство». Даже тогда, когда в комнате, скажем, уйма народа и кто-нибудь говорит, а он просто слушает. «Да, все в порядке, — отвечает он в трубку, — нет, не могу. Инна пришла. Да, только что». Я надеваю теплый халат, сушу волосы полотенцем. Нога не распухла. Все хорошо. Сейчас я выпью горячего чаю, и все будет просто отлично.
— Темка заснул нормально? Не кашлял?
— Нет. Сядь. Я был сегодня в ОВИРе. Я сдал документы.
Лицо Студня всплывает передо мной. Выражение глаз неожиданно стало осмысленным: «Ну что, птичка в клетке?» «Нет, — говорю я, — нет, невозможно». Я ничего не вижу, не чувствую, не понимаю, где я. Мишка трясет меня: «Ты, значит, считала, что я передумаю? Ты продолжала надеяться?» Я молчу. Я просто не знаю, что мне ответить. Он наливает мне чай. Я слышу, как часы тикают у него на руке. Я прижимаюсь к руке щекой, я не верю. «Инна, — говорит Мишка, — нельзя было больше тянуть. Полгода, о которых ты попросила, кончились позавчера». Он смотрит на меня очень ласково. Так он смотрел иногда, когда я ждала Темку, и потом, позже, когда я болела. «Все будет отлично, — говорит он. — Ты только не трусь». А я не трушу я просто плохо соображаю. Я знаю одно: что он здесь еще, он еще здесь, и я могу гладить и целовать этот шрам у запястья, и эту родинку. Эту. И эту, и эту. И все мои. Весь он мой, и я его никому не отдам. Обниму и не выпущу. Просто не выпущу, потому что нельзя, невозможно, немыслимо, чтобы его от меня оторвали. Ведь если это случится, то что-то сдвинется, что-то пойдет вкривь и вкось. Не придет лето. Зимой не выпадет снег. И потом Темка. Темка, который с таким восторгом смотрит всегда на отца. На кого он так будет смотреть? На меня?
— …Дом будет на берегу океана. Полоса пляжа тянется далеко — сколько хватает глаз. Птицы кричат. Нам весь мир открыт. Помнишь, ты говорила, как страшно при мысли, что проживешь долго-долго и никогда не увидишь Южной Америки. Помнишь, ты говорила, что тебе снятся названия… Буэнос-Айрес, Монтевидео, Ла-Плата? Все это сбудется. И Париж тоже будет твоим. Мы поселимся где-нибудь в старом квартале, неподалеку от Люксембургского сада. Мы проживем в Париже полгода: с ранней весны и до осени. А потом мы поедем в Испанию. И если ты не захочешь, то не пойдем смотреть бой быков. А просто разыщем места, которые знаем по Хэму. А если Испания будет жаркой, и пыльной, и скучной, то мы отправимся в Скандинавию. Думаю, что от Мадрида до Копенгагена не больше пяти часов лета, и все там будет покрыто хрустящим сияющим снегом. Ну, что ты скажешь на это?
— Что Копенгаген чересчур близко от Ленинграда.
Обо всем этом мы говорили не раз, и сегодня уже не хочется разговоров. Все сказано, двадцать раз сказано, я люблю тебя, и сегодня ты еще здесь. А остальное не имеет значения.
Там мостик. Чтобы увидеть зал, в котором они ждут отлета, надо смотреть вниз и влево. Видно отлично, как в театре из первого ряда балкона. И даже иначе. Видно настолько отчетливо, что кажется, будто стеклянные стены наделены способностью укрупнять. Или что в зале горит сразу сотня прожекторов. И все-таки Мишку я разглядела не сразу. Странно, но мне было как-то не сконцентрироваться на поиске. Мне стало вдруг интересно разглядеть все. Их было так много, они были разные, в основном очень нарядные и элегантные. Я поняла, что, может быть, никогда прежде не видела сразу столько прекрасных людей. И умных глаз, и свежих и бодрых лиц, непринужденной жестикуляции. Это меня поразило, ведь только что, перед контролем, я всех их видела, и впечатление было иным. Отчего? Оттого что они освободились от нас? «Инна, пойдем, не надо тебе стоять здесь». Верный Малахов попытался взять меня под руку, но я увернулась и, кажется, даже толкнула его, и надо было, наверное, извиниться, но все это было неважно, я не хотела с ним разговаривать. Как в театре во время действия. Всем существом я была там, на сцене, там было тепло и красиво, и бегали дети, сплетая и расплетая узор какой-то игры. Я попыталась понять, каковы ее правила, но не сумела. Руководил всем очень крепкий светловолосый спортивный мальчик. Ему, наверное, было лет восемь, и ему явно нравилась девочка с челкой, в клетчатой юбке, в красных колготках. Как хорошо они смотрятся вместе! А лет через десять?.. Сзади меня теснили. Прижавшись боком к барьеру, я наконец-то увидела Мишку. Он сидел, положив ногу на ногу, и, чуть покачивая головой, слушал, что говорит ему очень в себе уверенный, очень красивый, очень породистый пожилой человек. Тот говорил весомо, неторопливо, но увлеченно, рот его часто растягивался в улыбке, и я отчетливо видела крупные и желтоватые зубы. Лингвист, определила я вдруг профессию человека, который рассказывал что-то моему мужу, который уже перестал быть мне мужем. Когда перестал? «Инна, пойдем, тебе нужно погреться, ждать еще долго». — «Я не замерзла. Меня сибирские белки хорошо греют. И здесь же самое интересное». — «Ну тогда хоть хлебни». Это можно. Только не глядя, чтобы не отрывать глаз оттуда, не пропустить ни секунды из тех двух часов, во время которых мне еще разрешается видеть. Да, ни секунды. А там все непрерывно меняется. Вот теперь Мишка с лингвистом смеются. Над чем смеются? Дурацкий какой-нибудь анекдот? Нет-нет, быть не может. Другое. Но что? Не узнать. Рядом с лингвистом я замечаю вдруг женщину. Лет двадцать восемь, может быть, тридцать. Дочь? Зеленый свитер с белой отделкой, идущей по рукавам и плечам. Красивый свитер, и сама красивая. Странно, как она раньше не попала в мое поле зрения. Настоящий египетский профиль. Лицо почему-то очень знакомое. Мы где-то встречались. Где? Пытаюсь сосредоточиться, но в этот момент отсмеявшийся Мишка тоже вдруг поворачивает голову и смотрит прямо на меня. Какое между нами расстояние? Сто метров? Триста? Никогда не умела определять это на глаз. Он смотрит, но он не видит меня. Актеры на сцене не могут различать лица людей, сидящих в зале. Он смотрит в упор, а я даже не понимаю, видит ли он наш мостик и нас — жалкую кучку сбившихся вместе пальто. Я перехватываю его взгляд, и нить протягивается между нами. Она проходит через аквариумное стекло, от тех оживленных и элегантных людей, которые ждут путешествия, к нам, мерзнущим на ветру. Нить натянулась, звенит, и я чувствую, как бегут по ней токи упрека и раздражения.
* * *
— Не можешь? — говорил он. — Не можешь. Скажи, а что ты могла бы? Ну, скажем, уехать в Новосибирск или хотя бы в Дубну? Могла бы? А как же? А Медный всадник? А папа с мамой? А воздух? А дождь? Тебе ведь все это необходимо. Не мучить тебя? Но кто кого мучает? Ведь то, что ты делаешь, — это шантаж. Тебя бросают? Тю-тю. Бросаешь ты. Бесстыдно и мерзко. Ты говоришь: если не будешь жить так, как велит моя мама, там, где велит моя мама, с теми, с кем велит моя мама, то никогда не увидишь меня и Темку. Так? Разве не так? Ну, отвечай же мне, Инна? Слезами отделаться легче всего, ты хочешь добиться слезами, чтобы все было так, как хочется твоей маме и тебе, соответственно, тоже. Вам хочется, чтобы я был ручной. Не может этого быть, пойми. И слушай. Если бы я был на десять лет старше, если бы у меня была язва желудка, ты, может быть, и добилась бы от меня того, что тебе нужно. Но я здоров и силен как бык, и у меня достаточно сил, чтобы прожить свою жизнь, а не тащиться по колее, вздыхая о молодости. Ты поняла?
Как страшно все это было! И временами ненависть поднималась во мне. И била фонтаном, густым и черным, похожим, наверно, на нефтяной. Казалось, Мишка уничтожал, ломал меня. И он в самом деле был очень сильным. Эта сила пугала и раздражала меня. Однажды вечером я вытащила из кладовки раскладушку, принесла в Темкину комнату и застелила. Мишка вошел, посмотрел на меня, в комок сжавшуюся под одеялом, сказал устало: «Что ж, это логично», и вышел, закрыв за собой аккуратно дверь, а я вдруг вспомнила день, когда впервые был поднят вопрос о квартире, и снова услышала, как он сказал тогда: «Я понимаю, у меня нет возражений». И вышел так же спокойно и так же устало. Фиктивный развод. Господи, ну и что тут такого? Мне все казалось тогда очень ясным и очень простым, я даже не понимала, почему отец нервничал, тщательно подбирал слова, говорил долго, сумбурно, витиевато, хотя суть дела была очевидна: нам представлялась возможность построить квартиру, для этого нужно было проделать кое-какие формальности. И мне казалось, что Мишка тоже наконец это понял, и тогда все пошло очень гладко, наступил мир. И я запрещала себе понимать, что все шло по маслу оттого только, что, приняв все условия, Мишка одновременно от всего отступился и стал далеким, недосягаемым. Эту недосягаемость я ощущала, и она меня удивляла, потом начала раздражать, и иногда я взрывалась, и, может быть, эти взрывы подготовили почву тому грандиознейшему скандалу, ведь раньше у нас скандалов никогда не было, и мы этим очень гордились, а тут случился скандал, настоящий и безобразный, и безобразно смотрелись, естественно, все. И все-таки Мишка, да, Мишка сохранял какую-то каплю достоинства и какую-то верность себе, а мы все кричали такое, чего никогда не смогли бы произнести в обычном своем состоянии, и было страшно от мысли, что, значит, по-настоящему, в глубине, в тайне, мы живем с этим диким, помоечным отношением к миру. А с чего все началось? Мама, вернувшись с работы на два часа раньше обычного, застала Мишку на кухне сидящим на столе в трусах. Рядом с ним стоял громко орущий транзистор, а он жевал бутерброд и запивал его, прямо из горлышка, «Цинандали». «Вы не были на работе сегодня?» — спросила его удивленная мама. «Нет», — сказал Мишка и, приложившись снова к бутылке, допил до дна. После чего, извинившись, что он слегка не одет, слез со стола и пошел прочь из кухни. Но мама была уже в состоянии, близком к истерике. Через час Мишка позвонил мне на дачу, и я примчалась, оставив Темку Марине, по счастью у нас гостившей. Предположение «у него была женщина» было отвергнуто, в общем-то, сразу, но легче не сделалось. «Молодой человек, мы вас впустили в свой дом…» Вот после этого Мишка и перестал выбирать выражения, но и родители как-то забыли о том, что «мы люди интеллигентные». Когда было выкрикнуто «нахлебник, альфонс, вы представляете хоть, во сколько обходится вас содержать», это уже и по мне, и я была внутренне на стороне Мишки, когда он сказал: «Что ж, Григорий Борисович, если я задолжал вам, то, будьте добры, предъявите мне счет, я со временем заплачу», а потом, сдернув с себя французскую майку, которую мама недавно купила ему в сертификатном магазине, швырнул ее на пол: «На это вы тоже потратились. Но я почти не носил ее, и, постаравшись, вы можете полностью возвратить себе деньги». Мама хватала ртом воздух, Мишка навис над ней как гора. «Ты хоть понимаешь, что делаешь, ведь они старики, — крикнула я в исступлении, и меня понесло: — Все вы сволочи! Всех ненавижу, всех, всех!» Мама заплакала, громко, со всхлипами, и, опустив голову, быстро пошла к себе в комнату, отец — за ней, на ходу доставая таблетки, хватаясь рукой за грудь. Мы с Мишкой стояли друг против друга, и я понимала: сейчас он уйдет. Жизнь без него прокрутилась перед глазами. Мы все еще так и стояли посреди кухни, когда мама вошла с дрожащим лицом, сказала мне — Мишки как будто и не было: «Если с отцом сейчас что-то случится, то виновата во всем будешь ты, только ты». Мишка подошел к крану, налил воды в стакан, протянул ей. «Спасибо», — сказала мама почти машинально. И, как ни странно, эта история прошла почти без следа. Что-то непоправимое произошло уже раньше, что-то пока стояло на очереди. А мы жили. В четком устоявшемся ритме, но я все напряженней ждала момента, когда готова будет квартира, когда мы наконец переедем, когда у Мишки, у Темки и у меня будет свой дом и мы будем в нем жить припеваючи. Иногда ожиданье казалось растянутым, как резинка, и становилось тоскливо, но я не давала себе раскисать. План нашей квартиры был вычерчен у меня на картоне, и, когда падало настроение, я доставала его украдкой из ящика и развлекалась, переставляя и так и этак вырезанную из ватмана мебель. И еще снова и снова считала недели, дни… А переехали мы в канун дня рождения Темки. И, боже, какой это был день рождения! «Довольна? — спрашивал Мишка. — Счастлива? Все хорошо?» И я кивала, и только на третьем кивке поняла, что все это — с иронией и с подвохом. Я посмотрела на Мишку внимательно. У меня в голове все плыло. От вина, от усталости, от впечатлений. Его лицо надо мной было очень красивым, и скорбным, и нежным. У меня сердце ударило дважды «тук-тук» и закатилось куда-то от страха, от восхищения. «А я ведь все тот же альфонс, — сказал он, и мне показалось: все это мне снится. — Твой папа прав. Я приживальщик, альфонс. Сейчас еще больше, чем раньше». «О чем ты?» Мне показалось, что он не слышит себя, но он отчетливо слышал. «Я поселился в квартире, купленной и обставленной твоим папой, и в день рождения сына я угощаю друзей коньяком, приобретенным на средства, почерпнутые все из того же источника». — «Но ты же не виноват, что защиту откладывают по идиотским причинам!» «Ты знаешь, — сказал он, — я подсчитал. Банкет, который будет устроен в связи с защитой, когда она наконец состоится, выльется рублей в триста — четыреста, то есть в ту сумму, которую я своей кандидатской надбавкой едва ли высижу за год, а там придет пора праздновать что-то еще: например, юбилей нашей свадьбы». — «Но ведь мы можем ничего этого не устраивать». Он улыбнулся углами губ: «Нет, моя киса, не можем». И тут мне стало обидно до слез: «Как ты умеешь все вывернуть наизнанку! Ведь было так хорошо!» Он внимательно посмотрел на меня: «Прости, Инка, — сказал он. — Прости, все и вправду отлично».
Через год он защитился, и банкет был в «Прибалтийской» — ее тогда только открыли. «Ну хорошо, — говорила я раздраженно, — но почему, ты считаешь, отец не может помочь своей дочке?» — «Помочь? Разве с дочкой случилась беда? Дочь замужем за неглупым и не лишенным способностей человеком, которому вскорости стукнет тридцать. Странно, когда приходится помогать этой дочери». — «Прекрасно. — Я была уже агрессивной. — И какой выход ты видишь?» — «Один, к сожалению, только один». И я поняла, я сразу же поняла, о чем речь, хотя раньше мы это уже обсуждали, и «за» было меньше, чем «против», и Мишка говорил это ребятам, а после отъезда умницы и блестящего теоретика Алика Разумовского сказал мне задумчиво: «Знаешь, я не уверен, что он сделал правильный выбор» — и меня эти слова успокоили, я за них спряталась, уговорила себя, что мы с Мишкой решение приняли, и у нас все спокойно, мы прочно на якоре. И вот теперь одной фразой он выбил почву у меня из-под ног, и было уже не спрятаться, не спастись.
Лавина катилась. Все паковались — и справа и слева. «Вы когда?» — «Через месяц». — «А вы?» — «Мы только еще подаем». — «Руткины? Боже мой, да они уже в Филадельфии, слушают знаменитый филадельфийский оркестр». — «Да… Филадельфия — город прекрасный. Вы знаете, мне показалось, когда я был на конгрессе, что он похож чем-то на Ленинград». — «Вот как? Это, пожалуй, перебор». — «Ну, тогда западный берег, Сиэтл». Со смехом и трепом там, где еще не стоят чемоданы. С надрывом или с преувеличенной деловитостью там, где вовсю идут сборы. «Инка, послушай, мне уезжать хочется так же, как умирать». — «Но ты ведь сама, сама все заварила». — «Сама. И, ты знаешь, я думала утром, что, если бы все сначала, все было бы так же». Выходя из дому, я осторожно оглядывалась: дома-то на месте? Однажды вдруг не увидела купола Исаакия там, где он должен был быть. Не удивилась. И только через секунду поняла, что туман стоит и что в этом все дело. А вечером Темка меня попросил, чтобы я ему почитала. Новую книжку, которую принесла ему бабушка. «Страшный песчаный вихрь поднял вдруг домик Элли, и он помчался, крутясь, неизвестно куда». «Волков! — насмешливо сказал Мишка. — Он содрал все, от начала и до конца, с американца… Забыл сейчас его имя». Но так нельзя, думала я, мне всюду чудятся символы. Знаки, как на пиру Валтасара. Такие же непонятные… А потом заболела Мишкина мама. Страшно и тяжело. И я поняла, что получила отсрочку, и пошла в церковь, поставила свечку, рублевую, толстую. «Черненькая, а молится», — сказал старушечий голос, когда я отходила. Мне показалось, она говорит с одобрением, и я обернулась зачем-то. Старуха смотрела насмешливо и с неприязнью. Я вышла, перекрестившись еще раз. Уже на улице сообразила, что крест клала по-католически — слева направо.
Женщина в зеленом свитере смотрит на Мишку уже с интересом. Глаза блестят, и вся она изменилась. Как будто в ней кошка проснулась. Жмурится, выгибается, пробует когти. Кем ей суждено стать для Мишки? Спутницей в самолете? Женой? Не чувствую ничего. Ревности нет. Это точно. Может быть, и меня нет? Может быть, все-таки я улетаю с ним, а это тело на мостике — не мое? Мое. И скоро ему станет больно. Через несколько дней, может быть, раньше, а может быть, позже. Но сейчас главное — любопытство. Мне интересно, я должна все увидеть. Но как же могло случиться, что, такая любопытная, я отказалась от всего нового и выбрала мостик, а не прекрасную Вену, которую Мишка увидит уже так скоро? Вена и сказки Венского леса. Ах, эта Вена! На нее можно, наверно, взглянуть, она промелькнет, как на пленке, но ты никогда ее не почувствуешь. Это не твой мир, твой мир — это мостик. Стоя на мостике, ты смотришь фильм. Красивый, почти что в стиле Лелюша. Вот к Мишке, лингвисту и женщине в свитере подошел молодой человек, стройный, в вельветовом пиджаке. Я узнаю его, хотя раньше он был в дубленке. Теперь дубленка брошена где-то на кресло. В том вестибюле, куда всех пускали, этот молодой человек прощался с родителями. Как я могла это видеть? Ведь я смотрела на Мишку. Но мне все, все нужно было увидеть, было нельзя не увидеть. Так ли смотрела бы я на все в день его похорон?.. «Инка, мне уезжать хочется так же, как умирать». А теперь она шлет вполне бодрые письма. Как бы хотелось поговорить с ней. Хоть раз. Когда-то мы очень много писали друг другу. Летом, во время каникул. И письма соединяли. Из писем все можно было понять. И то, что за строчкой, и то, что между строками. А теперь — ничего. «Инка, мне уезжать…» Но как хорошо они смотрятся. Отлично сгруппировались. Кадр. Еще кадр. Прямо хоть на обложку журнала. А если бы я была с ними? В синем брючном костюме я тоже смотрелась бы очень неплохо. Рядом с вельветовым пиджаком? Или, наоборот, рядом с Мишкой? Не получается.
— Я не могу, я честно пыталась, но не могу себя там представить. Не верю, что я могу по правде там жить…
Когда я попросила полгода отсрочки, Мишка сказал «хорошо», но лицо постарело и стало очень усталым. Со мной в эти полгода он был очень нежен, и мы могли разговаривать обо всем. «Ты понимаешь, — сказала я как-то, — меня нередко мучает мысль, что я говорю свое „нет“ просто так, в злобном упрямстве. Я понимаю: разумных логических объяснений мне не набрать. А у тебя их избыток Может быть, этот избыток как раз и мешает. В твои доводы входят и доводы Венечки Ласкина. Венечке мало того, что есть здесь. Он подсчитал, что там будет иметь раз в пять больше. А я боюсь, что мне там не пойдет кусок в горло. Меня будет мутить от этого изобилия. И я просто умру там голодной смертью, и ты станешь убийцей, а этого я не могу допустить». Мишка не отвечал мне, а только гладил тихонько по голове. Я понимала, как много бредятины в том, что я говорю, но все же эта бредятина была мне понятней, чем все остальное. Однажды я положила перед ним черный томик «Мне голос был…» — прочитал он неспешно, нейтрально. Потом сказал: «Не то время, Инна, не та эпоха. Я помню, как мы говорили об этом. В последний раз — у Витальки. Когда? Года три назад? Эпоха Анны Андреевны к нам отношения не имеет. Когда-то стоицизм, геройство, а когда-то глупость».
Время на мостике. Кажется, что я стою здесь всю жизнь. И вдруг: движение там, за стеклянными стенами. В один миг распадаются группы. Дети бегут на зов взрослых. Еще одна перестройка. Кто-то внутри командует происходящим. Два пограничника с ружьями у стеклянных дверей, два — у автобуса, подрулившего к месту посадки. Первым выходит человек в темном плаще, лысый, с головой как яйцо. Предъявив документы, он четко, почти печатая шаг, идет к автобусу — два пограничника ждут, — потом останавливается на секунду и поднимает руки, приветствуя мостик. «Ура!» — кричит чей-то голос. Может быть, мне померещилось? Нет, вот снова «ура», слабое, относимое в сторону ветром, а лысый уже у автобуса, и «на дорожке» его сменяет смешная, гротескная пара. Наверно, обоим за шестьдесят, они в одинаковых меховых шапках и очень похожи на близнецов. За ними — пара другого рода. Ну, наконец-то понятно, что это напоминает: балетное шествие. Двое появившиеся сейчас на просцениуме движутся просто великолепно. Реакция мостика закономерна: шум, оживление, возгласы: «Эй! Гей! Гарвард на обе лопатки!» Они внизу медлят и машут руками, красиво и слаженно, и снежинки танцуют вокруг их голов. Хочется посмотреть, как они будут садиться в автобус, но их теснит новый выход: папа и мама и толстая девочка лет десяти. Они идут неуверенно, будто поддерживая друг друга. У мамы на голове безобразная шляпа из фетра. Малиновая, в цвет пальто. А снег вдруг обрушивается на землю и все закрывает. Метель? Но внизу движется все без задержки. Как они умудряются проверять документы? Как они узнают, кто сейчас перед ними? Я этого не пони-ма-ю!.. Я крепко вцепилась в решетку. Мостик вдруг поднялся и полетел. Все опрокинулось, все смешалось, но снег внезапно иссяк, и я увидела, как идет по дорожке (по космонавтской дорожке?) красавица — египтянка, лингвистка или кто она там. Она шла одна. И легко несла голову. Красивую, гордую голову с плотно прижатыми к черепу маленькими изящными ушками. Она была храброй, она была сильной, и мне стало больно смотреть на нее, и я поскорей отвернулась, зажмурилась и сразу увидела ту семью, выходившую из дверей зала. Женщина была среднего роста, в беличьей шубке, рядом с ней шел высокий мужчина в расстегнутой куртке (заставить Мишку надеть пальто всегда было делом немыслимым) и держал за руку мальчика, весело и с любопытством блестевшего из-под шапки глазами. Что это было — галлюцинация?
— Инночка, расскажите мне, сколько ваш Тема проводит времени за уроками?
— Не знаю, Марья Семенна… по-разному.
— Но как же так? Он ведь в пятом?
— Да, в пятом.
Нас семеро в комнате. За исключением зануды Марьи Семенны, все бабы свойские. И жить, в общем, можно. Главный плюс нашей конторы — режим. Два дня в неделю работаем дома. Собственно, в эти-то дни и работаем. В издательстве в основном треп, перекуры и отовариванье, конечно. Как я попала сюда? По протекции Люды, моей давней школьной подружки. Зачем? Хотелось после отъезда Мишки переменить обстановку. Сменила и не жалею — место не хуже прежнего. Похоже, что я здесь осела уже до конца. И перспектива меня не пугает. «Сегодня двадцать четвертое?» — спрашивает Аня. У нее лучший стол. В самом теплом и светлом углу. «Двадцать четвертое», — отвечает Людмила. Странно, как я могла не заметить его приближения? А он наступил уже, Мишкин день. Отодвигаю журнал, встаю и иду в кабинет к Топорову. «Владимир Сергеевич, мне очень нужно уйти…» Предлога искать не хочется, врать — врать тем более. Он терпеливо ждет объяснений. Потом говорит очень веско: «Что ж, если нужно… пожалуйста». И я выхожу, а он смотрит мне вслед удивленно, но почти сразу же обо мне забывает.
От повторений острота восприятия все же стирается. В первый раз я прошла этим путем ровно пять лет назад. И было это, в общем, случайно; просто я среди дня вдруг оказалась у здания своей школы и постояла минутку, поулыбалась той девочке, знавшей-все-лучше-всех, а от школы пошла к дому Саши Еремина. Он жил с матерью в коммунальной квартире, но комната была очень большая, поэтому спорить, читать стихи, просто балдеть чаще всего собирались именно там. Там я и познакомилась с Мишкой, и мы стали ходить уже всюду вместе, и вместе попали в квартиру Альберта Степановича, а от него — в мастерскую Алеши Касаткина. С Касаткиным, Таней, Аликом Разумовским и Галей мы потом ездили «по Руси», а через два года Касаткин женился на Фире. «В отъезд собрался?» — прокомментировал эту женитьбу Альберт Степанович. Но до отъезда был еще год, и я успела сдружиться с Фирой и изреветься на их отвальной. Ну а потом отвальные шли уже косяком, и на каких-то я была даже веселой, и все же ни разу не ездила в аэропорт. Не могла, не хотела, боялась накликать беду. Касаткин. От дома, где была мастерская Касаткина, надо пройти до дома родителей Мишки. Моя свекровь Софья Ильинична болела ровно полтора года, и все это время я ставила Богу свечки, молила, чтобы он продлил ей жизнь. Как-то раз Мила Бинкина отвела меня в синагогу — до этого я робела, я никогда не была там, а вместе с Милой пошла и потом приходила уже одна: все с той же молитвой. За три дня до смерти Софья Ильинична позвала меня: «Береги Мишу, — сказала она. — Он из тех сильных мужчин, которым необходима опора. Ты поняла меня? Поняла?» Она смотрела, как смотрит, наверно, гипнотизер. И мне очень хотелось, чтобы она смогла убедить меня… А что потом было? Да, потом я боролась за то, чтобы стать опорой. Но разве за это можно бороться?
От дома Софьи Ильиничны я иду к своему. Сюда я когда-то въезжала шальной от счастья, забывшей про все на свете. Скорее, скорее, скорее, ведь завтра гости, ведь Темке три года… Я стою, прислонившись к стене. Смотрю в окна четвертого этажа. Пятое от угла кухня, потом Темкина комната, потом наша. Из двух десятков гостей, веселившихся тогда в этой квартире, живы и не покинули нашего города — трое.
С усилием отвожу взгляд от окон, перехожу через улицу, вхожу в дом.
А все так просто
В то лето, когда родился Артем, на даче жили в Зеленогорске. Трехкомнатную квартиру сняли внизу (чтобы не мучиться с коляской), приобрели стиральную машину (вообще-то это, конечно, лишний предмет, но когда появляется новорожденный — она просто необходима), ввезли два холодильника: большой и маленький.
С утра тетя Агнесса уходила с Артемом гулять на просеку — неторопливо прохаживаясь между высокими елями, иногда перебрасывалась двумя-тремя репликами с приятным седовласым дедушкой, ежедневно прогуливавшим здесь же свою годовалую внучку. Мама в эти часы стирала, прибирала квартиру и приносила обеды из железнодорожного ресторана, а Лиза занималась. После рождения Артема она была в академке, но так как прошлый год (беременность) и позапрошлый (роман, замужество) в значительной степени для занятий пропали, теперь нужно было наверстывать. Во всяком случае, так решили мама, тетя Агнесса и Ба. Логика в их решении ощущалась, и Лиза особенно не возражала.
Положив слева книгу, а справа тетрадь, она конспектировала жизнеописание восточного философа, о котором ей предстояло написать диссертацию. Повествование, рассказывающее о событиях столетней давности, впору было сравнить с приключенческой повестью. Детство и юность философ провел в экзотических декорациях островной родины, затем дважды пересекал океан и на старости лет очень забавно описал разные казусы, возникавшие при общении его соотечественников с чужой и непонятной им цивилизацией. Например, шок при виде носового платка. Философу и его спутникам приходилось призывать на помощь все свое воспитание, чтобы, не моргнув глазом, наблюдать за действиями людей, почитающих себя образованными и просвещенными, но раз за разом сморкающимися в одну и ту же тряпочку.
После обеда отдыхали. Когда Артем подавал голос, шли всей компанией гулять: в лес (по дорожкам) или к заливу. Есть несколько фотографий этих прогулок, сделанных приезжавшими гостями. Мама вела гостям строгий учет, и в августе оказалось, что их было двадцать восемь, трое — с ночевками. На фотографиях группа вокруг Артема выглядит очень мило. И тетя Агнесса (которой исполнилось пятьдесят шесть), и мама были в то лето подтянуты и моложавы. Лиза смотрелась хуже. Она была крупноватой и всегда очень стеснялась этого. Но сейчас, возле коляски, окруженная всеобщими улыбками, одобрением и похвалами, цепенела и ежилась все-таки меньше, чем когда-либо прежде.
Артем же радовал безоговорочно. Он был не криклив, отлично набирал вес, в начале лета хорошо держал голову, а в конце — ползал и сидел. Знакомые, приезжавшие с окрестных дач и из города, привозили ему разноцветные — пластмассовые, резиновые, деревянные и металлические — игрушки, а также развивающие игры: например, кубики с азбукой, лото и конструкторы. «Очаровательно, но немножко на вырост», — смеялась тетя Агнесса, глядя на викторину «Герои древности и их подвиги». «Ах, не скажите! Ребенок многое воспринимает бессознательно», — отвечал Аристарх Казимирович, и дальше шла лекция, доставлявшая всем несомненное удовольствие.
«Ах!» слышалось то и дело. Такого веселого лета было просто и не упомнить. Взрослые самозабвенно складывали картинки, стреляли в цель, строили башни и обсуждали достоинства автомобильчиков — немецких и наших. «Мужчины, конечно, беседуют о машинах! Мужчины всегда найдут повод поговорить о машинах. Но хватит, пора обедать, к столу!» Дамы вполголоса спрашивали у Лизы, хватает ли молока. «Да, и с избытком». Весы стояли на почетном месте. До и после кормления Артема взвешивали. Гордая собой Лиза еще застегивала в спальне блузку, а блестяще прошедший контрольную процедуру новый Гвидон уже был надежно устроен среди диванных подушек, и все оживленно готовились к чаю, раскладывая на блюде пирожные из «Севера» и обсуждая маршруты прогулок. В сторону Щучьего озера? Нет, к «финской» даче.
Дом, в котором все это происходило, стоял в ряду прочих, себе подобных. Сверху они, наверно, смотрелись как пластинки конденсатора или как секции батареи парового отопления. Между двумя параллельными ребрышками — цветник, качели, песочница, крики и смех детей от двух лет до двенадцати. Здесь же коляски. Иногда, очень редко, рядом с колясками видны полускрытые за газетами папы, но в основном скамейки оккупированы молодыми и старыми женщинами, усердно работающими языком, а иногда еще и спицами. Кроме того, имеются «самостоятельные» коляски, за которыми — предположительно — наблюдают из окон. «Не понимаю, как эти младенцы спят! — Тетя Агнесса в недоумении пожимает плечами, округляет глаза и вскидывает бровь. — И почему детям надо носиться в пыли, мне тоже неясно. До просеки всего четверть часа. Там тишина; воздух пьешь с наслаждением. И, представьте себе, кроме нас гуляет только один дедушка — преподаватель Академии художеств».
Эта тема муссируется с вариациями едва ли не каждый вечер. Все удивляются, неодобрительно покачивают головами, и все же как-то раз, выйдя (в порядке исключения) одна с коляской, Лиза вместо того чтобы отправиться на просеку или хотя бы в «район пионерлагерей», усаживается в этом затоптанном, замусоренном дворике, хотя совсем рядом, под кленом, расположились, сторожа полукругом расставленные игрушки внучек, две толстые бабки. Внучки, Алиса и Катя, поочередно подбегая, тычутся им в колени, на что-то жалуются, а исполненные чувства собственного достоинства матроны машинально поправляют им банты и, в сотый раз наказав не ходить к «фулюганам», возвращаются к плавнотекущей, в едином ритме выдержанной беседе: «А она тут и скажи мне, что тесто готовое брать — дураком надо быть… А Валька свою второй год на французский водит, а мы Алису на музыку и в бассейн, а с ценами нынче не…» «Ба-юсь!!» — с хохотом и слезами кричит Алиса, с разбегу зарываясь головой в бабкин подол. «А вот как сейчас встану да надеру тебе уши!» — воинственно орет бабка, но только что гнавшийся за Алисой рыжий веснушчатый малый уже далеко. Полуспрятавшись за качели, он дерзко показывает оттуда язык. «Отродье сукино, — не понижая голоса, сообщает бабка. — Что с него, с безотцовщины, возьмешь? А тебе сколько раз говорить: играй с девочками. Где Катя-то? Ка-тя! Ка-а-тя!!» О боже праведный! Лиза бросает на бабку укоризненный взгляд, смотрит обеспокоенно на Артема, тот кряхтит, но не просыпается. Сидящий напротив колясочный папа, подавшись вперед и крепко уперев в землю широко расставленные могучие ступни, по-прежнему невозмутимо читает газету. «Здравствуйте!» — говорит кто-то тягуче-приветливо, и к скамейке, обороняемой бабками, приближается, расплываясь в улыбке и ведя за руку косолапого малыша с соской, хорошенькая молодая мама в футболке «Олимпиада-80», задорно приподнятой округлившимся в преддверии близких событий, важным и гордым собой животом.
«Я пр-росто потр-рясена! — грассирует Юлия Юлиановна. — У вас порядок и чистота, как будто детей нет в помине. И так уютно… А! Вот и они!..» Переполох, шум и радость при виде Лизы с Артемом. «Дорогая моя, ты выглядишь так, словно и не рожала, тебя можно принять за десятиклассницу. Честное слово, одно удовольствие посмотр-реть!»
Юлия Юлиановна прибыла вместе с Ба. И Ба, сверкая великолепно уложенными сединами и отутюженным белым костюмом, сидит теперь на председательском месте, в ее отсутствие занимаемом тетей Агнессой, тихо хлопочущей сейчас на заднем плане.
«Главное было правильно сделать две вещи, — говорит Ба. — Во-первых, снять помещение со всеми городскими удобствами и, во-вторых, четко распределить обязанности». «Да-да, вы молодцы, — не устает восторгаться Юлия Юлиановна. — Помню, когда рос Алешка, у нас квартира была вся в пеленках. Просто военный крейсер в день парада. Что-то ужасное. Юля не высыпалась, я жила на снотворном». В ответ все смеются, и, реагируя на громкий смех, Артем неожиданно заливается плачем.
«Все правильно, ему пора кормиться», — мгновенно захватывая бразды правления и даже как бы оказываясь на председательском месте, говорил тетя Агнесса. Мама держит Артема, Лиза быстро скрывается в ванной и через минуту появляется в полной рабочей готовности, Юлия Юлиановна ободряюще улыбается; благим матом орущего Артема передают с рук на руки, дверь в спальню мягко закрывается, и в столовой начинают приготовления к ужину.
Но в спальне все далеко от благополучия. «Ну-ну-ну, ши-ши-ши, — уговаривает Артема Лиза, безуспешно пытаясь воткнуть сосок ему в рот. Артем отплевывается и изгибается. — Ну что с тобой? Это ж еда, молоко», — беспомощно объясняет Лиза. Из-за дверей доносятся раскаты смеха. «…Вы не поверите! Но главное, у Степанцова, скорей всего, отнимут кафедру!» — рокочет Юлия Юлиановна. «Да? В самом деле?» — голос Ба спокоен и как-то преувеличенно вежлив. «А-а-акх-ак!» — надрывно заливается Артем, готовый отбиваться до последнего. «Тебе надо есть, понимаешь? — неистово шепчет Лиза. — Господи, ну почему же они не идут? Зачем им любезничать с Юлиановной? Разве не ясно, что надо прийти и помочь? Артем, ну Артем же, пожалуйста! — А Артем уже даже не красный, а синеватый. Как бакалажан, нет, как… — Господи, помоги, ведь…» Но тут дверь распахивается, и, безуспешно симулируя спокойствие, врываются мама и тетя Агнесса. «А как поживает Кирилл Александрович?» — слышится из соседней комнаты чудом перекрывающий вопли внушительный голос Ба.
«Успокойся, хороший мой, успокойся», — гладит затылок Артема мама. «Все хорошо, ничего не случилось», — в такт этим движениям приговаривает Агнесса. В последний раз икнув, Артем хватает губами нависшую над ним дулю. Ну, слава богу: все устроилось.
«Кормится; маленький инцидент исчерпан», — сообщает, возвращаясь в столовую, тетя Агнесса. «Отлично, тогда вернемся к проблемам нашего ужина, — откликается Ба. — Я привезла с Владимирского азу, по-моему, пора им заняться». Тетя Агнесса напрягается. Слова, которые вскипают в ней, подобно пене, не вырвались бы наружу ни при каких обстоятельствах, тем более не вырвутся сейчас, в присутствии Юлии Юлиановны. «Я думаю, это вряд ли разумно, — старательно следя за тоном, отвечает она после паузы. — Мы по возможности избегаем пользоваться плитой, если Артем не на прогулке. И уж тем более не жарим». — «Но чайник мы вскипятить сможем, или придется обойтись без чая?» — Интонация Ба предлагает всем вместе от души посмеяться над этим нелепым предположением и в то же время таит в себе что-то вроде угрозы. Но тетя Агнесса спокойна: ее защищает уверенность в собственной правоте. «Будет не только чай, но также и ветчина, шпроты, сыр бри, рогалики с джемом и птифуры», — перечисляет она, втайне празднуя выигранный бой. «Нет, вы меня восхищ-щаете и пугаете! — В связи с отсутствием в восклицании звука „р“, Юлия Юлиановна ловко раскатывает „щ“. — На даче! С малышом на р-руках! Я пр-росто не помню, когда и в гор-роде угощала др-рузей таким р-р-роскошным ужином!» Подцепив на крючок сразу несколько «эр»-включающих слов, она с видимым удовольствием раскатывает их по нёбу. «Ну, чтобы уж окончательно вас потрясти, достаю нашу парадную скатерть», — смеется тетя Агнесса. «Боже!» — запас восклицаний Юлии Юлиановны явно уже истощился, но тут появляются, щурясь от света, Лиза и мама. «Заснул?» — «Заснул».
В жару заниматься совсем не хотелось, но городской облик квартиры спасал. Сидя спиной к окну, можно было забыть про шмелей, пляж и лето, почувствовать себя в зале Публички или дома, на седьмом этаже. Дома разница между зимой и летом практически не ощущается, точнее, в городе лета нет, так как на лето все выезжают. В этом году Ба задержалась из-за симпозиума и профессора Кларка: это случайность и исключение. А вот летний отдых — наоборот, неукоснительно соблюдаемое правило, и его нарушение, вероятно, больше всего и мешает Лизе до конца разобраться в статье Джудит Райт о взглядах восточного мыслителя на воспитание и семью. Раздражает и сама Джудит, доктор философии из Колорадо. Обстреливая читателя всеми имеющимися на свете терминами, она мусолит, по существу, один и тот же тезис: как жаль, что наш дорогой прогрессист, так много сделав для обновления барахтающегося в феодализме общества, в семейной жизни остался, увы, консерватором и не только не разрешил дочерям поехать учиться за океан (а почему она так уверена, что им хотелось? или ей кажется, что все мечтают о Колорадо?), но и сам выбрал им женихов, устроив сватовство по удручающе традиционному варианту.
К началу августа список необходимых книг был проработан меньше чем наполовину, а значит, требовалось сидеть за столом, не вставая. Единственным законным основанием для выходного признаны были гости. Поэтому Лиза с энтузиазмом встретила прикативших с утра на машине «молодых Свербеевых», хотя обычно с трудом их терпела, полностью разделяя чувства Ба, тети Агнессы и мамы, которые соглашались принимать эту дикую пару только лишь в память Костиной матери — «почти родной в доме» Анастасии Ивановны. При ее жизни «молодые», по мнению окружающих, как-то еще балансировали на грани приличий, после ее кончины — эту грань переступили. «Мудак», «девка», «мать твою» и так далее непринужденно порхало на устах Кости и его жены Гали и замирало — даже надолго — только в тех случаях, когда Ба, сдвинув брови, любознательным тоном ученого-натуралиста задавала вопрос типа «а что значит дрочить?».
Приехав в Зеленогорск, Свербеевы с ходу попробовали вести себя в привычной им манере. С радостным криком «посторонись, православные!» Костя внес в комнату огромную коробку с помидорами и луком. «Дачные гости должны прибывать вместе с кормом! — провозгласил он, грохая ее на стол. — Все продумано. Вы поставляете макароны, а мы — салат. И даже с заправкой», — добавил он, извлекая из Галиной сумки бутыль с какой-то непонятной темной жидкостью и водку. «Немедленно отнесите все это в машину, — властно скомандовала Ба. — Что за глупости! Вы ведь приехали не в индейскую резервацию». Модуляции Ба! Нет, это что-то волшебное. Ни слова не говоря, Костя забрал дары и пошел к двери. «Несколько помидоров можете оставить», — милостиво прозвучало вслед.
Электричество в воздухе сохранялось, наверное, минут десять. Потом все утряслось, и разговор обрел приемлемые формы. Все хором подивились сказочно быстрому росту Артема, Костя рассказал пару смешных анекдотов, Галя, с трудом удерживаясь от ввода крепких словечек, довольно связно поведала о ремонте, который они затеяли и теперь непонятно когда и закончат. Тетя Агнесса переглянулась с Ба — и решено было всем вместе пойти гулять на залив, а Костю — дав ему четкие инструкции — отправить в ресторан за обедом.
Дальше все текло просто на удивление гладко. Погода была отличная, Галя примолкла, все с удовольствием дышали морским воздухом и разговаривали о том времени, когда Артем подрастет и можно будет опять поехать на лето в Ялту.
Вопреки опасениям, которые все-таки были, как потом выяснилось, и у Ба, и у мамы, обед удался на славу, Костя, конечно, умудрился многое перепутать и, в частности, привез солянку, хотя солянки всегда подозрительны, и это ему раза три повторили. Кроме того, со вторым он тоже дал маху, взяв почему-то семь антрекотов вместо шести, но, к счастью, сам и исправил ошибку: съел, пострадав за други своя, не охнув, две порции. В общем, когда взялись за мороженое, настроение у всех было благостно-размягченное. Заговорили, подробно и с удовольствием, о былых временах, когда школьник Костя приходил украшать елку и, вместо того чтобы вешать конфеты, съедал их, а фантики набивал ватой. «Бедная Анастасия Ивановна! Ты был озорник редкостный. Не понимаю, как она только справлялась?» — с чувством сказала тетя Агнесса, и вот тут-то, на фоне идиллических воспоминаний, неожиданно разорвавшейся бомбой прозвучал вдруг прямой вопрос: «Да! А где Игорь? Он в городе?»
Вечером, после отъезда Свербеевых, состоялся военный совет. Кто мог подумать? Это просто невероятно. Следует принять меры, чтобы такое не повторилось. Все обсуждалось четко, по пунктам. Во-первых, как это могло случиться? Костина двоюродная сестра была поставлена в известность в мае. Казалось, прошло достаточно времени, чтобы и Костя с Галей оказались в курсе. Во-вторых, перед самым отъездом на дачу Костя заскочил на минуту (вернуть давным-давно взятые триста рублей), обедал и, как тогда показалось, четко уяснил ситуацию. Но, в общем, все это уже дела минувшие. Главное, что теперь нужно постановить: пустить все на самотек и просто быть готовым к происшествиям вроде сегодняшнего или составить список «возможных идиотов» и, не откладывая, отправить Агнессу сделать им визиты и расставить точки над «i».
После долгих дебатов остановились на первом варианте. Приходить с разъяснениями к тем, кто и так понимает (ведь, скорее всего, не все потенциальные идиоты окажутся таковыми в реальности) было бы чересчур уж нелепо. «Я не отказываюсь. Перетерплю и потом расскажу все в лицах», — кидалась грудью на амбразуру тетя Агнесса, но это было уже только шуткой. Спать разошлись в отличном настроении. Лиза хихикнула, вспомнив, как, постепенно осознавая глубину сделанного промаха, Костя краснел, лепетал что-то и суетился. Забавно. Наверно, сегодняшний день даст материал для нового семейного анекдота. Его будут долгие годы со смехом рассказывать, переиначивая на все лады, по-разному компонуя подробности, а в первый раз он прозвучит, скорее всего, тридцатого августа, когда все вернутся в город и Вероника Михайловна Фесалонская, принципиально не признающая дач, «прибежит» узнать новости.
Квартира будет еще по-летнему гулкой, просторной, пахнущей чистотой. Стекла и зеркала сияют после «большой уборки», нигде не разбросаны книги, свои и чужие рукописи, вскрытые письма, программки. Всем им еще предстоит, словно слою осенних листьев, покрыть все мыслимые поверхности и засвидетельствовать тем самым, что нормальная жизнь началась… Лиза почувствовала вдруг, как ей хочется в город, как хочется, чтобы кончилось поскорее это шумное, хлопотливое, толпами бодрых гостей наполненное лето. «Артему нужно найти хорошую няню. Этот вопрос как-то еще не обсуждался, но ведь понятно, что няня необходима». Артем хрюкнул во сне, соглашаясь, и, окончательно успокоенная, Лиза перевернулась на левый бок и заснула.
Но радость, беда и конфуз всегда приходят почему-то парами. И с фарсовыми недоразумениями все происходит примерно так же, как с вывихнутыми суставами, которые в первый раз вправляют быстро и без последствий, а во второй — похуже и с нависающей перспективой привычного вывиха.
Выйдя на следующее утро в столовую, Лиза сразу увидела на полу разбитое блюдце. Почему, как оно здесь очутилось, никто объяснить не мог. «К счастью, блюдца у нас в избытке», — сказала после томительной паузы тетя Агнесса, и тема была закрыта. Но странности продолжались. Впервые за лето без всякого предупреждения отключили горячую воду; маме — тоже впервые — взяли и нахамили в ресторане: отказались выдать четыре порции обедов, хотя всегда делали это спокойно и даже с улыбкой. Артем капризничал (резался зуб), некто Карл Фукс, автор солидной, совсем недавно вышедшей монографии, с немецкой дотошностью доказывал, что остроумно рассуждающий не только о носовых платках, но и о парламенте восточный философ, вошедший в историю как либерал — друг свободы, в последний период жизни фактически отказался от взглядов, которые проповедовал в молодости, а если так, то рушилась вся концепция, вокруг которой красиво и стройно должна была выстроиться Лизина диссертация. От всего вместе впору было взбеситься, и, хотя до прогулки оставался еще почти час, Лиза схватила коляску с Артемом и выскочила из дома.
Но в этот день неудачи преследовали. Едва ступив за порог, она поняла, что погода и в самом деле настораживает. В любой миг могло хлынуть; угрожающие порывы ветра отчетливо свидетельствовали, что далеко отходить — опасно. К счастью, двор в ожидании дождя был пустым и тихим. В дальнем углу поскрипывали качели, озабоченно чивикала, перелетая с дерева на дерево, какая-то птица. И все. Поэтому Лиза чуть не подпрыгнула, услышав совсем рядом голос Алисиной (Катиной?) бабушки.
«Ну что, горюешь?» — спросил этот голос. Невесть откуда взявшаяся бабка сидела, подавшись вперед, и, держа за ухо большого плюшевого зайца, мерно покачивала его между колен. «Горюешь?» Глазки бабки масляно блестели, и Лиза с неприятно холодящим чувством вдруг вспомнила, как, в первый раз отправившись на прогулку с коляской, Ба рассказала, вернувшись: «Оказывается, нас тут все знают. Когда я подходила к подъезду, старуха на лавочке вдруг сказала: „Ну! У Артема еще одна бабушка появилась. А где ж у вас папа-то?“ И знаете, что я ответила? „Папа плавает“». Тогда на секунду возникло какое-то ощущение неловкости — и мгновенно рассеялось. Ба ответила так, как могло быть понятно дремучей и примитивной тетке. В конце концов, с каждым нужно говорить на его языке.
«Парень-то хоть здоров?» — не отставала Алисина-Катина бабушка, все так же покачивая своего зайца. «Да, стопроцентно», — Лиза попробовала призвать на помощь сарказм. Но сарказм не подействовал. «Ночами мается?» Отвечать было бессмысленно, правильно было встать и уйти, но ветер то стихал, то тревожно усиливался, и Лиза не понимала, идти на просеку или домой. «Эх-хэ-хэ, девка! — громко, протяжно сказала старуха, переходя вдруг и вовсе на деревенский говор. — Значит, судьба така, ничего не попишешь!» О чем она? Кто дал ей право так разговаривать? Лиза почувствовала, как краска, выступив на щеках, заливает теперь лоб и шею. «Бяда, — раскачивался между колен бабкин заяц. — Бяда!» Какая «бяда»? Что за чушь она порет? Не начинать же разубеждать эту дуру? Не показывать ей штамп в паспорте? Бабка смотрела на Лизу с участием и любопытством: «Вот так! Поматросил, а ты тут с рябеночком разбирайся!» Нет, это было уже запредельно. «На конюшню ее и выпороть!» — мелькнула сполохом дикая, бешенством пахнущая мысль. Рывком поднявшись, Лиза схватила коляску, стремительно покатила ее куда-то вперед. Капает? Ну и пусть капает. Капнуло что-то из глаз. «Как она смеет, — яростно шептала Лиза, — как она смеет, как смеет…» Конец фразы болтался какой-то бесформенной, безобразной и жалкой культей, и нужно было немедленно, непременно найти ему ясное и разумное завершение. «Как она смеет не понимать, что в современном мире… в современном мире…» Возьми себя в руки, скомандовал внутренний голос, сосредоточься и доведи мысль до конца. Как только ты придешь к ясной формулировке, все встанет на свое место. Она стиснула зубы — и слезы высохли. «В современном мире интеллигентная семья вообще не часто строится на браке, — отчетливо подсказал кто-то, и Лиза кивнула (повернув на шоссе, она стремительно двигалась в сторону леса). — А если вновь появившийся член семьи, например чей-нибудь муж, не вписывается в гармоничную, усилиями поколений созданную жизнь, то чем скорее он будет отторгнут, тем лучше». «Лучше», — повторила она в полный голос и повернула коляску. Впереди была просека, и над ней разноцветной аркой вдруг встала радуга. Солнце вспыхнуло в каплях воды на траве и на листьях. Красота ослепила. Пришло на ум слово «чертог», потом слово «терем». Лиза остановилась и недоверчиво повела головой. Дождь становился сильнее, блеск солнца — ярче и ярче. Но ведь все так понятно, так просто. Все просто, все… Судорожно сжимая пальцами ручку коляски, она до рези в глазах вглядывалась в сияющее разноцветье. И вдруг захотелось вытащить сладко спящего Артема из этой чехословацко-дурацкой коробки, схватить его на руки и убежать. Но куда?
Синий лес
«Удалось раздобыть билеты на „Люди и страсти“. Если получится, вымой посуду». Последнее слово он угадал — написать у нее уже не было времени. Вместо букв получился крючок, похожий на вопросительный знак. На подзеркальнике рядом с запиской валялось два черных комка, оказавшихся при рассмотрении свитером и шерстяными колготками. На полу, в метре одна от другой, — черные туфли на тонком прямом каблуке (хотела взять, но в последний момент передумала). Положив туфли и свитер в шкаф, Дима неторопливо прошел в ванную, сунул колготки в ящик под раковиной, завинтил крышки флаконов и баночек и, выпрямляясь, поймал свое отражение в зеркале. Поморщился, вспомнив, как утром столкнулся на лестнице с Людой Степановой. Она, вихрем вылетев из дверей, сказала: «Ой! привет, Димка, и какой же ты стал красавчик!» Потом приблизилась, так что видны стали плавающие в зрачках желтые искорки, глянула по-кошачьи: «Ммм, прямо съесть хочется», — облизнулась розовым острым язычком и, крутанувшись на одной ноге, со смехом кинулась вниз по лестнице. Воспоминание об этой сцене снова вызвало легкую тошноту. Почему, собственно?
В пятом классе они со Степановой сидели за одной партой, после восьмого она ушла в Школу торгового ученичества. Теперь была совсем взрослой, и трудно даже поверить, что это она приставала к математичке, слезно прося исправить двойку на тройку, а на контрольных усердно списывала, от напряжения и старательности высовывая кончик языка. Да черт с ним, с ее языком! Окончательно разозлившись, Дима вышел из ванной, со стуком захлопнув дверь.
«…если получится, вымой посуду». Стряпая, мать умудрялась испачкать всю кухню. Сейчас больше всего пострадал холодильник. Судя по красным пятнам на его ослепительно белом (сам вчера вымыл) боку, Дима сначала предположил, что гвоздем программы выступал фирменный борщ. Но глубоких тарелок на столе не было, а на блюде — последнем воспоминании о кузнецовском сервизе — виднелись остатки рыбы. Значит, скорее всего, в индейской раскраске многострадального холодильника повинен «на весь мир знаменитый Аленин соус». Установили. Так, дальше. Консервные банки открыты решительно все. Похоже, пир был не на шутку. Человек на двенадцать-пятнадцать, прикинул Дима, на ходу пересчитывая бутылки. Все это, в общем, не так уж и занимало, но мысль работала, вычленяя варианты. Среда. Мать с утра в институте. Последняя пара — в любимой кураторской группе. В любимой кураторской группе жизнь всегда бьет ключом, а если вдруг замирает, мамуля мгновенно находит способ ее оживить. Однако сейчас в стимуляторах нужды нет. Все и так просто раскалено. Почти месяц идет война с деканатом: пытаются «отстоять» Сашу Маврина. Саша — звезда факультета, но с прошлой сессии за ним тянутся два «хвоста». Группе, как и куратору группы Елене Дмитриевне, причины более чем ясны. У Саши невероятный, на разрыв жил, роман с Таней Брик. У него пожар в сердце не меньше, чем у В. В. Маяковского. О каком диамате или немецком он может помнить? Но деканат тупо не хочет войти в положение Саши, литературного клуба «Эврика» и предстоящего Фестиваля студенческой песни. В попытках спасти положение, группа решила устроить что-то вроде сидячей манифестации. И, судя по кухонному пейзажу, победа одержана.
«Не понимаю, как можно столько курить», — распахивая в комнате окно, Дима впускает проворный, ко всему любопытный ветер. И сразу же поднимается вихрь: летят на пол салфетки, волнуется и шуршит, словно пытаясь вырваться, занавеска. «Гляди-ка, разве что не утюги за пирогами!» Ссыпав окурки в бумажный пакет, Дима ставит на поднос чашки, рюмки, кофейник. Да, догулять у них явно не получилось. В самый разгар веселья — звонок. «Алена, скорее! Жду в вестибюле у правой кассы». И выясняется, что любовь к театру сильнее любви к кураторской группе. Ну что тут поделаешь, дорогие мои! Наша Елена Дмитриевна многогранна.
Перемыв всю посуду, Дима наконец-то проходит к себе. Привычно оглядывается: порядок образцовый. Матери сюда вход воспрещен. Давно, с того дня, когда, возвратившись из школы, он застал в комнате всю их кодлу. Развалясь в кресле, посмеивался в усы Павел Павлович Закс, он же Наш общий друг, он же Пафик. Иришка, лучшая подруга матери, пристроившись на подоконнике, вся ушла в созерцание собственных ножек. Васька Рогалик, разумеется, торчал рядом и нежно поглаживал ей колено. Впрочем, это неважно: их нравы — их дело. Противнее было другое: Татка, которую Дима всегда недолюбливал, полулежала на его письменном столе, а мать, растянувшаяся среди диванных подушек, принимала это как должное. Все они были в отличнейшем настроении и, каждый на свой лад, острили, слушая, как Кубасов — трепло! мерзкий шут! — гнусаво (видимо, кого-то передразнивая) ернически комментирует его, Димины, рисунки, прикнопленные во всю ширь стены от пола до потолка. Не здороваясь и вообще не произнося ни слова, Дима шагнул вперед и начал отдирать листы. Кубасов что-то вещал по инерции, наслаждаясь звуком своего голоса; мать и Татка по-прежнему плавали в эйфории, но умненькая Иришка смекнула, что дело серьезно. «Ребята, а мы ведь залезли в чужую берлогу, — звонко выкрикнула она. — Айда на выход! Рогалик, за мной».
Когда поздно вечером гости наконец убрались восвояси, Дима сказал веселенькой, очень довольной междусобойчиком матери: «Никто не должен без разрешения входить ко мне в комнату. Ты тоже». Кукольно приоткрыв рот, мать заморгала растопыристыми ресницами: «Я, кажется, в своем доме. Мы с тобой не жильцы в коммунальной квартире. И потом… убирать-то мне нужно». — «Не нужно, я и сам справлюсь». «Хотелось бы посмотреть!» — не понимая, как себя вести, она неуверенно захихикала. «Посмотришь».
Больше этот вопрос не обсуждался, и Дима знал, что свое слово мать держит. Кубасов попробовал как-то сострить на тему о подкаблучных родителях, но был осажен с такой ловкостью, что внимательно слушающему их Диме стало гораздо яснее, как «эта ротозейка Алена Скворцова», вечно теряющая конспекты лекций и зонтики, раз за разом одерживает победы в своих институтских баталиях.
Однажды, когда Кирилл Николаевич спросил его что-то о матери, Дима ответил: «У нее твердые принципы. Она их несет как знамя. Не понимает, что знамя давно превратилось в пыльную тряпку». Кирилл молчал, будто ждал продолжения, и Дима добавил сердито (боялся обидеть учителя, но тот ведь сам напросился): «Ее поколение десять лет как на свалке, а она этого не замечает. Тоже, скорее всего, из принципа». «Что ж, не такой плохой способ жить», — усмехнувшись, ответил химик, поднял камушек и метнул его лихо в Фонтанку.
Надо попробовать нарисовать Кирилла, подумал Дима, вынимая из нижнего, с трудом открывающегося ящика стола для надежности спрятанную еще и под кипами старой ненужной бумаги толстую зеленую папку и, как всегда, медля перед тем, как ее открыть.
Возвращаясь домой, он всегда первым делом шел к столу; не мог не удостовериться: да, все в порядке. И каждый раз руки слегка дрожали, но не столько из-за непобедимого страха перед ее возможным исчезновением, сколько от предвкушения предстоящей встречи с Эльвирой.
Бережно развязав тесемки, он принялся осторожно раскладывать листы на тахте. Направо, налево, снова налево, вниз, в центр… нет, наверх. Это был ритуал. Каждый раз он старался никак не мешать руке: пусть сама выберет каждому из рисунков место. И вот все разложено, и все вместе создает один общий, новый, еще не виданный мозаичный портрет. Эльвира в костюме Марии Стюарт, Жанны д’Арк, в золотых блестках (что-то на манер Климта), на мокрой блестящей после дождя мостовой, на прибрежном песке; Эльвира, обнимающая ствол дерева, Эльвира задумчивая, Эльвира среди тюльпанов, Эльвира в пустой белой комнате (каждый раз сердце сжимается, глядя на это ее лицо), Эльвира-циркачка, Эльвира в толпе, Эльвира у классной доски…
Рассказывая, она всегда волнуется, думает Дима, и вовсе не потому, что тревожится о реакции класса — наша реакция ей почти безразлична. Ее волнует выстраиваемый сюжет, поворот мысли, оттенок, слово. «Учебник вы прочитаете или не прочитаете сами, — сказала она, придя в класс впервые. — Наша задача — вместе подумать о том, что в учебнике не написано». «А как же программа?» — имитируя правоверный испуг, пискляво выкрикнул Борька Поповский. Цветкова хихикнула, Смирночка, ни на йоту не изменив своей позы аккуратистки-отличницы, смотрела расширенными от удивления глазами, Эдик Малинин крякнул и, предвкушая потеху, пошел в наступление. «Простите, Эльвира Михайловна, — начал он, широко улыбаясь, — я привык к разным учителям (меня из двух школ выгоняли), но вас я все же не понимаю…» Класс затих в ожидании представления, и Диме сделалось страшно, что они все поднимут ее сейчас на смех, и она, чудная, восхитительная, смолкнет растерянно, покраснеет, а потом крикнет что-нибудь жалкое и выбежит вон из класса, как выбегала, чтобы вернуться с директором «Монна Протонна, которая сонна», физичка, вынужденная-таки через несколько месяцев незаметно исчезнуть из школы. Нет, этого он не допустит. Дима собрался в комок, словно готовился, одним махом перелетев через парты, встать рядом с ней, защитить, оградить. Но она справилась сама, легко и без усилий. «Не понимаете? — спросила она спокойно негромким, красиво парящим в воздухе голосом. — Ну что же делать? Может быть, позже поймете». «Клево, — прокомментировал Борька, — птичка показывает коготки».
Она пропустила мимо ушей эту реплику и, тряхнув головой, перешла к теме урока. Говорила, вслушиваясь в слова, не торопилась, задумывалась, иногда убыстряла темп речи, легко и плавно раскручивая нить мысли. И почти сразу же ее голос увлек. Класс затих, наступила та редкая тишина, когда дыхание (внимание?) как бы аккомпанирует солирующей мелодии. Было ясно, что она победила, и Дима расцвел от гордости, будто происходившее было его заслугой.
«Нам трудно представить себе весь трагизм той эпохи, — говорила она вчера, глядя на струи дождя, хлеставшего за окном. — Мы часто воспринимаем ее идиллически, не умеем понять, что она представлялась иначе всем, кто способен был чувствовать воздух времени…» Для кого она так говорила? Не для Малинина, не для Смирночки, не для Цветковой. И все-таки для них всех… Ее голос часто взлетает ввысь, но умеет и жестко вести за собой: шаг за шагом. «…Философы стараются понять законы бытия, политики анализируют зримое; невидимые письмена умеют читать только поэты». Так закончила она свой рассказ; потом, словно проснувшись, добавила: «Урок окончен».
Рисовать ее Дима стал еще прошлой зимой, когда в середине четверти Эльвира сменила неожиданно заболевшую нудную Валентину Романовну. «Эльвира — Орлиный нос». Кто первый сказал это, было даже не вспомнить, но прилипло сразу и накрепко. Обсуждая ее наружность, девчонки спорили до хрипоты. Сравнивали то с Майей Плисецкой, то с Одри Хепберн, то с Нефертити. Диму эти сравнения не занимали. С Эльвирой для него соединялась какая-то тайна. И от того, удастся ли ее разгадать, зависело что-то очень важное. Пытаясь проникнуть в глубь ее существа, он всматривался до боли в глазах, стремился разглядеть главное, понять, из чего состоит эта странная, необычная притягательность. Она была бесконечно разной, всегда красивой, но иногда с трудом узнаваемой: то что-то высокомерное, то отрешенное, то ироническое. Все это маски, думал, кусая ногти, Дима, но, может быть, и ее взволнованность — маска? «Красота страшна, вам скажут, — красный розан в волосах». Нет-нет, она не играет и не придумывает свои настроения, просто (ну и сравнение!) течет, как река.
Порою она казалась усталой, почти изнуренной, изнемогающей от непосильного бремени… А у нее ведь нет чувства юмора, оторопело понял однажды Дима. Были дни, когда начинало казаться, что он просто сходит с ума, потом все резко менялось и приходило ощущение ясности и покоя, какого-то понимания, стержня, сути. Но Дима не доверял и ему; подозрение, что все гораздо сложнее, запутаннее, пробуждало в нем своего рода охотничий инстинкт. С упорством, которое изумляло его самого, Дима снова и снова пытался разглядеть признаки, которые указывали бы на потаенные, тщательно от всех скрытые свойства Эльвиры. С удовольствием подмечал нервность, еле заметное подергивание рта, часто контрастную спокойствию лица активность рук. Отчетливо помнилось, как в День учителя у нее на столе стоял огненно-яркий букет. Казалось, что от него идет жар, и этот жар ее притягивает. Снова и снова подходя к цветам, она быстрым движением пробегала по стеблям, по лепесткам, по мохнатым головкам, легко прикасалась к ним, как к волосам. Теряя над собой контроль, Дима бешено взревновал ее к георгинам и астрам. Дались они ей, пусть забудет о них, немедленно. И она точно послушалась, отошла от стола, заговорила, глядя куда-то вдаль. Приревновать к заоконному виду он не успел — раздался звонок. Утром он теперь часто просыпался до будильника. Лежа в еще темной комнате, ждал Эльвиру, и она приходила: садилась на край кровати, заглядывала в глаза. Лицо было мягким и нежным, днем, наяву, оно никогда таким не бывало, но почему-то в нем все сильнее росла уверенность, что оно-то и есть — настоящее. «Значит, тайна в том, что ты нежная? — спрашивал Дима. — Но ты и сильная, очень сильная, да?» Она кивала, улыбка делала черты мягче, прозрачнее. «Только не уходи, — заклинал Дима, — не уходи никогда, хорошо?» Она смеялась, браслет на руке мелодично позвякивал, глаза становились все больше, больше, ресницы взмахивали, как птицы крыльями. «Погоди! — шептал он. — Подожди…»
«Димка, вставай! У тебя что, часы отстают?» — кричала Алена. Врубая магнитофон, она начинала носиться по коридору. Коридор в их квартире был длинным: маленький Дима катался по нему на велосипеде, стремящаяся «быть в тонусе» Алена — использовала как беговую дорожку. Раз-и… — раз-два-три-четыре — прыгала она прямо у Димы под дверью. «Доброе утро», — проговорил он, стараясь быстро проскользнуть мимо. «Ты почему такой невеселый?» — откликнулась она бодро.
Накануне, вернувшись из театра, Алена долго и тяжело плакала. Не почему, просто так. Димка, который все больше молчит и ничего о себе не рассказывает, и уходящее в никуда время, и то, что снова не получилось в день памяти мамы съездить на кладбище, и то, что Закс — эгоист, а точнее, безвольная баба, и как с этим быть — непонятно. Теперь, хорошо выспавшись после слез, она чувствовала себя молодой и крепкой. Встречать Новый год решили все вместе — в Риге. Саше Маврину подписали наконец академку, а Наш общий друг, если глянуть под правильным углом зрения, все время радует то одним, то другим… Жалко, конечно, что не сумел шевельнуться и вовремя раздобыть билеты на «Синий лес», но — куда денешься? — у каждого свой потолок возможностей, а за бортом они все равно не останутся. Не хотелось опять лебезить перед Ингой, но, судя по отзывам, марсельцы стоят нескольких неприятных минут. «Димка, ты слышишь? Я в пятницу иду на „Синий лес“. Спектакль, который привозят французы. Помнишь, о нем рассказывал Кубасов? Дима!!! Иди сюда. Как тебе этот прикид? У тебя потрясающая мамаша, согласен?» И, в последний раз пролетев по квартире, она исчезла. А Дима, прибрав посуду и вынеся мусор, торопливо направился к школе.
Эльвирин урок был первым. В эти дни он любил приходить заранее, неторопливо вдыхать влажный запах вестибюля, неторопливо подниматься по лестнице. Но сегодня все шло вкривь и вкось. Еще издали стало видно, что у школьных дверей собралась толпа. Начавшийся вчера дождь шел всю ночь, и теперь у порога образовалась приличная лужа. Мальчишки-пятиклассники пихали туда девчонок, а те пищали. Чистюли перебирались по кромочке. Хулиган Дрынкин из 8-го «б» с криком «ура!» метнул в лужу камень. Брызги взлетели фонтаном — и начался уже полный переполох. Не желая во все это ввязываться, Дима отошел в сторону. «Что делать? Это какое-то Средиземное море!» — раздался сзади игриво-жалобный голос. «Римма Ивановна, нерешаемых проблем нет. Па-а-а-звольте…» «Ах, что вы, — запричитал голос завучихи, — я сама, вот здесь, сбоку». «Ни за что!» — словно в спортзале гаркнул физкультурник и в следующую секунду уже пронес мимо Димы возбужденно пылающую Римму Ивановну. Мерзость! Дима почувствовал себя так, будто съел червяка. Пока не пришла Эльвира, уроки Риммы Ивановны были его любимыми. Как она здорово держала всех в струне, как ясно и весело объясняла новое. И вот теперь эта умница тает от удовольствия, что ее удостоил вниманием одноклеточный физкультурник. В девятом классе Дима наконец понял, что его гнусные занятия можно просто прогуливать. Но делать это сплошняком все же не удавалось, и раза два в месяц приходилось стоять в трусах, руки по швам, и слушать жирный, бычьим здоровьем налитый голос: «Ррав-нение! На-пра-во! — шша-а-гом! марш!» На протяжении всех сорока пяти минут урока Дима прикладывал отчаянные усилия, чтобы не видеть эту гору мяса, обтянутую васильковым трикотажем, не слышать шлеп-шлеп неожиданно оказывающихся проворными толстых ног. «Да что ты на него реагируешь? — удивлялся Борька Поповский. — Витамин. Сила есть — ума не надо. Тебе подавай физкультурника — светоча разума? Интеллигента в третьем поколении?» Борькино добродушие было необъяснимым. Ведь над ним этот мерзавец измывался постоянно. Но Борька отказывался возмущаться: «Еще чего — реагировать! Ты что, забыл? Нервные клетки не восстанавливаются. И кроме того, он нравится женщинам. Говорят, Монна Протонна была влюблена до безумия». Борькина мама возглавляла родительский комитет и иногда в самом деле имела доступ к засекреченной информации, но чаще Борька сам выдумывал истории из серии «очевидное — невероятное» и наслаждался реакцией слушателей. Нет, хватит! Усилием воли Дима попытался стереть из памяти и кудахчущую Римму Ивановну, и приторный запах одеколона, неизменно распространяемый Витамином. Но неудачи преследовали. Уже возле класса ему снова пришлось столкнуться с ненавистным васильковым костюмом. Причмокивая губами-сосисками, физкультурник прогулочным шагом неспешно двигался по коридору. Увидев Диму, остановился. «Послушай, надежда школы, еще один прогул — и у тебя двойка в четверти. Понимаешь?» «С пониманием у меня проблем нет», — тоном вежливого ученика ответил Дима. «Скот, ненавижу», — клокотало в груди.
Наконец прозвенел звонок. «Слушай, рога и копыта с достоинством сбиты — что это?» — вертелся Борька. Но Дима уже ничего не слышал. Открылась дверь — и вошел Кирилл. «Эльвира Михайловна заболела, так что сейчас мы займемся химией. В прошлый раз…»
«Не хочу слушать все эти глупости, хочу к тебе, — мысленно шепчет Дима. — Ты не можешь так обмануть меня, я не видел тебя два дня, ты должна появиться. Приходи, любым способом, ну, иди же сюда, иди». Прищурившись, Дима взглядом буравил стену. И вот наконец завертелись перед глазами цветные круги, потом раздался какой-то шорох — и он увидел. Легко ступая, Эльвира быстро шла по тротуару, неся над головой веселый, из желто-оранжевых треугольников сшитый зонтик. Дробно стучащие каблуки удивительным образом поднимали ее над толпой, широкие фалды плаща развевались как паруса, и Дима, с трудом пробираясь сквозь плотный поток людей, все время боялся отстать. Только б она не исчезла, только бы не исчезла! Ему сделалось жарко; не думая больше о вежливости, он локтями расталкивал встречных, но слепяще-яркая точка уходила все дальше и дальше. На минуту ее закрыл длинный, будто товарный поезд, трамвай. Когда шум затих, на улице уже никого не было. Обескураженный, Дима метнулся вперед, назад, влево… Толстый мопс чуть не сбил его с ног. «Осторожней, пожалуйста, — церемонно сказала старуха с облезлой лисой на шее. — Куда вы спешите? Послушайте, молодой человек, — она крепко схватила Диму за локоть, — не торопитесь, иначе все потеряете, и не бегите как сумасшедший, ведь она здесь». Жилистым пальцем с красным блестящим ногтем страшилиха указала на выпуклое окно-фонарь, и за стеклом Дима увидел что-то, чему подошло бы название «Сад скульптур». Женские фигуры, поодиночке и группами, тесно стояли на пьедесталах. Позы были безукоризненно грациозны, но от них веяло приторной сладостью. Зачем все это? Дима презрительно дернул плечом, но вдруг почувствовал какое-то дыхание: раздался шелест листьев, воздух зазвенел. Волнуясь и недоумевая, он ускорил шаг, прошел один зал, другой и в раскаленном круге света увидел Эльвиру. Она стояла посреди небольшой ротонды. Прозрачная короткая туника обвивала бедра, за спиной виден был колчан со стрелами, на губах — незнакомая Диме, волшебная, что-то немыслимое обещающая улыбка. Как же так? Такой я ее никогда не видел! Сердце подпрыгивало. Рука рисовала сама, но в то же время прислушивалась к идущему неведомо откуда наставительному голосу: «Здесь нужно сделать штриховку… Изгиб… Спокойнее, изгиб не такой резкий… Нет, не то… надо гуще положить тень… внимательней…» Весь побледнев от напряжения, Дима чувствует: вот оно, вот… И вдруг какая-то сила рывком отбрасывает его в сторону. «Зайдешь после уроков ко мне в учительскую», — говорит Кирилл Николаевич. Голос бесцветный, но в тоне звучит приказ. Эльвира, сад, почти законченный рисунок — все исчезает, будто бы и не было. Поповский изумленно оборачивается: «Что ему от тебя надо?» — «Заткнись!»
Как ненавидит он всех, приближаясь к учительской. Зачем он идет сюда? Что Кирилл может сказать? Тоска, какая-то тяжелая усталость. Сегодня он никого больше не хочет видеть. Надо просто уйти, зарыться, спрятаться подальше. Бродить одному вдоль канала, подойти к ее дому. «А что тут делают юные гении?» — конечно, это голос Витамина. Молчать, стиснуть зубы, не реагировать. Но физкультурник не отстает. «Меня вызвал Кирилл Николаевич. Я его жду», — с усилием произносит Дима. «Как? Неужели прокол? — В свиных глазках насмешка. — А я думал, проколы у тебя только по моему предмету». Он с удовольствием усмехается, вспомнив, скорее всего, тот злосчастный урок, когда Дима так и не смог подтянуться на чертовой перекладине. Молчать, считать про себя баранов. Да, баранов. Удачно, что есть такая прекрасная вещь, как юмор: палочка-выручалочка, которую всегда можно носить с собой. «Ты уже здесь, Скворцов, замечательно. Пойдем, проводишь меня, по дороге поговорим». «Приветствую, Кирилл Николаевич, — жирно хмыкает физкультурник, — вот это, как говорится, Бог свел. Так давайте воспользуемся, побеседуем, так сказать, по-домашнему. Этот стоящий перед нами претендент на медаль в конце прошлого месяца заработал у меня единицу. С тех пор прогуливает. Конфликта я не хочу. Но больше тройки он в четверти не получит. Тут уж я встану твердо». «Что ж я могу ответить, Виталий Трофимович? — разводит руками Кирилл. — Если вы полагаете, что по физическому воспитанию Скворцов заслуживает тройку, он ее и получит. Идем, Дима». Коротко попрощавшись, Кирилл направляется к выходу, а Витамин остается застывшим, словно фигура из немой сцены «Ревизора». «Спасибо, Кирилл Николаевич», — хочется сказать Диме, но он молчит, понимая всю неуместность такой благодарности.
Молча они выходят из школы. Холодный осенний день сверкает прозрачной, подцвеченной золотом красотой. «Ты злишься, что я отобрал рисунок, — наконец начинает разговор старший, — но ведь его в любой момент могли увидеть! Ты представляешь, какие были бы неприятности? Не у тебя, у Эльвиры Михайловны. Ведь ее имя и так у них с языка не сходит. Из роно присылали инспектора. К счастью, она сумела его пленить. — Кирилл усмехается, потом хмурит брови. — Все равно это просто оттяжка. Они ее выживут. Хорошо бы хоть без скандала».
Крупно шагая, они дошли уже до Измайловского. Как ясно нарисован в светло-сером воздухе фронтон того дома с пилястрами и барельефом на фризе. Строго и четко, словно на добром старом чертеже. Но почему же чертеж так волнует? Потому что классически ясные линии вписаны в бесконечную зыбкость воздуха?
«Зайдем ко мне, холодно, для прогулок погода скверная», — говорит химик. Дима, не вслушиваясь, кивает. Они поднимаются по крутой лестнице — лифт, как обычно, сломан. Нельзя сказать, что Дима бывает здесь часто. Всего-то и приходил раза три… четыре. И все-таки это запущенное жилище кажется ему почему-то едва не родным. Точными (а точнее, лабораторными) движениями Кирилл расставляет чашки. «У вас уютно — очень похоже на Бейкер-стрит». «Вот как? — Кирилл поднимает брови. — Все правильно: жилище старого холостяка, да еще и с камином. Но сейчас мне хотелось бы побеседовать не о Шерлоке Холмсе и интерьерах». «Да?» Дима поворачивается — и Кирилл уже не впервые с каким-то насмешливым удивлением фиксирует безусловное сходство его мальчишеского лица с лицом пожилой дамы на портрете, висящем здесь же, чуть в стороне от чайного столика. Сделанная за год до смерти, фотография была как-то необыкновенно удачна. «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит», — с удовольствием повторяла Татьяна Александровна, а однажды с улыбкой добавила: «Когда умру, повесь ее на стене. Хочу видеть, кто к тебе ходит в гости». «Чего больше: грусти или облегчения, оттого что теперь она может присутствовать здесь только в виде портрета?» — в очередной раз мелькает в мозгу Кирилла, и, с раздражением откинув эту мысль, он строго спрашивает Диму: «Почему ты не говорил мне, что занимаешься рисованием?» — «Я и не занимаюсь». На Диму вдруг накатывает какая-то тяжелая и мутная волна, неужели я захлебнусь, проносится в голове, о чем я, спрашивает он сам себя и в надежде на помощь поднимает глаза на Кирилла. Тот смотрит строго: «Не надо меня разыгрывать. Рисунок показывает не только способности, но и отличную школу. Так справиться с обнаженной натурой!» Вынув отобранный на уроке тетрадный лист, он легонько пристукивает по нему ладонью, и Артемида с лицом Эльвиры, вздрогнув от гнева, выхватывает свой лук. Побледнев, Дима выдергивает рисунок, вскакивает, хватает школьную сумку. «Погоди. — Кирилл даже и не пытается встать. — Я не прав: сбой всех систем и полная потеря самообладания. Видишь ли, в очень давние времена я больше четырех лет отучился в нашей прекрасной, молью изъеденной Академии. Потом сознательно этот процесс оборвал и больше к кисти не притрагивался. Изредка ампутированная рука ныла. В последние годы редко. Но сегодня, когда я увидел эту твою на тетрадном листе нарисованную богиню-охотницу…» Он вдруг начал отплевываться визгливым злым смехом, и замусоленный эпитет «визгливый и злой» на глазах приобрел графически ясные очертания (где, на какой картине именно так смеется шут в огромном колпаке с бубенчиками?). «Да, так когда я увидел эту твою прекрасную амазонку… — Кирилл хихикнул, и в Диминой голове отчетливо пронеслось „бежать, бежать прямо сейчас“, но почему-то выполнить это было немыслимо, и он продолжал сидеть, аккуратно держа в руках чашку с еще не остывшим чаем, а Кирилл, распаляясь все больше, выкрикивал с пьяным остервенением: — Знаешь, что выяснилось? Что ко всем радостям во мне спрятан еще и маэстро Сальери. Крупный такой, мускулистый, против которого я — ничто, тьфу, былинка». Кирилл наконец замолчал, крепко провел по лицу рукой, пытаясь снять возбуждение и расставить черты по местам, но попытка не удалась. «Удивительно, что тебе вздумалось превратить ее в Артемиду-Диану. — Один глаз был почти закрыт, другой горел лихорадочным зеленым блеском. — В Эльвире намешана куча всяких кровей, но больше всего она в самом деле похожа на бабку-гречанку. В старости та превратилась в жуткую ведьму, но, странным образом…» — «Извините, Кирилл Николаевич, мне пора». Не слушая и даже в самом деле не слыша Кирилла, Дима поспешно выскакивает на лестницу. Его трясет, зубы стучат. Что это? Неважно, он во всем разберется позднее. «Чего ты испугался? — кричит ему вслед Кирилл. — Боишься вопросов или ответов? Эй, нельзя быть слабонервным! Художники — это народ стального здоровья, а все их нервы — сплошной маскарад. Так что если решил податься в искусство, то закаляйся, иначе не сдюжишь, мокрое место от тебя останется!»
«Выкрикивал он мне какие-то угрозы или все померещилось?» — думает Дима, стоя на другой день у подъезда Эльвириного дома. Обычно здесь, вблизи ее окон, все посторонние мысли просто отсутствуют. Но вчерашний, дикий, не во сне ли приснившийся разговор зацепил и не отпускает. Что-то кончилось, что-то кончилось, неотвязно стучит в голове. И куда теперь мне, куда? «А ты догадайся!» — издеваясь, танцует перед глазами насмешник с бубенчиками. Звенят бубенчики, ветер промозглый, и зубы стучат, выбивая дурацкий мотивчик, и кости пляшут. Эльвира больна. Почему эти слова так пугают? Скорее всего, простуда, банальнейшая, осенняя. И все-таки. Почему бы не взять да и не подняться на ее третий этаж? Откуда это неотпускающее предчувствие беды? Надо бороться с ним, надо что-то делать.
Ветер с дождем погнали его вперед, и он сам не заметил, как оказался уже на Мойке; шел, выдвинув вперед плечи, опустив голову, не обращая внимания на потоки воды, которыми щедро окатывали проезжавшие мимо машины. Таким и увидел его Кирилл, свернувший налево с Малой Конюшенной. На секунду испытал искушение окликнуть, но тут же одернул себя: зачем? Побеседовать наконец с матушкой — вот это действительно правильное решение. Подняв воротник, Кирилл деловито и твердо зашагал прежним маршрутом, но мысли, отказываясь входить в разумное русло, скакали вразброд и все снова и снова наталкивались на ту девушку, которую все звали Эль. То, что она бесследно растворилась, в общем, неудивительно. В мастерскую Петьки Артюхина ее привел Модзалевский. Но не прошло и месяца, как Модзалевский погиб. Непонятная, так и не выясненная история. Были разные версии, все обвиняли друг друга, кто-то, правда, сам каялся. От всего этого остался тяжкий привкус. И появилось желание навсегда завязать с этой их андеграундовской тиной. Но прошло около года, и желание разыскать Эль перевесило все остальные соображения. Заранее морщась, он все-таки пошел к Петьке. «Рыжая? — Хозяин старательно открывал принесенную Кириллом бутылку „Столичной“ — Да их тут дюжина была, рыжих. Когда, ты говоришь? Когда Гришка съездил по роже Вартана? Ну, тогда все набрались будь здоров, рыжих от серых не отличить было». Больше он никого не расспрашивал. Но воспоминание о девушке в нелепом, чуть с плеч не падающем грубошерстном свитере, упрямо спрашивавшей «ты кто? нет, ты ответь мне: ты кто?» и успокоившейся, только получив ответ «я неудачник», жило в нем еще долго. В последний раз ярко вспыхнуло, когда, оттрубив полагавшиеся три года учительства, он подумал: а почему бы здесь, в школе, и не остаться, в конце концов, тоже — вариант. Но все это было потом, за арктической толщей лет, а тогда, в новогоднюю ночь в мастерской, услышав наконец выбитое из него «я неудачник», Эль посмотрела на него серьезным, почти детским взглядом и счастливо улыбнулась: «Я так и думала. Увидела тебя — и сразу поняла, что мы из одного карасса». Откуда эта нелепая мысль, что мать Димы Скворцова окажется рыжей Эль, вынырнувшей из того безалаберного и наглухо заколоченного прошлого? Когда это впервые пришло в голову? Когда мелькнуло предположение, что, в общем-то…
«Давно пора было познакомиться с этой мифической Еленой Дмитриевной, — язвительно говорит он кому-то несуществующему, — но лучше поздно, чем никогда, и так далее, но что — далее?» Кирилл со злостью толкает массивную дверь, та с трудом поддается, доска с расписанием висит, к счастью, здесь же, напротив. Так. Скворцова Е. Д. в 15:40 заканчивает занятие в 314-й аудитории. На часах было 15:52, но Кирилл решил все-таки попытаться. Аудитория оказалась просторной комнатой с эркером, пустыми нишами по углам, кое-где уцелевшей на потолке лепниной. Ударивший в окно солнечный луч на мгновение ослепил, и сначала Кирилл услышал взрыв хохота, а потом уже разглядел сгрудившихся возле преподавательского стола студентов. «Елена Дмитриевна?» Лицо в очках вынырнуло навстречу. Нет, эту женщину он, слава богу, видел впервые в жизни. Сходства с сыном в ней почти не было. Худенькая, с подвижной мимикой, чуть похожа на обезьянку. Лицо покрыто сеточкой морщин, которые так и хочется подцепить осторожно пальцами и снять, как налипшую паутину.
Их разговор… Кирилл пытался потом воссоздать его в памяти, но что-то главное ускользало. С первой минуты она сумела захватить инициативу (хотя, может быть, он и сам ее к этому вынудил), и мячики реплик бессмысленно залетали по воздуху. «Димка мне столько про вас рассказывал». — «Извините, что я ворвался…» — «Наоборот, вы меня выручили. Мы уже битый час обсуждали программу „Турнира знаний“, а я ужасно опаздываю». В раздевалке она надела спортивную куртку. Капюшон, молнии, металлические заклепки — все это, как и жест, которым она залихватски закинула на плечо сумку, заставляло поежиться и все же требовало признать: сняв очки и отбросив преподавательские заботы, Елена Дмитриевна, пожалуй, могла затеряться в толпе старшекурсников. По дороге к автобусной остановке она говорила, перебивая сама себя: «Какая мерзкая погода! Но вообще я люблю дождь. Вы, естественно, не поверите, но мне стыдно, что я никогда не хожу на родительские собрания. Причин несколько. Дело не только в нехватке времени, хотя я действительно в постоянном цейтноте. Чтобы не превратиться в механическое пианино, стараюсь следить за новинками, охотно беру спецкурсы и вынуждена соглашаться на общественные нагрузки: их ведь всегда безбожно сваливают на молодых. Предполагается, что старшие свое отработали. Вам-то, наверно, странно, что я, мамаша десятиклассника, все еще хожу в младших, но, увы, в институте меня все еще числят позавчерашней студенткой. Впрочем, — она обернулась к Кириллу и с удовольствием похлопала ресницами, — в школе дело обстоит так же. Года два-три назад (когда классной была еще Валентина Романовна) я пришла на собрание и только хотела подняться по лестнице, как была остановлена завучихой: „Девочка, ты куда? Сначала надо раздеться“. Она щебетала и щебетала, но потом, то ли почувствовав раздражение спутника, то ли сама спохватившись, вдруг резко сменила тон. — Я благодарна вам за заботу о Димке. Я понимаю, почему вы пришли. Я, конечно, догадываюсь: он вызывает беспокойство. Но что же делать? Такой нестандартный мальчик. Как бы это сказать? Вне рамки. Да, именно так, вне рамки. Но как же тут быть?» — «Вы знаете, что он рисует?» — «Еще бы! Все стены завешаны. И чуть ли не половина рисунков — карикатуры на меня и на моих друзей». — «Елена Дмитриевна, вы понимаете, что он очень талантлив?» Капюшон вздрогнул: «В шестнадцать лет это часто бывает». Какое-то время они шли молча. Пытался ли он подыскать слова? Ждал ли чего-то? «А вам правда кажется, что из Димки может образоваться художник? — заговорила она наконец. — Он ведь к своим работам всерьез не относится. Отказался от предложения показать их кому-нибудь из маститых. Ни разу не говорил, что хочет учиться в Мухинке или тем более в Академии». — «Может быть, просто не видит, у кого там учиться». — «Все для него слишком плохи?» Она защищалась иронией, было понятно, что это ее единственный способ защиты и потому она от него не отступится. И свою роль джинсовой девочки, с первого взгляда неразличимой в толпе студентов, ока тоже воспринимала, скорее всего, с иронией, но что это меняло по сути? «Лет в двенадцать-тринадцать он писал очень странные сказочные истории, — неожиданно человеческим тоном сказала Алена. Голос зазвучал доверительно, но не было ли в нем и фальши? Кирилл вдруг очнулся. Зачем он идет по набережной с этой все-таки безусловно несимпатичной особой? Зачем играет роль мужественного и благородного Учителя? — В этих сказках речь шла про „Королевство глупцов“. — Ее глуховато-вибрирующая интонация словно лишала чувства реальности и куда-то засасывала. — Многие эпизоды были насквозь фантазийные, мрачноватые, другие — хорошо узнаваемые и смешные, но почти все заканчивались неожиданно и страшно. Например, дети решили устроить веселый костер и сожгли в нем все игрушки, которые им подарили на елку, а родители так рассердились на это, что выкинули детей в окошко, а потом сели и стали плакать. Но тут вошла фея, она жила рядом, почувствовала запах гари и пришла выяснить, что случилось. „У нас большое горе“, — сказали ей родители. А фея засмеялась и ответила: „Это не беда, любое горе можно съесть с кашей“. И она наварила много-много каши. Каша была очень вкусная. Они ее съели и стали все вместе водить хоровод. Здесь „Мальчик-с-пальчик“, конечно, присутствует. И вообще впечатлительным детям не надо, наверно, читать братьев Гримм. И все-таки я тогда места не находила от беспокойства. Было понятно, что он ужасно несчастен, а помочь — нечем. Но помаленьку все выправилось. Сначала он перешел на дурашливую ерунду. Про жабу, которая раздулась от важности — и лопнула, а в животе у нее, оказывается, был целый город с пряничными домами и золотыми петушками, про человека рассеянного, который забыл, куда шел, и все пытаются ему помочь, подсказывают: может, в кино, может, в милицию, может, в бассейне поплавать… Потом, думаю, и совсем перестал писать, но зато снова стал отличником. Пятерки — ерунда, но все-таки свидетельство неплохо слаженной работы организма. О том же свидетельствовали глаза. Из них наконец исчезло безнадежно-тоскливое выражение. Он стал просто серьезным мальчиком со своим внутренним миром. А ведь это не криминал? И знаете, — без малейшего перехода она словно стряхнула искренность и снова принялась жонглировать словами: — Димка ведь уже год, как ведает нашим бюджетом. Без него мы бы вылетели в трубу. А так он мечтатель, но и весьма бережливый хозяин. Ой, это мой автобус. — И, уже встав на подножку — А вы меня не узнали? Мы ведь знакомы были, — она улыбнулась, — правда, недолго и о-очень давно».
…Не люблю акварель, думает Дима, но как иначе передать ощущение прозрачного цветного облака, которое окружает ее все последнее время колеблющейся живой дымкой (тенью?). Это странное облако иногда совсем легкое, иногда гуще. Оттенки тоже меняются. В какие-то моменты оно сиреневое, потом становится… красноватым. С чем связана разница? С ее настроением? С временем суток? Сегодня, когда он «стоял на часах» у ее подъезда, какая-то мысль вдруг мелькнула на миг — и исчезла. Надо вернуть себе то состояние. Ну-ка… Сырой влажный холод, пробирающийся сквозь подошвы ботинок, острые ножи ветра, размытость граней между реальным и выдуманным, чувство нежности к дому, в котором она живет, — надменному дому с высокими узкими окнами, ажурными решетками ложных балконов и орнаментом из цветов, змеящихся сверху донизу вдоль по фасаду. Этот дом — ее замок, убежище, крепость. Все живущие в нем — служители ее ордена. Недостойных он просто не замечает, среди тех, кто достоин быть в свите, у него есть рядовые и любимцы. Вот хлопнула дверь — и по лестнице быстрым шагом спускается человек в берете, лихо заломленном на ухо. Дверь открывается — да, конечно же, это он. Под мышкой не шпага, а старый черный портфель. Выйдя на улицу, он минуту стоит, словно заново привыкая к суете современной городской жизни, а потом быстрым и легким шагом идет направо, к троллейбусу. Еще стук двери. Танцующий шаг. Это скрипачка. Она живет на одной площадке с Эльвирой и всегда ходит в Консерваторию пешком. Возвращается тоже пешком, почему-то всегда одна. В весеннем пальто и вязаной шапочке, с горлом, трогательно замотанным толстым шарфом. Однажды Дима захотел подарить ей цветы и, купив букет белых, в золотом венчике нарциссов, дождался, когда танцующая фигурка спустится по шести лестничным маршам, выскочит чуть не балетным прыжком на тротуар и зашагает утрированно деловитой походкой, а потом, молча пожелав ей счастья, плавным движением кинул букет в блестящую черную воду канала. Но теперь… Снова стук двери. Грохот, и после паузы свистящий шепот Алены: «А, ч-черт!» Акварельная кисточка замирает у Димы в руках. Он ждет минуту, другую. Мать явно пришла в отвратительном настроении. С чего бы? Убрав рисовальные принадлежности, Дима выходит в кухню. «Добрый вечер». — «Да уж, добрее не бывает, — Алена явно прикидывает, на чем сорвать злость. — В подъезде снова разбили лампочку. Чуть ногу не сломала». — «Но обошлось?» — «Когда-нибудь не обойдется. Ну что ты смотришь покровительственным взором? Знаешь, меня твое спокойствие иногда просто бесит». — «Что у тебя случилось?» — «Как же, держи карман шире, случилось. Ты когда-нибудь видел, чтобы и вправду где-то что-то случалось? И вообще, иди спать, уже поздно». Отвернувшись, она начинает что-то пересыпать-перекладывать. Но едва Дима ушел к себе, дверь открывается и мрачная Алена, не говоря ни слова, входит в комнату. Какое-то время стоит, барабаня по косяку, потом вдруг, вцепившись в волосы, начинает выхаживать из угла в угол: «Я больше так не могу-у!» — «Но в чем дело? Поссорились? Спектакль не понравился?» — «Спектакль был просто великолепен! И если б не эта скотина…» Пауза. Яростное отшвыриванье всего, что ни попадется. Наконец она останавливается, растрепанная и смешная, с бешено горящими глазами: «Димка! Я ему месяц назад сказала, что приезжают французы и „Синий лес“ я хочу посмотреть непременно. Знаешь, что он ответил? Да, лапонька, я бы и сам не прочь, но где же достанешь билеты?» Ладно, нажала на кнопки — достала. Мсье был доволен. Третьего дня столкнулись на выставке с его школьным приятелем. Они не виделись больше года. Какие новости, как дела? И что ты думаешь? Этот гад чуть не сразу: «Неплохо, стараюсь быть в курсе событий. В четверг, например, идем посмотреть, действительно ли так хорош „Синий лес“. Приятель (он критик) с удивлением поднимает бровь: „Ты, я вижу, со связями“. А наш друг в ответ улыбается и с удовольствием мне подмигивает!.. Весь ужас, — она опять мечется, — что он вовсе не так уж надмирен, как представляется. Беспомощный бэби с плешью в полголовы — просто удобная поза. Перед другими он ее упоенно разыгрывает, а при мне даже забывает притворяться…» «Ну и что же спектакль?» — с трудом сворачивает ее с наезженной дороги Дима. «Спектакль? — Она раздраженно трет лоб. — Знаешь, это так сразу не объяснишь. Первый акт в самом деле не ах, и, конечно, в антракте наш обожаемый произносит на все лады: „Признай, лапа, что пьесу безбожно перехвалили“ и в сотый раз начинает про труппу Барро, про то, какое он получил тогда наслаждение. Причем заметь, я-то отлично помню, с кем он тогда наслаждался, а он не помнит, его занимает одно: доказать, что „Колумб“ несравним с „Синим лесом“, который мы смотрим. Терплю. Я же ангел. Я ангел с девятилетним стажем, при меньшем стаже я уже взорвалась бы, но я пью лимонад и слушаю, как он гнусавит: „Да, что поделаешь, выпадают и неудачные вечера“. Хорошо, начинается второй акт… Димка, иначе чем гениальным это просто не назовешь. Тоненькая былинка в красном — заметь, в красном — подходит к Терезе и Жаку, застенчиво смотрит на них и нежным тоненьким голосом говорит: „Я — смерть“. Те слышат, секунду ее рассматривают, а потом продолжают спорить, доказывать что-то. Смерть слушает, раза два хочет что-то сказать, но они просто не видят ее, и тогда она снова касается плеча Жака и говорит чуть погромче, чем в прошлый раз: „Остановитесь, послушайте, я же смерть, но меня можно еще отогнать, вы же видите, я совсем слабая, со мной любой справится“. В пересказе это не передашь, но главное вот что: в какой-то момент начинает казаться, что Тереза и Жак — какие-то роботы-автоматы, а смерть рядом с ними, которая только что была чуть ли не тенью на фоне кулисы, — живая. Ты понимаешь? И как это сыграно! От реплики к реплике пластика неуловимо меняется. В героях все меньше жизни, и она будто перетекает в смерть, а та вовсе не радуется, а горько раскачивается и ведет свой монолог. Зал слушает, как один человек, Димка, это вообще случается раз в десять лет… и вдруг я чувствую, возле меня что-то скребется. Смотрю и вижу: наш общий друг лезет куда-то под стул. Чешется? Уронил что-то? А он, наконец распрямившись: „Я пытаюсь определить, сколько времени. По-моему, без четверти одиннадцать“. Дима! Я его чуть не убила! На нас, как ты сам понимаешь, шипят, что делается на сцене, уже непонятно, спектакль вдрызг испорчен. А этот болван объясняет: „Нет, если ты хочешь, останемся до конца, но я не успею тебя проводить“. Мне хочется придушить его, я поднимаюсь и лезу к проходу, наш гениальный за мной, изысканно извиняясь, кто-то шипит „позор“, дражайший чуть не вступает с ним в объяснения, наконец мы выбираемся, меня уже просто колотит, а он улыбается, радостный, как младенец. Это же патология, Дима, мужику сорок четыре года, а он должен быть дома, потому что „мама волнуется“. Мама, которая отдала ему всю жизнь. Вранье это все к тому же. До двенадцати лет он жил с бабушкой, а она получила его готовеньким — готовеньким выполнять все ее маразматические требования. Дима! Это такое унижение, такая мерзость. Я не могу так, я не могу, я сдохну!!!» — «Не можешь, не можешь, все хорошо, все в порядке». Крепко обняв за плечи, Дима ведет ее в кухню. Где эти чертовы таблетки, которые Иришка принесла в прошлый раз, сказав «если снова выйдет из берегов, давай ей по две штучки; безвредно, проверила на себе»? Ага, вот они. Мать послушно проглатывает, запивает, «такой спектакль, и так его мне изгадить! У него просто талант. Или… он делает это нарочно? — Она резко вскакивает, но Диме удается снова усадить ее. — Как я устала!.. Как я устала… И еще я ужасно голодная». — «В этом, скорее всего, половина беды». Дима подсовывает ей тарелку. И Алена начинает есть. Сначала мрачно, с ожесточением, с выставленными вперед локтями, потом спокойнее и веселее. «Знаешь, что удивительнее всего? Актрисулька, игравшая Смерть. В ней было что-то такое завораживающее. Казалось: один раз посмотришь в такие глаза и пойдешь, уже не оглядываясь. Оторвешься от всех здешних дрязг — и откроется небо… Правда, уже Толстой об этом писал. Но иначе. Димка, мне все-таки очень жалко, что ты совсем-совсем не любишь театр». Позже, когда они уже разошлись по своим комнатам, Алена долго ворочается, не может уснуть, потом встает и, набросив халат, идет к Диминой двери. «Димка, — тихонько стучит она согнутым пальцем. — Димка, я давно собираюсь спросить: у тебя в „Королевстве глупцов“ что-нибудь новое появилось?» Дима слышит ее, но молчит. «Ну хорошо, — вздыхает голос матери. — Не хочешь говорить, не надо».
…Дождь сеял косо. Эльвира несла над головой светлый зонтик. Шла, как обычно, легко и неторопливо, и, чтобы поспеть за ней, Дима летел. Чувство полета было пугающим и странным, пожалуй, ему хотелось бы опуститься на землю, но тогда она ускользнула бы — это он знал абсолютно точно. Город внизу кренился, разноцветные улицы, дома, скверы — все вдруг оказывалось под углом к горизонтали, еще чуть-чуть — и они посыплются, как игрушечные, в подставленную чьей-то аккуратной рукой коробку. «Не надо, — шептал Дима, — не надо, прошу тебя, сохрани, сбереги». Он не знал, к кому обращался, не знал и о чем просил, глаза его были прикованы к ускользающей, тонкой, всю жизнь вобравшей в себя фигурке в развевающемся на ветру плаще. «Подожди, подожди-и!» И слова его были услышаны. Настала какая-то небывалая тишина. Чуткий, полный дыхания и теней, призрачный город замер. И слышен был только легкий стук ее каблуков. Цок-цок, цок… цок. Она замедлила шаг, пошла медленнее, совсем медленно, остановилась и, обернувшись, посмотрела ему прямо в глаза. Взгляд шел откуда-то из бесконечности, и за спиной у нее была бесконечность. Бесконечность была пространством, в котором они находились вдвоем, и это преобразовывало все ощущения в легчайшую взвесь, словно сеющий дождь заполняющую весь воздух. Не сводя глаз с Эльвиры, он прошел три шага, которые отделяли их друг от друга, и медленным плавным (привычным?) движением — как во сне, как в воде — бесшумно взял ее на руки. И сразу ее глаза оказались рядом с его глазами. Большие, печальные, темные, они смотрели устало и грустно. На левом — лопнула на белке жилка. На правом — чуть-чуть размазалась в уголке тушь. Со странным чувством путешественника, ступившего на вновь открытую землю, он разглядывал хрящ ее носа, обтянутый охристо-белой безукоризненно гладкой кожей, родинку, оказавшуюся и больше, и бархатистее, чем представлялось, едва заметную паутинку морщинок, бегущих к вискам, и короткие, на круглые скобки похожие складки у губ. У губ. Коснуться их он не мог — мог только пить и пить глазами. «Ну а теперь давай попрощаемся, — тихо сказала Эльвира. — Не надо больше ходить за мной, не надо ждать. Хорошо?» «Нет, — Дима мотнул головой. — Я всегда буду рядом». Она улыбнулась, и что-то, чего он не понял, мелькнуло на дне похожих на темное лесное озеро глаз. «Ну что же, как хочешь, — сказала она. — Только потом, пожалуйста, не обижайся». Откуда-то сразу вдруг появившиеся прохожие стали немилосердно толкать его со всех сторон. Резко затормозила машина. Лязг, шум, грохот улицы подхватил и понес куда-то. Эльвира растаяла.
Когда закончился первый урок, он, никому не сказав ни слова, спустился в раздевалку, оделся и вышел. Истории по расписанию все равно не было. А видеть все эти морды он больше не мог. И еще: не хотел видеть Кирилла. Слово «предательство» плавало где-то в сознании, к чему оно относилось, было неясно, думать об этом не хотелось. Последние два дня казались двумя веками. Нет, даже иначе: все прежнее располагалось на равнине, похожей на огромное плоское блюдо. Находящееся на блюде можно было рассматривать, но сам он уже был в другом измерении. Что-то переменилось. И надо было понять, как в этом переменившемся мире жить. С хохотом проскочила девушка, похожая на Люду Степанову. «Слишком простые ответы редко бывают самыми правильными», — любил повторять Кирилл Николаевич. Иногда говорил это в классе. Но, в конце концов, это суждение — тоже простой ответ. Каким легким было то время, когда все суждения Кирилла воспринимались как откровения. Надо смириться с тем, что оно прошло, и с тем, что Кирилл никогда ему этого не простит. Фраза выскочила сама собой. Он невольно остановился, повторил ее вслух. Да, так. Но за этим пластом еще много других. Ничего, постепенно он в них разберется. Идти в толпе стало заметно легче, бессознательно примеряясь к общему ритму, он углом глаза фиксировал забавные сценки, подмечал странный поворот головы, карикатурно выкаченные глаза, внезапный нелепо-царственный жест. Посмеиваясь, одобрительно улыбаясь, любопытно приглядываясь, он машинально повернул направо, снова направо, перешел через мост и, сам того не заметив, постепенно приблизился к школе.
«Нет, это потрясающе!» — замахал кто-то кулаками у него перед носом. Он вздрогнул — и увидел сияющую физиономию Поповского, с неописуемой радостью восклицавшего: «Про такие поступки, милорд, принято говорить „этому нет названия“. Сбежал из школы и подвел коллектив. Смирночка с ума сходит. Мало того что Пашкова, которая обещала передовицу „Наши любимые учителя“, уехала на три дня в Псков с „Ансамблем любителей старинной музыки“ (ты вообще слышал когда-нибудь про такое? — умора), так еще и ты вдруг, не говоря ни здрассте, ни до свиданья, взял и растаял в лазурной дымке, выбросив оформление газеты на произвол злодейки-судьбы». По-прежнему захлебываясь от возбуждения, Поповский обдавал Диму потоком школьных новостей, а Дима видел его в красной чалме и костюме корсара пляшущим на волшебном блюде, тесно уставленном событиями в одночасье отплывшей куда-то в прошлое жизни. На секунду пронзил испуг. Пожалуй, хватит этих видений и прочих фокусов. «Стоп! — взял он Борьку за пуговицу. — Заткни фонтан! Хотя бы на минуту». Поповский послушался. Какое-то время они спокойно шли рядом. «Была контрольная, — лениво сообщил Борька и вдруг подпрыгнул: — Я же не сказал главного! Главное — про Эльвиру! Зуб даю, никогда в жизни не угадаешь! Да и как угадать? Но все точно. Жена Витамина явилась в школу и устроила грандиозный скандал. Пыталась впутать и Римму. А та шла пятнами и только блеяла: но при чем же тут я? При чем же тут я? А Витаминиха: вы завуч! Именно вы развели в школе этот гнилой либерализм». Борька в восторге гримасничал носом, ушами, щеками. «Нет, ты можешь такое представить?» — «Что я должен себе представить?» Дима почувствовал вдруг, как одевается ледяной коркой. Весь, с ног до головы. Корка была очень жесткая и едва не лишала возможности не только двигаться, но даже говорить. С трудом раздвигая губы, он спросил, удивляясь невнятности и бессвязности вылетавших из горла звуков: «О чем я должен представлять?» Борька в восторге захохотал: «Понимаешь! Невероятно, но факт. Эльвира на каком-то там месяце от Витамина и — вот-вот! будет! рожать!» Округло выставив руки, Борька расплылся в какой-то старушечьей сладкой ухмылке: «Да! У нашей царицы сидит вот тут маленький Витаминчик». «Ты, кажется, давал зуб? — стиснутый той же ледяной коркой, с трудом вытолкнул из себя Дима. — Ну так давай». Он ударил — и неожиданно Борька отлетел чуть не на метр. «Милиция!» — закричал женский голос, но Дима уже не слышал.
Он пробежал проходным двором, но сам этого не заметил. Вообще он понял, что бежит, и не просто бежит, а мчится с какой-то рекордной скоростью, только когда почувствовал, что сейчас сердце выпрыгнет из горла. «Эх, жаль Витамин не видит», — успело промелькнуть в голове, и он сразу же замычал от тяжелой, почти непереносимой боли. «Акх, акх, акх», — теснилось где-то в груди. По стволу дерева он медленно осел на землю, земля была влажная, и он стал ее есть. Как потом оказалось, это был скверик, маленький угловой скверик, затиснутый между домами. Здесь не гуляли дети и не было лавочек для молодых мам и пенсионеров, и здесь, никем не потревоженный, он провел сколько-то времени; гул улицы доносился издалека и не мешал, а убаюкивал. Наконец ему захотелось встать. Он поднялся и побрел куда-то, неторопливо, сутулясь, покачивая головой и что-то под нос пришепетывая. Понял, куда идет, только когда нажал кнопку звонка. Эльвира открыла и даже не удивилась. Она была очень спокойная и красивая. Поверх широкого теплого длинного платья накинута пестрая шаль. «А под ней — брюхо от Витамина», — напомнил себе Дима. «Тебе надо умыться, — сказала она, — идем». «У вас голос похож на поющих ангелов, — с трудом двигая мышцами рта, сказал Дима. — Но как же вы могли, как вы…» Он повалился к ее ногам и заплакал. Это был страшный, судорожный щенячий лай. Кажется, кто-то выглядывал из соседних дверей, кажется, она все-таки отвела его в ванную и он долго плескал в лицо теплой водой, кажется, она чистила щеткой его одежду и кормила его бутербродами, а потом он оказался снова в дверях и она тихо, но уверенно сказала: «Тебя здесь не было, Дима, тебя здесь не было. Понял?» Он кивнул и вышел на лестницу, спустился, пошел вдоль канала, завороженно глядя на отражающиеся в маслянистой воде огни фонарей. Как красиво, думал он, как красиво. Больше ни одной мысли в голову не вмещалось. В какой-то момент он сел на скамейку, заснул. Когда проснулся, резвая стайка малышей бежала со смехом в школу. Он понял, что где-то, когда-то, давным-давно потерял свою школьную сумку. Но кошелек был в кармане брюк, и, нащупав его, он обрадовался. Почему-то стало понятно, что делать дальше. Отвергнув все виды транспорта, он прошел до Финляндского пешком, сел в электричку и, успокоенный сознанием наконец появившейся цели, поехал в Зеленогорск, но, услышав, как механический голос бесстрастно произнес «Платформа Дибуны», вдруг выскочил из вагона и пошел по грунтовой, неизвестно куда ведущей дорожке, медленно повторяя: «И что за станция это, а, люди добрые, ну расскажите мне, ну что за станция?»
Далее никакой ясности. Мерещится почему-то берег залива, вытащенная на песок лодка и даже растерянная фигура почесывающего в затылке милиционера возле остывшего уже тела. Пейзаж, безусловно, напоминает окрестности Зеленогорска, но ведь Дима вышел из электрички раньше, значит, скорее всего, решение изменил. Куда вероятнее, что он вернулся… через два дня. Вошел, тихо открыв дверь ключом, рано утром. В кухне — горы немытой посуды и что-то разлитое на полу. В комнате матери пусто, зато у него — полный сбор. Мать с Иришкой спят на его диване, в кресле храпит покрытая пледом гора. Кубасов? Да, точно, Кубасов. На раскладушке, в спальном мешке, неожиданно тяжело дышит Татка; параллельно с ней, на полу — закутанный в одеяло Рогалик Дима смотрит на них, потом присаживается на корточки. Сидит, прижавшись спиной к косяку и кривя рот: «Приехал назад, ха-ха-ха, в Ленинград, ха-ха-ха».
…В школу он не пошел ни в первый день, ни во второй, ни в третий. Когда мать уходила в институт, в квартире сразу же кто-нибудь появлялся (Иришке необходимо срочно закончить статью, а ее пишущая машинка на ладан дышит, Кубасов вечером уезжает в командировку, таскаться за чемоданом к себе на Гражданку просто нет времени, и даже Наш общий друг «вдруг освободился раньше, чем ожидал»). «Не надо меня караулить, — говорит Дима, — ни резать себе вены, ни сбегать я не предполагаю». — «Господи, ну о чем ты?»
Оставшись один, Дима сначала зачем-то обходит чуть ли не все углы. Долго стоит перед зеркалом в ванной, неторопливо себя разглядывает, потом, дотянувшись на ощупь до тюбика, зубной пастой рисует на стекле крест: горизонтальная черта проходит через переносицу, вертикальная строго делит лицо на две половины. Внимательно глядя на свое взятое на мушку отражение, он ждет; потом аккуратно стирает белые линии и идет в кухню поставить чайник.
Час спустя, войдя к себе в комнату, Дима неторопливо подошел к столу, поморщившись от усилия, выдвинул нижний правый ящик, достал из него зеленую папку, вынул рисунки и, понимая, что работа будет большая, принялся не спеша, деловито, сосредоточенно разрывать их на куски. Когда все было закончено, принес из кухни два ведра и запихал туда, уминая, обрывки бумаги, а также кисточки, акварельные краски, белила, гуашь. Чуть помедлив, содрал рисунки со стен, связал их в пачку, сунул в старый рюкзак и спустился во двор, к помойке.
Несколько следующих месяцев он усиленно занимался. С Витамином проблем, к счастью, не было: Татка, имевшая нужные связи, помогла раздобыть освобождение от физкультуры.
Сирень цветет
Дверь мне открыл Борис, веселый, растрепанный, в синей рубахе, завязанной на животе узлом. Мгновение глядел ошарашенно, потом резко встряхнул головой, завопил радостно на всю квартиру:
— Наталья?! Вот это здорово! Вовремя, мать, подоспела, вовремя. Люда! Иди Наталью встречать!
— Наталью? — Люда вышла из кухни затрапезная, в фартуке; волосы как-то особенно неудачно убраны от лица и стянуты на затылке в хвостик. Увидев меня, обрадовалась:
— Наташка? Вот это сюрприз.
Потом усмехнулась:
— Я рада тебе, проходи.
— Но я же звонила утром. Разговаривала с Борисом, условились, что к восьми.
Люда пожала плечами:
— Он забыл передать. Утром мы за город собирались, в Звенигород.
В кухне, спрятавшись за огромным букетом сирени и что-то листая, сидел наш общий знакомец Петруша. На переднем плане дама в бриллиантовых кольцах чистила картошку. Удобнее было, наверно, кольца снять, а впрочем, откуда я знаю, может, ей так привычно.
— А я рад тебя видеть. Ты что-то давно не была, — говорил Борис, улыбаясь, размахивая руками, — а мы, знаешь, отличненько прокатились сегодня. Солнце. Сирень цветет.
— Здравствуй, — сказал из-за букета Петруша, — приветствую столичную театральную критику.
Он лениво поднялся, прошел мимо дамы с бриллиантами, как мимо перегородившего дорогу трактора, и остановился, внимательно меня разглядывая.
Когда-то под взглядом Петруши я чувствовала себя жуком, насаженным на булавку. Потом привыкла к этому просверливанью. Да и чего было смущаться? Петрушу никто не воспринимал всерьез.
— Как дела? — спросил он, перекачиваясь с носка на пятку.
— Помаленьку. Статья в «Театре» вышла.
— Карьеру делаем? Приятно слышать. Девушке пора браться за ум.
— Какая карьера? Предложение превышает спрос в десять раз.
— О! — Петруша сделал неопределенный жест. — А ты загорелая. На юг смотаться успела?
— В Ялту, на конференцию.
— На Всесоюзный семинар, — вдруг вспомнил наш утренний разговор Борис, — ну конечно, ты же рассказывала. Запамятовал… старею, братцы, ничего не поделаешь, старею.
Люда подняла голову от овощерезки, посмотрела на него раздраженно.
— Ставлю картошку на плиту и готова к выполнению новых заданий, — пропела бриллиантовая красотка.
Петруша посмотрел на нее так, словно увидел впервые и зрелище оказалось не из приятных.
Борис вдруг всполошился.
— Ведь ты не знакома с Эллой, — закричал он. — Прошу, прошу… — И, взяв меня за локоть, торжественно повел к плите.
Как на грех, приблизились мы в тот миг, когда холеная рука в кольцах поднесла спичку к горелке. Пришлось ждать. Но вот дама поставила кастрюльку на венчик голубого пламени, бросила плавным жестом обгоревшую спичку в металлическое блюдце и повернулась ко мне.
— Элла, — сказала она, ласково улыбаясь, — старый друг Бориса…
Расслышать дальнейшее было немыслимо: кухню разом наполнили чуть ли не все голоса эфира. Затрещали обрывки английских фраз, их перекрыл голос русского диктора, женский писк на неведомом языке и — бодрое хоровое пение. Сморщившись, Элла зажала тонкими пальцами уши.
— Петька, — яростно рявкнул Борис.
— А что? — невозмутимо отозвался наш философ. — Захотелось найти что-нибудь танцевальное.
— Бог с вами, Петя, — голос Эллы звучал умоляюще, — мы сегодня и так целый день на ногах.
— Хлеб резать? — спросила я Люду.
— Пожалуй. Ветчину тоже.
— Я к услугам хозяйки дома, — сказала Элла.
— Спасибо, ничего не нужно. Мы с Наташей справляемся, — вдруг ослепительно улыбнулась Люда, и на фоне этой улыбки светски-приветливое выражение лица Эллы неожиданно превратилось в жалкую ученическую копию.
— Людмила! А тебе впору идти на сцену, — захохотал Петруша.
— Я думаю, Милочке достаточно того, что она талантливая художница, — прощебетала Элла. — Да, Борис! Покажи мне свои и Милины работы. Я же еще ничего не видела.
— На строгий суд? Ну что ж, на строгий суд, — ответствовал Борис и, почему-то расшаркавшись, ушел вместе с Эллой в студию.
— Это еще что за ископаемое? — удивленно спросила я, когда они вышли.
— Тебе же объяснили: старый друг Бориса, — огрызнулась Люда.
— Что значит «объяснили»? Я тоже старый друг, а эту фрю в глаза не видела.
— Кого не видела? — изумился Петруша.
— Фрю. Винительный от слова «фря». Разве не ясно?
— Где уж нам! Не театроведы.
— При чем тут театроведы! Нормальное русское слово. Кстати, не в первый раз отмечаю смутность знакомства эрудита-философа с родным языком.
— Кончайте ругаться, — вдруг весело скомандовала Люда, — а фрю смотрите у Даля.
Петруша послушался, принес четвертый том. Открыли — нашли фрю. Но оказалось, что она не склоняется. «Ай да фря!» — сказать можно, «гони фрю в шею» — неграмотно.
— А жаль, — добавил Петруша, глядя на возвращающихся Бориса и Эллу.
Потом все сконцентрировалось вокруг стола. Долго дебатировался вопрос, убрать ли сирень. Петруша, усевшийся рядом с Эллой, настаивал на том, что не нужно.
— Цветы на столе, весна, ароматы, — говорил он, открывая бутылки.
На секунду мне показалось, что он хочет пролить хванчкару на нежно лимонный костюмчик Эллы. Но он ограничился тем, что причмокнул, глядя, как она играет своим прибором:
— Какая ручка! Какие кольца! Сколько все это стоит!
— Кьянти? — спросил Борис Эллу, перегибаясь через стол и протягивая руку справа от сирени. Сделать это было нелегко, так как сидели мы за столом, годным для компании человек в двадцать.
— Лимонад, — улыбнулась Элла, — ведь я за рулем.
— Немножко можно. За встречу.
Сверкнув бриллиантами (ну прямо голливудский фильм!), Элла стремительно протянула ему бокал:
— Да! За встречу! За удивительную встречу через двадцать лет.
— Четыре дня назад вы виделись, в «Современнике», — уточнил Петруша, наливая себе рюмку водки.
— Ну, это не в счет, — отозвались в один голос Борис и Элла и засмеялись, оттого что воскликнули так дружно, а Люда встала и пошла сливать воду из-под картошки.
Пар поднялся над раковиной столбом; «осторожно!» — крикнул Петруша, но руку уже обварило. Началась суета. Элла предлагала тереть обожженное место мылом; Борис побежал в ванную за одеколоном; «уж лучше водкой», — сказал Петруша; «да замолчите вы», — бросила Люда и ушла в комнату, а все остались за столом, и Элла слегка пожала плечами, и было ясно, что она права, глупо все это, и не надо обращать внимания, надо спокойно говорить о чем-нибудь простом, обычном. И даже Петруша подчинился этому молчаливому приглашению, наклонился к Элле: «Налить?» — и она кивнула, и только обронила едва слышно: «Ах да, ведь я за рулем», а потом сразу заговорила, взволнованно, с жаром:
— Какие все-таки места дивные за Звенигородом. Я и в прошлом году туда ездила. В это же время. День был какой-то легкий, шелестящий. Машина шла — странно — как зверь, почуявший след, и такие мелькали поляны чудесные, перелески. В каком-то месте шоссе изогнулось круто, и открылась даль. Я затормозила — казалось, что машина остановилась сама, — и вышла; ступила на обочину, с нее на траву, а трава высокая, до колена почти, и тянет, тянет, как волны иногда затягивают. Идти с каждым шагом и тяжелее, и легче, и горше, и радостнее. Я иду, смеюсь, слезы по щекам катятся: вот-вот откроется что-то, вот-вот узнается… А потом силы кончились вдруг, упала я на траву, руками в землю вцепилась. А земля колышется подо мной, дышит тяжело. Очнулась я оттого, что руке щекотно стало. Посмотрела — муравей ползет, деловито так, разумно ползет. «Привет, друг, — говорю, — как дела?» А он не отвечает, ползет себе дальше. Ну что ж, думаю, и мне ползти пора. Поднялась, пошла обратно к машине. А возле моей драндулетки мотоцикл гаишный стоит. И страж порядка уже в сумочке роется. «Простите, — говорю, — в чем дело?» «Вы кто?» — спрашивает, а права мои как раз открытыми держит. Я глазами на фотографию показываю, он еще раз всмотрелся, руку к козырьку вскинул: простите, Элла Васильевна, не узнал. Машина находилась на запрещенном для стоянки участке и казалась брошенной. Остановился уточнить ситуацию. «Ну и как, уточнили?» «Так точно», — отвечает. «А я вот не уточнила», — говорю. «Помощь требуется?» — «Требуется, только не ваша, инспектор». Он снова козырнул, вскочил на своего вороного и был таков. А я в зеркальце глянула — боже мой! Счастье еще, что он меня признать согласился.
— Интуиция помогла. Правильно распознавать социальную принадлежность автомобилевладельцев — важная часть их служебных обязанностей.
Но Элла просто не слышала Петрушиной реплики. Пальцы ее крепко сжимали ножку бокала, глаза казались незрячими. Она слушала себя. Похоже было, что она даже про Бориса забыла. Наступило молчание. Я посмотрела на Петрушу, но Петруша сосредоточил внимание на салате. Борис напряженно ждал.
— А неделю назад я пошла на Кузнецкий мост — на выставку, — зазвучал голос Эллы, — и увидела картину: маленькая женская фигура уходит прочь от зрителя по бескрайнему пестрому лугу. И пахнет клевером, надеждой, отчаяньем… И почему-то я поняла, кто автор этой картины, еще до того, как взглянула на табличку.
— Так надо было картину купить и дома в каком-нибудь подходящем месте повесить. И вам было бы хорошо, и всем спокойно, — назидательно сказал Петруша, наполняя рюмки.
Теперь Элла услышала.
— Вы злой, Петя. Зачем вы так со мной говорите? Я вам ничего худого не сделала.
— Надобности не было. Понадобится — сделаете.
— Ты не прав, Петро, Элла добрая. — Голос у Бориса был со слезой. Надраться он, что ли, успел?
— Ты откуда знаешь, что добрая? Вы двадцать лет не виделись. За это время новое бытие Эллы Васильевны по жесткому и давно установленному закону выработало новое сознание.
— Ты хочешь сказать, что жена занимающего привилегированное положение человека не может быть доброй?
— Почему же? Может. Но в рамках этих самых привилегий.
Вернулась Люда. Видно было, что она старалась привести себя в порядок, но усилия дали результат, обратный желаемому. Кожа казалась под пудрой серой, каштановые волосы некрасиво висели вдоль щек.
— Мы говорили о доброте, — сказала, глянув на Люду, Элла.
А ведь у этой дряни удивительные глаза, можно сказать, фиалковые, вдруг пришло мне на ум.
— Я хочу написать твой портрет, Элла, — сказал Борис. — Карандашом. Лицо. Если что-то получится, попробую маслом. Но как передать цвет глаз — не представляю.
— А помнишь, ты звал меня синеглазкой?
Красотка хватала уже через край. На губах Бориса выступила виноватая улыбка, он как-то ссутулился, но имел вид человека, получающего незаслуженно щедрый подарок.
— Водочки, водочки выпить надо, — загудел Петруша. — Люда, тебе налить? Наталья? Не хочешь — дело твое. А ты, Людмила, молодцом. Еще? Отлично.
Но ничего отличного не было. Люда хлестала водку с самого начала. Не подливать ей нужно, а наоборот, увести от стола. Я почувствовала, что начинаю злиться на Петрушу. Чего, собственно, он добивается? И, неожиданно для себя, встала.
— Не дергайся, — насмешливо сказал Петька. — Все идет своим чередом, все уже давно записано в Книге судеб.
— Я что-то не понимаю, о чем у вас речь, — сказал Борис, глядя на Петрушу с полным недоумением.
— А тебе сегодня понимать и не положено, — спокойно ответил тот.
Элла серебристо засмеялась:
— Думаю, дело в том, что все уже захмелели. Да и поздно отчаянно. Мне пора, — докончила она, поднимаясь.
— Секунду, — Борис бросился в комнату.
Элла неспешно двинулась в сторону прихожей.
— Где-то тут была моя сумка, — донесся до нас ее голос. — Вот. Нет, это, наверно, Наташина.
Пришлось идти ей на помощь. За столом осталась одна Люда.
Когда сумку наконец нашли и Элла накрасила губы и обмотала шею длинным шелковым шарфом, спустившимся до конца подола, в прихожей возник Борис, деловито похлопывающий себя по карманам куртки.
— А ты-то куда собрался, хозяин? — растягивая слова, спросил Петруша.
Борис глянул на него изумленно:
— Я должен проводить Эллу.
— Элла на машине.
— Ну и что? Сейчас поздно.
— Вот именно. Пора по койкам.
— Пора, пора, — засмеялась Элла и крикнула в сторону кухни: — Милочка, до свиданья!
Все это напоминало какую-то пьесу, но я никак не могла вспомнить какую, хотя и отчетливо представляла себе следующую сцену, изображающую нас с Петрушей, растерянно топчущихся в прихожей, после того как закрылась дверь за Борисом и Эллой и настала тишина.
Тишину почему-то страшно было нарушить, и возвращались мы в кухню чуть не на цыпочках.
Люда все так же сидела за столом.
— Будь добр, достань мне чемодан с антресолей, — сказала она Петруше.
— Не глупи. Он вернется через полтора часа, — бесцветным голосом ответил философ.
— Я знаю. Это не имеет значения, — сказала Люда.
Петька молчал.
— Мне самой лезть на антресоли? — В голосе Люды послышалось что-то, похожее на любопытство.
— Люда, вы прожили девять лет.
— Да, на два больше, чем следовало.
Очень точно, отметила я про себя. Именно тогда появилось ощущение, что они вышли на финишную прямую. Я пришла к ним — как раз сирень расцвела — и сразу же поняла, что произошли какие-то перемены, а они старательно делают вид, что все как прежде, и особенно старается Борис. Но как же постарела за это время Люда, вдруг осознала я, и мне стало страшно. Я сжалась в углу между окном и буфетом, а флегма Петька летал по кухне, на ходу переставляя стулья. Его обычная невозмутимость испарилась без следа.
— Он на гребне сейчас, поэтому и зарвался, — тонким фальцетом выкрикивал Петруша. — Но это же ненадолго; он к тебе привык, он даже не представляет себе, до какой степени не может жить один. — Еще стул полетел в сторону. — Без тебя.
Последним двум словам убедительности недоставало. Лицо Люды стало похоже на сморщенное яблочко.
— Петь, у нас речь шла о чемодане и антресолях.
Чертыхнувшись, Петруша вышел из кухни. Люда посмотрела на меня вопросительно:
— А ты что молчишь?
— Не думаю, чтобы на тебя подействовали какие-либо слова.
— Неважно. Каждый выполняет свой долг до конца, — она дернула уголком рта, — или ты этим и собираешься заняться? На всякий случай: за бельем приедут из прачечной утром в четверг, серый костюм в химчистке — квитанция и расчетные книжки здесь.
— Ты с ума сошла.
Люда сняла телефонную трубку, вызвала такси…
Через полчаса она уехала. Петруша повез ее чемодан, а я осталась мыть посуду. Название пьесы я вспомнила — ее финал не сулил мне удачи. Но Петруша прав: не к чему дергаться, все уже давно записано в Книге судеб.
Райские кущи
По ночам снится тарелка супа. Она полна до краев. Суп горячий и золотистый. Тарелка большая. Фарфор толстый, грубый. Иногда кажется, что суп — луковый, о котором неоднократно читала в романах, иногда — суп-лапша, который ел на экране на Собакевича похожий Лаврецкий в «пронизанном солнцем» фильме. Фильм был тутти-фрутти: просторный усадебный дом, колонны, злословье в гостиной, юная героиня, борзые, любовь. Все это свалялось в клубок, и клубок закатился куда-то. Осталась в памяти супница; с благородным рисунком, тяжелая. Лаврецкий держал ее крепко своими медвежьими лапами. Ложки не было видно. А было слышно какое-то чавканье или рычанье. Отчетливо: Федор Иваныч Лаврецкий страдает от голода возле огромной, лапшой и бульоном наполненной супницы. Он мучается, в глазах стоят слезы, а над рекой поднимается тонкий туман.
Единственный раз, когда мне случилось и вправду прочувствовать вкус еды, пришелся на неподвижный (жара облепляет со всех сторон) летний полдень. И был густой сад, буро-коричневые стволы деревьев, белый, среди деревьев расположившийся стол. На стол поставили скромного вида закусочную тарелку с резными краями, изображавшими синий с золотом виноградный венок. На этой тарелке лежал кусок кекса. Я вежливо-осторожно взяла его, медленно поднесла ко рту, почувствовала, как запах только что испеченного теста щекочет мне ноздри, зажмурилась — и проглотила. Чудо: секунду я была полна счастьем и сытостью. Но только секунду, а потом сразу все кончилось, и пустая тарелка белела на мраморном столике, синие с золотом виноградные листья дразнили. «Ну как, червячка заморила?» — «Да, заморила» (с отчаяньем). — «Вот и отлично». И они продолжали о чем-то своем разговаривать. Мне было восемь лет, и непонятно, почему я не крикнула: «Я еще хочу!» Почему не сказала: «Я голоднее, чем раньше. Я ничего не успела распробовать. Дайте мне что-нибудь!» Я молчала: молча сидела возле стола. Над головой шелестели сочувственно ветки и листья. Шмель жужжал, и пустая тарелка все время притягивала мой взгляд. Слабость к тарелкам, расписанным кобальтом с золотом, так же как слабость к садовым мраморным столикам, я сохранила. «Ну а теперь нам пора, нас ждут дома к обеду». — «Очень приятно, что заглянули. Ну как, кекс был вкусный?» Путь домой по жаре, бесконечный и трудный.
По ночам снится тарелка супа.
Но неужели мне никогда не случалось есть досыта? И что мне мешает сделать это сейчас? Я беру сковородку. Котлеты, картошка — и сразу же ощущение: ничего не получится. Но почему же? Еще есть морковь и капуста. Если заправить как надо… Звонок телефона резко врывается в приготовления. «Я сейчас ухожу, я уже в сапогах», — говорю я Алене-Надюше-Марише. У меня нет никакого желания с ней разговаривать. Но ей и не нужно, чтобы я говорила. Она хочет произнести монолог и немедленно приступает. Она говорит — я не слушаю, но что-то из ее речевого потока все-таки добирается до сознания, и от какого-то, в общем, случайного слова во мне закипает и паром рвется наружу протест. Еще понимаю, как это нелепо, но кто-то решительно-бойкий уже дал приказ в наступление, и я рвусь в атаку, я исступленно жму на гашетку, и наконец мой огонь заставляет умолкнуть надсадное тарахтенье ее пулемета. Тишина. Трубка повешена. Я с удивлением смотрю на свои тарелки. Видно, что на них были морковный салат и котлеты, следы картошки с капустой уничтожены начисто.
В свое время Дмитрий Вахтангович часто водил меня в рестораны. Если перечислять их, список получится пышный. И все названия вызывают какой-то отклик. Я помню размеры и форму залов, расположение столов, пальмы в кадках (стиль ретро) во вновь открытом, десятые годы «воссоздающем» дорогом кабаке и крысиную мордочку музыканта в не менее дорогом, но другом. Помню буфетчицу — красавицу с ярко-багровым шрамом на скуле, помню огромный, лепниной украшенный ресторан на вокзале, маленький павильончик на взморье, дубом обшитый старинный зал (вход для избранных) и рыжую тапершу в платье с большим декольте, которая мощно, с надрывом играла сентиментальные пьески, и это было смешно и грустно, но стук ножей-вилок, звуки отодвигаемых стульев, гул голосов так удачно аккомпанировали роялю, что все мы вдруг превращались в массовку какого-то полузабытого фильма. Похожее настроение дал чуть позже «Регтайм», такой же эффект давал, как я слышала, «Мост Ватерлоо». Пьяно и сладко, и вечер окончен. Ты идешь по проходу к бесшумно распахивающимся дверям. Зеркало. Низкий поклон гардеробщика, получившего щедро на чай. Швейцар. И все кончено. Но еда? Где еда? Еды не было.
Ладно. В конце концов, стоит ли вспоминать милейшего Дмитрий Вахтанговича? Он призрак эпохи румынских оркестров, и рестораны его — тоже призраки. А разве я мало общаюсь с сегодняшними людьми? И разве мало меня зовут в гости? И разве не кормят? Например, та художница. Она меня несколько раз зазывала, но я каждый раз находила предлог отказаться. А потом кто-то обмолвился, что она дивная кулинарка, и я запомнила это и начала предвкушать, как она снова меня пригласит, и я приду к ней, и крабы, салаты и кулебяки радостно мне улыбнутся, а хозяйка, сказав «минуту, сейчас», войдет, вся сияя, внесет жаркое на блюде, прикрытом диковинной — с тремя ручками — крышкой, и сытный, благословенный запах еды наполнит уютную, празднично освещенную, маслом картин сверкающую комнату. Я предвкушала, сглатывала слюну, и в день, когда приглашение поступило, бегом побежала: купила полураскрытые розы у черного, совесть давно потерявшего маленького грузина, спешила, счастливая, под дождем среди колющих зонтиков, ругани, луж; радостно позвонила, взлетев на четвертый этаж, и растеряла свои предвкушения, как только хозяйка (брючки в обтяжку, туфли на металлических каблучках), чмокнув меня — «ай да розы, сейчас я ими займусь, загляденье», — куда-то исчезла, а очень вежливый и совершенно мне незнакомый мужчина с длинным «актерским» лицом подошел, чтобы взять и повесить мой плащ. Теперь понятно, что правильнее было не раздеваться, а сразу уйти, но трусость, а также остатки надежд не позволили. Ноги сами собой повели в комнату, где сидели какие-то люди и среди них пожилой седовласый «норвежец», — как объяснила мне, тут же ко мне спиной повернувшись, вертлявая обезьянка лет сорока в монашеском балахоне и с цепью на поясе. Стульев на всех не хватало. Лежали на шкуре медведя, томились у стен. К столу идти было незачем; там стояло декоративное блюдо, а вокруг — хоровод таких же декоративных тарелок. Вошла художница, принесла нечто, утыканное изысканными резными палочками; заговорила о Сартре (она была уже очень немолодой, пик ее популярности приходился на середину шестидесятых). «Я люблю русскую водку», — сказал норвежец. Бородач в густо латанных джинсах играл на гитаре. Смотрелось все это неплохо, но мучил отчаянный голод, а на стене прямо напротив меня висел большой натюрморт (бесстыдство натурализма): каравай хлеба, гигантские яблоки, рыба со вспоротым брюхом.
И все-таки быть не может, говорю я себе. «Ты сядь спокойно, сосредоточься — и вспомнишь. В Таллине, например. Ты столько раз была в Таллине. Подумай, и вспомнишь обед или ужин в чудесном сказочном Таллине, где на каждом шагу кафе-кофик, взбитые сливки и теплые булочки с маком, корицей и тмином. Еда красива, как на обложках рекламных журналов, да и весь город похож на рекламу: окно в Европу, мечта аксеновских мальчиков. Пройдись-ка мысленно снова по улицам. Вспомни: стена обвита плющом, в стене — узкая дверь. Лестница ведет вниз, пахнет кофе, едва осязаемо — поджаркой и специями. Столы стоят полукругом вдоль стен. Середина свободна, и создается площадка, залитая желтым светом, как будто ждущая действа. Пауза — и оркестрик начинает играть танго. Еще одна пауза — на площадку выходят двое. Ему, вероятно, под шестьдесят, ей — чуть меньше. Он смотрит поверх голов, доброжелательно и спокойно. Она в черной шляпке и в черных туфлях на очень высоких прямых каблуках. Ноги безукоризненны, ноги Марлен, эмблема тридцатых. Движения спаяны с музыкой идеально, а может быть, устрашающе? Нет, все-таки идеально. Они танцуют, и мы все, словно катапультированные в иное время, смотрим, затаив дух. Они уходят. Пауза — и затем воздух взрывается ревом электрогитары и барабана. Прекрасно. Но почему ты не вспоминаешь про антрекоты, которыми славился этот подвальчик? Потому что я их не помню. Закованная в броню элегантности ретро-пара съела все прочие впечатления. Но неужели нет ужина, который ты помнишь весь, от начала и до конца? Да, пожалуй. В „Паласе“.
Мы были там вчетвером. Днем я по настоянию Наташи купила темно-зеленый брючный костюм. Решено было, что он сумеет приемлемо заменить вечернее платье, без коего появляться в „Паласе“ просто немыслимо. Наташа была знатоком местных нравов. Она уже год жила здесь (в Эстонии) с мужем Костей, выпускником военно-морского училища, а я приехала к ним на два дня. Четвертым в компании был Эдик Нукрус, коренной таллинец, при одном взгляде на которого у Кости портилось настроение и начинала чесаться макушка. В честь стрелки на брюках Эдика и в честь сияния его ботинок так и хотелось сложить или гимн, или оду. „Да, в ресторанах здесь одеваются так“, — в десятый раз говорила Наташа, но было неважно, что она говорит. В муаровом платье-змее она была очень красивой. Нукрус небрежно-изящно закуривал сигарету и так же изящно стряхивал с нее пепел. Костя с каждой минутой мрачнел все больше. Не зная, к чему прицепиться, он начал вдруг хаять всех этих выпендрежников и их дурацкие правила, на что Наташа, мечтательно глядя на Нукруса, тихо сказала: „А мне здесь хорошо“. И тут случилось. До сей минуты бесшумно и мягко отворявшаяся дверь вдруг распахнулась со стуком, и вошло человек двадцать баб с одинаково толстыми икрами и с ними четверо мужичков в пиджаках, но без галстуков. Это был „наш“ экскурсионный автобус, и для них был накрыт большой общий стол, к которому они и устремились, обгоняя друг друга, делясь впечатлениями. „Га, братва, налетай! Петька, ты что теснишь даму?“ Костя повеселел, с удовольствием крикнул официанту: „Товарищ, поторопитесь с закусочкой!“ Эдик Нукрус приятно всем улыбался. „Ты ведешь себя также, как и они“, — с презрением сказала Наташа Косте. „Ну и что?“ — бодро откликнулся лейтенант. Но тут свет притушили, и качалось представление с „герлс“. Русский стол громко выражал им свое одобрение и возмущение. Костя от души аплодировал „девушкам“, но заставлял Эдика подтверждать, что его, Кости, жена даст три очка форы всем этим кралям. Эдик — и в темноте было видно — все так же вежливо улыбался. Наташа хмурилась и пыталась напомнить Косте, где он находится, на что Костя резонно отвечал: „Как где? На родине. У себя дома. Вот где“. Зажегся свет. Эдик Нукрус разливал по бокалам вино. Костя с жадностью волка набросился на еду, и мы, может быть, так ничего и не заметили бы, но русский стол сразу заметил и начал передавать по цепочке: „Смотрите, вот он! Да не туда смотри, в угол. В кожанке, видишь? И она тоже. Боком. Да говорю тебе, это она!“ И они были правы, я тоже увидела. Марина Влади была в чем-то коричневом, в узенькую полоску. Когда она встала, выяснилось, что это платье до середины колена с тоненьким пояском. Высоцкий взял ее под руку и шагнул к центру зала. „Пошли танцевать, разглядим их вблизи“, — возбужденно закричал Костя, вытирая рот салфеткой. Мы вскочили и вместе с толпой из автобуса ринулись к танцплощадке. Тетки с толстыми икрами чинными парами закачались вокруг. „Прошу прощения, — говорил Костя, — простите“, — и, лавируя между танцующими, мы приближались медленно к цели, и нас было много, наше кольцо сжималось вокруг знаменитой на весь Советский Союз и окрестности пары; и в какой-то момент они оказались в капкане, остановились. Дальше, как по сценарию: Высоцкий глянул из-под бровей, нагнул голову, будто боднуть собирался, и тут же они устремились в образовавшийся узкий проход. Шли быстро, он держал ее за руку, Влади едва поспевала на своих длинных стройных ногах. Подойдя к столику, она быстро схватила квадратную плоскую сумку, повесила на плечо, не глядя ни на кого, пошла к выходу; Высоцкий стремительно расплатился — успел догнать ее у дверей. Эх, красиво! И все возвращаются шумно к своим столам. Наташа ругает нас дикарями, „русский стол“ громко жужжит разговорами, подсевший к нам пьяный эстонец клянет советскую власть за то, что гостиница „Виру“ торчит, как фига. И где? В центре города! Эдик приветливо всем улыбается. Снова вступает оркестр. Кино, да и только.
Что-то запоминается навсегда, запоминается глазами, как натюрморты малых голландцев в Эрмитаже. Нежный кружок лимона, оправленный в желто-белую шкурку, рядом с ним — конус из сахарного песка, густой душистый темно-коричневый кофе в легкой бело-коричневой чашке и желтое, в цвет лимона, пирожное с крупными красными ягодами — что-то из „Красной шапочки“, что-то из мира Гензеля и Гретль. Гензель похож был, наверно, на этого длинношеего юношу в синей фуражке студента. Пристроившись к стойке — из узких рукавов куртки торчат непомерной длины запястья, — он ест корзиночку с красными как кровь ягодами; кадык большой, острый, ходуном ходит под тонкой кожей. Такой полезет на баррикады и будет убит уже в первый день. Забыв про кофе, лимон и пирожное, не отрываясь смотрю на этого мальчика и вспоминаю, как я беспомощно и нелепо плакала в полупустом зале „Хроники“, где нам показывали полнометражный документальный фильм „Чехословакия — год испытаний“.
В двадцать лет совесть напоминает о себе непрестанно, и взгляд натыкается снова и снова на мальчиков с тонкими шеями. В тридцать жалость к себе сильнее, чем всякие прочие чувства. В июле восьмидесятого (Афганистан — не Афганистан) я съела бы, не моргнув глазом, корзиночку с красными ягодами — мальчик в студенческой фуражке не помешал бы. Что-то разладилось, что-то ушло навсегда, что-то раз навсегда утонуло в плеске волн и в запахе зимней хвои.
А как удивительно пахла та елка в Зеленогорске, в столовой пансионата! Запах зеленых иголок перебивал даже запах ботинок и лыжной мази. Лыжи составлены были тут же, у двери, и никто не был в претензии. Все было предпраздничным; официантки вставали по очереди на стулья, вешали осторожно гирлянды и осыпали серебряным дождем ветки, а потом, ловко спустившись на пол, на шаг отступали, и любовались красавицей-елкой, и опускали монетки в щель музыкального автомата, а он послушно запевал сладким ласкающим баритоном «а я прие-э-ду, я прие-э-ду» и обещал целый короб различнейших радостей, и почему-то все поддавались его обещаниям, слушали очень доброжелательно, без возражений, а рядом с нами сидели какие-то люди с детьми, и плавали в голове мысли, что эти семейные сценки, скорей всего, наше не очень далекое будущее. Вот так же будут капризничать мальчики-девочки, а мы будем им говорить: «Нет, Миша, суп не горячий, ну-ка, смотри, это вкусно». А пока звякают елочные украшения и стучат ложки; хлопает дверь, на секунду впуская холодный уличный воздух; на улице снег скрипит, прямо над головой висят крупные — на зуб просятся — ясные звезды, а в нашем пансионате тепло, «я прие-э-ду», Дед Мороз тащит мешок подарков, все любят друг друга. «Миша, еще две ложки», — отец-наседка распростер крылья над розовощеким, хорошеньким мальчиком в свитере с олененком, а мы разговариваем о том, что можно, наверное, пожениться прямо сейчас, в январе, а можно через полгода, летом. «Мань, брось монетку», — кричит блондинка в крахмальной наколке. Она вся вытянулась на стуле, стараясь забросить как можно выше алмазные блестки; и снова баритон обещает приехать, а мимо носят тарелки с борщом, нарезанное крупными ломтями мясо, жареных кур и гречневую кашу.
«Слушай! — говорит девочка Катя, сверкая глазами. — А давай мы устроим… пир!» — «Что?» — «Пир-р! Настоящий, огромный». «Давай», — говорю я не слишком решительно. Я не совсем понимаю, что она хочет делать. Румяного Миши, которого кормят в Зеленогорске после удавшейся лыжной прогулки, еще нет на свете, и его папа с мамой, скорее всего, не успели еще познакомиться. Мы с Катей учимся в шестом классе и вчера в первый раз встретили Новый год вместе со взрослыми. А сейчас мы одни в квартире. Все мои родственники ушли, и поначалу мы очень радовались, что остаемся одни. А теперь нам не очень понятно, что делать. Пир — и Катя распахивает холодильник. Он плотно забит тарелками, плошками, мисками. Гусь громоздится на блюде. Соперничая друг с другом, нам предлагают себя ветчина, буженина, икра и севрюга. И странно, и до сих пор не понять почему, но именно в этот момент я каким-то щемящим чувством стыда понимаю, что пира не будет.
И ладно. Все это прошло и проехало. Прокатилось. Нет большей глупости, чем сожалеть о несбывшемся. Я выставляю на стол масленку с отбитым краем, кусок засохшего сыра, сметану. «Не хлебом единым…» — бормочу я под нос. «Не стыдно, — говорит кто-то. — Ты бы газетку еще подстелила, заодно почитаешь». «Ехидничать — это нетрудно, — парирую я привычно, — а с жизнью бороться — бессмысленно». Я наливаю в стакан простоквашу и машинально жую бутерброд. «Ильф и Петров отмечали: в Америке вся еда очень красивая, но абсолютно безвкусная», — говорю я коту Апельсину. Кот смотрит с календаря понимающе. «Чтобы снова почувствовать вкус, Ильф и Петров возвратились домой, — продолжаю я объяснять, — но прошло всего несколько лет, и Анна Андреевна Ахматова объяснила, что „веселое слово дома нам отныне уже незнакомо“, и ничего тут, мой друг, не поделаешь».
И все-таки я поднимаюсь еще на одну попытку. Взяв сумки, мешки и авоськи, я отправляюсь на поиски пищи. Я приношу домой хлеб ржаной и пшеничный, лук зеленый и репчатый, желтую брюкву, блестящие синие баклажаны и красную свеклу. Я приношу очень милых цыплят в пупырышках и броней-чешуей покрытую рыбу. Я приношу трехлитровые банки сока, бутылки растительного масла, коробки с грибами-шампиньонами, тыкву, орехи, печенье и трубочки, которые почему-то называются «лицейскими». Все это я с трудом размещаю у себя на кухне. Кот Черныш, заменивший в свой месяц кота Апельсина, смотрит на меня возмущенно. «Я принесла много разной еды, — говорю я ему, — я гостей позову и приготовлю отменный обед. Стол будет как в лучших грузинских фильмах. Ты понимаешь?»
Вечером я стою перед грудой посуды. Объедки, опивки, оплевки. Какая-то дикость. Бедлам. Как будто Мамай прошел. Разорение полное. Я стою, прислонившись к стене. Потом мою посуду. Пою (помогает от тошноты). Девочка Катя, которая предлагала устроить огромнейший пир, тоже пела. Катя, ау, где ты, Катя? Катя — добраться бы до кровати.
А по ночам снится суп.
Почему?
Споры, вопросы. Дискуссии и обсуждения. Но наконец все всё поняли. И одна я продолжаю метаться, хватать за фалды, кричать: «Подождите, необходимо ведь разобраться!»
В чем разбираться?
* * *
В ноябре умер человек, сказавший в мае: «Я очень устал, мне бы в больницу сейчас». С тех пор прошли годы, но меня до сих пор мучительно занимает вопрос, можно ли было помешать ему умереть, и мучительно гнетет ответ: да, можно было.
Когда человека оставляют силы, его поддерживает любовь. Из первосвета детства выплывает картина — кадр из фильма о Маленьком Муке. Уродливого человечка в туфлях с загнутыми носками подхватили и кинули ввысь струи фонтана. Он захлебывается водой, барахтается, нелепо машет руками — струи фонтана держат его в воздухе, не давая упасть.
Среди рук, поддерживающих человека, который был моим другом, не дававших ему упасть, когда сам он, обессилев, готов был отдаться падению, не было моих рук. Я отошла от него в ту осень, я отдала его судьбе. Временами я чувствовала какую-то тревогу, но легко успокаивала себя: вокруг него было так много любящих. Как будто любви может быть «так много». Ее может быть только непоправимо мало.
* * *
Строился дом. И хотя понятно было уже, что строится на песке, стены возводились все выше и выше. До упора? До неба? Нет, до падения. До обвала. Чем ближе становилась катастрофа — качалось уже все от малейшего ветерка, — тем лихорадочней работалось, тем больше крови примешивалось к скрепляющему раствору, хотя кто, где, в каких неистовых и диких Палестинах сказал, что прочно только то, что на жертве, на жизни живой?
В положенный, свыше определенный час здание рухнуло, но почему-то не с грохотом, а со звоном. Дом оказался фарфоровым — от него остались осколки. Выяснилось, что их можно брать в руки, рассматривать. И появилось искушение: сохранить…
* * *
Случайное слово, обрывок афиши, бьющийся на ветру, — и никуда не деться: приходит воспоминание. Оно властно берет тебя за руку и сжимает до боли в кости, а когда отпускает, то остаются следы.
Но дальше бегут минуты. И нереально прикосновение, поворотившее кровь вспять.
* * *
Зеленые занавески на окнах, зеленая скатерть на круглом высоком столе, зеленая кожаная обивка кресла — и рыжий кот, терзающий ее когтями. Блестящий черный рояль «Мюльбах», взлохмаченный Бетховен над клавиатурой, а чуть подальше, чопорные и спокойные, бабушка Анна Ивановна и дедушка Алексей Петрович.
* * *
Сначала времени не было — была определенность. От века установленный порядок, обряд, неукоснительное выполнение которого может поставить под сомнение лишь ненормальный.
Среди равнины определенности стояли столбики — истины:
Кавказ лучше Крыма
Гагры лучше, чем Сочи
Старые Гагры лучше, чем Новые Гагры
Загорать надо под тентом: загоришь, но не обгоришь…
И так до последней мелочи. Лето, ветер, волны аккуратно, раз и навсегда пригвождены к своим столбикам или вложены в ящички. А про зиму и говорить нечего! И вся жизнь — комод, в котором каждое мыслящее существо знает, где что лежит. Выдвигаешь ящичек «друзья», и вот они, пожалуйста. Пачечка школьных, пачечка институтских, пачечка домашних. Все на своих местах, и к каждой пачечке сверху приколота инструкция — «Правила обращения». Несколько раз в год эти пачечки следует перемешивать и приглашать в дом гостевым салатом. Делается это в строго определенные табельные дни именин, рождений и Пасхи. Новый год празднуется в семейном кругу, Масленица — с приглашением двух-трех человек и как-то наспех, на вчерашней скатерти. Рождество и Троица не отмечаются (не замечаются) вовсе. И хотя существует, плавает в семейном космосе воспоминание о том, что на Рождество подавали всегда рыбу и компот, а к Троице шили белые, именно белые, платья, сейчас Рождество и Троица тонут в буднях. Это удивительно, потому что ведь то, что сейчас, было всегда. Но никто противоречия не замечает. А обряд праздников, тяжелый и скучный, заведен раз и навсегда чьей-то истлевшей, страшной в своей потусторонней цепкости рукой.
* * *
Обряд — порядок — занимал в жизни такое огромное место, что потеснил в угол чуть ли не все остальное. Люди практически не ощущались. Живыми и интересными казались только самые близкие. Все прочие были фоном. И исполняли конкретные функции.
* * *
Жарко. Неприятно покалывает тело кружевное платье. Хочется спрятаться в тень, но тени нет. Большая, набухшая соком ягода падает с шелковичного дерева на розовую оборку. Теперь уже не только жарко, теперь еще и пятно. Где-то неподалеку отливает металлом море. Утром в море тесно и шумно. Сейчас, после обеда, оно неживое. Металлический вкус во рту.
Мы приезжали сюда в позапрошлом году, и в прошлом, и снова приедем сюда…
* * *
Как я познаю мир? Через слово. С помощью органов чувств я узнаю свое самоощущение в мире, себя.
Не помню, как в мою жизнь вошло слово «любовь». Помню, как вошло слово «смерть».
Оно вошло через бормотание деревенской старухи с черным лицом в белых морщинах, рассказавшей, покачиваясь, сидя на лавочке в чахлой тени, как внучка ее, Марьюшка, забралась на верх лестницы-приставушки, а поставили ту приставушку криво, что ли, и полетела Марьюшка прямо с лестницы вниз, да затылочком оземь. Как подбежали к ней, из нее уж и дух вон, а глазки открыты, синие, а сама улыбается, бедная.
И на всю жизнь; каждая смерть — это смерть Марьюшки, и страх перед жизнью — невозможность ощущение этой смерти забыть.
* * *
Но еще раньше в тех самых Гаграх, которые лучше, чем Сочи, что-то случилось. И были осторожные переглядывания, неуверенные жесты, женщина, застывшая в скорбном знании, которым обладала по закону материнской любви. А потом были крики, и восклицания, и беготня, и горестное недоумение на лице матери: зачем этот шум сейчас, когда уже так давно все умерло, когда много часов назад все уже превратилось в камень.
Женщина, сидевшая в бессильном горе, гасившая в окружающих надежду, еще готовую пробежать ветерком в колом стоявшем полуденном мареве, могла, конечно, и ошибиться. Но в те часы ожидания она приняла весть о смертности сына. Я, трехлетняя, спрятавшаяся в кустах олеандра, как раз напротив стола, за которым сидела она, была единственной, вместе с ней эту весть принявшей. И через двадцать лет, рожая своего сына, я знала, что, давая начало новой жизни, я даю начало и смерти: открываю ларец, в котором два близнеца — белый и черный ангелы. И знала это только я. Это было тайной, которой нельзя поделиться.
* * *
Желание поделиться сокровенным и невозможность вызвать сопереживание — в этом, наверно, история развития и гибели каждой любви.
* * *
Когда мне было семнадцать лет, пожилой венгр, удивительный красавец с мягкими черными глазами и руками лепки Великого скульптора, взял с меня слово, что когда-нибудь я поеду на озеро Комо, поброжу в тех местах, где он был счастлив. Замкнется круг. И я пообещала. Пообещала легко и весело, будто он просил бросить письмо в почтовый ящик.
С тех пор и слово Комо, и голубое пятнышко на карте Италии возвращают укором к тому давнему дню. И в памяти всплывают мягкие черные глаза, которых давно нет на свете.
* * *
Странное противоречие: жизнь свищет мимо, проносится оглушительно, заглатывая годы, и в то же время она где-то впереди и вокруг. Можно пойти направо, можно налево. А где бит будешь, где коня потеряешь, ни на каком камне не написано.
Почему легко в детстве и в юности? Идешь, поддерживаемый или подталкиваемый, одной дорогой, и тебе кажется: кроме нее, других дорог нет. Эта, единственная, обовьет ровной лентой все яблоко жизни, и значит, ты все узнаешь, и все рассмотришь, и ко всему прикоснешься. Но наступает момент, когда эта дорога вдруг, неожиданно, делится на сто бегущих прочь друг от друга тропинок. И знаешь с конечной определенностью, горчайшей на вкус, еще нестерпимой привыкшему к сладости языку, что всех этих тропок, кроме одной, не пройти. И это — начало зрелости.
* * *
Девочка росла и наполнялась любовью. Очень просто, как сливы соком. В какой-то момент она почувствовала, что полна. Ей стало трудно дышать, пошевелиться нечего было и думать. Она стояла, замерев, и ждала. Кто-то должен был отпить хоть глоток, тогда она снова могла бы двигаться. Но никто не шел. Она потеряла счет времени. Все вокруг стало тусклым, неясным, бесформенным. Слышались какие-то голоса, мелькали тени. Все они были далеко. Но как-то само собой появилось ведро. Она услышала металлический лязг, удивленно посмотрела вниз, и — кап — капля любви звонко упала со лба на дно пустого ведра, за ней вторая, третья… Девочка смотрела, как ведро наполняется ее любовью. Вот оно полно уже до половины, вот стало еще полнее. Неудивительно, что она была такой тяжелой и неподвижной. Ну вот и все — полно до краев, а она снова легкая и может бегать… Но как же бегать с полным ведром? Его надо скорее кому-нибудь подарить. Человек обрадуется, ведь почему-то очень часто любви не хватает. И она медленно пошла с ведром по дороге, стараясь не расплескать ни капли. Первый человек, который попался ей на пути, был тощий и грустный. «Послушайте, — весело окликнула его девочка, — я могу вам подарить целое ведро любви». Человек посмотрел на нее, покрутил у виска пальцем и пошел дальше своей дорогой. «Чудак, — подумала девочка, — но не буду печалиться; людей на свете много». И действительно, из-за угла тут же выскочили два развеселых студента. Они над чем-то смеялись и даже не заметили девочки с ведром. А она не посмела их окликнуть. Стоит ли предлагать что-то людям, которым и так хорошо? Но потом показался кашляющий старик. Он шел с трудом, сильно приволакивая ноги, и казалось, несчастнее его нет никого на свете. Уверенная, что сейчас, в минуту, она осчастливит потерявшего всякую надежду человека, девочка крикнула: «Смотрите, я дарю вам целое ведро любви». Старик остановился, окинул ее недобрым взглядом. «Раньше надо было», — сказал он и побрел, кашляя, восвояси. Девочка обиделась и растерялась. Как же так? Ведь есть люди, которым нужна любовь. Или на самом деле она нужна только поэтам? Ну что ж, тогда надо найти поэта и подарить свою любовь ему.
На скамейке в парке сидел человек с большими усами. Он держал на коленях блокнот и мечтательно смотрел в пространство. «Простите, пожалуйста, вы не поэт?» — спросила, подходя, девочка. Человек молча кивнул. Видно было, что этот вопрос ему очень понравился. «Здравствуйте, — начала девочка, — я на минуту. Дело в том, что у меня есть несколько необычная вещь — ведро любви. Хотите, я подарю его вам?» Поэт заинтересовался. «Целое ведро, говоришь? Это здорово. В жизни не видел ведра любви. Об этом стоит и написать». «Я так и думала, что мой подарок будет вам в радость», — сказала девочка и протянула свою любовь поэту. «Ты что, хочешь отдать все ведро? — забеспокоился он. — Но это много. Мне хватит стакана, от силы литровой банки. Больше не надо — я же работаю». Девочка просто опешила: «Но как вы, поэт, можете отказаться от полноты любви? Как можно мерить ее стаканами?» «А чем не мерка? — ответил он раздраженно. — Да и вообще, что, поэты не люди, по-твоему?» Он поднялся со скамейки и зашагал прочь, решительный и недовольный. А девочка приросла к месту. Ведь если любовь не нужна и поэту, то что же с ней делать?
«О чем грустишь?» — услышала она рядом чей-то веселый голос и, повернувшись, увидела смеющиеся с искоркой глаза. «Что-то случилось? — спросил человек — Может быть, я помогу?» «Не думаю», — безнадежно ответила девочка, но все-таки стала рассказывать. Незнакомец слушал ее очень доброжелательно. И когда девочка замолчала, он ободряюще ей улыбнулся: «Нашла проблему! — проговорил он. — Ну в чем же тут сложность?» И с легкостью, без усилий подняв ведро, он выплеснул все, что в нем было, — в траву.
* * *
Зимняя темнота. Густая, черная, она наступает раньше вечера. Помню, как я сижу с няней на диване, вот-вот должна прийти учительница музыки, но ее все нет. А тьма закутала нас уже со всех сторон. Все исчезло, только где-то прячутся сказки и шорохи, и не верится, что сейчас вернутся с работы взрослые, зажгут лампы, будут разговаривать громкими голосами, и потечет своей чередой длинный вечер.
И еще. Много лет спустя. Тьма опустилась на лес, запуталась в ветках сосен и окружила, как коконом, дом. В окнах виднелась луна. Она была ослепительной, но не рассеивала темноту, а только запечатывала выход. А надо было вставать и ехать назад, в город, в ярко освещенной электричке.
* * *
Приезжал человек. По образованию он инженер, но служит во МХАТе, рабочим сцены, и твердо уверен, что придет к режиссуре. Рассказывал свой план постановки «Гамлета», говорил часа три, а я мыла посуду и варила суп. Впервые, внезапным толчком: может, варить суп и есть мое дело?
* * *
С детства не умела отличать игру от работы, того, что всерьез, от того, что понарошке. Не отличаю сейчас. Обижаю серьезных людей несерьезным отношением к делу. Но как часто леденею, услышав или почувствовав: «Ты разве не понимаешь, что это — игра?» Не понимаю. Не дано.
* * *
Казалось, уже ушедшее, сгладившееся ощущение поруганности и стыда вдруг вспыхнуло с прежней силой. И шлейф того проклятого весеннего дня вновь протянулся за мной, тяжеля шаг, затрудняя дыхание. Избитая, жалкая, я снова стояла у позорного столба, всем существом чувствуя жар горевших на лице пощечин.
И приходилось все время заставлять себя помнить о вежливости, потому что никто не сделал мне ничего плохого, никто не хотел мне зла. Просто так получилось.
* * *
Встреча с талантом как встреча с чудом. Пугаешься, не веришь себе и бежишь прочь — слишком ярко, слепит глаза, не выдержать. Или это только у меня так? Ведь бегство — форма моего существования. Бегство куда угодно. Бег от жизни.
А рванулась вперед я только однажды. И нашла холод, грязную гостиницу, сеющий дождь и покосившуюся церковь над обрывом.
* * *
Когда я дошла до последних строчек «Дара», до прощания, протянутого, как дружеская рука, от Пушкина ко мне, меня охватило ликование, грозившее перейти в тот самый экстаз, разрубленный пополам, навеки низвергнутый Набоковым уже в середине книги; и пахнуло русской осенью, давно — с пушкинских времен? — окрашенной цветом надежды.
* * *
Уже почти сто лет, как религия детей российских — Пушкин. И то, что, в отличие от неосязаемого Бога и гипотетического Христа, Пушкин безусловно жил, придает чувству любви к нему пронзительность и страстность, которых не в силах вызвать сейчас православие, рождающее лишь горькую печаль и смутный непонятный стыд.
* * *
Все удивлялись, все говорили: «Загадка. Он был талантлив, хотел написать свою Книгу. Не написал». А причины, пожалуй, ясны. Он видел все чересчур хорошо — с семи сторон сразу. Ну а писатель не может не быть однобоким, не может не быть калекой, фанатиком. Ну хоть чуть-чуть. Гармония — это для Пушкина.
* * *
Как-то раз услышала себя: тяну одну ноту — нудно и бесконечно. Во всем. Рука сама поднялась и поставила размашистый крест. И вдруг — как тема надежды из «Неоконченной» немца Шуберта: ведь русские песни такие. Надрывно и заунывно, тихо, поземка, метель. Русская я, русская — каково?
* * *
Поздний вечер, подташнивает, чуть качается комната, черно за окном. Муторно, нехорошо. И единственное мое прибежище, единственная гавань — мысль о тебе. Наша осень. Трамвай, высекающий искры на повороте к Финляндскому. Листопад, клены, кленовые листья на сером граните. А еще залив, сосны и ресторанчик на берегу… «Вы любите Рубенса?» — «И я тоже». — «Грибы?» — «Ну конечно!» — «Диккенса?» — «Значит, и я люблю». — «Кошек?» — «Ну, господи боже мой, да ради вас хоть мышей».
* * *
Шаг за шагом, совсем незаметно мы поднялись на приличную высоту. Люди внизу казались какими-то насекомыми. Они сновали с нелепейшей деловитостью. Смотреть на них было смешно. Но, в общем-то, было совсем не до смеха: неверный шаг мог стоить жизни, и уж совсем запросто нескольких сломанных лет.
Пора было спускаться, но спуска не было.
* * *
В Усть-Нарве море пахнет арбузом, и поскольку причина этого не установлена, запах восхитителен. Вдоль воды на много километров тянется полоса влажного, накрепко утрамбованного песка, и по этой дорожке катаются на велосипедах и дети, и взрослые.
Утром пляж пестрый. Мелькают мячи, надувные крокодилы и черепахи, махровые полотенца, пластмассовые ведерки, лопатки. Все это движется по сложным траекториям, образуя зигзаги танца.
Вечером тише, степеннее. Вдоль кромки воды неторопливо движутся гуляющие: группы, трио, пары. Длинные волосы, шали, очки, свитера; юнцы в прыщах, девицы лет тридцати, привядшие, но еще вполне соблазнительные; веселые, шумные компании людей удачливых. В этих компаниях хорошо смотрятся элегантно-седые мужчины, как надо, с толком прожившие жизнь, и женщины, гордые правильно сделанным двадцать пять лет назад выбором. Все вместе они образуют поток, который можно разглядывать, но с которым не слиться.
* * *
Уходит память о хлебе, питавшем жизнь. Надолго, на годы, остается казавшееся случайным, невзначай коснувшееся души, слуха, глаза.
От июля, столько перевернувшего в жизни, что можно смело сказать, он был вехой и рубежом, осталась первая фраза рассказа Чехова «О любви», мучившая своей красотой и тем, что никак не удавалось ее запомнить, да еще загородная поездка: жара в электричке, чей-то пронзительный смех и рыжеватая вода в пруду.
* * *
Было лето. И зной. И больное тело металось по городу, а устав и помертвев, тяжело волочилось по бесконечному, вязкому, как песок, асфальту. Город обтекал тело, нес его, как волна несет вконец выбившегося из сил, все надежды на берег утратившего пловца. Город нес все дальше и дальше от берега, и было уже все равно, где и когда упасть. Но потом наступал вечер. Мягче становились очертания домов, измученно молчавшие днем деревья начинали нашептывать что-то и успокаивать, асфальт ложился под ноги покорным ковром. И тогда внутри, там, где пусто, черно и выжжено, вдруг проклевывался кто-то маленький и жалкий, но живой и хотевший жить. Он долго с грустью и страхом оглядывал пепелище, а потом говорил: «Но ведь, наверно, можно спастись, можно пробраться куда-то, где сохранилось много зеленой травы и где журчит холодный ручей. Ведь все не могло сгореть. Надо пробиться к зеленому и голубому, а если нет сил идти, то ползи». «Ползи, — говорил он мне, — помоги себе, вспомни, как в детстве ты ненавидела князя Андрея за то, что он расхотел жить и умер, вспомни, как глупой маленькой девочкой ты об стенку швыряла все книги, где была смерть, как плакала и шептала. — „Я переделаю это, я обязательно это переделаю“. Так переделай сейчас свою жизнь. Ты это можешь. Ну постарайся!» И я старалась, я из последних сил напрягала все мускулы, стиснув зубы, делала я рывок за рывком, но все было напрасно, и гасла надежда.
А потом все же чудо случилось. Оно было сереньким и банальным. Просто пришел человек и сказал: «Вам нельзя больше здесь оставаться. Пойдемте, вам нужно под крышу». И он привел меня в дом, где пахло жизнью, разумной и доброй, а прохладные водоросли чуть шевелились за толстым аквариумным стеклом. И не было уличного шума, был только шорох переворачиваемых страниц и пение чайника на плите. И капля нежности, спасительной, как глоток воды в пустыне.
* * *
Жизнь иногда бывает и терпеливой, и снисходительной. «Не поняла? — говорит она. — Ну хорошо, слушай снова». Она говорит очень дельно, толково, логично. Я ее слушаю со вниманием. И убеждаюсь: нет, так быть не может. «Неверно, — кричу я радостно, — вы ошибаетесь! Ну вы подумайте сами…» И я начинаю втолковывать ей, в чем она не права. Она смотрит грустно, потом говорит: «Ты взрослая, делай как знаешь. Только потом не пеняй на меня».
* * *
Радость — это ты, отряхивающийся от снега в дверях комаровского дома, твоя улыбка.
Вечность — твоя рука, гладящая меня по лицу.
Надежда — подушка, хранящая запах твоих волос, хотя ты ушел и — знаю уже — никогда не вернешься.
Утрата — веселый голос по телефону: «Ну, с Новым годом!» Как с новым? Да так, ничего не осталось от старого.
* * *
Мою любовь, захватившую меня целиком, закрывшую от меня весь мир, сделавшую весь мир не более чем функцией, производной от Него и моего к Нему чувства, я наконец убила.
Этого было не сделать в одночасье. Громадное, полнокровное тело любви было слишком живучим. Оно выносило и палочные удары, и ножевые раны, и полынный яд обид. Палки отскакивали, раны зарубцовывались, а противоядия организм вырабатывал сам с достойной восхищения изобретательностью. И все же любовь слабела. Какой-то сильный удар по позвоночнику лишил ее возможности двигаться, зрение ухудшалось, хирел рассудок, отравленная кровь выступала сквозь поры. И как-то теплым апрельским днем, когда ветер так ласково шевелит волосы, воздух пахнет цветами, а воробьи ликующе славят жизнь, любовь, в последний раз окинув почти невидящими глазами большой и светлый мир, вздрогнула и, прошептав: «Господи, как же Он без меня?» — умерла.
А Он проснулся в то утро в прекраснейшем настроении. Ведь был апрель, и на работе все было в порядке. И автобус подошел без задержки, и он сел у окна и с удовольствием смотрел на проплывавшие мимо дома, а без четверти девять легко соскочил с подножки на гладкий и твердый асфальт. Все было отлично. «Какой чудесный денек», — сказал он почти вслух, но что-то было не так. «Прекрасный денек», — сказал он, молодцевато расправив плечи и втянув живот. Все равно что-то было не так «Старею, видно, — сказал он себе, — ну что же, нормально».
* * *
Когда дождь, кажется, что навсегда. Когда солнце, тоже, что навсегда. Что было «до», так же непонятно, как и то, что будет «после». Жизнь разъята на много частей. За пределами каждой из них «я» — это «он» или «она». Поэтому невозможно рассказать от первого лица историю своей жизни. Все автобиографии — ложь или поэтическая реконструкция. А чаще всего, то и другое вместе.
* * *
— Ну что, жива? Все оказалось совсем не так страшно?
— Нет, нет и нет. Только сейчас стало понятно, как буднично верны слова «я не могу без тебя».
Она действительно умерла. Нет ни походки ее, ни улыбки, ни жестов. И голос переменился. Я, как и ты, могу о ней разве что вспоминать. Цветы носить на могилку. Хотя о чем я? Могилки-то нет. Пойти некуда.
* * *
Где-то невдалеке, за забором, чудился сад. Остановившись и замерев, можно было услышать зеленый шелест и вздохи старых веток. Иногда из сада тянуло цветочным ароматом. Запах был незнакомый, дразнящий. В нем смешивались весна и лето, в нем чувствовался и кружащий голову кисловато-терпкий дух созревшего винограда. В одном месте доски забора слегка разошлись, и сквозь них просунулась ветка, вся покрытая темными листьями и белыми цветами-граммофончиками, весело улыбавшимися прохожим. Понюхать цветы было невозможно: стоило приблизиться к ветке, как она, только что с любопытством выглядывавшая из-за забора, плавно взмывала вверх, а то и вовсе исчезала за стенкой своей темницы. И тайны странного дерева, как и тайна всего сада, оставались неразгаданными и с каждым днем манили и занимали все больше.
Были уже испробованы разные способы пробраться в сад: например, перелезть через забор с помощью приставной лестницы или расширить руками просвет между досками. Попытки оставались до нелепости безрезультатными. Неудачи раздражали и вызывали то яростное желание добиться любой ценой своего, то понимание бессмысленности затеи. Страх бесконечного — конечного — поражения рождал пустоту, которой, как всем известно, не терпит природа, и пустота постепенно опять заполнялась надеждой. А листья шумели над головой так приветливо, и граммофончики улыбались так хорошо, что в пору было начать все сначала. И я начинала. С новыми силами, с новым энтузиазмом… И так шли годы, и было уже забыто, как, почему и зачем я оказалась у этой стены, и почему не ищу другой сад. Мысль притупилась, а воля была направлена на одно: попасть, попасть туда. И было совсем непонятно (и несущественно), кем я там стану, хозяйкой сада или работницей, не разгибая спины орудующей мотыгой. Все это было неважно, и думать про это мне было некогда, и солнце пекло слишком зло и слишком немилосердно.
В заборе были ворота, закрытые на тяжелый ржавый замок. Несколько раз я пыталась сбить его палками и камнями, потом начала подбирать ключи. Старалась быть рассудительной, неторопливой, последовательной. Но это тоже не помогало. И, почувствовав, что последние силы оставили меня, что сейчас, не через минуту даже, через секунду, я упаду у этих ворот, я судорожно глотнула раскаленный воздух и крикнула, а наверное, и не крикнула, прошептала: «Я погибаю, впустите меня!»
И ворота сразу же отворились. Оказалось, что замок ничего не запирал. Он висел так, для порядка. И вот створки ворот раздвинулись, я сделала шаг — и упала лицом вниз, но не в траву, а в липкую густую грязь. Так пролежала я некоторое время, и какие-то слабые силы снова зашевелились во мне. Тогда я встала на ноги и огляделась. Я увидела серый пустырь. В углу у забора высилась куча навоза. Невдалеке от нее росло странное искривленное дерево. Изогнувшийся буквой «г» ствол к концу совсем истончился. Он становился похожим на ветку, и именно эта ветка, покрытая цветами и листьями, тянулась прочь, вон с пустыря, и в неодолимом, упорном желании выбраться отсюда сделала невозможное — раздвинула плотно пригнанные одна к другой доски, выглянула на свободу.
Не веря, отказываясь верить глазам, я металась по пустырю раненым зверем. В бессмысленном отчаянии я разрывала навозную кучу, бредово надеясь найти под ней те цветы, запах которых манил меня так долго. Разбросав навоз, я кинулась к дереву и стала трясти его старый покореженный ствол. В мозгу стучала сумасшедшая надежда: дав одну ветку, это дерево может дать и другие. Нет сада — пусть будет зеленый шатер. Я не прошу уже сада, я прошу только тень для краткого отдыха, без которого я бессильна продолжить свой путь.
«Безнадежно, — услышала я вдруг голос и, обернувшись, увидела старика в рваной одежде, в темной шапочке, прикрывавшей его от палящих лучей. — Безнадежно, — повторил он, — это дерево дало уже все, что могло. Оставьте его, не трогайте».
— Вы кто? — спросила я резко.
— Сторож, — ответил он.
— Пыль сторожите?
О чем было с ним разговаривать? Я выпустила ствол из рук и тихо побрела к воротам.
* * *
Наш эгоизм. Огромный, словно воздушный шар, тот, на котором поднимались в воздух отважные воздухоплаватели. Но иногда прокалывается легко, как будто он — мыльный пузырь.
Когда бой был окончен (потому что патроны все кончились) и пистолеты отброшены за ненадобностью, вдруг стало тебя очень жалко. И захотелось сказать тебе что-то очень хорошее. И только тут стало ясно, что раньше — даже и в лучшие дни — такой мысли не было.
Слоистые, кучевые и перистые облака
Возможность беседы с самой собой. Ее появление — благословение Божие, мгновенное безграничное расширение жизненного пространства.
Итак, вопрос: почему все-таки я почти не пишу или, иначе, пишу так мало и трудно?
«Ты работаешь медленно, но добросовестно», — сказал Евгений Иванович и поставил в журнале против моей фамилии красивую пятерку. Я не рассчитывала и на четверку, я ни на что не рассчитывала, я просто ждала катастрофы: рисунок на салфетке занимал все четыре угла, по паре анютиных глазок в каждом. У меня вышит был один, другой — едва начат. Пятерка не обрадовала, не принесла облегчения — оглушила. Я понимала ее несправедливость, может быть, даже предчувствовала, что двойку мне еще поставят, и чем позже это случится, тем будет страшнее.
* * *
Любая автобиография — версия. Серьезное описание своей жизни — серьезное отношение к версии, выстроенной обычно в соответствии с итогом.
Попытка рассказать историю своего «я» — и почти неизбежная оглядка «на» (родителей, детей, общественное мнение). Чтобы спастись от оглядки, повествование ведут в третьем лице. Не я росла в мрачной, лекарствами пахнущей, доктором П. занимаемой квартире, а Туся Попова, или Анна Ивановна Шелест, или «мать Коли». Переводишь огонь-рассказ на только что вылепленную, раз-два в сорок лет на свет появившуюся женщину и отдаешь ей и свою няню, и дождь в лесу, и свирепого человека Нанашкина. Посмеиваясь, переселяешь ее в Москву или в Киев и со странным чувством злорадства и горечи начинаешь в подробностях описывать собственную историю, рыдать, выворачиваться наизнанку, откровенничать. Но почти сразу выясняется, что как раз откровенничать-то и не удается, и раз уж ты «про нее» начала, то взять вдруг и перейти на себя невозможно: эпизоды из подлинной (?) жизни среди декораций рассказываемой истории выглядят неосторожно поставленными на юбку пятнами или старательно пришитыми (дыры скрывающими) заплатками.
Иногда кажется, что легче рассказать не свою жизнь, а чужую. Но на примере великих отчетливо видно: и это не так. С каким интересом встречаем мы каждую новую попытку биографии Лермонтова или Цветаевой, и как, увы, точно знаем, что это будет опять только версия.
* * *
Дура я, дура я, дура я проклятая, У него четыре дуры, а я дура пятая.Ахматова, прослушав этот куплетец, принесенный из школы кем-то из мальчиков Ардовых, кивнула царственно: «Очень похоже на мои стихи».
Всем нам дано, попав в сомнительную ситуацию, самим решить, где очутиться: в разухабистой частушке или в накале поэтических страстей.
Как говорила другая поэтесса, жившая много раньше Ахматовой и на другом конце света:
Плен — это сознанье.
Свобода — тоже.
* * *
Возможна версия: я дочь дворового и барышни. Барышня так и осталась барышней.
Ни первый брак не помог, ни второй. Барыней была ее мать, густобровая, черноволосая, с крепкой мужской рукой и твердой походкой. Терзаясь лютым одиночеством, Бабушка-Барыня приблизила меня и объявила своей любимицей.
По сути же я была чем-то вроде болонки. Если случалось нашкодничать, тяжелая длань хозяйки швыряла меня за дверь, и я должна была, скуля, на брюхе ползти обратно.
* * *
Как все-таки это назвать? Только так, как оно ощущается. А именно: (оторвалась на полчаса ради кухонной раковины — и вот забыла; вспомнится ли?)
* * *
— Незачем попусту тратить время. Нужно работать.
С каждым годом слово «работа» вызывает все большую ненависть. Созидание — это понятно, служба — тоже. Но что такое обожествляемая Работа, которой мы жертвуем жизнью и которая чьей-то властью дает индульгенцию даже от самых тяжких грехов?
* * *
Продать душу дьяволу. А дьявол кто: не работа ли?
* * *
Признать, что время, в которое ты жил, чудовищно, — значит признать, что тебе крупно не повезло и ты прожил свою жизнь хуже, чем какие-то другие, которым посчастливилось родиться чуть раньше или — скрежет зубовный — дано будет родиться чуть позже. Осознавать, что тебе беспричинно что-то недодано, это для большинства — нож острый. Поэтому человек, ненавидящий собственную жену, находит огромное утешение в том, что счастливых браков, если вглядеться, вообще не бывает. Тот, кто живет в тесноте, обычно втолковывает сочувствующим, что ничего другого ему и даром не надо. («В сотый раз повторяю: нас только двое, дети то в школе, то гуляют, да и мы целый день на работе».)
* * *
— Кто ты? Кто ты? Кто ты?
— Отстаньте! А впрочем, ладно, отвечу. Я Божье создание, слабое существо, дрянь… трусиха (долгая пауза)… Но нет, подождите, я хочу сказать, просто не знаю, как это назвать. Забавно, в моем лексиконе нет слов для автоназвания. Или вообще в лексиконе нет таких слов? Поэтому и появляется литература. Чтобы хоть как-то ответить на вопрос «кто я», приходится написать «Мадам Бовари». Прошу прощения, что снова опираюсь на великих. На то они и великие: вечно лезут в глаза.
* * *
Долгие годы я жила с ощущением: раз у меня позади ни дня молодости, значит, она впереди.
Чувствуя это, я пристально вглядывалась во все дорожные указатели, уверенная, что возле какой-то едва заметной, вбок уходящей тропинки стоит табличка: «Молодость — 1,5 км».
То, что ее не будет на магистральном пути, было все-таки уже ясно.
* * *
Отчаянье молодости — какой это пир жизни! Сколько возможностей оно в себе таит.
Но потом наступает момент, когда делается понятно: что-то упущено, не прожито, не состоялось навсегда. Слезами не вымолить, криком не вытребовать и, даже если протянут, уже не взять.
Боль, стыд и чувство вины вызывает предложенный слишком поздно царский подарок.
* * *
Эпоха самиздата и подпольных выставок, японских транзисторов, передающих «голос Америки», итальянских сапог, драных тапочек, вызовов в КГБ, отъездов, редких (но все же реальных) арестов. Эпоха свободного времени, вылазок на денек в Таллин, добывания лишних билетиков на Таганку, на Юрского, на «Страсти по Иоанну». Эпоха преклонения перед Феллини, болгарских духов, польской косметики, гамзы в плетенках; слабо мерцающего где-то вдали — наверно, придуманного и существующего только в кино — Парижа, посиделок день напролет до рассвета и детски-наивного ощущения, что раз все это невероятное и несовместимое осуществилось и совместилось, значит, и продолжаться будет вечно. Конечно, этому умозаключению не хватало логики, но ведь и все вокруг нарушало ее законы.
Была ли я частью этой эпохи? Не-ет, куда уж. Я только изредка со смешанным чувством почтения и страха приходила к ней в гости. Жить в свое время — привилегия, достающаяся немногим: дефицит, распределением которого ведает сам Всевышний.
* * *
…Из записных книжек, заметки на полях, непричесанные мысли, «дневник без имен и чисел»… Бегут, нагоняя друг друга, мыслишки-мыслята, переговариваются, смеются, сплетничают. Пытаюсь выкинуть за дверь. А они лезут в окно. Да еще норовят застрять как кость в горле. Приходится махнуть рукой и сказать: ладно, живите.
* * *
В сущности, сформулировать можно просто и коротко. Десятилетиями мы жили с чувством, что плохи правительство и режим, а оказалось — мы сами. Обидно. И грустно.
* * *
Накапливается опыт, нарастают привычки. Все толще броня, заслоняющая от неожиданностей, а также от колющих, режущих и царапающих впечатлений. Все лучше работают фильтры, впускающие в сознание только то, что ему, до хромоты измученному, посильно. И вот уже все налажено. Машина работает бесперебойно. Шатуны-шестерни. Регулярная смазка. Механизм не износится до конца: ца-пых-чу, чу-пых-ца. Но я не хочу. Но я не мо-гу.
И совершенно невероятным усилием, которое хочется почему-то назвать созидательным, машина ломает себя изнутри. Еще какое-то время бессмысленно движутся шатуны-шестерни, и наконец — полный стоп. Тишина, поле, и слышно, как поют птицы.
* * *
Главное — не чувствовать себя на сцене или перед глазами Господина учителя.
Под взглядом Господа Бога — это совсем иное.
* * *
Вечером страшно сесть за что-нибудь настоящее. Перепечатать, подредактировать — это еще туда-сюда. Настоящее хочется оставить до свежих сил. А где они? Утром с трудом преодолевается притяжение койки. Откроешь глаза — и сразу включается мысль: вставать?! а зачем?
Печальный результат многолетней борьбы за искренность, стремления не делать того, что на самом деле не хочется, не подчиняться ничьим уставам. И вот он — итог.
* * *
Ломоть каравая, который достался мне при дележке, был горьким и жестким. И все-таки это хлеб. Я за него благодарна.
* * *
Ну помогите же мне, помогите. Разве вы все не видите, как я нуждаюсь в помощи? Умные, добрые, сильные взрослые, мне нужно, чтобы вы пришли.
Сделайте что-нибудь. Сделайте поскорее. Так трудно, так невозможно, невыносимо и нестерпимо ждать. А кроме того, нет и времени. Говорят, мне исполнилось сорок шесть. Я, правда, не очень этому верю, но все вокруг утверждают. С сочувствием, со злорадством. И попросту: «констатируя факт». Они говорят: «Ничего не поделаешь, жизнь проходит». А у меня внутри все закипает. То есть как это ничего не поделаешь? Я ведь хорошая. Я всегда слушалась старших, всегда была вежливой и разумной. Как смеете вы говорить «жизнь проходит»? Ведь моя еще даже не начиналась. Умные, сильные взрослые, сделайте так, чтобы она наконец началась.
Извините, конечно, я понимаю, что это звучит истерично. Я не просила бы, если б сама могла справиться. Я пробовала. Я много лет пробовала, но у меня все-таки не получается. Так что, очень прошу, приходите и помогите.
* * *
Попробовать поместиться в определенные тебе судьбой рамки.
Задачка не из простых, особенно если вспомнить, что обыкновенные мальчики в детстве хотят быть дворниками, космонавтами или продавцами мороженого, а обыкновенные девочки хотят быть принцессами, хотя чаще всего благоразумно об этом помалкивают.
* * *
Каждый раз очень подолгу хожу, беременная любовью. Последнюю свою любовь я вынашивала одиннадцать лет. И наконец она появилась на свет, разодрав мне, конечно, при этом все внутренности.
Младенец огромен и монструозен. Как любой новорожденный, он не стоит на ногах. Кричит во всю силу гигантских легких и требует пищи. Все время требует пищи. А чем мне, пустой и голодной, его накормить?
* * *
Мука стремящейся объясниться и абсолютно не находящей слов души.
Пустота, даже вакуум. Гигантским насосом выкачан воздух. Картина безрадостная. Вокруг не люди, а манекены, разъятые на части и абсолютно равнодушные к этой разъятости. В целом, пейзаж напоминает картины Ива Танги. Когда-то эти полотна завораживали. Казалось, замысловато и вычурно, но каково мастерство, какая гармония цвета и света, какая способность изображать не воздух, а его отсутствие. Как назвать этот эффект? Своего рода антиимпрессионизм? И только теперь стало понятно, какой это бесстыдный натурализм: фотографически точное отображение ощущаемого и видимого. Видимого, естественно, внутренним оком, потому что глаза завязали муаровой черной лентой (поклон в сторону Дали, а заодно и Бунюэля).
* * *
На что я надеюсь?
Попыткой ответить на этот вопрос заполнены дни и недели, постепенно складывающиеся в месяцы и годы.
Физически это не ощущается. Бег времени — вопреки торжественному пророчеству Ахматовой — остановлен.
* * *
В Париж. Со своим самоваром. Садишься на лавочке в Люксембургском саду и пьешь чай. Или, зевая, просматриваешь газетку. Из-за плеча сама на себя смотришь с ужасом. Откуда все это вдруг? Ведь Париж, о котором мечталось, праздник, который… лиловая дымка, Нотр-Дам, Пруст.
— А начхать на все это!
— Опомнись, ты себя слышишь?
— Слы-ы-шу! — Кустодиевская купчиха пятерней по щекам начинает размазывать пьяные слезы. — Не довелось мне родименького увидеть… Уж я сколько ждала — свечки ставила, не довело-ось, ох, не довело-ось…
Но, слава богу, пережили, отрыдали. И появилась возможность как-то по-новому этот город обнюхать, ощупать, обойти, слепо на памятники и людей натыкаясь. Тянет, да, тянет снова на кладбище наших надежд, и, кажется, появилась уже возможность приехать без груза обид и протухших желаний, без мерзостного щекотания: скандал хоть устроить. Появилась возможность просто приехать и посмотреть: а какой он, Париж, обыкновенный город, в котором живут обыкновенные люди.
* * *
Страдания, может быть, и очищают. Воспоминания об унижениях подтачивают силы. Рождая страх перед действием, они в зародыше губят любую попытку начать строить снова.
* * *
Белый свет — мой противник. Не враг — противник. Разница очень большая. Врага можно простить и забыть. Противник все время зовет на бой, и когда ты, устав, поднимаешь вверх руки и говоришь: «Все, сдаюсь», кричит: «Нет, дорогая моя, не согласен! Посмотрим еще, кто кого» — и снова идет в наступление.
Время от времени мы с ним садимся за стол переговоров. Это своего рода отдых, для обоих приятный. Растягиваем его, сколько можем. И вот уже ткань начинает трещать — рвутся нити.
* * *
Устала. Ужасно хочется к тетке. Не в глушь, в Саратов, а в Ярославскую. Почему? Наверно, реминисценции с «Вишневым садом». Милый мой сад, стук деревьев по топору. Смотрите, как удивительно цветут вишни, говорили мы, показывая на пни.
Так вот. Хочется в Ярославскую. Старик лакей в шерстяных чулках дремлет в прихожей. Дальше мне, собственно, и не нужно. Только б до той прихожей добраться — не отрываясь смотреть на дремлющего старика. Слушать, как капает воск со свечки.
Свеча в латунном подсвечнике, дом старый, бедный, щелястый. Тетка во вдовьем чепце пьет кофе. Чем-то похожа на матушку Тургенева. Нет, дальше прихожей мне и в самом деле не хочется. Крепка надежда, что дремлющий старик — не Фирс, а Савельич, который, конечно же, все устроит, в ноги кому надо бросится и — спасет.
* * *
Они страшные, они злые. Их горячее дыхание доносится со всех сторон. Они все время напоминают о себе. То рыком, то стоном, то страшным гиеньим смехом. Уйти от них некуда, спрятаться — тоже. И есть только один способ выжить: начертить мелом круг, встать в самую середину и молча поклясться никогда-никогда-никогда за черту не ступать. Если клятва дана всерьез, меловая граница становится неприступной — и никому из них ее не пересечь.
Но наступает момент — утро, день или вечер, — когда ты понимаешь: жизнь в клетке круга — это давно не жизнь, и лучше уж быть растерзанной на куски, чем провести весь свой век в скрытой от посторонних глаз темнице. И ты пытаешься стереть волшебную черту, но договор анти-Фауста с квазидьяволом пересмотру не подлежит.
* * *
На многих изображениях Рождества Христова живописцы, тщась точно выписать обстановку хлева, в котором увидел свет Сын Божий, показывают нам не только людей, но и четвероногих.
На одной из картин, посвященных означенному сюжету, выполненной второстепенным немецким художником и висящей в маленьком захолустном музее, корова, присутствующая при таинстве рождения, выписана как-то особенно четко и ярко и привлекает внимание (во всяком случае, так было с моим вниманием) больше, чем все остальные действующие лица.
Младенца разглядеть очень трудно. Он затоплен светом, падающим волей Божественного провидения сквозь прореху в крыше. И все же корова, отчаянно напрягая мускулы шеи, упрямо, изо всех сил тянется, пытаясь разглядеть, что ж это там за диво.
Невольно приходит на ум: вот бы и людям так вглядываться в новорожденных — всматриваться в них терпеливо и благоговейно, стараясь прочесть послание.
* * *
Чти отца своего и матерь свою. Начав с этого, тут же, наверно, надо и остановиться. Чтить и пытаться разгадать, чтить и анализировать — уживается плохо. Сыновья Ноя отводили глаза, чтобы не видеть наготы отца своего, и только Хам смотрел и смеялся.
И все-таки нужно ли бороться с неотступно преследующим желанием разодрать маскирующие покровы и узнать, кто по сути своей мужчина и женщина, избранные для того, чтобы душа вошла в тело и на какой-то срок приобщилась земному существованию?
* * *
Давно уже, со смехом: «Люблю встречаться с новыми реками и погружаться в их воды».
— Имейте в виду: в Рейне купаться нельзя.
— А в Шпрее?
— Тоже. И в Майне, и в Одере.
А как прекрасна все-таки жизнь. Давайте спасем ее. Давайте все вместе попробуем. Может быть, и получится.
* * *
Лет десять назад возникла перед глазами и с тех пор все преследует простенькая цветная картинка: высокой травой заросший, ромашками и колокольчиками покрытый луг. Над травой — светлый затылок с двумя аккуратными косичками, завязанными белыми бантиками. Кажется, девочка собирает ромашки (разглядывает их? обрывает головки?). Ясно видно только одно: она медленно двигается, уходит, ни разу не обернувшись, все дальше и дальше. «Эй, — кричу я, — эй, подожди!» Слабо покачивается перед глазами море травы.
* * *
Чтобы иметь возможность любить домашних, нужно было от них уйти. Но это представлялось невозможным. Казалось: скованность одной цепью — закон.
Такими странными альпинистскими связками живут многие. И в результате взрослые дети убивают родителей или родители убивают взрослость детей. Цивилизованные разводы бывают редко. Намного чаще — мирное кровосмесительное сожительство.
Если б я вовремя прочитала Евангелие, знала бы еще в юности: враги человека — домашние его.
* * *
Чувство вины. Оно всегда рядом. Маленький сгорбленный старичок с клюкой. Смотреть на него нет сил и не смотреть невозможно. К нему все время приходится наклоняться, а далеко ли уйдешь так, внаклонку?
Но почему чувство вины должно быть безобразным и жалким? А если вытянуть и распрямить его? Жалкий старичок сделается тогда высоким и стройным юношей, на которого, если трудно, можно и опереться.
* * *
Сидя среди обломков, пытаешься собрать хоть самую простенькую конструкцию. С каждым разом собранный механизм все нелепее и примитивнее. Скорее всего, наступит день, когда и вообще ничего собрать не удастся. Что тогда? Тогда и подумаем. А пока гораздо важнее летним днем задрать голову и смотреть, как плывут по небу слоистые, кучевые и перистые облака.
* * *
Верность тексту. Необходимость ее. Изменяют по разным причинам (неблагородные отбрасываем). Иногда уводит в сторону стремление следовать правде (или правде в кавычках) жизни. Есть и другие виды правд, оказывающиеся болотными огнями.
Текст — ребенок, по отношению к которому мы акушеры. Единственная наша задача — не искалечить его, принять таким, какой есть.
Удача
Он брел шатаясь, потому что был полумертв от жажды. Почему это случилось? Неважно. В жизни случается разное. На него разве что пальцами не показывали. И в самом деле. Здоровый и молодой, не смог найти пару глотков любви, ходит черный. «Стерва какая-нибудь душу выпила», — прокомментировал кто-то. «Эй ты, приятель, — выкрикнул другой прохожий, — а что, если тебе приспособиться? Верблюды же приспособились. Прут, не пивши, через пустыню, и ничего». Весельчак рассмеялся жирно и смачно. Видно было, его хорошо поили. Ну, не любовью, конечно, но чем-то вполне ее заменяющим. Женщины были участливее. Они вздыхали, глядя, как он бредет в своей курточке с капюшоном, они и помочь бы хотели, но слишком уж был он измучен, и страшно было не справиться, зря только силы потратить. Да и сухой жар шел от него, прямо как от больного. Не ровен час заразишься. Нет, лучше уж мимо, хотя жалко, конечно же, жалко.
Дорога, которая поначалу казалась, в общем-то, ровной, была теперь вся изрыта колдобинами. Он спотыкался. Обувь разваливалась — пришлось ее выбросить. И теперь вид его был совсем странный: в курточке с капюшоном, босой. Думал ли он о чем-нибудь? Да, конечно, сначала о многом. Но потом мысли спеклись. Осталась одна: глоток, дайте глоток любви. «Глоток, — шептал он, — один…» И встречные ускоряли шаг, чтобы скорее уйти от него. Ведь ясно же, сумасшедший. Глоток…» «Сядьте сюда, — сказал вдруг женский голос. — Сядьте, передохните. Смотрите, какая хорошая тень. Вам голову напекло. Хотя вы в капюшоне… Ну, может быть тепловой удар. Куртку снимите — и вам станет легче». «Глоток, — сказал он. — Мне очень неловко просить вас, — он улыбнулся, и все лицо передернулось судорогой, — но, чтобы двигаться дальше мне, нужен глоток любви. Прошу вас, я очень прошу вас…» «Господи, — женщина от изумления даже всплеснула руками. — Ну если бы раньше! Ведь у меня ведро любви было. И никто даром не брал, а теперь — ну ни капли, совсем ни капли. Вы понимаете?» Она смотрела очень участливо, ей очень хотелось помочь ему. «Я могу принести вам ботинки, — сказала она. — Хотите? Ведь босиком идти трудно, у вас раны на ногах. Я принесу, хорошо?» Но он не слышал ее. Сейчас, когда он сидел, прислонившись к стволу огромного старого дерева, ему, конечно же, было чуть легче, но он понимал: еще минута, и жажда начнет мучить снова. Нужно собраться с духом и встать. Идти — отыскать хоть какой-нибудь водоем. Не озеро, так болотце. Он накрыл голову капюшоном и встал. После прохлады жар на дороге казался еще нестерпимее. Колеи, ямы, ухабы. Значит, никто не поможет, никто, даже если случится самое страшное. В голове снова спеклось все в какой-то липкий комок. «Глоток…» Сдвинув свой капюшон на затылок, он осмотрелся. Нигде, ни с какой стороны не было ни ручейка, ни источника, который мог бы его напоить…
Но он не погиб. На пути его встретилась деловитая женщина. Откуда она взялась? Сказать трудно. Известно, что деловитые женщины много что успевают, в том числе осмотреть все дороги, куда никто не заходит. Они откуда-то знают, что там иногда, бог весть почему, встречаются дельные вещи. Женщина шла упруго и быстро, но это ей не мешало все замечать. «Пьяный?» — была ее первая мысль. Она хотела уже пройти мимо, но деловитость ей этого не позволила. Раз человек попался навстречу, надо на всякий случай определить, что это такое. И, присмотревшись, она поняла, что это не то, что обычно шатается по дорогам. Тогда деловитая женщина, изменив свой маршрут, пошла вслед за путником, ни на секунду не выпуская его из глаз. И когда он упал, она была совсем рядом и сразу же наклонилась к нему, спросила: «Вам помочь?» «Я умираю от жажды, — сказал он. — Глоток, дайте глоток любви». Деловитая женщина была очень запаслива. В сумочке вместе с ключами и пудреницей она носила флакончик с туго завинченной пробкой. В нем было двадцать капель любви. По опыту она знала, что иногда эти капли необходимы, носить же их в таком количестве было нисколько не тяжело. «Пейте», — сказала она и кокетливо улыбнулась. «Мне, право, неловко, — с трудом шевеля губами, проговорил он. — У вас их так мало». Она рассмеялась: «Ну что вы, я дома храню в морозилке огромный запас». «Разве любовь можно хранить замороженной?» — спросил он изумленно. Он уже выпил все двадцать капель и чувствовал себя в силах думать и разговаривать. Женщина, безусловно, была миловидна. «Пойдемте со мной, — сказала она, — и я вам покажу». Голос женщины был похож на серебряный колокольчик. «Серебро — это металл», — вдруг вспомнил он. Но понять, что это значит, не смог: он был еще слишком слаб, и ходьба забирала почти все силы. «Неудивительно, — думал он, — ведь я изнывал от жажды так долго, но теперь мы скоро придем, и она даст мне глоток любви. Один глоток оживит меня».
Дошли они и в самом деле скоро. Дом оказался просторным и крепким. Женщина усадила мужчину за стол и стала кормить его. «Пить, — сказал он, — ты обещала глоток замороженной». «Глоток — слишком много, — сказала женщина знающим голосом. — Пить надо только по двадцать капель». И, вытащив из морозилки маленький кубик льда, она растворила его в чем-то питательном и усыпляющем.
Виноватые
— Поговорить? — Я поняла бы это желание сразу же после похорон, через неделю, через две. Но через полгода, когда все, что нужно, уже проделано, когда разобрали обломки так нелепо прервавшейся в тридцать два года жизни, о чем нам говорить? — Не знаю, Глеб, по правде говоря, не хочется. — Молчание в трубке. Он не приводит никаких аргументов, он ждет. Медленно, тяжело, прерывисто тянется время, и наконец мой голос спрашивает: — Ты в самом деле уверен, что нам стоит встретиться? — Снова молчание. — Хорошо, приезжай завтра к двенадцати. Детей не будет, они идут в театр.
На другой день я поднялась чуть свет и, стараясь как можно меньше шуметь, принялась за уборку. Тополиные ветки наконец начали распускаться. Подумав, я переставила их из синей вазы в желтую, потом — в кувшин. Раза три передвинула с места на место лампу. Сняла со стены акварель «Ледоход» и заменила ее офортом «Михайловский замок». Все это было нелепо, но от вопроса «зачем?» я решительно уклонилась. В девять открыла дверь в детскую. Завернувшись, как в коконы, в одеяла, Ася с Алешкой сидели на кроватях и упоенно ругались. Вначале меня ужасно пугали эти до хрипоты доходящие перепалки. Потом стало ясно, что их надо попросту игнорировать: детки во всем разберутся самостоятельно.
— Доброе утро, если только это утро можно назвать добрым, — приветствовала я свою команду.
— А почему бы и не назвать? — отозвалась Аська, одаривая меня своей зубастой улыбкой. — У нее были крупные, ровные, ослепительно белые зубы, часто служившие нам поводом для глуповатых, но неизменно вызывавших приступы веселья шуток.
— Асюточка, ты сегодня скалишься, как аллигатор, — сказала я, пятясь к стене. — Боюсь, если завтрак будет невкусным, слопаешь нас и даже не поперхнешься.
В ответ она рассмеялась еще зубастее:
— Тебя, мама Лена, не съем, а от Алешки кусок отгрызу: что-то он стал очень толстым.
Этого Алексей не вынес.
— Я толстый, я? — закричал он, поднимаясь в полный рост, расправляя плечи и втягивая живот. — У меня фигура атлета!
Мы с Аськой покатились со смеху.
— Иди-ка ты, атлет, в ванную, вам пора собираться в театр.
Одевание-раздевание создавало проблемы. Им уже стукнуло десять, и, хоть Алешка оставался пентюхом, Ася по временам проявляла этакую кокетливую застенчивость. Будь у меня трехкомнатная квартира, я поселила бы их раздельно, но, к сожалению, трех комнатной квартиры у меня не было.
— Итак, что ты наденешь? — поинтересовалась я, когда Алешка, сунув ноги в тапки, потрусил в ванную.
— Джинсы и красный свитерочек, — без тени сомнений выпалила она.
— Дело хозяйское, но не лучше ли новую юбку и новый бежевый свитер? Красный совсем протерся.
— Нет, не протерся.
— Тебе так кажется? Значит, у тебя глаз замылен.
Формулировка вызвала одобрение, но позиция не изменилась. Впрочем, подобие уступки все-таки замаячило:
— Когда мы пойдем на «Тима, ровесника мамонта», я надену то платье, что ты подарила на Новый год.
— Отлично. Мне это будет очень приятно.
Пока они собираются, я готовлю завтрак. Когда мы с Алешкой жили вдвоем, я не очень заботилась о еде. Что-то сжевали — и ладно. Но с появлением Аси все изменилось. Мне хочется, чтобы было не только вкусно, но и красиво, я стараюсь как можно чаще придумывать что-то новенькое. Самой смешно, но помню о правилах сбалансированного питания.
Одеты, умыты, накормлены, ехать надо до Пушкинской, да, конечно, вы там уже были, напоминаю на всякий случай. Билеты у Аси, деньги у Алеши. Не лезьте в очередь за мороженым, все равно перед носом кончится. Лимонаду можете выпить. Счастливо, до встречи.
Без четверти одиннадцать. Конечно, следовало договориться с Глебом на одиннадцать. А так у меня впереди целый час. И этот час будет, похоже, нелегким.
Заглядываю в бак для грязного белья. На дне один-единственный носок, синий в полосочку. Да, похоже, в последнее время у меня было достаточно трудных часов.
Сделав еще один круг по квартире, сажусь к столу, где разложены начатые два дня назад тезисы для преподавательской конференции. «Одной из существеннейших особенностей мировоззрения Дэниела Джонсона в период работы над „Черной башней“…» Господи боже мой! И что же, по моему мнению, является «одной из существеннейших особенностей»? Похоже, я разучилась писать. И раньше не бог весть что умела, но все-таки без «одной из существеннейших» обходилась. Почему я вообще пятый год занимаюсь «прогрессивным американским писателем Дэниелом Джонсоном»? Уже несколько статей вышло, и каждая новая хуже, чем предыдущая. А единственной в самом деле приличной работой была давняя курсовая по «Школе злословия». С тех пор прошло целых тринадцать лет, а я не только не продвинулась вперед, но и утратила что-то, дававшее мне возможность писать, не беспокоясь о том, «что скажут». Ты сам свой высший суд. В двадцать лет это было бесспорно. А теперь? Да, и как я «теперь» буду разговаривать с Глебом? В каком тоне? Не надо об этом думать. Отрепетировать разговор нельзя. В конце концов, он попросил о встрече. Я снова прошлась по квартире. Уютный, в сущности, дом. Книги, большой старый глобус, который мы все с удовольствием вертим (я, откровенно говоря, чаще всех), цветы (поливаем по очереди), в углу прихожей — три пары лыж, кухня сверкает белизной и радует глаз вышитой скатертью. Тесновато, но теснота незаметна. Пройдет каких-то полчаса, и все это увидит Глеб. Впрочем, скорее всего, увидит и не заметит. А кроме того, что я хочу этой квартирой доказать? Что Аська попала в уютный дом и этот дом стал ей родным? Но разве его волнует Аська? Он придет сюда ради Рины. И даже иначе: ради себя, ради того, чтобы в моем присутствии убедить себя в том, что он в смерти Рины не виноват. Без посторонней помощи ему это не удается, и вот он подумал, что, может быть, я… Но сумею ли я отпустить ему грех? Захочу ли? Нет, ничего не нужно решать заранее. Отрезав ломоть хлеба, я густо намазала его маслом и принялась торопливо жевать. Мы не виделись целых полгода. Нужно послушать, что он скажет, нужно увидеть его глаза. И не надо, не надо с таким надрывом к этому относиться. Рины нет, ей ничем уже не поможешь. Помогать Глебу я не обязана.
Звонок. Знакомая фигура на пороге. То же по сердцу режущее беззащитностью лицо. У каждой женщины он моментально вызывал желание приблизиться, согреть, утешить. Разум подсказывал, что утешительниц — в избытке, и все-таки его, высокого и красивого, было до слез, пронзительно жалко. И возникала уверенность, что ты сможешь стать первой, способной наконец понять, одарить и согреть. Так он смотрелся пять лет назад, когда вместе с Риной впервые переступил порог этой квартиры, так он смотрелся и сейчас, когда Рина давно уже похоронена на Богословском кладбище, во второй справа от входа аллее.
— Здравствуй.
— Ты с боем часов.
— Не хотелось начинать с извинений.
— Проходи в кухню — дам тебе чаю.
Чай. Спасибо китайцам за этот прекрасный напиток. Он дает замечательную возможность спрятаться от волнения и занять руки, ведь столько всего нужно сделать: и открыть кран, и чиркнуть спичкой, и достать чашки.
У меня в кухне Глеб бывал только до ремонта, но явно не замечает никаких перемен. А я-то все утро: на три сантиметра левее, нет, лучше на пять правее.
Ссутулившись, он вертит ложку:
— Мы с тобой так и не разговаривали — после всего случившегося.
Да, не разговаривали. Привлекать его к похоронным делам было бы просто нелепо и неприлично. Ведь за все годы он так и не был представлен семейству. Рина тоже нечасто бывала у матери, а Евгения Львовна на большем и не настаивала. Для нее светом в окошке был Боря, а предметом забот и тревог — Борис Александрович. Аська бабушку утомляла, а кроме того, была слишком похожа на Геворкяна. Брака с диким кавказцем Ринке, похоже, так и не простили, причем развод не исправил, а только усугубил ситуацию. «Она живет так, как хочет, и я не буду ей в этом мешать». Эти слова Евгении Львовны передала мне Александра Львовна, всю жизнь не ладившая со старшей сестрой и потому радостно принимавшая и меня, и Глеба. Аську она баловала, а Рину обожала. На кладбище плакала безутешно, и было понятно, что хоронила не только Рину, но и себя. Ей было шестьдесят, она была старой девой, и у нее, всегда насмешливой, нарядной и подтянутой, не было сил ни скрывать, ни хотя бы прилично маскировать свое горе. Я попыталась подойти к ней, но она меня не узнала.
— Ты знаешь, что Александра Львовна в больнице? — спросила я Глеба.
— Нет. Я звонил ей месяца два назад. Хотел зайти, но она уклонилась. Даже не очень подыскивала предлог. Голос был как бумага.
— Да, ты и ее убил.
Слово не воробей. Не нужно было говорить это прямо, в лоб. Я не хотела обвинять, это он должен был оправдываться. Но теперь мы вдруг сразу же оказались на ринге. Друг против друга. Нелепая ситуация!
— Лена, мне не хотелось бы ссориться. — Сказано это было с какой-то привычной и безысходной усталостью.
— А чего ты вообще хочешь, Глеб? Зачем ты пришел сюда?
— Чтобы понять: ты действительно веришь, что я убил Рину?
— Глеб! — Я вскочила. — Разумеется, ты не толкал ее под автобус, но хорошо постарался, чтобы она там оказалась. На языке юристов это называется «доведение до самоубийства».
— Но ведь никто не доказал, что это самоубийство!
— А тебе нужны доказательства? Мне — нет! Я слишком часто видела, какой она бывала после встреч с тобой! Ладно бы просто ревела! Но я слышала, как она по-собачьи выла. Ты можешь это представить? Медленно сползла вниз, уткнулась лбом в пол и завыла!!
Вначале мой пафос, скорее всего, был искусственным, но потом сцена во всех подробностях встала перед глазами. Рина пришла тогда очень бледная, вытащила из сумки бутылку «Столичной» («у тебя разве найдется?»), брякнулась в кухне на стул, огляделась и вдруг брезгливо поморщилась: «Не здесь. Пить надо цивильно» — и, взяв бутылку, направилась в комнату: «Алешка, надеюсь, спит? Ну и отлично». — «Ринушка, что случилось??» В тон: «Ничего, моя дорогая. Просто один твой знакомый по имени Глеб Вершинин, как выяснилось, увы, не сможет поехать со мной и с Аськой в Палангу, так как супруга-с приобрела путевки в Болгарию…» Она хотела еще что-то добавить, но изо рта вырвался крик (стон? рев?). Водка так и осталась неоткрытой. Забившись в угол, Рина сначала била ладонью по колену, потом начала колотить по спинке дивана. «Нет, ты погоди, не надо меня утешать, я и похуже выдерживала. Вот в прошлом году, например… вот… в прошлом году…» Махнув рукой, она зацепила снятую мною сегодня акварель «Ледоход». «Боже, до чего я дошла, это мерзость, это конец, конец…» Вцепившись в волосы, она раскачивалась, а потом вдруг завыла и начала оползать. Я поила ее тогда корвалолом (вызывать «неотложку» — не вызывать?), в какой-то момент даже кинулась к телефону, но так и не позвонила. Что они могут, эти «неотложки»? Окончись этот припадок летальным исходом, врач написал бы в свидетельстве: «Смерть от сердечной недостаточности». А это была бы смерть от избытка — отчаяния, невезения, боли…
— Года два-три назад все действительно было ужасно. Я тогда сделал попытку…
— Избавь от ненужных признаний!
— Почему ты так враждебна? — Он протянул ко мне руку, и это застало врасплох: рука, как и взгляд, молила о снисходительности, о защите. — Мне всегда было так хорошо здесь. Помнишь ведь, сколько раз мы сидели втроем, и говорили, и понимали друг друга.
— Глеб, не надо. Ты хочешь моего признания, что это был несчастный случай. Пожалуйста: да, это был несчастный случай. Это было несчастье Рины, что она с тобой встретилась. А ты ничем не виноват. Ты хороший. Только вокруг всем плохо.
— Кого ты имеешь в виду?
— Хотя бы Асю. Думаешь, ей легко было видеть мать ослепшей от горя? — От вопроса шел паточно-сладкий дух мелодрамы, но Глеб его как будто не почувствовал.
— А что я мог сделать?
— Оставить их. Это был бы мужской поступок. И все остались бы живы. И Аська не вскрикивала бы по ночам. — На самом деле Аська кричала только однажды, и, скорее всего, это никак не связано было с гибелью матери. Но разве можно отказать себе в удовольствии уколоть его побольнее? А кроме того, разве Аське действительно хорошо? Не симптом ли ее болезненная привязанность к старым вещам, какому-нибудь «красненькому свитерочку» или истрепанным обложкам для учебников? Раньше этого не было, раньше Аську все время тянуло к новому. Уж кому как не мне это было знать! Я знала все ее вкусы.
«Если кого моя дочь и слушается, так только Лену!» — весело, с вызовом говорила Рина знакомым. Тетушка Александра Львовна придерживалась того же мнения, и когда Аську вдруг невзлюбила учительница (стерва была эта Марь Иванна, не выносила даже намека на жизнерадостность, а ведь из Аськи радость била фонтаном), решено было, что в школу пойду я. «Не надо нагружать этим Риночку, — заглядывая мне в глаза, просила Александра Львовна, — а ты такая умница, так замечательно умеешь все улаживать». «Мама Лена». Аська звала меня так с трех лет. Правда, и Алексей с того же возраста говорил «мама Рина», но это было скорее так, для симметрии. Впрочем, квартет у нас получался и в самом деле отличный. Дачу снимали, естественно, вместе. Старшие, за исключением Александры Львовны, заезжали туда не часто, но мы и сами отлично справлялись. «У нас умелые дети», — как любила говорить Рина. Вопрос о папах умелых детей не вставал. Геворкян в первые годы пытался наведываться: помогать по хозяйству и в городе, и летом. Но его тихо спровадили, тоже отчасти для симметрии (что отследила не в меру зоркая Евгения Львовна, предавшая с тех пор полной анафеме меня и частичной — дочь). О том, чтобы появлялся мой бывший муж, отец Алексея, речи быть не могло. Здесь я стояла на жестких позициях, и втайне дивилась, откуда у меня на пороге восьмидесятых этакие забавные рудименты психологии эпохи первых пятилеток. Многое в собственной биографии оставалось мне непонятным и не влезало в слова, и только однажды возник человек, разговаривая с которым я смогла бы, наверное, разгрести все эти геологические напластования. Но что делать, Волга впадает в Каспийское море, а люди, способные по-настоящему разделить с нами жизнь, чаще всего достаются другим.
«Не жалуйся — и все будет прекрасно». Этой премудрости выучил меня отчим. Холодный, спокойный, глубоко равнодушный ко всему что лежит за пределами его физики диэлектриков, единственный взрослый моего детства, о котором я думаю с благодарностью, потому что он никогда не пытался меня переделывать. Все остальные трудились в поте лица. Почему? Задумываться над этим было рискованно, а «риск чаще всего неоправдан», что опять-таки отмечал мой мудрый отчим. Именно так, не входя в зону риска, я сблизилась с Алем Девотченко. К этому времени наш квартет из двух молодых мам и двух детей-ровесников играл (имея широкий репертуар) без единой фальшивой ноты, и все-таки было ясно, что кое-какие опасности поджидают, и даже в весьма скором времени. Уже промелькнула на фоне весны какая-то горло скручивающая голодная судорога, и осадок был хоть и не слишком болезненный, но неприятный.
С Алем многие нависавшие проблемы решились мгновенно. Он был из редкой нынче породы убежденных холостяков. Тоже физик (мало того, теоретик), он был к тому же умельцем, способным поспорить с самим Левшой. Впустить женщину к себе в кухню, где царит чистота вакуумной лаборатории, а результат стряпни лучше, чем в любом «Метрополе», было бы для него разрушением самого ценного в жизни. Следовательно, и в дом ее нужно было впускать только строго по расписанию и выпроваживать прежде, чем она волей или неволей нарушит как часы заведенный порядок. В постели он был хорош, и все вместе меня чрезвычайно устраивало. Его тоже.
Естественно, Рина все знала о Девотченко, и иногда мы вместе раздумывали, где бы найти второй такой экземпляр. Но второй экземпляр не появлялся, а вместо него возник Глеб. То, что это совсем другой коленкор, стало ясно, когда она жестко сказала: «Женат. Обсуждать не хочу. Пожалуйста, не задавай вопросов». Я и не задавала. Просто купила новый диванчик, чтобы Аське было удобнее оставаться у нас ночевать. Ребятам было уже по шесть лет, они замечательно ладили, и как-то раз в парке какая-то дама бальзаковских лет с чувством воскликнула: «Как я вам завидую! Редко увидишь таких прелестных и дружных детей!» Осень сменилась весной, потом стаял снег, и ввиду приближающегося лета я поинтересовалась, не собирается ли Ринка куда-нибудь съездить. Недели две-три мы справимся и втроем. В первый момент она как бы даже не поняла, а потом вдруг заплакала. «Ринуша, ты что?» — «Не обращай внимания, я от счастья».
Но счастье было недолгим. Сначала оно сменилось резкими перепадами настроения, потом унынием с неожиданными всплесками болезненной веселости. За что-то она боролась, к чему-то приспосабливалась, что-то пыталась придумать, однако со стороны было видно: в этой истории от нее не зависит ничего, и никакие тактики не помогут. «Ринка, прости, но это полный безнадюг, — сказала я тогда. — Если ты принимаешь такой вариант, успокойся, не дергайся, но если надеешься на перемены…» «Ты ничего не поняла, — яростно выкрикнула она. — Я приведу к тебе Глеба, и тогда ты увидишь». Она действительно привела его, и на меня глянули вот эти, единственные на свете глаза.
— Ты, кажется, никогда не верила, что я действительно любил Рину. Пыталась ей это внушить, доводила ее до абсурдной ревности, до желания уличать меня, загонять в угол, ставить ловушки!
Он вдруг вскочил, заметался по кухне, дернул зачем-то висевшее возле раковины полотенце, и оно полетело на пол, а заодно обрушилась и конструкция из двух полочек, которую я придумала и которой очень гордилась. Но Глеба это не успокоило. Схватив тарелку, он повертел ее секунду, словно раздумывая, и швырнул об пол. Естественно, тарелка разлетелась вдребезги. Мы оба смотрели на все как будто со стороны.
— Прости, — сказал он наконец.
— Поскольку несервизная, прощаю.
Я и не думала шутить, но он вдруг рассмеялся, и вспомнились давние замечательные вечера, которые мы проводили на этой кухне втроем. Глеб объявил тогда, что решился. Хватит. Действительно, сколько можно?! Надо только дождаться, чтобы Наташа (дочка) закончила школу. Дело было зимой, до выпускного бала Наташи оставалось несколько месяцев, и все мы были очень веселые и легкомысленные, хотя временами меня и грызло, что веселюсь на чужом балу. Ведь как ни крути, но квартет (если у Ринки с Глебом и впрямь все получится) вынужден будет сыграть финал. Квинтет, правда, тоже хорошая музыкальная форма, но встречается куда реже. Обо всем этом я как-то задумалась, лежа рядом с Девотченко, и он, вдруг приподнявшись на локте, с непривычной серьезностью заглянул мне в глаза: «Тебе не кажется, мне пора уже познакомиться с твоим сыном?» — «Господи, с какой стати?» По инерции я еще думала о своем, но он, не расслышав мою интонацию, продолжал: «Думаю время уже понять, насколько дуэт в состоянии перерасти в трио». Вот уж, что называется, попадание в яблочко! Я чуть не прыснула со смеху, а перед глазами мелькнула эстрада заполненная ансамблями всех сортов и размеров, играющими, разумеется, каждый свое «Боюсь, что получится какофония», — вновь обретя серьезность и даже почувствовав грусть, сказала я. Было понятно, что состоявшийся разговор существенно приближает конец отношений с Алем Девотченко, но не только исправлять что-либо, но и думать об этом всерьез не хотелось. Куда важнее было происходившее дома.
А дома, конечно, делалось все мрачнее. Сначала выяснилось, что выпускные экзамены вовсе не главное. Самое трудное — поступление в институт. Вот если Наташа благополучно станет студенткой… Все это можно было предусмотреть, и я ругала себя за то, что не высказалась гораздо раньше, конечно, не в тот самый вечер, когда Рина с Глебом пришли сияющие, с шампанским, и мы, так сказать, праздновали помолвку, но вскоре — через месяц, полтора…
Глеб вдруг поежился:
— Вот такое лицо бывало у тебя не раз. Знаешь, как я называл его про себя: маска следователя.
— Почему маска?
— Потому что вообще тебе это не свойственно. Ты принимаешь людей такими, как они есть. А это милосердный и ох как редко попадающийся дар.
Его огромные голубые глаза заискрились, сделались еще больше, и я в них утонула. Тишина. А теперь что, нежная скрипичная мелодия? Я вдруг встряхнулась:
— Пожалуйста, не затыкай мне рот комплиментами.
Усмехнулся. И выражение глаз сразу же изменилось. Вот такими я их любила больше всего: насмешливыми, умными, цепкими. Такими они всегда были во время наших с ним пикировок, когда Рина в конце концов не выдерживала: «Ребята, ну хватит, ничья, победила дружба!»
Я словно услышала ее голос, мало того, почувствовала ее присутствие в кухне, детское удивление при виде всей этой встроенной мебели, раковины, зашитой в шкафчик под дерево. Похоже, я упустила нить мысли, хотя нет, вот она:
— Ты понимаешь хоть, сколько врал Рине? Понимаешь, как ее унижала эта ложь? Нет, даже не так… — Теперь я встала и заметалась по кухне (интересно, тарелки тоже бить буду?). — К униженьям ей было не привыкать, она еще дома, девочкой, натерпелась и вообще была чуточку мазохисткой. Но ложь лишала ее равновесия, ориентиров.
— Я не лгал!!! — Мы стояли теперь друг против друга, и его трясло. Как в лихорадке? Да, наверно, как в лихорадке.
— Сядь, — сказала я наконец. Доказать, что происходившим в последние полтора-два года он убил Ринку так же верно, как если б собственной рукой толкнул под тот автобус, было нетрудно. Но было бы это правдой? — Шофер тоже не был безукоризненно чист, — сказала я, чувствуя, как со всех сторон коварно подкрадывается черная и душная усталость, одеялом ложится на плечи, придавливает. — Если бы не мои показания, что Рина выбежала отсюда почти не владея собой, он вполне мог бы получить свои три года.
— Да, говорят, что на суде ты выступала очень ярко. — В голосе был не только сарказм, но и ненависть. Впрочем, ненависть не ко мне, а ко всей ситуации, ко всей этой чертовски запутанной жизни. Мне стало теплее от мысли, что я по-прежнему хорошо его понимаю. Но вот вопрос: так же ли хорошо я понимаю себя?
— Больше всего в смерти Рины виновны ее родители, — неожиданно для себя сказала я твердым голосом. — И уж если их посадить нельзя, всех прочих следует оправдать. Это гуманно и разумно. И хватит уже сидеть на кухне: пошли, я тебе покажу, как у нас оборудована детская.
— Что ж, очень интересно посмотреть. — В голосе ясно слышится издевка, и я вдруг не выдерживаю:
— Глеб, я тебя не приглашала, у нас нет общих дел. Позвонил — ты, я согласилась тебя выслушать, а теперь уходи, ради бога, тебе здесь нечего больше делать!
Словно не слыша, он тяжело опустился на стул, посидел молча, вертя в руках чашку (надо бы отобрать ее у него, это одна из наших любимых, и их ровно три), потом поднял глаза:
— Я должен тебе сказать. Для меня это важно. — Оставив чашку в покое, он теперь занялся ножом, но это было нестрашно: ножи у нас все тупые. — Так вот. — Еще одна пауза. — Когда мы в последний раз виделись с Риной, она была очень враждебна. Я пытался перебить это шуткой, пытался отмалчиваться, но все было бесполезно. Она втянула меня в изнуряющий и бессмысленный разговор, ходила по комнате, обвиняла меня, потом сама себя обрывала. Задавала вопросы в лоб, расставляла ловушки и в конце концов вынудила сказать, что да, мой брак давным-давно висит на волоске, но перерезать этот волосок я не могу.
— Что значит «не могу»? Боюсь? Не имею права?
Искривившая губы улыбка опять резанула по сердцу. «Не умею». Кажется, он сказал это беззвучно, но так ли это было, не разобрать, потому что в тот же момент квартиру заполнил веселый, настойчивый, резкий звон. Да, это уже мы, все здорово, но ты знаешь, там не было фрекен Бок, а мама у малыша старая, но как он поет, вот послушай. Все вместе мы вошли в комнату.
— О! У нас дядя Глеб! — Их радость была неподдельной. И эта радость давала мне разрешение, вливала уверенность и наполняла силой. Вот оно: в разные стороны разбегавшиеся тропинки, слились в одну, по которой (спасибо, Господи) мы могли крепким шагом идти все вместе. И все же полгода спустя, усадив Асю с Алешкой за стол и поставив вопрос на всеобщее рассмотрение, я была искренна и серьезна. Если б они сказали «нет», это действительно означало бы нет. «Так вот, согласны ли вы, чтобы дядя Глеб жил с нами?» Они помолчали, Алешка набычился (видно было, как шатуны-поршни мыслей натужно ходят вверх-вниз), но Ася уверенно заявила: «Конечно, нам всем будет веселее». Так, подумала я, отныне одна из моих обязанностей — массовик-затейник.
Последующие три года показали, что со своими обязанностями я справилась, и, судя по настроению и успехам всех членов семьи, — на «пятерку». Глеб был спокойнее, чем во времена своей двойной жизни, глаза уже не молили о помощи, исчезла казавшаяся врожденной морщинка у губ. «Девочка уж и не знаю в кого, а мальчик — весь в папу», — сказала толстуха-хозяйка, у которой мы замечательно жили в Анапе. Я с удовольствием выслушала это нелепое заявление (эх, жалко рассказать некому!), но когда четверть часа спустя калитка открылась и с криком «ну как, все готово?» мое вернувшееся с пляжа семейство уселось за стол, вдруг осознала то, что прямо било в глаза. Лишенный ореола мученика, Глеб действительно был ужасно похож на моего первого мужа — отца Алешки.
А буквально на другой день после возвращения в город, случайно оказавшись среди дня на Петроградской, я нос к носу столкнулась с Алем Девотченко. «Загорелая, но усталая. Почему?» — спросил он, с ног до головы окинув меня взглядом. От него веяло спокойствием и привычной уверенностью в себе, и, не отдавая себе отчета, я, как могла глубоко, втянула в себя этот запах. «Адрес и телефон прежние», — сказал он, прощаясь, но сил и храбрости для походов налево у меня, к сожалению, не было. От уверенности в своей правоте не осталось даже клочков, и единственное, чего мне хотелось, — это выговориться, сидя напротив Ринки, выговориться, не притворяясь ни умной, ни опытной, не играя никакой роли, постепенно, слово за словом и шаг за шагом, доискиваясь, какая же я. С каждым годом желание исповеди и покаяния становится все сильнее, а мысль, что останови я тогда Ринку и это было бы возможно, все мучительнее. «Асю я оставляю тебе, — сказала она в тот последний вечер, с трудом натягивая пальто, — и Глеба тоже». У нее уже не осталось сил жить, и помочь невозможно, сказал мне глубокомысленный внутренний голос, и, с подловатой готовностью признавая его вердикт, я даже не попыталась сопротивляться, а только фальшиво вздохнула: «Не мели околесицу. Просто выспись».
На кладбище, куда мы все вместе ездим два раза в год, я, глядя на Ринкино имя, на даты рождения и смерти, угрюмо думаю: «Твоей душе, наверное, легко. Все, кого ты любила, благополучны. Ты свой долг выполнила, а я вот справляюсь с трудом. Если можешь… пожалуйста, помоги».
Два плюс два — пять
Что такое Жизнь, в этом еще никто не разобрался. Зато ясно, что есть дорога, которая Жизненный Путь называется, а свернуть с нее лишь в пустоту можно. А в пустоту мало кому хочется, и поэтому топают все, чуть только ходить научатся, через детство, юность и дальше — к старости. Но есть тут одна тонкость. Детство, юность — это тропинка, обсаженная с двух сторон деревьями. Идти по ней не всегда весело, но направление сомнений не вызывает. А вот дальше по-разному поступать можно, потому что стоит на Жизненном Пути гора и называется она вроде Успех, хотя другие ее и иначе называют.
Кое-кто, гору завидя, берет разбег и начинает ее прямо в лоб штурмовать. Те, кто поосторожнее, прицеливаются, примериваются, снаряжение всякое готовят, и потом уже в ботинках с шипами, со всякими там ледорубами и крючьями крутой склон одолеть пытаются. А есть и такие, которым к вершине лезть — страшно. Видят: высоко заберешься — больно падать будет, а если невысоко, да все больше за кусты держаться, на открытый простор не выходить, то, может, об ветки колючие и исцарапаешься, но цел вернее останешься. Да, к слову сказать, и исцарапаешься-то с пользой. Всем видно будет: человек трудился, хлеба легкого не искал, от сложностей жизненных не увиливал. И награда тебе за все испытания и огорчения будет. Когда потихонечку, осторожненько, по кустам хоронясь, к другому склону горы выберешься, как раз увидишь, как иные смельчаки-удальцы с вершины кубарем летят. А ты стоишь, смотришь.
Но гора, она разве весь Путь перегородила? Нет, бегут еще справа и слева от нее тропинки. То ли лугом бегут, то ли болотом. Тропиночки ненадежные, узкие, а вокруг хоть и зелено, но мест топких много. Оступишься, одному Богу ведомо, что случится. Поэтому и народу всегда на тропинках негусто, не хочет сюда народ идти, хоть цветы вокруг — удивительные. На горе таких нету. «Ну да что тут поделаешь? Давно известно: нельзя объять необъятного», — говорят люди разумные и, оглянувшись в последний раз на привольный, цветами усеянный луг — да, может, и в самом деле не луг это, а болото, ведь сколько уже чудаков пропало, уйдя по тропкам, сгинуло неизвестно куда, — так вот, оглянувшись в последний раз, покашляв солидно, затянув пояс потуже, начинают люди разумные карабкаться вверх. А по тропинкам — ецы идут. Ец-мудрец и ец-глупец друг за дружкой пробираются. Кто — кто, разобрать трудно, да и так ли уж между ними разница велика? Ну а кроме того, правду сказать, и времени, чтобы приглядываться, у тех, кто по косогору вверх лезет, — мало. Им надо скорей до вершины добраться, чтоб хоть сколько-то там постоять, отдохнуть, от пота обсохнуть, потому что дальше-то уж одна старость, да еще эта, Лязгающая. Ее не задобришь тем, что, мол, на вершине был, все успел, даже значок имею «Успешист первого класса». Ее, к слову сказать, и царапинами, о трудовой, без отдыха жизни свидетельствующими, не разжалобишь. Лязгающая только тех щадит, кто к ней с цветами прийти умудряется. Любит она цветочки. Женщина все-таки, хоть и страшила. А принести цветы мало кому удается.
Чаще всего бывает так. Нарвет человек цветов, пока еще до горы не дошел, а как карабкаться вверх начнет, сунет букет за пазуху — и пошел себе. Долго ли, коротко ли, до вершины добрался, успехом понаслаждался, кряхтя с горы сполз, завидел Лязгающую, приостановился цветы свои вытащить, поправить, получше сложить. Глядь! А они уже и завяли. Не цветы — мусор, даже и не покажешь никому, засмеют. А Лязгающая и смеяться не станет: рассвирепеет, конец придумает, что страшнее и быть не может. Ну, многие, про такое услышав, перед тем, как в гору лезть, в ручейке воды набирают, цветы в баночку ставят, так с баночкой и лезут наверх. Скорость, конечно, не та получается, но зато будет с чем к концу прийти, — так думают. Однако редко правы бывают. Потому что пока вверх карабкаются, всю воду из баночки проливают и в результате с тем же мусором оказываются. А на душе как тяжело! Старались ведь, о цветочках помнили, скорость теряли, а конец — все один. И чтоб спастись от конца жалкого, позорного, смелые быстрей всех по склону бегут, до вершины, солнцем залитой, добираются, на часы смотрят. Ура! Есть время — и альпийский горный цветок эдельвейс искать начинают. И часто находят. Немало цветов эдельвейсов на вершине горы растет. И каких только судеб у них не бывает!
Вот кто-то нашел эдельвейс красоты небывалой, любуется, всем показывает: гляньте, чудо какое. Все ахают, удивляются, подержать просят. И вот уже пропал эдельвейс. Нет его. Где? Украли? Лапами завидущими раздавили? Не скажет никто. Ищет несчастный счастливец свой эдельвейс, а в спину его уже подталкивают — пора в Путь. Ничего не поделаешь, приходит он к Лязгающей с пустыми руками, и захлопываются за ним ворота навсегда. Да, не нужно было ему всем и каждому свой эдельвейс показывать, трогать давать. Не нужно… А знаете, кто-то другой тоже диво-цветок нашел, но решил умным быть. Сорвал, слова никому не сказал — припрятал. Потом сидел себе на горе спокойненько-скромненько, ни на что, мол, не претендую, хоть не позже других на вершину взобрался. Думал, всех перехитрил, а пришло время вниз спускаться, хвать — цветка в тайнике-то и нет. Что с ним случилось, до сих пор неизвестно. «Проверять тайник надо было, стеречь. Нашел цветок — береги, жизнь положи на это», — сказал кто-то, но ему возразили: много было таких, кто жизнь положил, а цветка не сберег. Зато, говорят, ец какой-то шел себе по тропинке, под ноги не глядел, днем по сторонам глазел, ночью на звезды засматривался, а в конце Пути такие цветы нашел, что Лязгающая слезами залилась от умиления. В общем, сведений разных много — век информации, — а ответа точного никто дать не может.
Поэтому перед горой всегда люди толпятся. Спорят, обсуждают, руками размахивают, как правильнее жить, вопрос решают. Мимо них смельчаки — с разбегу на гору, мимо них ецы — с глазами странно блестящими, мимо них осторожные — со всем своим снаряжением, а они все стоят, и все жарче их спор разгорается. Может, что и решат. Сомнительно только.
Мебель
Сначала она превратила меня в стул. Удобный предмет и места много не занимает. Но я не соответствовал комплекту. Как она ни билась, и форма, и цвет отличались от других стульев разительно. Кроме того, оказалось, что во мне есть много всякого разного, и это всякое разное пробивалось наружу, дырявя обивку.
Тогда, подумав, она сделала из меня шкаф. Шкаф получился большой, солидный. Он смотрелся неплохо, но был слишком велик для квартиры. Пришлось заняться обменом. Приплатив, она переехала. В нашей новой квартире была комната с нишей. Ниша оказалась как раз для меня. Через неделю я просто не понимал, как мог жить прежде где-то еще. Жена тоже казалась довольной: я не только не портил комнату, но даже ее украшал. Подруга жены была в этом уверена. «Молодец, Римуля, — сказала она, — так удачно, и все своими руками!» Они улыбались, и я тоже улыбался из ниши.
На первых порах огорчало немного, что нельзя погулять. Но потом стало понятно, что это идет на пользу работе. Я стал работать вдвое быстрее, чем раньше, и понимал, что обязан успехом своему превращению. Поняв это, я почувствовал благодарность к жене. Смешно и стыдно было мне вспоминать, как поначалу я противился ее идее, как неспособен был взглянуть на дело с нужной стороны. Но больше ошибок не будет, сказал я себе. Теперь, когда стало понятно, что она видит зорче и дальше, я приму без дискуссий любое ее предложение. Но оказалось, что все не так просто: во мне еще оставалось немало упрямства.
Как-то летом жена вернулась домой очень веселая. «Придумала, куда ставить компот, — сказала она. — На маленькой полочке, слева, у тебя одно барахло. Его можно выбросить, полочку выпилить, и трехлитровые банки прекрасно встанут на ту, что пониже». Я подумал сначала, что это шутка. «Ха-ха-ха, — сказал я, — пару ребер долой — и есть место для банок. Ты у меня юмористка». Но она не шутила. «Компот хранить негде, — сказала она. — Не согласишься, останешься без компота». Я промолчал. Я не мог сразу вспомнить, что лежало на маленькой полочке, но я твердо знал, что там есть что-то важное. Так я ей и сказал. Жена распахнула дверцу, сгребла с подлежащей уничтожению полки все, что там было, и потрясла у меня перед носом. «Ну и как? Это нужно тебе для работы? За это дадут хоть копейку?» «Нет, конечно», — ответил я тихо. «Ну, так что ты упрямишься? Раз в жизни мог бы хоть чем-то помочь! Я, кажется, на тебя сил трачу немало!» Она вышла и хлопнула дверью, я понимал, что не прав, но все еще не сдавался. И вот тут-то пришла подруга жены Ритуля. «Как ты можешь! — всплеснула она руками. — Расстроил Римулю почти до слез. А она ведь сокровище! Ценить ее нужно, ценить!» Она вынула из кармана платочек и заплакала, а я понял, что я хоть и шкаф, но скотина. Мысль была тяжела: я же всегда считал себя мягким, интеллигентным. «Ну хорошо, — сказал я, — хорошо, делайте все, что считаете нужным». И в тот же день банки с компотом разместились со всеми удобствами. Оставалось еще даже место. «Сделаю перцы, — сказала жена, — видишь, как все удачно!» И на радостях она приготовила соус тортю из грибов и орехов. Этот соус умеет готовить только она.
Мало-помалу я ко всему приспособился замечательно. Порядок на полках и в ящиках благодаря жене был всегда идеальный. Утром и вечером Римуля открывала дверцы на пятнадцать минут, и я дышал полной грудью. Ниша помещалась как раз напротив окна, так что я мог видеть деревья и даже птиц. Это было удачно, потому что я очень люблю природу. Читать я мог теперь и в темноте, писал на машинке, которая стояла на моей же полке, справочники и словари располагались одним уровнем ниже. Я был очень компактно, удобно устроен. Время шло. Деревья за окном то сбрасывали свою листву, то снова одевались ею. Раз пять земля покрывалась снегом и раз пять очищалась от снега. Вышла в свет моя книга. Я был ею доволен. Это была не какая-то скороспелка. В результате долгих усилий появилась солидная и надежная монография. «В книгу вложено столько труда, что, можно подумать, автор, работая, ни на минуту не покидал своей комнаты, не отвлекался решительно ни на что, — написал рецензент о книге. — Исследование, безусловно, надежно, оно будет служить солидным подспорьем для всех, кто возьмется за тему в будущем. Жаль, конечно, что работе не хватает воздуха, доказательствам — яркости, а стилю присуща определенная деревянность». Так было сказано в черновом варианте рецензии. В окончательную редакцию не попали ни воздух, ни дерево, но мне донесли, я очень расстроился. «Либо — либо, — говорил я, — или ты сидишь и работаешь, или порхаешь и потчуешь всех хороводом идеек, которые носятся в голове на просторе. То и другое одновременно — немыслимо. Это, в конце концов, даже ребенку понятно». «Немедленно успокойся, — сказала жена, — смотри, бок покоробился. А говорить тут решительно не о чем. Как можешь, так и пишешь. Главное, что стоишь на месте и вместительность неплохая».
Так все и шло, пока не приехал Федя. Федя — это мой друг. Мы с ним в школе учились, а теперь он в торгпредстве работает, в Гондурасе. Когда приезжает в отпуск, то чаще всего отправляется в Сочи, хотя, в общем, лет восемь мы не встречались, а тут он вдруг позвонил. «Приезжайте, — сказала жена, — мы будем очень рады. Представляю, сколько вы нам расскажете!» И сразу же позвонила подруге: «Ритуля! У нас гость иностранный. Увидишь, увидишь, в общем, жду, пошла ставить пирог».
Когда Федор пришел, Римуля с Ритулей встретили его радостным визгом и провели ко мне в комнату. «Ну, как он на ваш взгляд? Выглядит он неплохо, не правда ли? Вид в прямом смысле слова блестящий», — сказала Римуля. Федька посмотрел на нее обалдело. «Не узнает, — закричали дамы с восторженным смехом, — а еще старый друг! И что только делает время? Ну, мы не будем мешать. Наше место — на кухне. Оставляем вас на полчасика». Когда они вышли, я подал голос. «Федька, — сказал я, — все мы меняемся с возрастом. Не понимаю, чего уж ты так удивился». Я распахнул обе створки и помахал ему поясами и галстуками. Он побледнел. «Как это случилось?» — «О чем ты? Что я изменился? Я ж говорю: двадцатилетним не остается никто. Один седеет, другой лысеет, ну а я, что ж, немножко одеревенел. Зато без морщин», — попробовал я пошутить. «Юра, с этим надо бороться», — сказал гондурасец. «С тем, что морщин нет? Ты с ума сошел, что ли?» «Дай мне воды», — попросил Федя хрипло. Я нацедил ему газировки с апельсиновым соком. Он выпил жадно, потом вытер пот со лба. Работа тяжелая, догадался я, климат тропический. Сказывается, никуда от этого не уйдешь. «Психиатра вызвать необходимо», — сказал неожиданно Федор. «Неужели так плохо?» — спросил я, соображая, чем можно помочь, и откинул крышку аптечки: «Посмотри, что там есть. Мы на случай храним кое-что, хотя сами — тьфу, тьфу — на здоровье не жалуемся». Но он не хотел лекарств. «Ты же шкаф!» — выкрикнул он возбужденно. Это было бестактно, можно было бы и обидеться, но я был ему рад и я помнил про его нелегкую жизнь. Отец погиб при аварии, мать с трудом поднимала парня, в институте он занимался ночами, окончив, сразу женился на девице с трехлетним ребенком, а она с ходу родила ему двойню, так что надо было простить, сделать вид, что не слышал. «Как ребята?» — спросил я его. «Ничего, — сказал он, — старший женится. Юрка, ты представляешь себе, как ты выглядишь?» Это снова было бестактно. «Я никогда не был красавцем, — ответил я раздраженно, — но комплексов по этому поводу у меня нет. Не все Аполлоны. Ты, кстати, тоже не Аполлон. И, прости меня, если ты заметил у кого-то на носу бородавку, не станешь же ты о ней говорить, подыщешь, я думаю, другую тему для разговора». Он посмотрел на меня, что-то соображая. «Тебя надо спасти, — прошипел он потом, как заговорщик, — я спасу тебя, Юрка!» Пожалуй, он начинал утомлять. «Успокойся, — сказал я, — все в порядке, я всем доволен». «Но ведь так жить невозможно! — вскричал он, как на митинге. — Это немыслимо, это чудовищно!» «А вот об этом предоставь судить мне, — сказал я, с трудом сохраняя спокойствие. — Никто не навязывает тебе мой образ жизни. Живи как хочешь и предоставь то же мне!» Он вдруг схватился за грудь, и я понял, что это серьезно. «Есть нитросорбит», — закричал я, но он не слышал, он опустился на стул и смотрел в пространство как-то стеклянно. «Римма!» — крикнул я громко. Вбежала Римуля. «Что такое?» — спросила она, накручивая ноль три. «Тропики, нервы, — объяснил я, — а возраст за сорок». Римма кивнула, повторила все это дежурному.
Врач был опытный, он быстро привел Федю в чувство. Ритуля распахнула окно, повеяло летней ночной прохладой. Запах цветов донесся откуда-то. «Что же все-таки с вами случилось?» — спросил врач больного, следя за зрачками. «Мой друг сделался шкафом», — ответил Федя, беспокойно глядя на доктора. «И только? — Тот улыбнулся, мягко и ласково, и тихим аккомпанементом вопросу зазвучал мелодично смех дам. — Сделался шкафом. Ну и что? Ведь не сволочью, вором, предателем? Шкафом. Это солидно и прочно. Я сам бы не прочь стать шкафом — не получается. Бегаю вот день-деньской, такая работа». «Но сейчас не бегите, — сказала Римуля, — выпейте чаю, я торт испекла со свежими вишнями», — и она ввезла стол на колесиках. «Вы, я вижу, большая искусница, — сказал доктор, осмотрев все стоявшее на столе. — Хвалю, хвалю женщин, умеющих создать нечто из ничего». «Все своими руками», — сказала Ритуля молитвенно. «А какой она соус готовит!» — присоединился я к разговору. «Волшебно, — сказал с чувством доктор, пробуя торт. — А вы что же, больной? Подкрепитесь!» «Не хочется», — просипел, отводя глаза, Федя. «Как хотите. Ну а хозяин, я думаю, не откажется. Как он ест?» — обратился врач к Римме. «С аппетитом, — ответила Римма, довольная, — он сладкоежка и вообще любит все вкусное». И отрезав кусок побольше, она поставила его мне на полочку. Я сразу захлопнул дверцу: торт был просто божественным. «Ну лады, — сказал доктор, вставая, — долг зовет, большое спасибо и до свиданья». Он собрал чемоданчик и двинулся к двери. «Доктор, — вдруг крикнул Федя отчаянно, — доктор, я в больницу хочу, возьмите меня с собой!» «В психоневрологическое, — кивнул доктор, — на пару неделек. Витамины, массаж, транквилизаторы. Что ж, это не повредит, поедемте, дорогой». Они вышли. Ритуля вздохнула: «Так неожиданно! Я, наверное, тоже пойду» — и, чмокнув жену, помахала мне ручкой и вышла.
«Да, все мы под Богом ходим, — сказала жена, закрыв за ней дверь и вернувшись ко мне. — Крепким казался. Да и комиссии ведь проходил. В Гондурас не пошлют просто так. И вот нате! А я так надеялась услышать что-нибудь необычное, интересное. От тебя разве услышишь? Сидишь сиднем, вдали от всех новостей». Мне стало жалко Римулю. Она так готовилась, испекла такой торт! Федька все-таки плохо воспитан, и знание диппротокола его не спасает. «Хорошо хоть доктор попался приятный», — сказал я Римуле, чтобы хоть как-то утешить. Она посмотрела задумчиво. «А ведь здесь хорошо разместится диван, — сказала она, показав на меня. — Я об этом подумала, когда мы за столом сидели. Диван полукруглый. Да, именно полукруглый. Придется тебя, конечно, немножко согнуть, но ты ведь потерпишь?» Я молчал. «Все-таки ты консерватор, — сказала жена, — ну вспомни, пожалуйста, сколько раз я бывала права, и без глупостей соглашайся. Диван в нише! Будет очень уютно. А на стенку я повешу кашпо».
Час между волком и собакой
Замужество Веты Рогожиной было, с какой стороны ни глянь, неудачным, но это редко кому приходило на ум, уж очень она всегда казалась веселой. Муж обычно отсутствовал, пребывая в каких-то экспедициях, но она не скучала — дом просто ломился от гостей. И стол ломился, и с выпивкой было в порядке, но пьянеть как-то никто не пьянел: уж очень было светло, душевно и сытно. Как это получалось, при том что люди сходились разные, а нередко и незнакомые, определить было так же трудно, как и то, на чьи, собственно, деньги они все так мирно пьют тут под хороший кофе отличный армянский коньяк, закусывая ветчиной и салатами. Когда Костя Лукин спросил Вету об этом впрямую, она просияла, словно услышала комплимент, а потом, радостно смеясь, ответила: «Профессия мужа спасает. Он ведь обогатитель». Она любила смеяться своим немудреным шуткам и этим тоже всегда раздражала Костю, как раздражала и яркой одеждой, и вечно свежим и бодрым видом: можно подумать, только что вышла из ванны, а вчера прилетела с курорта (хотя вставала она каждый день в полседьмого, так как работала химиком в лаборатории на заводе). «Я трудовая лошадка, пашу от зари до зари», — кокетливо заявляла она, свернувшись калачиком в кресле и держа в белых пальцах длинную тонкую сигарету. «Где только ты их берешь?» — спросила Аня Ступальская, выуживая себе такую же из предложенной Ветой пачки. «Сама не знаю, — ответила Вета, — но ты же знаешь: других я не курю». «Она что, в самом деле работает на заводе?» — спросил Лукин Федю Кривых, который привел его к Вете. «Кажется, да, — ответил тот без особого интереса, — главное, бастурму она делает неподражаемо».
Люди, которые собирались у Веты, нравились Лукину. Ради ее гостей можно перетерпеть и хозяйку, подумал он как-то, но главным образом ходил к Вете потому, что здесь пили, не напиваясь, а с тех пор как треснуло то, что почти восемь лет надежно и, думалось, навсегда охраняло покой и благополучие (его жизнь с Наташей), Лукин разве что за бутылкой находил некое подобие уверенности и, будучи человеком воздержанным, со все большей тревогой констатировал эту слабость. Он не мог оставаться один, ему нужны были собутыльники, но он боялся подпасть под власть алкоголя и поэтому снова и снова приходил к Вете, подпадая (как сам отмечал со страхом) под власть раздражавшей чуть ли не каждым словом и шагом женщины. Пытаясь отстоять независимость, он временами начинал брыкаться, хамил и вел себя с грубой, совершенно несвойственной ему развязностью, но даже и это она принимала звонко и весело, усугубляя, естественно, его злость и заставляя чуть ли не топать ногами от угнетающего сознания, что не ходить к ней он уже не мог.
Трещина, разделявшая их с Наташей, делалась день ото дня все шире. И восемь лет брака (счастливого брака!) относило куда-то дальше и дальше прочь. Наташа была еще рядом, и даже роман ее с Аристарховым, кажется, кончился, но она все равно жила своей обособленной жизнью, словно на ключ заперлась, и только терпела еще покамест, что он тут, рядом, как пес, скребется под дверью. Детей нет, думал Лукин иногда, брак пустоцвет. Детей он и до сих пор не хотел, но готов был стерпеть хоть десяток, если бы это могло вернуть то блаженное, теплое, как одеяло, ощущение устойчивости.
Уже в ноябре, месяца через два после знакомства с Ветой, Лукин как-то вернулся домой и увидел записку: «Уехала в командировку. Вернусь в пятницу». Хуже всего, подумал он, что это и в самом деле командировка.
Аристархов тут ни при чем. С Аристарховым кончено. И нового никого нет, но это неважно, а важно, что эта, скажем, командировка — никакой не снег на голову. Наташа знала о ней, может быть, и неделю назад, но молчала, так как любая новость — повод для разговора, а разговоров она давно не хотела. Ни-ка-ких. Лукин понял, что жалость к себе вот-вот захлестнет его и затопит. (За что меня так? Почему?) Он кинулся к телефону и набрал Ветин номер. «Мне нужно приехать. Спровадьте всех, кто сидит у вас». — «Это трудно». — «А вы попробуйте. Буду минут через сорок».
Открыв дверь, Вета с шутливой досадой развела руками и скорчила рожицу. «Не спровадили?» — строго спросил Лукин и, сняв плащ, привычно шагнул в сторону комнаты с мягким диваном и мягкими («ни у кого нет таких удобных!») креслами, но тут же столкнулся с высоким мужчиной в тапочках на босу ногу (бросились почему-то в глаза крупные красные пятки) и вытянутых на коленях тренировочных брюках. «Знакомьтесь, мой муж», — веселым голосом сказала Вета. «Черт! — внутренне произнес Лукин и понял, что к этому ничего не добавить. — Черт! Черт его побери!» «Леша матч смотрит. Наши играют с чехами. Идемте в кухню», — жизнерадостно сообщила Вета, и, едва веря своему счастью, он чуть не вприпрыжку пошел за ней, а красные пятки скрылись, плотно закрыв за собой широкую застекленную дверь.
В кухне, найдя на столе следы роскошного ужина, Лукин моментально принялся за еду и тут же кивнул головой на бутылку: «Можете наливать». «В самом деле? — Давясь от смеха, Вета налила ему полную рюмку. — Пейте, пожалуйста, на здоровье. Что там у вас стряслось?» — «У меня все нормально. С чего вы взяли?» — «На лбу прочитала. Да и стиль поведения подтверждает». Он усмехнулся, залпом выпил, налил еще, выпил, снова налил. «А вы, хозяйка, мне сегодня нравитесь». — «И раньше нравилась, только вы этого не замечали». Он отрицательно покачал головой: «Ничуть. А сегодня и впрямь пронимает. Соседство супруга, наверное, действует. Обычно вы производите впечатление одинокой. А одинокие женщины раздражают. Того и гляди, в глотку вцепятся. Чаще всего без всякой цели, просто так». По-прежнему улыбаясь, она плавно переходила от стола к окну, оттуда к плите. «И когда муж отчалит?» — спросил он и, чуть подумав, налил уже не в рюмку, а в стакан. «Не скоро», — сказала она. «Ну что же, отлично, мороки меньше. Эту бутылку стоит допить. Вы мне компанию не составите?» — «Один вы быстрее справитесь. А уже поздно. Вам пора идти». Она повернулась к нему спиной и принялась мыть посуду, а он упрямо допивал, хотя, в общем, и не хотелось. «Невежливо, разумеется, — с некоторым усилием шевелил он языком. — Пришел, вылакал в одиночку. Ну ничего, у твоего Рогожина есть еще, думаю, бутылек, внакладе он не останется». «Бутылек есть — Рогожина нет», — отозвалась Вета от раковины. «Как нет — уже ушел?» — растянул рот до ушей Лукин. «Фамилия моего мужа Шалин», — ответила Вета. «Шалин? — расхохотался Лукин. — Шалин? Да, шаль — не рогожа. Шалин!.. Ха-ха». Она не отреагировала; методично, спокойно мыла посуду. «А я ведь веду себя неприлично», — глядя ей в спину, сказал Лукин. Вета, не оборачиваясь, кивнула. «Беру все обратно», — Лукин быстро встал, вышел в переднюю и, натянув плащ, взялся за ручку двери. Нажал, но замок не хотел поддаваться. «Налево и от себя», — сказал голос Веты. Лукин нажал еще раз и вышел на лестницу.
Все следующие дни он провел за работой. Давно уже ему не было так хорошо. «В чем дело-то? — думал он. — В том, что Наташи нет в городе и, значит, никаких новых тревожных симптомов, новостей, знаков? Вета при муже, значит, и тут никаких раздумий и искушений». Счастье длилось до четверга, но в четверг он проснулся уже в тревоге. Надраил до блеска квартиру. Вечером, по дороге из института, купил на рынке цветы. Поезд приходил утром, но Наташа прямо с вокзала отправилась на работу. Находит любой предлог, чтобы только подольше не возвращаться, подумал Лукин, но, странно, эта мысль даже не оцарапала. Угадывая причины ее поступков, он теперь был почти спокоен. Грызло, мешало жить только необъяснимое. Сейчас все было понятно, и, когда ключ заскрежетал в замке, он даже не вышел навстречу, предоставляя ей всю полноту инициативы. Маневр оказался правильным. Не прошло и пяти минут, как Наташа открыла дверь: «Привет! Ты, я вижу, стал замечательной домохозяйкой. По-моему, даже пол мыл». «Удачно съездила?» — спросил он, не вставая, но развернувшись всем корпусом и рассматривая ее блестящее от дождя лицо, новую (кажется) губную помаду, новый (наверняка) белый свитер. «Да, — сказала она. — Удачно. Как ты?» Она села неподалеку. Стоило только протянуть руку — но он понимал, что этого делать не следует. Ползать перед ней на коленях тоже было нельзя. «Все в порядке, — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал небрежно. — Закончил главу о реформах. Отжал все лишнее, и получилось даже неплохо». Говоря это, он уже понимал, что пытается незаметно похвастаться, укорить ее (зря ты не замечаешь моих достоинств), доказать что-то и, в общем, снова выйти на тропу войны, в которой, как уже было понятно, его поражение неминуемо. Опять наступаю на те же грабли, подумал он удрученно, но Наташа вроде бы ничего не заметила. «Десятый „Новый мир“ пришел?» — спросила она, поднимаясь. «Да, и я уже прочитал», — радостно протянул он журнал.
Затишье и что-то мягкое, похожее на слабый луч вдруг выглянувшего вечернего солнца, длилось и длилось. Присмиревший и затаившийся Лукин старался как можно реже выходить из дому: не спугнуть как-нибудь, не проворонить то, что опять вошло в его жизнь: утреннюю Наташу в пестром халатике, ее возвращение с работы, улыбчивое «спасибо», когда он брал у нее пакеты и сумки, шел в кухню и выгружал принесенное, говоря: «Здесь же на целую роту! Зачем ты волокла эту тяжесть?», а она отвечала: «Что делать? ты ведь тощая прорва, мигом сметешь все без остатка». Ужинали они на кухне под плетеным соломенным абажуром, и говорил только Лукин, но она слушала — и это уже было праздником, ведь перед тем почти год немыслимо было сказать хоть что-то, кроме «опять идет дождь» или «дай мне, пожалуйста, соль». Теперь же Лукин опять взахлеб говорил о своей работе, о том, что Сазонов бездарь, в спецхране новые строгости, машинистка лепит ошибки, и глаза устают править текст. «Если хочешь, я помогу. Что тебе нужно — перепечатать кусок? сделать сверку?» «Наталья! — Он через стол протянул руку, коснулся ее щеки и не почувствовал, как она напряглась. — Наташка, все это кончилось? Все хорошо? Все как было?» «Я сейчас справлюсь с посудой, — сказала она, вставая, — и ты мне скажешь, что нужно делать». «Да-да, — заспешил он, — да-да, я пойду приготовлю». В дверях он обернулся. Она стояла над раковиной. Синие лямки фартука образовывали букву «ха», руки делали плавные круговые движения, создавая нелепое сходство с моющей у себя в кухне посуду Ветой.
Во второй раз перебирая бумаги (испорченный машинисткой кусок почему-то бесследно пропал), Лукин вспомнил, как Вета, покачивая ногой, говорила: «Зимой я просто медведь. У меня спячка, и я сижу в берлоге. В первый раз выбираюсь на волю в апреле. И сразу же лечу в Крым — смотреть на цветущий миндаль». «А как же работа?» — спросил кто-то новенький, плохо знавший еще ее стиль и повадки. «Отгулы, — посмотрев на него с удивлением, спокойно сказала Вета. — Я, как и многие, регулярно бываю на овощной базе». Лукин ухмыльнулся, вспомнив, с каким лицом она это проговорила. Потом снова поморщился: что за чушь лезет в голову!
На другой день, когда Наташа позвонила и сказала, что придет поздно: надо съездить к маме, — Лукин вдруг почувствовал удовольствие, причина которого сколько-то времени оставалась неясной, а когда прояснилась, немедленно перешла в раздражение. «Этого только еще не хватало», — пробормотал он, но все-таки, покрутившись по комнате, не выдержал и пошел к телефону. Ирония в сочетании с самоиронией — да, ничего другого не оставалось, и, как только Вета откликнулась, он сразу же попытался включить их на полную мощность. «Здравствуйте, несравненная. Что у вас слышно? Чем занят обогатитель?» — «Здравствуйте, милый Костя! Я зимую. Обогатитель у телевизора». В голосе слышалась искренняя грустинка и нежность, у Лукина даже екнуло где-то в районе печенки, но тут же и вспомнилось, как однажды они, подложив под спину подушки, сидели вдвоем у нее на ковре, — гости только что разошлись, отзвук смеха еще висел в воздухе и тем сильнее подчеркивал тишину и спокойствие этой принадлежавшей только двоим минуты, как вдруг «дззз…» — зазвонил телефон, и она сразу же взяла трубку, заговорила вот с этими (или очень похожими) нотками, а звонил-то всего лишь старик Шафранов, выживший из ума маразматик, умевший картинно рассказывать, но повторявший одну и ту же историю иногда по три раза в вечер. Ласковость, ровно разлитая по поверхности моря, съязвил себе в утешение, но ничуть не утешился Лукин. «Хотите приехать?» — голос Веты притягивал, словно какой-то бархатный магнит. «Нет, — злобно отрезал он. — Не люблю телевизора за дверью. Приеду, когда исчезнет геолог». «Он инженер, — ответила Вета, — и ждать придется еще целый месяц». Они повесили трубки одновременно, и непонятно, с чего лукинское настроение вдруг взмыло вверх. Как на качелях. Он потянулся было опять к телефону но передумал: пружинисто, быстро прошел к столу, на котором внушительно и аккуратно были разложены стопки машинописи «Все-таки Эля прекрасно печатает», — подумал он, скользя взглядом по строчкам, потом вдруг нахмурился: этот абзац не пойдет. В третьей главе та же мысль развивается очень подробно и по-другому. Лукин сел к столу. Гм, здесь нужно построить мостик. Но вот какой, собственно, и из чего? Взявшись вносить исправления в беловой текст, он вскоре запутался. Мысль петляла, хуже того буксовала на месте. «Все это ахинея», — вдруг раздраженно прошипел он и, отшвырнув ручку, вышел из комнаты. Пора было хоть как-то поесть. Открыв холодильник, Лукин тупо уставился на его содержимое. Мясо в каком-то желе. А это? Гадость какая-то. Кажется, свекла. Захлопнув дверцу, он покосился на телефон и, дернув брезгливо ртом, позвонил Асе Куракиной, жившей рядом, в соседнем доме. «Анастасия? — произнес он и сам удивился, как надсадно-простуженно звучал голос. — Я сегодня брошеный муж. Ты меня не накормишь?» «Приходи, — сказала она, немного подумав, — будет хотя бы предлог не работать». — «В девять вечера можно и без предлогов». — «Трудно. Я только что села». — «Ну, значит, не судьба», — беззаботно крикнул Лукин и, повесив трубку, уже бежал к двери: тепло, еда, заботливый женский взгляд…
«Слушай, — сказал он, жадно набрасываясь на селедку под шубой („Аська, откуда у тебя всегда столько вкусностей?“), — ты вот что мне расскажи: как получилось, что Вета вышла за этого обормота? Ведь на него смотреть тошно. Ты видела его пятки?» — «Прекрасная тема для разговора за ужином!» Ася словно примеривалась, куда спрыгнуть: в махровое раздражение или во все понимающий компанейский смех. «И ведь довольна!» Лукин удобно сидел в «своем» углу кухни. Как часто он сиживал здесь в те месяцы, когда у Наташи шел бурный роман с Аристарховым. «А может, романа и не было?» — подумал он, беря из рук Аси тарелку с чем-то горячим и исключительно аппетитным на вид. Курица? Осторожно положив кусок в рот, он тут же застонал от наслаждения: «Богиня, что это?» — «Телятина». — «Невероятно! С чем она?» — «Не скажу». Ася хотела ответить шутливо, но получилось грубо и зло. Повисла пауза. Лукин попытался что-то сказать и вдруг решительно отложил вилку: «Я подонок? Честно скажи: я подонок?» О господи, только сцен не хватало. Ася тряхнула головой: «Таких, как ты, восемнадцать на дюжину. Ешь на здоровье — все в полном порядке». Но он смотрел также отчаянно. Губы подергивались, и даже подбородок задрожал. Ну не сердечный же это приступ, пронеслось в голове у Аси, нет, скорее всего, так, пустое. «Костя, — заговорила она убежденно. — Я в самом деле считаю, что у тебя все в порядке. Тридцать четыре года, а на подходе уже вторая монография. Лет через десять С. Н. перейдет в консультанты, а ты будешь заведовать сектором. Я на днях говорила с Михайловым, и он тоже считает, что лучшей кандидатуры, чем ты, не найти. Тактичен, способен на стратегически правильное решение — не то что Охлопьев, который до сорока все еще ходит в многообещающих… Вот так-то. Доедай, пока не остыло, а кофе будем пить в комнате».
В комнату, к низенькому столу у дивана, она прихватила поднос с «Вана Таллином», кофейником, чашками и большой плиткой шоколада. «Пористый», — посмотрев на этикетку, с удовольствием констатировал Лукин. «У меня блат в кондитерской, — кивнула Ася. — А возвращаясь к вопросу, почему Вета вышла за Шалина, могу рассказать тебе, что она года три жила с „молодым писателем“, как говорили, редкостно талантливым. Сахар не класть? Писатель пил и бил ее. А еще приводил женщин (хорошо хоть не мужчин) и не всегда успевал их спровадить к ее возвращению, но Вета терпела, так как считала это нормальным поведением гения. Я была так же умна и не только вполне разделяла ее убеждения, но и чудовищно ей завидовала и даже лелеяла планы соблазнить нового Достоевского и стать его Анной Григорьевной. Тогда-то и выучилась готовить — иначе как конкурировать с Веткиной бастурмой?» — «И что же дальше?» Ася рассмеялась: «Ты похож на дошкольника, с интересом слушающего сказку». — «Мне действительно интересно. Что было дальше?» — «Дальше он наконец подправил какую-то свою повесть так, что ее напечатали в „Юности“, а Вета ушла от него, и после всех этих тонких деликатесов ей захотелось простого ржаного хлеба, пусть даже с красными пятками. Кофе еще налить?» «Налей, — он рассмеялся. — Да, банальная получилась история. А не банально только одно: ее завод, работа с восьми утра и при этом вид дамочки, никогда не ударившей палец о палец». «Не только, — весело возразила Ася. — Не банально, что она в самом деле всем рада: престижным и непрестижным, занудам и острословам. И рада не как-нибудь, а всерьез». «Ого! — Лукин словно впервые увидел Асю. — А что не банально во мне?» — вдруг настойчиво спросил он и сразу же пожалел о вопросе, увидев, как она заморгала и принялась без нужды двигать чашки. «Ну?» — повторил он, поняв, что не отстанет, вынет ответ, каким бы он ни был. «Как это, что не банально в тебе? — переспросила она, чтобы выиграть время. — Тут все ясно: ты — настоящий ученый». В красном свитере, клетчатой юбке, с длинной, на очки лезущей челкой, она была точь-в-точь студентка, которая сыпется на экзамене, но все еще пытается как-то умилостивить профессора, и, выйдя от нее, Лукин почувствовал всю нелепость этого разговора, а дома, поймав свое отражение в зеркале, долго, внимательно и беспощадно рассматривал. Да, на провалившегося студента он похож не был, но до боли и стона походил на успешного кандидата наук, удачно и ловко сделавшего из диссертации — не придерешься — гладкую монографию, а теперь плодотворно работающего над второй. «Банален до одури, — сказал он, — даже и красных пяток нет. — И вдруг треснул изо всех сил по зеркалу: — Все! Хватит! Ничего! Не хочу! Больше! Видеть!»
Что было потом? Ничего. В тот вечер он выпил снотворного и уснул раньше, чем возвратилась Наташа. Потом в институте была Годовая сессия, с которой Лукин в последний момент снял доклад. Гордился, словно совершил поступок, и совершенно напрасно: никто не заметил, даже Ася. Отчаянно кокетничая с приехавшим из Томска медиевистом Корецким, она смотрела на всех словно маслом подернутыми хмельными глазами. Может быть, что-то и получится, снисходительно думал Лукин: ей муж, ему московская прописка. Он искренне хотел, чтобы хоть у кого-то было — как это говорится? — по-человечески. Вот-вот, чтобы хоть у кого-нибудь — по-человечески. Я становлюсь альтруистом, сказал он себе однажды, скоро я буду помогать старушкам переходить через улицу. Какой-то новый взгляд как бы со стороны поддерживал и помогал почти целый месяц. Потом опять стало невмоготу, и, перебрав в уме все варианты, он разыскал успевший уже затеряться номер и, странным образом ни минуты не сомневаясь в успехе, позвонил Вете: «Ну как? Вы опять холостячка?» «Да! — выдохнула она. — Уже целые сутки».
Она оказалась красивее, чем он помнил. И тоньше. Куда исчез этот налет вульгарности? Или он сам его придумал? Лукин почувствовал неловкость. Странное чувство: как будто ошибся дверью. «Бастурмой вас сегодня не угостить, но коньяк хороший — „Камю“». — «Не надо мне никакого, „Камю“». Она удивленно подняла брови. «Знаете, как-то не слишком приятно угощаться за счет отсутствующего супруга!» (Я опять, кажется, хамлю, с чего бы это?) Вета спокойно улыбнулась: «Коньяк за мой счет. Гена кладет на книжку практически все, что привозит, мне выдает на хозяйство сто тридцать пять рублей в месяц». «Вы удивительная женщина», — пробормотал Лукин не то вслух, не то про себя. «Так я наливаю?» — спросила Вета. «Не нужно, иди сюда», — хотел сказать он, но почему-то эти слова застряли где-то внутри, а рука бодро потянулась к рюмке: «С тех пор как мы не виделись, ужасно пересохло горло!» Вета радостно рассмеялась: «Сейчас мы это поправим». Вот оно, прежнее! Лукин облегченно вздохнул, расстегнул ворот рубашки: «Ну что ж, королева вы наша, поговорим наконец по душам?»
«Знаете, что в вас лучше всего? — спросил он часа три спустя, когда все было выпито-съедено, а воздух, казалось, насыщен каким-то глубоким покоем. — То, что вы не даете раздеваться догола, говорить то, что потом хотелось бы взять да вычеркнуть. Что это — интуиция или однажды принятое решение?» Ласково улыбнувшись, она промолчала. «Вета, возьмите меня к себе в дети», — вдруг попросил он, с ужасом чувствуя, что слова поднялись откуда-то с самого донышка души. «Поздно уже, вам пора», — тихо откликнулась она, и, подчиняясь магии этого голоса, он послушно встал, вышел в переднюю, оделся. «Налево и от себя», — напомнил голос Веты. От себя, повторил он, уже двигаясь к дому. Зачем я ухожу от себя? Зачем мы все уходим от себя? Почему не пытаемся найти путь к себе? Боимся оказаться в очень непривлекательной местности?
Транспорт уже не ходил. Тишина стояла какая-то нереальная. Космическая, торжественно подумал Лукин, хотел усмехнуться, но вдруг передумал. Зачем, в самом деле, хихикать? Все правильно. У нас нет почвы под ногами, вот мы и двигаемся в открытом космосе. Но пугаться не нужно, потому что у нас за спиной — он даже руками взмахнул, показывая, — большой па-ра-шют! И вообще ночь, снежинки, как мотыльки, музыка сфер, разлитое по всему телу тепло коньяка. Завтра, правда, опять будет утро и опять будет тупик, но когда еще это будет. Добравшись наконец до квартиры, он с изумлением увидел свет и Наташу, сидевшую у себя на тахте, скрестив по-турецки ноги. «Что ты тут делаешь, полунощница?» — спросил он, удивляясь по-прежнему не покидавшему его чувству легкости. «Шапку», — сказала она и, улыбаясь, показала куски пушистого светлого меха. Улыбка была точь-в-точь как у Веты. Она уйдет, и теперь уже скоро, подумалось Лукину, но легкость не исчезала, перерастала в готовность к началу, к чистой странице жизни, к прыжку. Я смогу прыгнуть, подумал он, правда, что делать, если мой парашют почему-нибудь не раскроется? Хм. Он размашисто пересек комнату и, подойдя к Наташе, небрежно и как бы даже покровительственно погладил по голове. «Наталья, ты оптимистка?» «Угу», — кивнула она.
Сила характера
Пригласили в гости, а дальше прихожей, можно сказать, не пустили.
Я, правда, не сразу понял, что это прихожая. Мягкая мебель, картины. Хозяйки очень любезны. Наперебой предлагают: «Чай? Кофе? Или, может, бокальчик вина?» Когда прощались: «Мы были так рады… Надеемся, вскоре… Осторожно: здесь гвоздь торчит…» Приятные дамы. Я вышел, насвистывая. На другой день звонок: «Мы все еще вспоминаем…»
Через неделю (нет! через полторы) я снова там очутился. И снова улыбки, чай, кофе. Скучновато. Зато отдыхаешь. И лестно: так уж они вокруг тебя вьются, обхаживают. А ведь младшая — пианистка, доцент по классу рояля. «Надо бы пригласить вас на выступление моих учениц». Это она сказала в марте. (Или в апреле?) Неважно. Важно, что я обрадовался. При моей, так сказать, застенчивой любви к музыке вдруг оказаться знакомым с консерваторками — это, друзья мои, оль-ля-ля, если не ог-го-го!
Когда я впервые шел к сестрам, я даже и не подозревал, куда направляюсь. Ведь знаком я был только со старшей, Екатериной Аполлинарьевной. Она на пенсии, но продолжает преподавать. Ведет английский на государственных курсах. К моменту, когда она меня пригласила домой, я занимался у нее уже третий год. А вообще-то я инженер с пятнадцатилетним стажем. Библиофил; хорошо разбираюсь в живописи. А вот со слухом у меня неважно, и, вероятно, как раз поэтому я особенно трепетно люблю музыку. Стать вхожим в дом к женщине, способной сыграть все четырнадцать вальсов Шопена, было для меня тем событием, от которого на глазах выступают слезы и грудь — теснит. Конечно, вначале я пожалел, что Матильда Аполлинарьевна не выступает в концертных залах. Но, с другой стороны, она очень полная, краснолицая. Освоившись, я перестал относиться к ней как к богине муз и радовался, что речь идет не о ее выступлении, а только о концерте учениц. Не исключено, что самая хорошенькая окажется и самой талантливой. Я запомню летающие по клавиатуре руки, голубое платье с воланом. А лет через тридцать, сидя почетным гостем на ее сольном вечере, шепну с грустной улыбкой соседу (тоже почетному гостю): «А ведь я помню ее девятнадцатилетней. Уже тогда было ясно, какое ей предстоит будущее!..»
Прошло два месяца. Я бывал у сестер все чаще. Стоило мне исчезнуть хотя бы на несколько дней, как у них начинался чистый переполох. «Вадим! Ну где же вы? Тилли (это Матильда Аполлинарьевна) купила замечательного кролика. Тушеный кролик под луковым соусом — объедение. Вы непременно должны прийти». — «Спасибо, Екатерина Аполлинарьевна, с удовольствием». И я шел, хотя я скорее вегетерианец, а в этот день собирался присутствовать на заседании Общества библиофилов. Шел, ел, хвалил, просил добавки, прикидывал про себя, когда будет прилично уйти, но едва говорил что-то о позднем часе, как они просто стонали: «Вадим! Ведь еще десяти нет. Ведь у вас дети дома не плачут». Поругивая их про себя, я все же не мог не признаться, что быть для кого-то, так сказать, лучом света во мраке будней — это, пожалуй, приятное ощущение. Постепенно я привыкал к нему, оно нежило, словно грелка или любимая кошка Екатерины Аполлинарьевны, нет-нет да и забиравшаяся ко мне на колени. «Мисси у нас нелюдимка и обычно гостей не жалует, но вот к вам у нее отношение особое. Чувствует, вероятно, как мы вас любим», — в два голоса пели сестры, и я ощущал себя падишахом.
Однажды теплым весенним днем, сидя удобно, нога на ногу, в кресле и неспешно прожевывая куски восхитительнейшего бисквита, испеченного, разумеется, не без оглядки на мой визит, я почувствовал глубокую, в каком-то смысле даже физиологическую потребность сказать моим милым хозяйкам что-то особенно приятное и капризным тоном внимательного, хоть и слегка уставшего от бесконечной заботы любимца спросил: «Да! А когда же великий день? Наверное, уже скоро?» «О чем это вы?» — заботливо переспросила моя добрейшая англичанка. «О заключительном этапе пятилетнего марафона учениц нашей дорогой Матильды Аполлинарьевны», — шутливо кланяясь в сторону младшей сестрицы, игриво пояснил я. «Так он уже состоялся. Алина Фомкина играла хуже, чем могла бы, но в целом я довольна», — с удовольствием расправляясь со своей порцией сладкого, благодушно ответила Тилли. От неожиданности я подавился. Ахнув, сестры вскочили и, подбежав, принялись колотить меня по спине. «Я говорила, что бисквит в этот раз получился сухим, — трагически вскрикнула Екатерина Аполлинарьевна. — Яйца нужно покупать самые свежие, непременно на рынке. В магазинах всегда не то качество!» Они были трогательны в своем неподдельном отчаянии, но я все же не дал сбить себя с толку. Испытанное разочарование было чересчур сильным. Голубое платье с воланом — я столько раз видел его в мечтах. Мне хотелось, чтобы они ощутили всю глубину проявленной оплошности, раскаялись, попросили прощения. «Жаль, что мне не пришлось побывать на концерте», — отчетливо проговорил я, когда они наконец успокоились и был подан свежезаваренный чай, а Мисси, вспугнутая всеобщим переполохом, снова свернулась в клубок под лампой. «Вадим, вы всегда слушаете первоклассных исполнителей. Зачем вам какие-то неоперившиеся девчонки? Расскажите-ка лучше, как идут дела в Обществе библиофилов?» — с разгорающимся энтузиазмом попросила Матильда Аполлинарьевна, и я вынужден был подчиниться.
Вскоре «концертный инцидент» совершенно изгладился из моей памяти. В городе одна за другой открывались интереснейшие выставки, я всюду бывал, а сестры, ссылаясь на ноги Екатерины Аполлинарьевны, сидели дома. Однако им очень хотелось быть в курсе событий, и они непрерывно требовали меня к себе. Иногда это досаждало, но они так радовались моим приходам, так хлопотали. Тилли пекла для меня по какому-то невероятно сложному рецепту «тающий во рту» слоеный пирог с капустой (я с детства терпеть не мог пироги с капустой, но как-то упустил момент, когда еще прилично было сказать об этом), а Екатерина Аполлинарьевна не пропускала дня, чтобы не сказать: «Вы наша главная связь с миром. Без вас мы просто гнили бы в своем углу». Конечно, теперь, когда наступило лето и прекратились занятия, это могло быть отчасти верно, но все же я начал иногда с раздражением отмечать, что очаровательные старушки немного лукавили: на фоне нежно-зефирных вздохов об одиночестве то там то сям мелькали различные имена. Сегодня это была Юлия Павловна, которая всегда умеет заговорить до смерти. Завтра — Леонтий Абгарович, для которого существуют только две темы: Грибоедов и Грузия. Уже насмеявшись вдоволь над этим занудой, я с некоторым ошеломлением соображал, что Леонтий Абгарович — автор недавно с большим интересом прочитанной мной монографии о декабристах, и пытался убедить беспрестанно прикладывающих пальцы к вискам сестер, что для меня, несомненно, было бы удовольствием как-нибудь встретиться с ним под их гостеприимным кровом. «Вадим, как вы не понимаете, он безнадежен», — нараспев говорила Екатерина Аполлинарьевна, и я, внутренне чертыхаясь, вновь возвращался к отчету о выставке акварелей в корпусе Бенуа.
«Вы изумительный рассказчик. Слушая вас, впору вспомнить Андроникова, — сказала однажды в августе Тилли, и я почувствовал себя так, словно меня наградили орденом. — О чем бы вы ни говорили, это захватывает. А вот на прошлой неделе к нам приходили мои давнишние выпускники, и можно было умереть со скуки, хоть они и рассказывали о Риме». — «О Риме?» — «Да, Леня ездил туда на конкурс Тосканини. Фортепьяно было его специальностью, но потом он переключился на дирижирование». Это уже издевательство, думал я, глядя на безмятежное спокойствие, разлитое по ее кругло-красному лицу. Она что, не слышит себя? Не понимает, как это звучит? «Тилли права, — заговорила, на миг отрываясь от своего вязания старшая, — если бы Галя не сыграла Равеля, вечер пришлось бы считать совершенно потерянным». Я встал. «Как? Уходите? Но ведь еще…» Однако я не слушал. Дрожащими пальцами застегнул плащ, постаравшись влить в голос сарказм, сказал: «До свидания». «Вы скверно выглядите в последнее время, Вадим», — озабоченно констатировала Матильда Аполлинарьевна. — «В чем дело? Боюсь, что вы недостаточно калорийно питаетесь». «Кха!» — вылетело из моей скрученной спазмом глотки. «Осторожнее, гвоздь!» Я хлопнул дверью. Я точно знал, что ноги моей у них больше не будет.
Но прошло несколько дней, и я понял, что сделал из мухи слона. Если посмотреть здраво, что, собственно, произошло? Да, выяснилось, что в квартире есть рояль. А для меня, зная о моей любви к музыке, никогда ничего не сыграли, радостно принимали в комнате, которая, в общем-то, была просто прихожей. Да, подтвердилось, что, несмотря на мои намеки и даже прямые просьбы, меня отказываются принимать вместе с другими гостями. И в чем же все-таки трагедия? Рояль для Матильды Аполлинарьевны чисто рабочий инструмент. То же самое, что для меня кульман. Неудивительно, что дома она предпочитает отдыхать, не имея его непрерывно перед глазами. А гости… Гости — дело хлопотное. Так стоит ли удивляться, что две пожилые дамы предпочитают, чтобы они приходили по одному. Визит супружеской пары для них уже перегрузка. И в результате, как я сам только что слышал, никакие рассказы о Риме не компенсируют непосильного напряжения. Если раскинуть умом, все становится на свое место и незачем хватать шапку в охапку. В общем, когда Екатерина Аполлинарьевна позвонила сказать, что они с сестрой очень соскучились, я только слегка помялся, перед тем как принять приглашение прийти непременно сегодня, так как капустный пирог уже в духовке и Тилли будет в отчаянии, если я не полакомлюсь своей любимой хрустящей корочкой. Голос Екатерины Аполлинарьевны звучал необыкновенно тепло и взволнованно, и, поняв, что мне тоже было тоскливо без этих вибрирующих грудных нот, таких одинаковых у обеих сестер, я быстро собрался, а по дороге — совсем неожиданно для себя — купил еще букет астр.
Приятно было после небольшой размолвки вновь подходить к знакомому дому, приятно чувствовать, как полностью и без остатка рассосалась саднившая душу обида. Сестры встретили меня криками радости. Стол был уже накрыт. Пирог? Да, пирог, но, кроме того, еще целая вакханалия вкусностей. И даже маленький графинчик водки. От растроганности у меня слегка защипало глаза. «Ура!» — по-гусарски воскликнула Екатерина Аполлинарьевна, поднимая свою размером с наперсток рюмочку. «Ура!» — откликнулись мы с Тилли. Пир покатил горой. «Да, мы заслужили сегодняшний праздник, — блаженно откидываясь на спинку стула, выдохнула совсем раскрасневшаяся Матильда Аполлинарьевна. — Вадим, вы представить себе не можете, что тут было вчера! Вместе с нами — четырнадцать человек!» «И по какому поводу собралось это многолюдство?» — чувствуя уже, что все рушится, спросил я машинально. «Ах, голубчик, прослышали, что Джон Лоуэлл согласился прийти поиграть для Тилли (они со студенческих лет знакомы), вот и сбежались. Сидеть было не на чем. Не говоря уж о том, что дышать просто нечем!»
На этот раз я заболел. Конечно, можно сказать, что я просто-напросто простудился, но, не будь я так зол, простуда не перешла бы в воспаление легких. Когда старушка Екатерина Аполлинарьевна в первый раз позвонила узнать, «как у меня дела», я чуть не бросил трубку. «Чертова старая дева», — злорадно прошипел я вслед ее «до свиданья, Вадим, поправляйтесь» и испытал хоть какое-то облегченье. «Чертовы старые девы», — повторял я опять и опять и мстительно показывал им язык. Тетушка, с которой мы после смерти мамы жили в квартире вдвоем, беспомощно разводила руками: «Вадик, у тебя такой жар. Может быть, тебе лечь в больницу?» Но я не хотел в больницу. Там нельзя будет орать «проклятые старые девы», «чертовы перечницы», «грымзы паскудные», там даже шептать это будет неловко. После третьего или четвертого звонка они прорвались-таки ко мне в дом. Бледные от волнения, нагруженные диетическими котлетками и фруктами. «Я боюсь за него», — сморкалась в платочек тетушка. «Мы все уладим. Необходимо, чтобы Вадима лечил настоящий врач. Участковые — просто бумагомаратели». И они в самом деле привели чудесного врача. У него была аккуратная серебряная бородка и добрые коричневые очки. Он был похож на доктора из детской сказки. Я не хотел с ним разговаривать — и он не настаивал. Тетушка принесла из аптеки выписанную им микстуру и поставила рядом с моей кроватью. Прошло около часа, и я, сам не зная как, потянулся к бутылке и выпил полную столовую ложку.
Я болел долго. Доктор в добрых очках навещал меня. Сестер я отказывался принимать, но каким-то волшебным образом в комнате каждый день появлялся свежий букет цветов. Я догадывался, что крепкий куриный бульон, которым меня поили, варила Тилли, а малину, протертую с сахаром, изготавливала старшая сестра. Однажды я попросил доктора передать им мою благодарность. На следующий день они пришли, и Екатерина Аполлинарьевна читала вслух Диккенса — «Домби и сын». «Теперь вы быстро поправитесь, — прокашлявшись и слегка похрустев пальцами, сказал мне на другой день доктор, — думаю, что в моих посещениях нужды больше нет». И он оказался прав. Вскоре я уже выходил на улицу. Приятно было идти по обсаженной деревьями дорожке, имея с одной стороны Екатерину Аполлинарьевну, а с другой — Матильду Аполлинарьевну, приятно было выходить из подъезда и видеть, как они поджидают меня на скамейке, скрытой наполовину в тени кустов. Я креп, и мы строили планы. Решено было вместе съездить в «Пенаты», а если погода позволит, то по воде в Петергоф. Потом, подумав, сестры решили отложить Петергоф до следующего лета: «Зачем рисковать, Вадим? Вам надо остерегаться ветра. Лучше давайте пойдем в Таврический сад». Я давно выздоровел, я ходил на работу, а они продолжали каждый день навещать меня. Трогательные и нежные, добрые феи, не устающие осыпать меня дождем подарков. В последних числах сентября, в среду, Матильда Аполлинарьевна пришла одна. «Катина ученица попросила о дополнительном уроке, а мне как-то страшно было оставить вас одного». Я посмотрел на нее глазами, полными благодарности. Она улыбалась, на ней была шелковая малиновая блузка, и краснота лица казалась на ее фоне легким румянцем. Вынимая из сумочки принесенную для меня книгу, Матильда Аполлинарьевна опустила голову, и я вдруг увидел, какой благородный, точеный у нее профиль. В этот раз я впервые задумался о ее возрасте, вспомнил кое-какие рассказы сестер о детстве и осознал вдруг, что, хотя я обращаюсь к ним обеим по имени-отчеству, а они зовут меня просто Вадим, Матильда Аполлинарьевна старше меня всего лет на восемь — десять. Когда она ушла, я принялся взволнованно вышагивать по комнате. Конечно… да… если взглянуть иначе… и все-таки… Сказать, что наутро я был влюблен, было бы, безусловно, некоторым преувеличением. Но сказать, что я был готов — или почти готов — сделать Матильде Аполлинарьевне официальное предложение руки и сердца, — значит представить дело близко к истине. Во время работы я с нетерпением ждал вечера, хотелось проверить свои впечатления, ощущения. И… что вы думаете? Матильда снова пришла одна. Проговорила что-то невнятное, объясняя. Я даже не слушал. Ясно было, что все это уловки, что она хочет быть со мной наедине. «Когда же это началось? — соображал я лихорадочно. — Во время моей болезни? До? После?» Я вспомнил пресловутый пирог с капустой. Конечно же, это был знак. А я не понял. Потом концерт Лоуэлла, на который, кроме меня, они пригласили решительно всех. Я, как болван, умудрился увидеть в этом насмешку, а это был уже крик души. Меня наказывали за непонятливость, за равнодушие, но, когда я заболел, все простили и сейчас ждут, ждут, ждут. Душа моя танцевала. Внешне я был по-прежнему сдержан. Мне нужно было хотя бы несколько дней: собраться с силами, найти правильные слова. «Ну а теперь приходите уже вы к нам», — сказала Матильда, вставая. «Боюсь, как бы Катя не начала вас ко мне ревновать». Мы рассмеялись, этот смех сблизил нас. «Как мне легко с ней», — подумал я — и вдруг решился. К чему, в самом деле, откладывать? «А как вы думаете, у Екатерины Аполлинарьевны и в самом деле могут быть основания для ревности?» — зацепился я за удачно подброшенную мне реплику. Тилли, глубоко заглянув мне в глаза, улыбнулась: «Мы с Катей прожили вместе всю жизнь. Ей ревновать ко мне — то же, что к собственной руке». «И все-таки возможны ситуации, — я тоже смотрел ей прямо в глаза, — при которых вы вдруг окажетесь разъединенными…» Я замолчал. «Да, и какие же ситуации?» — подбодрила меня Тилли. «Ну, например, замужество». Матильда Аполлинарьевна прыснула: «Вот это уж, я думаю, ни мне, ни Кате не грозит». — «Значит ли это, что если вам сделают предложение…» — «Я отвечу: благодарю вас, но не будем вести себя курам на смех». — «И вы так скажете, даже если руки вашей попрошу я?» У нее отвалилась челюсть. Не в переносном, а в прямом смысле. Рот распахнулся, как будто кто-то дернул снизу за веревочку. Глаза налились ужасом. Можно было подумать, что ей поднесли к лицу паука. «Что с вами?» — спросил я, и в самом деле ничего не понимая. Она замахала руками: «Забудем, забудем этот глупый разговор. Будем считать, что его не было. Ведь его не было, да?»
Она ушла. Я был раздавлен и чувствовал, что это непоправимо. Как вы догадываетесь, пауза была недолгой. Дня через три позвонила Екатерина Аполлинарьевна. Голос звучал оживленно и бодро. «Вадим, я достала вам книгу о Павловских парках, помните, ту, которую вы хотели иметь». — «Спасибо». — «Что значит „спасибо“? Вы должны вскрикнуть от радости и примчаться ее забрать». — «Не думаю, чтобы мне следовало появляться у вас теперь». — «Какие глупости! И что значит „теперь“? Теперь и всегда, вы же знаете, что мы без вас жить не можем». Я молчал. «Вадим! Вы меня слышите? Немедленно ноги в руки — и к нам. Тилли готовит ужин. Ну как, ставить для вас прибор?» Сопротивляться было бесполезно. И все-таки я попытался выторговать себе хоть малую малость. «Хорошо, — сказал я, — через полчаса выезжаю. Но с условием: вы больше не будете заставлять меня есть пирог с капустой». Екатерина Аполлинарьевна от души рассмеялась. Смеялась долго, переходя от тонкого «хи-хи» к меццо-сопрановому «хха-хха». Наконец, очевидно отерев глаза и высморкавшись, бодро сказала: «Ну, я рада, что чувство юмора снова при вас. А что касается пирога, все в порядке. Тилли как раз ставит его в духовку».
Безвыходных положений нет
— Я очень счастлив, — говорил Человеков, выходя из дому и направляясь на работу.
— Я очень счастлив, — напоминал он себе, проделывая вечером обратный путь.
— Я очень счастлив, — повторял он, катаясь на карусели с детьми. Детей у него было двое: мальчик шести лет и девочка четырех. Мальчик был любознательный и мастерил из картона флотилии кораблей, а девочка — круглолицей, хорошенькой и, несмотря на свой юный возраст, хозяйственной.
— Я очень счастлив, — затверживал Человеков, глядя на свою жену Таню. У нее были длинные ноги, тонкая талия и ласковые глаза. Она всегда все успевала, никогда ни на что не сердилась и очень любила своего мужа.
А он был высокий, спортивный и обаятельный. Он хорошо играл в теннис, хорошо плавал, катался на горных лыжах. Деньги на горные лыжи он заработал честным трудом. Случилось так, что ему много платили. Сразу же после института Человеков попал в очень ответственное КБ, зарплаты там были особенные. Кроме того, через год его сделали старшим инженером, и дальше он продвигался по службе легко и успешно. При этом он никого не подсиживал и не стремился обходить на поворотах. Он не заискивал перед начальством, но во всех поощрительных списках его фамилию ставили первой. Он не имел влиятельных родственников, но блага и награды уже не дождем, а пугающим камнепадом сыпались ему на голову. Человекова уважали, Человекова приглашали, Человекову предлагали…
«Я очень счастлив, — думал он, переходя через улицу, — и если сейчас машина или автобус собьет меня, все это счастье кончится», — размышлял он дальше и с ужасом ловил себя на мысли, что, пожалуй, хочет этого.
От счастья Человеков заболел и попал в больницу. Лежа на койке и глядя в белый потолок палаты или в окно, где небо было то синим, то серым, он шептал горестно: «Я очень счастлив, я очень счастлив, я очень счастлив…»
По ночам Человеков мешал спать соседу.
— Да заткнись ты со своим счастьем, — ворчал тот, крутясь с боку на бок. — Счастлив, ну так и молчи себе в тряпочку. Повезло идиоту, а он трезвонит на весь белый свет. Помолчи, слышишь?
Человеков замолкал на минуту, а потом снова начинал бормотать.
Врачи совещались у его изголовья. Таня, всегда веселая, чуткая и красивая, приносила ему нежную сочную телятину, книги, компот, приветы друзей.
— Ты скоро поправишься, я абсолютно в этом уверена, — глубоким волнующим голосом говорила она. — Как только ты выйдешь отсюда, мы сразу полетим на Иссык-Куль. Озеро — как изумруд в оправе из белых вершин. Подумай, как это будет чудесно.
«У нее были мягкие черты лица, и, когда мы принимали какое-то решение, ее глаза и улыбка вспыхивали, будто ей преподнесли дорогой подарок» — вспомнил он хемингуэевскую фразу и внутренне застонал: «Как я счастлив… Господи, как я счастлив!»
Сосед по палате пробовал просить врачей, чтобы они делали этому счастливчику успокоительные инъекции. Врачи только морщились. Они понимали, как нежелательно, даже недопустимо тормозить проявление положительных эмоций. Врачей волновало другое:
— Есть ли что-нибудь, что гнетет вас, что-то, чем вы недовольны? — спрашивали они, внимательно вглядываясь в своего необычного пациента.
Он думал, устремив взгляд в пространство, потом отвечал им:
— Я очень счастлив.
Все это продолжалось дней десять. Десять дней — достаточный срок, чтобы вывести из себя и святого, а сосед Человекова святым отнюдь не был. И он надумал поступить просто, а именно: придушить счастливца подушкой. Вечером, когда стоны о счастье сделались особенно громкими и нестерпимыми, сосед вдруг вскочил со своей койки, держа подушку как двуручный меч, одним прыжком подскочил к Человекову и навалился на него всей своей тяжестью. Какое-то время они свирепо, молча боролись, и наконец сосед оказался поверженным на пол.
— Ты сильный бугай, — сказал он, сопя. — Такому сильному бугаю ныть стыдно. Ты меня понимаешь?
— Да. Все понимаю и прошу прощения, — ответил Человеков. Он говорил с гнусавинкой, у него кровь шла из носа.
— А, черт с тобой! Слезай. Ребра раздавишь.
Человеков послушно поднялся, влез на койку, закрылся до подбородка серым казенным одеялом. Сосед остался сидеть на полу.
— Ну и чего ж ты такой счастливый? — спросил он, помолчав.
— Во-первых, работа, — начал перечислять Человеков. — Каждый год повышение. Прямо как на руках несут. Куда только?
— С работы можно уволиться, тут проблем нет, — заявил голос с пола.
— Уволиться! А идти куда? В дворники, что ли?
— Можно и в дворники. Разве плохо?
Сосед встал с пола, устроился на краю своей койки, взял с тумбочки яблоко, повертел его.
— В дворники! — развеселился Человеков и приподнялся на локте. — А с женой что прикажешь делать?
— Жена чем не угодила? — Сосед сосредоточенно вертел яблоко, словно стараясь что-то на нем найти, прочитать.
— Красавица, превосходно готовит, тактична, на тряпки тратит копейки, а выглядит как картинка, работает, получает не меньше меня и детей воспитала так, что все просто завидуют, — одним духом выпалил Человеков и зло уставился на соседа: что, мол, на это скажешь?
— Разведись, — равнодушно пожал плечами сосед.
— А дети?
— С детьми тогда тоже полегче станет.
— Как?! Как ты говоришь? — Человеков расхохотался, смех просто рвал его на части, койка куда-то ехала, стены гримасничали, в окно заглянула премерзкая бородатая рожа и тыкала в Человекова пальцем. — Не достанешь! — крикнул он этой роже и показал ей фигу.
— Выпей, — жена наклонилась над Человековым, в руках у нее был какой-то стаканчик.
— Что это? — спросил он недоуменно.
— Настой шиповника. Ничего страшного, ты просто раскашлялся.
— Мне снилось, что я в больнице, — невольно пожаловался Человеков.
— Ты зверски устал, — ответила Таня разумным, спокойным, приятного тембра голосом. — Я вчера разговаривала с Литовцевым. Он готов выдать тебе неделю, как компенсацию за работу в вечернее время. В субботу отвезем ребят к бабушке, а сами — на Иссык-Куль. Там озеро…
— …как изумруд в оправе из снежных вершин.
— Именно. А теперь выпей шиповник.
Человеков послушно протянул руку к стакану и увидел сложенные фигой пальцы.
— Шиповник я пить не буду, — сказал он Тане.
— Как хочешь, — мягко ответила она, забирая стакан.
— На Иссык-Куль я тоже не поеду, — продолжал Человеков, чувствуя, как его заполняет холодок восторга.
Таня ничего не ответила. Удивленно подняла шелковистые брови, внимательно глянула на Человекова, ласковым легким движением пригладила ему волосы.
— Гостиницу я уже заказала. На Иссык-Куле ты сразу же придешь в форму. — Она ободряюще улыбнулась, блеснув своими и в самом деле очень красивыми глазами.
* * *
Ну и какой же вывод? Ведь все, похоже, осталось как было, и Человеков по-прежнему задыхается под грузом своего небывалого счастья? Нет, не совсем. Когда становится невмоготу, он вспоминает своего соседа по палате, слышит, как наяву, его голос и видит, как тот задумчиво крутит яблоко. «Так, значит, развестись и в дворники?» — спрашивает у него Человеков. Сосед кивает, и губы Человекова сами собой растягиваются в улыбку.
Кроме того, есть и объективные сдвиги. Странноватая улыбка, появляющаяся теперь иногда на губах Человекова, не прошла незамеченной ни на работе, ни дома. «Что-то все-таки есть в нем подозрительное, не наше», — иной раз думает начальство и как-то так невзначай берет да и вычеркивает его из какого-нибудь заветного списка. «Чему это ты ухмыляешься?» — видя блаженство, разлившееся у него на лице, с несвойственной ей вульгарностью думает жена Таня. Морщинка пересекает вдруг ее лоб, а безмятежная синева глаз сменяется предгрозовой чернотой. «Ты устала, дай лучше я посуду помою», — говорит ей тогда Человеков.
А это, согласитесь, уже кое-что.
Возраст
Чувство, что жизнь уже началась и что-то — непоправимо и окончательно — в прошлом, появилось, когда исполнилось тридцать семь. Чувство было противным: как будто отгрызли кусок Принадлежавшего мне по праву, моего кровного.
Страх перед цифрой сильнее всего ощущался, когда должно было стукнуть, а потом и впрямь стукнуло, тридцать три. Тогда я просыпалась ночами, каждый раз заново ужасаясь: «Как? В самом деле мне тридцать три года? Мне? Тридцать три?» Тело не верило в это. Разуму было этого не охватить.
По временам, днем, возникал очень спокойный, закономерный вопрос: почему именно тридцать три привели к этой панике? В чем дело? В возрасте Иисуса Христа? Потом стало понятно: тридцать три — это прыжок одним махом лет через пять, через целый период. До этого рубежа — тебе около тридцати, то есть тридцать два — двадцать восемь, максимум двадцать восемь — тридцать два (тоже еще не страшно).
Тридцать четыре — когда удается избавиться от гримасы неудовольствия — все же минутная передышка: еще, слава богу, не тридцать пять. И чем вернее ты знаешь, что тридцать пять эти — здесь, за ближайшим углом, тем веселее от мысли, что их еще все-таки нет.
О том, какой тяжестью лягут на плечи две тройки, заранее было не догадаться. Не давил закон круглых чисел, не помогали случайные — к случаю — замечания, которые слышишь в канун тридцати, и если не слышишь от окружающих — внешним ухом, — то получаешь сама по себе, от ехидного, все прежде всех узнающего, внутри тебя потаенно сидящего «я».
Этого «я», под нос сующего то, что не хочешь, не можешь, не должна видеть, я всегда очень боялась, чувствовала его монаршую власть. Но когда в случае с «мукой тридцати трех» ехидное «я» оказалось настолько непрозорливым, стало понятно, что оно знает лишь несколько общих законов и кое-какие поправки к ним. А меня знает ничуть не лучше, чем я сама.
Есть и такая вещь, как ожидаемый и пропущенный возраст. Тридцать шесть лет. Скажешь — и будто повеет левкоями. Персики, легкая полуулыбка, косые лучи августовского солнца, а впереди — бабье лето. В том, чтобы в тридцать шесть лет быть тридцатишестилетней, на миг иллюзорно достигшей вдруг равновесия — чаши весов не колеблются, прикосновение времени шелковисто, — запрограммированы природой тайна и тишина, схожие с тайной и тишиной равноденствия.
Ну а я в тридцать шесть была встрепанной и пыталась бороться на трех фронтах сразу, чтобы все переделать и что-нибудь путно начать. Пыталась цепляться за юность и защищалась от возраста (сначала совсем неосознанно, потом все-таки сообразив, что к чему) одеждой, жестикуляцией, мимикой, свойственными молодежной моде в ту пору, когда я оканчивала университет.
Эти двадцатилетние. Ни одна цифра, ни одна круглая дата уже не сумеют так напугать, как в отрочестве и в ранней юности — двадцать. На тех, кому двадцать, я, даже приблизившись к этому возрасту чуть не вплотную, смотрела с ужасом и с любопытством. Смеются, едят, пьют, в кино ходят. А самим — двадцать. Глаз было не отвести, рассматривала, как экспонаты в музее.
Перешагнув страшную линию, ужаса не ощущаешь. Только неловкость и легкое раздражение, оттого что иногда надо вслух невероятное (неприятное) подтверждать. «Сколько вам? Двадцать? Всего двадцать лет! Если б вы знали, как я вам завидую!» Ты улыбаешься и благосклонно киваешь в ответ. И даже чувствуешь удовольствие. На полминуты.
Потом однажды подруга приносит книгу какого-то скандинава: «Будучи очень молодой девушкой, она совсем не знала людей. Ей было двадцать два года». Нет, ты посмотри, если верить ему, у нас еще все впереди! И мы с ней смеемся. Смех умудренных двадцатилетних над близорукостью стариков. Их близорукость не слишком, но утешает. Не чувствуя себя молодой, можно хотя бы укрыться, как под навесом, под очевидным для всех знаком молодости и научиться в конце концов врать не краснея: мне еще только двадцать.
Но происходит какое-то странное зависание. Двадцать — само по себе, ты — как бы вне возраста.
«А интересно, удастся ли дотянуть двадцать до тридцати?» — просил кто-то. Тогда это прозвучало как милая шутка. Со временем она тоже не сделалась горькой. В каком-то смысле «мы», почти все, двадцать до тридцати дотянули. Беда в том, что продолжаем тянуть и сейчас. Нередко вызываем насмешку, но иногда — умиление. Как-никак приближающийся к пятидесяти юноша все-таки приятнее, чем старик в девятнадцать.
Скачала: они такие, как мы. И даже иначе — деления нет. Молодежь — это мы. И ты уверенно идешь с ними в ногу, отмежевываешься, как и они, от старших, когда машинально, когда брезгливо. Потом разговор где-то в транспорте: «Да ты что?! Она ведь немолодая, ей тридцать лет скоро!» И в ответ: «Точно, я знаю, десятого марта исполнилось двадцать восемь». Они хихикают, а ты закрываешь вдруг книжкой лицо в невольном стремлении скрыть свои двадцать семь с половиной.
Дома ты идешь к зеркалу и беспристрастно разглядываешь себя. Никаких признаков постарения, ты выглядишь так же, как в прошлом году, и даже лучше, чем во времена студенчества. Лучше. Этим и выдаешь себя. Для того, чтобы удобно, с комфортом расположиться в том возрасте, который принято ощущать юностью, нужно, чтобы прошло время. И именно это прошедшее время девчонки с хи-хи безошибочно чуют.
В какой-то момент все меняется. Только что, можно сказать вчера, ты видела девушку и относилась к ней как к ровеснице, может быть, осторожно и прежде всего — для страховки — внутренне допускала, что она года на два моложе, а потом вся сжималась, узнав, что она моложе на десять, и, значит, ты — хотя это немыслимо — на десять лет старше высокой, уверенной, взрослой блондинки. А теперь ясно и четко расставлено все по местам и стало понятно, что феи с летящими по ветру волосами — не твои сверстницы, а твои младшие сестры и даже племянницы. Ничего не поделаешь, и ты смиряешься с этим, ты с этим почти смирилась, но вот однажды встречаешься с кем-то из этих новых, а она всплескивает руками: «Да что вы, мне тридцать один, у меня старший во втором классе» — и ты вдруг заново чувствуешь резкую боль, и снова все летит к черту, и остается одна лишь ухмылка злого мальчишки-шутника — времени.
В том бесконечном пространстве, которое не имеет, пока ты живешь в нем, конца, вообразить свою взрослость — немыслимо. Можно представить себе превращение в кота или в тигра, но невозможно поверить, что будешь таким же, как дядя Федя. И оттого, что так быть не может, ты можешь в это играть: нацепить очки, шарф, ботинки сорокового (!) размера, шаркать ногами и хохотать. Хохотать, пока это не кончится: не придет мама и не велит быстро положить все на место и больше не сметь.
Веселье молодости чем-то на этот смех похоже, и хотя мама, сколько ни ждешь, не приходит, но часто приходит жена; и для мужчин, таким образом, переход в зрелость и в самом деле бывает игрой, коротким испугом, а дальше — блаженным: ну, слава богу, все обошлось. Для женщин такой вариант исключен. Немыслимо найти мужа, который сыграл бы роль мамы. Для женщины взрослость, как это ни грустно, непоправима.
Что говорят о взрослости сказки? Они суровы, безжалостны и едины во мнениях. Принцесса становится взрослой в шестнадцать лет. Тогда ей встречается принц (во дворце пышная свадьба), а потом: «Дверцы кареты захлопнулись, все закричали „ура!“… И вот уже стих вдали шум колес». И все кончено. Нет ни принцессы, ни сказки.
Шестнадцать. Далее — чернота. Комната, где не видно ни зги. Ведь, как и прежде, поверить в свое превращенье во взрослую невозможно. Шестнадцать — а что же потом? А что дальше? Ответа на этот вопрос не найти. Сказки кружатся хороводом, взрослые, сами того не зная, жгут дочерна душу: «Да… это можно почувствовать только в шестнадцать!» Улыбка растягивает концы губ, и кажется, что рот Павла Петровича на глазах становится людоедским. «А как девушки хороши в этом возрасте! Да…» Ну а дальше что? Дальше — Пушкин. Людмиле, конечно, должно быть шестнадцать, а вот и нет. Вот, сказано четко и ясно: семнадцать. «Уф», — вырвался вздох облегчения. Точка, мигнув, преобразовалась в отрезок. И оказалось, что после шестнадцати есть еще продолжение — есть целый год. Ну а потом вышли на сцену юные героини романов. Они безмятежно глядели из-под полей своих шляпок, кутались в шали, загадочно улыбались. Им было по восемнадцать. Понятной жизни отпущен был еще год. И появилась перспектива, впрочем, не очень радужная. Ведь в любом случае за девятнадцатью сразу же шел обрыв.
Капризы сознания часто необъяснимы. И думаю, что у каждого есть свой магический ряд.
У меня двадцать четыре, двадцать семь, двадцать восемь — годы, которые ощущаются с гордостью и с недоверием, что, скажем, двадцать четыре — это и вправду ты. Двадцать шесть раздражают: двадцать пять плюс еще один — это уже чересчур. Сквозь двадцать шесть хочется пробежать, втянув голову в плечи, чтобы скорее добраться до нового берега — до двадцати семи лет.
В ряду, начинающемся с цифры три, все иначе. И почему-то тридцать один, тридцать два, тридцать девять близки друг другу и странно напоминают качели: туда и сюда, и вверх — вниз, и конец — и начало.
А дальше? Великолепие сорока двух, сорока четырех (отпробовать страшно и весело), чуть грустные сорок семь (шелест желтеющих листьев) и сорок восемь (избранным назначенный апогей).
Самое страшное — выпасть из возраста. Стать чем-то аморфным, когда неважно уже, тридцать пять тебе или пятьдесят восемь, лишь бы здоровье не подводило. Почти так же страшно застыть. Быть моложавой, преуспевающей, элегантной. В тридцать и в пятьдесят одинаковой — никакой.
«Давай рассуждать, — говорили мне в детстве. — Теперь понятно? Больше вопросов нет?» Лет с семи было уже так понятно, что, когда зимним днем я, вся закутанная в платок, с тяжелым портфелем шла в школу, двое военных крикнули, обгоняя: «Бабушка, посторонись!» — а оглянувшись и рассмотрев меня, долго смеялись своей ошибке.
Упоминая избито-излюбленный «возраст весны», мы непременно говорим «ах!» и представляем себе сад в цвету.
Но посмотрите на фотографии школьных выпусков. Чаще всего это скопище монстров. С трудом выплыв из отрочества, они к взрослой жизни еще не готовы. Тела бесформенны. Лица в оправе взрослых причесок и холодны, и туповаты.
А соответствующих канонам прелестных и юных встречаешь, в общем, не часто. Я их, пожалуй что, видела — и запомнила — только однажды. Я была первокурсницей, а они — я это знала — переходили на пятый. Они сидели втроем на скамейке, на солнце. Ими нельзя было не любоваться. Они были именно юные, а нам, восемнадцатилетним, сидевшим — тоже втроем — на скамейке напротив, всем было до юности, как до луны.
Чтобы дойти до молодости, мне понадобилось — шутка сказать — сорок шесть лет. Перед тем было тридцать лет тянувшееся детство, тщательно упакованное в формы достойной и еще полной сил старости, потом истерично отстаивающая себя и требующая особого снисхождения к своей несвоевременности юность, и наконец, когда оставалось либо погибнуть, либо все же добраться до твердой почвы, пришло откуда-то (откуда не знаю) чувство уверенности в своем праве быть, а заодно с ним и чувство будущего.
В восемнадцать я была пятидесятитрехлетней. Вряд ли, когда и в самом деле придут пятьдесят три, я буду так же уверенно и по-хозяйски чувствовать себя в этом возрасте. Тогда эти солидные пятьдесят три смущали несоответствием реальным цифрам, но, в общем, были удобны. Казалось, все познано, все понятно. Любое действие выполнялось привычно, автоматически и так, «как надо». Сомнений не было, и не было ощущения, что время принесет что-нибудь новое. Путь был прямым и виделся до конца. Но не до гроба — до юбилея. Я представляла себе очень точно, какой в этот день на мне будет костюм, видела лица участников, слышала их голоса, а в перерывах — жужжание большой мухи, бьющейся из последних сил о стекло.
Взбесившийся один раз график движения возраста приводит к мельканью случайных, на миг будоражащих мыслей. Например, не дождусь ли я все-таки своих тридцати шести лет? Тоскливым октябрьским днем, среди тошноту вызывающих будней не пахнет ли вдруг ясным летним полднем, не выйдут ли из густой чащи хитросплетений жизни, тихо позвякивая браслетами, мои тридцать шесть?
Хочется прислониться к родному плечу. Хочется, чтобы кто-то сказал: «Ну что ты, девочка, все будет хорошо, все будет славно». Лучше всех это может сказать, наверное, тетушка: нестарая, крепкая, бодрая.
Странно думать, что роль такой тетушки правильно было бы играть уже мне. Но, увы, не дано. Мне до конца моих дней быть младшенькой: внучкой, свояченицей, ученицей. А почему бы и нет? Ведь бывают же девочки, родившиеся, чтобы стать тещей. Ей пять лет всего, а на лице ясно написано: теща. Причем заметьте: именно теща, а не свекровь. Свекровью становятся в силу обстоятельств, тещей — рождаются.
Что такое полнота жизни? Полный набор возрастных состояний?
Такое счастье дается немногим, однако считается, что дано всем. И люди часто воспринимают свою жизнь по модели, вздыхают о несостоявшемся, как о прошедшем. Говорят «во времена моей молодости», хотя молодость и в глаза не видали, а если она приходит, то машут руками: «Ну что вы! Ведь мне уже сорок. Дела, дети, муж, до того ли… Хотелось бы, но не судьба».
Мне …надцать (шестнадцать?) исполнилось поздно, даже чудовищно поздно — в тридцать один. В связи со сдвижкой все было гротескно-нелепым, но подлинным. И я узнала, что …надцать (шестнадцать?) — соединение трех слагаемых:
Я все могу.
Я все получу.
Жизнь положила подарки под каждое дерево. И нужно только одно: не лениться их подбирать.
Все эти три ощущения жили одновременно с отчетливым пониманием кучи проблем, в том числе нерешаемых; с болезнями, страхом и прочее, прочее. Бывало тяжело, горько, и временами душило отчаянье. Но все же главным и истинно верным было то, что:
Я все могу.
Я все получу.
Жизнь положила подарки под каждое дерево. И значит, в путь — чем скорее, тем лучше.
Мне представляется, что в конце каждого из отрезков жизни женщина старше, чем в начале нового. И последняя молодость наступает, наверное, в листопадную пору. В последний раз сброшена тяжесть с плеч — и жизнь взмывает вверх снова.
В каком-то смысле двадцать и шестьдесят, пожалуй, главные рубежи жизни. В первом случае мы прощаемся с детством, во втором — с молодостью (есть своя правда в трехчленном делении жизни). При этом двадцать и в самом деле приходят в двадцать — слишком велика вера в абсолют цифр, и сознание реагирует безотказно и точно, а шестьдесят настигают незадолго до или вскоре после предупреждающего и скорость ограничивающего кругляка. Кое-кому удается перенести мету аж лет на пять вперед. Но потом все-таки наступает старость: время, когда кончается жизнь и начинается доживание, иногда долгое и приятное.
Стремление перейти к доживанию раньше положенного срока должно, по идее, караться каким-нибудь нравственным кодексом. И ссылки на более ранние смерти тут ни при чем. Есть и детская смертность.
Из безнадежно пропущенных лет я больше всего грущу о тринадцати. Тринадцать — значимый возраст, а вкус его мне неизвестен. И теперь это уже не восполнить… Хотя… хотя рядом с тринадцатилетней внучкой, если, по счастью, ее тринадцать будут отчетливо видимы и классичны, я, доживающая свой век, может быть, и сумею еще ощутить эту дольку; и опыт жизни в последний момент (в предпоследний момент) обогатится еще одной мерой.
Трюизм: в старости мы возвращаемся к детству. К детству вообще? К своему? Вернувшись к своему детству, я вернусь как раз к старости и еще раз вскарабкаюсь — при помощи костылей — на порог.
А пока жизнь описывает круги. И хотя повторяемость задана, глаз на каждом витке успевает схватить что-то новое, а я и участвую в своей жизни, и — как бы со стороны — наблюдаю ее. Ощущаю одновременно и завершенность, и бесконечность.
Время женских свершений
Есть масса способов защищаться.
Например, ты говоришь ему: «Я уезжаю в командировку на две недели» — и две недели живешь припеваючи. Неудивительно, что он не звонит (ведь ты в командировке), не страшно одной пойти на французский фильм (как бы он мог повести тебя, если уверен, что ты в отъезде?), а можно пойти с подругой: тебя не будет грызть мысль, почему это ты сидишь здесь с Аленой или Марьяной, в то время как твой любимый лежит на диване и смотрит по телевизору футбол, сообщив предварительно, что никуда выходить не намерен: он, черт возьми, должен работать, двойная жизнь и так отбирает у него много сил.
Однако вскоре выясняется, что ездить в командировки — занятие неблагодарное. На месте старых забот возникает дурацкая новая. Ты начинаешь бояться встретить его в метро, на улице или на выставке. Такая встреча чревата: кто его знает, куда он с кем ходит, когда ты уезжаешь в командировку. Можно нарваться на неприятную неожиданность.
Опасность увидеть его с женой, конечно, невелика — он давно с ней никуда не ходит. Однако привычка — вторая натура, а ты ведь его приучила иметь зазорчик между работой и домом. Да и не может он две недели приходить домой в шесть часов. Во-первых, никто не будет в восторге от этих ранних приходов, а во-вторых, как он потом объяснит, что снова является в полдевятого? Заново что-то придумывать? Нет уж, слуга покорный. Легче избежать объяснений и погулять или даже сходить на фильм Вайды… А в кино веселей все же с кем-нибудь.
Поверхностный социологический огляд показывает, что каждую особь мужского пола, склонную подсознательно или осознанно не устремляться домой немедленно после конца рабочего дня и не докладывать жене об имеющейся возможности раз-два в неделю прийти на службу попозже или уйти пораньше, стережет целая группа женщин, давно уже переставших раздумывать о замужестве (и нереально, и не совсем понятно зачем), но остро нуждающихся в небольшом жизненном допинге — прогулка в оснеженном, зеленеющем или пылающем красками осени парке и чашка кофе в интимной, располагающей обстановке. Условия предоставляются с легкостью. С квартирами, чтобы ни говорили там пессимисты, становится год от года все лучше. С мужчинами, к сожалению, — хуже. Поэтому джентльменский набор почти каждого — жена, любовница и охотница. Две первые многое понимают, однако за годы, наполненные к тому же чувством вины перед ними обеими и неприятными объяснениями (или ожиданием объяснений, что, в общем, одно и то же), успели порядочно утомить. Охотница и дает шанс блеснуть, но иногда ошарашивает такими претензиями и ожиданиями, что просто не знаешь, куда бежать. Трудно.
«Да-да, в самом деле ему чертовски трудно». Зацепившись за эту мысль, ты переходишь от командировочного способа защиты к другому: к защите с помощью жалости. Сумев почувствовать, как ему тяжко и плохо в его положении зайца, спасающегося от стаи волков, ты наполняешься святой всепрощающей жалостью. Тебе начинает хотеться помочь ему, скрасить и облегчить его жизнь. И ты торжественно провозглашаешь (про себя, разумеется) не две недели командировки, а две недели бескорыстного служения ему. И сразу становится легче. Ты наполняешься альтруизмом и материнскими чувствами. Ликуешь при каждой его улыбке, думаешь, как бы повкуснее его накормить, вспоминаешь его заветные желания. И он отогревается и расцветает, жизнь превращается в рай, вам так хорошо друг с другом, он так к тебе тянется, что ты вдруг понимаешь: преступно (по отношению к нему, о себе ты в это время даже не вспоминаешь) давать ему эту полноту бытия, эту достойную его жизнь лишь урывками, и ты начинаешь спокойно, разумно и ласково (ведь ты думаешь только о нем, ведь ты вся — самоотдача и самоотверженность) убеждать его, что, быть может, хоть это и трудно, стоит подумать о том, чтобы как-то (не кардинально, это, конечно же, невозможно) раскрепоститься, переменить свою жизнь, перестроиться, не причиняя вреда и боли, не разрушая и не ломая. Он тебя слушает очень внимательно; кажется, что какие-то доводы он принимает, на лице у него появляется грустно-задумчивое выражение, которое ты так любишь. Он смотрит тебе в глаза, он берет тебя за руку и вдруг неожиданно говорит: «Ну зачем же опять возвращаться к тому, что давно уже ясно? Ведь мы не раз все обсудили». Более глупой и нелогичной реплики не придумать. «Разве когда-нибудь прежде шла речь о том, чтобы временно перейти в филиал? Он только-только открылся. Там ты получишь лабораторию. Там перспективы. И потом жизнь в предгорьях Кавказа…» Но он обрывает: «Не надо об этом. Ты хочешь, что бы мы снова поссорились?» «Ни о каких ссорах не может быть и речи!» — кричишь ты в бессильной ярости, и вдруг (наверное, раз в десятый) ты понимаешь, что связана вот уже много лет с человеком без крыльев, с трусом, который не только ради тебя и вашего общего счастья, но даже для дела, которое он на словах ах как любит, не может пойти на крохотный риск, не в силах отважиться на поступок. Он увяз по уши, и, что самое страшное, с ним вместе увязла и ты, хотя ты-то готова на пробы, эксперименты, борьбу. О да, ты готова на многое, и ты способна на многое, а между тем этот камень на шее! Тяжело и обидно, выматывает и обессиливает. Нет, тут необходим совсем иной способ защиты. По-настоящему эффективный и долгосрочный. Какой же? Карьера? Противное слово. Лучше назвать это работой. А еще лучше — Работой с большой буквы. Этой работы ты добьешься — кровь из носу. Цели ясны — вперед. И кем бы ты ни была (образование высшее; гуманитарное или техническое — нужное подчеркнуть), ты смело ринешься в бой (аспирантура-диссертация, заветное и недоступное для стольких членство в творческом союзе, директорство, руководство проектом, что там еще?). Ты будешь гореть, добиваясь намеченного, ты будешь жить насыщенной (!) жизнью, и девять шансов из десяти, что ты (о господи!) победишь.
Победа будет завоевана честно. Довольная собой, ты будешь с состраданием или с невольной легкой усмешкой смотреть на его издерганное, стареющее лицо. Что ж делать, милый, если такая твоя судьба, моя иная: я в сорок лет доктор наук. Тебе такое не снилось? Конечно, не снилось. Вон у тебя на хвосте снова баба повисла. Сколько ей? Двадцать восемь? Ну что ж, и нам столько было. Она хочет писать статью под твоим руководством и обсуждать ее на лоне природы? У нее вдруг оказался лишний билет на Таганку или на Рихтера? Ну что же, Бог в помощь. Сколько могла, я предупреждала тебя, я делала все, что возможно, чтобы хоть как-то переменить плачевную твою жизнь. А теперь могу только сочувствовать. На конгресс в Осло поехал бывший твой ученик? Неудивительно, каждый сам кует свое счастье. И этот экс-ученик, оказавшись в твоем положении, вел себя по-мужски, расстался с женой, а дальше уж был осмотрителен и в аспиранты брал только парней. Ты же до сих пор продолжаешь окружать себя ученицами. И эта новенькая очень мила. Что? Я мелю чушь? Она замужем? Нет, дорогой мой, у меня сведения более точные. Она уже год как в разводе.
Конечно, времени для занятий наукой (Работой) у такой женщины больше, чем ей бы хотелось. И все же работе это, пожалуй, на пользу. Повоешь волком в солнечный день в воскресенье, да и садишься к своим бумагам (куда же деваться?). Пройдет час-другой, как-то втянешься, увлечешься и уже сама веришь, что села по доброй воле (что вы, Майя Петровна, какие прогулки?! Мне статью в пятницу подавать!). Осенью мне исполнится сорок один. Профессорская вакансия ждет меня.
«Я очень рад за тебя, я горжусь тобой», — говорит он от души. Глаза сияют, на лице облегчение (крупными буквами). Что же ты думаешь, что теперь, раз я доктор наук, ты меня сможешь бросить? Нет, мой хороший. Мне даже жаль тебя, но ничего не поделаешь. Этот крест — твой, до конца. А кроме того, исчезни я даже сейчас, что изменится? Тебе уже пятьдесят с гаком, по-новому не заживешь. Освободится какое-то время, так оседлают мгновенно еще две охотницы. А я все-таки зло привычное, старое. Плохо, конечно, для нас обоих, что после докторской у меня передышка и защищаться от нашей собачьей жизни опять непросто. Но что-нибудь можно придумать. Вот, например, старик уходит на пенсию, и, хорошо поработав локтями, я смогу получить его кафедру. Никогда к этому не стремилась, но что тут поделаешь? Не бойся, любимый, ради тебя и себя я добьюсь еще многого.
Урок геометрии
Пространство, в которое по своей воле и в то же время нечаянно попал М, было кругом. Он назывался семейный круг, круг семейных обязанностей. Круг был небольшим: от ссоры до примирения и снова от примирения до ссоры. Обязанности стояли плотно, сквозь них с трудом можно было протиснуться. Протиснувшись, постоять, отдохнуть. Сравнительно скоро М научился быстро лавировать и начал бороться за то, чтобы время от времени его хоть на час выпускали из круга. Но жена М считала, что это излишне. М попытался уговорить ее изменить свое мнение. Попытки не удались, и в результате жизнь обрела неприятные для обоих новые формы. Круг начал кривиться: от примирения к ссоре, потом к новой ссоре, и почти сразу же вбок: к неожиданной перебранке и абсолютно бессмысленному скандалу. Все это было похоже черт знает на что. Обязанности скособочились, проходы оказались забитыми, и М с женой спотыкались почти на каждом шагу. В какой-то момент стало ясно: без соломонова решения не обойтись. И жена первая придумала, что делать. Шагнув в центр круга, она вбила там колышек, привязала к нему веревку, а другой конец этой веревки искусно и даже совсем не больно закрепила на шее М. «Пожалуйста, теперь можешь гулять», — сказала жена раздраженно, а сама прилегла, так как очень устала. Испуганный М сделал шаг, два, десять и вдруг, вдохнув свежий бодрящий воздух, понял, что вышел после огромного перерыва на волю и идет по окружности, внешней по отношению к кругу семейных обязанностей. В виде простейшего чертежа эту прогулку можно изобразить примерно так:
Прекрасно, подумал М, жизнь устроилась. Я дышу полной грудью, я на свободе, и в то же время я не болтаюсь по воле волн. Я на приколе. У меня гавань. Капитан, порт приписки. От этих приятных мыслей М приосанился, развернул плечи и с большим удовольствием начал знакомиться с разными симпатичными точками, разбросанными по окружности, на которую волей случая, а также отчасти и волей жены, выбравшей (пусть и без размышлений) длину поводка, он был выпущен. Точки, с которыми М стал приятельствовать, были милы и, что самое главное, просто ни капельки не походили на его жену. При виде М они улыбались и сразу же начинали рассказывать что-нибудь интересное, о чем-нибудь трогательно просили и утверждали при этом, что лучше М с исполнением просьбы не справился бы никто. М с удовольствием исполнял поручения и радостно старался угодить каждой, но все же чуточку уставал и со временем начал сам для себя незаметно проскальзывать мимо точек Б, Ц и Ю и как-то все чаще оказываться возле точки А. Эта довольно странная точка никогда ни о чем не просила, из чего, увы, следовало, что ей не хватает практичности и разумного отношения к жизни, но зато неизменно светилась ему навстречу. И хотя М ценил в первую очередь конструктивное и осмысленное, это ничем не оправданное сияние было ему приятно. И вскоре он стал проводить с точкой А практически все отпущенное ему для прогулок время. А когда в должный час жена дергала за поводок, возвращался в семейный круг, пятясь задом и посылая точке А воздушные поцелуи.
Жена М не знала о том, что, выпущенный на прогулку, муж устремлялся теперь всегда к точке А. Для жены все оставалось как прежде, и это неудивительно: ведь расстояние от любой точки окружности до колышка-центра всегда равно радиусу — ничему больше. Так что хоть схема передвижений М и выглядела теперь вот так:
для нее это было совершенно неощутимо, о чем регулярно напоминал себе М, когда в голове его появлялись какие-то смутные опасения. «Не все ли равно, из какой точки я возвращаюсь, — говорил он себе в таких случаях. — Главное, что я удаляюсь всего лишь на расстояние, определенное семейными правилами. И ни на сантиметр больше, позвольте заметить». М был доволен, и М был спокоен, и поэтому, когда круг превратился вдруг в треугольник, и М, и жена одинаково удивились. Разница была только в том, что удивленный М был растерян, а удивленная жена взбешена и разгневана.
Треугольник оказался остроугольным. И наиболее острый угол достался, конечно же, точке А, теперь превратившейся в Л, что значит любовница. Угол, который получил М, был тоже не самый комфортабельный. Да и жена, имевшая максимум простора и возможностей, попала в положение, далекое от завидного. Ведь любой простор в треугольнике — простор рвать и метать (или, что, безусловно, не легче, — страдать).
Я думаю, что читателю, и вовсе не обязательно только тому, кто сам оказывался в подобном положении, ясно, что сторона МЛ — как это ни парадоксально — сделалась основанием жизни всего треугольника (тем, что топчут). Жена (вершина Ж) управляла фигурой сверху, а сторона ЖМ была сильно, раза в четыре (или даже четыре с половиной), короче, чем нижняя, то есть МЛ. Все это само собой разумеется, но для удобства тех, кому трудно следить за нашим рассказом, дадим все же рисованный треугольник. Итак, вот он:
Но почему? — спросит кто-нибудь. Почему треугольник выглядит именно так? Почему мы не можем изобразить его, например, следующим образом?
Объясняю. Ваш чертеж неудачен, так как противоречит по крайней мере двум очевидностям. Во-первых, жена, занимающая командный пункт, а в нашем случае речь идет исключительно о такой жене, и факт существования колышка и поводка доказывает это со стопроцентной очевидностью, никак не может уступить верхнюю, а следовательно, доминирующую позицию любовнице, и, во-вторых, сторона МЛ никак не может быть чуть ли не равной МЖ Ведь, кроме всего прочего, это диктуется и бытовыми условиями. Если хотите, попробуйте порисовать разные треугольники, и вы увидите, что данный нами чертеж — единственный, изображающий ситуацию правильно.
Итак, имеется треугольник МЖЛ. Жена почти полностью контролирует происходящее. Пожалуй, она могла бы даже и превратить треугольник в другую фигуру. Как женщина умная, она об этом, конечно, подумала, но не увидела перспективных вариантов. Нетрудно было предугадать, что в существующей ситуации трудоемкая и кропотливая работа по восстановлению утраченного уклада (круг, окольцованный внешней окружностью) не даст желаемых результатов, так как по общим законам превращения геометрических фигур какая-нибудь из точек внешней окружности снова, практически неизбежно, приобретет доминирующее положение и приведет тем самым к воссозданию треугольника. И хотя боль от указанной трансформации в точке Ж будет, скорее всего, слабее, чем в первый раз, а угол Л’ в новом треугольнике окажется, вероятно, меньше, чем был угол Л, все-таки радости это не даст и раздражения и неприятностей не убавит, так как импульсы притяжения между М и новой точкой Л', будут сильнее, чем стали бы к тому времени импульсы между точками М и Л. Кроме того, поскольку создание нового треугольника будет на этот раз не только следствием отсутствия в природе идеальных геометрических фигур, но и прямым результатом ее, жены, прямо скажем, выматывающих усилий, то раздражение в точке Ж приближенной к точке М по сравнению с ситуацией первого треугольника благодаря увеличению отрезка МЛ' (неизбежного при уменьшении угла Л), достигнет степени, близкой к кипению. Графически это будет выглядеть так:
Конечно, перед женой открывался еще один путь: путь вперед. Опустив перпендикулярно свою запрещающую, пресекающую, останавливающую руку и оказавшись тем самым собственно на отрезке МЛ, она естественно и с наименьшей болью для всех участников в кратчайший срок уничтожила бы конструкцию, кажущуюся иногда постороннему взгляду пикантной и привлекательной, но на самом-то деле не дающую удовлетворения ни одной из вовлеченных в нее сторон.
Однако при таком способе действий жена вынуждена была бы добровольно (!) отречься от столь естественного для нее привилегированного положения и превратиться, как показывает чертеж,
в некую точку Ж', обладающую иными, по сравнению с точкой Ж, возможностями и находящуюся — страшно сказать — на равной ноге с мужем, да к тому же еще и в непривычной к нему близости. Допустить это было бы для жены немыслимо, и оставалось одно — терпеть, уповая на то, что и законы точных наук, и законы социологии-психологии, в общем-то, на ее стороне.
Не смысля решительно ничего в геометрии, а также и в физике, хотя, как будет показано ниже, физика тоже играла здесь важную роль, любовница (точка Л) ошибочно полагала, что, находясь на одном уровне (на уровне любви, как ей казалось) с точкой М, она должна думать только о том, чтобы связующие их токи все время были в движении, и непрерывно посылала в точку М страстные импульсы. Любому стороннему взгляду ясно, что такая модель поведения была пагубна для точки Л. Благодаря проявляемой ею активности, М непрерывно находился под высоким напряжением, и это периодически приводило к возникновению в его углу вибрации раздражения, которую М неизбежно пересылал обеим сторонам треугольника, доводя как до точки Л, так и до точки Ж. И если Л огорчалась и тут же слала в ответ сильнейшие токи любви и утешения (что снова поднимало напряжение), то Ж, находившаяся, как мы помним, на более близком к М расстоянии, незамедлительно отвечала на получаемые заряды ударами такой силы, что в голове у М все начинало мутиться и свет делался явно не мил. Оглушенный, избитый, он пытался, конечно, получить ласку и защиту у любовницы. Но что она могла сделать? Ведь исходившие от нее импульсы только усугубляли и так тяжелую ситуацию. А в результате М становилось и в самом деле невмоготу. Задерганный и несчастный, он остро нуждался в точке О, которая стала бы отвлечением и отдушиной. Интуиция подсказала М, что, дабы успешно нейтрализовать удары, неукоснительно наносившиеся женой, точка О должна быть никак не на большем от него расстоянии, чем точка Ж, но в то же время не должна быть и на меньшем. Ведь в этом случае, тьфу-тьфу не сглазить, может разрушиться вся привычная жизнь, а М стойко держался за свой порт приписки.
Читатель может, конечно, спросить, почему точка Л с ходу и неизбежно была поставлена на расстояние, в несколько раз большее, чем МЖ, а для точки О намечалось (несмотря на поминавшийся выше диктат быта) место, расположенное, можно сказать, в семейной близости от М. Ответ, в общем, прост. Испытываемое в связи с Л чувство вины приводило М к подозрению, что она слишком явно видна, и вызывало желание защититься единственным доступным способом, а именно: надлежащим расстоянием. В случае с точкой О, выбираемой из соображений самозащиты, М чувствовал себя человеком разумным (а следовательно, нравственным) и не испытывал необходимости в чрезмерных предосторожностях. Действуя рассудительно, он учел и еще одно важное обстоятельство: точка О может быть где угодно, но только не на одном отрезке с женой. Неизбежное соединение О с Ж — ведь обе они элементы одной фигуры — должно быть ломаной линией, и тогда эти точки будут не только вне поля зрения, но и вне поля сознания друг друга. Поняв все это, М в кратчайшие сроки отыскал точку О и почти сразу вздохнул облегченно, ведь треугольник превратился в четырехугольник (вот он),
то есть в гораздо более удобный вариант существования. Точка Л была теперь едва видна на горизонте, жена успокоилась, так как общение с точкой О было для нее совершенно неощутимо, М вздохнул с облегчением и опять приосанился. У него было теперь недурное положение в четырехугольнике, и впервые за долгое время он был почти независим. Прекрасно! Жизнь наконец-то стала и наполненной, и спокойной. От удовольствия М постоянно напевал себе что-нибудь под нос, целовал руку жене, с удовольствием ходил в гости к О и даже редко сердился на Л, которая по инерции вызывала кое-какие проблемы, но все же любила его. Так бы и жить, но, разнежившись в замечательно выстроенной геометрической фигуре, М допустил ошибку. Имея с одной стороны жену, а с другой — точку О, он сделал слабое, можно сказать, никаких усилий от него не потребовавшее движение, и точка Л растворилась в каком-то своем пространстве, а сам М стал центром круга. Смотрите!
От этого превращения М пришел в ужас. Конечно, лестно, однако уж очень ответственно. Он никогда не стремился к центральной позиции. Он был очень скромным пассажирско-грузовым судном и хотел подчиняться своему капитану. Не в силах справиться с паникой, М стал кидаться в разные стороны, но тут жена резко дернула за поводок, и все сразу встало на место.
«Интересно, с какими новыми точками я познакомлюсь, когда пойду завтра гулять по окружности», — мечтательно думал М, переворачиваясь с боку на бок и засыпая.
Происшествие в ясный день
Догадаться, что перед нами прекрасная гордая статуя, было немыслимо. Лежала она на обочине и, хотя походила на странной формы бурую глыбу, что-то притягивало к ней. Вдоль бурого панциря шел ряд «окошек». Ткнув пальцем в одно из них, я ощутила прикосновение холодного гладкого камня и еще легкое покалывание. Слегка удивившись, я принялась счищать мерзкую бурую корку. Мой спутник стоял рядом со мной и продолжал говорить.
Вскоре стало понятно: под слоем грязи скрывается что-то совершенно необыкновенное. Очищенные куски мрамора сразу же начинали лучиться. Излучение было теплым, казалось, что статуя оживает. Боясь дохнуть, я кусок за куском расчищала поверхность. Работа шла медленно, но я этого не замечала. Какое-то ликование наполняло меня, движения делались постепенно спокойнее и увереннее. Еще немного, еще чуть-чуть, и неизвестно откуда явившаяся великолепная статуя оживет во всем блеске. Подняв глаза, я посмотрела наверх. Мой спутник по-прежнему говорил, но в голосе чувствовалось раздражение: он не любил выбиваться из графика, а наша теперешняя остановка оказалась непредвиденно долгой. «Но разве не правильно отложить все дела ради такой красоты?» — спросила я тихо. Говорить громче я не могла — комок стоял в горле. Мой спутник кивнул. И почему-то мне показалось, что он взволнован так же, как я. Как выяснилось потом, он кивнул своим мыслям, вопроса он не расслышал, а статуи вовсе не разглядел. Он видел, что я занялась чем-то возле дороги, но был уверен, что мое занятие никак его не касается. Он говорил. И слушал себя.
Последние комки грязи наконец были счищены, и мы сразу же двинулись дальше. Статую я несла на руках. Она оказалась еще тяжелее, чем я ожидала. Было понятно, что с таким грузом я долго идти не смогу. Но я ведь была не одна. «А вдвоем мы, конечно же, справимся», — думала я, стараясь себя успокоить.
Мы шли по дороге, плавно одолевавшей подъем. Идти с каждой минутой делалось все труднее. Вначале мне помогало, что тяжесть, которую я несу, — уникальна. Потом все мысли ушли — их съела усталость. Сквозь плотный туман усталости иногда пробивалось недоумение: мой спутник по-прежнему безостановочно говорил, и я понять не могла, почему он не видит, что мне нужна помощь, почему не возьмет у меня, хоть на время, нашу прекрасную ношу. Потом я поняла, что самый тяжелый участок еще впереди, он бережет свои силы, чтобы не сплоховать, когда дорога пойдет круто вверх. Сейчас — моя часть пути, и нужно не отвлекаться на размышления, а, стиснув зубы, сосредоточиться на одном — нести. Пот лил со лба солеными струями, ноги, которые я с усилием переставляла, были уже не мои, дыхания не хватало, но все-таки я как-то шла, шаг за шагом. Сознание, что в критический момент свежая пара рук перехватит статую, придавало мне силы. Потеряв чувство пространства и времени, став сплошным сгустком упрямства и воли, как-то двигалась вперед. Но потом руки стали дрожать, и я поняла, что мускулы отказали; миг — и я уроню прекрасную статую. «Послушай, — сказала я, хоть пришлось перебить его речь, а этого не случалось еще никогда, — послушай, мне больше не выдержать, понеси теперь ты, хоть немного». «Что понести?» — спросил он. «Нашу статую».
Мой спутник посмотрел на меня с таким удивлением, что волей неволей пришлось поверить невероятному: он до сих пор не заметил, что я несу что-то в руках. Раза два, сказал он, ему померещился белый предмет, но он подумал, что это подводят глаза. (У него было неважно со зрением.) Теперь он совсем растерялся от неожиданности. Взяв статую из моих рук, он осторожно поставил ее на дорогу. Придерживая — площадка у основания была слишком мала, и на неровной дороге статуя не стояла, — он медленно обошел ее. «Невероятно, — проговорил он, — немыслимо. Ей же цены нет! Как она здесь оказалась? И потом, что это? Ее мог бы изваять Фидий, но, как ни странно это звучит, и Генри Мур тоже. Наверное, перед нами одна из прекраснейших в мире статуй. Слов нет! Нерукотворная красота!» Я слушала и гордилась, как будто я — скульптор, создавший из камня это живое, певучее тело. «Ты посмотри, — продолжал он, — какие линии! Вверх, вверх к архангельским трубам!» Он снова прошелся, делая круг почета, потом постоял, глядя на статую с восхищением, вздохнул, улыбнулся с грустинкой и посмотрел на меня: «Нам все же пора. Как ни печально, идем». Он очень бережно положил статую на край дороги, вздохнул еще раз и повернулся, чтобы идти. «Но разве можем мы ее бросить?» — сказала я, отказываясь верить ушам и глазам. Он снова вздохнул: «Что делать? Другого выхода нет». — «Но так нельзя!» Он внимательно посмотрел на излучавшую розовато-жемчужный свет статую и на меня, стоявшую рядом с ней на коленях, присел на камень и приготовился все объяснить. «Прежде всего, — сказал он, — мы практически не представляем, каков наш маршрут. Подозреваю, — хотя не могу доказать, — что место, в которое мы наконец попадем, не будет удачным приютом для драгоценной скульптуры. Так что нести ее нам и трудно, и некуда. Это пункт первый. Есть еще и второй. Нам следует помнить, что мы не одни на дороге. Здесь может вдруг оказаться кто-нибудь с транспортом, кто-нибудь, посланный специально на поиски этой статуи. Наш долг — оставить ее для тех, кто сможет правильно ею распорядиться». Он встал, считая, что все теперь стало понятно. Но для меня это был набор слов. Я знала, что ждет незнакомку из мрамора, если я здесь ее оставлю. Мысль, что она превратится опять в грязно-бурый комок, была нестерпима. Я прошла с ней такой долгий путь. Мы были теперь почти что одним организмом. Я не смогла бы расстаться с ней, даже если бы захотела. Выпрямившись, я взяла статую на руки. «Предупреждаю, что ты ее не дотащишь, — сказал мой спутник, — выронишь и разобьешь, вот чем все кончится». «Но разве, когда мне будет совсем уже трудно, ты не поможешь?» — спросила я. «Нет, — сказал он. — Не помогу. Вся эта затея, вообще говоря, незаконна». Я не ответила. Собрала силы в кулак — и первая двинулась в путь…
И снова дорога шла вверх. Мой спутник говорил что-то, но я не слушала. Статуя, которую я прижимала к себе, легко, едва слышно дышала. Я чувствовала отчетливо: вдох — выдох. И это дыхание успокаивало меня. «Теперь, когда она стала живой, немыслимо дать ей разбиться или оставить валяться в пыли на обочине, — думала я. — Пусть говорит все что хочет, я знаю, он не позволит погибнуть живому». За эту мысль я цеплялась как за соломинку. Идти становилось труднее, труднее… «Ну вот, — услышала я неожиданно. — Вот мы и пришли».
Мы стояли на круглой и лысой вершине холма. Я осторожно поставила статую и крепко держала ее. Я понимала, что она может в любую секунду скатиться. «Как видишь, я был, к сожалению, прав, — сказал мой спутник с почти не скрываемым удовольствием, но тут же сочувственно посмотрел на меня и на статую. — Здесь даже приткнуть ее некуда, а если бы ты не упрямилась, она лежала бы себе тихо, внизу». — «Как можно так говорить? Она ведь живая!» «Метафоры не помогут решить проблему, которую ты создала», — ответил он жестко. Мой тон раздражал его, но я все-таки не сдавалась. «Ты сам посмотри!» Он посмотрел вдаль, потом кинул взгляд вниз, к подножию холма. «Не представляю, как здесь устроиться, — сказал он, — а впрочем, человек тем и жив, что способен приспосабливаться». Он говорил о естественной эволюции и о задачах, стоящих сейчас перед обществом. А я пыталась сообразить, как быть со скульптурой. Если врыть в землю подставку, статуя может стоять. У меня нет лопаты, но это не страшно, грунт мягкий, я смогу вырыть ямку руками. «Пожалуйста, подержи ее ровно минуту», — сказала я и принялась за работу. Он говорил. До меня доносились слова «закономерность», «развитие», «исключение». Я не вникала в их смысл, я быстро, двумя руками копала. Наконец мне показалось, что глубина ямки достаточна. Я выпрямилась — и замерла. Мой спутник плавно жестикулировал в такт своей речи, и его руки были совершенно свободны. «Где статуя?» — мертво спросила я, хотя, конечно, понимала, что все разговоры уже бесполезны. «Статуя? — Он посмотрел себе на руки. — Да, видишь, со статуей все, к сожалению, оказалось именно так, как я опасался». «Убийца! — крикнула я. — Ты убийца». Он посмотрел на меня своим строгим учительским взглядом: «Я знаю, что ты импульсивна, — сказал он наконец, — но все-таки, будь добра, выбирай выражения».
Отъезд
Станция была небольшой, но уютной. Сменяя друг друга, перед крыльцом цвели крокусы, розы и хризантемы. Стены, то розоватые, то голубые, всегда были свежеокрашены. Пол блестел. Слово «касса» было затейливо выведено золотой краской. Окошко открывалось в девять ноль-ноль и закрывалось в семнадцать пятнадцать, хотя никто еще никогда не купил здесь билета. С часу до двух на окошке кассы красовалась табличка «обед», которую с точностью до секунды (проверив время) вешала своей нежной наманикюренной ручкой кассирша Наташа. Брови у нее были тонкие, челка на лбу аккуратная, а на груди синего платья пламенел алый бант. Когда Гарику было еще лет десять, он очень часто подходил к кассе, чтобы полюбоваться Наташей. «Это красавица», — говорил он про себя, и его щеки пылали, точь-в-точь как бант у нее на груди. Иногда Гарик даже подумывал, не обратиться ли вдруг к Наташе с вопросом. Спросить, например: «Скажите, пожалуйста, сколько времени?» Но Наташа в своем украшенном бантом отутюженном форменном платье была такой неприступной, что он не решался и тихо садился в углу на резной деревянный диван с подлокотниками, а потом принимался снова и снова читать список пунктов, в которые можно было купить билет. Список был длинным, и многие названия Гарику очень нравились, обещали цветное, веселое, интересное. Другие, наоборот, пугали и вызывали тоску. «Горемыкино», «Горынычево» — снова и снова читал он, и слова будто протягивали к нему костлявые руки, а буква «ы» увеличивалась и гремела хвостом. «И неужели есть люди, которые туда едут?» — спрашивал он Макара Пилатовича, когда они вечером, обойдя все помещения и убедившись, что «полный порядок, закрывать можно», шли к себе ужинать. Путь был недлинный, всего шагов десять, и все же Макар Пилатович успевал хорошенько поразмышлять над вопросом. «А как же, — отвечал он, открывая консервную банку. — Люди, что? Куда хочешь поедут, только бы от себя убежать. Э-хэ-хэ, прости Господи…» — и Макар Пилатович долго, протяжно вздыхал. «Все сумасшедшие, — говорил он потом, но вот мы с тобой, брат, все же устроились. Работа у меня важная, а хлопот — скажу я по секрету — немного. Если все ладно будет, вырастешь и займешь мое место». Гарик слушал Макара Пилатовича, кивал и, счастливый, пил чай из желтой, с петушком, кружки (у Макара Пилатовича была такая же, но только коричневая) и думал о том, что завтра, в девять ноль-ноль, он снова увидит кассиршу Наташу.
Поезд проходил через станцию утром. За полчаса до его прихода Макар Пилатович надевал красную шапку. Торжественный, важный, спокойный, хозяйским шагом проходил по платформе. Поезд подкатывал с грохотом и со свистом, вагоны были пропахшие маслом и копотью, грязные, ржавые. Тормозя, состав не мог сразу остановиться, пружины лязгали и стонали, из окон выглядывали лица пассажиров, усталых и ошалевших от долгой тряской езды. Увидев чистый нарядный вокзальчик, цветы в кадках, клумбы, они радостно устремлялись в тамбуры, и когда поезд, взвизгнув в последний раз, наконец затихал, с нестройным разноголосым шумом гурьбой выплескивались на платформу, но почему-то сразу стихали и, как бы чего-то испугавшись, поспешно возвращались к вагонам. Поезд стоял на станции три минуты. Но даже за это короткое время жадная, грязная, насквозь пропитанная запахами далекого путешествия толпа успевала нарушить чинность и благолепие станции. И каждый день, аккуратно повесив на колышек красную шапку, Макар Пилатович брал в руки метлу, а часто и того больше: тщательно обливал весь перрон из шланга водой, и Гарик с готовностью помогал ему. Люди из поезда очень пугали его. Среди них, правда, встречались молоденькие девушки, но они, как и все остальные, были растрепанными и шальными, и ни одна не могла даже сравниться с кассиршей Наташей. Довольно часто (Гарику было уже лет семнадцать) он замечал в толпе пассажиров парней, чем-то похожих на него самого. Всматриваться в них было ему интересно, часто хотелось узнать, куда они едут, однажды мелькнула мысль: не вспрыгнуть ли на подножку и не проехать ли с ними ну хоть немного, но страх заехать куда-нибудь не туда сразу же остудил порыв. Безумствовать он не хотел. Ему с трудом верилось, что в детстве он смутно мечтал о чем-то похожем на путешествия. Теперь он был взрослым, он окончил школу с дистанционно-компьютерной системой обучения, и хотя все, чему там учили, практически сразу забылось, ощущал себя умудренным и просвещенным, а это, как всем известно, делает человека осторожным. Кроме того, если раньше, мальчишкой, он мог ничего не бояться (тогда ему терять было нечего), то теперь он был утвержденным помощником Макара Пилатовича, официальным претендентом на замещение его должности, и рисковать было бы непростительным легкомыслием. А кроме того, зачем? Ведь все складывается прекрасно. По временам он, как и раньше, заглядывался на кассиршу Наташу. Она по-прежнему ему нравилась, но он высчитал на ЭВМ, что в жены она ему не подходит по возрасту, а другие варианты нежелательны в рамках служебных отношений. «Через год-два пошлешь запрос в центр, — говорил рассудительно Макар Пилатович, — получишь жену в соответствии с требованиями и анкетой, займешь мое место, а я перейду в твои замы. Все будет так, как когда-то я говорил тебе. Верно?» Гарик кивал. Речи Макара Пилатовича давно ему надоели, были известны от «а» до «я», но все-таки доставляли известное удовольствие. Слушая монотонные рассуждения, он размышлял над проектами, которые осуществит, когда и в самом деле вступит в должность. Не далее как на прошлой неделе ему пришло в голову, что на станции могут быть установлены два фонтана: справа и слева от центрального входа. Мысленным взором он уже видел ошеломление пассажиров, глазам которых предстанет вдруг это чудо. Делиться идеей с Макаром Пилатовичем Гарик не собирался. Ни к чему это. Вот придет время, он с благодарностью и подарком отправит Макара Пилатовича отдыхать и тогда развернется…
Приятное время ожидания было омрачено для Гарика двумя невероятными и потому особенно глубоко поразившими его событиями. Во-первых, Наташа, войдя как-то раз в кабинет начальника станции, вдруг заявила дрожащим голосом, что увольняется. «Вот как? — попробовал пошутить в ответ Макар Пилатович. — И куда ж ты, голуба, собралась? в „Рассветное“?» «Что вы, куда уж мне, — горько ответила та и вдруг разревелась. — Какие уж тут рассветы? Вы что, смеетесь? Я в „Заморочки“». Она зарыдала еще сильнее, тушь потекла ручьями, она вытирала ее алым бантом, и вскоре на бант уже страшно было смотреть. А ровно через неделю, когда кассирша Наташа с какими-то чемоданами и авоськами садилась в поезд, ее с трудом можно было уже отличить от женщин в измятых платьях, высыпавших из вагонов, чтобы купить, если получится, чего-нибудь съестного. Макар Пилатович, как обычно, подал сигнал к отправлению и стоял, строго-внушительный и спокойный, а Гарик почувствовал вдруг, как ему стиснуло горло. Наташа всегда была здесь, и вот — Наташа уехала. Ему стало тяжело, душно, и за обедом он выпил рюмку водки, которую именно для таких случаев по строго выверенной норме поставляло служащим образцовых станций начальство из центра. Второй случай был, можно сказать, и вовсе ничтожным. Однажды (Гарик как раз надумал послать запрос о жене), когда Макар Пилатович в красной шапке поднял уже флажок и состав, дернувшись, медленно тронулся, дверь одного из вагонов вдруг распахнулась, и на перрон, размахивая туго набитым портфелем, спрыгнул нелепый человек в двубортном потрепанном пиджаке, мятых брюках и облезлых расхлябанных босоножках. Судя по габаритам и неловким движениям, человек был немолод, да, может, и с молодым, вздумай он прыгать в таких босоножках из поезда, случилось бы то же самое. Как бы там ни было, человек зацепился носком и упал к ногам Гарика, стоявшего метрах в двух от Макара Пилатовича. Гарик, невольно скривившись, отвел глаза, но так как незадачливый пассажир охал и явно не мог сам встать на ноги, вынужден был наконец вежливо предложить ему помощь. Судя по поведению лысого, травма могла быть серьезной. Всю дорогу, пока Макар Пилатович и Гарик вели его осторожно в медпункт, он стонал и охал, ругался и клял судьбу. В медпункте затих и только скрипнул зубами, когда Макар Пилатович ловким движением (начальник станции должен быть на все руки мастер) в считанные секунды вправил ему вывих. Пот градом катился с лица пассажира после этой весьма болезненной процедуры, но через минуту он уже улыбался и, поудобнее устраивая ногу на кровати, бодро поинтересовался: «Ну и как тут у вас идет жизнь? Хороша станция Раззудеевка?» «До Раззудеевки — сутки пути», — сказал Гарик, переглянувшись с Макаром Пилатовичем. «Вот так номер! — испуганно заморгал пассажир. — Как же я оплошал! А это что? Где я?» «В Пустоте Абсолютной», — постарался успокоить его Гарик. Ни он, ни Макар Пилатович даже предположить не могли, что это короткое сообщение словно ошпарит больного. «Пустота Абсолютная? — заволновался он, беспокойно оглядываясь. — Простите, но Пустота Абсолютная — это…» И, совершенно забыв про вывихнутую ногу, пассажир, вскрикнув, кинулся к двери. Снова уложенный в постель, он сделался невыносимым. «Не имеете права задерживать! — кричал он возбужденно. — У меня взят билет до станции Раззудеевка, я хочу быть там завтра, я и так потерял двадцать лет. Я хочу, — эх, раззудись плечо! — я хочу действовать и ошибаться. Вы понимаете?» «Вы уже начали ошибаться, высадившись не там, где надо, — рассудительно сказал Гарик — А теперь успокойтесь. Ничего страшного не случилось. Согласно инструкции, мы должны полностью вас вылечить. Вы проведете у нас сколько положено, а потом мы благополучно посадим вас снова в поезд». «Нет!» — отчаянно крикнул толстяк. Он был невменяем. Не стал есть пайку, хотя по распоряжению центра ему была выделена такая же, как у Гарика и Макара Пилатовича, с отвращением смотрел на сияющий хромом и никелем медпункт и отворачивался от хризантем, которые принес ему Макар Пилатович. «Они у вас не настоящие, — говорил он тоскливо. — Богом прошу вас, дайте уехать. Я хоть на четвереньках до поезда доползу».
Трудно сказать, под воздействием ли растяпы-пассажира или по какой другой причине, но Гарик так и не отправил начальству рапорт с просьбой прислать жену. Макар Пилатович вскоре отбыл, как это и ожидалось, в Дом заслуженного отдыха. На место Наташи приехала новая кассирша. У нее тоже были красные ноготки и тонкие брови, только на лбу вместо челки — валик. Рассказывая ей о распорядке и правилах, Гарик внимательно наблюдал, не начнет ли она чему-нибудь удивляться, но Наташина заместительница Агата кивала так, будто все, что он говорил, она слышала уже десять раз. Форменное платье шло ей не меньше, чем предшественнице, и теперь Гарик снова, как в прежние времена, прохаживался иногда с удовольствием мимо окошечка кассы, чтобы взглянуть на аккуратное личико над алым бантом и еще раз порадоваться тому, как разумно, красиво и правильно у них все устроено.
Задуманные новшества Гарик осуществил. И даже в большем, чем сам предполагал, масштабе. Фонтаны хотя и не били — подвести воду к станции было немыслимо, даже и питьевую привозили в цистернах, — но красиво стояли по обе стороны входа и придавали всему некую новую внушительность. А внушительной станции как-то естественно полагался и соответствующий уровень обслуживания. Опираясь на случай с повредившим ногу пассажиром, Гарик написал заявление с просьбой выделить штатное место фельдшера. Просьбу сочли возможным удовлетворить. И через месяц к Гарику прибыл красивый молодой усач по имени Радмир. Стоя по стойке «смирно», опустив руки по швам и преданно глядя в глаза начальству, он отчеканил, что счастлив был получить назначение на образцовую станцию. «Порядок в медпункте должен быть идеальным, — сказал ему Гарик. — Три раза в неделю я буду лично проводить проверку». Молодой человек щелкнул в ответ по-военному каблуками, и, чуть поморщившись, Гарик подумал, что эти юноши, пожалуй, пересаливают в своем службистском рвении. Но эта мысль омрачила его прекрасное настроение лишь на секунду.
Все в мире взаимосвязано, размышлял Гарик за чаем; у него теперь был красивый зеленый сервиз, времена кружек прошли: ведь он был начальником образцовой, модернизированной (как отмечалось во всех документах) станции. Все в мире взаимосвязано, и этот чудак с его вывихом послужил появлению у меня подчиненного, а появление одного подчиненного, скорей всего, вызовет и дальнейшее увеличение штата. Уже сейчас, вероятно, пора подумать о небольшой команде уборщиков. Патриархальные нравы времен Макара Пилатовича, увы, ушли в прошлое. Все связано. Все объяснимо. Толстяк в расхлябанных босоножках вывалился из поезда, чтобы способствовать росту станции. Кто может с этим не согласиться? Но почему-то чем дальше шло время, тем чаще мысли о толстяке принимали совсем другой оборот. Каким счастливым было его лицо, когда он наконец-то садился в поезд. Сколько же ему было? Лет сорок пять? А он стремился на станцию Раззудеевку, хотя совсем рядом с ней, чуть не впритык, была огромная (как сообщало секретное донесение) станция Крах Капитальный. Как мог он, отечный и толстый, решиться туда поехать?
Годы неспешно сменяли один другой; фельдшер Радмир обрел солидность и обзавелся глубоким, кожей обитым креслом.
Команда уборщиков рьяно трудилась на станции. В здании и на платформе было теперь не так чисто, как прежде, но при желании и в этом можно было заметить дух положительных перемен. Встречая и провожая поезд, Гарик с небольшим удивлением отмечал, что молодые девушки уже не притягивают его взгляд так, как прежде. Горланящих песни юнцов он теперь вовсе не замечал, но зато люди средних лет, неловко соскакивающие с подножки, с любопытством оглядывающие великолепие станции, но почти сразу же, словно почувствовав укол, кидающиеся назад — к своим обшарпанным, грязным вагонам, занимали его все больше. Когда поезд, конвульсивно подергиваясь, наконец трогался, все они (да, почти все!) смотрели на уплывающее назад станционное здание с видимым облегчением. «Вырвались, выскочили», — читалось на лицах, а ведь естественней было бы видеть на них сожаление: «Упустили…» Куда они едут и что им надо? — этот вопрос лишал Гарика сна, но он понимал уже, что не может задать его ни начальству, ни подчиненным. Оставалось терпеть, утешая себя мыслями о росте численного состава обслуживающих станцию, об идеальной симметричности фонтанов. Деваться было некуда, и он приготовился терпеть долго, но нервы сдавали, и как-то раз, уличив Агату в том, что она закрыла кассу на сорок пять секунд раньше положенного срока, Гарик учинил ей такой разнос, что от крика дрожали стены. Желая застраховаться от повторения подобных эксцессов, он решил затребовать введения в штатное расписание специальной должности надзирателя, но выполнить задуманное не успел.
Однажды, когда он стоял в красной шапке, привычно глядя на разношерстно неопрятную толпу, горохом высыпавшую из поезда и почти сразу же кинувшуюся обратно, ему показалось, что один из пассажиров — Макар Пилатович. Выбравшись из вагона (последним), этот старик принялся что-то искать среди клумб. Секунда в секунду по расписанию Гарик поднял жезл. Состав дернулся. «Эй, дед, опоздаешь», — крикнул кто-то. Старик встрепенулся и с отчаянным криком ужаса, размахивая руками, побежал к поезду. Видно было, что, если б ему предложили умереть на бегу или остаться здесь, на образцовой станции, он предпочел бы первое. С колотящимся сердцем вернувшись в здание, Гарик прошел в уборную и принялся с каким-то тихим бешенством медленно-тщательно мыть руки. Постепенно холодная вода и размеренные движения сделали свое дело. Он успокоился и, желая получить этому подтверждение, кинул оценивающе-придирчивый взгляд в висевшее тут же большое овальное зеркало. Да, это его лицо. Волосы поредели, хотя стоят по-прежнему ежиком. Щеки запали, а нос изменился — кажется, вырос. Глянув внимательнее, Гарик вдруг понял, что превратился в копию Макара Пилатовича.
На другой день Гарик попросил у Агаты билет до станции Первоухабистое, и она, на секунду придя в замешательство и посмотрев на него удивленным взглядом, тут же опомнилась и, пробежавшись холеными белыми ручками по кнопкам кассового аппарата, выдала нежно-сиреневый бланк. Взяв жезл и надев красную шапку, он вышел — секунда в секунду — к поезду. Все было как всегда. За исключением одного: рядом с Гариком на платформе стоял небольшой саквояж. Защитного цвета саквояж был заметен на гладком асфальте перрона, и, скорей всего, именно из-за него все — то есть фельдшер Радмир, недавно попросивший называть его Радмиром Ивановичем, его помощница Тамара, высокая, крепко сбитая женщина, и полный состав бригады уборщиков — оказались не где-нибудь, а здесь же, на платформе, рядом с начальником, и, когда Гарик, взяв саквояж, шагнул к подножке, тоже одновременно шагнули вперед. «Прощайте, — сказал им всем Гарик, — счастливо вам оставаться». На самом деле ему хотелось бы попрощаться только с Агатой, которая все-таки очень похожа была на Наташу, но Агата блюла законы станции — она была за окошечком кассы. «Прощайте», — повторил Гарик, на этот раз обращаясь к фонтанам, кадкам с цветами и голубым стенам вокзала. Он сел в вагон, состав должен был вот-вот тронуться. Время. Секунды, минута… «Шеф, поезд никуда не пойдет, ведь вы не дали сигнал отправления», — сказал укоризненно фельдшер. «Конечно, простите, совсем забыл», — Гарик смущенно протянул красную шапку и жезл Радмиру Ивановичу. Но тот проворно отступил от состава, и в ногу с ним шагнули уборщики и Тамара. «Поезд никуда не пойдет, пока вы не дадите сигнал отправления», — величественно и сурово произнес фельдшер, и тогда Гарик все понял. Медленно, словно бы сразу состарившись, он спустился с подножки, поставил свой саквояж, отошел от него и, надев красную шапку, поднял флажок. Постанывая, скрежеща железом, опасно раскачиваясь из стороны в сторону, состав неуверенно тронулся в путь. «Завтра я подам рапорт об отставке», — пытаясь подбодрить себя, сказал Гарик. «Зачем торопиться? Вакансия в Доме заслуженного отдыха освободится только через полгода», — круглые глаза фельдшера были трезвы и спокойны. Он никогда не испытывал к Гарику теплых чувств, однако вражды не испытывал тоже. С чего бы? Но Гарику это было уже не понять. Он вдруг увидел перед собой врага. Того, который жестоко смял, раздавил, растоптал, уничтожил… Яркая молния блеснула перед глазами — и, сделав прыжок, Гарик схватил обеими руками толстую шею фельдшера и принялся его душить. Душить! Душить!!!
Однако уборщики проявили дисциплинированность и ловкость. Без криков и без побоев они оттащили что-то невнятно мычащего Гарика от Радмира Ивановича и быстро препроводили его в зал ожидания, превратившийся теперь на время в зал ожидания участи покусившегося на закон и порядок бывшего начальника образцово-показательной станции.

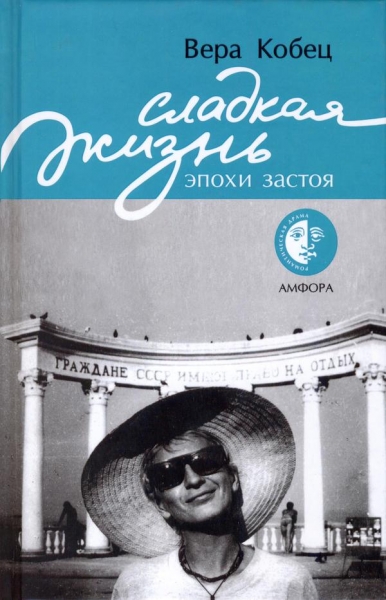



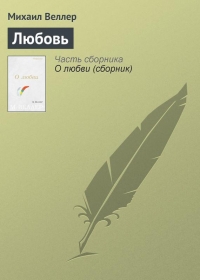






Комментарии к книге «Сладкая жизнь эпохи застоя: книга рассказов», Вера Николаевна Кобец
Всего 0 комментариев