Габриэль Руа
Контрасты Монреаля
Книге, перешагнувшей границу своей страны, нелегко. Новый читатель ждет от нее и живого рассказа о том, что интересного «там», и мудрого совета в делах, заботящих его «здесь». Если же книга родилась четверть века назад, отвечать пытливому читателю ей еще труднее. Такая судьба выпала роману Габриэль Руа (псевдоним Марсель Карбот, род. 1919), переведенному на русский язык. В 1945 году книга появилась на прилавках книжных магазинов Монреаля и Оттавы, сразу приковав к себе всеобщее внимание. Два года спустя — английский перевод был удостоен Правительственной премии, а парижское издание — премии Фемина. Ни одна из последующих книг Габриэль Руа не знала такого шумного успеха, как эта. А она была первой. Первой пробой литературного голоса.
Габриэль едва исполнилось девятнадцать, когда с дипломом учителя она вернулась в родные края — центральную провинцию Канады Манитобу. Тяготы преподавания будущая писательница переносила легко, учеников своих — шустрых маленьких канадцев, поляков, бельгийцев, голландцев, украинцев, волею судеб перемешанных в этом тихом степном краю, — любила вдохновенно, как бывает лишь в юности, а краткий досуг посвящала сцене: местная труппа «Кружок Мольера», доброжелательно принявшая Габриэль, выезжала даже в Оттаву. В 1939 году мечта о театральных подмостках увлекла молодую женщину сначала в Лондон, а потом в Париж, где ей давали уроки драматического искусства Людмила и Жорж Питоевы. То ли слабость голосовых связок, натруженных за время учительства, то ли впечатления от путешествия по Старому Свету, которыми захотелось поделиться, но что-то отвлекло Габриэль Руа от театра.
Путевые очерки стали первым напечатанным ею текстом. Вслед за ними — репортажи, в которых сразу заметили склонность автора к социальным темам. Молодая журналистка рассказывала о переменах в фермерском хозяйстве и народных умельцах, мастерах обжига керамики, о забастовках на алюминиевом заводе и гибели канадских лесов, о новых театральных постановках и рабстве эмансипированной женщины. Размышления над проблемами современного города и деревни ломали жесткие рамки «информационных сообщений». Габриэль Руа неотступно преследовало человеческое горе — разбитые семьи, изуродованные характеры, люди, потерявшие себя. Так сложился роман «Счастье по случаю», — вспоминала Руа, — «свидетельство об эпохе, о моем крае и обо мне самой».
Читателю 70-х годов XX века роман может показаться и несколько простодушным, и по-репортерски прямолинейным. Готовность канадской критики сравнивать юную Флорентину с Анной Карениной и Эммой Бовари едва ли встретит у серьезного читателя поддержку. Но не стоит судить соотечественников Габриэль Руа за этот пыл слишком строго: для канадской франкоязычной литературы «Счастье по случаю» — новизна открытия.
Прочным, покоящимся на труде и чести видело патриархальный быт старшее поколение канадских писателей — Д. Потвен, Г. Бернар, Феликс-Антуан Савар. Размытым, шатким, изъязвленным проказой цивилизации предстал он следующему поколению — Паннетону, Жермене Гевремон, Роже Лемелену. Но разрушить регноналистскую идеализацию было трудно. Даже сквозь беспощадную критику просвечивало воспоминание о добрых старых временах, ушедших безвозвратно.
Габриэль Руа не пожелала оглядываться в прошлое, она заговорила о противоречиях настоящего и их проекции в будущее, затронув «драму целого класса»[1].
На родине Габриэль Руа почти единодушно признали первооткрывателем: ведь она первой дала художественный анализ жизни индустриального города, первой повела своих героев навстречу международным коллизиям антифашистской борьбы.
Для Квебека, французской провинции Канады, славившейся охранительно-реакционными симпатиями, такая дерзость была равносильна взрыву бомбы. Вплоть до наших дней Квебек раздираем противоречиями. Жители ощущают себя на положении полуколониальном, до такой степени унижен язык, на котором создается культура Квебека, и глубоки противоречия между англо- и франко-канадцами — canadians и canadiens. А влиятельные клерикалы подогревают оскорбленные национальные чувства, толкая «паству» к охранительному смирению. Канадцу предлагают два решения — либо прощаться с традициями, соглашаясь на американизацию; либо замкнуть ворота Квебека, жить по старинке, подальше от искусов цивилизации, под надежной охраной церкви, а еще лучше… фашистских организаций, которых в 60-е годы возникло в Канаде немало. Габриэль Руа заговорила о контрастах Монреаля, затронув противоречия, развитие которых не ограничивается Квебеком, не обрывается 1945 годом. Она распахнула ворота Квебека не для рабского подражания, а для нападения на все чуждое человеку. После «Счастья по случаю», — напишут позднее соотечественники Руа, — «наши романисты стали смелее критиковать общество, государственные институты, духовенство, стараясь стряхнуть их гнет». Это здесь, в «Счастье», герои впервые — пусть с неуверенностью школьников — начинают спрягать сразу «я есмь» и «я есмь канадец». Познать тревоги большого мира, принять ответственность за его судьбы — возможность такого нравственного решения Габриэль Руа только намечена. Но для Квебека, и это звучало как вызов.
Канадская литература вообще конфликтов, причинно восходящих к войне, касалась неохотно. В горниле справедливого антифашистского сражения духовно возрождались сложные людские конгломераты, целые нации. Политическое прозрение личности, народа на войне запечатлено в прозе, поэзии, драматургии разных стран мира: Франции и Италии, США и Дании, Греции и Голландии. Литература Канады этих процессов почти не коснулась.
Книга Руа — одна из немногих, где судьбы Канады поверяются судьбами мира. Для канадского рабочего класса, измотанного безработицей, война обернулась неожиданной гранью: армия — надежная защита от голода. Конфликт — типично канадский, не проявивший себя с подобной остротой ни в Европе, ни в США. В романе же Габриэль Руа такова по существу нравственная дилемма, вставшая перед всем мужским населением.
И решения ее идентичны: один за другим бросаются герои на «спасительный» плот воинской мобилизации, почти благословляя войну, разразившуюся за океаном.
Отец многодетного семейства Азарьюс Лакасс, надев военную форму, впервые почувствовал себя мужчиной, — нет! — не потому, что захотелось повоевать, и совсем не потому, что он понял необходимость борьбы против фашистской Германии… Просто… «наконец-то все устроилось… Ты будешь жить так, как тебе всегда хотелось… Это я все же смогу для тебя сделать, Роза-Анна… хоть, правда, с опозданием… Наконец-то я дам тебе несколько лет спокойствия… Послушай… С июля ты начнешь получать от правительства кругленькую сумму… Каждый месяц…». Дочь Лакасса Флорентина даже недоумевает: странно, мать огорчена, «а ведь, у нее никогда еще не было столько денег».
При виде повесток загораются счастьем глаза парней, сумрачно тянувших пиво в бистро. Смешливый малыш Питу, извлекавший «из своей гитары все более и более печальные мелодии», бывало, кричал по-ребячьи капризно, отчаянно: «Неужели во всем городе нет никакой работенки? Даже самой паршивой работенки?» Как же не обрадоваться ему, как не защелкать лихо каблуками, когда в руках оказалась винтовка — «первый рабочий инструмент», а дни полетели беззаботнее, чем у птицы. Ровесник Питу Альфонс сломлен окончательно — армия отказалась от его тщедушной плоти: «Вы что, никогда не ходили к зубному врачу?..» Другой обругал меня, за то, что я не купил себе очки вместо леденцов, когда мне было десять лет. Но забавнее всех оказался третий из банды, кричавший мне в лицо гадости за то, что в малолетстве меня кормили «луковой похлебкой, а не хорошим пастеризованным молоком». Сгорбленный, уходящий к своей беспросветной нищете Альфонс кажется автору «более мертвым, чем мертвецы… на будущих полях сражений».
Войну надеется обратить себе на пользу Жан Левек, война же «нечаянно» выручает Флорентину. Только Роза-Анна материнским сердцем да жених Флорентины Эманюэль Летурно предчувствуют за малой радостью большое горе. Но бедной женщине размышлять некогда, а новобранец Эманюэль бьется над этой нелегкой проблемой в одиночку, то и дело теряя логическую последовательность мысли, заходя в тупики. Он отправляется на фронт не за «средней длины» рублем, а чтобы «вылечился мир», чтобы «уничтожить войну». Для него это испытание обещает стать нравственным возрождением. Он всего только «молодой человек, который вел до того приятную, легкую жизнь, молодой человек, которому чужды серьезные тревоги и честолюбивые стремления». Все «проблемы справедливости и спасения мира были выше его, слишком огромными, расплывчатыми. Кто он такой, чтобы пытаться постичь их?». Война заставила думать и о спасении мира, и о безумстве тех, кто надеялся спасти себя с помощью войны.
Высокопарные патриотические лозунги, беспечность богачей, нищета в семьях его школьных товарищей, пробуждающаяся ответственность за что-то большее, чем кусок хлеба на завтра, — все это должно сложиться потом в стройную систему взглядов; пока же Эманюэль лишь наугад выдергивает то одну, то другую нить из клубка противоречий: «высокие ограды, песчаные аллеи, пышные фасады… А они — разве они отдают все, что могут отдать?». Богачам хорошо и без спасительного плота войны, а будет еще лучше, когда на нем поплывут к верной гибели сотни канадцев. Те, другие сумеют обратить себе на пользу даже всенародную трагедию, даже справедливую войну. Пока эта чудовищная закономерность неясна новобранцам, размышляет Эманюэль, их энтузиазм — лишь опасная профанация патриотизма. Стрелять, оплачивая себе кусок хлеба, противно человеческой природе. «Чтобы воевать, человек должен быть воодушевлен, исполнен огромной любви, великой страсти, иначе война — бесчеловечна, абсурдна», — говорит Эманюэль. Романы о войне, появившиеся после «Счастья», — «Канадцы, бродящие по свету» (1954) Жана Вайянкура, «Девять дней ненависти» (1948) Жан-Жюля Ришара, «Вокруг тебя, Тристан» (1962) Клэр Франс, — подтвердили опасения юного героя Габриэль: многим канадцам, участвовавшим в войне, смысл происходящего разгадать не удалось.
«Девять дней ненависти» называют лучшим канадским романом о войне, но его автор сумел выразить здесь только отвращение к акту убийства, недоумение перед фактом, что на фронте «убийцы становятся героями». Солдаты «Девяти дней» считают абсурдным «жертвовать собой ради европейцев», они охотнее прислушиваются к негодующему вопросу пленного фашиста: «Зачем вы пришли сюда?» Конечно, парни вроде Питу, принявшие войну как высокооплачиваемую работу, ответить на этот вопрос не смогут.
Роман Габриэль Руа предвосхитил оба пути, по которым может пойти солдат из Канады: стрелять цинично и спокойно, как автомат, а потом спохватиться, что смерть еще хуже луковой похлебки, или, напротив, подобно Эманюэлю Летурно, взять винтовку с решимостью «вылечить мир», убить фашизм, «уничтожить войну». Именно этот контраст был резко выявлен в киносценарии, сделанном по роману. Фильм не появился на экранах: Соединенные Штаты «усмиряли» тогда Корею, роман Руа поставил вопрос о войнах справедливых и несправедливых совсем «некстати».
«Некстати» касался он и социальных контрастов. От предвоенного к послевоенному периоду безработица в Канаде возросла в пять раз, то есть кризисное состояние, зафиксированное автором «Счастья», повторилось в худшем варианте. Критика, расточая роману похвалы, спешила в то же время нейтрализовать его остроту оговоркой «сгущены краски». Апологетам буржуазного процветания легче в крайнем случае услышать истошный крик отчаяния; исключительная реакция на исключительные обстоятельства — говорится тогда. Но сдержанный рассказ о буднях, похожих на ад, кажется правдоподобным и потому опасным. К пыткам этого ада герои почти привыкли. Роза-Анна даже счастлива, если удается ценой бессонных ночей заткнуть хотя бы одну прореху семейного бюджета. Как естественную неизбежность встречает она и тягостные переселения: «чем более многочисленной становилась их семья, тем теснее и сумрачнее их жилище…» Да и что удивительного: цены растут, бродячие семейства, ищущие жилище, все равно какое, «…стены, потомок, пол…», на окраинах Монреаля попадаются все чаще.
Монреаль, как говорят, — «второй Париж», город с двухмиллионным населением, второй на земле по численности жителей, говорящих по-французски, перегнавший столицу — Оттаву — и протяженностью и многолюдностью. Бескрайние газоны тюльпанов, белоснежный порт, небоскребы, соперничающие с символом католического владычества — высочайшим, ажурно-металлическим иллюминированным крестом над городом, завлекающая пляска рекламных огней на здешних Больших бульварах — улице Сент-Катрин, новые особняки в средневековом стиле и необыкновенная панорама, открывающаяся с Королевской горы — Mont Royal, от которой взял себе имя город, — таков Монреаль туристов. Их здесь за год бывает в два раза больше, чем жителей. А читатель «Счастья» попадает на узкие улочки, заглядывает в убогие лачуги, вдыхает смрад помоек и угольную пыль.
В канадской официальной прессе замелькал охранительный ярлык: в романе, мол, «сгущены краски». Впрочем, мало ли появлялось в XX веке книг, которым буржуазное общество прощало и мрачные тона, и жалость к обездоленным? Но в том-то и дело, что Руа далека от проповеди слезливой жалости.
Отвергнув один выход из трясины нищеты — войну, она отвергает и другой, совсем «достойный», — честное обогащение. Габриэль Руа переходит в наступление на привычные понятия буржуазной нравственности. Жану Левеку живется неплохо: высокооплачиваемый труд на военном заводе, полный достаток, возможность реально планировать то, о чем Лакассы не посмели бы мечтать. Традиционный для буржуазной психологии способ распрощаться с нищетой Левеком найден. Но автор вместо того, чтобы радостно описывать этот, один из тысячи способов «выйти в люди», лишь горько усмехается, заставляя читателя думать сразу о материальном достатке и о счастье… хотя кое-кто уверен, будто это одно и то же. Мы так и не узнаем, чувствует ли себя Левек счастливым. Писательница разрешает эту коллизию иначе: она отодвигает героя в сторону. Вместо того чтобы казнить Левека раскаянием или показывать пустоту его обеспеченного бытия, она просто лишает героя права на внимание читателя. Пока в Левеке расчет борется с жалостью-нежностью к Флорентине, пока Жана трогает худоба ее плеч и нездоровая синева под глазами — он по-человечески интересен. Но страх, как бы любовь не затянула его снова в паутину нищеты, берет верх. Любовь оказывается бессильной перед отчуждением личности. Писательница без сожаления прощается с таким героем.
Жан от любви предусмотрительно отказывается. Флорентина любовь использует. Чужую любовь, на которую не имеет права, она берет как выкуп за проигрыш. Флорентина тоже равняет счастье с достатком. Во что бы то ни стало ей хотелось добиться лучшего, чем мать. Во что бы то ни стало… любой ценой. Девичье бесчестье было бы еще не столь трагической платой. Но Флорентина губит душу. Ее расчетливая игра с Эманюэлем циничнее, чем равнодушие Жана Левека, отца ее ребенка.
Счастье, схваченное «по случаю», не приносит радости, — напротив, такая удача заставит забыть, какое оно, настоящее счастье.
Раньше многих своих современников в Европе Руа поняла, что вещи обладают способностью, окружая человека, превращаться в тюремную стену. Человек пленен иллюзией, будто, заполнив пустоты в этой стене, воздвигаемой из вещей, он станет свободнее, счастливее. А на самом деле замуровывает себя намертво.
Теперь, когда читаешь «Счастье по случаю» после французских, английских, немецких романов 50–60-х годов, разоблачивших трагически-добровольную зависимость человека от Вещи, кажется, будто Габриэль Руа скороговоркой повторяет то, что другими обдумано глубже, рассказано обстоятельнее. Но Жан Левек на двадцать лет раньше многих других, плененных мифами «индустриального общества», героев начинает тяготиться отсутствием «времени для жизни», то есть для дел, которые любишь, путешествий, в которых отдыхаешь, встреч, которые приносят радость.
«До чего же нелепо устроена жизнь, — говорит Левек Флорентине, — или у тебя нет денег, но зато уйма времени, чтобы их тратить, или же ты зарабатываешь достаточно, но у тебя нет свободной минутки, чтобы истратить хотя бы цент».
Канадский вариант «безумного, безумного мира», то с гордостью, то с горечью называющего себя «обществом потребления», имеет свои специфические черты. В 1969 году в Париже вышли два специальных выпуска журналов «Эспри» и «Эроп», посвященных Квебеку: канадские журналисты с тревогой писали о том, что «франко-канадская нация старается равняться на образ жизни своих соседей, не имея для этого материальных ресурсов. Народ живет трагически — выше своих возможностей…».
В 1945 году, когда вышел роман «Счастье по случаю», трагическое противоречие едва ли казалось столь кричащим. Но Руа его предчувствовала. Ее герои, едва сводящие концы с концами, не в силах остаться равнодушными к искушениям, которые, бесспорно, за пределами их возможностей.
— Что нам дало общество? — негодуя, спрашивают друг друга молодые герои «Счастья» и соглашаются, что общество дало им искушения. Паккарды, бьюики, роскошный спортинвентарь и холодильники. «Нам советуют… покупать. Словно боятся, как бы соблазнов не было слишком мало… Говорят, глупо жить не по-современному и не иметь в доме холодильника… Общество соблазняет нас световыми рекламами… Да, соблазны — вот что дало нам общество. Везде соблазны… Тем-то оно нас и держит…»
Таков наиболее драматический вариант отчуждения в современном капиталистическом обществе, в результате чего человек бывает обречен на патологическую враждебность по отношению к таким же несчастным, как он.
Некоторые канадские критики по признакам нарастающей разобщенности героев «Счастья» (Левека не интересует больше Флорентина, Флорентина чуждается семьи, Роза-Анна не понимает своих детей, умирающий Даниэль забывает родных) устанавливали зависимость писательницы от философии экзистенциализма. Параллель вызвана, пожалуй, только желанием найти в Канаде все, что «модно» в Европе. На самом же деле художественные ситуации «Счастья по случаю» очерчены точно, с полным социальным адресом.
Эта особенность почерка Руа ощутима и в последующих книгах — в автобиографических рассказах «Улицы Дешамбо», где юная героиня, прозванная Бедняжкой, стараясь заглушить в себе страх, мучивший и Флорентину, отчаянно кричит отцу: «Нет, я не буду бедной, я не буду похожа на тебя!»; в романе «Водяная курочка» (1950), рассказавшем, как медленно пробивается культура в глухую канадскую провинцию; в пантеистическом описании просторов «Таинственной горы» (1961): для писательницы это не руссоистский оазис безмятежности, а вершина, с которой виднее грозные симптомы нарастающей лихорадки отчуждения. Роман «Александр Шенвер» (1954) прямо посвящен отчуждению человека в буржуазном мире. Социальная характеристика героя столь точна, что английский перевод получил заглавие «Кассир».
Александр, мелкий служащий современного города — подопытный кролик беспощадной машины отчуждения. Ненавистна работа, неинтересна глуповатая жена, раздражает необходимость постоянных финансовых выкладок — не только на службе, но и по семейному бюджету. Благами цивилизации пользоваться некогда: измученный бессонницей, болезненно реагирующий на бесчисленные шумовые раздражители и массу информации, Шенвер — патологически-характерный случай «городской болезни». Кажется вполне естественным противопоставить грохочущему аду покой гор или степей, где выросла сама Габриэль. Ведь она знает, что «самое прекрасное — преподавать в школе, затерянной среди степей…», она действительно убеждена, что «одиночество в одиночестве» — там, где ферма от фермы на расстоянии мили, — переносится легче, чем в шумном городе, полном людей. Но руссоизмом канадская литература уже переболела. Руа не поддается обманчивым иллюзиям. Минуты над тихим озером, в котором отражается вечность, и груды газет, приносящих новости из дальних стран, современному человеку нужны одинаково. Значит, надо делать человечески теплой эту жизнь, оборудовать для счастья нашу планету. Как — писательница не знает, но в романе появляются знаменательные слова «изменить мир». «Менять мир из-за одного маленького человека?» — недоуменно восклицает другой персонаж «Александра Шенвера». Габриэль Руа добавляет: «Господин Фонтен тверд в своем мнении, что мир не нуждается в серьезных преобразованиях». Для нее же счастье человека — как бы ни был он безвестен — и есть смысл существования вселенной. Счастье, которое не добудешь по случаю, но которое должно быть большим, настоящим у каждого, даже если кто-то и согласен на меньшее.
Уважение к маленькому человеку, за которого стоит бороться, пришло к Габриэль Руа вместе с новеллами Чехова. В родных степях Манитобы открыла впервые Руа перевод «Степи». «Тайное очарование» этой повести оказалось, по признанию писательницы, длительным: «Не забывались ни отдельные детали, имевшие для меня решающее значение, ни общая атмосфера нежной грусти. Надолго-надолго эта книга, прочитанная в юности, завладела моими мыслями, она формировала… мою манеру видеть, смотреть, схватывать действительность». Скромность заставляет Габриэль Руа добавить: «Впрочем, редко удается стать похожим на того, кем восхищаешься». Позднее, пытаясь воскресить самые дорогие мгновения жизни, Руа писала: «Если бы я хотела вернуть что-то из утраченного времени, то в первую очередь — бездонное небо, час перед заходом солнца в Манитобе и узкую прямую дорожку, рассекающую бескрайние поля хлебов… Но дороже всего было бы вновь обрести душевное состояние приподнятости, тот порыв, благодаря которому душа приобщается к вечности».
В других своих любимых книгах — «Робинзоне Крузо», «Большом Мольне» Алена Фурнье, «Терезе Дескейру» Мориака, романах Пруста или Колетт — Габриэль Руа искала то же, что нашла в юности у Чехова: «возвышенность, утонченность». «Великие творения должны быть достаточно совершенными, чтобы рассмотреть человеческие сердца, и особенное для каждого, и характерное для всех… Им дана суверенная магическая власть — с помощью придуманного персонажа позволить нам встретиться с живыми, такими непохожими друг на друга существами».
Всегда интересуясь сюжетами простыми, будничными, Габриэль. Руа и для книг своих предпочитает непритязательный, негромкий тон. Формальных новаций не ищет, о них не думает. Ее вполне устраивает повествование размеренно-спокойное, сочетающее обстоятельность описаний с психологическими мотивировками. Руа убеждена: роман имеет право на существование, только «возбуждая мощный человеческий интерес, создавая подлинные характеры». Юна недоверчиво относится к декларациям французского и канадского «нового романа», к крайним вариантам формалистического экспериментаторства, ломающего гуманистическую традицию, изощренно унижающего человека. Канадская литература не избежала болезней, модных и в Америке и в Европе. Крупнейший деятель канадской культуры Дайсон Картер пишет о «массированном натиске» безнравственности, в котором «враг использует два… в высшей степени эффективных оружия — доллары и идеи»[2].
Габриэль Руа знает, что реальная роль художника в капиталистическом мире — увы! — скромна, но без доверия к могуществу слова попросту нет художника.
Каждая встреча с пороками, которые она уже описывала, клеймила, повергает Руа в уныние, рождается «ощущение бесполезности», но избравший миссию писателя обязан запечатлеть, «сформулировать, — как говорит Руа, — взволновавшее его несчастье». Ненадежными, «хрупкими мостами познания и общения» называет Руа свои книги. Но надеется, что люди по ним пройдут — навстречу друг другу. Для смельчаков, которые рискнут пересечь водоворот отчуждения и социальной безграмотности, а в 60-е годы восстанут против фашизации своей собственной страны, неторопливо строила Габриэль Руа историю трудового Монреаля, чтобы понял читатель, почему распалась семья Лакасс, ради чего предала себя Флорентина, какие нравственные дилеммы встают перед новобранцами, сверстниками Летурно.
Сегодня книга пришла к нам. Горький исход этих поисков счастья по случаю приобщит советского читателя к драматизму борьбы, которая идет там, в Канаде, за души людей. Ведь и в наши дни канадские предприниматели дарят простым смертным букеты искушений, чтобы плотной стеной вещей заглушить голос протеста; и в наши дни парни с окраин Монреаля нет-нет да и завербуются в американскую армию, прячась от безработицы; и в наши дни бродят по сверкающей Сент-Катрин гости из бедных кварталов, мучительно размышляя о контрастах большого города, о социальной несправедливости и перспективах победы над ней.
Т. БалашоваСчастье по случаю (Роман)
I
В этот час Флорентина уже с нетерпением ждала, придет ли в кафе тот молодой человек, который накануне среди насмешек и шуточек намекнул ей, что находит ее красивой.
Лихорадочное возбуждение универсального магазина передавалось ей, вызывало странное раздражение, смешанное со смутным предчувствием, что когда-нибудь эта кипучая суета магазина замрет и тогда-то осуществится цель ее жизни. Она не сомневалась, что встретит свою судьбу именно здесь, в этом кафе, с приторным запахом жженого сахара, где большие настенные зеркала отражают узкие полоски бумаги с сегодняшним меню, под отрывистые дребезжащие звонки кассы, которые как бы воплощали острую напряженность ее ожидания. Здесь, словно в фокусе, сосредоточилась вся жизнь, прожитая ею в Сент-Анри[3], — торопливая, беспокойная и такая будничная.
Ее взгляд то и дело скользил поверх голов пяти-шести клиентов, которых она обслуживала, к магазинным полкам (кафе помещалось в глубине универмага «Пятнадцать центов»), к переливающемуся блеску стекла, никеля и жести, и ее застывшая, сдержанная, невеселая улыбка бесцельно адресовалась какой-нибудь сверкающей вещице, на которую она смотрела невидящими глазами.
Обязанности официантки не позволяли ей подолгу задумываться, и она могла лишь урывками возвращаться к волнующим и тревожным воспоминаниям о вчерашней встрече, и в эти короткие минуты передышки она снова и снова видела перед собой лицо незнакомца. Но ни грохот посуды, ни голоса официанток, выкрикивающих заказы, не могли совсем прогнать грезы, от которых ее лицо на мгновенье менялось.
И вдруг она растерялась и почему-то почувствовала себя оскорбленной. Пока она следила за толпой, вливавшейся в магазин через стеклянные двери, незнакомец успел занять место за длинным столом из искусственного мрамора и подзывал ее нетерпеливым жестом. Она подошла, улыбаясь натянутой улыбкой, походившей скорее на гримасу. Как неприятно, что он захватил ее врасплох как раз в ту минуту, когда она пыталась вызвать в памяти его черты и звук его голоса!
— Как тебя зовут? — отрывисто спросил он.
Флорентину рассердил его вопрос и еще больше тон — бесцеремонный, насмешливый, почти наглый.
— Еще что спросите? — проговорила она презрительно, но не тем решительным голосом, в котором слышится требование замолчать. Наоборот, она словно приглашала продолжить разговор.
— Ну, — продолжал молодой человек, улыбаясь, — я — Жан… Жан Левек… А о тебе я для начала уже знаю, что ты — Флорентина… Флорентина здесь, Флорентина там… О, сегодня Флорентина не в духе, ее никак не заставишь улыбнуться! Да, я знаю твое имя, и оно мне нравится…
Его тон слегка изменился, взгляд стал требовательнее.
— Тебя зовут мадемуазель… Ну, а как дальше? Так и не скажешь? — настаивал он с притворной серьезностью.
Приблизив к ней лицо, он посмотрел на нее в упор, и она сразу ощутила его дерзкую напористость. Тяжелый, волевой подбородок, невыносимо насмешливое выражение сумрачных глаз — вот что поразило ее в этом лице сегодня и против воли возмутило. Как она могла все эти дни столько думать о нем? Она резко выпрямилась, и янтарные бусы щелкнули у нее на шее.
— А потом вы спросите, где я живу и что делаю по вечерам. Все вы такие!
— Все вы? А кто же это — все вы? — передразнил ее Жан и оглянулся, словно проверяя, нет ли кого-нибудь позади.
— Ну, все вы! — повторила Флорентина, чувствуя, что еще немного — и ее терпение лопнет.
Однако этот оттенок фамильярности и даже пошловатости, ставивший молодого человека на равную ногу с ней, раздражал ее меньше, чем его обычная манера держаться, которая, как она смутно чувствовала, создавала между ними известную дистанцию. На ее губах снова появилась сердитая, вызывающая улыбка.
— Ну, ладно, — сказала она. — Так что же вам сейчас подать?
Он снова с грубой бесцеремонностью уставился на нее.
— Я еще не собирался спрашивать тебя, что ты делаешь по вечерам, — сказал он. — Право, я не так уж склонен к торопливости. Согласно своим правилам, я, пожалуй, еще подождал бы с этим вопросом дня три… но раз ты сама идешь мне навстречу…
Жан слегка откинулся на вращающемся стуле, покачиваясь из стороны в сторону. Прищурившись, он посмотрел на девушку изучающим взглядом.
— Ну, Флорентина, так что же ты делаешь по вечерам?
Он сразу заметил, что она волнуется. Нижняя губа у нее дрогнула, и она тут же прикусила ее. Потом вдруг засуетилась, вынула из никелированного ящичка бумажную салфетку и расстелила ее перед молодым человеком.
У Флорентины было худое, нежное, почти детское лицо. От усилия, которое она сделала, чтобы овладеть собой, на висках у нее вздулись синие жилки, а тонкие до прозрачности крылья носа напряглись, натянув матовую кожу щек, гладкую и шелковистую. Ее губы были безвольны и время от времени чуть подергивались, но Жана поразило выражение ее глаз. Под слишком высоко поднятой ниточкой выщипанных бровей, удлиненных штрихом карандаша, между полусомкнутыми веками виднелись только золотистые полоски настороженных, внимательных, алчных глаз. Но взмах ресниц — и большие зрачки вспыхивали, поражая своим искристым сиянием; на плечи Флорентины падала волна густых каштановых волос.
Хотя Жан внимательно рассматривал Флорентину, он не строил относительно нее никаких планов, она скорее удивляла его, чем привлекала. И даже вопрос: «Что ты делаешь по вечерам?» — возник невольно, неожиданно для него самого; Жан бросил его наугад, как бросают в воду камешек, чтобы измерить глубину. Но угаданная им глубина побудила его продолжать игру. «А не будет ли мне стыдно появляться с такой на людях?» — мелькнуло у него в голове. И тут же при мысли, что его занимают подобные вопросы, хотя он, в сущности, совершенно равнодушен к девушке, Жан разозлился на себя, и это заставило его действовать более решительно. Положив локти на стол, глядя прямо в глаза Флорентине, он терпеливо выжидал теперь ее хода, чтобы ответить на него, словно они играли в какую-то жестокую игру.
Под этим бесцеремонным взглядом Флорентина вся напряглась, и он лучше разглядел ее; он увидел отражение ее спины в стенном зеркале, и его поразила худоба девушки. Как ни туго был затянут поясок зеленого форменного платья, все же чувствовалось, что оно слишком широко для ее тоненькой, даже тщедушной фигурки. И вдруг перед ним, словно видение, прошла вся ее бестолковая, суматошная жизнь девушки из предместья Сент-Анри — жизнь одной из тех кокетливых, намазанных девчонок, которые увлекаются дешевыми бульварными романами и гибнут в хилом пламени поддельной любви.
Тон его стал резким, почти язвительным.
— Ты отсюда, из Сент-Анри? — спросил он.
Вместо ответа она только повела плечами, и губы ее тронула обиженная ироническая улыбка.
— И я тоже местный, — продолжал он с насмешливой снисходительностью. — Значит, мы можем дружить. Верно?
Он заметил, как дрогнули ее руки, хрупкие, как у ребенка, и ключицы резче обозначились в вырезе платья.
Она тут же подбоченилась, скрывая раздражение под капризной гримаской, но Жан в эту минуту видел ее не такой, какой она стояла перед ним по ту сторону стола. Он видел, как она готовится выйти вечером, нарядившись, густо намазавшись, чтобы скрыть бледность лица, со множеством украшений, в смешной шляпке — пожалуй, даже с вуалеткой, из-под которой сияют глаза, подведенные тушью: нелепо расфранченная, легкомысленная девчонка, снедаемая желанием понравиться ему. Эта картина подействовала на него, как опустошающий порыв холодного ветра.
— Так ты пойдешь со мной в кино сегодня вечером?
Он почувствовал, что она колеблется. Конечно, она сразу согласилась бы, потрудись он пригласить ее хоть чуточку любезнее. Но он хотел, чтобы это приглашение звучало именно так — жестко и прямолинейно.
— Значит, договорились, — бросил он. — А теперь принеси мне ваше знаменитое фирменное блюдо.
С этими словами он вынул какую-то книгу из кармана своего пальто, брошенного на соседний стул, открыл ее и сразу же погрузился в чтение.
Лицо Флорентины залилось румянцем. Вот что бесило ее больше всего — способность Жана, сбив ее с толку, сразу забыть о ней, отстранить ее, словно вещь, которая его больше не интересует. А ведь он вот уже несколько дней явно ухаживает за ней. Первый шаг сделала не она. Это он вывел ее из того тяжелого оцепенения, в котором она замкнулась, отгородившись от жизни со всеми ее обидами и разочарованиями, уйдя в одинокий мир смутных надежд, непонятных ей самой и не слишком ее волновавших. Именно он облек в плоть и кровь эти надежды, и они стали теперь острыми и мучительными, как желание.
С минуту она молча смотрела на него, и сердце ее сжималось. Он ей уже очень нравился. Он казался ей элегантным, совсем особенным, непохожим на других посетителей кафе, неинтересных мелких служащих и рабочих с грязными манжетами и воротничками, он был гораздо лучше даже тех молодых людей, которых она видела в соседних кафе, куда по вечерам они с Полиной или Маргаритой отправлялись потанцевать под механическую радиолу, погрызть шоколадку или же просто помечтать часок-другой, устроившись в каком-нибудь уютном уголке, откуда можно наблюдать за входящими молодыми мужчинами, обмениваясь насмешливыми замечаниями на их счет. Да, он сильно отличался от всех, с кем ей приходилось встречаться на протяжении ее беспокойной и пустой жизни. Ей нравились его черные густые волосы, жесткие, стоящие торчком. Порой у нее появлялось желание запустить обе руки в эту буйную, непокорную шевелюру.
Она заметила его, как только он впервые вошел в кафе, и устроила так, чтобы обслуживать его самой. Теперь же ей одновременно хотелось и убежать от него, и обдать его презрением, показать ему, что он ей безразличен. «Он наверняка пригласит меня куда-нибудь», — говорила она себе, и где-то в глубине ее сердца возникало странное ощущение власти. И тут же она с тревогой спрашивала себя: «А что я ему отвечу?»
Другие официантки — Луиза, Полина, Маргарита, за исключением только Эвелины, «старшей», — нередко соглашались, когда посетители за обедом среди шуток и смеха предлагали им провести вечерок вместе. Полина уверяла, что это совсем безопасно при условии, что молодой человек зайдет за тобой после работы и вы только сходите в кино. Тогда есть время присмотреться к нему и решить, встречаться с ним или нет. Луиза даже обручилась с одним молодым солдатом, с которым познакомилась в кафе. С тех пор как Канада вступила в войну и у новобранцев стало обычаем перед отправкой в учебные лагеря обзаводиться невестами, такие отношения завязывались повсюду с небывалой прежде легкостью и быстротой. Иногда это кончалось браком.
Но Флорентина не осмелилась додумать свою мысль до конца. Даже и сейчас, углубленный в чтение, Жан слегка улыбался все той же язвительной улыбкой, которая сбивала ее с толку.
«Я ему покажу, — подумала Флорентина, сердито поджимая губы, — покажу, что я плевать на него хотела». Однако любопытство взяло верх над досадой. Она решительно наклонилась над раскрытой книгой. Это оказался учебник тригонометрии. Ромбы, треугольники, напечатанные жирным шрифтом уравнения были до того ей непонятны, что она даже улыбнулась про себя.
— Вон вы что читаете, — сказала она. — Понятно, почему вы сами говорите, как мудреная книга.
И, отойдя к служебному телефону, она певучим насмешливым голоском бросила в трубку: «Фирменное за тридцать центов!»
Ее звонкий голос разнесся по всему кафе, и Жан Левек почувствовал, что глупо краснеет. Он проводил девушку хмурым взглядом, в котором загорелся сердитый огонек, потом придвинул книгу поближе и склонился над ней, положив локти на стол и обхватив голову сильными смуглыми руками.
В кафе устремился новый поток посетителей. Это был обычный наплыв между полуднем и часом: рабочие соседних предприятий в комбинезонах, продавцы из магазинов на улице Нотр-Дам в белых воротничках и мягких фетровых шляпах, которые они небрежно бросали на стол, две монахини из «социального обеспечения» в серых одеяниях, шофер такси и домохозяйки, занятые покупками и забежавшие подкрепиться горячим кофе и жареным картофелем. Все пять официанток торопливо сновали взад и вперед, натыкаясь друг на друга. Порой на кафельный пол с резким звоном падала ложечка, уборщица ворча, поспешно поднимала ее, бросала в раковину и спешила дальше, опустив голову, наклонившись вперед, чтобы двигаться быстрее. Везде царила невообразимая сутолока. Звуки быстрых шагов официанток, шуршанье их туго накрахмаленных блузок, щелканье тостера, выбрасывающего ломтики поджаренного хлеба, ворчание кофейников на электрических плитках, жужжанье служебного телефона, по которому передавались заказы на кухню, — сливались в непрерывный гул — словно вибрировал знойный летний воздух, насыщенный запахами ванили и сахара. Глухо гудели миксеры, сбивавшие молочный коктейль в высоких никелированных стаканах, — гудение их напоминало тягучее жужжание мух на клейкой бумаге, — звякала брошенная на стол монета, и время от времени раздавался торопливый, настойчивый, пронзительный звонок кассы — словно короткая отходная, финальный аккорд всего этого нестройного шума. Несмотря на мороз, расписавший застекленные двери прихотливыми узорами, здесь, в глубине магазина, стояла нестерпимая жара.
Маргарита, полная рослая девушка с ненакрашенными, румяными от природы щеками, которые даже в этой парильне выглядели такими свежими, словно раскраснелись от холодного ветра, хлопотала около морожениц. Приподняв крышку, она погружала ложку в толщу мороженого и бросала зачерпнутую порцию в невысокую плоскую вазочку. Потом добавляла туда немного взбитых сливок, выдавливая их из картонного рожка, словно зубную пасту. Из алюминиевого судка она брала ложкой джем, выкладывала его на мороженое, затем щедро поливала все шоколадом или сиропом и клала сверху красную аппетитную половинку засахаренной вишни. И минуту спустя пятнадцатицентовое «праздничное», весьма ценимое завсегдатаями кафе, уже красовалось на столе, словно фонтанчик свежести в знойный летний день. Маргарита, получив деньги, бежала к кассе и возвращалась к мороженицам приготовлять следующую порцию «праздничного». Работа была однообразна, но Маргарита, создавая десятое сложное и красивое сооружение, вкладывала в него столько же старания и простодушной радости, как и в первое. Крестьянка, уже совсем взрослой приехавшая в город к родственникам, она пока еще не разочаровалась в дешевом шике квартала. Не приелись ей еще и ежедневные неожиданности и приторные запахи кафе. Бурное оживление, нескончаемые флирты, зарождающиеся вокруг нее, вся эта атмосфера ухаживаний, жеманства, полусогласий и осторожных покушений забавляла и развлекала ее, не затрагивая всерьез. Особенно сильное впечатление произвел на нее этот «тип» Флорентины, как прозвала она Жана Левека. И сейчас, когда Флорентина с полной тарелкой прошла мимо нее, Маргарита, засмеявшись своим добродушным смехом, не удержалась от обычного замечания:
— А твой-то тип на тебя поглядывает!
И, облизнув влажные губы, словно хранящие вкус джема, добавила:
— По мне, он шикарный парень, и симпатичный. Вот увидишь, Флорентина, ты его быстренько обкрутишь.
Флорентина пренебрежительно усмехнулась. Вот так, конечно, представляется жизнь этой толстой простушке Маргарите: вечный круговорот «праздничных», а в заключение все они без малейшего труда, не шевельнув и пальцем, окажутся невестами, а потом и новобрачными в подвенечных платьях и с букетиками в руках. Однако, направляясь к Жану Левеку, она не без удовольствия подумала, что он и в самом деле проявляет к ней немалый интерес, раз уж даже толстуха Маргарита это заметила и поддразнивает ее. «Но какой-то не такой интерес», — тут же подумала она в приступе досады, от которой сразу подурнела.
Поставив тарелку перед Жаном, Флорентина подождала, не заговорит ли он. Но поглощенный чтением Жан только пробормотал «спасибо», даже не подняв головы; продолжая читать, он рассеянно взял вилку и принялся за еду, а Флорентина все еще медлила в нерешительности, и это холодное молчание казалось ей более мучительным, чем все его намеки. Когда он говорил, она хотя бы могла язвительно ему ответить. Флорентина не спеша вернулась в дальний конец прохода — присмотреть за варящимися сосисками. И внезапно, утомленная, охваченная какой-то смутной грустью, которая порой подымалась в ней и угнетала ее, она на мгновение прислонилась к никелированному краю плиты.
До чего же она устала от этой жизни! Обслуживать всяких нахальных грубиянов, которые оскорбляют ее своими приставаниями; или же таких, как Жан Левек, чья вежливость, может быть, только скрывает насмешку. Обслуживать, всегда обслуживать! И при этом обязательно улыбаться! Вечно улыбаться — даже когда ступни горят, словно ходишь по углям! Улыбаться, когда к горлу подкатывается холодный тяжелый ком ярости! Улыбаться, когда ноги подкашиваются от усталости!
В глазах Флорентины появилось выражение тупого безразличия. В этот миг черты ее детского, сильно накрашенного лица как бы скрылись под обличьем старухи, которой она станет когда-нибудь. В морщинках в углах губ уже угадывались глубокие складки, какими оплывут ее упругие, нежные щеки. В ее облике с неожиданной явственностью проступили признаки неотвратимой расплаты: унаследованная от предков слабость, глубокая униженность, которую эта слабость делала безысходной и которой Флорентина расплачивалась уже сейчас, словно выплеснулись из ее угасших зрачков и, разлившись, затуманили ее обнажившееся, сбросившее обычную маску лицо.
Все это длилось меньше минуты. Флорентина снова взяла себя в руки, снова стала прежней — напряженной и нервной, и ее накрашенные губы сложились в привычную улыбку. От всех смутных мыслей, пронесшихся у нее в голове, осталось только одно ощущение, жесткое и холодное, как ее застывшая улыбка: вот сейчас, немедленно, надо пустить в ход все, что у нее есть, всю ее женскую привлекательность, ради выигрыша в этой жестокой борьбе за счастье. Наклонившись, чтобы убрать со стола грязную посуду, она посмотрела сбоку на Жана Левека, и в ее сердце вдруг вспыхнула ослепляющая боль: она поняла, что — хочет она того или нет — он уже не может быть ей безразличен. И в то же время сейчас она, как никогда, была готова возненавидеть его. Она ничего о нем не знала, кроме его имени, которое он только что ей сказал, и того, что говорила Луиза, знавшая о нем немногим больше: что он работает электромехаником на литейном заводе. От Луизы же она узнала, что Жан не встречается ни с одной девушкой, — это удивило ее и было ей приятно.
Флорентина искоса оглядела длинный низкий стол; она увидела лица, склоненные над тарелками, открытые рты, масленые губы, жующие челюсти — зрелище, которое всегда вызывало у нее отвращение, — а дальше, в самом конце стола, сильные широкие плечи молодого человека, хорошо обрисованные коричневым пиджаком. Он сидел, подпирая рукой смуглое лицо. Челюсти его были плотно сжаты, от этого кожа щек натянулась. Тонкие морщинки веером расходились от подбородка к вискам. Как ни молодо он выглядел, на его высоком упрямом лбу обозначались легкие черточки. А его глаза, смотрел ли он на человека, на какую-нибудь вещь или в книгу, всегда сохраняли холодный блеск.
Неслышно ступая, Флорентина приблизилась к нему и стала исподтишка его рассматривать. Костюм из английской шерсти был куплен явно не в магазинах предместья Сент-Анри. Этот костюм, казалось ей, красноречиво говорил об иной жизни, о привилегированном положении его владельца. Нельзя сказать, чтобы молодой человек был одет особенно тщательно; наоборот, в его костюме проглядывала небрежность: галстук был завязан плохо, руки кое-где запачканы машинным маслом, а волосы, за которыми он совсем не ухаживал, разгуливая в дождь и в жару с непокрытой головой, были лохматыми и непокорными. Но эта небрежность в мелочах только делала заметнее те дорогие вещи, которые он носил: часы-браслет с поблескивавшим при каждом движении циферблатом, кашне из дорогого шелка, небрежно обмотанное вокруг шеи, модные кожаные перчатки — краешек их торчал из бокового кармана. Флорентине казалось, что стоит только нагнуться к нему, и она вдохнет пьянящий воздух большого города, хорошо одетого, сытого, самодовольного, ищущего своих дорогих развлечений. И внезапно перед ней возникла улица Сент-Катрин, витрины больших магазинов, элегантная толпа субботнего вечера, лотки цветочниц, рестораны с вращающимися дверями, столики, стоявшие чуть ли не на самой улице и отделенные от нее лишь блеском зеркальных окон, залитые светом подъезды кинотеатров и коридоры, уходящие вдаль за стеклянной башенкой кассы, среди отсветов высоких зеркал, между глянцевитыми перилами и пальмами — словно естественный подъем к экрану, на котором одна за другой возникают манящие картины: перед ее глазами проплывало все то, к чему она стремилась, чем восхищалась, чего жаждала всей душой. Да, Жан уж наверное не скучает по субботним вечерам! А для нее они были совсем не веселыми. Изредка ее приглашал погулять какой-нибудь знакомый, но он вел ее всего лишь в маленький кинотеатр или в убогий танцевальный зал их предместья. К тому же и за такое скромное развлечение он пытался получить плату поцелуями; ей приходилось все время отбиваться, и это окончательно портило все удовольствие от кино. Несколько раз она вместе с другими девчонками ходила в западную часть города, но в этой женской стрекочущей стайке она не отдыхала, а только испытывала досаду и стыд. Каждая проходившая мимо пара притягивала ее взгляд и усиливала ощущение горечи. Город был создан для этих парочек, а не для кучки молодых девушек, которые, нелепо обняв друг друга за талию, шли по улице Сент-Катрин, останавливаясь перед каждой витриной и любуясь всеми этими недоступными для них вещами.
Но как властно манил ее сейчас город, мерещившийся ей за спиной Жана Левека! Угадываемые за его широкими плечами огни города представлялись ей сейчас особенно яркими, толпа — особенно веселой, и даже весна — более близкой, готовой одеть зеленью чахлые деревца предместья Сент-Анри. Ей казалось, что, если бы не скованность, которая всегда охватывала ее в присутствии Жана Левека, она сама сказала бы ему: «Идем вместе, мы созданы друг для друга». И она опять ощутила нелепое желание запустить обе руки в его темные спутанные волосы. Она еще не встречала в своей жизни человека, так явно отмеченного печатью успеха. Пусть он сейчас всего только механик, — она твердо верила, что он многого добьется в будущем, и притом в самом недалеком будущем, и столь же твердо верила в непогрешимость инстинкта, который подсказывал, что ей следует стать его союзницей.
Она вернулась из далекой страны своих грез и спросила его грубовато, как всегда разговаривала с посетителями:
— Ну, так подать вам чего на десерт?
Жан поднял голову, расправил плечи и впился в Флорентину нетерпеливым и дерзким взглядом.
— Нет, но ты же еще не ответила, быть ли мне счастливчиком сегодня вечером. Ты над этим раздумываешь уже десять минут. Ну что, да или нет, идешь ты со мной в кино?
Он увидел, как в зеленоватых глазах Флорентины вспыхнул бессильный гнев. Но она тут же опустила ресницы и ответила сердитым, жалобным голосом, которому, однако, пыталась придать примирительное выражение:
— Зачем это я пойду с вами в кино? Я с вами и не знакома совсем. Что я про вас знаю-то?
Он рассмеялся сдавленным, глухим смехом, поняв, что она просто хочет заставить его рассказать о себе.
— А ты постепенно узнаешь, если, конечно, сердце тебе подскажет.
Испуганная не столько двусмысленностью его слов, сколько его холодностью, она оскорбленно подумала: «Он хочет заставить меня говорить. Может, только для того, чтобы посмеяться надо мной». И сама засмеялась неуверенным, деланным смехом.
Но Жан больше не обращал на нее внимания. Казалось, он прислушивался к уличному шуму. Через мгновение Флорентина различила глухую барабанную дробь. У стеклянных дверей магазина собиралась толпа. И даже продавщицы, оказавшиеся свободными, вышли из-за прилавков. Хотя прошло уже более полугода с тех пор, как Канада объявила войну Германии, войска не часто появлялись в предместье Сент-Анри и всегда привлекали толпу любопытных.
Голова колонны достигла магазина. Флорентина, вся подавшись вперед, смотрела на это зрелище с детски жадным интересом и удивлением. Ряд за рядом проходили солдаты — крепкие парни в тяжелых шинелях цвета хаки, одинаково сгибающие запорошенные снегом руки. С радостным оживлением Флорентина обернулась к Жану, словно приглашая полюбоваться ее ребяческим возбуждением, но его лицо было таким враждебным, таким презрительным, что она пожала плечами и отошла, стараясь не упустить ни одной подробности зрелища. Теперь по той части улицы, которая была видна из окна, проходили новобранцы: все они были еще в штатском — одни в легких костюмах, другие в рваных, заплатанных, продуваемых ветром осенних пальто. Многих парней, маршировавших в последних рядах, она знала в лицо. Как и ее отец, они долгие годы жили на пособие по безработице. И за этим видением войны, которое казалось ей таким волнующим, непонятным и живописным, она вдруг смутно ощутила, какая ужасающая нищета ищет здесь последнего приюта. Словно в тумане перед ней прошли годы безработицы, когда из всей их семьи она одна приносила в дом хоть какие-то деньги. И еще более далекое время — годы детства, когда работала ее мать. Перед ней возник образ Розы-Анны, и сердце ее защемила привычная тоска. На мгновение она увидела этих людей в нищенских одеждах, чеканящих военный шаг, глазами своей матери. Но она не стала долго задерживаться на этих мыслях, которые вели ее к тягостным и путаным рассуждениям. Это зрелище было для нее прежде всего развлечением, таким приятным среди томительных часов работы. Глаза ее расширились, щеки под румянами слегка порозовели, и она опять повернулась к Жану Левеку. И с беспечной живостью она выразила свое мнение о происходящем несколькими короткими безжалостными словами:
— Вот психи-то, а?
Но он не улыбнулся, как она ожидала, а посмотрел на нее с такой нескрываемой враждебностью, что она чуть ли не с радостью, словно наконец-то исподтишка расквитавшись с ним, подумала: «Да ведь он же сам тоже псих чертов!» И, вынеся ему в душе такой приговор, она на минуту почувствовала глубокое удовлетворение.
Жан несколько раз провел рукой по лицу, словно стараясь отогнать неприятные мысли, — а может быть, просто пряча язвительную усмешку; потом он пристально взглянул на девушку и снова спросил:
— Как тебя зовут? Скажи мне, как тебя зовут.
— Ну, Флорентина Лакасс, — сухо ответила она, уже не радуясь своей маленькой победе и негодуя на себя за неумение устоять перед таким грубым натиском.
— Флорентина Лакасс, — повторил он, посмеиваясь, и сунул руку в карман за мелочью. — Ну, что же, Флорентина Лакасс, пока ты еще не нашла солдата себе по вкусу, ты можешь встретить меня сегодня вечером у входа в «Картье». Восемь часов — это тебе подойдет? — добавил он насмешливым тоном.
С минуту она стояла неподвижно, разочарованная и все же польщенная. Она размышляла. Не такое приглашение хотелось бы ей услышать! Но в «Картье» как раз шла «Горькая радость». Маргарита вчера рассказывала ей про эту картину, очень хорошую и интересную. Флорентина подумала и о своей новой шляпке, и о недавно купленных духах; постепенно мысли ее принимали все более приятный оборот, и ей уже представлялось, какой элегантной парой они будут — оба почти одного роста. Все, конечно, заинтересуются, когда увидят их вместе. Она уже представляла себе, какие пойдут про них сплетни. И это ее даже позабавило. Неужели же она будет обращать внимание на то, что станут говорить глупые люди? Ну, нет! И она уже видела, как они с Жаном после кино сидят в лучшем ресторане их квартала, в укромном, мягко освещенном уголке, куда доносятся издалека звуки механической радиолы. Там у нее появится уверенность в себе, в своем обаянии. Там она сумеет забрать в руки этого заносчивого парня. И добиться от него новых приглашений. На ее губах уже появилась опрометчиво-мечтательная улыбка, но в это время Жан, поднявшись, бросил на стол полдоллара.
— Сдачу оставь себе, — холодно сказал он. — И поешь чего-нибудь сытного на эти деньги… Ты слишком уж худа.
С ее губ чуть было не сорвался дерзкий ответ. Она чувствовала себя глубоко оскорбленной — больше всего от сознания своей тайной покорности его воле — и хотела было гневно вернуть ему монету, но Жан уже надевал пальто.
— А, ты ненавидишь меня, — пробормотал он. — Ненавидишь это кафе, ты все ненавидишь, — продолжал он, словно, склонившись над ней, видел мрачное поле ее сердца, где до сих пор зрели лишь протест и горечь.
Затем он удалился быстрым шагом, и в развороте его широких плеч чувствовалась решимость, сила и нервность. Ему не приходилось нетерпеливо расталкивать толпу локтями. При его приближении она расступалась сама. И у Флорентины возникло предчувствие, что если она не придет на свидание, то больше уже никогда его не увидит. Провожая его взглядом, она смутно сознавала, что этот незнакомец интуитивно понял ее лучше, чем она сама понимала себя. На минуту он озарил ее жизнь словно молнией, и при этой мгновенной вспышке ей открылось множество черт этой жизни, до сих пор таившихся во мгле.
Но теперь, когда он ушел, ей опять казалось, что она не способна разобраться в собственных мыслях. Ею овладело глубокое смятение. «Я не пойду, я не пойду, вот он увидит, что я не пойду», — убеждала она себя, сжимая кулаки с такой силой, что ногти вонзились в ладони. Но тут она заметила, что Эвелина наблюдает за ней, едва скрывая недобрую усмешку. А Маргарита, толкнув ее, чтобы пройти с мороженым в руках, шепнула ей на ходу:
— А я была бы не прочь, если бы он поглядывал на меня. По-моему, он ничего себе.
И ярость в сердце Флорентины понемногу улеглась, уступив место приятному ощущению, что ей завидуют. Она никогда в жизни не умела правильно оценить ни дешевой драгоценности, ни мимолетного флирта, ни даже обрывков воспоминаний без помощи чужого взгляда.
II
Вернувшись после обеда на завод и возясь со сломанным мотором, починка которого требовала много усилий, Жан удивленно повторял про себя: «Ну, что я за болван, с ума я сошел, что ли? Мне вовсе не хочется заводить роман с Флорентиной… Если такая девчонка вцепится в тебя, так уж от нее не отвяжешься! Я совсем не хочу опять с ней видеться… И что меня дернуло приглашать ее?»
Вначале он думал, что может в любую минуту прекратить этот только-только начавшийся флирт; ведь и прежде, когда он (что случалось очень редко) начинал ухаживать, за какой-нибудь девушкой, он всегда останавливался на полпути: либо потому, что ухаживание давалось, по его мнению, слишком уж легко, либо из-за нежелания тратить на пустяки свое свободное время. Ибо он был очень честолюбив, он жаждал добиться успеха в жизни и считал, что для этого по-настоящему необходимо только одно: правильно распределять свое время. И до сих пор он без всяких колебаний и даже без сожаления полностью посвящал свой досуг упорным, напряженным занятиям.
Но сегодня, возвращаясь после окончания работы к себе в меблированную комнату, которую он снимал на улице Сент-Амбруаз, у канала Лашин, Жан сначала с удивлением, а потом с раздражением заметил, что никак не может отогнать от себя образ Флорентины.
«Она такая же, как и другие, — думал он. — Она просто хочет поразвлечься и заставить парня раскошелиться, отнять у него и время и деньги. Вот и все, что ей нужно… А я или другой…» Но перед его глазами снова и снова вставала ее тонкая фигурка, детские губы, тревожные глаза. «Нет, — говорил он себе, — в ней есть что-то необычное, и она могла бы, пожалуй, заинтересовать меня… чуть-чуть».
И вдруг, совсем один посреди уже темной улицы, он громко расхохотался, потому что увидел себя глазами Флорентины: насмешливым и злым задирой, знакомство с которым опасно и потому особенно заманчиво, как все действительно опасное. И еще потому, что он понял, насколько не похож подлинный Жан Левек на того человека, каким он старался выглядеть в глазах окружающих: ловкач и хвастун, удивляющий всех своим подозреваемым распутством, вызывающий всеобщее завистливое восхищение. Но подлинный Жан Левек был совсем другим. Это был прежде всего молчаливый, упорный труженик. И ему самому, в сущности, гораздо больше нравился именно этот благоразумный, практичный человек, любивший работу не ради нее самой, а ради честолюбия, которое она разжигала, ради успеха, который она подготавливала, ему нравился этот юноша с с трезвой головой, бросавшийся в труд, как в праведную битву.
«Так-то!» — сказал он и представил себе, как он выглядит, работая по вечерам в своей комнатке над заданиями, которые он получает по почте. Эта картина доставила ему удовольствие. Никакие трудности не могли его обескуражить. Его образование было недостаточным — и он пополнял его. Да и кто когда научился чему-нибудь у преподавателей? Он сам был для себя учителем, суровым и требовательным. Он крепко держал себя в узде. А все остальное, что составляло для него зримую форму успеха, — богатство, уважение, — прекрасно могло и подождать. Ибо он уже познал опьянение истинного успеха, когда, скрывшись в своей комнате, точно в келье, трудился над сложной задачей по алгебре или геометрии и твердил себе, яростно сжимая зубы: «Они увидят, увидят когда-нибудь, чего я могу достичь!» Еще несколько лет — и он получит диплом инженера. И тогда глупцы, не умеющие сейчас оценить его по достоинству, только рот разинут. Тогда все увидят, кто такой Жан Левек! А сам он, оглядываясь впоследствии на эту пору своей жизни, будет знать, что в ней уже зрели семена его будущего успеха, что она вовсе не была жалкой и бесполезной, как это могло бы показаться.
Придя домой, он хотел было, по обыкновению, сразу же сесть за работу, но вспомнил о свидании, которое назначил Флорентине, и вновь рассердился на себя.
«А, да ладно! Не пойду, и все тут!» — решил он и раскрыл учебники и тетради. Но ему никак не удавалось сосредоточиться. Он понял, что сегодня не сможет одолеть своей обычной порции, и резко отодвинул от себя разложенные на столе книги и бумаги.
Как правило, одной вечерней прогулки в неделю было вполне достаточно для того, чтобы он отдохнул и снова начал ценить эти вечера, посвященные упорному труду. Раз в неделю, чаще всего по субботам, он в одиночестве гулял по улице Сент-Катрин, заходил в кинотеатр «Палас» или «Принсес» и заканчивал вечер изысканным ужином в фешенебельном ресторане. Потом, весело посвистывая, он возвращался в свое задымленное предместье, такой счастливый, словно получил подтверждение, что его тайные честолюбивые надежды сбудутся. Именно в эти минуты Жан особенно радовался тому, что он одинок, свободен, совершенно свободен, что его не связывают ни семья, ни слишком требовательная дружба, которая могла бы отвлечь его от осуществления намеченных планов. Такие еженедельные прогулки поддерживали его веру в то, что ему уготована исключительная судьба. Потому-то они и были ему совершенно необходимы. Ему нужно было носить красивые дорогие вещи, чтобы уважать себя, и точно так же ему нужно было время от времени смешиваться с толпой, чтобы лишний раз насладиться всей силой своей убежденности, своей могучей решимостью ни в коем случае не жертвовать ни единой частицей тех редкостных и ценных качеств, которые отличали его от других.
Он смутно ощущал в себе еще одно беспокойное чувство: он испытывал к людям глубокое любопытство, иногда похожее на жалость. На жалость или на презрение — он и сам не мог точно сказать. Но ему смутно казалось, что его постоянная потребность ощущать свое превосходство над другими должна питаться чем-то вроде сострадания к тем людям, которые более всего непохожи на него.
«Жалость или презрение?» — спросил он себя, снова возвращаясь к мысли о Флорентине. Кто она? Как она живет? Ему хотелось бы многое узнать о ней, не жертвуя, однако, ради этого ни своим драгоценным временем, ни, главное, какой-либо частицей своей индивидуальности. С тех пор как однажды, обедая в кафе «Пятнадцать центов», он заметил там Флорентину, она возникала перед ним в самые неожиданные минуты: иногда на заводе, в пляшущем пламени открытой домны, а иногда здесь, в его комнате, особенно когда ветер, вот как сегодня, сотрясал окна и неистовствовал вокруг дома. В конце концов это наваждение стало таким мучительным, что Жан видел только одно средство избавиться от него: быть с Флорентиной циничным и грубым, — тогда она возненавидит его, станет бояться, избегать и ему не придется делать такое усилие самому. После двух или трех попыток забыть Флорентину он вновь вернулся в кафе. Он опять виделся с ней, а сегодня даже позволил себе пригласить ее провести вечер вместе. Из жалости? Из любопытства? Или просто чтобы положить всему конец, потому что она должна была бы отказаться от такого грубого и бесцеремонного приглашения? Но хотел ли он, чтобы она отказалась?
Жан снова увидел ее перед собой, бледную, с тревожным блеском в глазах, и спросил себя: «Неужели она принимает меня всерьез? Неужели у нее хватит смелости прийти на это свидание?»
Он хорошо знал свое неукротимое любопытство, достигающее степени жгучей страсти, единственное чувство, которое он не старался обуздать, считая его основой всякого духовного обогащения. И сегодня его любопытство разыгралось так же, как ветер, бушующий в предместье, вдоль канала, в пустынных улицах, вокруг деревянных домиков и даже на горе.
Он снова попытался углубиться в начатую задачу, но его перо, выведя несколько уравнений, неожиданно написало имя Флорентины. Потом он нерешительно добавил слово «Лакасс» и тут же с раздражением зачеркнул его. Флорентина, — подумал он, — это юное, радостное имя, в нем звучит весна, но фамилия ее отзывает пошлостью и нуждой, которые сразу разрушают все очарование. Наверное, такая же и она сама, эта официанточка из кафе «Пятнадцать центов»: наполовину грубая девчонка, наполовину прелестная весна, но весна недолговечная, которой суждено рано отцвести.
Все эти бесплодные размышления, обычно так мало ему свойственные, окончательно испортили ему настроение. Жан встал, подошел к окну, распахнул его навстречу ветру и снегу и, высунув голову наружу, с жадностью вдохнул ночной воздух.
Ветер с воем проносился по безлюдной улице, тонкая и ослепительная снежная пыль то взвивалась в воздух, то ползла вдоль домов и снова взлетала беспорядочными прыжками, как танцовщица, подгоняемая щелканьем бича. Повелитель ветер потрясал хлыстом, а снежная пыль гибкой, безумной танцовщицей бежала, вертясь, перед ним или же по его приказу падала ниц, и тогда Жан видел только волну длинного белого покрывала, которое, чуть трепеща, развертывалось вдоль порогов домов. Но вновь раздавался свист бича, и танцовщица опять взвивала свой прозрачный шарф до уличных фонарей. Она все поднималась и поднималась, взлетая над крышами домов, и ее жалобный усталый плач бился в закрытые ставни.
«Флорентина… Флорентина Лакасс, наполовину грубая девчонка, наполовину нежная весна, наполовину песня, наполовину нищета…» — бормотал про себя Жан. Он смотрел и смотрел на пляшущий снег, и ему уже начинало мерещиться, что из снежных вихрей слагается женская фигура — образ Флорентины, что это она, измученная, но не в силах остановиться, пляшет и пляшет там, в ночи, и остается пленницей своей пляски. «Наверное, девушки все таковы, — сказал себе Жан. — Все они слепо идут, бегут, торопятся к своей гибели».
Чтобы отвлечься от мыслей, Жан повернулся спиной к окну и начал внимательно рассматривать комнату, словно черпая в этом созерцании новые силы, гордую веру в правильность своего выбора и своего понимания жизни. С низкого сырого потолка свисал электрический шнур, подтянутый веревкой к столу. Резкий свет лампочки без абажура падал на страницы книги, на листки, испещренные записями, на стопки аккуратно сложенных толстых — томов. В углу комнаты стояла электрическая плитка, на которую с шипеньем падали из кофейника капли темной пены. Постель была в беспорядке, на подушке лежало несколько книг; другие книги валялись вперемешку с брошенной одеждой на старом плюшевом кресле. Ни полочки, ни шкафа — даже стенного: в комнате не имелось ни одного уголка, куда можно было бы спрятать вещи. В ней царил хаос, словно вызванный нескончаемым переездом. Но это даже нравилось Жану. Он всегда старался придать своей комнате вид временного жилища, который снова и снова напоминал ему, что он не создан для нищеты и не примирился с ней. Такое сочетание прекрасного и уродливого в окружающей обстановке всегда было ему необходимо — оно поддерживало его решимость. Эта комната действовала на него так же, как и одинокие прогулки по ярко освещенным проспектам Монреаля. Она вдохновляла его, воодушевляла, словно препятствие, которое он должен был немедленно преодолеть. Обычно стоило ему войти сюда, и его обуревали всевозможные замыслы, честолюбивые стремления, жажда скорее сесть за книги. Все другие желания сразу оставляли его. В эти минуты он твердо знал, чего хочет. Но сегодня его крошечная каморка, казалось, утратила свои чары. Он чувствовал себя в ней как в клетке, и уверенность в себе покинула его. А из головы не выходил вопрос; «Придет она на свидание или нет?»
Он понял, что не перестанет думать о Флорентине до тех пор, пока не будет удовлетворено его любопытство. Пожав плечами, он сказал себе, что всякий жизненный опыт может быть не менее полезен, чем учебные занятия, и что удовлетворение любопытства всегда успокаивало его и духовно обогащало.
Он оделся и поспешно вышел из дому.
Улица была безмолвна: трудно найти более тихое место, чем улица Сент-Амбруаз зимним вечером. Лишь изредка мелькнет одинокий прохожий, направляющийся к тускло светящейся витрине бакалеи. Дверь открывается, на заснеженный тротуар ложится полоса света, далеко разносятся звуки голосов. Посетитель входит, дверь захлопывается, и снова над пустынной улицей между цепочкой бледно светящихся окон и темным парапетом канала простирается великое царство ночи.
Когда-то здесь предместье кончалось. Последние дома Сент-Анри выходили фасадом на открытое поле. Их остроконечные крыши и садики купались в чистом, почти деревенском воздухе. От тех старых добрых времен на улице Сент-Амбруаз сохранились лишь два-три больших дерева, корни которых еще тянулись в земле под асфальтом тротуара.
А потом прядильные фабрики, элеваторы, склады выросли перед деревянными домиками, медленно, но основательно замуровывая их и отгораживая от вольного ветра открытых пространств. Но они все еще были здесь, эти домики, с крохотными железными балкончиками и мирными фасадами, и негромкая нежная музыка, раздававшаяся иногда по вечерам за их ставнями, звучала в тишине словно голос иной, далекой эпохи. И ветер обдавал эти крохотные затерянные островки ароматами всех континентов. Даже в самые холодные ночи он доносил сюда со складов запахи зерна, прогорклого масла, патоки, арахиса, мехов, пшеничной муки и сосновой смолы.
Жан поселился здесь потому, что квартиры на этой далекой, почти никому не известной улице были довольно дешевы, а кроме того, потому, что вечерние шумы этого квартала, грохот колес, пыхтенье, и свистки, и глубокая тревожная тишина его ночей располагали к занятиям.
Правда, с приходом весны ночи переставали быть тихими. Как только открывалась навигация, многократно повторявшиеся вопли сирен с заката до восхода звучали у спуска с шоссе Сент-Амбруаз, пролетали над предместьем, и ветер доносил их даже до Мон-Руайяля.
Дом, где Жан снимал комнату, стоял прямо напротив разводного моста улицы Сент-Огюстен. Из его окон было видно, как скользят по воде баржи, танкеры, разливающие вокруг тяжелый запах нефти или бензина, лесовозы и угольщики, и все они как раз около его двери трижды гудели, требуя пропустить их на волю, к широким водным просторам, куда они доберутся еще очень нескоро, минуя множество городов, и, наконец, омоют свои кили в волнах Великих озер.
Но не только грузовые суда проходили мимо этого дома. Он стоял, так сказать, на перекрестке железнодорожных путей Востока и Запада и морской артерии Монреаля, на скрещении дорог к Великим озерам, к океану и к хлебородным равнинам.
Слева от дома блестели рельсы, а прямо перед его фасадом вспыхивал красный и зеленый огонь светофора. Всю ночь напролет — угольная пыль, перестук колес, бешеное пыхтенье пара, протяжный рев гудков, короткие вспышки над трубами барж; в этот шум вплетался пронзительный прерывистый трезвон предупредительных сигналов, а иногда над всей какофонией медленно проплывало ровное гудение пропеллера. Если Жан просыпался ночью среди всех этих звуков, ему нередко начинало казаться, что он едет куда-то на пароходе или в поезде; он закрывал глаза и засыпал с приятным ощущением непрерывного движения куда-то вдаль.
Узкий фасад дома выглядел с улицы странно скошенным, словно старался смягчить сотрясавшие его толчки. Его боковые стены расходились в стороны под острым углом, и он был похож на громоздкий корабль, чей неподвижный нос как бы рассекал гул и мглу.
Жан на мгновение прислонился к дверному косяку. Пожалуй, ничто в предместье не было ему так дорого, как этот дом. Они были словно две силы, давно уже заключившие союз и готовые выстоять среди любых испытаний.
Ветер налетел на него сбоку и чуть не сбил его с ног. Подгоняемый им, Жан пошел к западной части города, держась поближе к стенам домов. На углу улицы Сен-Фердинанд через какое-то неплотно прикрытое окно прорвался рыдающий звон гитары. Наклонившись к запотевшему стеклу, Жан увидел за выставленными в витрине рекламными плакатами, в маленьком квадратном просвете между полками, веселое румяное лицо матушки Филибер, владелицы лавочки. Восседая за прилавком на высоком табурете, она одной рукой гладила черного кота, который стучал хвостом по старому полированному дереву. На лист железа, служивший каминным экраном, были брошены мокрые пальто, шапки и перчатки, и от них шел теплый густой пар, в котором все лица казались смутными пятнами. Жан не видел гитариста, но различил деку гитары и руку, перебиравшую струны; чуть подальше он увидел другого музыканта, который выбивал двумя ложками сухую кастаньетную дробь. «Вся компания, как обычно, развлекается по дешевке», — подумал Жан.
Ему показалось, что в глубине лавочки видны два-три незнакомых лица, но он не смог их хорошенько разглядеть; на такие вечерние сборища иногда приглашали посторонних — недавно поступившего на фабрику прядильщика или какого-нибудь молодого безработного, — и матушка Филибер принимала их с тем же радушием, как и завсегдатаев. В ее лавочке уже с давних пор собиралась небольшая компания шумливых, задиристых мальчишек, почти всегда сидевших без гроша.
Жану вспомнилось то время, когда он сам работал прядильщиком и бывал здесь каждый вечер — кроме дней получки, потому что уже тогда у них сложилась определенная традиция: в субботу вечером вся компания отправлялась в кино на улицу Нотр-Дам, а в будни они возвращались к засаленным картам, музыке и другим дешевым развлечениям, которые всегда могли найти в лавочке Эммы Филибер, «толстухи Эммы», как ее прозвали. Жан подумал, что все материнское тепло, которое выпало в жизни на его долю, он получил от этой шумной, экспансивной женщины. И ему показалось, будто он снова слышит ее ворчливый голос, когда она соглашалась отпустить что-нибудь в кредит. «Ах ты, олух этакий… никогда у тебя в кармане не будет ни гроша», — говорила она попрошайке. А потом, охая и кряхтя, слезала с табурета и добавляла, понизив голос, тоном заговорщика: «Значит, тебе нужен табак, чтобы отравлять легкие и портить зубы? На, бери. Заплатишь ты, я так полагаю, после дождичка в четверг, — и затем опять громко: — Я, Эмма Филибер, не такая уж дура, ты меня не обманешь! Ни вот столечко не получишь».
Жан хотел было войти. Быть может, проведенный здесь вечер помог бы ему отвлечься от навязчивых мыслей, а главное, показал бы ему, что он не потратил эти годы даром и сумел подняться много выше своих бывших товарищей. Матушка Филибер начнет кудахтать, пожимать ему руку, щупать материю костюма, восхищаться тем, как прекрасно он выглядит. Встречая кого-либо из своих прежних попрошаек, теперь преуспевающих и хорошо одетых, она радовалась от всего сердца, как радуется директриса пансиона, когда убеждается в правильности своих предсказаний, узнав об успехах бывших воспитанниц. И сколько их прошло через ее лавочку с тех пор, как она, в тяжелые годы безработицы, чтобы прокормить мужа, купила этот «магазин сластей»: павшие духом и одержимо стремящиеся к успеху, сильные и слабые, разочарованные и сломленные, мятежные и покорные, крикуны и молчальники — все поколение, выросшее между двумя войнами, прошло здесь перед ней. «Если кто-то в Сент-Анри мог бы написать воспоминания об этой странной эпохе, так именно матушка Филибер», — подумал Жан. Чего только она, наверное, не повидала за это время! И сколько любопытных историй могла бы она порассказать! «Ну да, как же, — возразил он сам себе. — Ведь все эти краснолицые самодовольные кумушки никогда ничего не замечают, ничего не понимают и всегда всем довольны!»
В нем зашевелилось тщеславное желание похвастаться перед ней и перед всей компанией своим нынешним положением. Ему захотелось, как бывало, поразить этих наивных мальчишек своим умственным превосходством и пылким красноречием. Но тут же он подумал о бесплодности всяческих споров и о том ощущении одиночества, которое эти споры у него порождали.
Он отогнал воспоминания и пошел к улице Нотр-Дам. Нет, как видно, сегодня вечером ничто не отвлечет его мыслей от худенькой девушки с горящими глазами, от той загадочной девушки из кафе, которая снова и снова мерещилась ему в клубах пара, курящегося над тарелками.
Когда он дошел до центра предместья, часы на церкви Сент-Анри показывали без четверти восемь.
Он остановился посреди площади Сент-Анри. Это был обширный пустырь, пересеченный железной дорогой и трамвайными путями с черно-белыми столбами и шлагбаумами переезда, прогалина асфальта и грязного снега между колокольнями и куполами, заполненная воем проносящихся паровозов, гулом колоколов, хриплыми звонками трамваев и шумом людских толп, непрерывно текущих с улиц Нотр-Дам и Сен-Жак.
Зазвенел сигнал у переезда. Резкий, дребезжащий, настойчивый, он рассыпался в воздухе вокруг будки сторожа. Вдали, за свистящей метелью, Жану почудился грохот барабанов. Теперь почти каждый вечер в томительной и тоскливой темноте предместья слышался далекий топот подкованных сапог и барабанный бой, доносившийся иногда с улицы Нотр-Дам, а иногда, если ветер дул с горы, и с самого Вестмаунта, где находились казармы.
Потом все звуки словно погасли.
По предместью прокатилось долгое содрогание.
На улице Этуотер, на улице Роз-де-Лим, на улице Дю-Куван и, наконец, на площади Сент-Антуан опустились шлагбаумы. Здесь, на пересечении двух главных артерий городского транспорта, их восемь черно-белых рук, их восемь деревянных рук со светящимися в них красными фонариками, соединились, остановив движение.
У этих четырех преград, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, утром и вечером толпились люди, теснились плотные ряды глухо урчащих автомобилей. Нередко воздух разрывали яростные вопли автомобильных гудков, словно предместье возмущалось тем, что поезда все время безжалостно разрезают его на две части.
Поезд прошел. Едкий запах угольной гари наполнил улицы. Над крышами, застилая небосвод, закружился вихрь копоти. Когда она стала оседать, сначала появился верх колокольни Сент-Анри, словно призрачный шпиль, висящий в облаках. Потом обозначились часы — их светящийся циферблат словно прорвал дыру в пелене дыма; затем понемногу из дыма выступила вся церковь — высокое старинное здание в стиле барокко. Последние хлопья копоти опускались на стоящую в центре сквера статую Иисуса с распростертыми руками. Наконец, из тумана выплыли и соседние здания. Они как бы воссоздавались вновь во всем своем спокойствии и несокрушимой мощи. Школа, церковь, монастырь — вековая твердыня, запустившая глубокие корни и в сердце городских джунглей, и в холмистую долину реки. Направо и налево от площади открывались улочки с низкими домами, уходящие в кварталы нищеты, вверх — к Рабочей улице и улице Сент-Антуан, и вниз — к каналу Лашин, где предместье Сент-Анри набивает матрасы, прядет шелковую и хлопчатобумажную пряжу, включает ткацкие станки, сматывает шпули, пока содрогается земля, пока с грохотом мчатся поезда и ревут сирены, пока пароходы, пропеллеры, рельсы, свистки слагают вокруг него песню о приключениях!
И Жан с радостью подумал, что и он сам, как пароход или поезд, набирает в этом предместье скорость, чтобы, вырвавшись на простор, помчаться полным ходом. Он не слишком страдал оттого, что ему приходилось временно жить в Сент-Анри: это была только пора подготовки, выжидания.
Он вышел на виадук улицы Нотр-Дам, вздымавшийся рядом с маленьким вокзалом из красного кирпича. Его деревенский вид — башенка и узкие деревянные платформы, словно зажатые между путями — наводил на мысль о мирных путешествиях скромных рантье или о воскресных поездках принарядившихся крестьян. Но дальше, в широком разрыве между домами предместья, был виден Вестмаунт, надменный и комфортабельный, уступами поднимавшийся до самой вершины горы. Казалось, маленькая станция зовет к бесконечным странствиям в мире воображения. Здесь роскошь и нищета вечно взирают друг на друга с тех пор, как на горе существует Вестмаунт, а у ее подножия — предместье Сент-Анри. И колокольни высятся между ними.
Взгляд Жана скользнул по колокольне церкви Фомы Аквинского, по монастырской башенке с колоннами, по шпилю церкви Сент-Анри и поднялся прямо к горе. Он любил стоять здесь, на виадуке, и смотреть днем на высокие надменные подъезды, на особняки из серого или розового камня, отчетливо рисовавшиеся в вышине, а ночью — на огни, которые сияли вдали, словно дорожные сигналы, тянущиеся вдоль его пути. Тогда все его стремления, все его обиды просыпались в нем и опутывали его привычной сетью душевных терзаний. И он стоял перед этой высившейся над ним горой, негодующий и сильный.
С улицы Сент-Антуан вновь донеслось эхо мерного топота, который стал теперь как бы скрытой канвой всей жизни предместья. Война! Жан уже не раз думал о ней с непонятной тайной радостью. Разве она не была тем великим событием, которое даст ему возможность найти применение всем его силам и способностям? Сколько пропадавших втуне талантов окажутся теперь необходимыми! Внезапно война представилась ему его личной удачей, удобным случаем для быстрой карьеры. Он увидел себя в водовороте жизни, которая, сама меняясь день от дня, изменяет все ценности и которая может вознести его в этом бушующем человеческом море на гребень высокой волны. Жан хлопнул сильными смуглыми руками по каменному парапету. Что он здесь делает? Что может быть общего между ним и какой-то девушкой, которую зовут Флорентиной Лакасс?
Он попытался принизить ее в своих глазах, припоминая ее вульгарные словечки, ее угловатые движения. И внезапно его соблазнила новая мысль: он подождет здесь прихода Флорентины, но так, чтобы она его не заметила. А он все-таки получит удовольствие, увидев, что она попалась в его сети.
Он перешел улицу, спрятался в подъезде какого-то магазина и, засунув руки в карманы, стал ждать. Прошло пять минут. Он уже начал улыбаться. Она не придет, и все кончится. Да, этим все и кончится, потому что он не станет больше надоедать ей, если она вот так сразу, безрассудно, не придет к нему сама. Он дал себе еще пять минут отсрочки и впоследствии не раз спрашивал себя, какая сила удержала его в каменной нише подъезда, заставила напряженно ждать и нервничать, — ему уже хотелось с этим покончить. Мало-помалу любопытство начало сменяться чувством уязвленного самолюбия. Почему она не приходит? Неужели он ей безразличен? До сих пор те девушки, на которых он обращал внимание, слишком уж быстро отвечали на его ухаживания. Может быть, она смеется над ним? И в нем внезапно шевельнулось смутное разочарование, словно он усомнился в своем обаянии, в своей внешней привлекательности, в своем умении нравиться.
Он шагнул вперед, вглядываясь в темноту. И вздрогнул.
На углу улицы Дю-Куван показалась худенькая фигурка, приближавшаяся мелкими, быстрыми шажками.
Он сразу узнал ее. Согнувшись под ветром, придерживая шляпу рукой, она шла стремительной легкой походкой.
И тут из глубины его существа, из каких-то неведомых ему самому тайников поднялось новое странное чувство — это чувство уже не было только холодным любопытством и самолюбием, оно смягчило его душу, наполнило его непонятным теплом и юношеским волнением.
Да, ему действительно вдруг стало жаль ее. Сквозь любопытство пробилась струйка живого сострадания. Когда он увидел, как она спешит к нему, не обращая внимания на вьюгу, на ледяной ветер, он был тронут и даже немного взволнован. Ему захотелось подбежать к ней, привлечь ее к себе, чтобы помочь ей бороться против ветра, идти по скользкому тротуару, чтобы защитить ее от снежных вихрей, бушующих вокруг нее. Но вместо этого он отступил в самый темный угол подъезда и смотрел, как она приближается. Почему она пришла? Почему она поступила так опрометчиво, так легкомысленно, так безрассудно? Неужели она могла поверить, что вот сейчас, одна, в эту бурную ночь, она бежит к своему счастью?
И при мысли о том, что ее так легко завоевать, внезапная ярость заглушила в его душе голос сострадания.
«Но, быть может, она тут не остановится», — сказал он себе. Сейчас он увидит, как она пробежит мимо него своими мелкими шажками среди снежного вихря и исчезнет, словно видение. И те проблески жалости, которые еще теплились в душе, заставили его пожелать, чтобы она так и поступила.
Но, подойдя к кинотеатру, девушка замедлила шаг. Сразу было видно, что она кого-то ждет: она бродила у афиш, останавливалась и внимательно их читала, отходила в сторону, а потом опять возвращалась в пятно холодного света реклам. Жан видел, как она смотрела то направо, то налево, пытаясь проникнуть взглядом в темноту.
«Ну, вот и кончено, — сказал себе Жан, решительно махнув рукой, — и хватит думать о Флорентине. Хватит верить, что она не такая, как другие. А теперь я, пожалуй, могу уйти…»
Флорентина начала притопывать, чтобы согреться, и ее темное пальто распахивалось, открывая худые колени. Она похлопала рукой об руку, потом снова замерла перед афишами.
«А что, собственно говоря, кончено? — нервно подумал Жан. — Разве было чему кончаться? Что я чувствовал к ней минуту назад? Что же кончено?»
Группа девушек прошла мимо подъезда, в глубине которого едва виднелась фигура молодого человека. Около кинотеатра одна из них окликнула Флорентину:
— Ты ждешь кого-нибудь?
Ответа Флорентины Жан не расслышал, но увидел, как она помедлила секунду в нерешительности, бросая взгляды по сторонам. По-видимому, приятельницы позвали ее с собой в кино. Она в последний раз обвела взглядом площадь, а потом вошла за ними в ярко освещенную дверь. Жан вздохнул с облегчением. Его напряженно согнутые руки опустились, кулаки понемногу разжались. «Так что же кончено? Не приди она сегодня, разве я стал бы искать встречи с ней? Нет, конечно. Тогда что же? А, ладно, в любом случае я от всего этого избавился». По его губам скользнула улыбка, и он, посвистывая, вышел на площадь.
Однако Жана не оставляло некоторое сомнение, и минуту спустя он понял, что не вполне удовлетворен. «А откуда я знаю, зачем она пришла — на свидание со мной или чтобы встретиться со своими подругами? — спросил он себя. — Значит, ничего я и не выяснил». И он уже предвидел, что еще один вечер, а может быть, и два и даже три вечера пропадут у него для работы из-за какой-то посторонней девчонки и он по-прежнему; будет строить о ней всевозможные догадки. Чтобы перестать думать о ней, ему, в сущности, необходимо только убедиться, что она им не пренебрегает. «Да и не нужна она мне вовсе!» — воскликнул он вслух, чувствуя, что начинает терять терпение.
У него уже не было ни охоты, ни сил возвращаться к занятиям. Он чувствовал себя усталым, и ему захотелось побыть среди людей, послушать их разговоры, мысленно отметить нелогичность и несамостоятельность их суждений и лишний раз ощутить свое превосходство. Слева он увидел побелевший кирпичный фасад маленького ресторанчика «Две песенки». Рука его легла на ручку двери, из-за которой доносились звуки механической радиолы. Он отряхнул налипший на ботинки снег и вошел.
III
«Две песенки», как и большинство подобных заведений этого квартала, было не столько ресторанчиком, сколько местом, куда забегали покурить, баром-закусочной и лавочкой, где посетитель мог купить лимонад, мороженое, жевательную резинку. Название этого заведения объяснялось тем, что его хозяин, кроме всего прочего, занимался довольно необычным для своей профессии делом — продажей грампластинок с французскими и американскими песенками, которые уже вышли из моды в Монреале, но еще имели немалый успех в Сент-Анри. Входя, посетитель сразу видел пластинки, висящие на стенах и на протянутой через всю комнату проволоке. Над стойкой так же были подвешены ежедневные и еженедельные газеты, литературные и иллюстрированные журналы. Здесь же можно было и перекусить. Для этого в глубине зала были устроены отдельные кабины со столиками. Впрочем, они почти всегда пустовали, потому что завсегдатаи «Двух песенок» предпочитали съесть свою сосиску или бутерброд у стойки, разговаривая с Сэмом Латуром, хозяином ресторанчика.
Но иногда Сэму Латуру приходилось все же побеспокоиться и обслужить какого-нибудь новичка, севшего за последний столик в самом конце зала. И он делал это не то чтобы неохотно, но с видом крайнего недоумения — как кто-то может отрывать его, хозяина, от приятной беседы и заставить несколько раз пройти по залу? Если кто-либо из посетителей решительно желал сидеть в стороне, то, согласно нерушимой традиции, он должен был подойти к стойке, сделать заказ, подождать выполнения и собственноручно отнести все к выбранному им столику.
Сэм Латур не был ни угрюмым, ни высокомерным человеком, но, подобно большинству франко-канадцев, он ненавидел занятие ресторатора, требовавшее от него услужливости, которая была глубоко чужда его характеру.
И он чувствовал себя несколько униженным, когда хозяйственные обязанности вынуждали его прерывать интересную беседу, чтобы подогреть на кухне чашку кофе или бульона. Казалось, что действительно правы те соседи, которые утверждали, будто он купил этот ресторанчик только для того, чтобы «вволю поболтать». Правда, он покупал эту лавочку с явным намерением превратить ее в настоящий ресторан. Но постепенно он стал уделять все больше внимания мелкой торговле и был вполне удовлетворен тем, что он здесь сам себе хозяин, хотя дела его шли вяло, а доход был очень невелик. Смешливый жизнерадостный толстяк, он особенно любил порассуждать о политике и о войне. И вот теперь, когда он болтал с четырьмя или пятью навалившимися на стойку посетителями, в зал ворвалась струя холодного воздуха, и на пороге появился Жан Левек.
Наступило молчание, затем беседа возобновилась, но в приглушенном тоне. Ресторан «Две песенки» находился на самом бойком месте в Сент-Анри, рядом с вокзалом и со стоянкой такси, в двух шагах от кинотеатра «Картье». Здесь новое лицо привлекало гораздо меньше внимания, чем в кабачке на улице Сент-Амбруаз. И все же ненастными вечерами здесь у большой чугунной печи собирались почти всегда одни и те же люди: шофер такси, улучивший свободную минутку между двумя поездами, станционный служащий, сторож о переезда, только что сменившийся с дежурства, рабочий ночной смены. Время от времени сюда забегал то капельдинер из соседнего кино, в синей форменной куртке с красными галунами, то вокзальный носильщик, то экспедитор. Многие безработные этого квартала проводили там целые вечера.
Здесь часто говорили о войне и главным образом о призыве молодежи, который считался неизбежным. Кроме того, слухи о пятой колонне и о вездесущей тайной полиции тоже занимали все умы и рождали подозрительность. Вот и сейчас спорщики приумолкли и обернулись на вошедшего, но тут же, успокоенные его видом, продолжили разговор. Голоса постепенно зазвучали громче, и вскоре спор достиг прежнего накала.
Сэм Латур, спросив Жана взглядом, чего он хочет, подал ему лимонад, а потом вернулся за стойку и продолжал прерванную речь.
— Линия Мажино да линия Мажино, а какой от нее прок? Скажем, ты закрываешь мне путь спереди и с одной стороны, а с другой проход свободен, так что мне твоя линия Мажино? Если у Франции только она и есть, чтобы защищаться, то, боюсь, не миновать ей…
Но человек, к которому он обращался, ответил с непоколебимой уверенностью:
— Не бойся, Латур, Франция готова. У Франции есть линия Мажино. И не будь даже линии Мажино, у нее есть друзья по всему миру, чтобы ей помочь. Нет страны, у которой было бы больше друзей, чем у Франции. А эти тоталитарные страны со всеми их жестокостями… «Я выше других, и я беру власть в свои руки… Я поведу…» Так вот у этих стран друзей нет…
Это был крупный мужчина в форменной куртке шофера такси. На вид ему было лет сорок. Но свежий, здоровый цвет лица, крепкие белые зубы, живые глаза, сверкавшие воодушевлением из-под козырька шоферской фуражки, ловкие мускулистые руки — все указывало на то, что он, вступая в зрелый возраст, сохранил нерастраченными свои силы, а может быть, и запоздалый юношеский пыл. Его громкий голос был богат интонациями, и он часто употреблял звучные слова, коверкая их, не совсем понимая смысл, но с явным удовольствием вслушиваясь в их звучание.
— Францию, — он произнес это слово мягко, почти нежно, — Францию нельзя разбить. И потом, пока линия Мажино сдерживает…
— Слушай, Лакасс, — с живостью перебил его Сэм Латур, которого эта тема особенно интересовала, — предположим, я воюю с тобой. Вот я стою здесь, за стойкой. Ладно. Ты не можешь напасть на меня спереди, но что мешает тебе обойти вокруг и ударить мне в спину? Вот так. — Он изобразил нападение, а потом растерянность, быстро отступил и указал на проход сбоку. — Вот это и — есть война. Стратегия. Нет, я считаю, что линия Мажино не остановит немцев. Это большая ошибка, что Франция ввязалась в войну…
— У Франции не было выбора, — сказал Азарьюс Лакасс более примирительным тоном.
— Какой уж там выбор, когда Англия все время подталкивала ее, — вмешался молодой рабочий в комбинезоне, листавший газету и до сих пор не принимавший участия в разговоре.
Слово «Англия» еще сильнее разожгло страсти спорщиков.
— Погодите, — сказал Азарьюс. — На Англию тоже не надо очень уж злиться. Я не слишком-то люблю эту страну, но я ее вроде бы уважаю. Ничего не скажешь: она так нами правила, что мы ее вовсе и не чувствовали. Не надо валить все на Англию. Говоря по правде, у Англии во всей этой мюнхенской истории выбора было не больше, чем у Франции… Помните Чемберлена с его зонтиком?
Дружный взрыв смеха встретил эти слова; потом из глубины зала донесся сердитый голос:
— По-вашему, мы ввязались в эту войну не для того, чтобы помочь Англии?..
— Нет, я ничего не говорю, и для этого тоже, — согласился Азарьюс, — но больше всего для того, чтобы остановить кровожадную Германию, которая напала на беззащитную Польшу и уже растерзала Австрию и Чехословакию! Есть и другие причины для войны, а не только интересы Англии… Во имя гуманизма…
Низенький, коротконогий человек с хитрой физиономией подошел к стойке.
— А как же, — сказал он. — И еще чтобы спасти демократию.
Новый взрыв смеха встретил эту шутку.
— Вот-вот, демократия, — подхватил Сэм Латур. — Как завели эту песенку с прошлой войны, так ничего нового и не придумают. А что оно, собственно, значит, это красивое словцо?
— А как же, — повторил человечек с хитрой физиономией, — это похлебка для стариков, приют Святого Винцента и еще безработица; треть населения на пособии, а некоторые убирают улицу за тринадцать центов в час несколько дней в году, весной. Вот это — демократия!
— Это еще и право говорить о том, что у нас на сердце, — вставил Азарьюс.
— Ну да! — загремел Сэм Латур; его красное лицо стало насмешливым, толстый живот под белым передником задрожал от сдерживаемого хохота. — Ну да, от этого, конечно, жить куда как веселее!
Он чуть было не добавил: «Когда подыхаешь с голоду…» — но вовремя удержался, вспомнив, что среди его знакомых Азарьюсу Лакассу в годы безработицы пришлось хуже всех.
Его природная доброта взяла верх над желанием пошутить, и он хотел уже было заговорить о другом. Но Азарьюс, отнюдь не сбитый с толку, продолжал все тем же благодушным тоном:
— Да, я утверждаю, что мы воюем во имя справедливости и возмездия.
Рассеянная улыбка — эхо мыслей, теснившихся за этими словами, появилась на его губах, и в этой улыбке он сказался весь; он остался молодым не только внешне, он сохранил и неискоренимую наивную веру в добро. И только тут Жан, наблюдавший за ним из своего укромного уголка, уловил сходство, которое искал. «Отец Флорентины», — сказал он себе. И в нем заговорило презрение к этому здоровенному, добродушному простаку, ко всем этим невеждам, воображающим, будто они вправе иметь собственное мнение о грандиозной схватке враждующих сил, хотя самой сути ее они не понимают.
У стойки поднялся неодобрительный ропот. Видя вокруг себя только насмешливые или холодные лица, шофер посмотрел в глубину зала и, заметив Жана Левека, с живостью обратился к нему:
— А что вы скажете, молодой человек? Вы не считаете, что долг молодежи — сражаться? Эх, будь мне сейчас двадцать лет!
Жан улыбнулся той презрительной, сдержанной улыбкой, которая придавала его лицу жесткое выражение.
— Что я скажу?
Резко повернувшись к компании у стойки, он заговорил спокойным, язвительным тоном, отчеканивая каждое слово:
— Нам говорят, что Германия стремится нас уничтожить. А в Германии вот сейчас таких же мирных и незлобивых людей, как мы с вами, дурачат точно такими же выдумками: им говорят, что их хотят замкнуть в слишком тесных границах, не дать им жить. И там и тут кто-то дает себя одурачить. Может быть, ошибаются немцы. Не знаю. Но у меня нет никакой охоты идти убивать парня, который не сделал мне ничего плохого, который должен, хочет он того или нет, подчиняться начальству. У меня с ним нет никаких счетов. Зачем я пойду втыкать в него штык? Он так же хочет жить, как и я. Он так же дорожит своей жизнью, как и я.
Надменный тон молодого человека ошеломил слушателей. Мысли, которые он выражал, были выше их понимания и не произвели на них ни малейшего впечатления. В этом рабочем квартале к войне относились по-разному: она вызывала отвращение, любопытство, бурный протест, возмущение, страх. Но никто не видел войны вблизи, и поэтому всем им было чуждо и непонятно то сострадание, о котором говорил Жан. Его высокомерный тон окончательно настроил завсегдатаев ресторанчика против него. И все дружно засмеялись и одобрительно закивали, когда Азарьюс сухо спросил:
— Пацифист, да?
— Нет, — спокойно ответил Левек, забавляясь тем, что люди, в душах которых, словно притаившаяся болезнь, живет страх перед мобилизацией, все же способны вложить столько презрения в это слово. Он знал, что многие из них готовы были бы скрываться в лесах, спасаясь от призыва в армию, но все же скорее предпочли бы считаться дезертирами, чем пацифистами. — Нет, пацифисты — это герои. Это люди, жертвующие своими личными интересами ради идеи, в которую они верят. Много ли вы таких знаете? Я что-то замечаю одних только выжиг. Подумайте сами — война идет каких-нибудь полгода, а уж сколько людей извлекают из нее пользу! Начнем с тех, кто пошел в армию. Доллар тридцать центов в день — это не очень жирно, но все же достаточно, чтобы прокормиться. А для тех, кто работает на военных заводах, что вы думаете, для них война — не выгодное дело? Во всем обществе сверху донизу всем движет выгода. Все мы — выжиги. Или, если вам так больше нравится, постараемся не мешать нашим военным усилиям и скажем, что все мы — добрые патриоты.
В отличие от Азарьюса, который старался создать вокруг себя атмосферу дружелюбия, Жан стремился поразить своих слушателей.
— Но наш патриотизм выгоднее для тех, кто отсиживается в тылу, а не для тех, кто отправляется на фронт, чтобы их там калечили… Подождите еще год, и вы увидите немало искалеченных и услышите всякие проповеди и громкие речи, которые нас далеко заведут.
Азарьюс молча натягивал шоферские перчатки. Затем он холодно смерил молодого человека взглядом.
— Как-нибудь, если вы попадетесь мне на дороге, когда у меня выпадет свободная минутка, — сказал он, — мы еще поговорим, молодой человек. А пока не забывайте, что для саботажников есть концлагери.
— А как насчет твоей свободы слова? — вставил, смеясь, Сэм Латур.
Азарьюс наклонил голову и улыбнулся сдержанной улыбкой; он не был лишен чувства юмора.
— Ну ладно, время идет, — сказал он, не обращая больше внимания на Левека, — и скоро прибудет следующий поезд…
Разговор продолжался, но уже безобидный, спокойный.
— Вам, наверно, теперь полегче живется? — спросил Латур Азарьюса.
— Да, ничего, могло быть и хуже… — ответил Лакасс. — Дочь по-прежнему работает… рядом тут в «Пятнадцати центах».
— Это Флорентина, твоя старшая? Ну что ж, неплохая помощь семье, верно?
Услыхав знакомое имя, Жан нагнулся вперед и внимательнее пригляделся к шоферу. Этот человек вызывал у него неприязнь, смешанную с острым любопытством. «Идеалист и ничтожество», — решил он. Глядя на этого мечтателя, он представлял себе жизнь их семьи — неспокойную, неустроенную.
— Да, — сказал Азарьюс, — с тех пор как у Флорентины появился постоянный заработок, нам живется полегче.
Он встряхнул головой и покраснел.
— Оно верно, это не дело, чтобы девочка отдавала весь свой заработок семье… Мне это не нравится, Латур… Мне это не нравится, и с этим надо поскорее кончать… Вот если бы опять начали строить…
— Мне кажется, недолго ты пробудешь в шоферах…
— Ко всему привыкаешь, — отрывисто произнес Азарьюс. — Но я скоро брошу, честное слово… Это же собачья жизнь…
Он на секунду прислонился к стойке, словно обессилев, казалось, он прислушивается к отзвуку поражения в своей душе, к тому глухому осуждению, которое иногда создают вокруг нас обстоятельства нашей жизни.
И этот замирающий голос, этот нерешительный взгляд вдруг напомнили Жану Флорентину. Шофер так же, как и его дочь, тяготился своей работой и был плохо приспособлен к повседневной жизни. Но более обреченным из них двоих, пожалуй, казался не отец, а Флорентина, сказал себе Жан; и, вновь вспомнив, как Флорентина бежала сквозь бурю, он внезапно понял, какое смятение царило в ее душе.
Он оказался около двери почти одновременно с Азарьюсом и вышел первым, наклонив голову под ветром.
Бледное напряженное лицо официантки снова всплыло перед его глазами, и его больше, чем когда-либо, злило то любопытство, которое она у него вызывала. Девушка, ненавидевшая свою работу, ненавидевшая каждую минуту своей рабской жизни и в то же время отдававшая почти весь заработок в семью; девушка, исполненная отвращения к своему скучному повседневному труду и самоотверженной привязанности к своим близким. Совсем незнакомая ему Флорентина.
Он свернул наугад в один из темных переулков, выходящих на улицу Нотр-Дам. И, проходя под тусклыми фонарями, он всякий раз видел справа и слева на стенах домов объявления: «Сдается внаем».
Непоседливыми жителями предместья уже овладела ежегодная тяга к переезду.
— Значит, идет весна, — сказал себе Жан.
И он подумал, что объявления «Сдается внаем» следовало бы приклеивать не только к домам. Их следовало бы вешать и на людей. Сдаются внаем их руки! Сдается внаем их праздность! Сдаются внаем их силы, И прежде всего их мысли, которые можно с легкостью изуродовать на любой лад и увлечь по ветру в желаемом направлении. Их энергия, столько лет пропадавшая втуне, их застывшие надежды заставляют их быть готовыми на все. Они, как эти дома, готовы к неизвестному. Готовы стряхнуть с себя талый снег и плесень. Готовы ответить на зов, который перелетает через границы и разносится быстрее набата. Готовы к войне.
— А я сам, к чему готов я? — спросил себя Жан, потому что иногда он все же сомневался, правильно ли он выбрал свой путь. Два чувства, почти равной силы, боролись в его душе, открывая перед ним два противоположных пути. Но в конце-то концов, мог же он позволить себе поколебаться, вообразить, как он идет по пути бескорыстного служения людям, который, надо признаться, иногда всерьез его соблазнял. Ибо на самом-то деле он вряд ли сомневался, какой путь он изберет и к какой конечной цели будет стремиться.
IV
Пока Жан Левек бесцельно брел по городу, сожалея, что возле него нет сейчас друга, которому он мог бы излить душу и похвастаться своими успехами, единственный человек, чьим мнением он по-настоящему дорожил, направлялся к лавочке матушки Филибер.
Подойдя к тускло освещенной двери, он споткнулся о скрытую под снегом приступку и с громким «бр-р-р!» влетел в маленький зал.
— Вот тебе раз, да это Эманюэль! — вскричала матушка Филибер.
— Вот тебе раз, да это матушка Филибер! — откликнулся ей в тон вошедший и бросился к ней за прилавок, где она искала туфлю, которую уронила с ноги, второпях слезая с табурета.
— Матушка Филибер, — заявил он, — а ты все такая же толстая и круглая! И все такая же красивая, — добавил он, ущипнув ее за подбородок.
— Дурачок! — бросила она, смеясь и поправляя свой шиньон. Видно было, что неожиданный приход Эманюэля ее обрадовал.
Но вдруг она заметила мундир молодого человека, притихла и сразу стала серьезной.
— Эманюэль, так ты и вправду пошел в армию?
Трое парней, сидевших около одного из трех столиков, наблюдали эту сцену: один — оживленно, словно щенок, который хочет, чтобы с ним поиграли, другой — мрачно и хмуро, а третий — со скучающе-равнодушным видом.
— Питу, Буавер… и Альфонс, Альфонс тоже тут! — перечислил Эманюэль, оборачиваясь к каждому по очереди и каждому помахивая рукой.
Высокий, очень худой, неловкий в движениях, раскрасневшийся от мороза, сияющий откровенностью и дружелюбием, он стоял посреди комнаты, несколько смущенный молчанием, которое было ответом на его приветствие.
— Как дела, ребята? — спросил он.
— Порядок, — ответил Буавер, — высший класс, только ты заслонил мне огонь. — Потом он заворчал: — Закрой-ка дверь поплотнее. Ты что, не заметил, что на улице холодина? Не меньше двадцати ниже нуля. Там, видно, очень жарко, откуда ты явился!
— Да ничего, — растерянно ответил Эманюэль.
Питу, сидевший на прилавке, свесив ноги, с гитарой на коленях, робко поглядывал на него и беспричинно улыбался. Альфонс, устроившийся немного поодаль, в тени, тоже улыбался. «А трудно все-таки снова встречаться с людьми, даже если расстался с ними совсем недавно», — подумал Эманюэль Летурно. Он еще колебался, не зная, присесть ли на минутку или купить пачку сигарет, плитку шоколада — и сразу же уйти.
В детстве он играл с этими ребятами, хотя его мать, желавшая для своего сына лучшего общества, была этим очень недовольна. Однако потом он поступил в коллеж Сент-Анри, а им уже в тринадцать — четырнадцать лет пришлось искать работу. Когда Эманюэль был в последнем классе коллежа, он, не поладив с отцом, сгоряча бросил занятия и нанялся прядильщиком на фабрику на улице Сент-Амбруаз, — там его вскоре назначили контролером цеха, и такое удивительное для тех трудных времен везенье сразу подняло его престиж в глазах безработных приятелей. Но теперь их уже ничто больше не связывало, кроме воспоминаний о начальной школе, которую хоть некоторое время обязательно посещали все дети предместья: сыновья зажиточных горожан, маленькие оборванцы с канала Лашин, бледные, болезненные дети из семей, живших на пособие по безработице. Все они сидели рядом на скамьях приходской школы, и в сознании Эманюэля навсегда запечатлелась увиденная им тогда картина безысходной нищеты. Поэтому он старался не терять окончательно из вида тех, кого любил, когда они были еще уличными мальчишками: малыша Буавера, умного и хитрого, но настолько изголодавшегося, что он больше думал о том, как бы стащить яблоко или орех из кармана товарища, чем о занятиях; малыша Альфонса, уже тогда желчного и молчаливого. И Питу, который, порвав штаны, не решался вернуться домой, боясь, что его будут бить; Питу, который три недели не появлялся в школе, потому что у его матери не было ниток, чтобы зачинить дыру; Питу, который пришел, наконец, в класс в брюках своего старшего брата, который умер от туберкулеза!
В этих троих Эманюэль увидел подлинное лицо своего поколения — измученного, насмешливого, ко всему равнодушного. И в тот день, когда он ушел с работы, чтобы записаться в армию, смутные, тревожащие воспоминания о днях детства сопровождали его, и он понимал, что они сыграли свою роль в его решении.
Всего несколько месяцев прошло с того времени, когда он после работы заходил сюда, заказывал бутылку лимонада, пачку сигарет и угощал своих друзей, сидевших кружком в этой низкой комнате, и, однако, сейчас, едва переступив порог, он уловил в их поведении скрытое замешательство. Потом он понял: их настраивал против него солдатский мундир. Попав в предместье Сент-Анри, Эманюэль сразу заметил на лицах прохожих такое же замешательство и даже немое осуждение. Когда он шел один по улицам, он упорно старался хоть как-то вернуться к своей прежней манере держаться.
Матушка Филибер, несколько озадаченная военной формой Эманюэля, была тем не менее в восторге от его прихода. Она, сияя, заставляла его поворачиваться во все стороны и рассматривала с головы до ног.
— Ну, так садись же, Манюэль, — проговорила она наконец с подчеркнутой предупредительностью. — У нас тут многое изменилось с тех пор, как ты уехал… Садись, пожалуйста… А ты хорошо выглядишь, только очень уж худой… Вас там хоть сытно кормят, в армии-то?
— Вот уж что да, то да, — улыбаясь, ответил Эманюэль. — Есть что пожевать.
И от этой улыбки его лицо приобрело свойственное ему выражение доброты. У Эманюэля были карие глаза, чуть выдающиеся скулы и немного сдавленный в висках лоб. Разговаривая, он слегка наклонял голову набок, словно шея его была слишком слаба для такой ноши. Тонкими нервными пальцами он пошарил в кармане брюк, вынул зажигалку и пачку сигарет, угостил окружающих, а потом взял сигарету сам, закурил и откинулся на спинку стула. Посреди маленького зала рдела чугунная печь, и лицо матушки Филибер, как всегда, обрамляли банки с перечной мятой и розовыми леденцами. Звоночек над дверью позвякивал при каждом дуновении ветра. Буавер, верный своей привычке, вынул перочинный нож и начал подрезать ногти. Нет, здесь решительно ничто не изменилось, сказал себе Эманюэль, только сам он теперь смотрит на свою жизнь по-иному. Со вздохом удовлетворения он протянул ноги к огню.
— Ты всегда был своим парнем, — заметил Питу.
Он курил скупо и осторожно, с комическим ужасом глядя, как укорачивается сигарета.
— У тебя всегда можно было перехватить сигаретку, — продолжал он, — не то что у Буавера… Этот на улицу уйдет курить один, только бы не дать другому затянуться. Нет, ты мировой парень.
Питу устроился на своем обычном месте — на холодильнике, в котором стояли бутылки с лимонадом. Взгромоздившись на красный железный куб, он покачал зажатой между колен гитарой, потом схватил фуражку Эманюэля и лихо надвинул ее себе на лоб.
— Ах ты, сопляк, — отозвался Буавер. — Только и умеешь, что клянчить сигареты. Сам-то ты хоть раз дал сигарету другому?
Питу пожал плечами, скорчил гримасу, затем соскользнул на пол, пошатнулся, но удержался на ногах и, став у витрины, принялся любоваться своим отражением, примеряя фуражку то так, то эдак.
Сдвинув пятки худых ног, он вдруг спросил:
— Ты сколько времени уже в армии, Манюэль? Четыре месяца? И тебе там нравится? Как там живется парню?
— Неплохо, — ответил Эманюэль.
Наступило молчание. Альфонс пошевелился на своем стуле, и — как бывало всегда, когда в этом длинном нескладном теле просыпалась жизнь, — взгляды всех присутствующих сразу обратились к нему. Он сидел, развалясь на стуле, закинув руки за голову и положив ноги на экран перед печкой.
— Почему ты записался, Манюэль? — медленно заговорил он. — У тебя была хорошая работа. Не пыльная. Тебе не нужно было идти в армию, чтобы прокормиться.
— Нет, конечно, — ответил Эманюэль.
И, засмеявшись, добавил:
— Вовсе нет!
— Так, значит, ты вправду бросил работу, чтобы пойти в солдаты! — воскликнула матушка Филибер. — Я не могла поверить! Зачем ты это, Манюэль?
— Вы знаете, матушка Филибер, сейчас война… — сказал Эманюэль.
— Знаю, конечно, но ведь она так далеко… Нам-то что до нее?
— Как что, — вмешался Питу. — Нельзя же позволить разбить всех, как этих поляков…
— Поляки, поляки! — взорвалась матушка Филибер. — Это же совсем другой мир!
— На земле нет двух миров, — заметил Эманюэль рассеянно, словно продолжая свою мысль и еще не успев подумать об ответе.
— Не говори мне, пожалуйста, — возразила матушка Филибер, — будто поляки или украинцы такие же люди, как и мы… Они бьют своих жен и едят чеснок…
Она нервно забарабанила пухлыми пальцами по прилавку, ее пышный бюст колыхался от волнения. Черный кот, решив, что его хотят приласкать, подсунул ей свой розовый нос, и матушка Филибер почесала у него за ухом.
— Ну, так вот что я тебе скажу, — уже сердито бросила она. — Просто ты наслушался этих краснобаев, которые охотятся за парнями по всему городу… будто я не знаю — тебя подпоили, вот ты и записался…
Эманюэль улыбнулся, но улыбка не удержалась на его худом лице. Она тронула его губы, мелькнула в глазах и исчезла, сменившись задумчивым выражением, наполовину горестным, наполовину растроганным. Вот оно перед ним, думал он, это пугающее безразличие человеческого сердца ко всеобщности страдания, безразличие, вызванное не расчетом и даже не эгоизмом, а просто стремлением выжить во что бы то ни стало, затыкая уши и закрывая глаза, выжить среди этой повседневной убогости.
— Но, матушка Филибер, — заговорил Эманюэль, пытаясь успокоить ее, — если соседний дом горит, вы же броситесь на помощь!
— И дура буду!
— Ха! Пожаров и паршивой нищеты — этого и тут, вокруг, сколько хочешь. За этим не стоит отправляться на край света, — вмешался Буавер.
— Я это знаю, — сказал Эманюэль, — и уж поверь мне, я завербовался совсем не для того, чтобы спасать Польшу…
— Так зачем же? — озадаченно спросил Буавер.
Он был невысок ростом, его длинные бесцветные волосы свисали на уши жесткими прядями, глаза были живыми и беспокойными. Разговаривая, он продолжал подрезать ногти перочинным ножом, по временам останавливаясь и тыча лезвием в сторону собеседника. Затем, нахмурив брови, он принимался скусывать заусеницу с большого пальца, грыз ее с такой яростью, что его глаза округлялись и становились страдальческими, и наконец выплевывал отгрызенную кожицу прямо на пол.
Эманюэль долго смотрел на него сквозь голубоватую пелену дыма, сначала с презрением, потом с пониманием. Его бледное, красивое — пожалуй, чересчур красивое — лицо было слегка наклонено вперед, и тени подчеркивали худобу его щек. Как только он переставал сердиться, его глубоко посаженные темные глаза становились очень мягкими.
— А ты никогда не думал, что, помогая другому, ты помогаешь и себе? — спросил Эманюэль.
— Псих! — бросил Буавер. — Теперь хватает хлопот и самому-то выкарабкаться!
Он догрыз твердый кусочек кожи, закрыл перочинный нож и, пренебрежительно выпятив нижнюю губу, вышел на середину комнаты.
— Вот что я вам скажу: последние пятнадцать или двадцать лет наше общество нами не интересовалось. Нам говорили: «Устраивайтесь, выпутывайтесь, как можете!» А потом пришел день, когда оно вдруг нас заметило. «Идите меня защищать! — кричит оно. — Идите меня защищать!»
Он остановился перед Эманюэлем — крепкий, коротконогий, с непослушной прядью, спадающей на лоб.
— Тебе всегда везло. Если ты хочешь строить из себя героя — это твое дело. У каждого свой бизнес. Но нам-то что до этого общества? Взять хотя бы меня или Альфонса. Что оно нам дало, это общество? Ничего. А если тебе еще мало, то вот Питу. Сколько ему лет? Восемнадцать… И у него за всю жизнь не было ни одного дня платной работы. А ведь скоро пять лет, как его вышибли из школы, и он все время ищет работу. Это справедливо, да? Три года он повсюду бегает, а научился только неплохо играть на гитаре. И вот наш Питу уже курит, как взрослый, жует резинку, как взрослый, сплевывает, как взрослый, но за всю свою чертову жизнь он еще не заработал ни одного цента! Ты считаешь, что это хорошо? А по-моему, это гнусно!
Питу, неуравновешенный, чересчур впечатлительный парнишка, кивал своей круглой, курчавой головой и время от времени слегка пощипывал струну гитары, откликавшейся печальным звоном. Слащавое сочувствие Буавера, каким бы показным оно ни выглядело, заставило Питу остро ощутить все горести своей жизни, В другое время он показал бы Буаверу язык, но сейчас, когда его представили жертвой, он решил, что Буавера следует поддержать.
— Это верно, — сказал он. — Я не проработал еще ни одного дня с тех пор, как ушел из школы. Продавать газеты я уже велик, а на фабрике я тоже не нужен. Никому я не нужен.
— А я что говорю! — подхватил Буавер. — Вот и опять выходит, как я сказал: общество нам ничего не дало. Ничего…
— Стыда у тебя нет! — вскричала матушка Филибер. — Говорить мне это в глаза, когда вы каждый вечер греетесь здесь, у моего огня…
— Не об этом речь, — возразил Буавер. — Наше общество… — снова начал он.
— В мое время, — проворчала Эмма, — не говорили о том, что ему ничего не дают. Говорили о том, как бы самому что-то дать…
— То было в ваше время, — отрезал Буавер. — А теперь не так. И я говорю: общество ничего не дало нам…
— Постой, постой, — лениво пробормотал Альфонс. — Это не совсем так. Общество кое-что нам дало. Все-таки оно кое-что дало, этого отрицать нельзя. И знаете, что оно нам дало?
Он сидел в полутьме и говорил, вяло сощурив глаза, без единого жеста, едва шевеля губами, так что казалось, будто этот голос принадлежит не ему, а кому-то, скрытому за его спиной.
— Ладно, сейчас я вам скажу. Общество дало нам соблазны.
— Да вы совсем идиоты! — сердито вскричала матушка Филибер.
— Нет, не такие уж идиоты, — мягко возразил Эманюэль. — Так что ты хотел сказать, Фонс?
Наступило молчание. Потом послышался язвительный смешок Альфонса, и его глухой голос поплыл во тьме, как часть этой тьмы, как самовыражение этой тьмы.
— Вам приходилось когда-нибудь бродить с пустым карманом по улице Сент-Катрин и пялить глаза на все, что есть в витринах? Ну ясно, да. Я тоже так бродил. И немало повидал я красивых вещей, вряд ли кто повидал столько. У меня хватало времени смотреть на красивые вещи — лаже слишком. Сколько же всего перевидал я, слоняясь по улице Сент-Катрин, этого и не расскажешь! Всякие паккарды, и бьюики, и спортивные машины, и такие, чтобы просто кататься. И еще всякие восковые шлюхи — и в бальных платьях, и почти голые. Чего только там нет, на этой улице! Мебель, спальные гарнитуры, и опять восковые девки в шелковых тряпках!.. И спортивные магазины: клюшки для гольфа, теннисные ракетки, лыжи, удочки! А ведь если у кого нашлось бы время позабавиться всем этим, так это у нас, верно? Но нам единственная забава — это смотреть! А всякая жратва! Ходили вы с пустым брюхом мимо ресторана, где полегоньку поджаривают на вертеле всякую дичь? Но этого мало, друзья! Общество тычет нам все это в глаза: все, что есть хорошего, оно тычет нам в глаза. И не думайте, оно не только тычет это нам в глаза. Нет, нам еще советуют покупать. Можно подумать, будто оно боится, как бы соблазнов не было слишком мало. Нас так и зазывают покупать всякое барахло. Включите только радио, и что вы услышите? То какой-то господин из кредитного общества предлагает вам взаймы пятьсот долларов. Ребята, на это же можно купить подержанный бьюик. В другой раз какой-то тип предлагает почистить наши лохмотья. Или вам говорят, что глупо жить не по-современному и не иметь в доме холодильника. Разверните сейчас газету. Покупайте все, про что там написано — полные страницы, господа! Покупайте сигареты, добрый голландский джин, пилюли от головной боли, меховые манто. Никто ни в чем не должен себе отказывать — вот что они поют нам с утра до вечера. В наш век прогресса все имеют право жить в свое удовольствие… Вы идете на улицу. И тут общество соблазняет вас световыми рекламами. В них и отличные сигареты, и вкусный шоколад — в этих огненных буквах, которые так и пляшут над вашей головой, и тут и там, куда только не взглянешь!
Он вышел из своего угла и встал под самой лампой — худой, долговязый парень с ячменями на глазах и длинными оттопыренными ушами.
— Да, соблазны — вот что дало нам общество, — продолжал он. — Везде соблазны. Весь проклятый кабак, именуемый жизнью, устроен так, чтобы нас соблазнять. Тем-то оно нас и держит, и крепко держит. Можете не воображать — все мы в конце концов попадемся. Да и не очень-то сильно нужно нас соблазнять, чтобы мы решились пожертвовать своей жалкой нищей жизнью. У меня есть знакомый парень, который пошел в армию — знаете почему?
Он пошарил в кармане, вынул зубочистку и сунул ее в рот.
— Чтобы иметь зимнее пальто. Ему осточертело одеваться в рванье, пропахшее потом и луком, купленное у евреев-старьевщиков на улице Крэг. И вот этому парню вдруг до смерти захотелось, чтобы было у него хорошее зимнее пальто с золотыми пуговицами. И, скажу я вам, он таки их сейчас чистит и полирует, эти золотые пуговки. Ну, они ему недешево обошлись…
Какое-то мгновение он пристально смотрел на Эманюэля.
— Хочешь, я тебе расскажу еще одну? — спросил он. — Еще одну из моих историй?
Эманюэль нетерпеливо улыбнулся. Он знал, что остановить Альфонса, когда тот начинал свои сбивчивые рассказы, так же трудно, как в другое время вывести его из угрюмого молчания.
— Здорово загибаешь, — сказал он. — Но все-таки интересно. Иногда у тебя ум за разум заходит, но слушать тебя забавно.
— Да, я забавный, — согласился Альфонс, желчно усмехнувшись. — На меня забавно смотреть, меня забавно слушать. А как-нибудь на днях я стану забавным мертвецом.
Он поднял больные веки, что делал очень редко, и его лицо мгновенно преобразилось. Как ни странно, вся привлекательность этого невзрачного лица таилась в глазах — больших, красивого темно-голубого цвета и порой даже ласковых.
— Будьте покойны, все, кто еще на что-нибудь годен, сами пойдут в армию, — продолжал он с горечью. — И этого ждать недолго… Слушай, я знаю еще одного парня. Он завербовался, чтобы жениться. Понимаете, это неплохо придумано: десять дней отпуска, а потом небольшая пенсия для мадам, пока парень будет подставлять лоб под пули, чтобы расплатиться за свадьбу. Этот парень уже пять лет гулял со своей девушкой, и они так и кружили по паркам и переулкам — им не было места, где бы присесть…
— Но одно ты забыл, — заговорил Эманюэль в наступившем молчании. — Ты забыл самый большой соблазн.
— Какой же еще? — пробормотал Альфонс.
— Соблазн, который бывает у медведей, у зверей в клетке и у карликов в цирке… соблазн сломать клетку и вырваться в жизнь. Об одном соблазне ты не упомянул, старина: о соблазне драться.
— Драться? — сердито спросил Буавер. — А зачем драться?
— Потому что, — продолжал Эманюэль, глядя ему в глаза, — это твой единственный шанс снова стать человеком. Черт возьми, разве вы не понимаете, — воскликнул он с жаром, — что надо драться именно ради этого?!
Он начал горячиться и, прикидывая, как бы лучше убедить слушателей и точнее передать свою мысль, сжимал кулаки, умолкал в нерешительности, нахмурив брови; затем глаза его снова вспыхивали энтузиазмом, и опять звенел взволнованный голос:
— Разве вы не понимаете, что люди, которые сражаются теперь, потребуют кое-чего еще, кроме медных медалей?
Альфонс лениво поднял веки, окинул Эманюэля рассеянным взглядом и ухмыльнулся:
— Ну, и что же, ты думаешь, они получат? Ту же любимую родину. И так же будут переругиваться миллионеры там, на горе, и безработные здесь, внизу.
Еле уловимая улыбка скользнула по лицу Эманюэля. Буавер уже не принимал участия в разговоре. Он улегся поперек стола и что-то невнятно бормотал.
— Они получат жизнь, — ответил Эманюэль.
— Жизнь в воронке от бомбы среди разрывающихся гранат, — пробурчал Альфонс. — Очень ловко ты все устраиваешь.
— Да заткнитесь вы наконец! — вдруг завопил Буавер. — Все это — просто трепотня. У нас есть только один шанс: чтобы побольше таких ребят, как вы, ушло в армию. Вот тогда и для нас найдется место. В мире не хватает места. На земле слишком много людей.
Тремя взмахами руки он откинул волосы со лба, пригладил их, затем с вызывающим видом обвел всех взглядом.
— Нет, продолжай, Манюэль, — вмешался Питу. — Ты говоришь дело. Я тебя слушаю. Давай!
— Так вот, — заговорил Эманюэль, обращаясь теперь только к рыжему мальчишке, — видишь ли, в клетках за стальными прутьями нас держат деньги. Те, у кого деньги, те и решают, будете вы работать или нет, устраивает их это или нет. Но теперешняя война уничтожит проклятую власть денег. Вы слышите, как они постоянно заявляют, что ни одно государство не выдержит, если им приходится расходовать уж не знаю сколько миллионов на суда, которые тут же топят, на самолеты, которые тут же жгут, на танки, которые держатся только три дня. Деньги, идущие на уничтожение, сами уничтожаются. Что ж, тем лучше! Ведь деньги — это не богатство. Богатство — это наш труд, наши руки, наши головы — наши, всего народа. И вот это богатство останется после войны. Оно и создаст справедливую жизнь на земле для всех простых людей.
— Это мы, — продолжал он более мягким тоном, — всегда давали то, что нужно давать войне. Мы дадим и теперь. Но на сей раз уже не напрасно. Приближается день, когда надо будет платить по счету…
Но тут его мысль словно наткнулась на какое-то препятствие, и он, как бы почувствовав, что не может выразить в словах свое убеждение, заколебался, улыбнулся и умолк, оставив фразу недоконченной.
— Да, — подхватил Альфонс, воспользовавшись паузой, — многим хотелось бы в это верить, но…
Его веки снова опустились. Он умолк и, заметив, что Эманюэль собирается уходить, с трудом поднялся на ноги.
— Подожди, — высокомерно бросил он, — мне с тобой по пути. Все это, — вздохнул он, протягивая руку за пальто, — все это одни красивые слова. И от них мало проку парню, которому сейчас нужен доллар или четвертинка. Доллар или бутылка виски куда полезнее для настроения…
Эманюэль повернулся к прилавку, чтобы попрощаться с матушкой Филибер, но она уже задремала, положив голову на согнутую руку и подпирая пальцем дряблый двойной подбородок.
Эманюэль быстро вышел на улицу, Альфонс за ним. А позади легкий, обо всем забывший голос Питу уже завел песенку, в которой говорилось о мирных равнинах, о вольных оленях, о наивных оленятах с большими кроткими глазами, о величественном спокойствии лося, который идет вечером к водопою среди тростников, — о необъятном одиночестве. Питу пел, чуть слышно перебирая струны:
— Длин, длин, длон…
Этот жалобный звон несколько минут летел за Эманюэлем и Альфонсом, а потом все утонуло в диком вопле ветра.
Зима вновь начала стегать прохожих тонкими хлыстами. Альфонс весь дрожал и взял Эманюэля под руку, чтобы немного согреться.
— Если ты не торопишься, идем со мной, — сказал он и тут же добавил без видимой связи: — Питу повезло, у него есть его музыка. Да и Буавер, когда кончает ломаться на людях, тоже занимается кое-какими делишками. Ему, видите ли, плевать на общество, но в душе-то он только и мечтает, как бы найти в этом обществе теплый уголок… С ним все в порядке…
Он внезапно прибавил шагу.
— А мы — мы думаем. Размышляем. А размышлять — от этого нет никакого проку…
Язвительный смешок оборвал фразу.
— Есть три хороших способа, чтобы не думать: первый — это поработать в одиночестве веслами. Второй — выпить бутылку виски. Но это не очень-то для бедняков. И есть еще третий…
— Какой? — с любопытством спросил Эманюэль.
— Скажу в свое время, — ответил Альфонс. — Не стоит строить планы, пока нет уверенности.
Они повернули на улицу Сент-Амбруаз, к элеваторам, чьи силуэты то проступали сквозь снежные вихри, то вновь тонули в них.
После минутного молчания Альфонс снова заговорил:
— У тебя есть с собой деньги?
— Говори прямо, — сказал Эманюэль. — Сколько тебе нужно?
— Один доллар, — злобно ответил Альфонс. — Я никогда не занимаю больше одного доллара зараз. А то ведь так можно и залезть в долги, что ты думаешь!
Эманюэль расстегнул пальто и достал кошелек.
— Ладно, не горит, — буркнул Альфонс.
Он время от времени тяжело переводил дух и подталкивал Эманюэля в спину, словно поторапливая.
Они свернули в полутемный переулок. Здесь Альфонс замедлил шаг, вглядываясь в номера домов. Наконец он остановился. На третьем этаже грязного дома, нижний этаж которого был занят прачечной, брезжил в окне слабый огонек. Увидев между ставнями этот красноватый свет, Альфонс сжал локоть Эманюэля. Казалось, он больше не ощущал холода. Он даже расстегнул свое жалкое пальто и несколько раз провел платком по лбу. Ветер плотно прижимал пальто к его телу, обрисовывая тощую, уже сутулую фигуру юноши, и яростно бушевал вокруг него.
— Ну ладно, порядок, Шарлотта еще не переехала, — сказал Альфонс.
И тогда Эманюэль понял. Мгновение он колебался, потом сунул Альфонсу доллар, который уже несколько минут держал в руке, и молча ушел.
Выйдя на улицу Нотр-Дам, он продолжал бесцельно брести куда глаза глядят. В нем внезапно пробудилась жажда нежности. Он старался вспомнить лица девушек, которых он не так давно водил в кино, встречал на вечеринках. Он легко вспоминал их имена, но лица оставались смутными и неясными. «Клэр, Алина, Иоланда», — бормотал он, чтобы помочь своей памяти. Но ничто не взволновало его. Все эти девушки представлялись ему видениями иной жизни, жизни беспечного юноши, из которой он бесповоротно ушел, как только надел военный мундир. Сейчас он признался себе, что, в сущности, никогда еще не любил по-настоящему. Раз или два ему казалось, что его увлекло хорошенькое личико, но тут же мечта пробуждалась в его душе и молила его подождать.
И чем дальше он шел по улицам, тем яснее сознавал, что ему нужна дружба — но дружба новая, необычная, достойная всей напряженности его странного ожидания. Однако что же он, собственно, хочет обрести? Дружбу? Или какую-то еще неясно понятую частицу собственной души, которую могло бы осветить сияние этой дружбы? Но как бы то ни было, он чувствовал себя таким одиноким, таким расстроенным, что готов был заговорить с первым встречным. Многие из его товарищей по казарме рассказывали ему о таких же ощущениях, и поэтому он понимал, что это желание, эта потребность с каждым отпуском будет становиться все сильнее и острее.
Вдруг ему показалось, что в идущем впереди прохожем он узнает Жана Левека. Он ускорил шаг, чтобы догнать его. В школе они были неразлучными друзьями. И позже, хотя им удавалось встречаться лишь изредка, их странная дружба сохранилась, несмотря на все различие их взглядов, — а может быть, именно благодаря тому взаимному тяготению, которое часто испытывают люди противоположного склада характера.
Прохожий, которого он догонял, завернул в кабачок. Следом за ним туда же вошел и Эманюэль. И за одним из столиков в глубине зала он действительно увидел Жана.
— Ба! — воскликнул Левек, увидев его. — А я как раз думал о тебе, доброволец… Ты что, явился в Сент-Анри зазывать нас в армию? — пошутил он с обычной язвительной улыбкой, которая, однако, сейчас была смягчена дружелюбием.
— Да, я именно за тобой, — в тон ему ответил Эманюэль.
Наступило минутное молчание. Жан, подперев голову рукой, сказал негромко:
— Мы с тобой очень разные люди: ты думаешь, что преобразуют мир, поведут его за собой солдаты, а я считаю, что это сделают те, кто останется в тылу и сколотит себе за время войны капитал.
Эманюэль нетерпеливо махнул рукой. Ему совершенно не хотелось снова говорить о своем решении. Он чувствовал себя опустошенным, и только тревожное беспокойство не покидало его. Вновь и вновь объясняя мотивы своего поступка, он лишь пробудил в своем сердце естественное для него стремление к веселью, к нежности, к радости, а впереди ничто не сулило ему ни любви, ни счастья.
— Два бокала бархатистого, — сказал он подошедшему официанту и, повернувшись к Жану, печально проговорил: — Прошло всего лишь три-четыре часа, как я приехал, а мне уже тоскливо…
— А Фернанда, Югетта, Клэр, Иоланда? — шутливо перечислил Жан.
Эманюэль наклонил голову, чтобы скрыть судорогу, пробежавшую по его лицу. Помолчав, он спросил:
— А ты — ты уже встретил девушку… настоящую девушку?
— Таких не бывает, — ответил Левек.
Как только официант поставил на стол бокалы, он сделал большой глоток и вдруг, словно ослепленный, остановился. Перед ним всплыл образ Флорентины, бегущей к нему сквозь вьюгу.
— А! — сказал Эманюэль, заметивший, как изменилось его лицо. — О ком ты подумал?
Левек закурил сигарету. С его губ чуть было не сорвалось имя Флорентины. Потом он машинально разломал спичку на маленькие кусочки, бросая их один за другим в пепельницу. Лоб его пересекла морщина, но он улыбался, показывая зубы — ровные, крепкие зубы человека, способного многое вырвать у жизни.
— Об одной девушке из «Пятнадцати центов»… — сказал он. — Об одной официантке. Правда, слишком худа… но все же хорошенькая… Тоненькая — вот такая. — Он показал руками. — И какая-то вся быстрая и судорожная, словно кошка, брошенная в воду.
Эманюэль отвел глаза. Он вдруг почему-то с тоской вспомнил подавальщицу, которую видел однажды в вокзальном буфете, — бледная, тщедушная, измученная, она, чтобы не потерять чаевые или даже работу, улыбалась всем посетителям горькой, усталой, смиренной улыбкой, похожей на гримасу. «Как жестока жизнь!» — подумал он. И, наклонившись к Жану, завидуя в эту минуту его изящной осанке, его циничной развязности, которая так нравилась девушкам, Эманюэль спросил:
— Далеко у вас зашло?
Жан откинулся на спинку стула и расхохотался.
— Да нет, что ты, чудак! Ты же знаешь меня. Ты знаешь мои вкусы… Нет, нет, — продолжал он с горячностью, удивившей его самого, — мне известно только ее имя. Я упомянул о ней просто так… шутки ради…
— Ах, шутки ради, — повторил Эманюэль странным тоном. — А как ее зовут?
Жан какое-то мгновение колебался.
— Ты надолго в Сент-Анри?
— На неделю.
— Ладно, приходи на днях обедать в «Пятнадцать центов»… Как-нибудь на той неделе. И ты ее увидишь.
Затем он откинул голову на спинку стула и резким движением отодвинул почти полную пепельницу.
— Поговорим о чем-нибудь более интересном, — сказал он. — Ну хотя бы о войне. Если бы мне предложили в армии работу, такую, чтобы получать больше, чем в военной промышленности, я, может быть, и согласился бы… Может быть… Ну, правда, я теперь такой специалист-механик, что меня вряд ли призовут в армию.
Его белые зубы поблескивали между губами, и, разговаривая, он рассеянно чертил на столе какие-то знаки.
V
Вокруг Розы-Анны на кушетках и на диванах-кроватях в столовой спали дети. Сама же она, лежа на своей постели во второй комнатке, то ненадолго забывалась дремотой, то, внезапно проснувшись, беспокойно поглядывала на часы, стоявшие на ночном столике. И в эти минуты она думала не о малышах, спавших дома, у нее под крылышком, а о тех, кто еще не вернулся. Флорентина! Почему она вечером так поспешно убежала, не сказав куда? А Эжен, где он проводит все вечера? Или Азарьюс, бедняга, которого жизнь никогда ничему не научит — какая новая фантазия взбрела ему в голову? Правда, он работает; он отдает ей весь свой заработок — немного, конечно… все-таки им кое-как удается сводить концы с концами. Но каждый день Азарьюс заводит речь о каких-то планах, он хочет бросить работу шофера и попробовать что-нибудь еще, как будто он волен выбирать себе работу, когда надо кормить детей, а в доме что ни день, что ни минута новые прорехи, как будто он может рассуждать: «Эта работа мне подходит, а та не подходит!» Синица в руках вместо журавля в небе — вот что всегда ему было не по вкусу. Такой уж он, Азарьюс.
Все ее мелкие повседневные тревоги, к которым сегодня вечером примешалась и тревога перед неизвестным, страх перед неизвестным, даже более мучительный для Розы-Анны, чем реальные невзгоды, и тягостные воспоминания настигали ее во мраке, среди которого она лежала, беззащитная, закрыв глаза и бессильно скрестив руки на груди. Никогда прежде жизнь не казалась ей такой угрожающей, хотя она сама не знала, чего боится. По маленькому домику на улице Бодуэн словно бродило какое-то несчастье, которое еще не осмеливалось показаться открыто.
Но вот наконец у двери их крохотной квартирки послышались мужские шаги. Роза-Анна сразу встрепенулась — ею овладело нетерпеливое желание успокоиться или узнать худшее, что бы это ни было. Положив руки на отяжелевшую талию и напряженно вытянувшись, она замерла во мраке.
— Это ты, Азарьюс? — спросила она негромко.
Слышно было только дыхание мужчины за занавеской, отделявшей коридор, и ровное посапывание детей в столовой — низенькой комнатке, освещенной ночником.
Чувствуя себя усталой и разбитой, как это всегда бывало с ней после нескольких минут отдыха, она нетвердой походкой подошла к выцветшей занавеске и, приподняв ее, увидела Эжена, своего старшего сына.
— А-а, — сказала она со вздохом облегчения. — Ты меня напугал! Я уж было подумала, что это твой отец пришел с дурной вестью и боится показаться.
Ветер внезапно взвыл. Слышно было, как звякнул ушат, висевший на гвозде за кухонной дверью. Роза-Анна вытерла со лба пот.
— Я, наверное, задремала, — виновато объяснила она, — и мне почудилось, будто твой отец пришел домой со скверной новостью. Что только не почудится, пока лежишь одна, а на дворе буря, — призналась она юноше, с которым давно уже не говорила откровенно.
Сейчас ей внезапно бросилось в глаза, что он уже стал совсем взрослым. И, в сущности, они уже чувствовали себя чужими — этот молодой человек, возвращавшийся домой только есть и спать, и она, его мать, получавшая от него только одежду для починки. И желание вернуть его заговорило в ней с такой силой, что заглушило тревоги и страхи, когда она вдруг подумала с испугом: «Ведь уже сколько лет, как он начал взрослеть, и мы все отдалялись друг от друга, а я этого и не заметила… И у него теперь, наверное, тоже есть свои заботы, а я их и не знаю».
— Я, кажется, задремала, — повторила она. — И уж не помню, кто мне приснился, ты или твой отец. Знаешь, — призналась она, — отец сказал мне, что его могут уволить…
Наконец Эжен нарушил странное, уклончивое молчание, за которым словно скрывалась какая-то тайная вина.
— Это конечно, — сухо сказал он. — Конечно, его уволят, если он так и будет разглагольствовать в соседнем ресторанчике, вместо того чтобы ждать пассажиров на стоянке. Хозяину он уже вот где сидит, отец-то. И вдобавок он еще любит нос задирать.
Они стояли друг против друга, разговаривая совсем тихо, чтобы не разбудить детей. Да им и некуда было уединиться в этом маленьком, битком набитом доме. Всю жизнь они разговаривали вот так, второпях, скованно, тайком, совсем тихо. Все признания ждали тишины, мрака, ночи. Однако Эжен уже очень давно не приходил в темноте к матери. В последний раз, вспомнила она, это было, когда он украл велосипед. «Когда ему что-нибудь нужно от меня», — подумала она. И ей захотелось на сей раз опередить то признание, которое собирался сделать этот парень с низким лбом и беспокойным взглядом.
— Послушай, — сказала она, решив, что он измучен вынужденным бездельем, — твой отец как раз нынче утром говорил мне, что собирается теперь ездить на такси не от хозяина, а сам по себе. Он думает, что это будет выгодное дело. И он даст тебе работу, — докончила она.
Эжен никак не решался признаться матери. Он не осмеливался сказать ей все именно из-за ее доверчивости. До чего же глупо быть настолько доверчивой! Как можно цепляться за такие слабые надежды.
— Это опять заскок, мать, — сказал он. — Откуда же ему взять деньги? Уж сколько раз он оставлял нас без куска хлеба, мог бы наконец одуматься! Было у него пособие, вот и сидел бы на пособии.
— Пособие… — вздохнула Роза-Анна. — Нет уж, что угодно, только не это, Эжен…
— Ну да, что угодно, — повторил Эжен, — только не это…
Он покружил по комнате, и его взгляд упал на стул, заваленный детской одеждой. Он сел на него, смяв платьице, перекинутое через спинку. На веревке, натянутой вдоль печной трубы, сохли чулки. Эжен поглядел вокруг с раздражением, которое всегда охватывало его, стоило ему лишь войти в эту квартиру. Губы его тронула чуть заметная смущенная улыбка. Он задумчиво провел рукой по темным волосам, глядя в пол, и наконец поднялся на ноги, чувствуя, как радостно бьется его сердце от ощущения свободы. Но заговорил он с матерью мягко и даже немного боязливо:
— Слушай, мать, я тебе должен сказать кое-что. Я собирался поговорить с тобой не об отце. Пусть он делает, что хочет. А я…
Все еще поглощенная своей мыслью, Роза-Анна начала подбирать и складывать вместе детские платья — это помогало ей сосредоточиться.
— Но если отец сможет дать тебе работу…
— Самое время об этом думать, — проговорил он глухо. — Мать, лучше, чтобы ты сразу узнала…
Его нерешительные, как у Азарьюса, глаза секунду выдерживали безмолвный вопрошающий взгляд матери, потом он отвел их в сторону.
При слабом свете ночника Роза-Анна заметила наконец, как он бледен. И поняла, что он собирается сообщить ей что-то очень важное. Встревоженная, она, невнятно бормоча, подошла к нему и почувствовала запах водки.
— Что случилось, Эжен?
Наступило тягостное молчание. Эжен посмотрел в сторону, потом вдруг с раздражением выпалил:
— Ну так вот, мать, я записался в солдаты…
— Записался в солдаты?
Роза-Анна покачнулась. Секунду все плыло у нее перед глазами — лица родителей и святых, освещенные слабым отблеском лампады, безделушки на буфете, детские личики и пятно резкого света за оконной занавеской, в котором кружились снежные хлопья. И среди этого хаоса она увидела, как Эжен, совсем маленький, в первый раз уходит в школу.
— Это правда? — недоверчиво пробормотала она.
Ее голос дрожал. Она никак не могла выговорить слова, вспыхивавшие в ее мозгу. Но через минуту она справилась с собой, вновь почувствовала себя сильной, готовой к борьбе. Ей не в первый раз приходилось защищать Эжена. Она вспомнила все его детские провинности, ложь, мелкие кражи и все, что она делала, чтобы выгородить его; но это были пустяки по сравнению с тем, что она еще готова была сделать для его спасения. Правда, теперь, когда первый момент паники прошел, она никак не могла поверить, что ему и в самом деле угрожает опасность.
— Ты просто выпил, Эжен, — сказала она, — и сам не знаешь, что говоришь. И не стыдно тебе так меня пугать!
— Я не пугаю, мать. Говорю тебе — я сегодня записался в солдаты.
Она наклонилась к нему, и в ее глазах сверкнула решимость.
— Если так, ты откажешься. Еще не поздно отказаться. Ты слишком молод, тебе еще нет восемнадцати… Ты скажешь, что сам не понимал, что делаешь, что ты нужен семье. А хочешь, я сама пойду. Я пойду и объясню им…
Он прервал бурный поток ее протестов.
— Я подписал. — И, повысив голос, он твердо добавил: — И потом, я очень доволен.
— Доволен?
— Да, очень доволен.
— Доволен! Доволен!
Роза-Анна могла только повторять на все лады это слово, пытаясь понять его.
— Доволен? И ты говоришь мне это в глаза — ты в своем уме?
Она продолжала быстрыми нервными движениями расправлять и складывать детскую одежду, так как в минуты сильного волнения всегда старалась занять чем-нибудь руки. Потом она подняла голову.
— Это потому, что я тебе мало давала на сигареты и на мелкие расходы? — почти смиренно спросила она. — Понимаешь, я бы давала больше, только это же деньги Флорентины. Она ведь почти все отдает в семью, так разве хорошо…
— Ну и пусть оставляет себе свои деньги, — резко перебил ее Эжен. — Я теперь буду получать не меньше.
— Но ведь, — продолжала Роза-Анна, — я давала тебе, сколько могла, правда?
Эжен внезапно взорвался:
— Не в том дело! Пойми, мать, человеку в конце концов надоедает выпрашивать то десять центов, то двадцать пять центов. Пойми, с ума же сойти можно, если вот так тыкаться то туда, то сюда в поисках работы. Пойми, мать, армия — это самое подходящее дело для таких, как я. Я же ничего не знаю, ничему не обучен. Там мне самое место!
— Господи! — вздохнула Роза-Анна.
Она уже давно предчувствовала, что наступит день, когда Эжен, тяготясь бездельем, решится на какой-нибудь отчаянный шаг. Но чтобы он пошел в солдаты — нет, такого она не ждала.
— Мне и в голову не приходило, что ты принимаешь это так близко к сердцу, — сказала она. — Ты же ведь совсем молодой. Немного погодя и ты бы неплохо устроился. Вот твой отец — сколько лет он сидел без работы…
— Уж с него-то я брать пример не буду!
— Не так громко, — взмолилась Роза-Анна. — Ты разбудишь детей!
Маленький Даниэль захныкал во сне. Роза-Анна подошла к узенькой железной кроватке и укрыла его получше.
Это простое движение до глубины души тронуло Эжена. Он шагнул к матери, рассеянно накрутил на палец завязки ее передника, как делал еще малышом. И подумал: «Первый раз в жизни я смогу ей что-то дать».
Его голос стал ласковым.
— Слышь, мам, — шепнул он ей на ухо. — Это вам здорово поможет. Все время, пока я буду в армии, ты будешь получать двадцать долларов в месяц.
Он говорил взволнованно — чувствовалось, что его переполняет наивная и гордая радость. Как и его отец, он удивительно легко увлекался и умел отыскивать в своих поступках повод для самолюбования. И, как отец, он не умел разобраться, где кончались его корыстные побуждения и начиналось великодушие. В эту минуту он сам был готов поверить, что им руководила самоотверженность. Он очень нравился самому себе; он был до того доволен собой, что глаза его увлажнились.
— Двадцать новеньких долларов в месяц, что ты скажешь, плохо ли это, а?
Роза-Анна повернулась к сыну — медленно, нерешительно, словно не желая слишком быстро согласиться с тем, что ей внезапно открылось. Свет дугового уличного фонаря заливал тот угол комнаты, где она стояла. Лицо ее выглядело землистым, вместо глаз — два темных пятна. Растрепанные пряди волос падали ей на щеки, а губы беззвучно шевелились. Она как-то сразу постарела, и казалось, вот-вот упадет.
— Да, я понимаю, — ответила она откуда-то из бесконечной дали. — Я понимаю, почему ты пошел в армию, бедный мальчик.
Она протянула руки, но не коснулась его и продолжала жалобным, почти покорным угасшим голосом, в котором уже не было ни обиды, ни силы.
— Не надо было этого делать, Эжен. Жили же и так.
Она выговорила это даже с мужеством, но с покорной готовностью встретить невзгоды, уже знакомые, уже ставшие привычными, как чередование дня и ночи, и не такие пугающие, как те, неведомые, что еще сокрыты во мраке будущего.
У нее вырвалось короткое рыдание. Она одернула передник, и внезапно вся злоба, которую вызывали у нее деньги, все страдания, причиной которых были деньги, весь ее ужас перед деньгами и вечная нужда в них слились в один жалкий взрыв протеста.
— Двадцать новеньких долларов в месяц, — бормотала она сквозь рыдания. — Ну, разве хорошо это — двадцать долларов в месяц?
По ее ввалившимся щекам струились слезы, зеленоватые, как ее лицо, как ее узловатые пальцы, которые словно отталкивали деньги.
Она увидела, что Эжен встряхнул головой, как делал в детстве, если с ним спорили, и ушел на кухню. Она услышала, как он возится с раскладушкой, которую каждый вечер доставали из-за двери и ставили между столом и раковиной.
Вытерев глаза, Роза-Анна прошла к себе в дальний конец комнаты и, не раздеваясь, бросилась на постель. Надо еще было дождаться Флорентины и Азарьюса, запереть дверь на засов, проверить, все ли спят, и только потом можно будет раздеться и постараться хоть немного поспать.
На стене в ногах кровати смутным пятном рисовался во мраке окровавленный Христос. Рядом скорбящая богоматерь открывала свое пронзенное сердце тусклому лучу, падающему из окна.
Роза-Анна вспоминала слова молитвы, которую она каждый вечер читала в одиночестве перед отходом ко сну, но думала она о другом. Вместо этого знакомого ей с детских лет изваяния, которое таинственно возникало перед ее мысленным взором в минуты сосредоточенности, она видела деньги, пачку денег — они рассыпались, взлетали, кружились, уносимые в ночь порывом бурного ветра. Деньги. Ветер в ночи…
VI
Было уже темно, когда продавщицы начали торопливо выходить из магазина «Пятнадцать центов». Одни стайками выбегали из главного подъезда, на ходу застегивая пальто и поправляя шляпки; перед тем как шагнуть на тротуар, они на секунду останавливались, оглушенные холодным ветром, хлеставшим по лицу, потом, нервно взвизгнув, подхватывали друг друга под руки и устремлялись к площади Сент-Анри. Другие, низко наклонив голову, шли через улицу к остановке и ждали трамвая, притопывая по утрамбованному снегу. Лишь только одна группа девушек успевала исчезнуть в поперечных улицах или добежать до остановки, как новый людской поток вырывался из вращающихся дверей и растекался по площади. Трамваи, уже набитые до отказа, шли с улиц Нотр-Дам и Сен-Жак и поглощали все новые и новые толпы, заполнявшие мостовую.
Жан Левек прятался в подъезде соседнего магазина, нетерпеливо постукивая каблуками по каменным плитам. И перед ним лился все нарастающий поток теней. Это был усталый, торопливый поток, безостановочно текущий к вечернему отдыху. Он катился издалека, со всех концов предместья, сливаясь воедино на площади Сент-Анри, а здесь снова разделялся. Каменщики, выбеленные известкой, столяры со своими чемоданчиками, хозяйки, спешившие попасть домой до прихода мужей, рабочие в кепках, с сумками для завтрака, прядильщицы, работницы табачных фабрик, прокатчики, пудлинговщики, сторожа, мастера, продавцы, лавочники: в этом шестичасовом потоке шли не только рабочие предместья Сент-Анри, но и те, кто возвращался из Виль-Сен-Пьер, из Лашина, из Сен-Жозефа, из Сент-Кюнегонд и даже из Ошелаги, и те, кто жил на другом конце города и кому предстояло бесконечное путешествие в трамвае.
То и дело с улицы Нотр-Дам доносились звонки проходившего мимо трамвая. Сквозь заиндевелые окна Жан видел поднятые руки, развернутые газеты, согнутые спины, нагромождение усталых тел и порой в этой массе различал чей-то взгляд — печальный, удрученный взгляд, как бы воплощавший в себе взгляд всей этой толпы и надолго остававшийся в памяти.
Наблюдая за подъездом «Пятнадцати центов», Жан начинал терять терпение. «Уж не пропустил ли я ее?» — подумал он с досадой. Но как раз в ту минуту, когда он осознал свое опасение, тяжелую дверь магазина открыла маленькая рука без перчатки, и Флорентина показалась на пороге — одна, как он и надеялся.
Жан дернул свое кашне жестом, который показался бы смешным ему самому, будь он сейчас способен думать об этом, и быстро пошел ей навстречу.
— А, Флорентина!
Он хотел, чтобы эта встреча казалась случайной, но Флорентина ни на секунду не обманулась.
— Ах, это вы, в такое время, — сказала она с презрительной усмешкой. — Часто же вы тут бродите!
Жан невозмутимо улыбнулся.
— Я хотел тебе сказать, Флорентина, что вчера вечером…
— Не стоит вам утруждать себя и приходить, чтобы извиняться, — оборвала его Флорентина.
Она нервно прижала к себе сумочку. Ее маленький прямой нос вздрагивал. Она часто дышала, и ее тонкие, посиневшие от холода ноздри раздувались.
— За кого вы меня принимаете? Вы что, думаете, будто я поверила и собиралась идти на свидание с вами? Ну уж нет!
— Правда?
Он осторожно взял ее за руку и широко улыбнулся.
— Значит, ты заставила бы меня ждать на морозе, Флорентина! Вот уж не думал, что ты такая. Двое друзей, которые прямо созданы для того, чтобы понимать друг друга…
Он слегка сжал ее руку; видимо, почувствовав в этом пожатии властность, Флорентина резко попыталась высвободиться.
— Во всяком случае, я не хочу больше вас видеть, — сказала она.
— Ну, ты же не бросишь человека скучать в одиночестве, — с упреком произнес Жан. — Знаешь что, давай пообедаем сегодня вечером в городе — ладно?
Ее глаза под вуалеткой сверкали негодованием: когда ее взгляд скрестился со смелым взглядом Жана, где-то в самой их глубине вспыхнул недоверчивый огонек.
— Это… это уже переходит всякие границы, — сказала она.
Ее острые белые зубки нервно покусывали нижнюю губу. Наглость Жана выводила ее из себя. Но в то же время его приглашение вызывало у нее и другое чувство — нараставшее волнение — и льстило ее самолюбию. К тому же было очень холодно: она вся дрожала и была не в силах раздумывать.
— Я не в таком платье, чтобы идти в город, — с детской досадой проговорила она.
И, сразу же поняв, что эти слова выдали ее, она капризно вскинула голову, хотя уже почти сдалась.
Жан повел ее к трамвайной остановке.
— Пустяки, Флорентина. Ты очень хорошо выглядишь! Что может изменить пудра и помада?
Подошел трамвай. Флорентина нерешительно взглянула на Жана.
— Я бы лучше пошла не сегодня, — наивно сказала она.
Все начали входить в трамвай; ее подхватил поток прижатых друг к другу людей, и через минуту она уже сидела в вагоне.
Флорентина подумала: «Может быть, вчера надо было подождать его подольше. Может быть, он все-таки пришел». Жан стоял, держась за кожаную петлю, и рассматривал ее. Она заметила его взгляд, увидела себя в нем, как в зеркале, и ее руки потянулись поправить шляпку. Мысли ее стремительно мчались. Конечно, она часто представляла себе, как в один прекрасный день пойдет куда-нибудь с Жаном, но, разумеется, в своем лучшем наряде. И сейчас она с тоской, с настоящей тоской вспоминала о прелестном новом платье, которое так хорошо на ней сидело и придавало округлость маленькой груди и узким бедрам. У нее сжималось сердце, когда она мысленно перебирала все украшения в своем ларчике, где она могла бы выбрать красивую заколку для волос, четыре или пять браслетов, которые позвякивали бы на ее руке, а может быть, и брошь. Как досадно, думала она, идти в город в этом дешевом платье и без всяких украшений!
Внезапно к ее огорчению добавилось еще и беспокойство. Есть ли у нее с собой хотя бы губная помада? Нервно открыв сумочку из поддельной кожи, она дрожащими руками принялась шарить среди лежавших там вещиц. Ее пальцы нащупали расческу, коробочку румян, серебряные монеты. Она торопливо извлекла все это из сумочки и отложила в сторонку. Губы ее нервно подергивались, взгляд беспокойно блуждал, ничего не видя вокруг. Наконец ее пальцы наткнулись на металлическую трубочку; она радостно сжала ее в руке и почувствовала облегчение, огромное облегчение. Она чуть было не вынула ее из сумки, чтобы тут же подкрасить губы, но постеснялась Жана.
И все же она чувствовала себя увереннее — ведь у нее была с собой губная помада. Как только Жан отведет глаза, она вынет маленькую трубочку, которую все время держит наготове в руке, опущенной в сумку. Можно и подождать, это не так срочно. Она изобразила на лице улыбку и скрестила ноги. Но вдруг у края задравшейся на колене юбки она заметила спущенную петлю чулка, и лицо ее снова вытянулось. Стоит ехать в город в самом плохом платье и в рваном чулке! А ведь дома в комоде у нее лежит совсем новая дорогая пара чулок. Самых тонких! Конечно, было неблагоразумно покупать такие чулки — она заплатила за них два доллара, — но зато они были шелковые, тонкие, как паутинка, и точно в тон ее бледной кожи.
Жан слегка покачивался над ней при каждом толчке. На лице у него играла насмешливая улыбка.
— Если ты немного одернешь юбку или снимешь одну ногу с другой, никто не увидит спущенной петли, — сказал он совсем тихо, наклонившись к ее уху.
Задыхаясь от негодования, она тщетно придумывала какой-нибудь колкий ответ. Мысли ее путались. Сыроватое тепло трамвая, дыхание множества легких, втягивающих и выбрасывающих один и тот же тяжелый воздух, неумолчный шум — все это ввергло ее в оцепенение. С Жаном всегда выходило не так, как она рассчитывала. Ох, как это ее злило!
Впрочем, она перестала напрасно терзаться и сидела притихшая, молчаливая; голова ее от толчков трамвая слегка покачивалась из стороны в сторону, и время от времени глаза устало закрывались. Пока они ехали, она вся была в каком-то оцепенении и ощущала только влажное тепло. Когда они, сойдя с трамвая, бежали к остановке автобуса, ее снова охватил холод. Но скоро они опять ехали в приятном тепле под ровное гудение. Она ощущала только волну холода, волну жары, волны приглушенных голосов, волны ветра, сомнений, надежды — до той минуты, пока они не вошли в залитый мягким светом зал небольшого ресторана, где перед ней вдруг замелькали белоснежность скатертей и переливчатый блеск хрусталя. И тогда все стало для нее сказкой, и она храбро вступила в сказку, чтобы сыграть в ней свою роль. И в то же время вся напряглась в мучительном усилии оказаться в этой сказке на высоте.
— О-о, — воскликнула она, очнувшись от полузабытья на пороге ресторана. — Я еще никогда здесь не бывала. А тут шикарно!
Флорентина чувствовала себя бесконечно счастливой, она уже забыла о своем дешевом шерстяном платье, о спущенной петле на чулке. Она смотрела на Жана в полном упоении.
Официант в черном фраке с накрахмаленной манишкой поклонился и повел их к столику, на котором стояли цветы. Флорентина решила было, что они бумажные, и очень удивилась, потрогав их и понюхав. Официант пододвинул стул, и Флорентина села, уже успев неловко, высоко поднимая локти, снять пальто. Потом ей подали меню, и Жан, занявший место напротив, спросил ее учтивым, предупредительным голосом, каким никогда еще с ней не говорил:
— Что ты хочешь, Флорентина? Аперитив?
Флорентина впервые в жизни слышала это слово и подумала, что Жан нарочно хочет пустить ей пыль в глаза. Она кивнула, избегая его взгляда.
— А потом?
Она вертела меню в побелевших от постоянного мытья посуды пальцах: все эти непонятные названия, которые она разбирала с трудом, по складам, шевеля от напряжения губами, привели ее в замешательство. Сердце ее сильно билось. Но она неторопливо просмотрела все названия блюд — наверху, в середине, внизу страницы — и, встретив знакомое слово, заявила, уверенная, что не попадет впросак:
— Вот, жареный барашек… это я люблю.
— Нет, Флорентина, надо начать с супа. Давай, я выберу для тебя.
Стараясь сделать вид, что она в этом разбирается, Флорентина пробормотала:
— Ладно, тогда я возьму вот это… наверху… консоме.
Теперь она вертела меню в руках, притворяясь, что размышляет. Жан видел только верхнюю часть ее лица и ногти, четко выделяющиеся на белой бумаге карточки, — лак на них потрескался и отставал слоями. На мизинце его уже почти совсем не осталось, и этот ноготь, обнаженный и белый, рядом с другим, ярко-красным, заворожил Жана — он не мог оторвать от него взгляда. И еще долго, долго потом он, думая о Флорентине, каждый раз видел этот белый ноготь, ноготь мизинца, и никак не мог забыть его, этот маленький обнаженный ноготь, весь в трещинках и белых крапинках, ноготь анемичной девушки.
Для нее начиналась сказка. А у него желание уже сменилось жалостью. «Я никогда не смогу причинить ей зло, — говорил он себе. — Нет, я никогда на это не решусь».
— Ты не хочешь взять какую-нибудь закуску? — подсказал он.
В эту минуту он, к своему крайнему смущению, заметил, что Флорентина шарит в сумочке и вынимает оттуда одну за другой все свои косметические принадлежности. Между ножами и стаканами уже поблескивали губная помада, пудреница и даже гребенка.
— Не здесь, — пробормотал он смущенно и огляделся по сторонам, не наблюдают ли за ними сидящие у соседних столиков. — Вон там.
Он указал на тяжелую портьеру, над которой мягко светились буквы.
— А-а, хорошо!
С презрительной насмешливой улыбкой, всем своим видом показывая, что она находит щепетильность молодого человека совершенно излишней, Флорентина собрала в кучу все свои вещицы и направилась в конец зала.
Когда она появилась снова, Жан ощутил острую досаду: губы ее были ярко накрашены, и от нее так сильно пахло дешевыми духами, что посетители со всех сторон оглядывались на нее и улыбались.
«Зачем я привел ее сюда? — спрашивал он себя, сжимая пальцами край стола. — Да, да, я знаю, я столько раз говорил это себе — для того, чтобы увидеть, какая она на самом деле, и больше не обольщаться на ее счет». Он смотрел, как она приближается, такая худенькая в облегавшем ее фигуру узком платье. «Или чтобы она хоть раз в жизни поела досыта? Или чтобы подарить ей минуту счастья, а потом соблазнить и сделать еще более несчастной?»
Когда она подошла, Жан встал, Тронутая таким вниманием, Флорентина взглянула на него с робкой, нерешительной улыбкой.
На столике ее ждал коктейль. В стакане плавала вишня — Флорентина внимательно рассмотрела ее и положила на край тарелочки. Потом, запрокинув голову, она залпом осушила стакан и тут же закашлялась.
Ее щеки порозовели. И она начала говорить. Она говорила быстро, положив локти на стол, и ее взгляд то сиял оживлением, то становился рассеянным и невидящим. Блюда сменяли друг друга: суп-жюльен, закуски, филе камбалы, антрекот, салат, пирожные. А она все говорила. Она умолкала, только чтобы клюнуть, подобно птичке, что-нибудь на тарелке. Она пробовала все и коротко роняла: «Очень вкусно». Но на самом деле она была так возбуждена, что не чувствовала вкуса еды. И больше всего ее опьяняло ее собственное отражение в огромном зеркале за спиной Жана, отражение, к которому она то и дело поворачивалась. Она видела там свои блестящие глаза, матовую светлую кожу, расплывающиеся будто в дымке черты лица. И она так нравилась себе, что, наклоняясь к Жану, словно хотела разделить с ним этот миг своего торжества. Как могла она не любить человека, рядом с которым она была так красива!
К концу обеда она уже стала говорить ему «ты». Она не замечала, что он едва слушает ее и украдкой поглядывает на нее со скучающим видом. В сущности, она разговаривала сама с собой, все время поворачиваясь к этим пламенным глазам в глубине зеркала, которые подбадривали ее, поддерживали ее, опьяняли.
Позднее, вечером, когда они, сойдя с автобуса, пошли пешком, Флорентина притихла, стала молчаливой. Неожиданно потеплело, как это часто бывает в конце февраля. Падал легкий, пушистый снег, припудривая их одежду, волосы, ложась на их вздрагивающие ресницы. Крупные хлопья медленно плыли в воздухе, и, проходя под фонарями, Флорентина видела, как бесконечно изменчивы их формы: одни были похожи на большие звезды, другие — на дароносицу в алтаре. Ей казалось, что еще никогда в жизни она не видела таких красивых, таких крупных снежных хлопьев. Но она уже не осмеливалась болтать, и время от времени ее охватывала тревога — а произвела ли она хорошее впечатление? Жан выглядел таким рассеянным!
Когда они шли через виадук улицы Нотр-Дам, у самой станции Сент-Анри, Жан внезапно остановился. Флорентина заметила, что он смотрит на гору, огни которой терялись среди первых загоревшихся звезд.
— Ты обращала внимание на эту гору? — задумчиво спросил он.
Она улыбнулась растерянно и насмешливо — этот странный человек все время ставил ее в тупик; затем ее мысли снова обратились к ресторану, где на краткий миг она действительно была счастлива; и так же, как Жан, она встала у парапета и отдалась мечтам. Она тоже смотрела на гору; но ее глаза, сиявшие в снежной мгле, ее глаза, мигавшие от падавших на них снежинок, видели там большое зеркало ресторана и ее собственное лицо, нежные губы и волосы, пышные и волнистые, словно отражавшиеся в темной и бездонной глади воды.
Жан через плечо посмотрел на девушку. Теперь он стал к ней почти равнодушен, почти холоден. Пожалуй, ему даже не хотелось поцеловать ее. Да так оно было и лучше. Теперь, когда он не испытывал к Флорентине бурного, безудержного влечения, он мог рассказать ей о своих честолюбивых замыслах, объяснить, сколь велико расстояние между ними.
Он положил ладонь на маленькую руку девушки и рассмеялся.
— Ты, конечно, и не догадываешься об этом, моя девочка, — сказал он, — но скоро я поставлю ногу на первую ступеньку лестницы. А тогда — прощай Сент-Анри!
Странная тревога наполнила сердце Флорентины, и она задумалась, сжав руки на парапете. Проходивший внизу паровоз окутал их клубами пара. На секунду ей показалось, что она заблудилась в беспросветном тумане. Потом к ней снова вернулось спокойствие. Зачем ей волноваться? Все теперь ясно. Все складывается очень хорошо. Разве она не узнала всего, что ей необходимо было узнать сейчас? Правда, когда Жан, выходя из ресторана, взял ее под руку, она немного встревожилась. Она спросила себя: «Куда он меня теперь поведет?» От страха, что ей придется отбиваться от него, она вся напряглась. Но как только она поняла, что Жан ведет ее прямо домой, к ней вернулась уверенность. Она думала только об одном. «Я ему не противна, — говорила она себе. — Он хочет быть моим дружком».
Она стояла рядом с ним, выпрямившись, с загадочной улыбкой, и смаковала эти слова: «Мой дружок!» И теперь, уверенная в том, что этот странный юноша любит и уважает ее, она сама уговаривала себя, что ей и дальше следует идти по тому же пути тревог и волнений. «Не то чтобы я его очень любила, — рассуждала она про себя. — Нет, конечно, я не могу сказать, что в самом деле люблю его. Мне неинтересны его разговоры, его идиотские рассуждения. Но он не такой, как другие ребята из Сент-Анри».
Короче говоря, именно яркая индивидуальность Жана возвышала его в глазах Флорентины, хотя она и не могла бы объяснить, в чем эта индивидуальность заключается.
Они снова медленно двинулись в путь, думая каждый о своем, и мысли их текли по разным руслам, по таким разным, что никогда в жизни они не смогли бы понять друг друга.
Он думал: «Я больше не буду слей встречаться. Ну, может быть, еще раз или два, чтобы не о чем было жалеть… но с этим надо покончить, и поскорее…»
Она думала: «Надо устроить так, чтобы пригласить его домой».
Ей все больше хотелось сохранить то уважение, которое он выказывал ей сегодня вечером. Да, вот так и надо держаться — и особенно необходимо это потому, что вначале она вела себя довольно опрометчиво. «Пригласить его домой… Но можно ли? У нас так тесно, неприглядно и так много детей!»
Он думал: «Как она жалко выглядит в этом своем пальто… Почему бы мне не оставить ее сразу?»
На улице Бодуэн Флорентина остановилась перед убогим, обшарпанным деревянным домиком. Справа низкая сырая подворотня вела на задний дворик с кучами мусора, куда падали из окон полосы тусклого света. На этой улочке стояло десятка два приземистых деревянных домиков, а между ними то тут, то там виднелись такие же подворотни, ведущие на задние дворы. В конце улицы тянулась высокая железнодорожная насыпь.
— Ты живешь здесь или во дворе?
— Нет, здесь… — Флорентина указала на домик, стоявший прямо у края тротуара, под самым фонарем, при свете которого отчетливо выступала мрачная серая краска ветхого фасада. Сама Флорентина тоже стояла в резком свете дугового фонаря. Ее щеки казались впалыми, а слишком красные губы — вызывающими.
— Отойдем отсюда, — сказал Жан.
Он толкнул ее в тень. И тень была добра к девушке. Она стерла с ее лица грим, сделала ее по-детски трогательной, хрупкой, окутала таинственностью — и Флорентина стала далекой, милой и нежной. Жан глядел на нее с минуту, затаив дыхание, а потом порывисто обнял. Он обнял эту тень, эту улыбающуюся тайну, он притянул к себе ее бледную улыбку, ее хрупкость, ее доверчивость, ее глаза, такие бездонные во мраке ночи. Его губы коснулись ее щеки. Они искали изгиб, теплоту ее рта. А ветер кружил вокруг них, и снежинки скользили между их тесно сблизившимися лицами, и таяли, и стекали крохотными каплями по их губам.
Флорентина казалась Жану совсем бесплотной. У него было такое ощущение, словно он держит в объятиях сверток одежды, что-то безжизненное, мягкое и влажное. Он крепче прижал ее к себе и тут же почувствовал под легким пальто худобу ее плеч. Его пальцы скользнули вдоль тонкой руки, потом он осторожно отстранил от себя эту хрупкую фигурку, окутанную мраком, осыпанную снегом, пахнущую зимой, инеем и морозом.
Флорентина продолжала стоять, не открывая глаз. Тогда он наклонился и поцеловал ее опущенные веки. Затем он порывисто выпрямился и быстро пошел прочь. Ему даже хотелось засвистеть.
А Флорентина в вихре, который кружил и уносил ее, мечтательно думала: «Он поцеловал меня в глаза». Она помнила другие поцелуи, но никогда еще ей не приходилось ощущать ласковое прикосновение губ на своих веках.
Ощупью, словно слепая, Флорентина добрела до своей двери. В маленькой столовой, при свете тонкого луча, пробивающегося между занавесками, она сразу начала раздеваться, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить спящих, прислушиваясь к стуку своего сердца и больше всего боясь спугнуть воспоминание, владевшее ею. «Он поцеловал меня в глаза!»
Но из глубины соседней комнаты, где во мраке угадывались очертания большой кровати, раздался голос, усталый голос человека, измученного бессонницей:
— Флорентина, это ты? Что ты так поздно?
— Не так уж поздно, — пробормотала Флорентина.
Присев на край дивана-кровати, она машинально стягивала чулки, почти не замечая, что делает. Теплая волна подхватила ее и увлекла в опьянение, от которого у нее сладко замирало сердце.
— Отца все нет, уж и ума не приложу, где он пропадает, — продолжал жалобный голос. — Боюсь, что он бросил работу. Ведь вчера-то он не получил зарплаты. А Эжен, Эжен, — продолжала Роза-Анна с тоскливым вздохом, — Эжен записался в солдаты! Господи боже мой, что только с нами будет?
Взлетающая волна все несла и несла Флорентину, поднимая ее так высоко, что у нее захватывало дух. Разве могут теперь трогать ее эти мелкие повседневные невзгоды? Будет ли она с прежней тоскливой тревогой слушать полночные признания матери среди тяжелого безмолвия спящих? Ее качала мягкая, длинная и упругая волна. Флорентина погружалась в нее вся целиком, со своими мыслями, со всей своей волей, становилась там легким крылом, перышком, клочком пены и неслась вместе с ней все быстрее и быстрее. «Он поцеловал меня в щеку. Поцеловал в глаза».
— Уж и не знаю, Флорентина, что только с нами будет!
«Поцеловал в щеку, в глаза, и его губы были такими нежными!»
— Если отец еще раз потерял работу, выходит, что придется жить только на твой заработок, бедная моя Флорентина… Пособия нам больше не дадут…
И снова безмолвие, долгое, тягостное, наполненное яростными порывами бьющего в окно ветра.
Роза-Анна опять заговорила. Теперь она говорила сама с собой в удручающем одиночестве большой кровати. Она уже не надеялась, что ее слова дойдут до Флорентины, хотя та была совсем рядом. Наверное, Флорентина слишком устала, слишком измучена, чтобы разговаривать. А может быть, ее уже одолел сон. Роза-Анна не обижалась на дочь, но ей было необходимо разговаривать вслух, она не могла больше оставаться одна среди ночного безмолвия, когда на сердце у нее лежал камень.
— Домовладелец нас предупредил, чтобы мы выехали в мае, — сказала она.
Душа ее была полна такой тревоги, она ощущала такую невыносимую тяжесть, что говорила бы вслух, даже если бы около нее и в самом деле никого не было.
— Что только с нами будет, если отец не найдет другой работы, а нам как раз надо переезжать? Квартиры все дорожают и дорожают, а теперь-то, теперь…
Она заколебалась перед решительным признанием. И наконец уронила в беспредельный мрак, в пустой и угрюмый мрак, безглазый, безликий, безжалостный:
— Когда нас было только десять, и то едва сводили концы с концами, а теперь, когда нас скоро будет одиннадцать…
Флорентина внезапно вернулась к действительности. Волна опьянения стремительно отхлынула, грубо вышвырнув ее на берег.
Пересохшими губами Флорентина чуть ли не с гневом спросила:
— Опять ждешь?
Она уже с некоторого времени подозрительно присматривалась к матери — та день ото дня становилась как будто все более грузной; но фигура Розы-Анны настолько расплылась из-за многочисленных родов, что она всегда выглядела так, словно под ее юбкой была спрятана какая-то ноша. Иногда Флорентина сомневалась в правильности своей догадки, а иногда говорила себе: «Не должно бы этого быть: матери ведь уже за сорок».
— Я жду в мае… в последних числах, — сказала Роза-Анна.
Ей нелегко было сделать это признание, но она справилась с собой и спросила:
— Ты не против, Флорентина, чтобы у тебя была еще сестренка?
— Господи боже мой, да неужели нас тебе мало?
Грубая фраза сорвалась с губ. Флорентина тут же пожалела о сказанном, она охотно взяла бы свои слова назад, но в душной тишине комнаты, в ветре, завывавшем у окна, они непрестанно напоминали о себе. Казалось, мрак без конца повторял и повторял их.
Роза-Анна приподнялась на влажной от пота подушке.
— Тише, детей разбудишь, — взмолилась она. И после долгого молчания шепнула в темноту: — Что поделаешь, дочка, живешь не так, как хочешь, а как можешь.
«Вовсе нет, — подумала Флорентина. — Я буду жить как захочу! Я не примирюсь с нищетой, как моя мать!»
Набегающая волна снова обняла, окутала ее, Повлекла, понесла, поднимая все выше и выше, напевая ей на ухо журчащую мелодию, которая струилась и струилась во мраке. Надев ночную рубашку, Флорентина юркнула в постель и улеглась рядом со своей младшей сестрой Ивонной. Глаза девочки были закрыты, но губы ее дрожали. В мучительном одиночестве она пыталась в свои тринадцать лет разгадать сокровенные тайны жизни.
Флорентина прижала окоченевшие ноги к теплым ногам девочки и, уже засыпая, пробормотала:
— Будь что будет, мама! Не волнуйся, все устроится. Бывало и похуже.
И она тут же уснула с последней опьяняющей мыслью: «Он поцеловал меня в глаза!»
А рядом с ней прерывисто дышала совсем проснувшаяся Ивонна. Ее худенькое тело напряглось, широко открытые глаза пристально смотрели в потолок, а руки, сложенные ладонями вместе, словно пытались сбросить с хрупкой груди давившую ее тяжесть.
VII
Она смотрела, как он неторопливо курит, спокойно сидя у плиты с развернутой на коленях вчерашней газетой, и сердце ее наполнялось горечью.
Над воротом расстегнутой на могучей груди толстой куртки возвышалась шея, белая и гладкая, как у юноши. На свежем румяном лице почти не было морщин. И она позавидовала ему, — он сохранил моложавость, красоту и несокрушимое здоровье, тогда как на ее лице лежал явный отпечаток усталости и увядания. А он всего на два года моложе ее. Когда они поженились, эта разница в возрасте совсем не чувствовалась. Теперь же он выглядел моложе ее лет на десять. Чувствуя, что мужество оставляет ее, Роза-Анна принялась молча раздувать огонь. Пламя открытой конфорки ярко осветило ее дрожащие губы.
Огонь разгорался с легким потрескиванием. Азарьюс поднял голову. Он вдохнул запах хорошо просушенных щепок — они всегда хранились около плиты — и запах поджаренного хлеба, который он особенно любил. С блаженным вздохом он вспомнил о холодных утрах на стоянке, когда, сидя в такси, он поджидал пассажиров. Этот вздох переполнил чашу терпения Розы-Анны.
— И нужно было тебе бросать работу!. Нашел время привередничать! Вон Флорентина не бросает работу!
Так начался их день. Бледный луч солнца заглянул в окно кухни. Так начинались у них многие дни и в прежние времена. И Роза-Анна, прислушиваясь к звуку собственного голоса, спрашивала себя, не ворчит ли она на мужа просто по привычке? Но прислоненная к стене раскладушка Эжена напомнила ей, что старший сын ушел, что сама она стареет и что Азарьюс ничуть не меняется.
— Ты сидишь прямо у меня на дороге, — сказала она. — Ты же мне мешаешь! Хоть отодвинь свой стул.
Азарьюс удивленно улыбнулся. Он был не таков, чтобы сознавать свою вину и терпеть упреки.
— Дай мне только немного времени, — произнес он. — У меня есть кое-какие идеи. Дай человеку время подумать о своих делах.
— Да, да, думай о делах, рассевшись вот так у печки!
— Ну, полно, мать, что здесь, что в другом месте — везде можно посидеть и поразмыслить.
— Поразмыслить!
Она бросила это слово насмешливым тоном, и шарканье ее ночных туфель по полу внезапно прекратилось.
— Поразмыслить! А на что другое ты способен? Всю свою жизнь ты только и делаешь, что размышляешь. И что тебе дали все эти размышления? Поразмыслить! По-твоему, беднякам от этого может быть польза?
Тупая боль внезапно схватила ее; она умолкла и положила руку на вздутый живот.
— Поди приляг, мать. Сегодня я займусь хозяйством, — мягко проговорил Азарьюс.
Его самоуверенность сразу улетучилась. Но ни болезненное сознание своей непонятости, ни глубоко укоренившаяся беспечность, ни легкомысленный оптимизм не исчезли. Исчезло только бахвальство, уступив место мучительной потребности получить прощение. Этот грустно ссутулившийся возле плиты человек даже отдаленно не напоминал красноречивого оратора из «Двух песенок». Таким вот сникшим он всегда бывал в кругу семьи, в этом гнезде, полном шипов, — он и не пытался вырвать какой-нибудь из них, ибо они множились без конца. Даже голос его звучал не так, как в ресторанчике, когда он высказывал свои мнения, свои смелые и широкие взгляды. Здесь он говорил примирительным тоном, почти покорно, порой словно через силу.
— Если уж хочешь знать правду — ну что ж! — вздохнул он. — Да, жена, меня выставили. Так, пожалуй, оно и лучше. Я и сам собирался это бросить. Как я мог заниматься своими делами, мотаясь вот так день-деньской?
Роза-Анна поспешно отвела взгляд. Она уже успела успокоиться, но не хотела, чтобы он заметил это слишком быстро. Расставляя посуду на маленьком кухонном столике, она вспоминала слова своей свекрови: «Азарьюс, девочка, никогда в жизни не повысит голоса. За одно это ему можно простить его недостатки, дитя мое».
Это правда, подумала Роза-Анна. За всю жизнь она не услышала от него ни одного грубого слова.
— Ну, да ладно, дело сделано! — сказала она уже беззлобно. — Постарайся помочь мне хотя бы по хозяйству.
Сама она присела позавтракать к плите. Здесь было легче подсунуть двойную порцию детям и оставить себе подгорелую корку так, чтобы это самопожертвование осталось незамеченным. Она начала раскачиваться взад и вперед, как делала всегда даже на стуле с высокой спинкой. Ей казалось, что это движение помогает ей размышлять.
У нее внезапно возникла идея. Она всегда соображала быстро и, придумав какой-нибудь план, неутомимо приводила его в исполнение. Выпив глоток чая, она решительным движением отставила чашку.
— Послушай-ка, — сказала она. — Это, пожалуй, хорошая мысль — пока ты дома и можешь посидеть с детьми, я пойду присмотрю для нас жилье.
Нет, она не спрашивала у него совета. Как только она высказала свое намерение, оно показалось ей разумным и даже превосходным.
— Да, жилье… — снова заговорила она. — Оно ведь всегда необходимо, даже когда дела идут плохо, вот как у нас.
В уголках ее рта выступила слюна; проглотив ее, она поднялась со стула — невысокая, грузная женщина со все еще красивым лбом, решительными карими глазами и морщинкой между бровей.
Она накинула на домашнее платье черное, позеленевшее от старости пальто, взяла с буфета в столовой шляпку и коричневую потрепанную сумочку, которая досталась ей от Флорентины. Как раз в эту минуту Флорентина открыла глаза, и Роза-Анна принесла ей чулки и ботинки и поторопила ее вставать, потому что уже пробило половину девятого.
Еще не совсем очнувшаяся Флорентина огляделась вокруг, хмуря брови, а затем ее охватила вчерашняя бурная радость, и она проворно вскочила.
— Вот-вот, быстренько, не то опоздаешь, — заметила Роза-Анна.
Сама она торопливо, словно боясь опоздать на поезд, прошла через кухню, отталкивая малышей, цеплявшихся за ее платье с криками: «Мама, принеси мне шоколадного зайчика! Мама, принеси мне флейту!»
Все они, кроме маленькой Жизели, по возрасту уже должны были бы ходить в школу, но Роза-Анна последние несколько недель держала их дома: у Люсиль не было галош, у Альбера был сильный насморк. А маленький Даниэль вот уже два месяца слабел и чах, хотя у него не было никаких заметных признаков серьезного заболевания. Филипп, которому было уже без малого пятнадцать лет, упорно отказывался вернуться в школу. Роза-Анна не раз заставала его за чтением полицейских романов и докуриванием брошенных Эженом или отцом окурков. У него были гнилые зубы, экзема, нездоровый цвет лица.
Выйдя из дома, Роза-Анна еще раз оглянулась на детвору, теснившуюся в дверях, на полуодетого Даниэля — его единственная рубашка и штаны еще не совсем высохли за ночь после стирки. Не было только Ивонны. Девочка всегда вставала на рассвете и умывалась холодной водой под краном на кухне; торопливо одевшись, она брала из хлебницы кусок хлеба и засовывала его в ранец вместе с учебниками, затем бесшумно, как тень, бежала к ранней обедне, а потом шла в приходскую школу. Она причащалась каждое утро. И в ясный и в пасмурный день она всегда уходила первая. Если же в сильные холода ее пытались удержать дома, она впадала в ярость, удивительную в таком впечатлительном, тихом и обычно покладистом ребенке.
Однажды, когда ее пытались удержать силой, девочка разразилась рыданиями и объяснила среди всхлипываний, что заставит Спасителя страдать, если пропустил обедню. И она наивно рассказала матери, что в приходской школе висит изображение Сердца Иисусова, утыканное шипами, и что каждой девочке, которая была у обедни, разрешается, входя в класс, вытащить один из этих шипов. Слезы струились по бледным щекам девочки, и она умоляла:
— Мама, ведь так много злых людей, которые каждый день вонзают шипы в сердце Иисуса! Разреши мне ходить к обедне!
И с тех пор мать уже не мешала девочке. Но в тот же вечер, превозмогая усталость, она утеплила старенькое пальто Ивонны, подложив в него несколько слоев ватина. И теперь, когда девочка холодным утром уходила в церковь, Роза-Анна думала: «По крайней мере, она тепло одета».
Роза-Анна еще раз оглянулась на детей, смотревших ей вслед с удивлением, — она ведь почти никогда не выходила из дома. Раздался тоненький голосок Даниэля: «Флейту, мама! Не забудь!» Жизель расплакалась и успокоилась только тогда, когда Азарьюс взял ее на руки и сказал, чтобы она помахала маме.
И обида угасла в сердце Розы-Анны. Ее дурное настроение сразу рассеялось. Уходя, она твердо решила, что непременно купит если не флейту, которую уже так давно просит Даниэль, то хотя бы четыре шоколадных зайчика — ведь приближается пасха.
Она с трудом шла по рыхлому снегу, иногда останавливаясь и прислоняясь к стене или к забору, чтобы немного отдышаться.
С первых дней марта солнце светило над предместьем все ярче, и снег уже таял.
Она шла медленно, тяжелым, усталым шагом. Тягостные воспоминания вновь нахлынули на нее, подтачивая ее бодрость, ее мужество. Она вновь понимала тщетность всех своих надежд. Ни ясное небо, ни теплый воздух ничуть ее не волновали. Она ощущала приход весны по иным признакам и чувствовала в ней скорее врага. Весна. Что означала она для Розы-Анны? В ее супружеской жизни весне всегда сопутствовали два события: она ждала ребенка и ей приходилось отправляться на поиски нового жилья. Каждую весну они переезжали.
В первые голы — чтобы устроиться получше. Да, в те времена им с Азарьюсом к концу зимы надоедала теснота их жилища. И они начинали мечтать о чем-нибудь более светлом, более чистом, более просторном, потому что семья увеличивалась. Особенно Азарьюс — он становился просто одержимым. Он поговаривал о том, чтобы завести домик с огородом, где можно было бы сажать капусту и морковь. И Роза-Анна, которая родилась в деревне, волновалась и радовалась при одной мысли о том, что под ее окнами будут расти овощи. Но перед ее окнами всегда торчали только фабричные трубы и жалкие лачуги.
Позднее, когда Флорентина и Эжен пошли в школу, их семья переезжала уже не по доброй воле, а потому, что они не могли аккуратно платить за квартиру и им приходилось искать более дешевое жилье. Год за годом им приходилось искать все более, дешевое жилье, а квартирная плата все росла и сколько-нибудь сносные квартиры попадались все реже.
В те времена, отправляясь на поиски, она ясно представляла себе, чего хочет. Ей нужна была веранда, дворик для детей, гостиная. И Азарьюс тоже поддерживал ее: «Самое лучшее, Роза-Анна! Бери самое лучшее!»
Но уже давно все их старания сводились к тому, чтобы найти хоть какую-нибудь квартиру — не важно какую. Стены, пол, потолок. Она искала просто жилье.
Горькая мысль пришла ей в голову: чем более многочисленной становилась их семья, тем теснее и мрачнее оказывалось их новое жилище.
Азарьюс одним из первых пострадал, когда началась большая безработица, потому что по профессии он был столяром. Слишком гордый, чтобы удовольствоваться любой подвернувшейся работой, он искал работу только по специальности. Потом он совсем пал духом и, как многие другие, был вынужден просить о зачислении на пособие по безработице.
«Самое трудное время в нашей жизни!» — подумала Роза-Анна. Пособие на квартиру было ничтожным. Домовладельцы просто смеялись, когда им предлагали десять долларов в месяц за квартиру из четырех комнат.
Тогда Азарьюс обязывался выплачивать разницу в несколько долларов. Вечный оптимист, беспечный и доверчивый, он говорил: «Я всегда сумею заработать доллар тут, доллар там, и все будет в порядке». Но либо у него бывало мало работы, либо деньги уходили на другие неотложные нужды. Он не мог выполнить свое обязательство, и, когда приходила весна, рассвирепевший домовладелец выгонял их из квартиры.
Солнце уже заливало улицу. С крыш свисали тонкие сосульки, сверкавшие, как хрусталь. Иногда они с легким треском обламывались и разбивались у ног Розы-Анны на мелкие кусочки. Она шла очень медленно, придерживаясь рукой за стену и все время боясь упасть. Потом ее ноги начинали проваливаться в рыхлый снег, и идти становилось еще труднее, но зато она не боялась поскользнуться.
А когда-то она любила весну! В ее жизни было две чудесные весны. Одна — в год ее знакомства с Азарьюсом, который был тогда таким жизнерадостным, что старая госпожа Лаплант, ее мать, говорила дочери: «Сдается мне, он ни на что дурное не способен. Слишком уж он любит видеть в жизни только хорошее». И еще та весна, когда родилась Флорентина, ее первенькая. Она помнила очарование тех двух весен. Порой, когда она предавалась воспоминаниям, ей чудилось, что она даже ощущает аромат свежей листвы. В редкие минуты досуга она опять видела себя молодой матерью, катающей Флорентину в коляске на солнышке. Соседки, наклоняясь над ворохом лент и кружев, говорили ей: «Очень уж вы над ней хлопочете. Погодите, вот когда у вас будет десятый, вы с ним так возиться не станете».
Роза-Анна изо всех сил старалась идти быстрее. Жители предместья повсюду расчищали тротуары и разметали снег у своих порогов. Многие узнавали ее и весело с ней здоровались:
— Доброе утро, госпожа Лакасс! Ищете новое жилье?
Другие мечтательно искали в небе обнадеживающие признаки и говорили:
— Вот и весна!
— Да, — отвечала Роза-Анна. — Но не слишком-то ей доверяйте.
— О, конечно, холода еще будут, но хорошо, что пока-то погожие деньки…
— Это верно, — соглашалась Роза-Анна, пытаясь улыбнуться. — Вдобавок и дров меньше идет.
Потом она шла дальше и продолжала думать о том же. Нельзя сказать, чтобы квартир сдавалось мало. Куда бы ни взглянула Роза-Анна, она везде видела объявления: «Сдается внаем». Казалось, что один раз в году все предместье, взбудораженное грохотом проносящихся через него поездов, пронзительными свистками локомотивов, отдается страсти к путешествиям и, не имея другой возможности удовлетворить свое стремление к бегству, бывает охвачено эпидемией лихорадочных переездов. На двух из каждых пяти домов появляются грязные бумажки: «Сдается внаем. Сдается внаем. Сдается внаем».
По пути Роза-Анна встречала немало простых женщин, которые, подобно ей самой, медленно брели, присматриваясь к домам. Уже и сейчас многие люди подыскивали себе новое жилье, а через какой-нибудь месяц их будут сотни. Роза-Анна сказала себе, что надо поторопиться, покуда не начался апрельский наплыв. Но пока она еще никуда не решалась зайти. Она подходила к крыльцу, заглядывала внутрь и опять возвращалась на тротуар. Иногда ее отталкивала убогая внешность дома, или же, наоборот, при виде чистенькой, уютной квартирки она говорила себе: «Нечего и спрашивать о цене. Это слишком дорого для нас».
Наконец она заставила себя войти в кирпичный домик на улице Сен-Фердинанд. Она вышла оттуда растерянная, едва держась на ногах. Запах сохнувших над печкой пеленок и уборная без окна, куда входили из кухни, так потрясли ее, что ей чуть не стало дурно. «И за это просят шестнадцать долларов в месяц!» Она заметила также, что дневной свет проникал только в окна, смотревшие на улицу. Задние окна выходили в полутемный двор. «Шестнадцать долларов в месяц! — повторяла она про себя. — Это невозможно! Ничего не получится!»
И все же она вновь начала терпеливые расчеты. Роза-Анна твердо помнила крошечную сумму их годового дохода, основную часть которого составлял заработок Флорентины. Так же твердо была запечатлена в ее памяти и сумма необходимых расходов. Роза-Анна могла с точностью до одного цента сказать: «На этот месяц мне нужно столько-то». И при этом она обязательно добавила бы: «Чтобы свести концы с концами». Даже про себя никогда не забывала она добавить эту осторожную оговорку, ибо питала устойчивое недоверие к цифрам, свойственное всем людям из народа.
Углубившись в свои мысли, упорно сражаясь с цифрами, она прошла мимо нескольких сдававшихся внаем домов, даже не взглянув на них. Она шла энергичным шагом, урезывая в уме тот или иной мелкий расход — только глаза выдавали при этом ее сожаление — и упорно сражаясь против общего итога, который все равно превышал их возможности. Порой Роза-Анна, сохранившая, несмотря ни на что, живое воображение, вырывалась из этого плена тревог, забот и чисел. И тогда она начинала по-детски наивно мечтать. Она представляла себе, что какой-то богатый дядюшка, которого она никогда не знала, умирает, оставляя ей большое состояние; она воображала, как находит туго набитый бумажник, который, конечно, честно возвращает хозяину и получает от него хорошее вознаграждение. Все это представилось ей так живо, что она взволнованно и внимательно осмотрела тротуар вокруг. Но тут же ей стало стыдно своих фантазий.
Отмахнувшись от грез, она снова занялась вычислениями.
Она дошла до площади Сент-Анри и пересекла ее, не замечая ни трамваев, ни звонков железнодорожного переезда, ни едкого дыма, щипавшего глаза. Какой-то грузовик чуть не сшиб ее, и она бросила на него скорее удивленный, чем испуганный взгляд. Это был рассеянный взгляд счетовода, которого на секунду оторвали от его книг.
Перейдя площадь, она начала свои расчеты сначала. И в эту минуту она, впервые после ухода Эжена в армию, подумала о тех двадцати долларах, о которых он упоминал. Крепко сжав губы, она решительно отбросила эту мысль… Но чуть позже она вдруг заметила, что эти двадцать долларов уже нашли себе применение, что она мысленно уже потратила их до последнего цента. Она тихонько вздохнула, испытывая стыд, но в то же время и облегчение.
И словно нарочно, чтобы еще больше смутить ее, именно в эту минуту ей в глаза бросился приклеенный к стене какого-то магазина плакат, на котором был нарисован резким карандашным штрихом молодой солдатик с винтовкой в руке, — глаза сверкают, рот широко раскрыт, он издает призывный клич. По голубому полю над его головой развертывались большие черные буквы: «Идите к нам, ребята! Вы нужны вашей стране!»
Розу-Анну охватило волнение. Этот юноша был так похож на Эжена! Его губы, его глаза! Разбирая слова по складам, она читала в этой надписи совсем другое: «Идите к нам, ребята! Вы нужны вашим матерям!» Роза-Анна сжала руки. Это Эжен там, в вышине над кварталом, тревожно кричит, и его непрерывный крик раздается по всему небосводу, неся проклятия гнетущей их бедности.
И уже менее твердым, менее решительным шагом она направилась к самым бедным кварталам, расположенным за станцией Сент-Анри.
Вскоре она дошла до Рабочей улицы, вполне отвечающей своему названию. «Трудись, рабочий, — как бы говорит она, — надрывайся, изнуряй себя тяжким трудом и прозябай в грязи и убожестве!»
Роза-Анна пошла наугад вдоль ряда лачуг из серого кирпича, которые сливались в одну сплошную стену с одинаковыми дверями и окнами, расположенными через равные расстояния.
Орава оборванных ребятишек резвилась на тротуарах среди мусора и грязи. Худые печальные женщины выходили на пороги своих грязных жилищ и с удивлением смотрели на солнце, расстилавшее золотые дорожки перед мусорными ящиками. Матери, пристроив младенца на подоконнике, смотрели вдаль невидящими глазами. То тут, то там выбитое окно было заткнуто тряпками или грязной бумагой. Повсюду раздавались грубые голоса, детский плач, истошные крики, вырывавшиеся порой из недр какого-нибудь дома с плотно закрытыми ставнями и дверями, мертвого, замурованного, похожего на залитую солнцем могилу.
И вот все эти дома — их, собственно, и не следовало бы называть домами, потому что одни только номера над дверями являли собой некий жалкий намек на индивидуальность, — все дома в этом ряду, уже не два или три из пяти, а все без исключения, сдавались внаем.
Каждую весну эта страшная улица пустела; и каждую весну она заполнялась вновь.
Порывы ветра доносили сюда тяжелый, сладковатый аромат табака с сигаретных фабрик, расположенных поблизости. К этому едкому запаху примешивались запахи нагретой масляной краски и льняного масла, которые ощущались даже не столько носом, сколько ртом, сушили горло и заставляли пухнуть язык.
«Нет, — сказала себе Роза-Анна, — Флорентина ни за что не согласится сюда переехать». Она повернула назад и пошла теперь по улице Дю-Куван. Это была тихая аллея, вдоль которой тянулись небольшие особнячки. На окнах из цветного стекла висели кружевные занавески; кремовые шторы были наполовину раздвинуты; на фасадах виднелись медные дощечки с фамилиями хозяев, а кое-где на подоконниках красовались пышные растения, у которых, подумала Роза-Анна, света и простора было больше, чем детвора на улице Сен-Фердинанд видела за всю свою жизнь. Она понимала, что этот оазис тишины — не для них. Впрочем, ни один дом здесь и не сдавался внаем. Но здесь ей дышалось легче! И мужество отчасти возвратилось к ней. Посещение Рабочей улицы ее все-таки немного приободрило. Она черпала утешение в сознании того, что до последних пределов нищеты они еще не докатились.
Справа от нее высилась церковь святого Фомы Аквинского. Роза-Анна почувствовала, что она устала, что ей необходимо немного посидеть и подумать. Она вошла в церковь и тяжело опустилась на скамью неподалеку от двери.
Сначала ее мысли блуждали бессвязно и бесцельно. Потом силы постепенно возвратились к ней.
Она сказала себе: «Надо помолиться, ведь я в церкви». И, соскользнув со скамьи, она встала на колени и начала перебирать четки.
Но, произнося шепотом слова молитвы, она думала о другом. Губы ее продолжали шевелиться, но ее молчаливый монолог не был обращен ни к статуям святых, ни к какой-либо реликвии.
«Несправедливо это получается с моими детьми, — говорила она. — И с Эженом, которому всегда не везло, и с Флорентиной. Разве я в ее возрасте думала о том, как прокормить родителей?» И она тут же добавила: «Услышь меня, господи!»
Роза-Анна очень редко обращалась с молитвой непосредственно к богу. Гораздо чаще она просила о заступничестве святых, которых немного знала по картинам и статуям. Но бога, самого бога она представить себе не могла. Она не представляла его себе уже многие годы; это требовало от нее слишком больших усилий, и, несмотря на них, она не видела ничего — ничего, кроме облаков, белых и пышных, как вата, над которыми летал голубь. Но сейчас она вдруг вспомнила величавого старца с серебряной бородой, которого видела в детстве: того, кого изображали над святым семейством, — бога-отца. Ибо сейчас ее нужды казались ей слишком неотложными, чтобы можно было прибегнуть к помощи посредников.
Она говорила обо всем сразу, бессвязно и непоследовательно, но стараясь, разумеется, оправдать свои поступки и склонить всевышнего на свою сторону. «Господи, ты видишь, я выполнила свой долг. Я родила одиннадцать детей. Восемь из них живы, а трое умерли еще младенцами, — наверное, я была слишком изнурена. А этот, который скоро родится, неужели и он будет таким же слабым, господи, как и трое последних?»
Она вдруг подумала, что богу известна история всей ее жизни и нет надобности рассказывать ее по порядку. Но тут же она сказала себе: «Он ведь может и запамятовать. Столько обездоленных обращается к нему!» Единственным слабым местом ее веры было наивное предположение, что бог, усталый, рассеянный, измученный, как она сама, может дойти до того, что будет уделять людям и их бедам очень мало внимания.
Она заговорила о своих материальных нуждах не сразу, полагая, что некоторая доля дипломатии не помешает в молитве, как и в любой другой просьбе. Собственно, руководствовалась она при этом не мыслью, а инстинктом, смутно шевелившимся где-то в ее подсознании. Для себя она ничего не решалась просить у бога, но без стеснения уточняла все, что надеялась получить для своих близких; именно так она проводила границу между благами земными и небесными.
Внезапно перед ней возник образ Ивонны, и она, вздрогнув, перестала молиться. Может быть, и сама она тоже вонзает шипы в сердце Спасителя, как те злые люди, о которых говорила девочка?
Но, подумав, она отбросила эту мысль. В глубине души она представляла себе бога таким же добрым, как она сама. Жизнь многому ее научила, и болезненная набожность Ивонны была ей чужда. Она почувствовала успокоение. Молясь, она не столько стремилась облегчить тяготы жизни, сколько пыталась смиренно переложить ответственность за них на того, кто взвалил эти тяготы на ее плечи.
Она уверенным шагом подошла к чаше со святой водой, опустила в нее пальцы, осенила себя крестом, а затем вышла на улицу, с каким-то наивным удивлением вдыхая весенний воздух.
На паперти она уже была полна бодрости. Сезон переездов только-только начинается. Раз Азарьюс не работает, она, если понадобится, сможет уделить поискам подходящего жилья целый день, а то и несколько дней. К ней снова вернулась энергия и всегдашняя привычка использовать до конца даже самые малые выгоды.
Улицу заливало солнце. И Роза-Анна представила себе, как солнечный свет заливает тот домик, который она надеялась найти. Она безотчетно нарисовала в своем воображении комнатку с окнами на юг, где можно было бы поставить швейную машину. Потом солнце добралось и до столовой; оно осветило порог кухни; оно заглянуло в кухню. Оно озарило герань в глиняных горшках. Оно засияло на кастрюлях. Оно заиграло на белоснежной скатерти. Оно осветило крошечную девочку, сидящую на высоком детском стульчике.
Роза-Анна тряхнула головой. Меланхоличная улыбка тронула уголки ее губ. Домик, нарисованный ее воображением, был домиком, в котором она жила в первые годы своего замужества, девочка была Флорентиной, а солнце — тем солнцем, которое светило ей в двадцать лет.
Ее взгляд, затуманенный видениями прошлого, вновь вернулся к тихой улице. Она спустилась по ступенькам и пошла — быстро, как только могла, храбро и почти вызывающе прижимая к груди свою потрепанную кожаную сумочку.
VIII
Флорентина обслуживала Эманюэля и Жана Левека, задорно смеясь, так что были видны ее острые, белые, ровные зубы.
Вращающиеся стулья были заняты вдоль всего стола, а за спинами торопливо жующих посетителей уже стояли другие, поджидая, когда в этом строю согнутых спин образуется брешь; домохозяйки, готовые ринуться на первое освободившееся место, настороженно ждали, не выпуская из рук покупок, и бросали по сторонам беспокойные взгляды; некоторые из них положили свои пакеты на пол и выжидающе стояли около какого-нибудь посетителя; рабочие в кепках отворачивались, чтобы их не дразнил запах соусов, с тем серьезным и озабоченным видом, который они сохраняют всегда — предъявляют ли свой пропуск контролеру у заводских ворот или входят в переполненный до отказа бар.
Стоило насытившемуся посетителю встать, как на его место сейчас же садился другой; перед ним немедленно появлялся стакан со свежей водой и бумажная салфетка; зеленая туго накрахмаленная блузка склонялась над ним, а затем, шурша, удалялась; официантка передавала заказ по служебному телефону; скрипящий лифт поднимал дымящуюся полную тарелку к краю люка, открывавшегося в стене под зеркалом и уходившего, казалось, в пещеру, полную неиссякаемых запасов пищи.
Касса звенела почти непрерывно; посетители поторапливали официанток, старались привлечь их внимание, пощелкивая пальцами, развязно им посвистывая.
Однако Флорентина не торопилась. Сутолока и шум этого полуденного наплыва больше не волновали ее. Теперь это была для нее скорее минута передышки, время, когда она ждала, что Жан вот-вот появится, и, когда он появлялся, мысли ее были заняты только им. И сейчас, прислонившись узким бедром к столу, она болтала с молодыми людьми. Порой грохот посуды становился особенно громким — она не слышала, что они говорят, и наклонялась к ним, пытаясь угадать слова по движению губ; потом она задорно выпрямлялась, сохраняя в позе некоторую фамильярность. Ее ухо, над которым в волосах красовалась бумажная роза, привычно ловило каждый звук, требовавший ее внимания, — удар ложкой по мраморному столу, шарканье ног по кафельному полу, сердитый оклик заждавшейся толстой посетительницы. Но Флорентина только слегка пожимала плечами, и тонко вырезанные крылья ее носа раздувались; и она снова улыбалась Жану и Эманюэлю.
Сегодня ее лицо пылало оживлением, но это было отнюдь не ее обычное наигранное оживление — вульгарное, лихорадочное возбуждение с оттенком вызова. Взгляд ее светился таким ярким светом, что даже грубая краска на щеках казалась естественным румянцем. На ее тонком личике с сияющими удлиненными глазами, которое Жан видел сквозь пар от жаркого, он легко читал волновавшие ее воспоминания: буря, их поцелуи среди бури; движения ее становились еще более быстрыми и порывистыми, когда она думала об этом. Порой глаза ее останавливались на нем, вспыхивая страстным, живым, откровенным призывом. Затем она оборачивалась к Эманюэлю и из кокетства, из лукавства, чтобы привлечь внимание Жана и сбить его с толку, заговаривала очень фамильярно, даже с оттенком развязности, словно ее дружба с Жаном давала ей какие-то права и на его друзей. Кроме того, она всегда была неравнодушна ко всяким знакам внимания и потому не могла не поощрять внезапного интереса Эманюэля, именно сейчас, когда она была взволнована присутствием Жана и когда ей особенно хотелось показать ему всю силу своих женских чар, ибо она думала, что, завлекая Эманюэля, она тем самым сильнее завлекает Жана.
Она переводила взгляд с одного на другого, и на губах ее дрожала нерешительная улыбка, неизвестно кому из них предназначавшаяся. Эманюэль, войдя во вкус этой игры, поддразнивал девушку:
— Разве мы с вами не встречались раньше, мадемуазель Флорентина?
— Может быть, — отвечала она со смехом, задорно откидывая назад голову. — Тротуары в Сент-Анри узкие, а народу по ним ходит много.
— Разве мы с вами еще никогда не разговаривали?
— Может быть. Но я что-то не помню…
Потом она, в свою очередь, принялась с живостью расспрашивать его. Он отвечал ей довольно рассеянно, интересуясь больше игрой ее подвижного лица и тем вниманием, которое она ему выказывала, и мало вникая в смысл того, о чем она говорила своим высоким звенящим голосом, порой перекрывавшим стук посуды.
— Вы давно в армии? — спросила она приветливо, но небрежно и принялась подтачивать свои ногти, разглядывая их на свет, полировать о материю форменного платья.
— Полгода, — ответил он.
Отвечая на ее вопросы, он каждый раз подавался вперед, чтобы она наверняка его услышала. Потом он опять откидывался, и это покачивание взад и вперед подчеркивало его замешательство.
— А вам нравится там? — продолжала она.
— Да, ничего…
— В общем-то это, наверное, очень скучно, правда? Учения и все такое?
Эманюэль только улыбнулся.
— А как вы думаете, вас отправят за океан? Многие ведь уже уехали, правда?
Она спросила его об этом без всякого тайного волнения, без малейшего любопытства или восхищения. Но сияние ее зеленых глаз обмануло его, и он решил, что ее тоже манит неизведанное.
— Да, я надеюсь побывать за океаном.
— Ну, там вы всего насмотритесь, всякой нищеты.
Она широко улыбалась.
— А как вас звать-то?
— О, — сказал Эманюэль, — так вы уже забыли?
Она нисколько не растерялась, немного подумала и сказала:
— А, Летурно — вот как.
И она искоса посмотрела на Жана. Ее глаза говорили: «Вот видишь, и ему я тоже приглянулась, не только тебе одному, но все-таки тебя я люблю больше всех… Только я хочу, чтобы ты знал, что ты — единственный на свете… Да, ты — единственный, нет никого, кроме тебя…»
Ее глаза стали ласковыми, ресницы затрепетали, и она бросила на Жана быстрый взгляд, стараясь пробудить в нем те же воспоминания, что сжигали ее, — воспоминания, полные ветра, холода, снега, в которых они были вместе, он и она, одни среди бушевавшей метели. Перед ней закружился снежный вихрь, но затем она опять взяла себя в руки и продолжала спокойно и приветливо говорить с Эманюэлем.
— Должно быть, приятно быть в отпуске? Как вы сказали, у вас долго будет отпуск?
— Всего несколько дней…
— Ах, только несколько дней… Они быстро пролетят…
— Да, — сказал он тихо.
Удивленный мелькавшей в ее глазах насмешкой и нервными движениями ее пальцев, которые она без конца сплетала и расплетала, он спросил себя, не намекает ли она ему на возможность встречи. При этой мысли он покраснел. Он был так скован своей природной застенчивостью, с которой ему никак не удавалось справиться, что перестал поддерживать разговор и принялся нервно крошить кусочек хлеба, недовольный собой, злясь на себя за это молчание.
— Ну, как на ваш вкус цыпленок — ничего? — весело и кокетливо спросила Флорентина.
— Скажи, — внезапно заговорил Жан, и голос его прозвучал резко и насмешливо, — много ли у тебя кавалеров?
Флорентина не перестала улыбаться, но ее худенькие руки со вздутыми венами даже побелели — так сильно она их сжала. Чем вызван этот выпад? Разве она не была мила с ним? И с Эманюэлем тоже — ради него? Разве не было любезностью с ее стороны обслуживать только их одних, хотя ее ждали другие посетители? О, какую ненависть питала она к нему в эту минуту! Так же, как в тот первый день, когда она его увидела — увидела эти темные, насмешливые, непроницаемые и дерзкие глаза! И эти губы — четко очерченные, волевые и такие жестокие! И до чего же она все-таки любила вот эти самые глаза, вот эти самые губы! И до чего же упоительно было вспомнить о том, как эти насмешливые жестокие губы коснулись ее век! Упоительно, волнующе — и в то же время унизительно. Неужели ей никогда не удастся заставить его страдать так же, как он заставляет страдать ее, — но только не рискуя потерять его? Однако нельзя же проглотить такую обиду без ответа!
— А это уж мое дело, — сказала Флорентина в полном замешательстве и улыбнулась слабой улыбкой, жалкой и вымученной; ее худенькая грудь судорожно вздымалась и опускалась под тонкой тканью блузки, оживление сбежало с ее лица, и, уставясь глазами в стол, она принялась лихорадочно скрести ногтем какую-то царапинку на розовом мраморе и нервно постукивать ногой, вся в смятении, вся во власти давнего наваждения, всегда готового настичь ее, наброситься на нее, — нахмуренная, подавленная, несчастная.
— Ты, конечно, не обязана говорить нам, если встречаешься с кем-нибудь из посетителей «Пятнадцати центов» после работы. А у нас с Эманюэлем есть надежда попасть в их число?
— Это глупо — задавать такой вопрос, — ответила Флорентина, глядя прямо ему в глаза.
Она принялась раздраженно переставлять с места на место солонки и судки с соусом и вытирать их тряпочкой. Ей казалось, будто холодная, как лед, рука обхватила ее хрупкую обнаженную шею, — она никак не могла найти нужные слова, и это причиняло ей такую боль, что она отвернулась, стараясь спрятать лицо. А ведь прежде она всегда умела постоять за себя. Что же с ней случилось? Как это глупо, что она не может постоять за себя!
— Не обращайте внимания, мадемуазель Флорентина, — сказал Эманюэль. — Он говорит это, просто чтобы рассердить вас. Не принимайте этого всерьез.
— А я уже начинаю сердиться, — ответила она с полуулыбкой, цепляясь за надежду, что Жан и вправду только хотел подразнить ее. — Я уже чуть было не рассердилась. Только меня не так просто рассердить взаправду. И я уж тогда сама вам скажу, когда надо будет отчаливать.
— Отчаливать! — повторил Жан, захлебываясь от смеха.
— Да, отчаливать… Я-то говорю, как умею, — отпарировала она. — Без всяких там умных слов.
— Не обращайте внимания, — опять повторил Эманюэль.
Он протянул к ней через стол руку.
— Нет, конечно, я не обращаю внимания, чего там… что там, — поправилась она, старательно выбирая слова и все более запутываясь. — Но это не мешает, что вы… конечно…
Она улыбнулась Эманюэлю ласковой и признательной улыбкой.
— Это не мешает… конечно… вы более воспитанный…
— Ух ты! — усмехнулся Жан.
Флорентина оскорбленно выпрямилась.
— А сейчас будьте любезны сказать, что вы хотите на десерт. Я не могу болтать с вами целый день… — Она уставилась в пространство и сухим монотонным голосом перечислила: — Есть абрикосовое пирожное, виноградное, яблочное… банановый торт… ну и лимонный торт, — добавила она и нетерпеливым движением, в котором чувствовался еще не утихший гнев, встряхнула кудрями. — Если вы еще не выбрали, так выбирайте.
Она круто повернулась на каблуках и отошла, слегка покачивая плечами; на ее длинные шелковистые темно-каштановые волосы падали отсветы от окружавших ее никеля и меди.
— Пригласи ее провести с тобой вечер, — сразу же шепнул Жан на ухо Эманюэлю.
— Не говори глупостей, — ответил Эманюэль.
Они оба посмотрели в зеркало, на свои лица, отражающиеся на бледно-розовом фоне скатертей; глаза их встретились — в голубых глазах Эманюэля было колебание.
— Она поставит нас на место, и мы этого заслуживаем, — сказал он.
Однако ему не хотелось отказываться от начавшейся игры. Ободренный развязностью Жана, он уже обдумывал, как будет ухаживать за Флорентиной, какие слова, по-настоящему ласковые и нежные, он ей скажет. Приподняв правое плечо, он рассматривал себя в зеркале — не столько с самоуверенностью, сколько стараясь напустить на себя веселый вид и броситься в приключение очертя голову, словно он и в самом деле влюбился.
— Она-то! — усмехнулся Жан.
Он уже готов был рассказать Эманюэлю, как сам он завязал знакомство с Флорентиной. С его губ чуть было не слетели слова: «Это же так просто, ты себе даже не представляешь, до чего это просто!» Но он тут же решил ничего не объяснять. В тайниках его противоречивой натуры пробудилось ненасытное любопытство. И его охватило страстное желание истребить ту крупинку дружелюбия и доверчивости, которая еще жила в его сердце, все свое доверие к людям, всю свою тягу к людям, как бы слаба она ни была, и остаться без доверия, без привязанностей, совсем одиноким, в сладостном мире разочарования, которое принесет ему свободный расцвет его «я».
— Пригласи ее, — повторил он.
— Не знаю, — проговорил Эманюэль, которому вдруг стало грустно.
На другом конце стола Флорентина собирала грязную посуду. Мелькали ее хрупкие руки, испещренные сетью тонких вздутых вен. И усталость, давнишняя усталость, которая уже прочертила заметные морщинки в углах ее рта, разлилась по ее лицу, залегла под глазами, омрачила лоб, а когда вымученная улыбка сгоняла ее с лица, она продолжала жить в глубине глаз.
— Не знаю, — повторил Эманюэль.
«Оставь ты ее в покое, — думал он. — Пусть все оставят ее в покое! И пусть ее улыбка снова станет безмятежной, какой, наверное, была прежде! Пусть ее взгляд будет спокоен, пока она идет навстречу жизни! Пусть все оставят ее в покое!»
— Пригласи ее, — продолжал настаивать Жан, — а если она откажется, я сам ее приглашу… Эй, Флорентина! — позвал он.
Она ответила ему издалека неопределенным жестом, в котором сказалось все — и обида, и нетерпение, и покорность. Затем, собирая со стола посуду, она подошла к ним со стопкой грязных тарелок, доходившей ей до подбородка; к ее щеке прилипла мокрая прядь волос.
— Ну, что вам еще требуется?
— Эманюэль хочет тебя о чем-то спросить… — начал Жан.
Она поставила тарелки на стол, поправила волосы и бросила на Эманюэля взгляд, скорее насмешливый, чем ободряющий.
— Ну, спрашивайте, — сказала она.
«Пусть все оставят ее в покое! Пусть она снова станет естественной, пусть ее взгляд не будет алчным и настороженным! — думал Эманюэль. И еще: — Как мне хотелось бы хоть чем-нибудь ее порадовать. А кроме того — я сам не знаю почему, — мне, честное слово, очень хотелось бы потанцевать с ней. Она гибкая и тоненькая и, наверное, хорошо танцует!»
— Вы любите танцевать, мадемуазель Флорентина? — спросил он.
— Так вот о чем вы хотели меня спросить?
Она сердито нахмурилась, но в глазах ее зажглись искорки любопытства. Она глядела на него исподлобья, прерывисто дыша, взволнованная, как всегда, когда какой-нибудь молодой человек обращал на нее внимание, — взволнованная и вместе с тем настороженная.
— Так вот что вас занимало?
«Пусть все оставят ее в покое! — думал Эманюэль. — Пусть все убираются и оставят ее в покое!»
— Но все-таки — вы ведь любите танцевать?
Флорентина невольно начала раскачиваться, словно услышала далекие звуки джаза. Она думала теперь только о том, как будет танцевать в объятиях Жана. Она еще ни разу не танцевала с ним. Но когда-нибудь она обязательно с ним потанцует. Может быть, именно Жан и поручил Эманюэлю порасспросить ее о ее вкусах? А может быть, он готовит ей какую-нибудь ловушку?
Она бросила на Жана быстрый взгляд.
— Смотря с кем!
Растерявшийся Эманюэль, смущаясь от иронического взгляда приятеля даже больше, чем от взволнованного вида Флорентины, весь во власти своей мучительной застенчивости, выпалил совершенно неожиданно для себя, тут же пожалев о сказанном:
— Вы свободны, скажем, завтра вечером, мадемуазель Флорентина?
— А в чем дело?
Ее тонкие ноздри дрогнули. И внезапно она поняла, что ей во всей обнаженности открылась жестокость Жана, но также и ее собственная жестокость, жестокость, которую нелегко сломить. Она указала рукой на Жана и резко бросила:
— Это, конечно, он сказал вам, чтобы вы меня пригласили?
Губы ее искривила гримаса. А почему бы ей не показать Жану вот так сразу, что она о нем совершенно не думает? Почему бы ей и самой не сделать вид, будто их поцелуи среди метели были всего лишь забавой, будто все уже забыто? Но вдруг он уйдет и больше не вернется! Велика ли радость будет тогда чувствовать, что она отомстила?
— Да вы какие-то сумасшедшие! — выпалила Флорентина вне себя от негодования. — Я никогда еще не встречала таких сумасшедших, как вы!
Она еще продолжала машинально улыбаться, но глаза ее горели обидой и гневом. Она пристально посмотрела на Жана, и губы ее сжались.
— Так я отвечаю — нет! Пригласи вы меня хоть в зимний сад ресторана «Нормандия», все равно я скажу — нет!
— Ну, не всерьез же это «нет», — вставил Жан.
— Да, я говорю — нет! Это «нет» и тому и другому, нет и нет!
Голос ее звенел от волнения. Несколько сидевших поблизости молодых людей забавлялись, наблюдая эту сценку, и подстрекали девушку взглядами и смешками.
— Так их, так, мадемуазель Флорентина, проучите их!
— Я говорю — нет, — повторила, она, повышая голос. — За кого вы меня принимаете? — Она нервно покусывала губы. — Есть тут такие, которые принимают нас за дур каких-то… Незачем далеко ходить, они здесь, рядом, я их могу по именам назвать!
Тут вмешалась Маргарита, которая с грохотом волочила мимо бидон.
— Слышь, не сердись, они же для смеха! — сказала она.
И ее грубоватый голос звучал добродушно и примирительно.
— Ты же видишь, они это для смеха, — повторила она и искоса посмотрела на Эманюэля и Жана с упреком, больше, правда, дружеским, чем суровым.
— Захочу, и буду сердиться! — бросила Флорентина. — Для смеха! Для смеха! Нашли себе забаву — надсмехаться над всеми! Для смеха! Эдак можно далеко зайти — для смеха-то!
— Но это вовсе не для смеха! — запротестовал Эманюэль.
— Ах, нет! Так для чего же? Мы здесь не для того, чтобы над нами надсмехались!
— Правильно! Проучите их! — прыснул молодой рабочий.
— Уж будь спокоен, я сумею их проучить!
— Но сердиться совершенно не из-за чего… — попытался объяснить Эманюэль.
— Ну, конечно, сердиться не из-за чего, — иронически отпарировала она. — Это вы так думаете, вы и такие, как вы…
Однако ее упреки были обращены вовсе не к нему. Ее глаза, в которых горело всепожирающее пламя, были прикованы к лицу Жана. А он, прищурившись, холодно улыбался с неуязвимым видом, словно ничто не могло его задеть, и пальцем лениво сбивал на пол пепел с сигареты. «Ах, ты-то все равно — мой!» — думала она и так страшилась потерять его, так досадовала на себя за эту странную привязанность, так ненавидела себя за эту взволнованность, что пришла в полное смятение и, уже не думая, говорила сбивчиво все, что приходило ей в голову, — лишь бы выразить свою иронию и презрение.
— Мы здесь для того, чтобы вас обслуживать, это — правильно, это — пожалуйста, — продолжала она. — Но мы вовсе не обязаны слушать всякие глупости — нет! Без глупостей, ясно? Так не пойдет!
Щеки ее пылали, и она все время отбрасывала падавшие на лоб волосы, резко вскидывая голову. Она подхватывала длинные пряди рукой и откидывала их назад и вдруг, слегка наклонившись, улыбнулась Жану и Эманюэлю недоверчивой и вместе с тем полной ожидания улыбкой.
— И злитесь на меня сколько вам угодно, мне это все равно! Да, злитесь сколько вам угодно, мне это все равно…
— Ведь это вы злитесь, — мягко возразил Эманюэль.
Подняв руки, она поправила волосы.
— Я? Вот уж ни чуточки! Ни на столечко!
— Мне не хотелось бы, чтобы вы сердились, — сказал Эманюэль.
— Я не сержусь.
— Вы и правда не сердитесь?
— Я же говорю, что не сержусь!
— Ну, раз вы не сердитесь, — сказал Эманюэль, — то я хотел бы еще раз увидеться с вами.
Он думал о вечере, который собирались устроить его родители перед его отъездом. Порывистый, как всегда, он тут же решил пригласить Флорентину, даже не посоветовавшись с матерью. Почему бы и нет? — сказал он себе. — У нее, наверное, есть какое-нибудь приличное, хорошенькое платьице. Она красива. Он уже заранее радовался, представляя себе, каким окружит ее вниманием, чтобы загладить неблагоприятное впечатление от их первой встречи. И с еще большим удовольствием он думал, как будет знакомить Флорентину со своими друзьями: «Вот это мадемуазель Флорентина», — скажет он. И может быть, добавит: «Моя подружка…» А почему бы и нет? С легким волнением он подумал, что его вовсе не смутили бы какие-нибудь промахи с ее стороны, если бы она их допустила. И эта вечеринка, которую он ожидал со скукой, неожиданно представилась ему совсем в ином свете. Он уже видел, как будет ухаживать за Флорентиной и откроет новые черты ее характера. Он даже, представил себе, как после вечеринки провожает ее домой.
Он быстро наклонился над тарелкой, посмотрел на девушку с нетерпеливой, открытой и дружеской улыбкой и облизнул губы.
— Знаете, что доставило бы мне удовольствие, мадемуазель Флорентина?
— Нет, не знаю…
— И даже большое удовольствие…
— Понятия не имею…
— Моя мать устраивает завтра у нас дома вечер… — он прикоснулся к руке Жана, — и мы с моим другом спрашивали себя, не согласитесь ли вы прийти…
— К вам? — удивленно спросила она.
— Значит — да? — подхватил Эманюэль.
Едва заметная улыбка удовлетворения скользнула по ее губам. Флорентина наклонила голову.
— Подождите немножко, — сказала она. — Я… я даже и не знаю…
И в то же время она уже видела себя в своем красивом платье из черного шелка, в самых лучших своих чулках и в лаковых туфельках. Наконец-то Жан увидит ее хорошо одетой, совсем не такой беднячкой, за которую он ее принимает.
— Так вот, значит, что было на уме у вас с Жаном, — пробормотала она, нарочно затягивая минуту колебания, такую сладостную минуту, когда она могла еще выказать свою гордость и отклонить приглашение.
— Вы придете? — спросил Эманюэль.
— Я еще не сказала «да»… Мне надо подумать!
— Скажите — «да», — мягко попросил он. — Скажите «да», не раздумывая.
— Но я же буду там совсем одна. Я ведь никого у вас не знаю.
Она по-настоящему наслаждалась, заставляя уговаривать себя и думая, что от этого Жан будет больше ею восхищаться; и ей было приятно помучить Эманюэля. Потом она вдруг испугалась, что ему надоест ее уговаривать, и, слегка скривив губы, сказала:
— Ну что ж, можно, пожалуй… что ж, я согласна, я приду, ладно, я приду, — капризным и в то же время благодарным тоном добавила: — Это очень мило с вашей стороны, что вы обо мне подумали. Спасибо.
Он радостно рассмеялся.
— Можно мне зайти за вами?
Она задумалась, обеспокоенная молчанием Жана.
— В эту субботу я работаю допоздна… — сказала она. — Это ведь будет в субботу, да?
Флорентина ждала от Жана хотя бы слова или взгляда — хоть какого-нибудь обещания во взгляде, хоть какого-нибудь ободрения. Но, увидев, что он молча поднялся с места и поправил кашне, она поспешно пробормотала:
— Нет, я приду… я… да, ладно, ладно, лучше я приду сама…
— Не забудьте, — сказал Эманюэль.
Он улыбнулся ей, склонив голову к плечу и немного неуклюже свесив руки вдоль тела.
— И главное, не передумайте, — добавил он на прощанье.
Она не спускала глаз с Жана, вся подавшись к нему, терзаемая тем страхом, который всегда испытывала, когда он уходил, — страхом, что она больше никогда не увидит его. Жан… Ей казалось, что в его сердце царит такой же холод, как в той ночи, когда они согревали друг друга. Жан… он был резким хлещущим ветром, он был морозом, глубоко враждебным той внезапной нежности, которую пробуждает в нас надежда на весну. Он и она… Они узнавали друг друга среди той вьюги. Но холод и вьюга уйдут. Жан… Он ворвался в ее жизнь, как безудержный, все сокрушающий вихрь. Жан… быть может, он ворвался в ее жизнь только для того, чтобы она, едва уляжется первый порыв, увидела все убожество и всю нищету, которые ее окружают. Сегодня ее более, чем когда-либо, поразил отпечаток скорбной покорности на лицах бедных посетителей. Никогда прежде она не чувствовала, насколько она сама похожа на них, и не приходила в такое бешенство от этого сходства. Никогда прежде запахи подгоревшего масла и ванили не казались ей такими тошнотворными. А Жан уходил с таким видом, словно он уже выполнил свою задачу и ему больше нечего здесь делать. Но Жан — ее единственная надежда на избавление, надежда, которую она так долго подавляла. Жан — тот единственный, за которым она должна идти всю жизнь, идти до самого конца. Нет, ни за что на свете она не позволит ему исчезнуть!
— Нет! — сказала она, отвечая Эманюэлю, но глядя пристальным взглядом в глубину насмешливых глаз Жана. — Нет, я не передумываю. Я не передумываю. Раз я сказала — «да», так значит — «да».
И еще долго после того, как два друга исчезли, поглощенные улицей, где солнечные лучи сражались с серым днем, Флорентина, на тысячи ладов хитря сама с собой, старалась отвергнуть ту истину, которая на мгновение ей приоткрылась. О нет, она ни за что не откажется от борьбы за любовь Жана! Никогда не отступит! Да и глупо было бы выйти из игры именно теперь, когда ей представляется случай снова с ним встретиться, предстать перед ним сияющей и гордой, ослепить его так, что всегда и повсюду ему будет мерещиться только ее лицо, только ее образ! Она уже представляла себе, как будет держаться и что говорить, она уже входила в роль, которую должна будет сыграть на вечере у Летурно. Она видела, как стоит в центре ярко освещенного зала, как все молодые люди окружают ее, наперебой угождают ей — вот тогда-то и Жан обратит на нее внимание… когда все мужчины будут смотреть на нее, на Флорентину! О, как она любила эти праздные мечты! Ибо все другие возникавшие у нее представления в сравнении с этими мечтами были не более чем тени.
Какой, наверное, прекрасный дом у этих Летурно на площади Сэр-Джордж-Этьен-Картье! Из всего, что говорил ей Эманюэль, она запомнила лишь несколько слов: «Позвоните мне, как только освободитесь в субботу вечером. Я зайду за вами. Мы живем на площади Сэр-Джордж-Этьен-Картье!» Она несколько раз взволнованно повторила про себя этот адрес, представляя себе гостиную, обставленную в современном стиле, мягкий свет ламп, любезных, воспитанных людей, хлопоты хозяев, сервирующих изысканный ужин, и ее охватило умиление.
Погружая руки в грязную воду, она напевала, потому что она уже не была той Флорентиной-официанткой, которую раздражала и глубоко унижала ее работа; пусть ее грубо окликают, пусть нагло ухаживают — это уже не заденет ее, отныне она обретет в себе самой достаточно сил, чтобы преодолеть отвращение к этой серой жизни. Она открыла в себе новую, еще неведомую Флорентину, которая ей самой очень нравилась и которую она сама породила в тот вечер, когда в безрассудном порыве бежала среди метели на свидание с Жаном. О, как она нравилась теперь себе — и она сама, и все, что она делала!
Усталость покинула ее. Она унеслась в мечтах так далеко, что, когда час спустя увидела входящую в магазин мать, в первую минуту была ошеломлена и не могла поверить своим глазам, даже словно испугалась. Ее мать! Она шла медленно, щурясь от блеска меди и никеля. Она шагала тяжело и, увидев свое отражение в зеркале, поспешила спрятать рваные перчатки.
IX
Флорентина окаменела от неожиданности. Она прекрасно понимала, что первым ее чувством при виде Розы-Анны было облегчение — хорошо, что мать не пришла раньше, когда в кафе были Жан и Эманюэль. Но тут же ее охватило такое жгучее раскаяние, что она перегнулась через стол и, сделав над собой усилие, радостно окликнула мать.
— Мама! — вскричала она. — Вот так посещение!
Раз или два случалось, что Роза-Анна, проходя через магазин, останавливалась перекинуться словом-другим с Флорентиной, но она уже давно почти не выходила из дому и перестала наносить дочери эти неожиданные визиты.
Флорентина разглядывала свою мать с удивлением. Как это почти неизбежно случается с членами одной семьи, которые видятся каждый день, она не очень-то замечала изменения, постепенно происходившие во внешности матери. Она до сих пор не видела этих мелких морщинок в уголках глаз, не замечала отпечатка глубокой усталости на ее лице. Но сейчас ей достаточно было одного беглого взгляда, чтобы разглядеть страдание, написанное на лице Розы-Анны; так встреча после долгой разлуки или сильное душевное потрясение позволяют нам сразу увидеть, насколько человек стал непохожим на тот образ, который хранился в нашем сознании.
Она уже давно привыкла видеть свою мать только дома, склоненной над плитой или над шитьем и чаще всего при сумеречном освещении вечера или раннего утра. Но стоило Розе-Анне появиться в ярком свете магазина, одетой для выхода, — стоило ей выйти из полумрака, в котором она была столько лет замурована, и Флорентина, наконец, увидела ее лицо, увидела ее робкую улыбку, которая как бы старалась остаться незамеченной, не привлекать к себе внимания. Флорентина была потрясена. До сих пор она всегда помогала матери из чувства справедливости, из гордости, но, по правде говоря, без всякой нежности, а иногда и с таким ощущением, что, помогая матери, она наносит ущерб себе самой. Но сейчас она впервые в жизни почувствовала облегчение при мысли, что никогда не была мелочной по отношению к родным. Больше того: у нее вдруг возникло желание, внезапное, как вспышка радости, быть сегодня более внимательной к матери, более ласковой и щедрой, чем обычно, — ее охватило властное желание отметить этот день особой добротой, сделать что-нибудь такое, о чем было бы приятно вспоминать впоследствии, как бы ни сложились обстоятельства. И она поняла, почему такое желание, в сущности совсем для нее необычное, зародилось в ее сердце: потому что жизнь матери внезапно представилась ей в виде долгой, серой и унылой дороги, по которой сама она, Флорентина, никогда не пойдет; и сегодня они словно прощались друг с другом. Быть может, именно сегодня их пути разойдутся. Флорентине, во всяком случае, это представлялось неминуемым. Для некоторых людей необходима угроза разлуки, чтобы они сумели разобраться в своих собственных чувствах: именно в эту минуту Флорентина поняла, что любит свою мать.
— Мама, — порывисто сказала она, — присядь.
— Я проходила мимо, вот и решила отдохнуть, — пояснила Роза-Анна. — А отец дома, ты знаешь. Без работы!
«Ну конечно, — подумала Флорентина, — мать верна себе — сразу начинает разговор о наших невзгодах». Роза-Анна среди чужих всегда улыбалась смущенной улыбкой — она вовсе не хотела гасить пыла молодежи, напротив, сама старалась согреться возле нее, старалась быть веселой, но, когда начинала говорить, с ее губ слетали все те же горестные слова. Это стало у нее своего рода приветствием. И, пожалуй, именно эти слова скорее всего могли растрогать ее близких, ибо что же связывало их всех, как не общие заботы? И разве через десять или даже через двадцать лет не в этих же самых словах найдет наиболее полное выражение вся жизнь их семьи?
Роза-Анна продолжала, немного понизив голос, словно стесняясь говорить о своих невзгодах в непривычной обстановке:
— Вот я и пустилась сегодня в путь пораньше, чтобы подыскать жилье…
Она уже говорила все это утром. Флорентина сердито нахмурилась, чувствуя, что ее доброе намерение начинает ослабевать, но тут же сделала над собой усилие, стараясь вернуть свое желание быть доброй.
— Как хорошо, что ты зашла. У нас сегодня цыплята по сорок центов. Я за тебя заплачу.
— Да что ты, Флорентина! Мне бы только чашечку кофе, немного подкрепиться…
И губы ее слегка зашевелились, как бы произнося со страхом: «Сорок центов — как дорого!» Она хорошо знала цены на все продукты, научилась готовить сытную, но недорогую еду и на всю жизнь сохранила чисто крестьянскую нелюбовь к тому, чтобы платить в ресторане за блюда, которые сама она могла бы приготовить — она тут же подсчитывала в уме — куда дешевле. И в то же время она всю жизнь боролась с соблазном разрешить себе хоть разок это удовольствие, представлявшееся ей не в меру расточительным.
— Ну, будь по-твоему. — Усталость взяла свое, и Роза-Анна позволила себе поддаться искушению. — Если хочешь, кусочек пирожного, Флорентина, или парочку оладьев. Это я, пожалуй, съела бы.
— Нет, нет, — раздраженно возразила Флорентина.
Этот страх матери перед лишним расходом внезапно заставил ее вспомнить, каким широким жестом Жан давал ей на чай. Больше всего ее восхищала именно та небрежность, с какой он бросал монету на стол. А ее домашние — они никак не могли оторвать от монеты взгляда, они мысленно следовали за отданными деньгами, они тысячами способов еще цеплялись за них, словно монеты были утраченной частицей их самих. Случалось, что Роза-Анна, когда она очень уставала, вдруг без всякой видимой причины начинала вновь предаваться сожалениям о нескольких центах, которые она давным-давно неблагоразумно израсходовала.
Флорентина вскинула голову, больно уколотая этими воспоминаниями.
— Нет-нет, — нетерпеливо продолжала она. — Поешь как следует, мама. Не так уж часто ты заходишь перекусить к своей дочери.
— Это верно, — ответила Роза-Анна, растроганная веселым тоном Флорентины. — Вроде бы в первый раз. Но все равно, только чашечку кофе. Правда, Флорентина, с меня будет достаточно.
Она следила за сновавшими взад и вперед официантками, восхищаясь их молодостью, их живостью. И, поглядев на Флорентину — украдкой, потому что здесь, в этой необычной обстановке, среди переливающихся блеском зеркал, в беспрерывном движении пестрой толпы, ее дочь казалась ей совсем не такой, как они все, — она на минуту задумалась, испытывая смешанное чувство гордости и смущения. Она смутно ощутила, что неразумно все время докучать Флорентине разговорами об их неурядицах, омрачать ее юность, и постаралась — хотя и довольно неумело — казаться веселой.
— Не надо бы мне заводить привычку выходить из дому, — заговорила она, неловко улыбаясь, — а то я поважусь частенько к тебе захаживать. У вас тут в магазине так приятно, тепло. И пахнет как вкусно! Да и ты очень подходяще выглядишь, — добавила она.
Эти бесхитростные слова пролили бальзам на душу Флорентины.
— Пойду закажу для тебя цыпленка. Вот увидишь, какой он у нас вкусный! — воскликнула она, вновь охваченная желанием сделать для матери что-нибудь приятное.
Она вытерла стол перед Розой-Анной, принесла ей бумажную салфетку, стакан с водой — словом, окружила ее всеми теми мелкими заботами, которые изо дня в день оказывала посторонним, не испытывая при этом ничего, кроме скуки; но сегодня она делала все это с радостью. Ей даже казалось, что она делает все это впервые в жизни — смахивает со стола крошки, ставит тарелку, и в голове ее звучал далекий мотив знакомой песенки, подчиняя ее движения своему ритму, облегчая обычный труд.
— Хорошая у тебя здесь работа. Тебе здесь совсем неплохо, — сказала Роза-Анна, превратно истолковав веселый вид дочери.
— Вовсе нет! — бросила Флорентина, внезапно передернув плечами.
Потом она рассмеялась.
— Просто у меня сегодня были шикарные клиенты, — пояснила она.
Образы Жана и Эманюэля возникли у нее перед глазами. Не догадываясь, что их щедрость к ней как раз показывала всю глубину разделявшей их пропасти и только подчеркивала, что она — всего лишь официантка, Флорентина восхищенно покачала головой, с удовольствием вспоминая ту минуту, когда каждый из них положил под свою тарелку сверкающую монету.
— Знаешь, — сказала она, — у меня всегда больше хороших клиентов, чем у других девушек.
Потом она принесла матери полную тарелку и, так как сейчас не было особой спешки, позволила себе посидеть с ней несколько минут, пока Роза-Анна ела.
— Ну как, вкусно? Тебе нравится? — то и дело спрашивала она.
— Первоклассно, — отвечала Роза-Анна.
Но с глухим упрямством, которое отравляло ей любое необычное удовольствие, она снова и снова добавляла:
— Все равно это слишком дорого. Подумать только — сорок центов! По-моему, они берут слишком много. Как хочешь, Флорентина, но это дорого!
Когда она съела цыпленка, Флорентина отрезала ей кусок торта.
— Ох, я больше не могу, — сказала Роза-Анна. — Это очень много!
— Это входит в общую цену, отдельно платить не надо, — настаивала Флорентина.
— Ладно, я попробую, — согласилась Роза-Анна. — Но я уже сыта.
— Ну, ты все равно попробуй. Вкусно ведь, правда? Не похоже на твои домашние пироги!
— Гораздо лучше, — ответила Роза-Анна.
И Флорентина, увидев, как смягчилось лицо матери, как оно стало почти счастливым, ощутила еще более глубокое, еще более сильное желание добавить что-нибудь к подаренной радости. Сунув руку за лиф платья, она вынула оттуда две новенькие бумажки. Они были отложены на покупку чулок, и, когда ее рука сжала твердые хрустящие бумажки, перед глазами у нее возникли красивые чулки из тонкого шелка; она почувствовала горькое сожаление и, вздохнув, протянула матери деньги.
— Вот, — сказала она, — возьми. Возьми, мама.
— Но ты ведь уже дала мне на недельные расходы, — проговорила Роза-Анна, не решаясь поверить.
Флорентина улыбнулась. И сказала:
— Это — в добавку. Бери же!
Про себя она думала: «Я добра к маме, за это мне воздастся, это мне зачтется». Ей было грустно отказываться от шелковых чулок, но зато в ее сердце крепла уверенность, что совсем скоро она станет счастливой. Она представляла себе завтрашний вечер и с наивностью, с невероятной наивностью верила, что в награду за ее великодушие она будет блистать на этом празднике еще ярче и добьется от Жана поклонения — глубокого, волнующего, безграничного.
Щеки Розы-Анны залил румянец.
— Да нет, я не за тем пришла, чтобы у тебя что-нибудь просить, — сказала она, осторожно стряхивая крошки с пальто. — Я у тебя ничего не хочу просить. Флорентина. Я же знаю, что ты оставляешь себе из получки только самую малость.
Все же она взяла деньги, положила их в свой маленький кошелек и сунула его для большей сохранности в сумку; так надежно запрятанные и так заботливо сложенные, они, казалось, начали новую, долгую и таинственную жизнь — долгую, невзирая на множество неотложных нужд.
— Да, говоря по правде, они мне очень и очень пригодятся, — призналась Роза-Анна.
— Ну вот, — заметила Флорентина, не испытывая ожидаемого удовлетворения, — а ты бы мне ничего и не сказала.
Она поймала жалкий взгляд матери, удрученный взгляд, в котором, однако, сквозила благодарность и восхищение ею — Флорентиной. Она увидела, как мать с трудом поднялась и направилась к выходу вдоль прилавков, останавливаясь то тут, то там, чтобы потрогать какую-нибудь вещь или материю.
Ее мать! Какой старой она выглядела сейчас! Она шла очень медленно, и слишком узкое пальто подчеркивало большой живот. Теперь, когда у нее в сумке лежали два доллара, она шла нерешительнее, чем прежде, потому что теперь она видела и поблескивающую кухонную посуду, и мягкие, приятные на ощупь ткани; она шла, невольно замечая все те вещи, которые обычно запрещала себе разглядывать, и в ее душе рождались сильные и многочисленные соблазны — она уходила, хорошенько спрятав деньги, которые порождали все эти соблазны, уходила, в сущности, более бедная, чем пришла в магазин.
И тут внезапно радость в сердце Флорентины сменилась горечью. То душевное ликование, которое она ощутила, совершив бескорыстный и великодушный поступок, это бесконечное ликование сменилось горестным оцепенением. Ее жест был напрасной жертвой, лишенной всякого смысла. Он был лишь каплей влаги в пустыне их жизни.
В глубине магазина Роза-Анна остановилась у прилавка с игрушками. Она взяла в руки металлическую флейту и тут же поспешно положила ее на место при виде приближающейся продавщицы. И Флорентине стало ясно, что между желанием Даниэля и этой сверкающей флейтой всегда будет стоять нерешительность Розы-Анны, подавлявшей в себе добрый порыв. И точно так же между ее собственным искренним желанием помочь Розе-Анне и тем спокойствием, которого ее мать, конечно, никогда не обретет, всегда будет витать только эта горькая тень воспоминания о добром ее намерении. Вырваться из такой жизни хотя бы ей самой — уже это было бы очень важно, уже это было бы очень трудно.
Она заставила себя улыбнуться матери, которая издали, казалось, просила взглядом ее совета. «Купить ли мне эту блестящую флейту или чулки, одежду, пищу? — словно спрашивала она. — Что нужнее? Флейта, похожая на солнечный луч, в ручке больного ребенка, веселая флейта, которая будет издавать звуки радости, или еда, хлеб насущный? Флорентина, скажи мне, что важнее?»
Флорентине удалось улыбнуться, когда Роза-Анна, решив наконец уйти из магазина, помахала ей рукой на прощанье, но ей хотелось истребить в своем сердце — разорвать, как разрывают какую-нибудь тряпку, — свои бесплодные стремления. В борьбе с порывами чувствительности ее сердце уже начинало черстветь.
X
Все окна второго этажа высокого каменного дома ярко горели, и их свет, пробиваясь сквозь снежные вихри, струился во мрак и безмолвие площади. Стоя перед лестницей из литого чугуна, которая вела к сияющему провалу в строгом темном фасаде, Флорентина с бьющимся сердцем прислушивалась к шуму празднества, приглушенному пушистым снегом. Не смущение, а глубокое огорчение заставляло ее медлить перед тем, как совсем одной войти в чужой дом. До последней минуты, до закрытия магазина она все надеялась, что Жан зайдет за ней; рассчитывая на это, она заранее приготовилась — под одеждой официантки на ней было шелковое платье, в бумажном мешке лежали захваченные из дома лаковые туфли. В девять часов она, наконец, пошла к Летурно одна, до того этим раздосадованная, что всю дорогу, пока ноги машинально несли ее к площади Сэр-Джордж-Этьен-Картье, она обещала себе то обязательно пойти к Летурно, то не ходить к Летурно, и все это с одной и той же целью — выказать свое полнейшее равнодушие к Жану.
Но в глубине души она знала, что решила быть на этой вечеринке, твердо решила: ведь Жан, несомненно, придет позже, и нельзя упускать этот случай увидеться с ним — как-никак на ней самое красивое ее платье, которого Жан никогда не видел, и, право же, было бы очень досадно пойти домой, когда она уже надела это шелковое платье, когда ее сердце, как и ее платье, отзываемся трепетом на звуки праздника, веселого оживления, танца, когда ее сердце, как и ее платье, полно сладостного, холодного и бесконечного шелкового шелеста.
Тени, снова и снова мелькавшие в красноватых окнах второго этажа, наверное, были танцующими парами. И снег, кружившийся в отблесках света, тоже танцевал, — его хлопья кружились, подобно ночным бабочкам, порхающим в световом круге фонаря. Их было бесконечное множество, этих легких белых снежинок, которые бились о стекла и умирали, прильнув к их яркому сиянию.
Флорентина бегом поднялась по лестнице и поспешно позвонила, пока решимость не покинула ее. Почти сразу Эманюэль отворил дверь. Он был в мундире, как и накануне, когда она впервые увидела его в своем кафе. Стоя на пороге ярко освещенной передней, с легкой, только еще зарождающейся улыбкой на губах, он вглядывался во мрак, скрывавший Флорентину; затем он узнал ее, и лицо его просияло.
— О, мадемуазель Флорентина, вы пришли!
Флорентина выглядела такой нерешительной, готовой тут же исчезнуть, она казалась таким бесплотным видением, словно сотканным из теней полумрака, что он не сразу протянул ей руку. Потом он ввел ее в теплую прихожую, полную сигаретного дыма, аппетитных кухонных запахов. И его улыбка стала явственней. Теперь он дружески смотрел на нее, узнавая запомнившееся ему упрямое, выразительное личико. На щеках девушки таяли снежинки.
— Вы пришли, — радостно сказал он.
Он помог ей снять перчатки и подержал сумку, пока она снимала пальто и стряхивала снег, прилипший к узкому меховому воротнику.
— Пройдите в комнату мамы, — сказал он.
Ведя ее по коридору, он нагнулся к ней и шепнул:
— Послушайте… Можно, я буду говорить вам… я буду говорить тебе «ты»?
— Как хочешь, — ответила она с капризной и кокетливой улыбкой, — мне все равно.
— И ты будешь звать меня Эманюэлем?
— Как хочешь, мне все равно.
Она беспокойно и настороженно прислушивалась к голосам, доносившимся из гостиной.
— У вас там много людей? — спросила она.
— Ну, ты же привыкла к людям, — ответил он. — В кафе ты их видишь с утра до ночи. Ты же не боишься людей?
— Там это совсем другое дело.
— Правда?
— Конечно. В кафе только обслуживаешь людей. Устаешь их обслуживать. Надоедает их обслуживать… Но на вечеринке… Ну, я не знаю, как это сказать…
Ее брови сдвинулись. Она оборвала фразу, спрашивая себя, чего ради она вдруг пустилась в откровенности с Эманюэлем. Может быть, оттого, что в тепле и уюте этого дома она вдруг расчувствовалась и ей почудилось, будто через время и расстояние она разговаривает с Жаном? Да, так оно и было. Она стояла рядом с Эманюэлем, но говорила с Жаном. С Жаном, который внезапно стал внимательным к ней, хочет ее слушать и старается понять.
— Не знаю, зачем я тебе все это говорю, — капризно сказала она и слегка ударила его по руке кончиком перчатки.
Она думала, что можно и пококетничать с Эманюэлем. Как бы она себя с ним ни вела — это было не важно; ведь она могла не опасаться, что ее сердце будет замирать из-за него в ослеплении и страхе. С ним ей незачем было держаться настороже; чувство, которое он ей внушал, никак нельзя было назвать любовью. С Эманюэлем можно было говорить обо всем, что она хотела бы сказать Жану. И чуть-чуть заигрывать тоже. И даже позволить ему поцеловать себя, если он будет достаточно мил и деликатен, — это напомнило бы ей о поцелуях Жана.
Эманюэль посторонился, пропуская ее в комнату матери, выдержанную в розовато-лиловых тонах, где покрывало на постели, портьеры на окнах и салфетка на столе были из одной и той же ткани, плотной и шелковистой.
— Если хочешь попудриться, все, что надо, стоит на туалетном столике, — сказал он.
— Что ты, — ответила она, несколько задетая, — у меня все есть, и пудра тоже.
И Флорентина подошла прямо к столику, задрапированному темной тканью и освещенному неярким светом лампы под розовато-лиловым абажуром.
Она ни к чему не прикоснулась, но с любопытством осмотрела ряды флакончиков и баночек с кремом, аккуратно расставленных под лампой. Затем, вынув из сумки гребенку, она принялась приводить в порядок волосы, забавляясь своими отражениями в трехстворчатом зеркале. Когда она поднесла руки к затылку, ее платье приподнялось выше колен, и из-под него показалась кружевная, уже сильно потрепанная оборка нижней юбки.
Опасаясь, что он ее стесняет, Эманюэль пробормотал:
— Я пойду позову маму, чтобы она представила тебя гостям.
— Нет, нет, — испуганно запротестовала Флорентина. — Останься со мной и сам меня представь.
Он взял ее под руку, притянул к себе и долго смотрел на нее, не пытаясь поцеловать. Он понимал, что вел себя с ней в кафе немного бесцеремонно, и удивлялся, что она все-таки приняла его приглашение. Теперь он боялся, что его родители окажут девушке не слишком радушный прием. И опасение, что она почувствует себя здесь чужой, делало Флорентину в его глазах еще более милой и трогательной. Ему было приятно и то легкомысленное доверие, с которым она к нему относилась, и то любопытство, которое она возбуждала в нем самом.
— Не бойся, я не дам тебе скучать, — сказал он.
— Ну, что ты… — ответила она, передернув плечами. — Скучать я не буду, об этом я не беспокоюсь, просто я не хочу, чтобы ты оставлял меня одну…
Она разговаривала с Эманюэлем и в то же время прислушивалась к голосам в гостиной, стараясь различить голос Жана. От нервного напряжения кровь прилила к ее щекам, глаза застлало словно туманом, иона уцепилась за руку Эманюэля, ласково глядя на него. Больше всего ей хотелось, чтобы Эманюэль казался влюбленным в нее и чтобы Жан был этим недоволен. Разве она не сумеет этого добиться? Разве она не сумеет добиться, чтобы сегодня за ней ухаживали больше, чем за другими?
Когда они вошли в гостиную, Эманюэль уже не держал ее за руку. Складные стулья, взятые напрокат для этого вечера, стояли вдоль стен в двух комнатах, соединенных стеклянной дверью, створки которой были распахнуты. Человек двадцать приглашенных чинно сидели в ряд, словно они собрались для того, чтобы смотреть на танцы, а не участвовать в них. Ковер был убран, наиболее громоздкая мебель отодвинута в стороны. В одном углу стоял радиоприемник, и гости то и дело поглядывали на него. Нетерпеливо ожидая начала танцев, молодые люди, даже сидя, выделывали носками ботинок что-то вроде быстрых и четких танцевальных па.
Переходя от одной группы гостей к другой, Эманюэль произносил:
— Мадемуазель Лакасс…
Затем он быстро называл ей четыре или пять фамилий. Она же каждый раз морщила носик, натянуто улыбалась и говорила:
— Ах, уж я и не знаю, как мне запомнить все эти фамилии, — и затем шептала ему на ухо: —А ты сказал, что будет совсем немного народу!
Дойдя до двери в кухню, она очутилась перед родителями Эманюэля: перед госпожой Летурно, маленькой кругленькой женщиной с добрым и белым кукольным личиком и светлыми близорукими глазами навыкат, которые из-за толстых очков казались еще больше, и перед господином Летурно, чья начинающая полнеть фигура, тонкие приглаженные усики и учтивая улыбка, — скорее вежливая, чем приветливая, — были словно списаны с портрета, который висел у него над головой и, очевидно, изображал его отца. Господин Летурно сидел с задумчивым отчужденным видом, положив одну руку на подлокотник кресла, другой поддерживая подбородок и слегка поглаживая усы, и, казалось, выносил в уме приговор собравшейся под его кровом молодежи, а заодно и всей этой экстравагантной, чуждой ему по духу эпохе — приговор, окрашенный насмешливой снисходительностью. Торгуя церковными винами и утварью, обслуживая провинциальных кюре и аббатов, он научился слащавой плавности и закругленности их речи, сдержанным и вместе с тем широким, величавым жестам — при каждом взмахе рук он словно поднимал тяжелую дорогую ткань. Утверждали, что, стараясь соблазнить покупателей, молодых священников, заходивших в его магазин, он сам облачался то в блестящую ризу, то в кружевной стихарь и расхаживал перед покупателем, умело показывая переливы дорогой ткани в мягком свете, струившемся среди статуй, гипсовых фигурок Христа, сверкающих гроздей четок и придававшем помещению вид ризницы. Кроме своей торговли, он не интересовался почти ничем, за исключением консервативных политических течений, и был почетным членом многих религиозных и патриотических обществ. Его преклонение перед стариной заставляло его безоговорочно отвергать все, в чем он видел оттенок модернизма или иностранного влияния. Тем не менее он терпел у себя вечеринки и принимал молодежь, хотя ему не нравились язык, манеры и легкомыслие этой молодежи; он делал это из любопытства, а также из определенной светской любезности которую к тому же любил подчеркивать и даже выставлять напоказ.
Между Эманюэлем и его отцом уже давно установились вежливые, корректные, но холодные отношения. Что же касается застенчивой, слабовольной и мягкосердечной госпожи Летурно, то она так давно старалась примирить их, что превратилась в какое-то подобие зеркала, в преувеличенном виде отражавшего и живость ее сына, и строгую солидность мужа. От детской непосредственности она внезапно переходила к сухой сдержанности, которая как бы выражала ее благоговейное уважение к господину Летурно и готовность встать на его сторону против кого бы то ни было.
Затем Эманюэль познакомил Флорентину со своей сестрой Мари, доброй и серьезной девушкой, с младшим братом в школьной форме, который был удивительно похож на него самого, и, наконец, с двоюродной бабушкой, чьи нервные трепещущие руки непрерывно перебирали, словно четки, складки широкого черного платья.
Никогда еще Флорентина не чувствовала себя такой выбитой из колеи, такой одинокой и расстроенной. Теперь она уже знала, что Жана среди гостей нет, и, с первого взгляда решив, что все они — люди скучные, не сомневалась, что он и не придет. И ей захотелось убежать отсюда, схватить свое пальто и исчезнуть в мягкой темноте ночи. Госпожа Летурно в порыве доброты старалась ободрить ее и без умолку ворковала.
— Вы знаете, со вчерашнего дня Эманюэль только и говорит что о вас, — сказала она. — Эти прелестные вьющиеся волосы, — добавила она, коснувшись кудрей девушки, — от природы такие?
— Да, — ответила Флорентина.
Господин Летурно под видом отеческого внимания, в свою очередь, принялся расспрашивать Флорентину, и она не могла сдержать раздражения, заметив, что он умело выведывает у нее то, чего она вовсе не хотела говорить. Получалось так, будто он очень мягко, с учтивой улыбкой и любезным видом, но совершенно непреложно давал ей понять, что в его доме ей не место.
Флорентина легко улавливала все оттенки его голоса и прекрасно их понимала. Она чувствовала себя глубоко задетой и кипела негодованием. «Если бы я полюбила Эманюэля, — думала она, — ему не удалось бы нас разлучить!» И уверенность, что если бы она захотела, то могла заставить Эманюэля пойти ради нее на любую жертву, была ей очень приятна и даже немного утешила ее.
Тем временем Эманюэль болтал с молодыми людьми, собравшимися в оконной нише, украшенной высоким папоротником. Флорентина, чтобы придать себе бодрости, вынула пудреницу и принялась пудрить нос. Она заметила насмешливый взгляд господина Летурно, но отважно продолжала свое занятие, гордо вскинув голову.
Внезапно она перехватила взгляд Эманюэля, отсутствующий и словно ищущий чего-то в пространстве. И ей в эту минуту показалось, что Эманюэль так же одинок, как и она сама, словно он не был дома, среди своей семьи, словно он сам удивляется, как он, собственно, здесь очутился, словно он ждет, давно уже ждет кого-то. Потом этот грустный рассеянный взгляд остановился на ней, узнал ее и оживился. «Жан никогда не смотрит на меня такими глазами, — подумала Флорентина, — Эманюэль взглянул на меня так, словно давно меня знает. А Жан всегда смотрит так, будто каждый раз припоминает, „кто же это“», — размышляла она с удивлением.
Разговор шел вяло, то и дело прерываясь. Поддерживали его только гости из города, а молодежь из Сент-Анри почти не принимала в нем участия. Молодой студент-медик, соученик Эманюэля по коллежу, блистал отточенным красноречием. Около него стоял другой студент, с одухотворенным и задумчивым лицом, еще более возбуждавший любопытство девушек. Они подталкивали друг друга локтем, придерживая сумочки, которые у всех лежали на коленях, и потихоньку спрашивали:
— Кто это — вон тот?
— Художник, — предполагала одна.
— Писатель, — говорила другая.
Но уверенности в их предположениях не чувствовалось. И в том уголке гостиной, где, сбившись в кучку, сидели девушки, вдруг начинались перешептывания, тихие споры вполголоса; мужчины же разговаривали между собой, некоторые из них выходили в коридор и даже на площадку лестницы и здесь, вырвавшись из чопорной атмосферы гостиной, смеялись и рассказывали анекдоты.
Флорентина все время внимательно наблюдала за дверью гостиной. Она еще надеялась, что вот-вот раздастся звонок и на пороге появится Жан, растрепанный, со снегом в густых черных волосах — такой, каким он всегда живо вставал в ее памяти. Ах, как она надеялась увидеть его, увидеть его сдержанную улыбку, таившуюся в уголках рта, — улыбку, которую он, может быть, пошлет ей, когда увидит, что она здесь!
Эманюэль включил радио. Комнату наполнили неистовые звуки джаза, яростный вопль саксофона. Девушки тотчас встрепенулись, начали поправлять прически и платья, доставать пудреницы, чтобы посмотреть в зеркальце, все ли у них в порядке для танцев. Их ноги в светлых чулках беспокойно задвигались. Потом перед Флорентиной оказался Эманюэль. Взяв ее за обе руки, он притянул ее к себе.
— Наш танец, — сказал он. — Ты танцуешь свинг?
Он смеялся. Когда его охватывало волнение, скованность и неловкость, присущие ему, пока он был спокоен, сменялись нервной порывистостью. Он не так сильно наклонял голову к правому плечу, и лицо его озарялось улыбкой, широкой и открытой, словно он старался поделиться своей радостью с окружающими. Видя сына таким возбужденным и энергичным, госпожа Летурно не меньше, чем он сам, сожалела о том, что из-за плохого зрения его не взяли в авиацию.
Флорентина с первых же тактов послушно следовала за Эманюэлем. Эта строптивая и своевольная девушка, танцуя, удивительно хорошо приноравливалась к движениям партнера, подчиняя ритму танца свое тонкое гибкое тело, и отдавалась музыке со страстью, с детской непосредственностью и почти дикарским пылом.
— Что это за негритянская пляска? — : осведомился господин Летурно. — Где Эманюэль ей научился?
— Они очень хорошо танцуют вместе… и не скажешь, что в первый раз! — проговорила госпожа Летурно. Потом, наклонившись к мужу, она добавила примирительным тоном: — Друг мой, мы ведь так редко даем вечера… Мы совсем не знаем современную молодежь!
Эманюэль то обнимал Флорентину за талию, то отпускал ее на расстояние вытянутой руки. Некоторое время они шли рядом, слегка подрагивая расслабленными ногами, которые словно жили собственной жизнью. Держа в поднятой руке руку Флорентины, Эманюэль вертел девушку вокруг себя так быстро, что ее юбка, браслеты, ожерелье взлетали. Потом он снова обнимал ее за талию, и они под отрывистую музыку прыгали друг против друга, лицом к лицу, дыхание в дыхание, видя в глазах партнера свое скачущее отражение. Распущенные волосы Флорентины развевались в воздухе, метались от одного плеча к другому, а когда она кружилась, падали ей на глаза.
— Где Эманюэль познакомился с этой девушкой… Лакасс — так, кажется, ты сказала? — спросил господин Летурно.
— Ты помнишь, — негромко ответила госпожа Летурно, — ту бедную женщину, которая много лет назад приходила к нам помогать по хозяйству?
— Так это ее дочь?
— Да-да… Просто не верится… Ведь ее Флорентина неплохо выглядит.
— Эманюэль знает?
— Должно быть… Но как бы то ни было, это его не оттолкнет…
— Просто безумие! — пробормотал господин Летурно, поглаживая усы. — Мальчишка совсем не умеет поддерживать свое достоинство.
— Знаешь, Флорентина, я танцевал бы с тобой всю ночь напролет, — говорил Эманюэль. — Я танцевал бы с тобой всю жизнь.
Ибо она была легка, как птичка, как неутомимая птичка без всяких забот и мыслей в круглой маленькой головке.
— И я тоже, — ответила она, — и я тоже очень люблю танцевать.
— Я больше не буду танцевать этот танец ни с кем, кроме тебя, и вообще я тебя больше не отпущу.
Она откинула голову и самозабвенно ему улыбнулась. Быть в центре всеобщего внимания — вот что она любила даже больше, чем танцевать. Гости умолкли, все смотрели на них. И ей казалось, что она слышит, как они спрашивают друг друга:
— Кто эта девушка?
И представляла себе ответ, небрежно брошенный с пожатием плеч:
— Так, официанточка из «Пятнадцати центов»!
Что ж, она им покажет, что может увлечь Эманюэля, а если захочет, то и не одного только Эманюэля, если захочет, то всех этих молодых людей; она им покажет, кто она такая — Флорентина! От овладевшего ею задора, от быстроты танца ее сердце билось сильнее, а щеки окрасил румянец. Словно две крохотные лампочки загорелись в глубине ее глаз — две крохотные лампочки, которые зажгли в ее зрачках трепещущие огненные точки. Маленькое коралловое ожерелье взлетало, точно легкая цепь, на ее хрупкой шее, руки ее, словно цепи, обвивали талию Эманюэля, шелковое платье шелестело, раздуваясь вокруг нее, высокие каблучки стучали по паркету: она была Флорентиной; она плясала свою жизнь, она бросала вызов своей жизни, она прожигала свою жизнь, она сжигала свою жизнь — но и другие жизни тоже сгорят вместе с ее жизнью!
И об этом говорило восхищение Эманюэля, его явное волнение, так же, как и его напряженная улыбка, и побледневшее лицо, — да, все это говорило о том, что она, Флорентина, обладает особой, редкой властью над мужчинами. И все это сразу стерло следы обиды и унижения в ее душе. Это было прекрасно, это было словно обещание, что и Жан тоже не сможет устоять перед ней.
Теперь она думала о нем, с трудом переводя дыхание, приоткрыв губы, между которыми виднелся ряд белых ровных зубов; она задыхалась, ее черное шелковое платье прилипло к маленькой груди, и ей было приятно слышать, как громко стучит сердце Эманюэля под грубым сукном мундира. Вкрадчивым, ласковым движением она прильнула щекой к щеке Эманюэля и сквозь легкую ткань платья ощутила такой близкий, такой сильный гул, что уже не могла различить, ее ли это сердце или сердце Эманюэля бьется так бурно и учащенно.
Музыка оборвалась.
Эманюэль заметил, что приколотая к платью Флорентины брошка отстегнулась.
— Твоя брошка отстегнулась… — сказал он. — Сейчас упадет…
Немного развязным движением он попытался опять приколоть брошь к ее платью, к раскрывшемуся вырезу.
Флорентина вся напряглась, отступила назад и застегнула брошь сама. Она слегка дрожала.
Подняв глаза, она увидела, что Эманюэль смотрит на нее пылающим взглядом.
— Дорогая, — пробормотал он чуть слышно, на одном коротком выдохе, почти не шевеля губами.
Начался вальс. Эманюэль стремительно обнял ее за талию.
Эта медленная музыка нравилась Флорентине меньше. Эманюэль сжимал ее слишком сильно. Его потная рука до боли стискивала ее пальцы. На каждом шагу их толкала какая-нибудь неловкая пара. Теперь, когда танцевала вся молодежь, в комнате стало тесно. Пестрая масса топталась на месте, колыхалась взад и вперед, словно не находя выхода. Семирожковая люстра по-прежнему сияла цветными лампочками, но плотная масса танцующих отбрасывала на стены слившиеся тени, и от этого в комнате все как будто темнело.
Флорентина двигалась теперь слишком медленно — такой темп не отвлекал ее от мыслей. Как скучна эта тягучая музыка! Она еще смеялась словам Эманюэля, но уже не слышала этих слов. Она его больше не слушала. Она прислушивалась только к тяжелому предчувствию, нараставшему в ее сердце: Жан… он так и не пришел… нарочно… чтобы не встретиться с ней… он решил больше не встречаться с ней… И на что ей внимание других мужчин, если тот, кто ей нужен, уходит от нее?
Руки и ноги у нее мучительно ныли. Чтобы не чувствовать усталости, ей нужно было бы стремительно двигаться в бешеном вихре, безостановочно кружиться и кружиться. А иначе усталость сковывала ее тело, давила свинцовой тяжестью, словно на нее давили оковы ее жизни, пронизанной вечным страхом, что ей не суждено быть счастливой. Чтобы танцующие не разъединили их, Эманюэль прижимал ее к себе слишком крепко. Он разгорячился, и его грубый шерстяной мундир неприятно царапал ее обнаженную руку. Подняв на него глаза, она вдруг почувствовала к нему отвращение. «Дорогая!» — сказал он. Как будто ей это было нужно! Не он должен был говорить ей нежные слова!
Позднее она внезапно вернулась в мир реальности. В гостиной, обогреваемой калорифером, было очень жарко. Цветы, стоявшие на пианино, роняли лепестки. Она с недоумением огляделась вокруг, поймала на лету какую-то фразу:
— Раса франко-канадцев… семья… — журчал господин Летурно.
Кучка молодежи вокруг Эманюэля разговаривала о войне. Флорентина слышала обрывки жаркого спора: «Нападение на Польшу… Демократические страны…» Она утомленно закрыла глаза. Потом открыв их, она заметила прикованный к ней холодный, насмешливый взгляд господина Летурно. Он явно считал ее лишь жалкой официанткой, обреченной всю жизнь заниматься тяжелым трудом и подвергаться грубому обращению. Увидев этот взгляд, она словно окунулась в пары посудомойки — ее руки словно опять погрузились в грязную мыльную воду, вокруг запахло сосисками.
— Ты давно встречаешься с Эманюэлем? — сухо спросила Флорентину сидевшая рядом с ней девушка.
Однако в голосе ее звучала печаль.
Флорентина вздрогнула. Ей захотелось чем-нибудь огорчить эту незнакомку, которую явно что-то тревожило. Ей казалось, что ей самой стало бы легче, если бы она причинила боль кому-нибудь другому. Но она только скривила губы:
— Ну, во всяком случае, он — не мой кавалер.
— А кто твой кавалер? — продолжала девушка с печальными глазами. — Ты любишь его, — вдруг прямо сказала она, пытаясь как-то сблизиться с Флорентиной.
Это была миниатюрная, миловидная, казавшаяся усталой девушка; она следила за Эманюэлем грустным взглядом.
«Мой кавалер!» — повторила про себя Флорентина, и ее внезапно охватило бешенство.
«Мой кавалер! — думала она. — Нет у меня кавалера. Мне девятнадцать лет, а у меня нет дружка, который водил бы меня в кино по субботам или приглашал бы на вечеринки… Мне девятнадцать лет, и я совсем одна…»
Она услышала, что девушка рядом с ней снова заговорила.
— А где ты купила это платье? — спросила она.
Вопрос был задан без злого умысла, но Флорентине показалось, что в нем звучит желание подчеркнуть свое превосходство. Пока она обдумывала ответ, в ее памяти возникла картина зимнего вечера, когда мать кроила это платье, — красивый черный шелк, легкий и шелестящий, был разостлан на обеденном столе, и Роза-Анна, напряженно дыша, склонялась над ним с ножницами в руках, полная колебаний перед тем, как начать кройку, а снаружи, за покрытыми инеем окнами, завывал ветер. Какой красивой казалась ей в тот вечер эта материя, и как хорошо помнила она первую примерку, когда она в платье, сметанном на живую нитку, еще без рукавов, наклонялась к зеркалу буфета, а потом влезла на стул, чтобы увидеть все полностью — и лиф и юбку.
— Я уже и не помню, где я его купила, — процедила она сквозь зубы.
И своим ответом она как бы зачеркнула мучительную ночную работу Розы-Анны. Прощай, радость сознания, что у нее есть красивое платье! Теперь она понимала, что это — очень скромное платье. Отныне, надевая его, она всегда будет слышать скрип ножниц, разрезающих ткань, которая стоила так дорого, будет видеть его полусшитым, с белой наметкой — платье, созданное ценой труда, тяжелого труда при свете тусклой лампы.
— О чем ты задумалась? — спросил ее Эманюэль.
Пока она сидела, опустив голову, погруженная в свои мысли, он неслышно подошел к ней и по-детски прикрыл ладонями ее глаза.
— Кто это, угадай! — сказал он, смеясь.
— О, не так уж трудно догадаться! — ответила она, нетерпеливо отталкивая его, но все же рассмеялась и протянула ему руку.
Но теперь, танцуя, она уже не испытывала прежнего опьянения. Узкие и жесткие туфли причиняли ей боль. Ей казалось, что под ногами у нее нет ничего, кроме высоких каблуков, которые медленно вонзаются в ее пятки. А между тем ей нельзя было подавать вида, что она выбилась из сил, что она несчастна. И она смеялась немножко громче, чем раньше. Усилием воли — этому она уже научилась — она заставляла свои глаза блестеть ярче. Пусть думают, что она веселится больше всех. Пусть никто не догадывается, что она изнемогает от усталости и горя. И потом, если она сумеет притвориться веселой, то, может быть, кончится тем, что она и на самом деле развеселится. Губы ее зашевелились.
— Что ты сказала? — спросил Эманюэль.
— Сказала, что мне очень весело.
— Ты довольна, что пришла?
— Ну конечно…
— А ты не очень устала?
Она раздраженно приподняла брови.
— Я никогда не устаю! — заявила она.
— А ты часто ходишь на вечеринки?
— Не очень часто… Как случится.
— Жаль, что мы не встретились с тобой уже давно, Флорентина. Мы потеряли много времени.
— Я ведь никуда не убегу, — пошутила она.
По лицу Эманюэля скользнула тень легкой грусти.
— Ты — нет, — тихо сказал он, — но я должен буду скоро уехать.
Ей казалось, что она окунулась в незнакомую атмосферу глубокой нежности.
— И зачем ты записался в армию? — спросила она. — Твоим родителям это не нравится…
— Никому это не нравится, — ответил он голосом, в котором звучало бесконечное одиночество, и, ища ее одобрения, пытливо заглянул в поднятые на него глаза.
Но ей уже наскучила эта тема, и, покачивая плечами, она с новым оживлением отдалась ритму танца.
Был пост, и ужин подали после полуночи. Мари Летурно, которой помогали ее мать и Эманюэль, дала каждому из гостей цветную бумажную салфетку, а затем стакан лимонада и картонную тарелочку, на которой, словно это был пикник, лежали несколько тоненьких бутербродов, две-три маслины, листик сельдерея и немного салата. Мари Летурно выглядела очень утомленной. Чувствовалось, что этой бледной серьезной девушке такие вечеринки не приносят особой радости, однако она, не жалея сил, хлопотала, чтобы все шло, как надо.
Потом снова начались танцы и продолжались до рассвета. Пары еще кружились, когда госпожа Летурно вышла на несколько минут и снова появилась в гостиной уже в перчатках, одетая для выхода.
— Сегодня воскресенье, — сказала она. — Поэтому мы сейчас пойдем к обедне, а потом уже ляжем спать.
Гости из города — студент и его таинственный товарищ — давно ушли. Остались только несколько парочек из Сент-Анри, и все они согласились, когда Эманюэль предложил:
— Пойдемте к обедне вместе!
XI
Они оделись и вышли, в мягком свете зари парами проходя под деревьями, с которых падали капли. Высокие стволы и голые серые ветви кленов на площади, мокрые и блестящие, уже выступали из сумрака. Талый снег лежал глубокими топкими прогалинами. Дома еще окутывала мгла, окна их холодных фасадов от подвала до верхнего этажа казались темными дырами. Над крышами по темному небосводу тянулась размытая бледно-голубая полоса. Звезды уже начинали меркнуть.
Молодые люди тесной кучкой пересекли площадь, и, когда они проходили под первым фонарем, на снег легла одна общая тень. Голоса понемногу затихали. Только одна пара продолжала шутливо толкаться и смеялась, порой очень громко. Иногда их силуэты на мгновение исчезали за деревьями. Тогда смех сразу обрывался.
На улице Нотр-Дам за окнами, по которым резкими короткими ударами хлестал ветер, уже мерцали первые огоньки. В воздухе потеплело, но было сыро. Чувствовалось приближение внезапного мартовского ливня. Однако для легких, уставших от табачного дыма, этот утренний воздух был очень приятен.
Эманюэль дышал глубоко, с наслаждением. Он дивился нежной прелести рассвета и еще больше — нежданно охватившему его спокойствию. Он шел рядом с Флорентиной, поддерживая ее, чтобы она не поскользнулась, и ощущал такое умиротворение и душевный покой, каких никогда не знал раньше. Ему казалось, что в его жизни начинается какая-то прекрасная дружба, нет, больше, чем дружба, — в его жизни занимается любовь, неопределенная, сладостная, неясная и зыбкая, как этот день, свет которого только-только зарождается под покрывалом ночи.
Громада церкви Сен-Зотик возникла перед ними из белесого тумана, словно облако ладанного дыма, поднявшееся над папертью. К ее дверям бесшумно скользили тени. Следом за двумя-тремя старушками, пришедшими к ранней обедне, Эманюэль и Флорентина вошли в церковь.
Мягкое тепло окутало Флорентину. Она быстро преклонила колена, затем, усталая, опустилась на скамеечку, с трудом преодолевая сонливость. Но даже в этом оцепенении ее продолжали мучить горькие мысли. В отличие от Эманюэля, который при первых проблесках зари острее осознал прелесть этой ночи и почувствовал себя умиротворенным, чудесно обновленным, она только еще тяжелее переживала свое разочарование. Ее чувства были похожи на этот занимающийся день — серый и хмурый.
Эманюэль… почему он стоит на коленях возле нее, словно ее жених? Жених… При этом слове в ней пробудилось безудержное желание увидеть Жана. Именно он должен был бы стоять сейчас около нее, а вовсе не этот незнакомец, не этот совсем чужой ей Эманюэль, который не вызывает у нее даже любопытства. Трогательные знаки внимания, которые он ей выказывал, теперь ее только злили. Ей уже больше не нужна была его заботливость. Она готова была возненавидеть Эманюэля, оттолкнуть его, как надоевшую помеху, еще больше отдаляющую ее от Жана.
«Почему не Жан стоит сейчас здесь, возле меня?» — твердила она про себя. В ее усталом мозгу возникла картина, сразу рассеявшая ее сонливость. Ей вспомнился тот день, когда Жан впервые пригласил ее в кино. Она вспомнила, как он сказал ей тогда, что если она захочет, то понемногу узнает его, и вновь увидела, как он уходит, расправив широкие плечи.
И она поняла, что эта картина неизгладимо врезалась в ее память — так некоторые впечатления детства преследуют нас всю жизнь, устойчивые и неизменные.
Ее охватило смятение. Она всячески старалась изменить этот образ, вытеснить его каким-нибудь другим, сохранившимся в ее памяти. Но не могла. Она всегда видела его со спины, словно какого-нибудь прохожего, который удаляется, не замечая тех, кто встретился ему по дороге.
И она поняла, что вот это и есть любовь: мучение, когда видишь его, и еще большее мучение, когда его нет, — постоянное, нескончаемое мучение. И с тайным желанием — нет, не излечиться от этой иссушающей жажды, но вызвать ее и у Жана — она, задыхаясь, почти не шевеля губами, бормотала: «Я добьюсь, если смогу, чтобы и он полюбил меня!» И под этим она совершенно отчетливо подразумевала: «Я заставлю его страдать так же, как сама страдаю из-за него!»
Эманюэль молился возле нее. Его губы шевелились, мягкие черты лица дышали радостью и умиротворением. Флорентина тоже опустилась на подушечку и начала молиться. Но молитва ее больше походила на приказание, на требование: «Мне нужно его увидеть! Сделай так, чтобы я с ним увиделась, пресвятая дева, я так хочу его видеть!»
Понемногу она успокаивалась и старалась всякими женскими хитростями задобрить богородицу: «Я буду девять дней ходить к ранней обедне, — обещала она, — если встречу его сегодня же». Страх, что ей придется выполнять взятые на себя обязательства, ничего не получив взамен, залил ее сердце холодной волной. И она тут же добавила: «А еще я буду девять месяцев поститься каждую первую пятницу. Но только если встречу его сегодня же. А иначе это все не в счет».
Она молилась от всей души, и все же взгляд ее был жестким, а губы плотно сжаты.
При возношении даров она, кладя поклоны, перехватила взгляд Эманюэля. И на мгновение, на одно короткое мгновение ее охватила грусть: она подумала, не попросить ли ей в молитве, чтобы эта мучительная любовь была исторгнута из ее сердца? Но, склонившись так низко, что ее голова чуть не коснулась края скамьи, она снова увидела перед собой спину уходящего Жана. И снова вцепилась в свое мучение, ухватилась за него, как после кораблекрушения утопающий хватается за обломки.
Она даст и еще более трудные обеты, если понадобится, лишь бы добиться помощи пресвятой девы. Она будет ходить к обедне каждое утро. И даже — о, это будет ей гораздо труднее! — она откажется от кино на целых полгода или даже больше. Чего только она не сделает! Она посетит часовню на горе, она на коленях поползет по ее ступеням, как увечный, молящий об исцелении, но она-то будет молить о том, чтобы остаться во власти этого мучительного бреда и внушать этот бред другому, передать его, словно заразную болезнь. Она пристально смотрела на пламя свечей взглядом, который при их свете казался твердым и решительным, и ей даже не пришла в голову мысль, что желание целоваться с Жаном создает преграду между ней и этими бледными статуями, еле рисующимися в полумраке апсиды. «Если я увижу Жана, пресвятая дева, то сегодня же начну ходить к обедне!» И до конца службы Флорентина молилась только об этом.
Когда они выходили из церкви, Эманюэль заметил, что Флорентина утомлена и еле держится на ногах.
— Милочка, ты так устала! Хочешь, возьмем такси? — предложил он.
Как раз в эту минуту около маленькой кучки прихожан, выходивших из церкви, затормозило такси.
До дома Лакассов было всего пять минут ходьбы. Но Флорентина была так раздражена, что ей захотелось заставить Эманюэля потратиться на такое сумасбродство. «Что бы он ни делал для меня — все равно будет мало!» — подумала она. Представив себе изумление своей матери при виде дочери, выходящей из такси, она кивнула и, притворившись, что совсем озябла, застучала зубами.
Вставало солнце, круглое, цвета серы. Пошел мокрый снег, готовый вот-вот превратиться в дождь. Эманюэль заботливо поднял меховой воротник Флорентины и, стараясь заслонить ее от ветра, повел к такси.
Флорентина сразу же, словно кошка, свернулась клубочком на сиденье и заулыбалась.
— Как ты озябла! — сказал Эманюэль и прикрыл ей ноги полой своей шинели.
Флорентина все еще продолжала дрожать — но только потому, что ей приятно было видеть, как за ней ухаживают и окружают ее заботой, ничего при этом не требуя взамен. На самом же деле ее уже согревало мягкое тепло отопления. Из автомобильного приемника лилась нежная и монотонная любовная песенка, перебиваемая резким треском помех. И Флорентина уже забыла атмосферу, царившую в церкви. Зачем так волноваться? Если она будет достаточно терпелива, то добьется своего. А тем временем почему бы и не разрешить Эманюэлю поухаживать за собой? И она спросила — медленно, так, чтобы Эманюэль не догадался, какой сложный путь проделали ее мысли:
— А твой друг, Левек, ну, который был с тобой позавчера в кафе, — ты ведь его приглашал. Почему он не пришел?
Она рассеянно глядела, как за окном бегут дома, ее рука лежала на коленях молодого человека.
Эманюэль досадливо улыбнулся.
— Ну, зачем нам сейчас Левек! — сказал он, придвигаясь к ней поближе.
Она нарочно выпустила сумку из рук, нагнулась, чтобы поднять ее, и сказала с наигранной веселостью:
— Я просто удивилась, почему он не пришел. Это было странно. Я-то думала, вы близкие друзья. А кто он такой?
— Да, мы с ним были друзьями, — просто сказал Эманюэль, — и теперь еще встречаемся время от времени… Этому парню трудно пришлось в жизни. Можно даже подумать, что он теперь злится на всех, кто напоминает ему о былых невзгодах… Знаешь, поговорим лучше о нас самих… у нас осталось так мало времени.
Она опять мягко отстранилась от него, притворяясь, что ей стало жарко, и посмеиваясь, словно это было сделано в шутку.
— Он, по-моему, какой-то чудной, — продолжала она, насмешливо кривя губы. — А где он живет?
— Он снимает комнатку на углу улиц Сент-Амбруаз и Сент-Огюстен; он всегда живет один, все время занимается и нисколько не думает о девушках. Но он очень многим нравится.
Он подчеркнул последнее слово, испытующе взглянув на Флорентину.
Она широко открыла глаза, смерила его взглядом и деланно рассмеялась, приложив руки к груди.
— Ну, уж только не мне, — резко сказала она. — По мне, он… — Она запнулась, подыскивая какое-нибудь обидное слово, которое принесло бы ей облегчение и задело бы Жана, если бы Эманюэль передал его приятелю. — Ну, в общем, мне он не нравится, нет, совсем не нравится, — повторила она.
Она произнесла это с такой горячностью, что Эманюэль улыбнулся.
— Ну, что ж, тем лучше, — сказал он, — то есть тем лучше для меня. Жану я многим обязан, он и сейчас мой друг, несмотря на все, но, скажем, будь ты моей сестрой, мне не понравилось бы, если бы вы встречались…
— Почему?
Он ответил прямо и просто:
— Потому что он принес бы тебе несчастье.
— Ну уж… — удивленно и немного недоверчиво протянула Флорентина.
— Есть еще и другая причина, — продолжал Эманюэль, взяв ее за руку.
— А какая?
— Ты мне, к счастью, не сестра, и ты очень много для меня значишь…
— Уж будто?
— Очень много, — повторил он.
Такси остановилось перед ее домом. Эманюэль, расплатившись, подошел к Флорентине. Ее снова охватила зябкая, теперь уже непритворная дрожь, и она стояла, усталая, поникшая, устремив вдаль ничего не выражающий взгляд. Пустынная и неприглядная улица словно впитала в себя всю грусть этого больного дня. В узком печальном закоулке не было сейчас ни одной живой души — только они двое нарушали тут неподвижность и безмолвие. Эманюэль, смущенно оглядевшись вокруг, робко спросил:
— Поцелуемся, Флорентина?
Она вздрогнула, словно очнувшись от полузабытья, и недовольно взглянула на него, не зная, что ответить. На вечере, возможно, только он не пытался поцеловать ее в укромном уголке. Конечно, она ожидала, что он захочет поцеловать ее. Но не сейчас, когда ее терзали воспоминания о Жане… Она капризно поморщилась и быстро повернула голову, так что губы Эманюэля коснулись только ее щеки. Но Эманюэль, взволнованный этой мимолетной лаской, тут же захотел большего.
— Нет, нет, Флорентина. По-настоящему.
Он обнял ее за талию так порывисто, что она потеряла равновесие. Дрожа с головы до ног, весь красный, он преодолел ее сопротивление и впился в ее губы.
Где-то вдали хлопнула дверь. Эманюэль быстро разжал объятие, но не выпустил ее рук из своих.
— До отъезда я тебя больше не увижу, Флорентина. Я уезжаю сегодня вечером. Но теперь ты будешь моей подружкой, ладно?
Она не ответила ни да, ни нет, сказав себе: «Об этом еще есть время подумать, незачем решать сейчас».
Но как только он ушел, она вытерла губы. Провожая его взглядом, она смотрела, как его голова клонится к плечу — почти совсем набок, и ей одновременно хотелось смеяться и плакать.
XII
Конец зимы был омрачен тучами и внезапными шквалами. В этот день почти сразу после полудня низкие облака скопились на южном склоне горы и вихрь налетел на кварталы нижнего города.
Около восьми часов вечера разыгралась метель. Хлопали незакрытые ставни; порой раздавался оглушительный грохот, словно рвались цинковые крыши домов; темные деревья сгибались в дугу, и где-то в сердце их узловатых стволов слышался сухой треск; оконные стекла дребезжали под ударами морозной крупы; а снег все взвивался и кружил, врывался в содрогающиеся двери, забивался в щели окон, повсюду ища убежища от ярости ветра.
Вокруг не было видно ни зги. Дома слились в какую-то сплошную массу мглы, в которой кое-где мигали огни; казалось, чья-то бдительная рука шарит в метели, то зажигая фонарь, который тут же гаснет, то нащупывая; лампочку, вспыхивающую лишь на мгновение, — все время старается разжечь огонь. Самые яркие световые рекламы на улице Нотр-Дам бросали сейчас на мостовую только смутный отблеск, а кинотеатр казался с противоположного тротуара красноватым расплывчатым пятном, похожим на зарево далекого пожара.
Подталкиваемый, подгоняемой бурей Азарьюс вынырнул из темноты, на мгновение вошел в мечущееся пятно света под фонарем, а затем, согнувшись от ветра, быстрыми короткими шагами направился к ресторану «Две песенки». Белый фасад совершенно слился со снежными вихрями. Его нельзя было различить даже за три шага. Лишь смутное багровое пятно света показывало, где находится дверь. Но Азарьюс нащупал ручку привычно и уверенно.
Зал ресторана был почти пуст. Сэм Латур, сидя у гудящей печки, курил сигару, пускал дым колечками и с довольным видом следил, как они поднимаются к потолку. Его жена, брюнетка с приветливым лицом и тщательно уложенными волосами, листала иллюстрированный журнал, облокотясь о прилавок и подперев щеку ладонью. В зале сидел лишь один уткнувшийся в газету посетитель; видна была только его спина.
— А вот и наш друг — поговорить охотник, да не очень-то работник, — добродушно пошутил Сэм. — Тебя бурей, что ли, сюда занесло? Нита только-только сказала, что к нам сегодня, наверное, ни одна живая душа не заглянет.
— Да, сегодня мало кто выйдет из дому, — коротко ответил Азарьюс.
Прислонившись к стойке, он расстегнул пальто и заказал себе кока-колу. По-видимому, он не был расположен вступать в разговор. Против обыкновения, он долго молчал и старательно вытирал горлышко бутылки рукавом пальто. Он не хмурился, лицо его от мороза пылало ярким румянцем, но взгляд растерянно блуждал по комнате.
— И правда, — подтвердила Анита Латур, убирая пять центов, положенные Азарьюсом на прилавок. — Сэм как раз говорил, что сегодня мало кто выйдет из дому…
У этой дружной четы вошло в привычку поддерживать друг друга даже в самых банальных утверждениях. Каждое замечание одного из супругов повторялось другим с ласковым добавлением: «Сэм сказал…» или «Нита сказала…» И при этом они обменивались благодарной улыбкой.
— Я и сама об этом подумала, — продолжала Анита, — когда увидела эту бурю. И сказала себе — нынче Сэму придется весь вечер провести в одиночестве. Вот я сюда и притащилась.
Сэм засмеялся с лукавым видом.
— Ну, Лакасс, ты где-нибудь видел такую любезную женушку, как моя Нита? Просто сил нет, какая она любезная!
Азарьюс быстро выпил несколько глотков прямо из бутылки, потом вытер губы тыльной стороной ладони. Секунду он стоял в нерешительности, уставясь в пространство. Перед ним возник образ Розы-Анны — не такой, какой она стала теперь, а прежней: веселой, с бархатистыми ласковыми глазами и теплым голосом. Потом это видение потускнело. Он увидел, как Роза-Анна склоняется под лампой, штопая детскую одежду. Он увидел, как она время от времени встает со стула, подходит совсем близко к лампе и делает несколько стежков, держа темную материю у самых глаз.
Он ведь пытался ей помочь, предлагал ей вдевать нитку в иголку, смиренно просил ее сказать, что он мог бы для нее сделать, а она ничего не ответила. И тогда он впервые в жизни слегка повысил голос:
— Черт возьми, эдак я, пожалуй, пойду и напьюсь!
Но она и тут ничего не ответила. Тогда он начал одеваться, медленно, надеясь, что в последнюю минуту она его удержит. Упреки он еще мог терпеть, но молчание — нет.
Внезапно атмосфера этого дома стала для него невыносимой.
— Я пойду немного пройтись, мать, коли так…
Молчание.
Выйдя на улицу, он по привычке направился к «Двум песенкам». И теперь здесь, в этом приятном тепле, он понемногу успокаивался. Здесь он чувствовал себя в родной стихии; здесь его выслушают, если он заговорит. Сэм начнет спорить с ним, но он его выслушает. А главное, Азарьюс будет слышать собственный голос, свои слова, и это возвратит ему веру в себя.
— Ну, как вы поживаете, как семья? — осведомилась Анита.
Азарьюс вздрогнул, силясь сложить губы в подобие улыбки.
— Да хорошо, ничего в общем-то, благодарю вас…
— А ты ведь бросил такси? — спросил Сэм. — Твой парнишка, Эжен, говорил мне об этом, когда последний раз сюда заходил… Вот он и в армии — твой парень! Что ты об этом скажешь?
— Что ж, я так думаю, что это правильно. Эжен правильно сделал — он молодой, способный. Я бы и сам охотно пошел в армию.
— Ну да?
— Ну да, с радостью.
— Ну-ну… Да, ты слыхал, что русские с финнами не поладили?.. А вообще-то, кроме этого, нового мало. Вроде бы получается, что ни те, ни другие не хотят друг с другом связываться. Французы у себя в фортах играют в карты, и немцы вроде бы тоже…
Он погладил рукой подбородок и вздохнул:
— Вот уж действительно — странная война.
Азарьюс тоже вздохнул.
— Да, странная война!
Потом, подняв голову, он заговорил:
— На такси много не заработаешь. Вот поэтому я его и бросил. Шесть-семь долларов в неделю! Всему должен быть предел. Человек не обязан работать задаром только потому, что ему не повезло!
Мало-помалу он разгорячился, и слова его зазвучали уже совсем уверенно.
Но вдруг, словно услышав со стороны свой глухой голос, он снова привалился к прилавку.
— Да и вообще невелика радость работать, — пробормотал он, — лучше бы по-прежнему получать пособие…
Сэм поднялся с места и начал ходить по более светлой половине комнаты.
— Да, но не забывай, что это дело скоро прекратят. Пособий больше не будет. С ними покончат.
Он закинул за спину свои толстые руки и переплел пальцы.
— А я всегда только и просил, чтобы мне дали работу, — резко возразил Азарьюс.
— Конечно, вот в том-то и нелепость. И ты, и многие другие только и просятся работать и получать за это свою плату — так оно было бы и разумно и полезно. А, вместо этого вас заставляют ничего не делать, а мы, те, кто хоть немного зарабатывает, мы за это платим. Платим, чтобы вас заставляли ничего не делать. У нас в Канаде так и получается, что две трети населения кормят за свой счет остальную треть, которая ничего не делает.
— А ведь работы-то хватило бы на всех, — перебил его Азарьюс. — Сколько еще домов требуется!
Сэм Латур рассмеялся и нетерпеливо дернул шеей, стянутой тугим воротничком, — так крестьянская лошадь дергает недоуздок.
— А то как же! Сколько еще надо построить и домов, и дорог, и мостов! — Он ослабил узел галстука и, вздохнув свободнее, продолжал: — Конечно, работы хватает. И людей тоже. Я сам видел, как пятьдесят человек спорили из-за одного места. Так чего же не хватает?
— Денег, — сказал Азарьюс.
— Именно денег! — вскричал хозяин. — Их нет ни для престарелых, ни для школ, ни для сирот, ни для того, чтобы дать всем работу. А вот заметь, что сейчас для войны деньги есть! Сейчас они есть!
— Ну, конечно, для войны деньги всегда есть, — вставил Азарьюс.
Запрокинув голову, он единым духом допил бутылку, потом, глядя в пол, пробормотал:
— Может, мы еще и увидим, какого они цвета — денежки…
— Может, еще и увидим, — откликнулся Сэм и снова сел.
Наступила тишина, нарушаемая лишь потрескиванием огня в тяжелой чугунной печке.
И тут внезапно заговорил сидевший в глубине зала невысокий человек, которого ни Азарьюс, ни Сэм Латур не знали.
— Дела пошевеливаются, — сказал он, — но больше в военной промышленности. В наше время только там и есть самая настоящая линия. Если бы я начинал жизнь заново, я пошел бы в военную промышленность, но я по профессии строитель, я каменщик. И знаете, сколько уже лет я не работал по своей специальности? Я не говорю, конечно, про какие-нибудь там мелкие работы, вроде заделки трещины в стене, которые и дороги-то не окупают, — но вот настоящей работы, вы знаете, сколько лет ее у меня не было?
Он говорил спокойным голосом, откинувшись к стене, положив ладони на стол и глядя прямо перед собой; вид у него был одновременно и жалкий и смешной из-за нервного тика, подергивавшего его правую щеку и подбородок.
— Ну так вот, уже восемь лет я не работаю по своей специальности. Да, целых восемь лет, — сообщил он тихим монотонным голосом. — Но я делал много всякой случайной работы. Я был садовником в женском монастыре, я был обойщиком, а когда развелось много паразитов, я зарабатывал на жизнь тем, что выводил клопов и дезинфицировал грязные матрасы.
Не подозревая, что его басистый голос и робкая манера держаться делают его смешным даже больше, чем его слова, он горячо продолжал:
— И это еще не все. Послушайте — если вы хотите увидеть человека, который в своей жизни перепробовал всякую работу, так посмотрите на меня — я и есть этот самый человек. Когда я уже кончил чистить матрасы, мне в голову пришла мысль, хорошая мысль. Вы, конечно, будете смеяться, потому что я, сами видите, не такой уж шикарный красавец, чтобы ходить из квартиры в квартиру. Но я все-таки сделался коммивояжером. И чего-чего я только не продавал: страховые полисы — всегда ведь начинаешь с этого, потому что считаешь себя хитрее, чем ты есть, потом ванильную эссенцию, зеленый чай, рождественские открытки, половые щетки, бандажи, ветеринарные снадобья, да и еще много чего! Я говорил так…
Он внезапно вскочил, словно репетируя роль торговца, отвел Сэма Латура в сторону и — маленький и тщедушный рядом с его могучей фигурой — заговорил громким голосом:
— Так, значит, вам, мадмуазель, не нужна моя пудра, но, может быть, ваша матушка — вон та высокая красивая дама позади вас — заинтересуется моей новой закваской для теста, от которой оно подымается вчетверо выше, чем от обычной? Или вот вы, мосье, может быть, вы захотите попробовать мою мазь от мозолей… Ах, у вас нет мозолей, но, может быть, вы страдаете изжогой? Попробуйте вот этот пузырек, и через три дня у вас все как рукой снимет… изжоги у вас тоже нет? Ну ладно, тогда возьмите хотя бы вот эту половую щетку… А я, быть может, загляну к вам еще разок в будущем году…
С жалобным и забавным видом он помахал рукой, как бы прощаясь, и снова вернулся к своему столику.
— Нет такой работы, которой бы я не делал, — продолжал он, уже не обращаясь ни к кому из присутствующих, но как бы устремив в глубину своего сердца мрачный и беспощадный взгляд, — нет такой работы, кроме моей — кроме работы каменщика. Нам говорят, что в наше время надо иметь специальность, чтобы найти работу. Ну, так вот что я вам скажу — ремесло в наши дни уже ничего не стоит. Половину своей жизни учишься ремеслу, а половину забываешь его. Да, золотое время ремесла прошло. В наши дни человек кормится только мелкими случайными работенками…
Напряженная атмосфера, разрядившаяся было, пока маленький человечек устраивал свое представление, снова воцарилась в комнате.
Среди тягостного молчания Азарьюс приглядывался к незнакомцу, чья жизнь внезапно показалась ему похожей на его собственную.
— Что верно, то верно! — заговорил он. — Вот и я по специальности столяр… Да, мосье, я столяр, — повторил он, когда незнакомец поднял на него внимательный взгляд. — Когда в строительстве начался застой, я решил, чтобы зарабатывать себе на хлеб, делать всякую мелкую мебель. Самую мелочь: табуретки, принадлежности для курения — все это поначалу хорошо продавалось. Но потом я увидел, что они не окупают затраченного на них времени. Это как с шитьем. Моя жена — первоклассная портниха. Когда мы поженились, она шила платья, и у нее было много работы — по два доллара платье. А теперь это уже невозможно — ведь в магазине совсем готовое новое шелковое платье стоит полтора доллара… Всего полтора доллара за шелковое платье! Хорошо же они платят на фабриках, если могут позволить себе продавать платья по полтора доллара штука!
— Конечно, — подхватил каменщик. — И везде одно и то же: сноровка пропадает, ремесло пропадает. Остается только техника. А ведь…
Его маленькие серые глаза под нависшими косматыми бровями часто заморгали. Казалось даже, что их близорукие зрачки побелели от волнения, загорелись беспокойным огнем.
— …а ведь что может быть в мире лучше ремесла строителя! Возьмем, к примеру, работу каменщика… Оштукатурить новую стену крепким, хорошо замешанным цементом! А? — Он с полуулыбкой взглянул на Азарьюса.
— Да, мосье, — в тон ему взволнованно заговорил Азарьюс, захваченный собственными воспоминаниями и ободренный дружеским пониманием; он так нуждался в нем сегодня вечером, и вот оно словно чудом пришло к нему!
Он подошел поближе к этому каменщику, который в прежнее доброе время мог бы быть его товарищем. Он поднял поближе к лампе свои руки — руки столяра, которые любили касаться гладкого некрашеного дерева, и его широкие ноздри раздувались от славного запаха свежеобструганных досок, которые он вдруг словно опять почуял.
— А сидеть на лесах между небом и землей и с утра до ночи слушать перестукивание молотков? Видеть, как над фундаментом мало-помалу вырастает гладкая, ровная стена; и наконец, в один прекрасный день увидеть дом, готовый дом у края тротуара, где прежде был только пустырь, заросший сорной травой… вот это жизнь!
— Да, это хорошая работа! — сказал каменщик.
— Хорошая работа! — подтвердил Азарьюс.
Наступило молчание.
Секунду спустя Анита сделала знак своему мужу:
— Слушай, муженек, ведь сегодня утром кто-то говорил, что ему нужен шофер на грузовик. Кто это был? Ты не помнишь?
— Ах да, верно. По-моему, это был Лашанс, Ормидас Лашанс. Тебе, пожалуй, надо бы к нему сходить, Лакасс.
Лицо Азарьюса потемнело.
— Лашанс, — проговорил он с горечью давней, неизжитой обиды и вдобавок раздосадованный тем, что его отвлекли от приятных воспоминаний. — Как же, знаю я его, этого типа! Один из тех, кто несколько лет назад думал, что может купить весь мир. Он устраивал свои делишки, нанимая безработных на пособии, и платил им сущие гроши. А если они уходили от него, он заявлял на них, и они теряли пособие.
— И все-таки вам надо бы попытаться, — участливо сказала Анита. — Может быть, теперь он настроен по-другому.
— Посмотрим, — с необычной резкостью ответил Азарьюс.
Он снял кепи и снова задумчиво надвинул его на лоб. Потом бросил взгляд на стенные часы и присвистнул:
— Фью, как время бежит… надо спешить домой. Ну, желаю вам доброй ночи, мадам, и спасибо за ваше предложение… Доброй ночи, Латур.
С порога он обернулся и кинул внимательный взгляд на каменщика; тот уже погрузился в чтение, зажав голову между ладонями и снова превратившись в незаметного, тихого человека, которого можно было бы принять за скромного служащего, мирно доживающего свой век на пенсии и вполне довольного жизнью.
— И вам тоже, приятель, доброй ночи! — крикнул Азарьюс, и в голосе его прозвучали горечь и сострадание.
И, порывисто распахнув дверь, он бросился в метель.
Обычно такой невозмутимо спокойный, сегодня он шел очень быстро, сердито и громко бормоча себе под нос обрывки каких-то фраз. Он внезапно разозлился на этого жалкого старичка каменщика за то, что тот разбередил в нем воспоминания о его былой силе, о мечтах его молодости. И вот сейчас он с горечью видел в нем олицетворение своей собственной неудавшейся жизни. Он злился и на Сэма Латура за то, что тот заговорил с ним о Лашансе, и теперь он вынужден думать о решительном шаге, хотя заранее чувствует, что сделать его не способен. Как все слабовольные натуры, он для вида пытался удержаться от падения, хотя, в сущности, знал, что оно неизбежно. И больше всего, пожалуй, он в глубине души злился на самого себя за то, что позволил себе с тоской и тревогой вспомнить о прежних днях. Уже так давно он жил в состоянии глубокого оцепенения, почти совсем не страдая и питаясь смутными надеждами на лучшее будущее! И вот ему снова придется выкручиваться и изворачиваться перед самим собой, искать какие-то доводы, которые помогли бы ему восстановить душевное равновесие и оправдаться в собственных глазах. Он шел быстрым шагом, втянув голову в плечи. Вьюга затихала, утомленная собственным неистовством; кое-где в разрывах туч уже сверкали звезды.
Выйдя на улицу Бодуэн, Азарьюс еще ускорил шаг. Как только он повернул к дому, им овладело беспокойство — ведь он оставил Розу-Анну одну с больными детьми. Подойдя к дому, он стремительно распахнул дверь, словно предчувствуя катастрофу.
— Роза-Анна, ты тут? — крикнул он. — Я тебе не очень нужен?
Она была на кухне — разбирала детскую одежду для стирки: сравнительно чистые вещи она складывала в кучку, а совсем грязные бросала в раковину. Она удивленно взглянула на мужа, а затем отвернулась, ничего не ответив.
— Можно было отложить стирку и на завтра, мать, — сказал он. — Ты же переутомляешься.
Такие внезапные прозрения, позволявшие ему понять усталость и болезненное состояние Розы-Анны, бывали у него, когда он сам падал духом.
— Ничего не поделаешь, — сухо ответила она. — Ты ведь знаешь, у детей нет смены.
Присев к столу, он начал развязывать шнурки башмаков; сняв один башмак, он с тяжелым стуком уронил его на пол.
— Я был у Сэма, — произнес он после минутного молчания, — и он сказал мне, что Лашанс ищет человека — водить его грузовик.
Зная, как ненавидела в свое время Роза-Анна Лашанса, он рассчитывал, что она горячо запротестует и вместе с тем будет тронута добрым намерением мужа.
Но она круто повернулась к нему; в глазах ее было страдание.
— Так чего же ты ждешь? — сказала она. — Иди к нему!
— Мать! — вскричал он в полном изумлении. — Разве ты забыла, что он нам устроил? Разве ты забыла, что это из-за него мы потеряли пособие?
Капризный детский голосок позвал из столовой:
— Ма-а-ама!
— Что с Даниэлем? — спросил Азарьюс, пораженный жалобным, надрывным голосом ребенка. — Ему не лучше?
— Я не знаю, что с ним, — ответила Роза-Анна. — Сейчас только у него из носу шла кровь. Видно, придется повести его к доктору.
Она отнесла малышу стакан воды. Азарьюс слышал, как она уговаривала ребенка уснуть. Через минуту он увидел, что Роза-Анна, прислонившись к дверному косяку, испытующе смотрит на него. Он даже смущенно поежился под этим суровым взглядом, казалось, она видела его насквозь, видела его слабохарактерность.
— Вот что, Азарьюс, — проговорила она, на сей раз уже тоном, не терпящим возражений. — Сейчас не время разыгрывать из себя гордеца. Сейчас, когда детям нужно белье, а завтра, может быть, и лекарство. Боже милостивый!.. Все равно иди к нему… Азарьюс!
— Да ты это серьезно, мать?
Ветер выл за окном, и он добавил уклончиво:
— Ну ладно, пойду завтра утром, пораньше. Но мне думается, это ни к чему, Роза-Анна… Может ведь подвернуться что-нибудь и получше, а я буду занят у Лашанса и упущу счастливый случай… Но если уж ты так хочешь — я пойду завтра… прямо завтра утром.
— Нет, Азарьюс, если это требуется срочно, он может нанять кого-нибудь еще и до завтрашнего утра! И тебя я хорошо знаю. До завтра ты еще успеешь передумать. Ступай сейчас.
— Прямо сейчас? К чему такая спешка? Это дело может и подождать…
И вдруг Роза-Анна стала развязывать тесемки передника, потом быстрым движением пригладила волосы.
— Я сама к нему пойду, — сказала она.
— Да ты с ума сошла! В такой вечер, как сегодня…
Она ушла в другую комнату. Он решил было, что она просто хочет испытать его, и сказал себе, что она пошла в столовую за шитьем и тут же вернется, сядет рядом с ним на кухне, где было потеплее, чем в других комнатах, и они спокойно обсудят это дело. Он снял второй башмак, облокотился о стол и молча уставился в пространство. «Пожалуй, завтра я зайду к нему, — думал он, — но перед этим повидаю подрядчика Холидея… Во всяком случае, это надо обдумать как следует…»
Но Роза-Анна уже стояла перед ним, одетая для выхода, торопливо застегивая пальто. Он инстинктивно вскочил, чтобы преградить ей дорогу.
— Нельзя тебе выходить в такую бурю. Я же сказал тебе, что пойду.
— Нет, пусти меня, Азарьюс.
И тут он встретил взгляд своей жены. Это был жесткий и энергичный взгляд, как в те времена, когда она ходила помогать по хозяйству, брала заказы на шитье и с утра до ночи трудилась, чтобы как-то облегчить их нужду. И он опустил голову.
— Ты сам понимаешь, что будет лучше, если пойду я, — сказала она, стараясь говорить как можно спокойнее. — Понимаешь, Лашансу станет стыдно, когда он меня увидит. Уж я ему все выложу, пусть знает, что он нам сделал. Я заставлю его взять тебя на работу — не беспокойся.
— И завтра было бы еще не поздно… — вновь начал Азарьюс.
Но Роза-Анна с решительным видом взялась за ручку двери и сказала:
— Если хочешь помочь мне, налей в таз воды и поставь на плиту. Я кончу стирку, когда вернусь.
Она добавила еще что-то, но ее слова унес ветер.
Он увидел, как она покачнулась под ударом вихря, затем дверь захлопнулась. И больше ничего не было слышно, кроме мерного стука капель, падавших из крана.
Он ощупью нашел стул. Сел, уронив руки, и печально уставился на груду белья, наваленного в раковине. Годы безработицы и мелких приработков от случая к случаю не отразились на его внешности. У него по-прежнему были густые, как у юноши, волосы, свежий цвет лица, полные, охотно улыбающиеся губы и самоуверенная осанка. Он был не лишен красноречия, он умел поспорить. Нанимаясь на работу, он умел показать себя с выигрышной стороны и, в сущности, не был лентяем. Что же с ним случилось?
Внезапно он поднял ладони и спрятал в них лицо.
Да, что же с ним случилось?
Картины его жизни прошли перед ним, одни — яркие, отчетливые, другие — расплывчатые, как бы подернутые туманом. Вот он плотник — строит коттеджи в пригороде. В те дни Роза-Анна готовила ему второй завтрак, который он уносил с собой в жестяной коробке. И в полдень, восседая высоко над землей на каком-нибудь брусе и свесив вниз ноги, он открывал коробку и всегда находил в ней что-нибудь вкусное, какое-нибудь неожиданное лакомство: спелое румяное яблоко, которое он ел, сплевывая косточки вниз, на улицу, пирожок с мясом, завернутый в несколько слоев плотной вощеной бумаги и еще хранящий тепло печи, кисть спелого винограда, лепешки из гречневой муки, которые ему никогда не приедались. Эти завтраки там, наверху, в безоблачный летний полдень, под отвесными лучами солнца, обжигавшими ему шею, были светлой, ясной, значительной частью его жизни. Его и самого удивляло, почему в его памяти так хорошо сохранились многие мелкие подробности — постукивание молотка, скрип новой, впервые закрываемой и открываемой двери, вкус гвоздей, зажатых между губами, и вкус этой полдневной трапезы.
А потом в его жизни внезапно возникла трещина. Он чувствовал, что ему надо хорошенько вспомнить этот переломный период его жизни, чтобы понять, что же с ним случилось. И воспоминания начали сменяться с неумолимой быстротой.
Вот он уже больше не строитель, он занимается случайными работами, которые ему совсем не по душе. Он видел перед собой человека, который вроде был им самим — и все же не был им. Этот человек сидел на высоких козлах повозки и слезал с них у каждой двери, чтобы поставив бутылки с молоком. Потом этот человек бросил наскучившую ему унылую работу; он стал искать какое-нибудь другое занятие. И он находил их множество: развозчик молока стал катать тележку с мороженым; мороженщика сменил продавец в одном из пригородных магазинов; потом исчез и продавец. Осталась только мелкая случайная работа, день здесь, день там, доллар, тридцать центов, десять центов в день… а потом кончилось и это. Человек сидел в кухне у плиты и лениво потягивался: «Поживем — увидим, мать, что будет, то будет… Работать — так уж столяром!»
Азарьюс удивился, услышав звук собственного голоса. Сам того не замечая, он заговорил вслух. А может быть, подумал он, прислушиваясь к завыванию вьюги, он немножко вздремнул.
И он, уже давний безработный, попытался возобновить знакомство с тем, прежним безработным, который еще переживал свое падение и старался его скрыть. В то время он и стал хвастливым краснобаем, завсегдатаем табачных лавочек и кабачков предместья, и развил свой природный дар красноречия. Именно тогда он начал хвастать теми монастырями, церквами, домами для священников, которые он будто бы построил, и теми, которые он якобы еще намеревался построить. На самом же деле он строил только небольшие коттеджи для молодоженов, но, рассказывая о церквах, домах для священников и монастырях, он в конце концов убедил себя, что строил их сотнями. В те времена его не покидала уверенность, что он вот-вот начнет какое-нибудь большое дело. Он не побоялся израсходовать двести долларов, которые Роза-Анна получила после смерти отца, на покупку инструментов для тонкой столярной работы. Он уже тешил себя мыслью, что его предприятие процветает, но тут в один прекрасный день у него вдруг открылись глаза: мастерская его была заставлена готовой мебелью, которую не удавалось продать, а сам он много задолжал торговцу древесиной.
Но эта неудача не обескуражила его, а наоборот, толкнула на новые рискованные начинания. Он считал себя мастером на все руки и был уверен, что тем или иным путем, но обязательно разбогатеет. Ему удалось кое-как сколотить по мелочам сотню долларов, и он вложил их все в мастерскую по починке мелких жестяных изделий, взяв себе в компаньоны некоего субъекта, о котором не знал ничего, кроме фамилии. Ровно две недели над маленькой мастерской на улице Сен-Жак красовалась надпись: «Трамблэ и Лакасс»; затем компаньон дал тягу, оставив Азарьюса на расправу кредиторам, и на вывеске черными буквами значилась новая фамилия.
И все же Азарьюс не терял уверенности в себе. Он по-прежнему отказывался от тех скромных мест, на которые друзья по просьбе Розы-Анны пытались его устроить, и заявлял при этом, что размениваться по мелочам не станет. В предместье за ним прочно укрепилась репутация человека бессердечного, который заставляет жену наниматься в прислуги, а сам отказывается от честной работы. Но такое мнение было ошибочным; всякий раз, как Роза-Анна уходила стирать в чужие дома, все в нем бунтовало. Однако он молчал. Он еще покажет им всем, что способен прокормить семью и прилично ее обеспечить. Пусть только ему дадут время! И при каждом подходящем случае он бросался в рискованные предприятия, которые Роза-Анна называла теперь «заскоками».
Братья Розы-Анны окончательно утратили к нему доверие после того, как он попытал счастья в игре на скачках. У него даже чуть было не возникли неприятности с полицией. Но он опять попробовал, опять проиграл и опять попробовал.
Он порывисто поднялся, изнемогая от тяжкого бремени своих мыслей. Ведь он был не глупее других. Почему же получилось, что он так ни в чем и не преуспел? Наверное, потому, что ему не везло. Но в один прекрасный день счастье ему улыбнется, когда-нибудь хоть одно из задуманных им грандиозных начинаний увенчается успехом, и он будет вознагражден за все презрение и позор, которые сейчас тяготеют над ним!
Азарьюс оглядел свое убогое жилье, моргая, словно он только что проснулся. «Даже Роза-Анна и та в меня не верит. Она никогда в меня не верила. Никто в меня не верит». Он боялся пробудиться и увидеть себя таким, каким все эти двадцать лет видела его Роза-Анна и каким он, пожалуй, и был на самом деле.
И тут его охватило желание бежать — такое властное, что он принялся обдумывать разные планы ухода, один другого нелепее. Он представлял себе, как собирает свои пожитки и удирает до возвращения жены. Может быть, он наймется на судно или пойдет работать на шахту. Или же просто по улице Сен-Жак выйдет за город и будет брести по проезжей дороге куда глаза глядят, до тех пор, пока счастье наконец не улыбнется ему — ему, созданному для приключений. Он будет идти под дождем и снегом, под звездами и под солнцем, с перекинутой через плечо палкой, на конце которой висит узелок со всем его имуществом, — идти до тех пор, пока в каком-то месте, в какую-то минуту, на какой-то развилке дороги он не встретит то, что искал всю свою жизнь, с самого рождения. Томительное желание бежать охватило его с такой силой, что горло его сжала спазма и он не смог проглотить слюну. Он хотел бы, чтобы у него не было жены, не было детей, не было крова. Он хотел бы стать бродягой, промокшим до нитки, который спит на соломе под открытым небом, и веки его влажны от росы. Он хотел, чтобы первые лучи зари осветили его — свободного, как ветер, без привязанностей, без забот, без любви.
Тут его взгляд упал на ржавую раковину. Безостановочно падавшие из крана капли наполнили ее до краев, и вода стекала через край тонкой непрерывной струйкой. Азарьюс засучил рукава рубашки и медленно окунул руки в воду.
Раздался бой часов.
Резко и неуклюже двигая руками, Азарьюс механически тер маленькую черную юбочку, всю в прорехах и до того изношенную, что ткань расползалась под его пальцами.
XIII
Тишину комнаты пронизывало стрекотание швейной машинки; порой оно умолкало; тогда было слышно, как гудит чайник. Роза-Анна, поджав губы, подносила шитье совсем близко к глазам; затем она опять нажимала педаль, и в комнате снова звучал голос труда — глухой, неутомимый и немного жалобный.
Мать и дочь сидели в круге света под висячей лампой; поднимая глаза, Роза-Анна каждый раз видела перед собой Флорентину, забравшуюся с ногами на кожаный диван. Держа в руках журнал в желтой обложке, девушка со скучающим видом пробегала глазами несколько строк, потом внезапно отрывалась от него и, нахмурив брови, рассеянным взглядом смотрела в пространство, пощелкивая жевательной резинкой. Она явно была в нервном, раздраженном настроении, но Роза-Анна этого не замечала и радовалась тому, что дочь сидит возле нее.
Малыши уже спали; сегодня Роза-Анна уложила их в свою большую кровать, и пораньше, чтобы они не мешали ей дошивать одеяло. Большая комната с обитыми кретоном кушетками, стоявшими вдоль стен, выглядела чистенькой и уютной, и Роза-Анна, на которую вид этой комнаты действовал успокоительно, торопилась закончить работу. Скоро вернется Азарьюс… Благодаря ее стараниям он получил место и был как будто доволен. Чего еще не хватало, чтобы в доме чувствовалось умиротворенное настроение Розы-Анны?
Вот уже две недели, как она вставала первой в семье, чуть свет, чтобы приготовить завтрак для Азарьюса. Он часто протестовал, говорил, что может сам быстренько сварить себе чашечку кофе, он уговаривал ее полежать еще немного в постели, но так неуверенно, с такой надеждой в голосе, что нисколько ее не обманывал. Она знала, как подбадривает и поддерживает Азарьюса шарканье ее ночных туфель по кухонному полу, пока он бреется при сером свете занимающегося за окном утра. Она не сомневалась, что ему приятно входить в уже теплую кухню, где потрескивает огонь, а окна запотели от горячего пара стряпни. И она была уверена, что ломтик хлеба, если она сама намазала его маслом, доставляет ему больше удовольствия, так же как и кофе, если она сама ему наливает, придерживая широкий рукав своего халата. Супруги обменивались при этом короткими, но красноречивыми взглядами. Иного вознаграждения Розе-Анне и не требовалось. Впрочем, человек, уходящий на работу, — а теперешняя его работа была очень нелегкой, — заслуживал, по мнению Розы-Анны, всяческих забот и уважения. Она провожала его до порога, открывала ему дверь, а потом, поеживаясь от холода, прощалась с ним без подчеркнутой нежности, спокойно, но с тем достоинством, которого заслуживало его мужество. Медленно закрыв за ним дверь, она обычно присаживалась на его стул и, сложив руки, позволяла себе немного передохнуть.
Вот и сегодня вечером она то и дело старалась передохнуть. Она хотела починить много вещей, но ее руки время от времени почему-то невольно опускались на стол и мысли начинали рассеянно блуждать. Под отвесно падавшим светом на ее лице были отчетливо видны следы усталости от работы, начинавшейся рано и продолжавшейся до позднего вечера, но выражение его было спокойным, почти умиротворенным. И вот, чтобы привыкнуть к этому неожиданному ощущению надежды, такому новому и такому — как она знала по опыту — хрупкому и непрочному, Роза-Анна перебрала в уме все то, что породило эту надежду. Во-первых, дома побывал Эжен: получив отпуск на двадцать четыре часа, он, собственно, только и мог съездить домой; однако он успел порадовать ее своим цветущим видом, и она немного успокоилась на его счет. Малыш Даниэль все еще был слаб и бледен, но как будто уже начинал опять интересоваться играми. А по мнению Розы-Анны, раз ребенок играет — пусть даже в самые странные и не детские игры, — значит, он здоров. Поэтому она не обращала внимания на то, что мальчик серьезен не по летам. Она с удовольствием замечала, что он целыми днями что-то рисует или делает вид, будто читает. И наконец, — это была самая большая радость, — Флорентина последнее время почти все вечера проводила дома, и, хотя, поглощенные каждая своими заботами и раздумьями, они лишь изредка перекидывались словом-другим, Розе-Анне было очень приятно чувствовать, что ее дочь тут, возле нее — пусть даже молчаливая и насупленная. «Какое-нибудь пустяковое огорчение, — думала она. — Ничего, это пройдет, и она снова станет прежней веселой Флорентиной. Но чем она так огорчена? — спрашивала себя Роза-Анна. — Уж не влюбилась ли в кого-нибудь?» И она старалась припомнить слова, оброненные Флорентиной в задумчивости, припомнить, давно ли она уходила вечерами. Но по своему характеру она мало интересовалась делами такого рода и потому быстро успокаивалась.
Роза-Анна облокотилась о швейную машинку и устремила невидящий взгляд в темный угол. Затем, устыдившись своего безделья — ведь надо еще переделать столько работы! — она поспешно нажала ногой на педаль. Машинка снова застрекотала, ее однообразной песне вторило доносившееся из кухни шипенье чайника. За окнами время от времени задувал легкий ветерок. Это уже не было тяжелое и хриплое дыхание зимы, это был весенний ветер — он стряхивал с деревьев последние комья снега и раскачивал мокрые ветви.
— Отец вот-вот должен вернуться — скоро восемь часов, — сказала Роза-Анна.
Ей было приятно, время от времени прерывая молчание, ронять какую-нибудь ничего не значащую фразу. Но эта фраза повисла в воздухе. Роза-Анна больше ничего не добавила и вновь углубилась в свои размышления; порой у нее вырывался легкий вздох, от которого колыхался ее чистенький фартук.
Потому что — увы! — ее спокойствие все же омрачалось одним темным пятном, о котором она не могла думать без тревоги: срок выезда из квартиры приближался, а она все еще не нашла подходящего жилья. Азарьюс твердил ей, что время терпит, и уговаривал подождать, пока они поднакопят деньжат, чтобы иметь возможность при въезде сразу внести плату хотя бы за месяц вперед. Тогда, говорил он, они смогут снять жилье получше. Возможно, он и был прав. Она очень хотела ему верить. Однако воспоминания о многих неприятностях подсказывали ей, что в житейских делах она должна полагаться только на себя.
В сущности, в своей семейной жизни она больше всего страдала именно из-за ощущения, что в самые решительные минуты ее жизни ей не на кого опереться, кроме разве Флорентины. А между тем ей было очень трудно быть главой семьи, ибо характер у нее был довольно мягкий и она на всю жизнь осталась чересчур мечтательной, хотя всячески старалась побороть в себе эту склонность.
И тем не менее она была вынуждена вести, как умела, семейный корабль и при этом нередко отталкивала от себя и мужа и детей. Каждый раз, когда она пыталась действовать — в сущности, очень робко, — в ее сердце оставалось скорее чувство горечи, чем гордости и ощущение, что, доказывая Азарьюсу свою правоту, она только углубляет пропасть непонимания между ними.
И она все чаще и чаще замечала у детей ту же склонность жить фантазиями, что и у их отца. В каком мире мечты скрывались они, если ей, хотя она и обладала живым воображением, не было туда доступа? Ивонна, погрузившись в религиозную экзальтацию, первой отдалилась от близких. Даже если она сидела рядом, под той же лампой, склонив над учебниками бледное упрямое личико, Роза-Анна все равно чувствовала, что дочь далека от нее, непонятна ей, и отчужденность этой девочки почему-то огорчала ее больше, чем утрата близости со всеми остальными. К счастью, у нее была Флорентина — такая непохожая на других и такая здравомыслящая!
Продолжая шить, Роза-Анна время от времени украдкой поглядывала на Флорентину. С детьми, так же как и с мужем, она избегала бурных проявлений чувств. Ее нежность к ним почти всегда проявлялась только в заботливых взглядах, в простых словах. Она стеснялась выражать свое чувство как-нибудь по-иному. Но сегодня ее сердце было полно тревожной нежности и какого-то внезапного провидения: из всех ее детей одна только Флорентина живет в том же мире, что и она сама, и только она не забывает о повседневных заботах. Ее охватила горячая любовь к дочери и желание всецело положиться на ее суждение. Как всегда в таких случаях, привычная мысль зашевелилась в ее мозгу: именно Флорентина, такая находчивая, такая уверенная в себе, подскажет спасительный выход. «Она все сделает, она все решит, это она должна решать, ведь она так нам помогает…» — думала Роза-Анна, шевеля при этом губами, словно собиралась заговорить вслух. Это незаметное движение всегда помогало ей в ее внутренних монологах. Потом она начинала говорить вслух совсем о другом, с удивлением замечая, до чего несхожи между собой ее мысли и произносимые ею фразы.
— Нынче у отца получка, — сказала она. — Только бы он сразу пришел домой и ничего не истратил по дороге.
И тут же упрекнула себя за эти слова, в которых как бы слышалось подозрение.
— Нет, я не должна так говорить, — живо поправилась она. — Твой отец не очень-то тратит деньги на себя, тут уж ничего не скажешь… Да только мало ли что случается — какое-нибудь несчастье или обокрасть могут…
Но и это предположение тут же показалось ей нелепым. И она добавила:
— Ты уверена, дочка, что его ужин подогревается? А то ведь он, как всегда, придет такой голодный…
И это прозвучало так, словно она просветленно сказала: «Да, он придет, закончив свой дневной труд, придет, вновь обретя достоинство, со следами пота на лице, таким, каким я любила его видеть, но он придет и очень голодный после работы на свежем воздухе, усталый, разбитый, и я не обману его ожиданий, так же как и он не обманывает моих ожиданий! Я разделю с ним то, что он мне принесет, будь то простая усталость или неожиданная радость!»
— Азарьюс! — вдруг сказала она вслух, увлеченная своими мечтами.
— С кем ты разговариваешь? — спросила Флорентина, не поднимая головы.
В этой тихой комнате она томилась скукой. И даже еще больше, чем скука, ее мучила ненависть к этому убогому жилью — к этой тесной клетке, где погибали все их попытки вырваться отсюда. Она уже три недели не виделась с Жаном — с того дня, как он и Эманюэль обедали в кафе. Он исчез вместе с последней неистовой зимней вьюгой, словно вихрь, который, затихнув, не оставляет после себя никаких следов, кроме опустошения. О, как это горько, как обидно, как унизительно ждать его, тщетно ждать день за днем, не смея никому сказать ни слова, как будто это — болезнь, которую нужно скрывать ото всех! Пытаешься что-нибудь разведать окольными путями и узнаешь, что человек, без которого ты не можешь жить, продолжает как ни в чем не бывало дышать, спать, говорить, ходить, ни о чем не печалясь и не сожалея. И тогда ненависть начинает прорастать сквозь любовь, начинает пронизывать любовь, подобно терниям в цветочной клумбе, которые губят готовые вот-вот распуститься бутоны, душат их в своем цепком сплетении.
Острое почти до физической боли ощущение, что она озлобляется, теряя все, о чем она мечтала и что на какое-то мгновение уже принадлежало ей, было в этот вечер таким невыносимым, что Флорентина была готова жаловаться вслух. Но кто же услышит эту горькую жалобу? Все они в этом доме жили обособленно друг от друга, каждый был погружен в свой внутренний мир, в свои мечты.
Томительная скука словно засасывала ее все глубже и глубже с каждым тиканьем часов, отчетливо раздававшимся в тишине. И как пламя, тлевшее в печи, разгоралось при каждом дуновении ветерка извне, так и лихорадочное возбуждение в ее сердце тоже разгоралось при любом слабом шуме снаружи — при скрипе утоптанного перед дверью снега под мужскими шагами, при звуке голоса.
О, как ей было тоскливо в этот субботний вечер — в вечер ее отдыха! Она охотно закурила бы, чтобы хоть немножко развлечься, чтобы успокоить нервы, измученные сомнениями и надеждой, но не осмеливалась сделать это при матери.
У нее под подушкой была спрятана пачка сигарет; после долгих колебаний она вынула ее, взяла сигарету в губы и перед тем, как чиркнуть спичкой, спросила:
— Тебя не побеспокоит, мама?
Роза-Анна была неприятно поражена.
Флорентина, скрестив ноги, закурила сигарету и тут же пустила колечко дыма в потолок. Тоненькая, задорная, она была похожа на мальчика. «Не надо все время ее пилить», — сказала себе Роза-Анна, скрывая от самой себя свое замешательство. И, слегка покашливая, она ответила спокойно, с некоторым колебанием в голосе:
— Тебе это приятно? Ну что ж, если тебе нравится. Флорентина…
И она снова начала шить, уже не останавливаясь. Разве за все эти годы, прожитые вместе, они смогли хоть на минутку отвлечься от своих повседневных дел и попытаться понять друг друга? Колесо машины снова начало вращаться; оно вращалось, не считаясь с тоской Флорентины, с обрывочными мечтами Розы-Анны, — оно кружилось, как кружатся годы, как кружится Земля, не ведая в своем безудержном вращении о том, что творится на ней от одного ее полюса до другого. Казалось, весь дом был захвачен этим неутомимым вращением колеса. Весь дом был заполнен работой; эта работа не допускала ни разговоров, ни взаимопонимания. Колесо пряло и пряло часы и дни, и в них — погибшие признания: столько голосов умолкло, столько объяснений осталось невысказанными, пока оно, неутомимое, стрекотало и стрекотало.
Но порой какое-нибудь происшествие, неожиданное слово или жалоба рассеивали эти чары. Сегодня это сделал приход Азарьюса.
Около восьми часов раздался необычно резкий стук входной двери. Азарьюс вошел в кухню, посвистывая, бросил кепку на вбитый в стену гвоздь, опустил с тяжелым стуком сумку для завтрака на стол; добрую или дурную весть он принес, догадаться было невозможно до тех пор, пока он не появился в двери с сияющим, хотя и запыленным лицом, на котором, кроме удовольствия от возвращения домой, можно было прочесть и еще что-то новое, от чего глаза его красноречиво блестели.
— Добрый ветер принес нам приятную неожиданность, Роза-Анна! — вскричал он.
Она подняла голову и посмотрела на него, еще не зная, радоваться ей или тревожиться; она была взволнована воодушевлением, звеневшим в его голосе, но думала только о том, что надо закончить шитье. Она оборвала нитку и спросила:
— А что такое, Азарьюс?
Он стоял, держась рукой за дверной косяк, и широко улыбался. Влажные прямые волосы, как в давние времена, падали ему на лоб, закрывая заметный еще след от кепки. Он выглядел сейчас совсем молодым и таким радостным, словно, обозрев свои сокровища, обнаружил, что он очень богат и только не знал об этом — быть может, потому, что богатство таилось под серым покровом однообразных дней, — а теперь удивляется, как же он не понял этого раньше.
Роза-Анна несколько секунд молча смотрела на него; она слушала биение своего сердца. Бывали минуты, когда Азарьюсу бурным порывом удавалось возвратить ее к молодости.
— Что же это за новость такая, сумасброд? У тебя ведь есть новость? Ну, так выкладывай ее!
Она оперлась грудью о швейную машинку и смотрела на мужа менее сурово, чем обычно, а на ее губах еще держалась тень улыбки, которая всегда сопровождала полуласковое, полушутливое прозвище «сумасброд», напоминавшее ей о первых годах их брака.
Азарьюс громко рассмеялся.
— А-а, так ты любопытна, женушка!
У него редко бывала возможность доставить близким большую радость, и потому он любил приукрашивать небольшие сюрпризы, представлять их как значительные события, наслаждаться общим нетерпением. А кроме того, он любил видеть, как улыбается Роза-Анна. Но особенное удовольствие он испытывал, преподнося ей что-нибудь, превосходящее все ее ожидания. Обеспеченность, покой — то, чего желала простая душа Розы-Анны, по мнению Азарьюса, не могли озарить счастьем человеческое сердце. Счастье, которое он хотел подарить, он видел совсем в другом.
Он слегка приосанился.
— Собирай детей!
— Собирай детей? Что это ты выдумал?
— Говорю тебе — собирай детей! — повторил он звучным голосом. — Завтра утром мы уезжаем, женушка. Мы едем проведать твою родню. Завтра уезжаем, я беру отпуск. На весь день. Завтра в дорогу, жена!
Она остановила его движением руки, побледнев от удивления, от волнения, от неожиданной радости, затопившей ее сердце.
— Не шути, — сказала она.
— Это вовсе не шутка, женушка. У меня есть машина. Выезжаем завтра утром, пораньше, как только светать начнет. Поедем в деревню… Да, да, — продолжал он, радуясь, что сумел угадать ее заветное желание, которое она всегда хранила в глубокой тайне, — ведь тебе уже давно хочется повидаться с родней, с Лаплантами — правда, жена?.. Ну, так вот, решено. Мы едем. Отправляемся туда завтра спозаранку. Ты их навестишь всех сразу — мать, братьев. И знаешь — у кленов уже идет сок… сок, Роза-Анна!
Она жадно внимала голосу этого человека, который не умел утешить ее в горе, успокоить ее среди тревог, но зато пять или десять раз за всю их жизнь, в какие-то ослепительно яркие минуты, сумел поднять ее на самую вершину блаженства. Из-за него она испытала голод и холод, из-за него она жила в нищенских лачугах, из-за него ее мучил постоянный страх перед завтрашним днем. Но он же научил ее прислушиваться к щебету птиц на заре. «Ты слышишь дрозда на крыше, женушка?» — говорил он, просыпаясь. Он научил ее видеть приметы весны. Благодаря ему в ней сохранялось что-то молодое и пылкое, какая-то неясная жажда, которой годы не могли одолеть.
Догадывался ли Азарьюс, этот необыкновенный человек, как сильно она взволнована? Не сумел ли он еще раз найти дорогу в те тайники ее души, где прятались, словно боясь самих себя, ее подавленные желания? «Сок!» Едва лишь это слово коснулось ее слуха, как она уже шла потаенной тропинкой своих мечтаний. Так вот, значит, та радость, которой она почему-то ждала от прихода Азарьюса, радость, потрясшая ее почти как несчастье, — ведь она уже так давно отвыкла радоваться! У нее даже перехватило дыхание. Нет, надо держать себя в руках, нельзя позволять себе так увлекаться. Но она уже видела себя там, в местечке, где прошло ее детство; она уже шла по рыхлому снегу, через кленовую рощицу к хижине, в которой варили сахар, — молодая и гибкая, она шла быстрой походкой, обламывая на ходу ветки. Она могла бы точно сказать: «Вот это старое дерево дает сок уже шестой год, а это — гораздо меньше, а вон у того сок идет весной всего только несколько дней». Но она не сумела бы рассказать о том, что ее особенно волновало: о пятнах солнечного света под деревьями, там, где снег уже сошел и показалась бурая земля и прелые прошлогодние листья; о влажных стволах, покрытых каплями, сверкающими, как утренняя роса; о широкой светлой просеке с еще оголенными деревьями, между которыми сквозило голубое небо.
Перед ней без конца возникали, складывались, оживали, развертывались радостные картины ее детства. У подножия самых больших деревьев еще лежали тень и снег, но солнце, с каждым днем поднимавшееся все выше, забиралось все глубже в чащу кленов, где деловито сновали люди; ее дядя Альфонс понукал лошадей, тянувших воз дров, чтобы все время в хижине пылало жаркое пламя; дети в красных, желтых, зеленых фуфайках прыгали, словно зайцы; собака Пато носилась с лаем за ними по прогалинам и перелескам, и ей отвечало эхо в дальних холмах. Все вокруг было таким радостным, светлым, и сердце ее билось так легко! Она видела, как поблескивают оловянные ведра у подножия кленов; она слышала, как приглушенно постукивают друг о друга полные сока ведра, которые люди несут в руках; и еще она слышала тихий-тихий лепет, более мягкий, чем журчание, более нежный, чем шелест неторопливого весеннего дождя в молодой гладкой листве: клены источали сок изо всех своих открытых ран, и в воздухе стоял звон от бесчисленных капель, падавших одна за другой. Роза-Анна различала потрескивание огня в хижине; она видела желтоватый сок — он вздымался в чанах пышной пеной, которая внезапно опадала, как мыльные пузыри; на губах ее был вкус сиропа, в ноздрях — его сладкий запах, а в памяти — все звуки леса. Потом картина изменилась. Она увидела себя в доме родителей, среди братьев и невесток, окруженной детьми, которых она знала не всех, потому что их было очень много. Она разговаривала со своей матерью, когда та покачивалась в кресле на кухне. Всегда сдержанная и не очень любезная, старая госпожа Лаплант тем не менее радостно встречала дочь, которую не видела уже много лет. Старушка говорила несколько ободряющих слов; они сидели в комнате вдвоем и беседовали по душам. Весь дом, казалось, был наполнен отдаленным шумом кленовой рощи. На столе стоял большой чан со снегом; влитый в него сироп тотчас же затвердевал, превращаясь в душистую тянучку цвета меда. Роза-Анна затрепетала. Ей представилось, как ее дети лакомятся обмакнутыми в сироп ломтиками хлеба и палочками сахара — совсем новыми для них гостинцами. Потом она вернулась из долгого, прекрасного путешествия к действительности, и, когда ее взгляд снова упал на шитье, у нее невольно вырвался вздох.
— Семь лет, — пробормотала она.
— Да, — подхватил Азарьюс, думая, что понял ее мысль, — вот уже семь лет, как ты не виделась с матерью.
«Семь лет, — подумала она, — уже семь лет, как я подавляю в себе желание повидаться с родней… Семь лет! Сколько же можно вот так бороться с собой?»
Она опустила голову и робко спросила:
— Отец, а ты подумал о расходах?
— Да, мать, все устроено. Машина ничего мне не будет стоить.
— Лашанс тебе ее дает?
Лицо Азарьюса потемнело.
— Как же, даст он ее мне! Ну, я ведь немало на него поработал… Да и вообще это ерунда: я могу привезти галлонов тридцать — сорок сиропа, чтобы оплатить машину… У меня заказов еще и побольше.
— Заказов?
У нее шевельнулось подозрение, не затевает ли Азарьюс какую-нибудь новую авантюру. Он загорался энтузиазмом по самым пустяковым поводам. И чем больше он рисковал, чем сомнительнее было затеваемое дело, тем сильнее он радовался и ликовал. Однако она слишком долго была лишена каких-либо радостей, чтобы найти в себе силы противостоять соблазну. Возможно, в глубине души она уже сдалась и возражала только для того, чтобы наказать себя за слишком поспешное согласие.
— А как же с детьми, отец? — пробормотала она.
— Детей заберем с собой, только и всего! Пусть дети тоже увидят все это…
Роза-Анна была гордой. Она мужественно сносила свою бедность, но при условии, что никто из родни о ее бедности не догадывается. Показать им своих детей в лохмотьях? Нет, на это она никогда не пойдет! Ведь родные полагают, что их семья живет в достатке. И уверенность, что никто из них не догадывается об их нищете, в какой-то мере служила для Розы-Анны утешением.
— Ты не успеешь до завтра кое-что починить на скорую руку, мать?
Она молча думала о том, что бедность — словно боль, спящая где-то внутри, — не причиняет особых страданий, пока не пошевелишься. К ней привыкаешь и даже перестаешь думать о ней, пока прячешь ее в темном углу; но стоит вытащить ее на дневной свет — и испугаешься ее отвратительного лика, такого отвратительного, что страшно выставлять его на всеобщее обозрение.
— Да уж и не знаю, — проговорила она. — Мне прямо-таки не во что их одеть.
— Да ну, пустяки! — бросил Азарьюс. — Я помогу тебе, в чем смогу.
Он потирал руки, беспечный, довольный, — для него эта поездка была только бегством от обыденных дел, а на нее всегда ложились все тяготы. Подойдя к Флорентине, которая молча с недоумевающим и неприязненным видом слушала этот разговор, он наклонился и ласково дернул ее за волосы.
— И ты, дочурка, собирайся. Вот увидишь, как деревенские парни начнут там за тобой ухаживать!
Но Флорентина, нахмурив брови, отстранилась от него; уголки ее губ опустились в презрительной гримаске.
— Нет, я туда не поеду. А вы поезжайте. Я останусь сторожить дом.
Она отвела глаза, но от Азарьюса не укрылась сверкнувшая в них решимость. Он растерялся. Эта тоненькая красивая девушка, которая, конечно же, не позволит вскружить себе голову, была его радостью, его гордостью. Пока он гнал грузовик на большой скорости домой, он все время думал о том, как приятно ему будет показать Флорентину семейству Лаплант. И внезапно она возникла у него перед глазами — на линии приборного щитка, на который он поглядывал слипавшимися от усталости глазами, в пыли дороги, освещенной мощными лучами его фар; он словно видел свою дочь в новой весенней шляпке, с тонкими точеными ножками, видел, как она бежит перед фарами в клубах пыли, которую поднимают ее маленькие туфельки. Обычно на вечернем пути домой, когда он вел машину уже усталыми руками и напевал себе под нос, чтобы рассеять сонливость, его сопровождал образ Розы-Анны. Иногда ему случалось отмахать по двенадцать часов без передышки! Многие лица возникают тогда перед утомленными глазами шофера, проехавшего за день огромное расстояние… Но сегодня вечером он видел одну только Флорентину — она бежала и бежала перед огромными колесами, гремящими по гравию; Флорентина, такая маленькая, такая хрупкая, что у него защемило сердце, Флорентина, одетая, словно на праздник, и стремительно бегущая по шоссе! И чтобы избавиться от смутной тревоги, он твердо обещал самому себе быть с ней великодушным. Потом его мысли приняли более приятное направление. Флорентина… он всегда замечал, что дочь покупает себе всякие безделушки, кокетливые шляпки, дорогие шелковые чулки; и хотя она тратила на них собственные деньги и только после того, как отдавала больше половины заработка на хозяйство, тем не менее, когда она возвращалась домой со своими личными покупками, он всегда ощущал, какой он добрый и снисходительный. Он считал себя хорошим отцом, потому что она умела нарядно одеваться. Уж она-то не выставляла напоказ их нищету. Как и он сам, она считала их невезенье временным. И он был ей очень признателен за то, что она верила в лучшее будущее! И вот теперь он вернулся домой в прекрасном настроении, гордясь тем, что преподнесет приятный сюрприз и Розе-Анне и Флорентине. В глубине души он надеялся таким образом расквитаться с родней — с этими недоверчивыми, подозрительными крестьянами. Он хотел показать им Флорентину, свою гордость… И он никак не ожидал, что дочь отвергнет такое заманчивое предложение.
— Ну, что же ты, дочурка? — попытался он развеселить Флорентину. — Разве тебе это не интересно — сироп и тянучка? И можно будет пококетничать с деревенскими кавалерами.
— А на что мне все это нужно? — ответила она, закуривая новую сигарету.
Как ни странно, в эту минуту в его воображении снова возник образ Флорентины, сломя голову бегущей по шоссе. Лицо его омрачилось. Анита Латур, которая, сидя за своим прилавком, знала все, что происходило в предместье, намекнула ему, что у Флорентины вроде бы завелся дружок.
— Ты что, завела себе ухажера? — спросил он.
Но он всегда побаивался доискиваться истины, а потому вопрос прозвучал нерешительно. Флорентина резко отодвинулась.
— Оставь меня в покое, — сказала она. — Я не хочу ехать в вашу деревню, вот и все!
Азарьюс минуту постоял, сплетя пальцы. Потом, чтобы скрыть свое разочарование, он заговорил о другом.
— Ну, пусть так. Флорентина останется стеречь дом. Тогда мы сможем уехать спокойно… Ну, а ты-то чего раздумываешь, мать? Тебе не хочется принарядиться? Нельзя же упускать такой случай.
— Такой случай, — повторила Роза-Анна.
Она взглянула в его юные, сияющие глаза, в которых уже таяли следы досады. И ее собственные страхи рассеялись. Краем глаза она заметила, что Флорентина держится с невозмутимым равнодушием, и успокоилась — на лице ее появилось веселое заговорщицкое выражение.
— Да, — сказала она, — пожалуй, ты прав. Если все откладывать на завтра, так ничего никогда и не выйдет.
Она почувствовала, что надо как-то объяснить свою мысль, и добавила, нервно потирая руки:
— Я думаю, лучше решиться прямо вот так, сразу…
Она еще стеснялась совсем открыто показать, что безрассудство Азарьюса передалось и ей. На сей раз и она готова была следовать за ним в его легкомысленной затее — она, всегда такая благоразумная, всегда старавшаяся удерживать его от сумасбродств.
— Послушай-ка, — проговорила она, и дрожь в ее голосе показала, что она принимает решение, очень трудное для ее бережливой натуры, — магазины еще не закрыты, ведь сегодня суббота… Если ты поторопишься, то еще успеешь сделать для меня кое-какие покупки… Послушай, — повторила она, и в ее голосе прозвучало горькое сожаление о том, что они никогда не выходят вместе, обо всех желаниях, которые они вынуждены вечно подавлять, — послушай, ты купишь…
После этого страшного слова, прозвучавшего, как заклинание, она сделала долгую паузу. Она словно во сне прислушивалась к этому слову, как будто не веря, что сама произнесла его.
— Ты купишь…
Они перевели дыхание, — даже Флорентина, — спрашивая себя, на чем именно из тысячи возможных предметов остановит бедняжка свой выбор. Они словно видели, как перед ее взором проходят необходимые вещи, и она колеблется, не зная, на чем остановиться. А затем она с поразительной быстротой одним духом изложила длинный список, который мгновенно возник у нее в голове.
— Ты купишь, — сказала она, — четыре метра синей саржи, три пары бумажных чулок, рубашку для Филиппа, если попадется… нет, четыре пары чулок и еще башмаки для Даниэля… И не забудь, что размер седьмой…
Она, казалось, обдумала какое-то возникшее у нее возражение и добавила, немножко сбитая с толку в своих мудрых расчетах:
— Нет, ботинки, пожалуй, нужнее всего не ему, ведь он, наверное, в этом году еще не оправится настолько, чтобы опять ходить в школу. Без этой покупки можно и обойтись, ведь ботинки стоят дорого. У Альбера тоже башмаки совсем прохудились…
На лице ее отразилась нерешительность. Ее терзало смутное ощущение собственной несправедливости. Подобно многим матерям предместья, она считала, что совершенно незачем спешить с отправкой младших детей в школу. Она ничуть не упрекала себя за то, что задерживала малышей дома, если не хватало теплой одежды, но делала все возможное, чтобы отправить в школу старших, даже хотя бы ценой явного предпочтения, которое так обижало малышей. И самым обездоленным был Даниэль. Роза-Анна вдруг сообразила, что мальчик из-за своей болезни давно уже обходится без новых башмаков.
— Седьмой размер, — пробормотала она, сжимая ладонями пульсирующие виски. — Ну, значит, как я сказала, саржа, чулки, обувь, рубашка…
И вдруг Альбер, который, казалось, спал глубоким сном, произнес умоляющим голосом:
— А мне купят галстук?
— О господи, — растроганно сказала Роза-Анна. — Отец, если тебе попадется не очень дорогой…
— А мне, — запищала маленькая Люсиль, — мне ты уже давно обещала новое платье!
Звонкие требовательные голоса детей разбудили Даниэля; не сознавая, что творится вокруг, и поняв только, что пришло время высказывать свои желания, он пробормотал со всей своей детской наивностью:
— Уже рождество?
И взрослые засмеялись, хотя у них сжалось сердце. Но тут Роза-Анна, увидев, что внезапно ее со всех сторон окружили и осаждают эти выпущенные ею на волю желания, спохватилась и уже строго сказала:
— Спите, все спите! Мы никуда завтра не поедем!
— А куда мы завтра поедем?
Взволнованные дети гроздьями свешивались со спинок кроватей и смотрели на Альбера, который рассказывал им:
— Тихо! Кажется, мы завтра поедем к бабушке на варку сахара!
Теперь всех, и взрослых и детей, охватило такое возбуждение, они уже оставили так далеко позади свой дом, — и тусклый свет, и ютящиеся по углам тени, — они уже вступили в такую сказочную, прекрасную страну, что Азарьюс счел совершенно естественным вопрос:
— Ну, а ты, мать? Тебе ведь, пожалуй, тоже требуется новое платье?
Она улыбнулась ему быстрой улыбкой с оттенком упрека, словно захваченная его воодушевлением, она теперь лучше понимала его порывистый характер, всю нежность, переполнявшую его сердце в это мгновение.
— Ты представляешь меня в шелковом или там в бархатном платье? — шутливо сказала она. — Хороша я в нем буду!
И она чуть-чуть посмеялась вместе с ним, потому что для них еще не прошло время смеяться, смотреть друг на друга новыми глазами и идти вместе по пути приключений. Потом ее взгляд снова стал серьезным.
— Запомни хорошенько все, что я сказала, и главное, смотри, чтобы тебя не надули. И не покупай по бешеным ценам.
Азарьюс вынул записную книжку и сказал, мусоля карандаш:
— Я, конечно, могу все запомнить, но еще лучше записать. Ты говорила — юбка, четыре метра синей саржи, ботинки…
Но Роза-Анна при мысли, что все эти проекты, до сих пор остававшиеся только мечтой, сияющим видением, могут вдруг стать реальностью, превратиться в цифры и в расходы, уже заколебалась, готовая пойти на попятный.
— Нет, саржи не надо… Разве только попадется очень хорошая и по дешевке… Ты сумеешь разобраться?
Вот так в последнюю минуту она старалась передать свой страх Азарьюсу, переложить этот страх на его плечи.
И оба они, сидя рядом у швейной машинки, в кругу света от висячей лампы, не замечали, что Флорентина торопливо переодевается.
Роза-Анна еще раз просмотрела список; она проставила цену возле каждой вещи; затем сложила все цифры и замерла, напуганная общей суммой, но все же полная твердой решимости ничего не вычеркивать.
Вдруг они услышали, что кто-то отворил входную дверь; по их ногам прошла струя холодного воздуха. Роза-Анна удивленно подняла голову.
— Кто это ушел? Флорентина! Куда она так поздно собралась?
На минуту ее лицо омрачилось, но тут же, вновь поглощенная своими планами, она дрожащей рукой протянула список Азарьюсу, стараясь не смотреть на него. И, уже предвидя будущее, прикидывая, какими страданиями будет оплачена позже эта радость, всеми фибрами своего существа чувствуя, что всякая радость усугубляет последующее страдание, она сказала:
— Ступай скорее, пока я не передумала. Очень похоже, муженек, что мы слишком торопимся съесть свой белый хлеб, но, боже милостивый, ведь не каждый день достается нам белый хлеб, так, может, лучше уж попробовать его, пока он есть!
И в тесной квартире, где погрузившимся в сон детям предстояло спокойно проспать до утра в большой кровати их матери, потому что голос труда будет всю ночь аккомпанировать работе Розы-Анны, он снова зазвучал, этот голос, бодрый, неутомимый, — он звучал в глубокой тишине обещанием будущего расцвета, сливаясь с ровным дыханием спящих.
А Роза-Анна, понурив плечи, ссутулившись, мигая усталыми веками, шила для завтрашнего праздника, не позволяя себе даже напевать, чтобы не спугнуть свою радость.
XIV
Окна Монреальского металлургического завода на улице Сен-Жак пламенели ярким светом. В мягком воздухе ясной ночи над уснувшим кварталом далеко разносились удары молота, скрип трайлеров, тысячи сталкивающихся друг с другом пронзительных и глухих звуков.
Флорентина на почтительном расстоянии обогнула литейную, окна которой осветили ее ярким светом, когда она проходила мимо. Она не решилась подойти к дверям кузнечного цеха, потому что возле них стоял в будочке вооруженный охранник. Остановившись на противоположной стороне улицы, она устремила взгляд на окна первого этажа. Сквозь почерневшие от сажи рдеющие стекла ей были видны только какие-то неясные тени, но время от времени, когда из разверстой пасти печи вынимали раскаленную докрасна стальную болванку, там внезапно вспыхивал ослепительный свет, на фоне которого сновали отчетливые силуэты. Она сделала несколько шагов в одну сторону, потом в другую, стараясь держаться около стены и боясь, что ее пристальный взгляд привлечет внимание охранника. Через некоторое время она увидела, что из дверей вышел какой-то рабочий в низко надвинутой на лоб кепке и с сумкой для завтрака под мышкой. Она подошла к нему и спросила еле слышно, словно эта картина полночного труда глубоко потрясла ее:
— Скажите, здесь работает господин Левек?
И смутилась еще сильнее оттого, что назвала Жана так официально.
Рабочий внимательно посмотрел на нее из-под козырька кепки, надвинутой до самых бровей.
— Левек? Механик Левек? Да, мадам… мадемуазель… он должен быть сейчас в кузнечном цехе.
И после короткого молчания добавил:
— Хотите, я пойду скажу ему? Если это спешно…
Флорентина отрицательно покачала головой.
— Не надо, я подожду…
Потом, вся покраснев, она отважилась спросить:
— А он еще надолго задержится?
Рабочий пожал плечами.
— Не знаю… последнее время работы все больше…
И, коснувшись козырька кепки, он пошел дальше.
Вскоре из дверей начали группами выходить и другие рабочие, подручные формовщиков и шлифовщики, видимо, недавно поступившие на этот завод, — Флорентина услышала, как они возмущались условиями работы.
Голоса их вскоре затихли вдалеке, в конце улицы Сен-Жак. В дверях кузнечного цеха показался еще один человек. По тонкой талии и широким плечам Флорентина сразу узнала Жана. Сердце ее учащенно забилось, виски стали влажными; она подождала, пока он не пересек улицу, потом вышла из темноты и встала прямо перед ним.
Не зная, что сказать, она замерла на месте, наивно улыбаясь и взволнованно дыша.
— Что ты здесь делаешь? — спросил он.
Он бросил на нее короткий недовольный взгляд, и морщинка, пересекавшая его лоб между бровями, стала глубже.
Она засеменила рядом с ним.
— Мы так давно не виделись, — начала она. — Ну, я проходила здесь сегодня вечером…
Он холодно промолчал. И она тоже прервала свои объяснения, прекрасно понимая, что он не придает им никакого значения, и нервно прижала к груди толстую овальную сумочку из поддельной кожи. Жадным вопросительным взглядом она посмотрела сбоку на молодого человека. Подбородок его был тверд, как обычно, но иногда вздрагивал от усталости.
Минуту спустя Жан провел рукой по лбу и немного замедлил шаг. Потом он заговорил с рассеянным видом:
— Да, правда, я тебя давненько не видел. Работы сейчас очень много. На этой неделе я за двое суток проработал тридцать семь часов… Иной раз не понимаешь — человек ты еще или уже стал машиной.
Он дернул плечами и продолжал, глядя в пространство:
— Мне подбросили еще четверых учеников. Ребят, которые ровным счетом ничего не умеют. Приходится самому все им показывать. А они, видите ли, еще позволяют себе ворчать. Они еще недовольны. «Что вы лезете а бутылку? — спросил я их сегодня. — Там, где вы прежде работали, вам платили пятнадцать, ну, двадцать центов в час. А здесь вы получаете тридцать центов в час и сорок за сверхурочные».
Жан умолк, тяжело дыша, настолько разбитый усталостью, что ему даже трудно было говорить. Потом, подавив зевок, он снова начал:
— До чего же нелепо устроена жизнь! Или у тебя нет денег, но зато уйма времени, чтобы их тратить. Или же ты зарабатываешь достаточно, но у тебя нет свободной минутки, чтобы истратить хотя бы цент.
— Трудно тебе сейчас приходится, Жан? — спросила Флорентина, чтобы привлечь его внимание, — она понимала, что он обращается вовсе не к ней, а разговаривает сам с собой.
Жан бросил на нее беглый взгляд и продолжал свой монотонный диалог:
— Я уже стал начальником участка…
И тут же спросил, не думая о ней и не ожидая ответа:
— А ты разве знала об этом?..
На что ему сейчас безрассудная влюбленность этой девушки, вздумавшей сегодня вечером надоедать ему? Да, совсем недавно, когда он был еще так мало уверен в себе, она могла бы ему немножко нравиться. Черт побери, до чего же он устал! Даже не способен привести в порядок свои мысли. А между тем они лихорадочно бурлили в его голове, не давая ему ни минуты покоя. О чем он думал?.. Ах да, он — начальник участка! Что ж, хорошее начало!.. Уж если ему пришлось пожертвовать своими вечерними занятиями, то это, по крайней мере, окупилось продвижением по службе.
— В наше время, — продолжал он, повысив голос, — о человеке судят по его знаниям и деловым качествам, а не по клочку бумаги. Я ничего не боюсь. Нужна была война, чтобы люди научились понимать тебе цену.
Вконец обескураженная Флорентина бросила на него быстрый беспокойный взгляд. Они как раз проходили под фонарем, и она заметила, что глаза у него воспаленные, как у давно не спавшего человека.
— Да ты совсем вымотался, Жан? — сказала она.
Она хотела взять его под руку, быть с ним нежной.
Но рука ее повисла в воздухе: Жан резким движением отстранился от нее.
— Почему ты пришла сюда? Я полагал, что ты теперь очень подружилась с Эманюэлем. Разве тебя не соблазняет пресловутое военное замужество? Десять дней супружеской жизни? Красивый солдатик? А потом небольшая пенсия?
Он язвительно засмеялся и через минуту, не глядя на нее, избегая ее взгляда, добавил:
— Но в глубине души ты, конечно, предпочла бы парня вроде меня, у которого есть голова на плечах.
Она ничего не ответила. Опустив глаза, он увидел на тротуаре ее тень, бегущую за его тенью. И какой-то остаток жалости к ней, смешанной, быть может, со смутной ревностью, заставил его перейти в новую атаку.
— А ведь ты заигрывала с Эманюэлем тогда, несколько недель назад, в кафе.
— Я против него ничего не имею, — проговорила Флорентина сдавленным голосом. — Но он мне безразличен…
Стараясь не отставать от него, она споткнулась; ее подбородок подергивался.
— Но почему ты все-таки пришла? — настойчиво повторил Жан.
На ее губах появилась и тотчас исчезла приниженная улыбка, которой он не заметил, потому что упорно глядел вдаль, — улыбка, оставившая след только в нелепом ответе девушки:
— Я слышала, что ты поздно работаешь по вечерам. Вот я и решила подождать тебя здесь… Уже три недели, как мы с тобой не виделись… и на вечеринку у Летурно ты почему-то не пришел, хотя и говорил…
Она сделала неловкий жест, облизнула губы и, наконец, выпалила:
— Иногда я думаю — ты, может быть, рассердился на меня?
Он пожал плечами. И тогда она дошла до такого самоуничижения, на какое никогда не считала себя способной:
— Может быть, я сделала что-нибудь не так, обидела тебя, сама того не зная…
Он раздраженно покачал головой.
— Нет, — сказал он. — Но я — не твой дружок.
Он шел быстро, и ей трудно было держаться рядом с ним. Она торопливо шагала, почти бежала. Но все время ее тень оставалась позади его тени.
И она все больше досадовала на себя за то, что не придумала заранее более правдоподобное объяснение своего прихода. Но ведь очень трудно объяснить ему, что она просто поддалась необдуманному порыву. И все же она ничуть об этом не жалела, хотя внутренний голос все время нашептывал ей: «Он о тебе вовсе не думает. Ты ему совсем не нужна!» Она не хотела слушать советов этого голоса. Надо было вести себя так, как она наметила, выходя из дому. Она снова попыталась завязать разговор.
— Ну что же, даже если ты и не мой дружок, — сказала она, — так из-за чего же сердиться?
Это странное сочетание наивности и упорства вызвало у Жана улыбку. Но улыбку такую жестокую, что Флорентина, заметив ее, совсем потеряла самообладание. Вся еще остававшаяся у нее гордость взбунтовалась. Она прикусила губу, ее ноздри раздулись.
— Ну ладно, ты не бойся, — сказала она. — Я за тобой бегать не собираюсь, будь спокоен.
И в ее голосе зазвучали слезы, когда она добавила:
— Это ты начал.
Но Жан удержал ее за руку.
— Ладно, — сказал он. — Раз ты пришла, пойдем вместе поужинаем.
Теперь уже он старался не отставать от нее, так как она все ускоряла шаг, шла рядом с ним очень быстро, приподняв голову над меховым воротником, и все время покусывала нижнюю губу. Иногда она делала попытку высвободить руку, и порой туман застилал ее взор и она плохо видела дорогу.
Справа сиял ярко освещенный фасад какого-то здания. Они вошли в этот совсем недавно открытый ресторан — в нем еще стоял запах масляной краски и свежего дерева. Жан повел Флорентину в кабинет в глубине зала и помог ей раздеться. Она позволила ему снять с нее пальто, ничего не говоря, но ее губы перестали дрожать. И внезапно в нем что-то изменилось.
Сейчас Флорентина неожиданно предстала перед ним не как назойливая и неотвязная тень, преследующая его именно в те минуты, когда ему хотелось быть одному, но как живая женщина, зябко дрожащая в ярком свете люстры. Коричневый пуловер тесно облегал ее фигуру, отчетливо обрисовывая маленькие острые груди. Сегодня на ней не было никаких украшений, она даже почти не накрасилась. На этот раз она стояла перед ним, забыв о кокетстве, беззащитная, почти покорная, живущая какой-то неведомой ему трепетной жизнью. И вот такая, серенькая, скромная, лишенная всех своих прикрас и тайн, она вызвала в нем самые давние, самые грустные воспоминания. Это удивляло и смущало его. Все эти три недели напряженная работа помогала ему изгнать из памяти образ девушки. Кроме того, заметив, что Эманюэль заинтересовался Флорентиной с первого же взгляда, он решил больше не встречаться с ней — таким образом, он сразу положил бы конец всем своим колебаниям, предоставил свободу действий лучшему другу, да и у него самого возникла бы иллюзия собственного великодушия. На самом же деле, пока у Летурно шла вечеринка, он некоторое время бродил под освещенными окнами, но потом ушел. Право, не такой уж он плохой человек, как думают, — ведь он по доброй воле толкнул Флорентину к Эманюэлю, который способен полюбить ее всерьез. Но он не предполагал, что ему еще доведется встретиться с ней — ни в «Пятнадцати центах», куда он больше не заходил, ни где-нибудь в другом месте. Меньше всего он ожидал увидеть ее в такой поздний час на пустынной улице… Он посматривал на Флорентину с озадаченным видом, а в голове его складывалась неясная мысль: «Тем хуже для нее. В конце концов она сама виновата…»
Флорентина заметила, как изменилось выражение его лица. Она положила на стол руку, словно предлагая ее Жану. У нее уже зародился новый план. Сейчас нельзя упускать никакого, даже самого мелкого преимущества. Ее рука протянулась через стол. Он сжал ее пальцы.
— Ты не боишься, Флорентина?
Бояться? Да, она боялась, она смертельно боялась, что Жан отвернется от нее, но теперь, видя, как он взволнован и как не умеет этого скрыть, она вновь обрела уверенность.
— Чего?
Губы ее тронула неопределенная улыбка — ей казалось, что чья-то неведомая рука ведет ее в сновидения. Она непринужденно и грациозно встряхнула головой, и ее волосы рассыпались по плечам.
— Не боишься такого парня, как я? — уточнил он свой вопрос.
Веки его дрожали, лихорадочно блестевшие глаза оглядывали ее всю. Но, видя ее так близко, он внезапно понял — чем сильнее говорит в нем желание, тем меньше он обольщается на ее счет и тем меньше, в сущности, любит.
Она же, погрузившись в молчание, вспоминала давние слова Эманюэля: «Я боюсь, что встреча с Жаном принесет тебе несчастье». Это предостережение было важным, о нем следовало подумать. Но не сейчас, сказала она себе. Только не сейчас, когда после долгих недель тоски и сожалений она начинает дышать свободно. Да и почему надо бояться Жана? Будь он и вправду тем предприимчивым юношей, каким любил выставлять себя, разве он уже не постарался бы взять над ней верх? А он вместо этого проводил ее тогда, после ресторана, домой; и поцеловал ее так нежно! И хочет он того или нет, он станет ее дружком, настоящим дружком, постоянным! Они будут вместе ходить в кино каждую субботу, а то и два раз в неделю. Какая прекрасная жизнь откроется перед ней, если она проявит упорство и не будет сейчас слишком гордой! А потом она сумеет устроить все так, как ей хочется.
Ее рука затрепетала в руке молодого человека. Внезапно она сама поднесла ее к губам Жана, крепко прижала и повернула ладонью, пока он ее целовал.
В эту минуту у входа в кабинет появился официант. Жан хотел было отстранить ее руку, но она бесстыдно ее удержала; она больше не боялась, что посторонние увидят их вдвоем; открытое проявление нежности ей даже льстило, и кроме того, ее уже захватил необоримый порыв страсти. Жан был так близко, рядом, и ей казалось, что они совсем одни. Страсть уже ослепляла ее.
Оба почти ничего не ели. Жан все время бросал на нее внимательные взгляды, минутами мягкая улыбка появлялась на его губах и тотчас же исчезала; а она, едва поднося вилку ко рту, тотчас же роняла ее на тарелку.
Когда подали десерт, он сел рядом с ней и взял ее за запястье, как бы измеряя его обхват; он положил свои пальцы на тоненькие синие жилки; словно зачарованный, он смотрел на ее усталую кисть; потом пальцы его заскользили по ее обнаженной нежной руке к локтю. У сгиба они задержались и напряглись. Это прикосновение обжигало Флорентину. Ее веки отяжелели, она на секунду положила голову на плечо Жана, и ее распущенные волосы коснулись его щеки; она была как в тумане — в густом непроглядном тумане.
— Пойдем, — вдруг сказал он.
Она машинально взяла шляпу и пальто, улыбаясь невидящими глазами. На улице, где ее сразу обдало холодным ветром, она понемногу пришла в себя.
— Ведь я хотела встретиться с тобой не только для того, чтобы спросить, не сердишься ли ты на меня, — пробормотала она, прильнув к нему.
Подняв на Жана немного пьяные глаза, она ухватилась за рукав его пальто. Прикасаясь к нему, вдыхая запах, пропитавший ткань, — запах горячего песка, чугуна, остывающих изложниц, — она изнемогала от волнения.
— Я еще хотела, чтобы ты пришел к нам завтра. В воскресенье, — добавила она мечтательно.
Она понимала, что необходимо во что бы то ни стало следовать намеченному плану до самого конца: заставить Жана прийти к себе в воскресенье, в отсутствие родителей, когда они смогут свободно целоваться. Опасно, конечно. Но, инстинктивно понимая, что влечение Жана может оказаться безудержным, она все же надеялась, что его уважение к ней не позволит ему злоупотребить ее доверием. Этот план еще смутно вырисовывался в ее сознании, но он ей нравился, и она уже принялась его выполнять.
— Ну как, ты придешь? — настаивала она.
В ответ он только слегка пожал ей руку. Они молча вышли на площадь Сэр-Джордж-Этьен-Картье. Под замерзшими кленами и вязами парочками проходили какие-то тени и через минуту возвращались назад. Скамейки пустовали. Этот мартовский вечер, полувесенний и полузимний, заставлял влюбленных все время прогуливаться, и лишь ненадолго они останавливались в укромных уголках.
Жан краем глаза высматривал местечко потемнее. Вдруг он заметил на краю сквера большое дерево, отбрасывавшее глубокую тень. Вместе с Флорентиной он скрылся в черных арабесках причудливо переплетенных ветвей.
Флорентина сразу же закрыла глаза. Она подставила ему губы. Но он, внезапно пораженный хрупкостью этого застывшего, неподвижного лица, пробормотал почти с ужасом:
— Как ты худа!
Он разжал руки. И отодвинулся. Открыв глаза, она увидела, что он стоит в нескольких шагах от нее, заложив руки в карманы. Тогда она сама бросилась к нему, она сама выбежала из мрака в смутный вечерний свет и обвила его шею руками, теряя голову от страха, что ее план рухнул, что Жан опять может ускользнуть от нее. И, уже не владея собой, почти рыдая, она жалобным голосом лепетала отрывистые, путаные объяснения, звучавшие как нервный смех:
— Я так люблю тебя, Жан, это глупо, я не виновата, но я так люблю тебя…
Опустив руки, он смотрел поверх головы Флорентины, поверх деревьев, поверх крыш, на бледный серп выплывающего месяца. Глаза его оставались холодными и жесткими; губы нервно подергивались. Ему и в самом деле была неприятна эта совсем не предвиденная им сцена.
— Зачем тебе нужно, чтобы я завтра зашел к вам? — спросил он.
Но она, не поднимая глаз, утвердительно закивала головой — да, да, ей это совершенно необходимо! И ее маленький острый подбородок при каждом движении тыкался в грудь Жана. Она теснее прижалась к нему, и он почувствовал, что она понемногу успокаивается. Она уже была уверена, что Жан, хотя бы только ради того, чтобы покончить с этим нелепым положением, обязательно придет к ней, и радовалась, что вовремя дала волю слезам. Жан взял ее за подбородок и заставил посмотреть себе в лицо; потом он сказал — без раздражения, почти мягко, но зная про себя, что уступает ей в последний раз:
— Я не твой дружок. Я ведь за тобой только немножко поухаживал в кафе, а ты уже вообразила себе невесть что. Потому что брак не для меня, ты сама это понимаешь…
Он ждал, что теперь она отшатнется от него; он почти хотел этого. Но она только все крепче сжимала его своими худенькими руками. Она приподнялась на цыпочки, чтобы прижаться щекой к подбородку Жана. Ее дыхание смешалось с его дыханием, она слегка улыбалась ему сквозь спутанные пряди волос, падавшие ей на глаза. И тогда, опасаясь, что их может увидеть вот так какой-нибудь прохожий, он сказал уклончиво, с раздражением, охваченный трусливым желанием поскорее со всем этим покончить:
— Ладно, если завтра мне не придется работать весь день, я зайду к тебе.
Тогда она без всякого смущения быстрым и властным движением взяла его под руку и пошла рядом с ним в полном мраке, улыбаясь своим мыслям.
XV
Глазам детей деревня предстала только как серовато-белые снежные просторы; кое-где виднелись клочки голой земли да одиноко торчавшие большие бурые деревья; но Роза-Анна и Азарьюс все время переглядывались, обменивались понимающими улыбками и, казалось, предавались общим мечтам.
— Вот здесь… помнишь? — говорил один.
— Да, и ничего не изменилось, — откликался другой.
И каждая мелочь погружала их в светлые и блаженные воспоминания.
Роза-Анна с наслаждением вдыхала чистый воздух. Как только они переехали через мост Виктория, она опустила боковое стекло и вздохнула полной грудью.
— Как легко дышится! — сказала она, и ноздри ее широко раздулись.
Они быстро ехали теперь по автостраде. Хотя Роза-Анна провела всю ночь за шитьем, она не выглядела утомленной. Веки ее немного отяжелели, но зато складки у рта разгладились.
Одну за другой она вновь узнавала расположенные в долине реки Ришелье деревни, и в замечаниях, понятных одному только Азарьюсу, проскальзывало что-то похожее на ее прежнюю девическую веселость.
Потом она вдруг умолкла. В немом волнении она приветствовала реку, бурлившую у подножия форта Шамбли. Начиная отсюда, она уже ждала каждого поворота дороги, каждого ее изгиба, который приближал ее к Ришелье. Не то чтобы все эти холмы и речки обладали в ее глазах прелестью сами по себе. Нет, она замечала и вспоминала их только потому, что они были связаны с ее жизнью. Так, она осталась совершенно равнодушной к красоте величавой реки Святого Лаврентия; зато в окрестностях Ришелье все было ей знакомо, на ее берегу она провела свое детство; она очень хорошо ее знала и потому без колебаний заявила детям: «Это самая красивая река в нашей стране». И всегда, описывая какой-нибудь пейзаж, она говорила: «Все же там не так красиво, как у нас в роще около реки».
Лишь только слева от дороги показалась Ришелье, она вся выпрямилась. Опершись руками на дверцу кабины, она высунулась наружу. Она громко объявляла названия деревень, мимо которых они проносились в грузовике для перевозки скота:
— Сент-Илер, Сен-Матьяс, Сен-Шарль!
Берега становились все более низкими и пологими. Река текла так спокойно и так величаво, что под тонким покровом льда едва угадывалась могучая толща ее темных вод.
По временам Азарьюс поворачивал голову к детям, которые сидели на одеялах на полу грузовика, и кричал, перекрывая гуденье несущейся машины:
— Смотрите внимательнее, малыши Лакасс! Вот сюда, бывало, мы с вашей матерью приплывали на лодочках!
И тогда маленький Даниэль, которого они посадили на сиденье между собой, чтобы ему было теплее, открывал большие глаза, блестевшие еще сильнее оттого, что у него был жар:
— А где она — река?
Он был еще слишком мал и не мог выглянуть в окно. В его представлении река Ришелье была развертывавшейся за ветровым стеклом полосой голубого неба, которую иногда пересекал узор черных веток.
— А что такое лодочки? — спросил он вдруг с глубокой серьезностью и даже весь вспотел от усилия представить себе это. Время от времени он пытался приподняться на сиденье, чтобы лучше разглядеть все вокруг и увидеть то, о чем говорили его родители. Но для него река так и осталась навсегда этим клочком яркой синевы перед ним — такой яркой, какой он никогда еще не видел, с полосами облаков, белых и нежных, которые, наверное, и были лодочками.
Он дрожал, прижавшись к матери, и Роза-Анна на минуту отвлеклась от своих радостных воспоминаний и закутала его в одеяло до самой шеи.
Потом в конце обсаженной деревьями дороги показалась деревня.
— Сен-Дени! — бросил Азарьюс.
Роза-Анна привстала, и на глаза ее вдруг навернулись слезы. Увлеченная воспоминаниями, она мысленно уже миновала поворот дороги у края деревни, миновала холмик. И вот, наконец, перед ней появился отчий дом. Между кленами возникла крыша с коньком. Потом ее глазам открылась галерея, столики, которой были обвиты пожухлой от зимних холодов огуречной плетью. И Роза-Анна, наклонившись к Азарьюсу, пробормотала, содрогаясь от волнения и от какой-то почти физической боли.
— Ну, вот мы и здесь… А тут мало что изменилось!..
Радость, владевшая ею до этой минуты, длилась недолго, потому что во внезапно распахнувшейся двери появились ее братья и невестки; в общем гуле их голосов она различала отдельные веселые восклицания.
— Да вы посмотрите только, кто к нам пожаловал! Ну и дела! Гости из Монреаля!..
Но как только, опьяненная свежим воздухом, она, пошатываясь и поправляя старое пальто, вышла из кабины грузовика, грубая шутка ее брата Эрнеста нанесла первый удар ее радости.
— Вот, значит, ты и приехала, Роза-Анна! — воскликнул крестьянин, окинув сестру быстрым и внимательным взглядом. — Черт побери, да ты вроде тоже хочешь народить их полтора десятка, как мать!
Роза-Анна даже вздрогнула, услыхав такое странное приветствие. Еще дома она затянулась как можно туже, надеясь скрыть свою беременность — не из ложного стыда, а потому, что она всегда приезжала к родным, когда была в положении; и кроме того, ей в глубине души хотелось, чтобы этот день стал днем отдыха, днем возвращенной молодости и, быть может, вернувшихся иллюзорных надежд. Но она постаралась улыбнуться и превратить все в шутку.
— Видно, это уж у нас в роду, Эрнест! Что теперь поделаешь?
И все же она вдруг почувствовала, как хрупка и ненадежна ее радость.
Но еще больнее ее уколола невестка — Резеда. Помогая Розе-Анне раздевать детей, молодая госпожа Лаплант воскликнула:
— Ну и бледные у тебя ребятишки, Роза-Анна! Ты их хоть кормишь-то досыта?
На сей раз Роза-Анна пришла в ярость. Резеда сказала это, конечно, из зависти — ведь сама-то она так плохо одевала детей. В деревенских чулках из грубой шерсти и неряшливых, сползавших ниже колен штанишках они выглядели довольно-таки нелепо. Роза-Анна подозвала к себе Жизель, пригладила ей выбившийся локон и вздернула юбочку выше колен — по последней моде. Но пока она прихорашивала детей, ее взгляд упал на Даниэля и на старшего сына Резеды, толстого краснощекого Жильбера. И у нее вырвался крик. Маленький крестьянин схватил в охапку своего городского кузена и, как сильный щенок, пытался затеять с ним возню. Больной малыш робко отбивался. Ему явно хотелось только одного — чтобы его оставили в покое.
Роза-Анна самолюбиво выпрямилась.
— Ну, твой старше моего.
— Вот уж неправда! — возразила Резеда. — Ты сама знаешь — они ровесники.
— Нет, между ними полгода разницы, — настаивала Роза-Анна.
Женщины пустились в пространные расчеты, определяя точную дату рождения сыновей.
— Вот Альбер — он, пожалуй, ровесник твоему, — не уступала Роза-Анна.
— Да вовсе нет, — перебила ее Резеда. — Ты же сама знаешь, что Жильбер и Даниэль родились в одно лето.
Разговаривая, она ходила по комнате и укачивала грудного младенца, который громко требовал, чтобы его покормили, и своими уже сильными ручонками пытался расстегнуть лиф на округлой и высокой груди матери. Наконец Резеда твердо сказала:
— Нет уж, ты меня не собьешь. Как хочешь, а они родились в один месяц.
Обе женщины секунду смотрели друг на друга почти враждебно; в глазах крестьянки сверкало нескрываемое торжество. Роза-Анна отвела взгляд. Гнев ее остыл. Она испуганно и растерянно оглядела своих детей и спросила себя — неужели она до сих пор не видела, до чего же бледные у них личики, а руки и ноги какие тощие!
Предпоследний сын Резеды подошел к ней, неуклюже топая короткими кривыми ножками с пухлыми коленками, и внезапно над его головой Роза-Анна увидела ряд маленьких щуплых ножек. Ее дети спокойно сидели рядышком вдоль стены, но она видела только их свисавшие ножки, длинные и тощие, как спички.
Но самую тяжелую обиду нанесла ей мать. После утомительного обеда за двумя столами, во время которого Роза-Анна, как могла, помогала невестке, она, наконец, осталась наедине со старой госпожой Лаплант. Она долго ждала того момента, когда Резеда займется младенцем, а мужчины, собравшись у печки, заговорят о делах, и они останутся вдвоем с матерью. Но в первых же словах старушки прозвучала мрачная покорность судьбе.
— Бедная моя Роза-Анна, чуяло мое сердце, что и ты спознаешься с нищетой. Я так и знала, что тебе будет не легче, чем другим. Теперь ты сама видишь, что жизнь складывается не так, как нам хочется. А прежде ты ведь думала, что сможешь что-то сделать…
Все это было сказано скрипучим резким голосом, спокойно и беззлобно. Сидевшая в кресле старая госпожа Лаплант казалась воплощением всеотрицающей безнадежности. Всю свою жизнь она не пренебрегала добрыми делами. Напротив, ей всегда было приятно верить, что она шествует к своему создателю, неся с собой множество совершенных ею добрых дел и обеспечив себе отпущение всех грехов. Она чуть ли не представляла себе, как входит в небесные врата смиренной странницей, которая в продолжение всей своей жизни благоразумно старалась заслужить спокойное пребывание в царствии небесном. Она, по ее собственному выражению, «прошла через чистилище еще здесь, на земле».
Она была из тех, кто всегда охотно выслушивает рассказы о несчастьях. Приятные новости она встречала недоверчивой улыбкой. Веселые лица вызывали у нее недоумение. Она не верила в счастье. Не верила никогда — всю свою жизнь.
В глубине кухни мужчины разговаривали друг с другом, и вскоре их беседа стала оживленной. Роза-Анна придвинула стул вплотную к креслу матери. В полном замешательстве она неловко перебирала руками, лежащими на коленях. Ей вдруг стало стыдно оттого, что она пришла к матери не как замужняя женщина, с полагающимся чувством ответственности, со всеми своими заботами и твердостью, а как ребенок, который нуждается в помощи и наставлениях. И равнодушные советы старой матери, изрекаемые назидательным тоном, холодные, как ее белое костлявое лицо, находили дорогу к ее ушам, но не к ее сердцу, пробуждали только ощущение бесконечного одиночества.
Что, собственно, надеялась она здесь обрести? Теперь она уже и сама этого не знала; вполголоса разговаривая со старушкой, она забывала тот образ, который мало-помалу создавался в ее воображении за годы разлуки. Сейчас она видела свою мать такой, какой та всегда была в действительности, и только удивлялась, как могла она так ошибаться. Потому что от этой женщины нечего было ждать какого-либо проявления нежности.
Госпожа Лаплант вырастила пятнадцать детей. Она вставала ночью, чтобы ухаживать за ними; она учила их молитвам; она заставляла их читать катехизис; она сама и пряла, и ткала, и своими сильными руками шила для них одежду; она звала их к обильному столу; но она ни разу не наклонилась к кому-нибудь из них с лаской, ни разу в глубине ее серо-стальных глаз не зажегся ясный и веселый огонек. После того как они выходили из грудного возраста, она уже никогда не сажала их к себе на колени. Она никогда не целовала их, если не считать холодного прикосновения губ после долгой разлуки или официально-торжественного новогоднего поцелуя, при котором произносились избитые, банальные пожелания.
Она держала у своей груди пятнадцать круглых головок с шелковистыми волосиками; пятнадцать крошек цеплялись ручонками за ее юбку; у нее был добрый, нежный, внимательный муж, и, однако, она всю свою жизнь говорила о тяжелом кресте, который ей приходилось нести, о своих житейских испытаниях, о тяготах. Всю жизнь она говорила о христианском смирении и о страданиях, которые надо претерпевать.
На смертном одре старик Лаплант пробормотал уже коснеющим языком:
«Наконец-то ты избавишься от одного из своих крестов, бедная моя жена!»
— Ну, и как он перебивается, твой Азарьюс?
Роза-Анна вздрогнула. Растерянно моргая, она вернулась к действительности. Она снова наклонилась к матери, понимая, что та на свой лад, сдержанно и сухо, справляется о ее близких. Она всегда говорила вот так: «Твой Азарьюс, твоя семья, твоя Флорентина, твои дети, твоя жизнь». К горожанину Азарьюсу она питала еще меньше приязни, чем к другим зятьям, которые все были из деревни. В день свадьбы Розы-Анны она сказала ей: «Ты, может, думаешь, что спасешься от нищеты, когда станешь городской дамой? Но запомни, что я тебе скажу: нищета всегда найдет нас. И у тебя тоже будут невзгоды. Ну, ладно, ты сама выбрала. Будем надеяться, что ты не пожалеешь».
Это было единственное доброе пожелание, которое за всю свою жизнь она услышала от матери, подумала Роза-Анна.
— Азарьюс… — заговорила она, выходя из задумчивости. — Ну, что ж, он сейчас работает. Он очень приободрился. А Эжен — тот пошел в армию, я вам уже говорила. Он такой видный в военной форме, даже вроде как повзрослел. В общем, ничего, живем… Флорентина каждую неделю приносит получку.
Старушка щурила глаза и все время повторяла:
— Ну, что же, тем лучше, если все идет так, как ты говоришь…
Однако ее сухие желтоватые пальцы все время поглаживали ручку кресла, отполированную этим привычным жестом, словно подчеркивая одолевавшие ее сомнения.
Но Роза-Анна продолжала защищать мужа тем же резким голосом, как и в то давнее время, когда мать пыталась представить ей жениха в невыгодном свете.
— Азарьюс всегда умеет выкрутиться, — говорила она. — Не ладится с одним делом — ну, что ж, он берется за другое. Он никогда не сидит сложа руки. А водить грузовик он нанялся, только пока нет настоящей работы. Он рассчитывает скоро опять работать столяром. Раз теперь война, то строить должны больше.
Она заметила, что невольно употребляет выражения Азарьюса, а о столярном ремесле говорит почти с таким же жаром, как сам Азарьюс. Но минутами ее голос звучал неискренне, даже фальшиво; и, слыша собственные слова, она спрашивала себя, неужели это она так говорит. В окно, выходившее на участок при ферме, она увидела, как дети под предводительством дяди Октава идут к хижине для варки сахара. Маленький Даниэль ковылял в снегу далеко позади бежавших вприпрыжку детей. Роза-Анна умолкла и не отрывала встревоженного взгляда от окна до тех пор, пока Ивонна не вернулась назад, чтобы помочь маленькому братишке. Потом она прислушалась к голосу Азарьюса, доносившемуся до нее как сквозь сон. Он говорил своему молодому шурину:
— Слушай, если вы рассчитываете наварить много сиропа, ты только передай его мне, а я его вам продам за небольшие комиссионные. С моей машиной это проще простого.
Азарьюс форсил, напускал на себя важность, откидываясь назад вместе со стулом и упираясь ногами в дверцу печи. Одетый в еще довольно приличный, тщательно выутюженный накануне костюм, он резко отличался своим городским апломбом от деревенских родственников, которые сидели в одних рубашках, распустив галстуки и сбросив с плеч подтяжки. Розе-Анне показалось, что они отнеслись к предложению Азарьюса благосклонно, и это ее встревожило. Стоило выпасть какой-нибудь удаче, как он сразу набирался храбрости и без оглядки пускался в новое рискованное предприятие, в котором чаше всего ничего не смыслил. Поэтому в глубине души она боялась всякого счастливого случая, который мог ему представиться. Ей захотелось остановить Азарьюса и предупредить братьев. Поведение Филиппа также все больше удивляло ее и даже оскорбляло. Он свертывал самокрутки, не обращая внимания на осуждающие взгляды бабушки, он вмешивался в разговоры мужчин и то и дело употреблял грубые слова. Но вместо того чтобы одернуть сына, Роза-Анна перевела смущенный взгляд на мать и ровным монотонным голосом продолжала рассказывать, как они живут.
— Ивонна — лучшая ученица в классе. Учительницы ею очень довольны. Филипп скоро найдет себе работу. Сейчас как будто собираются брать на военные заводы совсем молодых, вроде него… Вот и выходит, что все вместе мы как-нибудь перебьемся.
По временам она поднимала глаза и привставала со стула, чтобы посмотреть, как идут дети. Вот они уже вошли в кленовую рощу и вытянулись между деревьями разноцветной цепочкой. Она горько сожалела, что не пошла с ними, — на ее глаза даже навернулись слезы. Но она не осмелилась, потому что ее мать строго сказала ей, словно она была еще ребенком:
— В твоем положении тебе не следует бегать по лесу.
«Бегать по лесу…» — огорченно повторяла про себя Роза-Анна. Совсем не так представляла она себе эту прогулку. Да, конечно, последнее время она перестала видеть себя такой, какой ее видели другие, и, ослепленная своим желанием, усталая от множества разочарований, размечталась о невозможном. И теперь она так боялась понять всю смехотворность своей мечты, что запрещала себе думать о ней, отказывалась от нее и говорила себе: «Я и сама знала, что не пойду… в кленовую рощу».
Когда старая госпожа Лаплант велела принести из кладовой большой кусок соленого сала, яиц, горшок со сметаной и консервы и аккуратно упаковать эти припасы, Роза-Анна была растрогана ее щедростью. Но, зная, как не любит старушка выражений благодарности, она даже не посмела сказать матери «спасибо». И от этого у нее стало на сердце еще тяжелее. Она молча смотрела, как мать с трудом поднялась с кресла, добавила к лежавшим в коробке припасам большую буханку домашнего хлеба и, ворча, принялась суетливыми руками перекладывать все по-своему. «И вот так всякий раз, когда мы сюда приезжаем, она дает нам всего вдоволь, — думала Роза-Анна. — Пожалуй, она не верит ни одному моему слову. Бедная старушка, она ведь старается помочь нам, как умеет. И сердится оттого, что не может дать больше. Сердце у нее доброе, она никогда не скупится. Она ни за что не позволила бы нам голодать, если бы знала, как мы нуждаемся. И всю жизнь, когда мы обращались к ней за помощью, она давала нам и еду, и одежду, и хороший совет, тут уж ничего не скажешь». Губы ее искривились. И она вдруг подумала: «Но разве только это должна мать давать своим детям?»
Роза-Анна откинулась на спинку стула, нахмурившись и глядя в пространство. Она спросила себя: «Ну, а я сама, смогу я дать что-то большее своей дочери, когда она выйдет замуж и будет так же нуждаться в моей поддержке, как сейчас нуждаюсь я, чтобы кто-нибудь поговорил со мной, поддержал меня?» И внезапно ей показалось, что она поняла причину суровости своей матери. Может быть, именно чувство мучительной неловкости перед детьми за то, что она не умела защитить их, и сделало ее такой сухой и замкнутой?
И, уже не веря, что она сумеет быть опорой своей дочери ни теперь, ни в будущем, сомневаясь даже, захочет ли вообще та прибегнуть к ее помощи, и вдруг почувствовав, как трудно поддерживать своих детей в их неведомых ей горестях, Роза-Анна покачала головой и погрузилась в молчание. И машинально, словно этот жест уже давно стал у нее привычным, она слегка погладила ручку кресла, как это делала ее мать.
XVI
В доме на улице Бодуэн было очень тихо — только пар клокотал под крышкой чайника да время от времени по линолеуму кухни постукивали высокие каблучки Флорентины.
В столовой чувствовалась томительная печаль, гнетущая тишина и какая-то странная неопределенность, словно от небольшой перестановки мебели порвалась внутренняя связь между помещением и его обитателями.
Чтобы принять Жана, Флорентина везде смахнула пыль, все почистила, натерла до блеска; она спрятала все платьица и штанишки, поломанные дешевые игрушки — все то, что красноречиво говорило об их скудной и неустроенной жизни; она в художественном беспорядке расставила стулья вокруг стола, обнажив при этом на стенах светлые пятна, которые подчеркивали ветхость выцветших обоев. Убрав с буфета всевозможные безделушки, накопившиеся на нем с незапамятных времен, она накрыла его жесткой вышитой дорожкой, а посредине, как раз под дешевой литографией, поставила фаянсовую вазу, из которой торчали жалкие бумажные цветы. На наивной картинке был изображен младенец Иисус, наполовину задрапированный алой тканью, — он обнимал пухлыми ручками богоматерь в темно-синем одеянии. На эту-то литографию и смотрел сейчас Жан хмуро и растерянно.
Флорентина суетилась с видом домовитой хозяйки. Ей казалось, что она поступает очень умно. Ожидая его, она ни минуты не позволяла себе сомневаться, что он придет, и лишь время от времени подходила к окну, приподнимала занавеску, смотрела, не видно ли его, а потом медленно выпускала из рук скомканную ткань. Когда на тротуаре раздались шаги и затихли у их дома, она сразу твердо решила, что это Жан, — даже еще раньше, чем услышала звонок. И чувство удовлетворенного самолюбия было еще сильнее, чем радость.
Теперь, когда он был так близко от нее, когда приходилось думать уже не о том, чтобы понравиться ему, а о том, чтобы его сдерживать, она уверенно играла свою роль. Яркие бусы подпрыгивали на ее шее, браслеты сталкивались и звенели на руках, словно передавали ее нервное напряжение; но поверх черного шелкового платья на ней был надет короткий прорезиненный фартук, обтягивавший ее бедра и мягко шелестевший при каждом движении.
Она вдруг оказывалась около Жана, спрашивала, не скучно ли ему; оживленная и стремительная, она приносила ему подушку, журнал, несколько своих снимков, наклеенных в маленьком альбоме, наклонившись над его плечом, рассказывала, где она снималась, и тут же убегала на кухню и вполголоса напевала у плиты.
Жана все эти знаки внимания раздражали. Она держалась вежливо, но с какой-то доверчивой фамильярностью, словно он уже стал ее женихом и их связывало тайное нерасторжимое соглашение. Она оставляла его ненадолго одного, говоря, что хочет приготовить ему что-нибудь вкусное, но и из кухни продолжала разговаривать с ним — очень дружелюбно, немножко небрежно и подчеркнуто вежливо. В ее поведении сквозила настороженность и благоразумная сдержанность. Она избегала прикасаться к нему, а если он просил ее сесть, она выбирала самый дальний от него стул. И тут же напускала на себя серьезный, озабоченный вид, рассеянно вертела на руке браслеты и отводила глаза в сторону, если случайно замечала, что Жан смотрит на нее. Обоим было не по себе.
Уловки девушки вызвали, наконец, удивленную улыбку на губах молодого человека. «Однако ты хитренькая, Флорентина, — подумал он. — Если бы я не видел тебя совсем другой, то подумал бы, что ты — сама скромность». Но ее появления и исчезновения действовали ему на нервы. Она ускользала от него с такой ловкостью, что это злило его. Стоило ему повернуться к ней, как она вскакивала и тут же придумывала новый предлог, чтобы убежать на кухню. Она вела себя так настороженно, словно здесь присутствовали все ее родные.
Шаги одинокого прохожего отозвались в тихом доме гулким и продолжительным эхом. Потом они постепенно замерли, и, ощутив глубину наступившей тишины, Жан понял, насколько они здесь одни.
Он растерянно огляделся вокруг. В открытую дверь кухни он видел Флорентину, которая смазывала маслом кастрюлю. Шуршание фартука сливалось с позвякиванием металла о стол; потом зашипел растаявший сахар, растекающийся по раскаленному металлу. Все эти разнообразные звуки доносились до него словно издалека; они раздражали его, потому что будили в нем инстинкт самозащиты против хозяйственности и домовитости. Он снова посмотрел на висевшее над буфетом изображение богоматери с младенцем Иисусом. И внезапно он понял, почему эта литография привлекла его внимание и взволновала его. Она напомнила ему все его прошлое, все его несчастливое детство и тревожное отрочество. На него потоком нахлынули воспоминания. Незаметно в нем воскресло то, что он считал давно умершим.
Первым в его памяти всплыло изображение богоматери, висевшее на стене в сиротском приюте. Потом перед ним смутно, как во сне, возникли черные фигуры, ходившие взад и вперед по спальне около его маленькой кроватки. Изображение богоматери соединялось с холодными рассветами в часовне; каким-то странным и таинственным образом оно было связано с тем тонким детским голосом, которым он пел в хоре и который все еще звучал где-то далеко-далеко, в глубинах его памяти.
И от этого изображения потянулось множество других воспоминаний. Из их смутного хаоса вдруг выплыл серый сиротский передник из грубого тика, серый, как безотрадные дни их жизни, лишенные ласки. Он вспомнил, как однажды разорвал в клочья серую ткань: уже в те дни в нем жила властная потребность быть не похожим на других.
Затем размеры этого сине-алого изображения изменились. Оно превратилось в маленькую закладку, которую монахини вложили в его молитвенник в тот день, когда за ним в сиротский приют пришла одна дама. Это была молчаливая сухая женщина, которая дала обет усыновить чужого ребенка, если ее собственная единственная дочь выздоровеет. Таким образом, он как бы послужил товаром в торговой сделке со святыми, но девочка все равно через некоторое время умерла.
Его мать — она настояла, чтобы он называл ее матерью, — не была с ним сурова; но после смерти своего ребенка она замкнулась в себе и стала такой далекой, недоступной, что Жан, живя подле нее, был более одинок, чем в приюте.
Жестокие и недвусмысленные слова, которыми его приемные родители обменивались ночью, думая, что он уснул, горели в его памяти: «Это меня не удивляет… Что же ты хочешь — подкидыш!» — «Нет, у него все-таки были родители — помнишь, те двое, которые погибли в катастрофе». — «Да, конечно, но все равно неизвестно, что теперь делать…»
Ему не прощали ни малейшей провинности.
Потом Жан увидел себя в коллеже; замкнутый и строптивый ученик, обладавший живым умом и ненасытным любопытством, он озадачивал своих преподавателей. Его приемные родители не проявляли к нему никакой нежности, но все же не отказывали ему в материальной поддержке. Он стал хорошо одеваться, у него всегда были деньги, и, словно вознаграждая себя за долгие унижения, он порой с удовольствием позвякивал серебряными монетами. Иногда — больше из тщеславия, чем но доброте душевной — он помогал самым бедным из своих товарищей. Он уже начхал понимать, что за деньги покупаются и уважение и авторитет.
Хорошо питаясь, он очень быстро, за какие-нибудь год-два окреп и возмужал. Мышцы у него стали сильными, плечи — широкими, взгляд — твердым и проницательным: этот крепкий подросток ничем не напоминал тщедушного мальчика из сиротского приюта. Восторжествовала неведомая ему наследственность: свою пробуждающуюся силу он унаследовал от двух неизвестных, погибших вскоре после его рождения. Он жаждал вырвать у этих двух мертвецов их тайну — ведь с живыми его не связывали никакие узы. Было острое любопытство и жгучее тяготение только к тем неизвестным.
Его характер тоже резко изменился — даже еще больше, чем внешность. Притворная покорность внезапно сменялась у него открытым бунтом. Он стал язвительным и высокомерным. Свои взгляды, весьма своеобразные и окрашенные жгучей иронией, он готов был излагать первому встречному. Он затевал споры ради одного только удовольствия противоречить собеседнику.
С ненасытным любопытством он принялся поглощать все книги, какие попадались ему в руки. Прогуливаясь по улице, он останавливался, чтобы поговорить с рабочими; он полагал, что всех простых людей из народа так же, как и его самого, терзает мучительная потребность все постичь и понять. То он любил их с оттенком нежной, покровительственной жалости и мечтал только о том, чтобы посвятить себя социальным реформам, то презирал толпу и считал себя человеком исключительным, отмеченным печатью особого предназначения. И с каждым днем он все глубже погружался в одиночество. Его остроты, меткие и беспощадные, внезапные приступы молчаливости, резкая смена настроений в конце концов отпугнули от него близких друзей. И скоро он из бравады стал искать общества лишь самых обездоленных. В коллеже за ним упрочилась репутация гордеца, Чтобы научить его смирению, преподаватели в конце учебного года не дали ему ни одной награды, на которые он имел право.
Жан насмешливо усмехнулся при воспоминании об этой несправедливости… Однажды вечером после очередного бурного объяснения он навсегда покинул дом своих приемных родителей. Он вспомнил, как собирал свои вещи и как бросился во мрак пустынной улицы. Это бегство помогло ему восстановить душевное равновесие. С тех пор он, как и многие другие молодые люди, был озабочен только тем, чтобы создать себе положение в тяжелое время безработицы, когда на каждое место находилось десять претендентов. Уже одно горькое удовлетворение от сознания, что своим успехом он будет обязан только самому себе, наполняло его безрассудной радостью. Первая случайная комнатка, первая работа пудлинговщиком; потом другая работа, другая комната; с тех пор его жизнь текла стремительно, без потрясений, без задержек. Сейчас он достиг сравнительно спокойного периода, когда, словно спасшийся после кораблекрушения на необитаемом острове, он думал только о том, чтобы все попадавшееся ему на пути служило его целям. Юн был готов обречь себя на долгие годы борьбы и лишений, после которых ему потребуется только протянуть руку, чтобы сорвать плоды своего труда и самоограничения.
Жан встал. Он с удивлением огляделся, уже не помня, почему вдруг на него нахлынули такие давние воспоминания. Тишина угнетала его. Эта скромная домашняя обстановка, все предметы которой были тесно связаны с повседневностью, действовала ему на нервы. Ему захотелось бежать отсюда. Сквозь приоткрытую дверь кухни он увидел Флорентину, — привстав на цыпочки, она гляделась в зеркало над раковиной и накручивала локоны на пальцы. Его вдруг разозлило, что они с ней оказались наедине и что в нем вновь пробудилось любопытство, — этого он вовсе не ожидал. Он нетерпеливым тоном позвал Флорентину. Она тотчас пришла и хотела поставить между ним и собой вазочку с конфетами. Он почти грубо вырвал ее из рук девушки; он не мог больше терпеть того умаления своей индивидуальности, которому она его подвергала.
— Как это случилось, что твоих родителей нет дома? — спросил он. — Они что, уехали на весь день?
Взгляд девушки стал ясным и невинным.
— Я точно не знаю. Но я думаю, что они скоро вернутся.
— Ты знала, что будешь одна, и поэтому пригласила меня?
Выражение его глаз испугало Флорентину.
— Да нет же! Они только сегодня утром заговорили о поездке.
— А куда они поехали?
— На сбор сока, по-моему. Да-да, папа говорил о том, чтобы сегодня утром поехать в деревню… Наверное, они так и сделали.
Слова застревали у нее в горле; она понимала, что он ей не верит. Но она еще пыталась убедить его и все глубже увязала в собственной лжи.
— Когда мама утром увидела, какая сегодня хорошая погода… ну, понимаешь…
Она снова опустила глаза под его взглядом, потом вдруг решила сделать вид, что она очень задета, очень обижена его недоверием.
— Если ты думаешь, что ты все знаешь… — начала она.
Он схватил ее за руки и внезапно обнял с такой силой, словно хотел переломить. Его неудержимо тянуло к ней, и это приводило его в бешенство. Он шел сюда, полагая, что увидит ее в кругу родных, шел неохотно, так как представлял себе семейное сборище, среди которого ему будет смертельно скучно, и все же полный решимости вытерпеть все до конца из гордости, вынуждавшей его держать слово, даже если он дал это слово, не подумав. Но нет, на самом деле он пришел только потому, что вчера вечером эта девочка, вся в слезах, на минуту обезоружила его, вызвала сострадание к себе. До чего же глупо было так размякнуть! А сейчас она показала себя еще более хитрой и цепкой, чем когда-либо. Сейчас она кокетничает с ним, стараясь его завлечь; она инстинктивно пускает в ход все те женские уловки, которые тогда, в ресторане, заставили его обратить на нее внимание.
Его охватила ярость — он горько сожалел, что накануне был так уступчив.
— Надень шляпку, — раздраженно сказал он, — и пойдем в кино.
Но он по-прежнему прижимал ее к себе. Он знал теперь, — именно дом Флорентины напомнил ему то, что он ненавидел больше всего на свете: запах бедности, этот безжалостный запах старой одежды — бедность, которую узнаешь и с закрытыми глазами. Он понял, что сама Флорентина была для него живым олицетворением той убогой жизни, против которой восставало все его существо. И в ту же самую секунду он осознал, какое чувство влекло его к девушке. Она была воплощением его нищеты, его одиночества, его печального детства, его одинокой юности; она была воплощением всего того, что он ненавидел и отвергал и что было тем не менее связано нерасторжимыми узами с ним самим, с самой его сутью, с тем, что было могучей движущей силой его судьбы.
Да, сейчас он держал в объятиях свою нищету, свою печаль, свою жизнь, какой она могла бы стать, если бы он не вырвался из нее, как из неудобной, тесной одежды. Он опустил голову на плечо девушки; и, вспоминая о той мучительной жажде ласки, которая терзала его, когда он был маленьким, сам того не замечая, пробормотал, словно знал эту девушку еще в том далеком прошлом:
— Какая тонкая талия! Я могу обхватить ее двумя пальцами.
И ему вспомнилось, как иногда он старался облегчить горе, встречавшееся на его пути. Ребенком он охотно отдавал лакомства младшим товарищам. И теперь еще он был способен на великодушный поступок, при условии, чтобы это не помешало свободному развитию его личности. Да, в этом была вся суть: он мог иногда поддаться порыву великодушия, но только если это не связывало его никакими путами. И вот — сколько привязанностей он уже отверг!
Флорентина теперь вся съежилась под пристальным взглядом его темных глаз, которые постепенно наливались неистовством. Вся неосмотрительность ее поведения стала для нее, наконец, очевидна — теперь, когда неотвратимое настигало ее и она понимала, что ей не спастись.
Она попыталась высвободиться, и, удерживая ее, он зацепился за лямку фартука. Тонкая полоска резины лопнула. И при виде порванного, повисшего фартука Жан окончательно потерял голову.
Он все же нашел в себе достаточно силы, чтобы шепнуть на ухо Флорентине:
— Ступай надень шляпу… и пальто…
Но он не отпустил ее и поверх ее плеча нашел взглядом старый кожаный диван.
Она упала навзничь, согнув колени, и ее маленькая нога судорожно дернулась в воздухе. Прежде чем закрыть глаза, она увидела взгляд богоматери и взгляды святых, устремленные на нее. Она попыталась было приподняться навстречу их скорбным ликам, которые надвигались на нее со всех сторон и умоляли ее — безмолвно, упорно и грозно. Жан, казалось, еще готов был отпустить ее. Потом она вытянулась во весь рост на продавленном диване, в той самой ложбинке, где спала по ночам рядом со своей маленькой сестренкой Ивонной.
За окном, над предместьем, овеянным глубоким воскресным покоем, колокола звонили к вечерне.
XVII
В этот воскресный вечер Жан долго шел куда глаза глядят, ненавидя самого себя. Но не из-за того, что страдальческое лицо Флорентины неотступно стояло перед его глазами, а из-за ясного и отчетливого ощущения, что он окончательно и бесповоротно отказался от своей свободы. Иногда он нетерпеливо дергал головой, словно пытаясь разнять две руки, обвившиеся вокруг его шеи. Неужели теперь повсюду, где бы он ни был, его так и не покинет ощущение, что с его жизнью неразрывно связана какая-то другая жизнь, ощущение постороннего вторжения в его судьбу, из-за которого воспоминание об утраченном одиночестве стало ему теперь в тысячу раз милее, чем когда-либо раньше? Его осаждали и другие тревоги, гораздо более определенные. Как поведет себя теперь Флорентина, чего она будет от него ждать? Но на этих мыслях он не стал задерживаться. Больше всего он был огорчен утратой того чувства полной независимости, которое исключало всякую ответственность перед другими. О чем он думал? До сих пор он всегда умел ограничивать свое любопытство осторожными покушениями, легким флиртом, который никогда не переходил в настоящее ухаживание. Смутное отвращение зашевелилось в его душе, он осознал тайную причину своего страха: его пугали последствия связи с молодой и неопытной девушкой. «Так вот до каких мыслей я дошел!» — подумал он, презирая себя больше за эти колебания, чем за свой поступок с Флорентиной.
Он быстрым шагом пересек улицу Сен-Жак. Свет уличного фонаря ударил ему в лицо, а затем его снова поглотил сумрак улицы Бодуэн, которая становилась все более темной и неприглядной по мере того, как он приближался к каналу Лашин. Потом он очутился на улице Сент-Эмили, тускло освещенной, с маленькими, украшенными резными балкончиками и башенками на крышах, лавочками, почти одинаковыми на всех углах. Порой, проходя под мигающим фонарем, Жан различал фасад с длинными зигзагами ржавых потеков в тех местах, где из года в год стекала дождевая вода. Под теплым южным ветром, который поднялся к ночи, снег начал подтаивать. Казалось, в тишине пустынной улицы можно было услышать, как он тает и растекается мелкими грязными ручейками. Со всех крыш, с намокших ветвей срывались тяжелые капли и с шумом унылого затяжного дождя разбивались о мостовую.
Эта неотвязная потребность оправдаться перед самим собой раздражала Жана, сбивала его с толку и заставляла все время думать об одном и том же. Действительно ли он хотел причинить Флорентине зло? Он чуть было не запротестовал вслух. Нет, нет! Еще сегодня он старался внушить себе, что он должен пощадить ее. Быть может, именно оттого, что он поступил вовсе не так, как собирался, он и злился теперь на себя. В душе ему хотелось бы сохранить о Флорентине память, не омраченную презрением, он хотел бы, чтобы ее образ был связан для него с тем смутным ощущением жалости и тревоги, которые она на какое-то мгновение в нем пробудила. Когда? Он уже не мог бы сказать точно. Быть может, это ему только показалось.
Отныне между ним и Флорентиной уже не будет воспоминания о вьюжной ночи, о буре, которое напомнило бы ему: «Я отпустил ее потому, что она сама бросилась мне на шею, такая безрассудная, такая неискушенная!» Отныне между ним и Флорентиной будет жить только воспоминание о скрипе старого дивана, о звоне пружин, о блике света через треснувший абажур. Образ Флорентины может изгладиться из его памяти, образ ее юности может побледнеть, но никогда не забудет он ужасную нищету, которая окружала их в минуту любви. Это воспоминание было тягчайшим оскорблением, оно бросало тень на его чувство превосходства, на его честолюбивые замыслы и, наверное, будет и впредь вставать перед ним в минуты успеха — и тем более навязчиво, чем значительнее будет этот успех!
Жан шел быстрым шагом, зажав шляпу под мышкой, и ветер развевал его волосы. Он не мог не признаться самому себе, что был по-настоящему потрясен: ведь в его жизни до Флорентины была только одна женщина, намного его старше, — она сама завлекла его, и ее лицо уже совсем изгладилось из его памяти. Но Флорентина! Он вдруг вспомнил тревожное, почти умоляющее движение, когда она попыталась отнять у него пальто и шляпу, робкое движение, показавшее, как боится она остаться после его ухода наедине со своими мыслями. «Бедная глупышка!» — пробормотал он, не столько, однако, сочувствуя ей, сколько сожалея, что именно он принес ей горе и разочарование. Теперь он уже не сомневался, что ее неосмотрительное поведение объяснялось только ее полной неискушенностью. По-новому узнав ее, он понимал теперь, откуда бралась смелость ее поведения. Какой застенчивой и неловкой была она на самом деле! Какую детскую беспомощность увидел он в ней! Но нет, он не будет больше думать о том, что случилось. А не то он проникнется состраданием или совсем уж невыносимым чувством потери свободы.
Стрелки на циферблате часов церкви Сент-Анри близились к полуночи, когда он вышел на улицу Нотр-Дам. Потом он пересек уже погруженную в глубокий сон площадь Гюэй, где призрачные деревья отбрасывали на мостовую колеблющиеся тени. Их контуры расплывались в тумане мелкого-мелкого весеннего дождя.
Жан преодолел наконец тот рубеж, на котором мысль человека о совершенной им ошибке еще тревожит его, не давая ему успокоиться, словно с этого момента вся его жизнь должна пойти по-иному. Он перешагнул этот рубеж, прошел этот этап и больше уже не думал о последствиях своего поступка — так разрушительный вихрь, проносящийся над равниной, не видит оставшихся позади развалин. Он бежал в эту ночь от безмерного смятения, в котором оставил Флорентину, и с каждым шагом все больше отрывался от содеянного. И тихий дрожащий голосок: «Мы завтра увидимся, Жан?» — долетал до него теперь с огромного расстояния, которое все увеличивалось и увеличивалось. Да, когда она задала этот вопрос, он на минуту заколебался, не зная, что ответить. Но теперь этот голос уже замирал в его ушах, ненужный, как оклик, потерявший смысл, и больше не отвлекал его от навязчивой мысли: необходимо найти выход, который уберег бы его от новой уступки Флорентине, необходимо вновь обрести свое «я». «Оторвать, оторвать от себя все, что осталось позади!» — он был настолько одержим этой мыслью, что невольно заговорил вслух. «Оторвать от себя!» И он знал, что отбросит не только воспоминания, такие неприятные для его самолюбия, но и целый этап своей жизни, который, быть может, кончился сегодня вечером. «Пора, давно уже пора избавиться от всего этого». Он жаждал избавления тем более бурно, что главное препятствие на его пути представлялось ему в образе простой девушки, которая не хотела преградить ему дорогу, а только робко, упорно, потеряв всякую гордость, следовала за ним. Мысль о том, что она по-настоящему любит его, что лишь страсть могла ослепить ее до такой степени, мелькнула в его голове, но отнюдь не успокоила, а только озлобила еще больше. Эта слепая, упорная любовь, которую она осмелилась питать к нему, казалась ему теперь просто оскорблением.
Он дошел до улицы Сент-Антуан, содрогавшейся от далекого грохота трамвая. Выйдя из темноты, Жан невольно зажмурился. Падавший на асфальт свет витрин показался ему ослепительным. И все же он устремился к этому свету, как человек, бегущий от наваждения, которое становится сильнее во мраке и молчании. Сейчас больше всего — больше, чем от воспоминаний об этом вечере, — ему нужно было избавиться от мучительной мысли, что Флорентина его любит.
Вскоре пошел дождь. Под крупными, тяжелыми каплями снег окончательно стаял. От долгих месяцев мороза и гололедицы осталась лишь тонкая ледяная корка, которая ломалась и рассыпалась под ногами Жана. Медленный упорный дождь окончательно вымыл асфальт; теперь он стал ровным и блестящим и в нем отражались ночные фонари и скрещенные тени, отбрасываемые ветвями.
Весна! Что она принесет ему? — спросил себя молодой человек. Его охватила та жажда неведомого, жажда обновления, которую всегда приносит с собой внезапная смена времен года.
Дробный стук женских каблуков по тротуару заставил его оглянуться. Увидев позади одинокую фигуру, он с раздражением вспомнил прикосновение пальцев Флорентины к своему локтю. И еще он вспомнил, как она торопливо бежала к нему в тот ненастный вечер, и в краткий миг прозрения понял, что через бурю, из бездны нищеты, из бездны всей своей неустроенности она бросилась к нему, опрометчиво, безрассудно, отдавая ему всю свою жизнь, — бросилась потому, что он был таким сильным, потому, что в глазах этой бедной девушки он представлялся воплощением успеха. Потом он вспомнил, как ее тень ложилась на тротуар рядом с его тенью. От изумления и досады он замер на месте. Разве ему нужен этот подарок? На что он ему? Никогда еще окружавшее его холодное одиночество не казалось ему таким ценным, таким необходимым.
У многих людей весна вызывает прилив чувствительности, но он остался равнодушным к ее трогательному очарованию. Наоборот, она породила в его сердце твердую, как никогда, решимость не поддаваться более своей потребности в дружбе.
Весна — пора жалких иллюзий! Скоро в свете фонарей будут качаться молодые листья; бедняки выставят стулья на тротуары перед своими домами; вечерами будет слышно, как поскрипывают по бетону детские коляски; самые маленькие впервые вдохнут воздух улицы; дети постарше начертят мелом линии на тротуаре и будут прыгать на одной ножке из квадрата в квадрат, подталкивая круглый камешек. Во внутренних дворах при слабом свете, падающем из окон, люди, собравшись в тесные семейные кружки, будут играть в карты или разговаривать. О чем могут они разговаривать, эти горемыки, жизнь которых так сера и однообразна? Кое-где на пустырях соберутся мужчины и начнут бросать подкову, забывая за игрой обо всем на свете; ночи будут наполнены звоном металла, криками детей и тысячами вздохов, заглушаемых пыхтеньем локомотивов и резкими воплями сирен. Да, вот какой будет весна в этом поясе дыма у подножия горы.
Жан представил себе конец апреля: он ознаменуется великим исходом на улицу. Изо всех углов, из сырых подвалов, с чердаков под оцинкованными крышами, из трущоб на Рабочей улице, из больших каменных домов на площади Сэр-Джордж-Этьен-Картье, из беспокойных улочек, тянувшихся внизу вдоль канала, с тихих скверов, из дальних и ближних мест — отовсюду будут вытекать толпы, и гул их, зажатый склонами горы, зажатый поясом заводов, поднимется к далеким звездам. И лишь одни звезды увидят и поймут великую тягу к счастью, которая поддерживает человечество.
И повсюду — в темных улочках, в мрачных тупиках, в шевелящейся тени деревьев — будут стоять обнявшиеся. Пара за парой они будут идти среди терпких запахов патоки, табака, гниющих фруктов, среди грохота поездов предместья; они будут идти, выпачканные сажей, упорные и жалкие тени; и как-нибудь весенней ночью, только потому, что ветер струится особенно мягко, а воздух насыщен дыханием бессмысленных надежд, они вновь проделают все то, что обеспечивает человечеству продолжение и повторение его страданий. И Жан порадовался этой пассивности людей, которая облегчает отважным путь к вершинам. Он перевел взгляд на темные массивы домов, где под каждой крышей таилась своя частица любви и горя, и ему показалось, что между ним и Флорентиной вздохнула жалкая весна, исполненная жестокого разочарования.
Далеко впереди отворилась какая-то дверь. Над улицей пронесся джазовый мотив. Из двери, пошатываясь, высыпали солдаты в сопровождении растрепанных женщин, которые громко смеялись и подталкивали друг друга. Молодые люди старались увести их с собой. Те сначала слабо сопротивлялись, а потом согласились. Скоро вся компания с громким пением скрылась из виду. Жан пошел быстрее и почувствовал, что улыбается, — он подумал обо всем, чего избежал, отказавшись от Флорентины: об этой затравленной любви, о встречах украдкой, о долгих блужданиях по улицам, о неотвязном страхе и в его и в ее сердце — о страхе перед суровой расплатой за их такие маленькие прегрешения. Удовлетворенная улыбка озарила его лицо. Грубая, жестокая победа над Флорентиной не оставила в его сердце ничего, кроме пробудившейся жажды других побед, менее обыденных и более трудных. «Все это еще придет, все это еще придет!» — говорил он себе в такт мерному стуку своих сапог по асфальту.
Когда он оказался на углу улиц Курсель и Сент-Амбруаз, он уже совершенно потерял чувство времени. Из-под мостовой до него внезапно донесся глухой гул, и, проходя мимо водостока, он услышал шум падающей воды. Сюда, к этой широкой подземной арке, сходилась целая сеть канализационных труб. Шум низвергавшегося потока, словно это был водопад, наполнял всю улицу и разносился далеко вокруг. И, унося в памяти этот могучий голос, единственное настоящее олицетворение свободы в предместье, Жан словно ощутил вкус облегчения, душевной разрядки и почувствовал, что он вновь совершенно свободен.
Сам того не замечая, он шел по направлению к дому. Его гулкие шаги будили эхо на пустынной улице. Справа темнели башни элеваторов, могучие и суровые. Жан взглянул на них сейчас с прежней симпатией и с новым пытливым интересом, словно хотел получить от этих величавых стен, от этих бетонных башен, от этого гордого творения рук человеческих последнее подтверждение уготованной ему судьбы.
Дальше небо закрывали черные массивы хлопкопрядильных фабрик, вздымающихся по обе стороны улицы и соединенных между собой висячим мостом. Жан заметил в темноте приближавшуюся к нему парочку — влюбленные шли медленно, держась за руки, словно дети. При свете, падавшем из залитого дождем окна, Жан узнал Маргариту Летьен, официантку из «Пятнадцати центов», и Альфонса Пуарье; и, удаляясь, он улыбнулся, потому что поведение этой пары показалось ему смешным, а кроме того, он вспомнил, как еще совсем недавно Альфонс просил у него в долг доллар. Широким шагом он прошел мимо слабо освещенного пустыря; и постепенно он начал понимать то, что смутно волновало его весь вечер и теперь, наконец, вылилось в отчетливое и окончательное решение. Да, он уедет из Сент-Анри. «Пришло время переменить обстановку», — сказал он себе, не желая доискиваться подлинных мотивов этого решения, которые были ему глубоко противны. Все в этом предместье стало теперь для него невыносимым — и не только воспоминание о покинутой девушке, но и мысль о том, что в течение целого вечера он старался оправдаться перед самим собой. Как будто ему надо оправдываться! И за этим отъездом ему уже виделось то, что все честолюбцы большого города, жаждущие счастливого случая, надеются получить с помощью бегства — новое поле деятельности. Что-то значительное ждало его в этом мире, потрясенном войной, и, хотя он не мог точно предугадать, что именно, он знал, — оно вознаградит его за все годы топтанья на месте в Сент-Анри. На минуту его охватило ослепительное ощущение, что он устремляется навстречу неизвестному с такой беззаботностью, с такой легкостью, словно вот только сейчас сбросил мешавший ему груз. Но лишь впоследствии ему предстояло понять, от чего именно он избавился в этот вечер. Его давнее бесплодное сострадание к людям больше не тяготело над ним, хотя сам он этого еще не знал.
Он ощупью поднялся по скрипучей лестнице. Мирная тишина комнаты снизошла на него, но не укротила его жажды действия. Пока он шарил в темноте, ища лампу, перед ним на секунду всплыл образ Флорентины, такой, какой он ее оставил, — лицо ее было еще бледнее, чем обычно, и в ее устремленных на него глазах стоял безмолвный пугающий вопрос. Мысль, что он выбрал самый пошлый, самый, быть может, недостойный выход из затруднительного положения, пронзила его сознание, но он больше не мог негодовать на самого себя. Наоборот, если в его душе и осталось возмущение, то теперь оно полностью относилось к Флорентине.
Включив свет, Жан порылся в бумагах, наваленных на полочке, и вытащил оттуда бланк заявления о приеме на работу со штампом одного из крупнейших военных заводов. Его перо быстро заскользило по бумаге, жестко поскрипывая. Но пока он заполнял все пункты, мысль его продолжала работать. Благодаря своему опыту он может, несомненно, рассчитывать на хорошее место. Если будет нужно, он добьется рекомендательного письма от директора завода, на котором сейчас работает. Конечно, не пройдет и недели, как он получит благоприятный ответ. А до тех пор, что бы ни случилось, он должен быть тверд.
Каких же неприятных неожиданностей, исходящих от самого себя, опасался он? Закончив письмо, которое надо было приложить к заявлению, он сунул бумаги в конверт, надписал на нем адрес и заклеил его.
Затем он, не раздеваясь, вытянулся на постели, И вдруг низменная, даже просто подлая мысль шевельнулась в его голове — мысль, которая показала ему самого себя в истинном свете: «Впрочем, если мне захочется еще… до того, как я уеду…» Он гнал от себя эту мысль, но она все равно унижала его и приводила в бешенство, ибо он не знал, сколько еще времени его плоть будет томиться в одиночестве, в ночной мгле, по этой бедной девушке с узкими бедрами… Флорентина Лакасс! Сколько еще времени придется ему страдать от того, что он против воли дал ей так легко уйти из его жизни?
XVIII
Уже целый час Роза-Анна шла по направлению к горе. Вся в поту, она двигалась медленным, упорным шагом, и когда наконец очутилась перед Кедровой аллеей, то не решилась сразу начать подъем. Высеченная прямо в скале дорога вела круто вверх. Сияло апрельское солнце. И кое-где из сырых расселин в камнях пробивались первые пучки уже зазеленевшей травы.
Остановившись, чтобы перевести дыхание, Роза-Анна рассеянно посмотрела вокруг. Пустырь слева от нее был обнесен высокой оградой. Сквозь железные прутья было отчетливо видно расстилавшееся внизу предместье; бесчисленные колокольни возносились к небу; ленты дыма тянулись от серых конусов фабричных труб; висячие рекламы делили горизонт на черные и синие пятна; и, словно борясь за жизненное пространство в этом городе молений и труда, дома спускались уступами, теснясь, налезая друг на друга, пока их однообразное скопище внезапно не обрывалось на берегу реки. Легкая дымка, поднимавшаяся с рябой поверхности воды, туманила дали.
Отдыхая, Роза-Анна разглядывала эту картину как бы сквозь пелену своей усталости; ей даже и в голову не пришло отыскать глазами место, где находился ее дом. Но она постаралась измерить взглядом расстояние, которое ей еще надо было одолеть, чтобы добраться до детской больницы, расположенной, как ей сказали, в верхнем конце Кедровой аллеи.
Туда вскоре после поездки в Сен-Дени отвезли Даниэля.
Однажды вечером, раздевая сына, Роза-Анна обнаружила у него на теле крупные лиловатые пятна. На следующий день она посадила его в санки и отвезла на улицу Дю-Куван, к одному молодому врачу, у которого в свое время убирала квартиру. Все остальное произошло так быстро, что она почти ничего не помнила. Доктор сразу же забрал малыша в свою больницу. В памяти Розы-Анны отчетливо сохранилась только одна деталь: ребенок совсем не плакал и не сопротивлялся. Совершенно ослабев, он спокойно доверился этому сильному и, по-видимому, доброму незнакомцу, который уносил его, и помахал матери на прощанье исхудалой ручонкой.
Роза-Анна снова пустилась в путь.
На Мон-Руайяле, протянувшемся вниз до самого Сент-Анри, ей были знакомы только часовня Святого Иосифа и кладбище, где люди как из бедных, так из богатых кварталов хоронили усопших. И вот оказывается, что дети трущоб, когда они заболевают, тоже живут здесь, на этой горе, овеваемой целебным воздухом и защищенной от дыма, копоти и прерывистого пыхтенья заводов, которое разносится над приземистыми домами в печальных низинах, как натруженное дыхание зверя. В этом она увидела дурной знак.
Она дивилась роскошным особнякам, которые замечала в глубине парков. При виде их она иногда даже замедляла шаг и бормотала про себя: «Боже мой, какое же тут богатство, какая красота! Как же это так случилось, что они взяли сюда Даниэля?»
Ей и в голову не приходило радоваться, что ребенок дышит здесь чистым, целебным воздухом. Напротив, все время, пока она шла, ей представлялось, что он, совсем маленький и такой одинокий, даже скучает среди этой торжественной тишины по грохоту поездов, от которого содрогался их домик в Сент-Анри. Ей вспомнилась та бесхитростная игра, которой он занимался целыми днями: она опять увидела, как он ставит в ряд один за другим старые кухонные стулья и, с важным видом усевшись на передний, представляет себе, что ведет поезд. Иногда он слабо вскрикивал, подражая свисту локомотива; или подносил руку козырьком ко лбу, словно видел за шаткой перегородкой изгибы сверкающих рельс, пересекавших квартал Сент-Анри. Нов кухне было тесно, и Роза-Анна вспомнила, что она часто лишала ребенка его радости, убирала стулья и отсылала его играть куда-нибудь в другое место.
Роза-Анна, опять так устала, что ей пришлось остановиться.
Задыхаясь, она думала обо всех бедах, которые обрушились на них за последние несколько недель. Они вихрем закружились перед ней, и, когда она снова открыла глаза и увидела ясное небо, ей показалось, что это был просто дурной сон. Однако по мере того как усталость отпускала ее, по мере того как ее сердце начинало стучать спокойнее, она вновь обретала достаточно мужества, чтобы встретить свои несчастья лицом к лицу.
Каким безумием была эта поездка в деревню! Искать радости — это не для них: ведь поиски радости всегда оборачивались для них бедой. Ах, какой нелепой представлялась ей сейчас охватившая их в тот вечер лихорадочная жажда счастья!
Разрозненные картины мелькали перед ее глазами: дорожное происшествие в нескольких милях от Сен-Дени и возвращение среди ночи в дом матери; приезд в город в понедельник вечером. По виноватому виду Азарьюса она очень скоро догадалась об истинном положении вещей. Он воспользовался грузовиком без разрешения хозяина и теперь, когда все открылось, опасался, как бы его не уволили, что и произошло на следующее утро. Но даже и это, думала Роза-Анна, было, пожалуй, не самой худшей из свалившихся на них бед. Она догадывалась, что случилось и другое, совсем непоправимое несчастье, — одна из соседок рассказала ей, что, пока их не было, к Флорентине приходил какой-то молодой человек, который ушел только поздно вечером. Вспоминая, как вызывающе держалась Флорентина, когда ее начали расспрашивать об этом, Роза-Анна забеспокоилась. Вконец удрученная, совсем сломленная, она тем не менее снова вернулась мыслью к самому важному — к болезни Даниэля.
Врач что-то говорил ей о красных и белых шариках, которых стало слишком много…. но каких именно, она не поняла; и еще — о нехватке витаминов. Она ничего толком не понимала, но она видела полуобнаженное тело Даниэля, лиловато-мраморное, его непомерно вздутый живот, повисшие, как плети, руки; и ей было немножко стыдно.
Ей казалось, что опасность нависла и над всеми ее детьми. Она вспоминала теперь, как в муниципальной больнице ей говорили о рациональном питании, которое необходимо детям для формирования костей и зубов, чтобы они росли здоровыми. У нее вырвался короткий смешок. Разве ей не говорили, что это питание вполне доступно каждой семье? Разве ей не разъяснили ее материнский долг? В ее глазах появилась тоскливая тревога. Может быть, она и правда не сделала: того, что должна была сделать? В конце концов она убедила себя, что так оно, наверное, и есть, и впервые в жизни посмотрела вокруг жестким, недобрым взглядом.
Но она тут же отбросила эту мысль, отогнала ее, проведя рукой по лбу, — уж если она хотела разрешить все свои проблемы, ей следовало браться за них по очереди, постепенно, соразмеряя свои силы; она встряхнула головой и судорожным усилием заставила себя идти быстрее. Путь был долгим и трудным, она проделала его весь пешком, потому что в трамвае ее часто укачивало, а она боялась опоздать в больницу.
Мальчик полулежал на кровати, обложенный подушками. Вокруг него на одеяле были разбросаны игрушки: маленькая металлическая флейта, как раз такая, какую он всегда хотел, плюшевый мишка, погремушка, маленький пенал с цветными карандашами и альбом для рисования. За один день он получил игрушек больше, чем за всю свою короткую жизнь, и, по-видимому, их было слишком много, чтобы он мог полюбить их все; а может быть, он был уже слишком серьезным для таких игр, потому что занимался он не мишкой и не флейтой, а небольшой картонной коробкой: с кубиками, на которых были нарисованы буквы. Он раскладывал их с усталым и сосредоточенным видом; иногда он ошибался, и тогда его лицо искажала болезненная гримаса.
Войдя в палату, Роза-Анна увидела молоденькую сестру, которая с удивлением и жалостью устремила на нее красивые, прозрачно-голубые глаза. Под этим ясным взглядом Роза-Анна почувствовала себя очень старой и, сама того не замечая, поспешно прикрыла потрепанной сумочкой свой вздымавшийся под пальто живот.
Затем она подошла к кровати Даниэля — подошла на цыпочках, чтобы ее грубые башмаки не стучали по сверкающему паркету, а также потому, что эта больничная палата была такой белой, и в ней было столько окон, и все в ней выглядело таким веселым, несмотря на царившее здесь страдание.
Даниэль застенчиво улыбнулся и тут же снова начал раскладывать кубики.
Роза-Анна хотела было помочь ему, но он упрямо отвел ее руку.
— Не мешай, я сам составлю, — сказал он. — Ты помнишь, учитель показывал нам это в школе?
Он ходил в школу всего несколько недель. И тем не менее он сохранил о ней неизгладимое, постоянно мучившее его воспоминание. Особенно запомнились ему два-три дня, в сентябре, в самом начале занятий, когда он, гордый и счастливый, шел в школу с новеньким ранцем за спиной, благоразумно держась за руки Люсиль и Альбера. То, чему его тогда учили, запомнить было нетрудно; он очень хорошо все понимал, а когда возвращался из школы домой, самой большой для него радостью было вынуть букварь и показать Азарьюсу, что он узнал за день. А иногда он ходил по пятам за матерью в кухне, повторяя: «Ба, бе, би, бо, бу», чем очень скоро выводил ее из терпения. Она выговаривала ему беззлобно, но этого было вполне достаточно, чтобы он внезапно оказывался наедине со снедавшим его лихорадочным беспокойством.
Желание удержать в памяти эти новые, только что приобретенные и такие непрочные знания иногда будило его по ночам, и он растерянно и упрямо принимался бормотать отрывки из заданных уроков.
А утром у него шла носом кровь и болела голова. И Роза-Анна говорила: «Он еще слишком мал, чтобы ходить в школу». И, невзирая на его слезы, оставляла его дома.
Потом он опять просидел несколько недель дома, потому что шли сильные дожди, а у него не было галош. Когда же спустя некоторое время он снова сел за парту, то уже мало что понимал; в его знаниях образовались большие пробелы; а если учитель занимался с ним отдельно, у мальчика от усилия даже выступал пот на лбу. Это была не его вина — он делал все, что мог, стараясь наверстать упущенное. И через несколько дней он уже снова начинал понемножку видеть тот свет, который однажды так сильно поразил его.
Но вскоре на предместье хлынула волна холода. Всегда что-нибудь мешало ему ходить в школу. Роза-Анна тут же принялась шить: сначала зимнее пальто для Ивонны — первой ученицы класса, затем — курточку для Альбера. Очередь Даниэля пришла нескоро. Но вот наконец Роза-Анна начала мастерить и для него теплое пальтишко из какого-то старого тряпья. Когда же из-за других дел ей приходилось отрываться от шитья, недовольный Даниэль упорно ходил за ней по пятам, дергал тесемки ее передника и все время повторял: «Ну, кончай же мое пальто, мама!»
Ведь было так важно, чтобы пальто было закончено! По ночам шитье немного подвигалось вперед. Но днем пальто покоилось на столе, без рукавов, с белой наметкой. Даниэль ежеминутно примерял его, хотя Роза-Анна упрекала его и говорила:
— Ты же порвешь мне наметку, непоседа этакий!
Она не понимала, что он очень хочет поскорее вернуться в школу.
Но вот наконец у пальто появились и рукава. Даниэлю оно очень нравилось.
Однажды утром он тайком надел пальто и, забрав свои учебники, попытался незаметно улизнуть из дома. Но Роза-Анна поймала его на пороге. Она не рассердилась, а только расстроилась и сказала слабым виноватым голосом: «Я же не могу шить быстрее. У меня столько работы!»
Но в этот день она забросила все домашние дела. Она даже оставила в раковине груду грязной посуды и долго-долго шила. Вечером, когда в столовой все было убрано и все диваны-кровати раскрыты и застелены, она продолжала шить. Даниэль так и уснул под жужжанье швейной машинки, и ему снилось его новое пальто. Как ни странно, в сновидениях он видел его с красивым меховым воротником. А утром, открыв лихорадочно блестевшие глаза, он увидел свое пальто — оно висело на спинке стула, и у него был черный меховой воротник из волчьей шкуры, которую его мать получила в подарок к свадьбе!
Но в то утро он не пошел в школу. Взяв его за руку, Роза-Анна обнаружила, что у него жар. Много недель он пролежал на двух стульях, составленных вместе и заменявших ему кровать, а вокруг занимались своими делами его близкие, и на стуле возле него было положено теплое пальто — чтобы его утешить.
Когда он снова вернулся в школу — уже после рождественских каникул, — все было кончено. Он безнадежно отстал. Слова учителя оставались для него непонятными. Как он ни старался, все его усилия были бесполезны. Между ним и тем уроком, который у него спрашивали, словно стояло лицо учителя, строгое и как бы недовольное — не сердитое, но недовольное. Так нужно, так нужно было понравиться этому учителю! Но он ничего не мог сделать. Он сидел на задней парте, совсем один со своим горем. Он больше ничего не понимал, он больше ничего не знал. Из его слабой руки выскальзывал мел, выскальзывал карандаш. Он поднимал мел и принимался чертить бессмысленные знаки. Он даже не понимал, чего от него хотят.
И сейчас Роза-Анна увидела на его лице тревогу, В его глазах минутами отражался скрытый страх, какие-то неясные навязчивые мысли.
— Да оставь ты эти буквы, ты только напрасно утомляешься, — сказала она.
Но ребенок снова оттолкнул руку матери и, широко раскрывая глаза, терпеливо продолжал свое занятие. «Он весь в меня, — подумала Роза-Анна, — никогда он не отступит от начатого, от работы, от выполнения долга; до самого конца, во мраке, в одиночестве, он будет идти к поставленной цели».
Ей захотелось хотя бы помочь ему, упростить его задачу. Но когда она поднялась, коробка с кубиками соскользнула на пол.
Даниэль тут же позвал испуганным голосом:
— Дженни!
Роза-Анна удивленно обернулась. Молодая сестра, которую она заметила, когда входила в палату, ужа спешила на зов ребенка. «Ну вот, — подумала Роза-Анна, — теперь он обращается за помощью не ко мне, а к ней».
Сестра, подобрав кубики, сложила их в коробку и поставила ее возле ребенка так, чтобы он мог их достать; и потом, поправив одеяло, она спросила его, словно говоря со взрослым:
— All right now, Danny?[4]
И Даниэль улыбнулся своей медленной, застенчивой улыбкой. Эта Дженни, с гладко причесанными белокурыми волосами, Дженни, с серо-голубыми глазами и с ямочками на щеках, когда она улыбалась, Дженни, которая подбегала к нему, шурша белоснежным накрахмаленным халатом, — эта всегда терпеливая Дженни боролась вместе с ним, заслоняя собой суровое видение его школьных дней. Через всю его болезнь, через все его страдания до самого конца его так и будут сопровождать эти два видения; порой одно из них вытесняло в его сознании другое, но никогда ему не удавалось разобщить их и видеть перед собой только лицо доброты.
Роза-Анна почувствовала, что ее сын захвачен какими-то сложными переживаниями, которые лежали вне сферы ее обычных мыслей. И она долго молчала.
Когда сестра отошла, Роза-Анна быстро наклонилась над кроваткой. Ее вдруг охватил мучительный страх, что здесь не понимают ее ребенка. И тут же другое безотчетное чувство, холодное, как сталь, шевельнулось в ее сердце.
— Она говорит только по-английски? — спросила Роза-Анна с легким оттенком неприязни в голосе. — Когда тебе что-нибудь надо, ты можешь ее попросить?
— Да, — просто ответил Даниэль.
— А здесь нет других детей, которые говорили бы по-французски?
— Есть — вон тот, маленький.
Роза-Анна увидела совсем крошечного ребенка, который стоял в своей кроватке, ухватившись ручонками за перекладину.
— Вон тот?
— Да. Он мой друг.
— Но ведь он слишком мал и еще не говорит. А есть тут кто-нибудь, с кем ты разговариваешь?
— Да. Дженни.
— Но ведь она тебя не понимает?
— Она меня понимает.
Ом сделал легкое нетерпеливое движение. Его взгляд искал в глубине палаты улыбку Дженни. Она была для него живым воплощением нежности, неожиданно вошедшей в его жизнь, — они всегда будут понимать друг друга, хотя и говорят на разных языках.
Чтобы снова привлечь к себе его внимание, Роза-Анна постаралась найти какую-нибудь приятную тему; она заговорила с ним о поездке в деревню и спросила:
— Ну как, ты вдоволь полакомился в тот раз, когда мы ездили в деревню? Понравились тебе тянучка и сахарные палочки?
— Да.
И он действительно начал припоминать все самые хорошие минуты своей жизни, но лишь для того, чтобы мысленно соединить их с именем Дженни. Перед его глазами встала «деревня бабушки», как он называл Сен-Дени; он увидел голубизну в ветровом стекле, которая, наверное, и была «Ришелье», — это звучное, необычное и загадочное слово очень ему понравилось; и он сказал себе, что надо было бы привезти оттуда тянучки для Дженни. Мысли его мешались: он уже забыл, что не знал Дженни в те дни, когда ездил в деревню.
— Вы называете ее по имени? — внезапно спросила Роза-Анна.
— Да — Дженни, — ответил он, слегка задыхаясь. — Это Дженни.
Потом он снова начал подбирать буквы. Помолчав минуту, Роза-Анна спросила:
— А ты ее очень любишь?
— Конечно. Это Дженни.
— Но не больше, чем нас?
В усталом взгляде ребенка отразилось колебание.
— Нет.
Она все ждала, что он пожалуется на что-нибудь или попросится домой, но он был поглощен своим занятием; и тогда она после короткой паузы сама заговорила об этом:
— Тебе, наверное, хочется поскорее поправиться… вернуться домой… и опять ходить в школу, как прежде?
Он поднял на нее тусклые глаза, и она поспешила добавить:
— Может быть, у меня найдется немного денег, чтобы купить тебе новую шапочку, если хочешь, как раз под стать твоему красивому новому пальто. Ты ведь этого хотел больше всего, правда?
— Нет.
Но ей все же показалось, что на этот раз она задела чувствительную струнку; она вдруг вспомнила, как он старался быть похожим на взрослого мужчину в те дни, когда начал ходить в школу. Она еще ближе пододвинула свой стул к его кроватке.
— Ну, а чего тебе хочется больше всего?
Лицо Даниэля исказила мучительная усталость. Быть может, не по летам развитой ребенок смутно догадывался о глубокой бедности их семьи — о бедности, которая и его обязывала быть благоразумным; а может быть, он слишком устал, чтобы думать. Он обвел взглядом палату, улыбнулся малышу, который тянул к нему ручонки сквозь прутья кроватки; потом он пожал плечами и сказал:
— Ничего.
Наступило долгое молчание; и когда Роза-Анна вновь заговорила, голос ее звучал чуть-чуть грустно, чуть-чуть неуверенно — так обычно звучат голоса посетителей, разговаривающих через решетку тюремной камеры или в приемной монастыря.
— Какие у тебя хорошие игрушки? Кто их тебе дал?
— Дженни, — радостно проговорил он.
— Да нет же, это не Дженни. Игрушки больным детям приносят богатые дамы или другие дети, у которых их больше, чем им нужно.
— Нет, нет, нет! Это неправда! Это Дженни!
Розу-Анну поразил гнев, зазвучавший в его голосе.
Глаза Даниэля горели, губы подергивались. Это озадачило и расстроило ее. Затем, вспомнив слова доктора о том, что нервность и раздражительность — проявления его болезни, она постаралась успокоить мальчика.
— Жизель и Люсиль очень скучают по тебе, — сказала она.
Он кивнул головой, как бы говоря, что знает об этом, однако губы его только чуть-чуть разжались. Но все же после паузы он спросил об Ивонне. Однако когда мать пустилась в пространные и путаные объяснения, он, по-видимому, быстро потерял к разговору всякий интерес. Взгляд его стал блуждающим. Он думал о том, что здесь его тоже любят, что ему приятно быть среди маленьких друзей, которые не стараются втянуть его в утомительные игры. Более здоровые дети иногда играли в хоккей — перебрасывали шайбу от кровати к кровати. Конечно, это не был настоящий хоккей. Это была игра, придуманная Дженни, и Даниэль с удовольствием наблюдал за ней. Он очень любил эту игру, потому что, хотя неподвижно лежал в постели, Дженни говорила, что он — вратарь, и отмечала ему очки на черной доске.
Кроме того, здесь он жил в мире, созданном для детей. Здесь не было взрослых с их тревожными разговорами, которые мешали ему спать. Не было шепота по ночам вокруг его постели; случайно проснувшись, он не слышал разговора о деньгах, о плате за квартиру, о расходах — не слышал всех этих непонятных и страшных слов, которые дома обрушивались на него из темноты; а он мог теперь лежать, спокойно вытянувшись, сколько ему было угодно, потому что у него наконец-то была своя кроватка, которую не приходилось каждое утро складывать и убирать. Впервые в жизни у него было множество вещей, которые принадлежали только ему. И главное, никогда еще вокруг него не было столько окон, никогда он не видел столько солнца на стенах. Все это заставило его забыть даже о новом пальто, которое Дженни забрала сразу же, как только его привезли в больницу, и заперла вместе с обувью и другими его вещами. Никому, кроме Дженни, он не отдал бы своего любимого пальто.
Даниэль тяжело дышал; но вот, наконец, нужное слово было составлено, и он весело воскликнул:
— Смотри-ка, я написал…
Но Роза-Анна уже и сама увидела на одеяле имя «Дженни».
— А что-нибудь еще ты можешь написать? — спросила она, чувствуя комок в горле.
— Могу, — ласково ответил он. — Вот сейчас я напишу твое имя.
Через некоторое время на одеяле лежали три кубика, составлявшие слово «мам». Она хотела было помочь ему подобрать последнюю букву, но Даниэль внезапно рассердился.
— Не трогай, я сам. Учитель не хочет, чтобы ты помогала.
Глаза его широко раскрылись, в них был ужас, губы горько подергивались.
Сестра тут же очутилась у его изголовья.
— He’s getting tired. Maybe, tomorrow, you can stay longer[5].
Веки Розы-Анны задрожали. Она смутно поняла, что ее просят уйти. С покорностью, свойственной беднякам, особенно в чужом месте, она сразу же поднялась, но пошатнулась: теперь, после нескольких минут отдыха, все ее тело пронизала режущая боль. Она тяжело сделала два-три шага, ставя ногу на скользящий паркет всей подошвой. «Эта больница так далеко от нас, и все здесь другое», — думала она, тщетно пытаясь разобраться в своих путаных, неотвязных ощущениях. Но тут она заметила взгляд Дженни и опустила глаза, словно та могла прочесть ее мысли.
Она сделала еще несколько нерешительных шагов, и ее мучительное нежелание уходить воплотилось в отчаянное усилие вспомнить хоть какие-то английские слова. Она хотела узнать, как лечат Даниэля. Она хотела объяснить сестре особенности его характера, чтобы та могла лучше ухаживать за ним, раз уж ей самой приходится с ним расставаться. Но чем больше она думала, тем труднее ей было все это высказать. Она лишь слегка улыбнулась Дженни; потом в последний раз обернулась и увидела головку мальчика, утонувшую в подушках.
В ногах кровати висела дощечка, на которой она прочла: Name — Daniel Lacasse. Age — six years[6]. Затем следовало название болезни, которого она не смогла разобрать.
«Лейкемия, — сказал ей врач. — Болезненная вялость».
Это не особенно испугало ее — ведь он не добавил, что от этой болезни не выздоравливают.
И все же на пороге она вдруг ощутила тягостное предчувствие, пронзившее ее до глубины души. Она резко обернулась, охваченная отчаянным желанием взять малыша на руки и унести с собой. Давнее предубеждение против врачей и больниц, внушенное ей с детства разговорами матери, вновь пробудилось в ее сердце.
Дженни поправляла постель. Даниэль уже спокойно улыбался. Тогда она сделала неловкий прощальный жест, как делают дети, — прижав локоть к боку и помахав рукой. Этот жест очень позабавил малыша, уцепившегося пухлыми ручонками за прутья кроватки. Он весело засмеялся, и по подбородку у него потекли слюни.
Сумрак коридора окутал Розу-Анну. Она шла мелкими неуверенными шагами — было темно и она боялась не найти выхода. Одна мысль неотступно преследовала ее, словно зверь во мраке. У Даниэля есть все, что нужно, Никогда еще он не был таким счастливым. Она никак не могла этого понять и упорно доискивалась причины. И горький, ядовитый комок подступил к ее горлу. «Они отняли его у меня — и его тоже, — подумала она. — Ведь это нетрудно — отнять его у меня. Он же еще такой маленький!» Она шла, вся похолодев. Такое новое, такое неожиданное спокойствие Даниэля ничуть не радовало ее — нет, воспоминание об этом преследовало ее на лестнице, словно позор, которого она никогда не сможет забыть.
Как только она вышла из подъезда, волна света ударила ей в лицо. Ее пустые руки протянулись вперед, шаря в солнечных лучах, словно она чего-то искала. Никогда еще она не чувствовала себя до такой степени обездоленной.
Роза-Анна открыла сумку, чтобы вынуть оттуда трамвайный билет, она и в самом деле очень устала, и с изумлением обнаружила десятидолларовую бумажку, лежавшую за разорванной подкладкой. Но тут же она вспомнила: это было все, что ей удалось сберечь — «припрятать», как она говорила, — из тех двадцати долларов, которые она получила как пособие, когда Эжен ушел в армию. Эти деньги достались ей ценой таких огромных жертв, что она и подумать не могла о том, чтобы растратить их на еду или на одежду или даже купить на них какое-нибудь лакомство для Даниэля; она с неколебимой твердостью берегла их для переезда и так и называла: «квартирные деньги».
XIX
Выйдя из трамвая на улице Нотр-Дам, Роза-Анна увидела около ресторана «Две песенки» свежеотпечатанную сводку последних известий. Перед ней толпилась кучка мужчин и женщин. Поверх этих наклоненных голов и словно придавленных изумлением плеч Роза-Анна издалека увидела на желтом фоне бумаги крупные, бросающиеся в глаза буквы:
НЕМЦЫ ВТОРГЛИСЬ В НОРВЕГИЮ!
БОМБЫ НАД ОСЛО!
Она застыла на месте, ошеломленная, уставясь в пространство и дергая ремешок сумки. В первую минуту она даже не поняла, отчего это известие так ее потрясло. Потом ее мысли, уже привыкшие всюду сталкиваться с несчастьями, обратились к Эжену. Сама не зная почему, она твердо и бесповоротно поверила, что судьба ее сына связана с этой новостью. Она перечитала огромные буквы еще раз, слог за слогом, шевеля губами, почти произнося слова вслух. На слове «Норвегия» она остановилась, размышляя. Ей показалось, что эта далекая страна, местонахождение которой она представляла себе лишь весьма смутно, каким-то странным образом неразрывно связана с жизнью ее сына. Она ничего не сопоставляла, не обдумывала: она забыла даже, что Эжен в самом последнем письме уверял ее, будто останется в учебном лагере еще по меньшей мере полгода. Она видела только буквы, оповещавшие ее о близкой и страшной опасности. И эта женщина, никогда ничего не читавшая, кроме молитвенника, сделала то, что ей было совсем не свойственно. Она поспешно перешла улицу, роясь на ходу в своей сумочке, и, подойдя к продавцу газет на противоположном тротуаре, протянула ему три цента и тут же развернула свежую, еще пахнущую типографской краской газету, которую он ей подал. Прислонившись к стене какого-то магазина, она среди толчеи выходивших из фруктового отдела покупательниц прочла несколько строк, изо всех сил прижимая к себе сумку. Через минуту она машинально сложила газету и посмотрела перед собой горящими от гнева глазами. Она ненавидела этих немцев. Она, никогда в жизни не питавшая ненависти ни к кому на свете, возненавидела этот неведомый ей народ неумолимой ненавистью. Она ненавидела их не только за то, что они принесли ей это несчастье, но и за все страдания, которые они причиняли другим женщинам, таким же, как она сама.
Она механическим шагом направилась к улице Бодуэн. Внезапно она хорошо поняла этих женщин из дальних стран — всех этих полек, норвежек, чешек и словачек. Все они были такими же женщинами, как она сама. Простыми женщинами из народа. Труженицами. Теми, кто во все века видел, как уходят от них мужья и сыновья. Одна эпоха кончалась, начиналась другая; но всегда было одно и то же. Во все времена женщины прощально махали рукой или плакали, прикрывая лицо платком, а мужчины маршировали в строю. И ей вдруг показалось, что она идет по этой залитой солнцем вечереющей улице уже не одна, а в сомкнутой колонне, среди других женщин, среди тысяч и тысяч других женщин и слышит их вздохи — усталые вздохи тружениц, женщин из народа, доносящиеся до нее из глубины веков. Она сама принадлежала к числу тех, кому нечего защищать, кроме своего мужа и своих сыновей. К числу тех, кто не пел, когда уходили на войну. К числу тех, кто провожал уходящих солдат, не проливая слез, но в сердце своем проклиная войну.
И тем не менее сейчас она ненавидела немцев больше, чем войну. Это ощущение смущало ее. Она пыталась прогнать его, как отгоняют от себя дурные мысли. Кроме того, оно пугало ее потому, что каким-то образом заставляло согласиться в душе на ту жертву, которую от нее требовали. Она попыталась вновь овладеть собой, защитить себя от ненависти и от жалости. «Ведь мы в Канаде, — убеждала она себя, ускоряя шаг. — То, что происходит сейчас в других странах, конечно, очень важно, но ведь мы-то здесь ни при чем». Она ожесточенно отрекалась от печальной процессии, следовавшей за ней. Но как она ни ускоряла шаг, ей не удавалось убежать от нее. Ее, казалось, окружила несметная толпа, стекавшаяся отовсюду, из прошлого, из настоящего, из далеких и близких мест: все новые и новые женщины возникали вокруг нее, и все они были такими же, как она. Но они, эти чужие, несли бремя страданий, еще более тяжкое, чем ее собственное. Они оплакивали свои разрушенные очаги; они шли к ней и, узнавая ее, с мольбой простирали к ней руки. Ибо во все времена все женщины в горе узнают друг друга. Они умоляли ее еле слышно, воздевая свои руки, словно просили хоть чем-нибудь помочь им. Роза-Анна шла торопливой походкой. И в ее душе, в душе простой женщины, происходила жестокая борьба. Она видела отчаяние своих сестер, она смотрела на него без содрогания, она встречала его лицом к лицу и понимала весь его ужас; но потом она бросила на весы судьбу своего сына, и эта судьба перевесила. Эжен представлялся ей сейчас таким же покинутым, таким же беспомощным, как и Даниэль. Это было одно и то же: она видела, что одинаково нужна обоим. И вместе с пробудившимся инстинктом хранительницы очага к ней вернулась ее энергия, она вновь обрела свою цель и отбросила все другие мысли.
Немного не доехав до улицы Бодуэн, Роза-Анна сошла с трамвая у «Пятнадцати центов» — она собиралась поговорить с Флорентиной о Даниэле, а заодно и купить в бакалее на улице Нотр-Дам кое-что для ужина. Но она забыла обо всем этом. С решительным видом, крепко сжав руки, она направилась прямо к дому, встревоженная, словно там ее уже подстерегала какая-то новая угроза, которую любой ценой надо устранить, отвести, обуздать или даже предотвратить, если еще не будет поздно.
Но, увидев свой дом, она ощутила нечто вроде успокоения, и ее губы даже тронула слабая улыбка.
Она поспешно вошла в кухню, на ходу снимая пальто. Даже среди всех треволнений она не забывала, что час уже поздний и пора готовить ужин. Ослепленная ярким светом улицы, она в первую минуту различила в полумраке только привычные очертания стола, стульев, буфета. Пройдя в столовую, она повесила пальто в стенной шкаф; затем, надев фартук поверх своего лучшего платья, которое ей уже некогда было снимать, вернулась на кухню. Она уже засучила рукава выше локтей и подходила к плите, как вдруг заметила Эжена, который сидел за столом и с улыбкой смотрел на нее.
Роза-Анна протянула к нему дрожащие руки. Потом, не в силах от волнения произнести ни слова, она немного отступила, чтобы оглядеть его с головы до ног. Правда, вдруг увидев его, она была не очень уж ошеломлена. Она поняла, почему торопилась домой и так тревожилась, — именно из-за предчувствия, что он здесь и что она ему нужна. И когда он немного позже высказал ей свою просьбу, то, хотя эта просьба никак не была связана с ее страхами за него, она нисколько не удивилась. Она дошла уже до того, что вопреки своему обычному здравому смыслу готова была исполнить даже самую неразумную просьбу кого-нибудь из своих детей.
Дети играли на улице. Роза-Анна была наедине со своим сыном, но, боясь, что кто-нибудь им помешает, она поспешно повела его в столовую. Кроме того, ей казалось, что этого красивого юношу в военной форме, румяного от упражнений на свежем воздухе, так непохожего на того Эжена, которого она помнила, следует принять по всем правилам гостеприимства.
— Дай же мне поглядеть на тебя как следует! — говорила она, ведя его в самую светлую комнату их квартиры и оборачиваясь на каждом шагу, чтобы посмотреть на него. В ее голосе невольно звучала гордость за сына, такого статного, посвежевшего. Но если бы она разобралась в своих чувствах до конца, то с удивлением обнаружила бы в них некую толику и суетной гордыни, и смущения оттого, что Эжен приехал как раз тогда, когда она не была готова его принять, и застал в доме полный беспорядок.
Как только они присели рядом на кожаный диван, ею снова овладел страх. Несмотря на цветущий вид, Эжен выглядел озабоченным. И она решила было, что он приехал домой без разрешения начальства.
— Наверное, тебя хотели послать туда, — сказала она с горечью, указывая на смятую газету, которую бросила на буфет.
Эжен рассмеялся. Но смех его звучал вяло, деланно и невесело, скорее даже печально, и он все время приглаживал рукой свои густые волнистые волосы.
— Да что ты, мать, вовсе нет! Ты все такая же, вечно что-то выдумываешь!
Наступило молчание. Эжен, в свою очередь, пытался завязать разговор. Он рассказал кое-какие подробности о жизни в лагерях; уверял, что очень доволен. Потом он замолчал, обдумывая, как бы ему перейти к самому важному.
Роза-Анна продолжала расспрашивать его. Хорошо ли кормят в армии? Очень ли он там скучает? С кем подружился? Эжен отвечал рассеянно, улыбаясь иногда наивности ее вопросов, и с недовольным видом оглядывался по сторонам. Господи, до чего же все тут убого и мрачно! Он вспомнил, как мать сама ставила его маленькую раскладушку и стелила тонкий матрас, когда он хотел лечь спать пораньше; как она заботливо оставляла для него ужин в духовке, когда он до поздней ночи шатался по улицам предместья. Он вспомнил ее белое, осунувшееся лицо в тот день, когда она пошла в полицейский участок, чтобы защитить его и вымолить ему прощенье; он вернул украденный велосипед, но ей пришлось еще немало похлопотать, чтобы избавить его от суда и наказания. Он вспомнил даже маленькую выцветшую шляпку, которую она тогда носила, и ее лучшее платье — воскресное платье, которое она надела в тот день, — ей хотелось произвести благоприятное впечатление и вызвать сочувствие. Ах, как все эти воспоминания были сейчас некстати! Он предпочел бы вспомнить какую-нибудь несправедливость матери, какую-нибудь неоправданную вспышку гнева — тогда ему было бы легче высказать свою просьбу.
Он понимал, что каждая проведенная здесь минута оборачивается против него. Заботы, неприятности, страдания матери снова навалятся на него, придавят своей тяжестью, опутают и парализуют, если только он еще задержится здесь, в этом унылом доме. Да, этот дом, овеянный воспоминаниями детства, внушал ему страх. И бедность, явная, неприкрытая бедность, которая смотрела тут из каждого угла. И мужество, таинственные знаки которого неизгладимо запечатлелись на мрачных стенах. Он так давно уже хотел бежать отсюда! И он давно уже бежал. Бежал, чтобы никогда сюда не возвращаться! Распахнуть дверь, броситься очертя голову в кипенье жизни, которая уже сегодня вечером, быть может, приготовила для него пьянящий напиток забвения!
Он поднялся. Кровь застучала у него в висках. Перед его глазами всплыло лицо молодой девушки. Он сделал несколько шагов по комнате; он потоптался на месте, словно стараясь уничтожить свои воспоминания. Потом круто повернулся к матери. Глаза его стали жесткими; он сделал такое усилие улыбнуться, что лицо его исказилось. И, прикрыв лицо рукой, он сказал смиренным тоном, каким всегда разговаривал с матерью:
— Мать, ты ведь получила двадцать долларов в начале месяца?
Она кивнула, сидя на своем обычном месте в уголке дивана.
— Мне удалось сберечь десять долларов, — призналась она. — Отец пока без работы… Он рассчитывает скоро устроиться… но на всякий случай я приберегаю эти деньги. Чтобы заплатить хоть за первый месяц… Я тут как раз присмотрела неплохой домик, — продолжала она доверительным тоном. — Если мы решим его снять, твои десять долларов пойдут в задаток.
Слова «твои десять долларов» она произнесла с легкой дрожью в голосе, с особым уважением и благодарностью — ведь она так долго не позволяла себе включать их в свои расчеты!
— Ты понимаешь, — добавила она, — жилье — это первое дело. Все другое как-нибудь приложится. Когда есть крыша над головой, тогда уж можно думать и об остальном.
Она деловито и подробно посвящала его в свои намерения, как будто теперь уже была обязана отдавать ему отчет в том, что она собирается делать с деньгами, которые он будет вносить в семью.
— Будь уверен, — вскричала она с горячностью, — я прикоснусь к ним только в случае крайней необходимости.
Он отвернулся. Ему было тяжело слушать все эти разговоры о найме квартиры, о бедности, о нужде. Да заговорят ли они когда-нибудь о чем-либо другом? Разве для этого он пришел сюда? Для того, чтобы выслушивать бесконечные жалобы? Вон там, за окном, торопливо шли люди — они почти бежали отсюда, к более оживленным улицам. Другие в эту минуту заходили в кино. Молодые девушки спешили на свиданье. На улицах была музыка, на улицах была молодость; и все это ждало его.
Нервным движением он вынул из кармана портсигар, украшенный его инициалами, и, несмотря на свое волнение, немножко полюбовался им, как любовался всякий раз, когда его взгляд падал на эту дорогую вещицу.
Он сделал глубокую затяжку, злобно и обеспокоенно глядя вокруг из-под сдвинутых бровей; но тут же бросил сигарету и раздавил ее каблуком. Встав у окна спиной к матери, он резко сказал:
— Я совсем на мели, мать… Ты не могла бы дать мне несколько долларов? Дорога и всякие там расходы, сама понимаешь…
Худощавая фигура Эжена четко рисовалась на фоне окна, освещенного заходящим солнцем. Роза-Анна вздрогнула. Ее сердце рванулось к нему, как в те времена, когда он еще мальчишкой выпрашивал у нее двадцать центов, вот так же, как сейчас, отвернувшись от нее и глядя в окно на прохожих.
— Конечно, — сказала она, — но у меня нет ничего, кроме этих десяти долларов, ну, и еще кое-какая мелочь. Может быть, я наберу тебе пятьдесят центов…
Глаза Эжена сверкнули. Он быстро подошел к ней.
— Да нет, ты себя не обездоливай… Дай мне эту десятку, я принесу тебе сдачу.
Эта просьба резанула ее по сердцу словно ножом. Страшное сомнение охватило ее: что, если Эжен так и уйдет с этими десятью долларами — ведь он такой слабохарактерный и совсем не знает цены деньгам! В отчаянии она уже видела, как теряют смысл все ее долгие и тяжкие расчеты. Но она быстро овладела собой. Нельзя же сразу думать такое! Эжен зайдет в магазин на углу, а потом принесет ей оставшиеся деньги.
Она выдвинула ящик буфета, где держала сумочку, и вынула совсем новенькую, хрустящую бумажку.
— В конце концов, это твои деньги, — сказала она. — Если бы ты не пошел в армию, их бы у нас не было… Только, если ты сможешь потратить не все… Эжен…
На этот раз она выдержала его взгляд и с мольбой протянула к нему руки.
Он поспешно взял деньги, стремясь скорее уйти от невысказанных упреков, которые больно его ранили.
— Не беспокойся, — раздраженно сказал он, — я тебе все отдам, я же скоро получу жалованье. Я отдам тебе даже больше.
С деньгами в кармане он сразу осмелел. Да, в этом доме все надо изменить. Пора уж ему взять бразды правления в свои руки. Отец ничего не сумел сделать, чтобы спасти семью. Ну что ж, теперь он примет эту обязанность на себя.
— Знаешь, мать, все наши невзгоды позади, — сказал он. — Мне, наверное, скоро дадут нашивки, и тогда ты будешь получать в месяц уже не двадцать долларов, вот увидишь. Тебе будет на что жить. Не мыкаться же тебе весь свой век. Мы, твои дети, о тебе позаботимся…
К нему вернулось хорошее настроение; он так увлекся этими прекрасными планами, что кровь прилила к его лицу, а глаза ярко заблестели. Наклонившись к матери, он поцеловал ее в щеку и ласково пробормотал:
— Ну, чего бы тебе хотелось? Что ты хочешь, чтобы я тебе купил? Платье? Шляпу?
Она улыбнулась жалкой, смиренной улыбкой и, давно уже излечившись от пустых иллюзий, вся во власти навязчивой идеи, ответила, сдвинув брови, мягко, но упрямо:
— Понимаешь, твои деньги для квартиры.
И уронила руки — в этом жесте была скорее решимость, чем безнадежность.
Эжен быстро надел кепи на курчавую голову и повернулся к маленькому зеркалу в буфете.
— Ты даже не поужинаешь с нами? — испуганно вскричала Роза-Анна.
Лицо юноши стало печальным и виноватым. Мягкие, чувственные, почти женские губы искривились. Его снова охватили грусть и смятение.
— Понимаешь, я… мне нужно кое с кем повидаться… но завтра…
И он попятился, стараясь избежать растерянного взгляда матери.
— Мне нужно кое с кем повидаться… но вот потом…
Он уже достиг двери. Он уже протянул руку, чтобы отворить ее, как вдруг в дом ворвалась шумная гурьба детей.
— Жэн! — кричали они.
Они повисли на нем, цепляясь за руки, за ноги. Люсиль и Альбер принялись шарить в карманах молодого человека, а крошка Жизель дергала его за рукав. Она спросила, шепелявя:
— Ты плинес мне подалок, Зэн?
Филипп остановился на пороге, устремив на брата вызывающий и завистливый взгляд.
— Дай мне пару сигарет, если у тебя их много.
Эжен смеялся, явно польщенный таким приемом. Даже самое наивное восхищение было ему приятно.
— Получай, попрошайка!
Он бросил Филиппу только что распечатанную пачку сигарет. Затем вынул пригоршню мелких серебряных монет и, не замечая, что мать неодобрительно поджала губы, начал подбрасывать их одну за другой в воздух. Люсиль и Альбер хватали их на лету или же заползали на четвереньках под стулья, под стол, вырывая монетки друг у друга.
Жизель, не такая проворная, захныкала:
— У меня нет, Зэн!
И, топая ножкой, потребовала резким крикливым голоском:
— Дай Зеле!
Взяв ее на руки, Эжен вытер ей нос большим платком цвета хаки, а затем вложил блестящую новенькую монету в ее пухлые ручонки, которые даже задрожали от удовольствия.
— На, это только тебе, — сказал он.
В доме воцарилась бурная радость и шумное ликование. Дети пересчитывали деньги, толкались и уже готовы были тайком дать друг другу тычка. Потом пораженная и расстроенная Роза-Анна увидела, как они побежали к магазину на углу. Следом за ними выскользнул из дома и Эжен.
Оставшись наедине с Жизелью, которая залезла под стул и тихонько напевала, Роза-Анна оперлась о стол и позволила себе на мгновение погрузиться в мучительную тоску. Ей было больно, до слез больно смотреть, как все эти деньги выбрасываются на ветер.
XX
Едва выйдя из дома, Эжен вскинул голову и, слегка посвистывая, направился к улице Нотр-Дам. Повернув за угол улицы Бодуэн, он глубоко вздохнул, и губы его тронула хитрая и довольная улыбка. Лихорадочно сунув руку в карман, он проверил, лежит ли там новенькая десятидолларовая бумажка, затем развернул зажатый в руке листок и вновь прочел имя и номер телефона. И перед ним тут же всплыло лицо: очень красные губы, смелый насмешливый взгляд, небольшой берет на длинных, слегка растрепанных волосах.
Кровь прилила к его щекам. Он снова увидел вокзал, толпы солдат и молодую девушку, которая, проходя мимо, улыбнулась ему — чуть заметно, одними глазами, слегка приподняв веки с густыми черными ресницами. Минуту спустя он уже сидел возле нее; он осмелился спросить, как ее зовут. Она скрестила длинные тонкие ноги и негромко рассмеялась: «А ты получил у матери разрешение бродить одному?»
Ну, что ж, он докажет ей, что он вовсе не такое ничтожество и молокосос, как она думает. Он нервно смял листок, вырванный из записной книжки. Только бы она не обманула его, только бы это был действительно номер ее телефона!
Он ускорил шаг, вошел в табачную лавку и бросился к телефонной кабине. Прерывисто дыша, он набрал нужный номер, услышал незнакомый голос и растерялся. Его веки нервно замигали. На вопрос, кто ему нужен, он пробормотал: «Иветта». От страха, как бы его не начали расспрашивать подробнее, он даже задрожал, и капли пота выступили у него на лбу. Секунда молчания, затем в трубке зазвенел пронзительный голос, который он сразу вспомнил. Он вытер лицо рукавом мундира. Он испытал такое облегчение, что у него даже вырвался нервный смешок.
Потом он назвал себя и сразу же спросил:
— Ну как, встретимся сегодня вечером?
Молчание. Короткий смех. И наконец:
— Идет.
— А где? — спросил он, чувствуя, что горло его сжимает спазма.
Она назвала место и час свидания. Эжен ответил севшим голосом, почти шепотом. Он повесил трубку и постоял минуту, опершись локтем на телефон, затем вышел с пылающими щеками, воровато озираясь по сторонам.
Уже на улице он сообразил, что до встречи с Иветтой у него остается целых два часа. Лицо его исказила досадливая гримаса. Он остановился у края тротуара, обдумывая, как бы скрасить ожидание. Перед ним возникло печальное, утомленное лицо матери. Он сжал зубы и, чтобы отогнать от себя это наваждение, пошел наугад по улицам. Вскоре он очутился перед ресторанчиком «Две песенки», вошел туда и спросил пачку сигарет.
Сэм Латур слушал последние известия, наклонившись над небольшим радиоприемником, который стоял на полке среди рекламных плакатов. Он подошел к прилавку, ворча:
— Черт побери, в Норвегии дела плохи!
По его голосу было слышно, что он сильно волнуется.
— И когда только их остановят, этих проклятых бошей? — недоумевающе и растерянно спросил он.
— Подождите, скоро туда подоспеем мы! — вскричал Эжен.
Потом он лихо похрустел десятидолларовой бумажкой и бросил ее на прилавок.
— Черт возьми, парень! У тебя завелись денежки! Так и швыряешь десятками! — воскликнул Сэм.
— Там, откуда она взялась, найдутся и другие, — заявил Эжен.
Держа сигарету в зубах, он небрежно забрал сдачу и рассовал деньги по карманам.
— Вот как? — продолжал Сэм Латур. — Ну, что ж, молодой Лакасс, дела у тебя, как видно, пошли на лад?
— Давно бы уж пора, — ответил Эжен; он прислонился к прилавку, опершись локтем на гладкое дерево и скрестив ноги, — он стал лицом к залу в той самой позе, в какой тут нередко стоял до него Азарьюс.
Его глаза под низким лбом, обрамленным густыми курчавыми волосами, поблескивали самодовольством. Голубые, как у Азарьюса, но посаженные ближе к тонкому короткому носу и не такие ясные и искренние, они придавали его лицу совсем другое выражение. Насколько взгляд отца был восторженным и приветливым, настолько бегающий взгляд сына был скрытным и уклончивым.
— Вот как, — повторил Сэм Латур.
В ресторан заглянул случайный прохожий, затем двое рабочих остановились у дверей и, услыхав, что передают последние известия, вошли в зал. Время от времени Сэм покачивал головой или старался выразить свои чувства, пожимая широкими плечами и дергая пояс решительным и воинственным движением. Он сильно изменился с недавних пор, когда по всякому пустячному поводу затевал споры с Азарьюсом Лакассом. Его равнодушие уступило место оскорбленному недоумению. Он слушал рассказ о вторжении в Осло, опустив голову и нервно жуя сигару. Добродушный и мирный человек, он, если его что-нибудь затрагивало за живое, совершенно по-детски впадал в безудержный гнев. Он был не способен кривить душой, и всякая подлость возмущала его даже больше, чем несправедливость.
Когда передача кончилась, в зале наступила глубокая тишина. Сэм выключил радио, и ресторан сразу же наполнился гулом взволнованных голосов.
— Вот гадюки! — вскричал хозяин.
Он подошел к прилавку, чтобы обслужить покупателей, наклонив голову, как разъяренный бык.
— Тайком пробраться в чужую страну в одежде тамошних жителей и все там захватить, не дав людям опомниться! Вот негодяи, вот предатели!
Он отпускал пачки сигарет, пакетики жевательной резинки, бутылки с лимонадом, стуча тяжелой ладонью по кассе и изрыгая поток проклятий.
Случайные посетители не спешили уходить. Одни, остановясь у дверей, пробегали глазами вечерние газеты, чтобы узнать побольше подробностей. Другие рассматривали карту Европы, которую Сэм повесил на стене в зале.
— Норвегия… — произнес один. — Там живут хорошие люди. Они никогда не хотели войны.
— Не больше, чем мы, — добавил рабочий, державший под мышкой сумку для завтрака.
— Это ведь развитая и цивилизованная страна, — заметил третий, который казался более образованным.
— Однако же и там нашлись предатели, — загремел Сэм.
— Предатели-то, видно, везде есть, — возразил первый рабочий. — И все-таки странно — как это можно продать свою страну…
— Что говорить, — перебил его Латур. — Есть такие, которые за почести, за деньги продадут и родную мать!
Крепко стискивая зубы, он дергал шеей в тесном воротничке, словно лошадь в хомуте.
— Интересно, удастся ли кому-нибудь их остановить, — проговорил какой-то тщедушный человечек, поднимая глаза от газеты.
При этих словах Эжен выпрямился, с решительным видом вскинул голову и вытянул руки по швам. От него не ускользнуло, что эти простые люди, такие степенные и серьезные, время от времени поглядывают на него с молчаливым одобрением. Он тоже был сильно взволнован и сразу возгордился: ведь в их глазах он был воплощением тех доблестных молодых воинов, на которых все пожилые и старые, все слабые и нерешительные возлагают свои надежды. Да, он — защитник всех гонимых, слабых женщин и стариков. Он — мститель оскорбленного общества. Глаза его вспыхнули воинственным огнем.
— Будьте уверены, мы их остановим, — бросил он. — Вот так вот…
Он выбросил руку вперед, словно вонзая штык в стену, с напряженным лицом и сжатыми губами, как будто ему приходилось преодолевать сильное сопротивление. Потом он издал сквозь зубы свистящий звук, отдернул руки и окинул всех присутствующих взглядом, выражавшим глубокое самодовольство.
— Так их! — сказал Сэм.
— Так их! — повторил Эжен.
Дверь отворилась. На пороге появился Леон Буавер в новом костюме, с аккуратно сложенной газетой под мышкой; он слегка помедлил, прежде чем войти, осторожно прислушиваясь с напряженным видом. И долго вытирал ноги о циновку у двери.
Эжен встретил его насмешливым взглядом.
— А ты все еще в штатском?
Леон Буавер смешался. Пять недель назад ему удалось устроиться счетоводом в одной конторе неподалеку. Страх перед воинской повинностью терзал его постоянно, непрерывно, мучил даже во сне. К кошмарам, которые порождала в его воображении война — тела, пронзенные штыками, люди, преследовавшие его, чтобы силой вложить в его руки оружие, — прибавилась теперь боязнь лишиться своей скромной работы — первой удачи в его жизни, удачи, которой он столько лет добивался с неослабевающим мужеством. Его лицо покрыла мертвенная бледность.
— Кто не может найти работу, тот всегда идет в армию, — бросил он с презрительным видом.
Эжен, вразвалку расхаживая по комнате, вызывающе улыбнулся.
— Скоро начнется мобилизация, — заявил он. — Уж я-то знаю, я ведь сам в армии. У тебя, значит, остается одна надежда — спрятаться в лесу… Или жениться, — добавил он насмешливым тоном.
Он погасил сигарету о прилавок.
— А кроме того, учти, — добавил он, — только те, кто пошел добровольцем, получат после войны хорошие места.
И развязной походкой, раскачиваясь всем своим худым телом, он вышел из ресторана.
Воздух улицы показался ему очень приятным. Эжен словно парил над землей, он чувствовал себя хозяином своей судьбы. Довольно колебаний, довольно угрызений совести! «Да, — думал он, — жизнь должна вознаградить меня за то, что я рискую». Легко и размашисто шагая, он подошел к трамвайной остановке и локтями проложил себе путь сквозь суетящуюся толпу. Ему показалось, что усталые пассажиры посматривают на него с интересом. Его радость все росла и росла. И требования к жизни приняли более определенную форму. «Нас не должны были бы заставлять платить, — думал он. — Это просто позор. Ведь только благодаря нам они живут так спокойно, все эти люди».
Ожидание на Плас д’Арм у памятника Мэзонневу[7] показалось ему невыносимым. Нервы его были взвинчены, он курил сигарету за сигаретой. Иветта запаздывала. Взглянув на циферблат часов на небоскребе Олдред, он увидел, что она заставляет его ждать уже десять минут. А ведь жизнь должна была дать ему молодость, и опьянение, и развлечения — и дать сейчас же, немедленно. Он начал ходить взад и вперед и внезапно отчетливо вспомнил лицо матери, когда она протянула ему десятидолларовую бумажку.
Он сунул руку в карман и пересчитал, сколько денег у него осталось. И в душе его шевельнулось желание вернуться домой.
— Мама! — проговорил он вполголоса, охваченный смутной нежностью и раздосадованный, так сильно раздосадованный, что ему захотелось в отместку утешить мать и снова завоевать ее восхищение. Он представил себе, как возвращает ей оставшиеся деньги и она, успокоенная и такая гордая, вновь прячет их туда, где они лежали. При этом его приятно волновало даже не столько радость матери, сколько его собственная рать во всем этом, его великодушие и мысль, что мать, конечно, упрекнет себя за свое недоверие к нему. «Мама-то боялась, что я истрачу все», — говорил он себе. Он опять и опять растроганно представлял себе всю сцену, словно уже осуществлял свое доброе намерение, и это опьяняло его и возвышало в собственных глазах. Но тут открылись двери трамвая, пришедшего из восточной части города, и Эжен увидел, как из него вышла Иветта в длинном просторном пальто, открывавшем ее стройные тонкие ноги и узкое ярко-красное платье, которое сразу бросилось ему в глаза. Образ Розы-Анны отступил в самый дальний уголок его сознания. Эжен бросил сигарету и, посвистывая, пошел через площадь навстречу этому яркому, узкому, пламенеющему платью.
XXI
Флорентина стала равнодушна к волнениям весны. Миновал апрель, в предместье робко заглянул май, и старые деревья, стиснутые асфальтом, вновь зазеленели, но Флорентина, совершая свой каждодневный путь между магазином и домом, не замечала обновленного облика улиц. Но сегодня вечером, выйдя из магазина, она невольно остановилась, очарованная необычной мягкостью, которая чувствовалась в воздухе, и даже удивленная, словно она внезапно увидела перемены, происшедшие, пока ее здесь не было, и потому совершенно для нее неожиданные. Солнце, несмотря на поздний час, ярко освещало улицу Нотр-Дам. Окна, распахнутые над сапожными мастерскими, фруктовыми и мелочными лавочками, позволяли заглянуть в глубину комнат, откуда доносились звуки обычной повседневной жизни, сливавшиеся с грохотом уличного потока, а после того как проходил поезд, тяжелый грузовик или трамвай, эти комнаты вбирали доносившийся издалека перезвон колоколов.
Перед украшенным башенкой маленьким вокзалом Сент-Анри кое-где виднелись венчики чахлых цветов. А далеко в вышине, над колокольнями, пронзавшими толстый слой дыма, простирались зеленые склоны горы, где ветви деревьев, покрытые легкой, еще бледной листвой, сплетались в трепещущую, словно кружевную сеть. Да, повсюду действительно цвела весна, а в предместье весна уже поблекла, в ней чувствовалась угроза пыли и тяжелой жары. Флорентина вдруг осознала бег времени; о нем больше нельзя было забывать; с ним приходилось считаться. И тогда страх забился в ней, как неистовый бубенец, он больше не умолкал и звенел громче всех городских колоколов — ее страх, который подкрадывался к ней уже давно, уже много дней, быть может, с того воскресного вечера ее падения.
Удастся ли ей унять его? Это было так же невозможно, как заставить умолкнуть большие колокола, слитный гул которых колыхался над крышами. Она уже прекрасно понимала, что не может подавить непрерывный вопль тревоги силой разума. Необходимо что-то предпринять. Сегодня же. Но что именно? Вот уже несколько дней ее назойливо преследовала одна мысль — сообщить обо всем Жану. Сначала она отбросила ее, потому что это значило бы признать, что случилось непоправимое, но теперь та же мысль снова завладела ею. Машинально она направилась к улице Сент-Амбруаз.
У нее не было определенного плана. Она не думала о том, что все ее попытки повидаться с Жаном до сих пор оказывались тщетными. Подавленная горем, теряя голову от страха, она утешала себя мыслью, что ей еще сегодня, конечно же, представится счастливый случай, еще сегодня совершится чудо — она встретит Жана. Но даже если бы ее и не поддерживала такая надежда, она все равно отправилась бы в этот уголок города, с которым была связана жизнь Жана; сломленная и разбитая, она повиновалась лишь какой-то таинственной интуиции.
С улицы Этуотер Флорентина свернула вниз, к каналу. Трактиры, мимо которых она проходила, обдавали ее острыми ароматами, а дешевые бары-пятиминутки, где подкреплялись продавцы газет — изможденные еврейские мальчишки, извергали невыносимый запах подгоревшего масла. Поворачивая на улицу Сент-Эмили, она вдруг увидела давно знакомый ей фургон торговца табаком, деревенского деда, у которого Азарьюс частенько покупал его крепкий едкий товар; затем перед ней открылась вся рыночная площадь, где беспрерывно сновали толпы крестьян. Флорентина увидела множество разнообразных цветов, расставленных на шатких лотках под лучами солнца; пенные зеленые волны папоротников колыхались в наполненном сажей воздухе; бледные нарциссы клонились при малейшем дуновении ветра; пламенели красные тюльпаны. А за этим нарядным цветением Флорентина увидела на столах ровные горки круглых с гладкой кожицей яблок, синих с лиловатыми прожилками луковиц, свежие листья латука, на которых еще блестели капли воды… Флорентина отвернулась — это празднество красок, это обилие сильных запахов, которым она теперь уже не могла больше радоваться, причинило ей боль. Да, весна мстила ей за то, что она хотела остаться равнодушной! Теперь она выставляла перед ней напоказ все свои богатства. Она обдавала ее живым дыханием теплиц, кленовых рощ, покорных зверюшек, сидевших в клетках. Густой золотистый сироп, пахучие головы кленового сахара, тушки зайцев с пятнами крови на шерстке, подвешенные за задние лапы, тревожное кудахтанье кур, чьи гребешки мелькали в щелях скрывавших их ящиков, и круглый испуганный глаз той, которую бросали на весы; все это говорило Флорентине, что жизнь добра к одним, но сурова к другим и что никому не дано избегнуть подчинения этому беспощадному закону.
Флорентина ускорила шаг, словно желая поскорее уйти от рыночного оживления, среди которого она чувствовала себя чужой.
Прежде она субботними вечерами нередко приходила сюда вместе с отцом за покупками… Она была еще совсем маленькой, и ей нравилось самой нести большую сумку с провизией. Отец останавливался поболтать с той вон рослой крестьянкой, которая и тогда еще — смутно вспомнилось Флорентине — носила эту же самую старую, выгоревшую на солнце мужскую фуфайку. Они покупали у нее корнишоны в уксусе, Азарьюс их очень любил. Порой они заходили в рыбную лавку и выбирали живую рыбу. Отец указывал ей налима, карпа и, видя, что она упорно не хочет трогать рыб, забавлялся, уговаривая ее прикоснуться маленькими пальчиками к длинному угрю, плававшему в рыбном садке. О, как далеки они были от нее теперь — эти субботние вечера на рынке! И как глупо сейчас вспоминать о них! А все-таки она, конечно, была счастливым, балованным ребенком. Многие дети богатых родителей были лишены той заботливости, какой была окружена в детстве она: какие внушительные наставления делала Роза-Анна, отпуская дочь с отцом! «Повнимательнее следи за маленькой», — повторяла она бесчисленное множество раз (Флорентину называли «маленькой» до двенадцатилетнего возраста), и ручонка девочки доверчиво покоилась в руке отца. А долгие беседы, которые отец вел с нею, пока они шли! И возникавшее между ними заговорщицкое доверие, когда он, чуть покрепче сжимая ее руку в своей сильной и мягкой ладони, говорил: «Наша мать сказала, что ей не нужна сметана, ну все-таки давай мы ее купим, а завтра посмотрим, с каким удовольствием она будет есть суп!»
Может быть, если бы она продолжала идти тем же путем, она и сейчас была бы счастлива? Но нет, что за глупости! Она сделала выбор и знала теперь, что не могла поступать по-иному, как не могла не дышать. И даже сейчас, если бы можно было начать все сначала…
Вернувшись к исходной точке своих раздумий, Флорентина стиснула зубы с такой силой, что ее лицо исказилось. Никакие размышления ей не помогут! Что в них толку? И ей даже захотелось выкрикнуть это громко, на всю улицу — так разозлило ее вдруг нахлынувшее смутное умиление.
Она шла теперь быстрым шагом, поджав губы, глядя прямо перед собой остановившимся взглядом, и искала, упорно искала любой выход, отказываясь смириться, стараясь ухватиться за какую-нибудь надежду, которая спасла бы ее от объявшего ее ужаса. Ничто другое сейчас уже не имело значения. Главное было — избавиться от этого ужаса.
Продолжая спускаться к каналу, она услышала лязг цепей и короткие, отрывистые вопли сирены. В нижней части рыночной площади, там, где вздымается желтая зубчатая башня павильона съестных припасов, разводной мост начал отходить, отделяясь от мостовой улицы Сент-Амбруаз, и Флорентина увидела, как между двумя рядами неподвижно стоявших легковых автомобилей и грузовиков плавно скользит дымовая труба грузового судна.
Она замерла — не потому, что ее заинтересовало это давно знакомое ей зрелище, которое она всегда считала скучным, а потому, что она вдруг по-новому осознала смысл жизни и это на мгновение ошеломило ее. Ни одно из многих проплывавших здесь судов не производило на нее ни малейшего впечатления, но этот пароход, неторопливо скользивший между барьерами, почему-то приковал к себе ее взгляд, словно она никогда раньше не видела ничего подобного.
Это было грузовое судно с серым корпусом, с низкими помятыми бортами, на которых еще виднелись пятна ила, и с высокой мачтой; при взгляде на него вспоминались туманы широкого эстуария реки Святого Лаврентия. Судно проделало уже длиннейшее путешествие вдоль горизонтов столь отдаленных, что они терялись в дымке, и теперь, следуя через город по каналу, до нелепости узкому для такого большого судна, стремилось поскорее доплыть — от препятствия к препятствию, от моста к мосту — до свободного течения реки Святого Лаврентия, а потом до высоких волн Великих озер. Его экипаж стоял на палубе — один матрос держал наготове швартов, намотав его на руку, словно лассо, другие развешивали перед рубкой белье, а пароход скользил плавно и величаво. Казалось, он щеголял перед этими бедными трудовыми перекрестками своим пренебрежением к превратностям суши. И, проплывая, он будил в сердцах людей дремавшее в них томление по далеким горизонтам.
Он быстро исчез между рядами заводских строений, тянувшихся вдоль канала, и гудение его механизмов понемногу затихло. Но за ним тянулись из порта другие суда, и дым, валивший из их труб, стлался клубами поверх серебристого следа на воде. Скользил танкер, похожий на длинный поплавок, за ним баржа, глубоко осевшая под тяжелым грузом досок, старательно пенила гладкую поверхность воды. Все новые и новые потрепанные флаги, потемневшие корпуса проплывали мимо городских крыш и рекламных вывесок. А на берегу торчала диспетчерская будка, покрытая копотью, унылая и облупившаяся, как все те строения, которые случайный поворот шоссе или канала, расположение моста или нужды судоходства разбрасывают то тут, то там в самых пустынных местах; рядом с будочкой прилепился вросший в землю почти всегда пустой ресторанчик под плоской крышей.
И тут Флорентина поняла, что она одинока в мире со своим страхом. Она смутно осознала, что это такое — одиночество, не ее собственное одиночество, но то одиночество, которое подстерегает каждое живое существо, всегда следует за ним по пятам и внезапно обволакивает его, как тень, как облако. Однако для нее и одиночество, и то ужасное положение, в котором она очутилась, были пронизаны привкусом бедности, потому что ей представлялось, будто с богатыми и даже просто с обеспеченными людьми такого случиться не может.
Все эти раздумья ни к чему не вели. Она закрыла глаза, пытаясь вновь обрести свою прежнюю твердую волю, свое наивное и властное влечение к Жану — единственное, что еще казалось ей привычным среди полного смятения и разброда мыслей; но перед ней, словно странная, тайная, непостижимая канва ее жизни, возникло только унылое видение вереницы плывущих барж. И в самой глубине своего сердца она с беспощадной ясностью увидела ожесточение, настолько уродливое и отвратительное, что оно словно пропитало ее душу ядом.
Увы! Жан никогда ничего не узнает о ее страхе, который умрет в одиночестве в такой весенний вечер, созданный для смеха, для ласково соединенных рук — и это было самым несправедливым, с этим было труднее всего примириться. Она нарисовала в своем воображении жизнь молодого свободного мужчины, который спокойно, без всяких угрызений совести идет вперед; и это видение было еще более мучительным, в тысячу раз более мучительным, чем бремя вины. Через некоторое время он забудет ее, черты ее лица сотрутся в его памяти. Он, наверное, будет любить других женщин. И ему придется сделать усилие, чтобы вспомнить ее — Флорентину. Думать об этом было невыносимо. Она всей душой желала, чтобы Жан — раз уж он потерян для нее — предавался такому же отчаянию, как и она сама. Или даже чтобы он умер. Эта мысль доставила ей некоторое удовольствие. Если он умрет, она и сама, быть может, успокоится, почувствует, что они в расчете. Но пока он жив, пока он дышит, ее не оставит чувство унижения оттого, что она не сумела его удержать.
Потом она почувствовала, что в ее душе рождается глухая жалоба, подавленный крик смятения, мольба, чтобы Жан еще любил ее, несмотря на всю ненависть, сдавившую ее сердце. Чтобы избавиться от этой ненависти, чтобы избавиться от этого страха, ей нужна была его любовь. И она стала вспоминать его слова, стараясь найти в них хоть каплю нежности. Она хваталась за эти слова, как нищенка хватает брошенную ей монетку, вертит ее и переворачивает, разглядывает со всех сторон, словно надеясь, что монета под магическим воздействием ее желания изменится и увеличится. Но нет, подарок оставался крохотным, скупо отмеренным, ничтожным.
И все же ради этого вращалась земля, ради этого мужчина и женщина, два извечных недруга, заключали перемирие в своей вражде — да, земля вращалась, и ночь была такой сладостной, и перед ними вдруг ложилась тропинка, такая узенькая, что по ней могли пройти только двое. Ради этого сердце человека отвергало покой! О, какая тщета! Флорентина забыла о минутах опьянения, о минутах беспокойного счастья, она видела только ловушку, расставленную ее слабости, и эта ловушка казалась ей жестокой и беспощадной; и еще сильнее, чем страх, ее охватывало презрение к ее женской доле и даже сбивавшая ее с толку неприязнь к самой себе.
Наконец Флорентина подошла к дому, где раньше жил Жан. Прохудившиеся водосточные желоба, похожие на шпигаты, обшарпанные стены и неумолчный шум винтов вокруг — все это делало его похожим на унылый, старый грузовой пароход, поставленный в док на ремонт. Флорентина нерешительно обошла вокруг дома. Она уже дважды приходила сюда, но у нее не хватило мужества войти. Потом она поручила Филиппу передать Жану письмо. Мальчишка заявил, что потерял его; на следующий день он потребовал двадцать пять центов за то, что будет молчать. Через неделю опять напомнил ей об этом поручении и потребовал уже пятьдесят центов.
Флорентина подавила неистовое желание убежать отсюда, убежать куда угодно, лишь бы сохранить хоть какой-то остаток гордости. Но куда она могла пойти? К кому она могла обратиться, раз ей все еще так недоставало Жана? Со времени поездки в Сен-Дени ее мать все глубже и глубже погружалась в уныние. Отец? Но какой помощи, какой поддержки можно было ждать от него? Что касается Эжена, то, узнав, что он так и не отдал матери взятых денег, она, вспоминая о нем, жаждала надавать ему пощечин, исцарапать ему все лицо. В последний раз, когда он был в увольнении, она встретила его на улице Сент-Катрин. Он шел неверной походкой, ведя под руку вульгарную крикливую девицу. А мать в тот вечер дала им на ужин только хлеба и немного холодного мяса, оправдываясь тем, что не успела сходить за продуктами. О, нищенский вкус этого жалкого ужина! Она еще словно чувствовала его во рту, вкус этой горестной пищи, которую, казалось, невозможно было проглотить! С того вечера из-за злобы на брата у нее пропало всякое желание помогать матери, облегчать ей жизнь. И больше всего она злилась на него именно за то, что по его вине она утратила лучшую часть самой себя.
Новые признаки распада семьи продолжали обступать ее со всех сторон. Вспоминая все это, Флорентина видела прежние квартиры, пропитанные запахом бедности, все эти жалкие дома, где они жили вместе, но на самом деле давно уже чужие друг другу. Перед ее глазами с поразительной ясностью вставали квартиры, где одни и те же лики святых, одни и те же семейные портреты висели на стенах, и тут же эти стены сдвигались, смыкались перед ней, замуровывали ее как бы в тюрьме. И ей уже казалось теперь, что она искала Жана всегда, всю свою жизнь, с раннего детства.
Флорентина вынула пудреницу, провела пуховкой по лицу и посмотрелась в зеркальце со смешанным чувством недоумения, уязвленного самолюбия и сострадания к самой себе. И пожалела, что не купила соломенную шляпу, крошечный ток, весь украшенный цветами, который она, несмотря на свое удрученное состояние, заметила в какой-то витрине не то сегодня, не то уже давно и который не выходил у нее из головы и запомнился во всех деталях — маленький, как два сложенных крылышка, красный, с перекрещивающимися на затылке ленточками. Она сказала себе, что, если бы она была лучше одета и выглядела более привлекательной в те дни, когда они встречались, Жан, быть может, и не пренебрег бы ею.
Она поднялась по двум маршам лестницы и нажала кнопку звонка. И затем, застыв в напряженном ожидании, крепко прижав сумку к груди, она на мгновение увидела себя со стороны и ощутила глубокую неловкость оттого, что так выглядит сейчас: жалкая, покинутая, а главное — в костюме, сшитом еще прошлой весной, слегка переделанном, но далеко уже не модном.
Дверь приоткрылась. Флорентина услышала свой собственный глухой монотонный голос, задававший вопросы. И в то же время она различала на улице четкий мужской шаг и веселое посвистывание. И она подумала, что если сейчас обернется, то увидит исчезающую за поворотом фигуру Жана. У нее было ощущение, что всю свою жизнь она только и будет видеть, как он исчезает!
Словно сквозь туман до нее донеслись слова: «Уехал, не оставив адреса». И ей казалось сейчас, что эти слова она уже слышала среди ночи и на рассвете — каждый раз, когда она просыпалась и с ужасом думала о том, что будет вынуждена во всем признаться.
Потом она, низко опустив голову, шла на улицу Сен-Жак, к металлургическому заводу. На ее тонких руках дрожали и звенели браслеты, а на соломенной шляпке позвякивала гроздь красных стеклянных вишен. И от этого в ее голове раздавался резкий шум, мешавший ей сосредоточиться, державший ее в каком-то отупении. Но когда она, подойдя к кузнечному цеху, замерла на месте и позвякивание стекляшек умолкло, ее мысль словно внезапно пробудилась: она вспомнила, с каким холодным пренебрежением встретил ее Жан два месяца тому назад. Гнев окрасил ее щеки пылающим румянцем. Как могла она решиться прийти сюда, чтобы встретить здесь это воспоминание о его злой улыбке? Как могла она вообще ходить по тем же местам, по которым ходил Жан? Об этих своих поступках она сожалела даже больше, чем о своей погибшей мечте.
Она повернула назад. И теперь, вынужденная признать свое бессилие вернуть Жана — бессилие, которое она из гордости называла нежеланием, — она начала сомневаться и в реальности своих опасений.
Удаляясь от квартала, в котором жил Жан, она с каждым шагом словно понемногу избавлялась от своих страхов. Ах, если бы только это и вправду оказалось ошибкой, с каким тайным торжеством будет она вспоминать впоследствии о нелепых, непонятных опасениях, о призраках, встававших на ее пути в этот вечер! Ну конечно же, она ошиблась. Теперь она вспомнила, что ее мать как-то раз… И постепенно, понемногу набат страха начал утихать. Удары колокола, звеневшие у нее в ушах вот уже несколько часов, становились тише, глуше, а минутами и совсем замирали, и тогда ее падение представлялось ей просто нелепой оплошностью — глупостью, о которой не следует слишком много думать, чтобы она не обрела реальности, не превратилась в несмываемое позорное пятно.
Миновав кинотеатр «Картье», она поднялась по улице Нотр-Дам и при виде неоновых реклам и освещенных магазинов почувствовала облегчение; впервые в жизни шум и оживленное движение показались ей приятными и умиротворяющими.
Когда она проходила мимо маленького ресторанчика, ее обдало волной джаза. Ее ноги, уже подгибавшиеся от усталости, внезапно вновь обрели упругость, и она повернула к двери, из-за которой доносились эти звуки бодрящего веселья. Войдя, она заказала бутылку лимонада и сосиски, устроилась одна в укромном уголке и закурила сигарету. После первой же затяжки ее охватило чувство приятной расслабленности. Всем своим существом она погружалась, стремительно погружалась в этот шумный, насыщенный лихорадочным возбуждением и резкими звуками полумрак — в эту давно уже привычную для нее атмосферу, вне которой она чувствовала себя потерянной и беззащитной. Сейчас ей казалось, что она с удовольствием очутилась бы даже в «Пятнадцати центах», где, по крайней мере, никогда не стихали шум и оживление. О, этот ужас безмолвия, который в этот вечер надвигался на нее отовсюду! Ужас пустынных улиц! Если впоследствии, когда она спасется из этой страшной ночи — в чем теперь она уже не сомневалась, — она все же сохранит о ней какое-то воспоминание, то воспоминание это будет пронизано чувством, что она была одинока, непоправимо одинока, пока в далеких улицах влюбленные пары прогуливались под звуки синкопированных мелодий, извергаемых механическими радиолами из всех кафе. Именно этого она не простит Жану — своих одиноких скитаний по городу, когда она, словно прокаженная, была выброшена из стремительного потока, потока звуков, потока чувств, который она так любила.
Музыка прекратилась, и у Флорентины исчезло приятное ощущение, что она спаслась от одиночества. Она опустила монетку в механическую радиолу и под аккомпанемент бурной музыки вынула гребешок, коробочку с помадой и принялась старательно наводить красоту. Она откладывала и вновь брала сигарету, еще немного подкрашивала губы, еще пудрила лоб. А ее ноги под столом непрерывно постукивали в такт музыке.
Посмотрев в зеркало на стене, она осталась довольна — она увидела лицо, бледное даже под слоем румян, но красивое, красивее, чем когда-либо, распущенные волосы, большие глаза, которые страх сделал еще больше. Затем она оглядела свою тонкую фигуру так внимательно, словно никогда еще как следует себя не видела. Она полюбовалась блеском своих волос, поворачивая голову под лампочкой, висевшей над зеркалом, затем вытянула перед собой руки, осмотрела тонкие пальцы, ногти, покрытые ярко-красным лаком, и при виде своего юного лица, пушистых волос, белых рук она снова полюбила жизнь. И тотчас же решила купить приглянувшуюся ей шляпку; теперь она вспомнила, в каком магазине на улице Нотр-Дам ее видела. Вот так она словно бы отомстит Жану. Губы ее тронула детски наивная улыбка. Она станет потрясающе элегантной, и Жан, если они когда-нибудь случайно встретятся, горько пожалеет о том, что бросил ее. Но тогда она, в свою очередь, будет безжалостной…
Гром джаза оглушал ее, а дым сигареты, которую она почти не вынимала изо рта, приносил приятное ощущение полузабытья. Она перебирала в памяти все безделушки, когда-либо соблазнявшие ее, уже видела себя во всех этих украшениях и решала, что купит то и откажется от этого. Она так постарается окружить себя всеми видимыми приметами счастья, что счастье само придет наконец в ее жизнь.
Эта мысль заставила ее вспомнить о матери. И охватившее ее умиление, вызванное передышкой среди тревог, показалось ей свидетельством того, что в ней все же еще сохранилась доброта; это ощущение так ей понравилось, что она позволила себе соскользнуть в него, словно по ровному пологому склону. Да, отныне она станет верной опорой своей матери. Что из того, что отец и Эжен не желают ничего делать для семьи? Она не допустит, чтобы мать страдала от их беспечности!
Пока Флорентина выстукивала ногами ритм джаза, все те жертвы, на которые она собиралась пойти, представлялись ей довольно легкими. Но время от времени над предместьем разносился вибрирующий, страстный зов сирены. Тогда сердце Флорентины сжималось и она вновь вспоминала, как стояла на берегу канала и видела впереди только серую и печальную вереницу однообразных дней; и, запрокинув голову, она быстро отпивала глоток-другой газированного напитка, несколько раз затягивалась сигаретой и нервно поводила плечами. Наконец она подвела последнюю черту под своим прошлым: если, вернувшись домой, она не увидит там никаких перемен, это будет означать, что все ее страхи необоснованны. И с чувством полного удовлетворения, словно ей удалось все устроить как нельзя лучше, она встала, бросила последний взгляд в зеркало, вышла и направилась в сторону улицы Бодуэн.
Уже издали она увидела свет в незанавешенных окнах столовой. И этот тихий луч, проникнув в ее сердце, внезапно зажег в нем нечто совсем иное, нежели ее прежняя расчетливая, настороженная доброта, стертая, как ходячая монета; в ней вдруг вспыхнула огромная нежность, о которой она даже и сама не подозревала, щемящая нежность к своей семье, чья жизнь представлялась ей теперь не убогой и безотрадной, но облагороженной неизменным мужеством Розы-Анны. Это мужество Розы-Анны засияло сейчас перед ней, как маяк. Родной дом примет ее в свое лоно, исцелит ее.
Она уже взялась за ручку двери и перед тем, как войти, помедлила в напряженном ожидании чего-то хорошего. Потом она толкнула дверь. И словно ледяной ветер обдал хрупкие побеги ее душевного обновления.
XXII
В столовой у стены сгрудилась мебель, которую она не узнавала; среди выпотрошенных ящиков, тазов, полных белья, и стульев, нагроможденных друг на друга до самого потолка, виднелись незнакомые лица.
В первую минуту у Флорентины мелькнула было надежда, что в спешке она ошиблась и попала в чужой дом, — хотя она постояла у двери, как ей показалось, довольно долго, на самом же деле она вошла очень быстро. Но нет: кроме сваленных в кучу матрасов и покосившихся шкафов, в глубине комнаты было много знакомых предметов — старые стенные часы, детские шляпки, клеенка на столе. И, наконец, за всей этой беспорядочной кучей вещей Флорентина увидела свою мать, которая, сидя на краешке стула, с отсутствующим видом теребила край передника. Вся дрожа, Флорентина подошла к ней. При виде дочери Роза-Анна рассеянно улыбнулась, потом встала, чтобы закрыть за ней дверь в кухню. Теперь они были одни в маленьком уголке, заставленном вещами, но еще напоминавшем об их повседневной жизни. И Флорентина, снова полностью осознав неумолимый бег времени, изумленно подумала: «А ведь и правда сейчас май, время переезда!»
— Присядь, — уронила Роза-Анна, словно чувствуя себя настолько подавленной и выбитой из колеи, что ей нечего было больше сказать, а может быть, чтобы намекнуть дочери, что только это им и осталось: сидеть и смотреть друг на друга… и перекинуться словом-другим, если какие-нибудь слова еще могут прийти им в голову.
И сама она тяжело опустилась на стул. Она была уже на сносях. При малейшем усилии у нее делалась одышка и ей нужно было на что-нибудь опереться.
Их взгляды встретились. То, что увидела Флорентина, не требовало объяснений. Однако Роза-Анна сочла нужным что-то сказать и заговорила нетерпеливо, даже с раздражением:
— Видишь, вот уже и новые жильцы тут как тут.
Затем ее голос внезапно стал монотонным и жалобным. Словно сквозь толщу непонимания, горя, одиночества она объяснила:
— Я полагала, нам дадут небольшую отсрочку, но эти люди уже заплатили. Выходит, они здесь — у себя, а не мы. Пришлось их впустить.
«Это неслыханно», — думала Флорентина. Правда, она привыкла к ежегодным переездам — им даже случалось переезжать, прожив в квартире всего полгода, — но не к такому вторжению посторонних людей в свое жилище. Прислушиваясь к плачу и крикам чужих малышей в соседней комнате, она почувствовала прилив холодной ярости. Разве этого ждала она, когда спешила домой с таким горячим желанием найти все на своем месте и увидеть в этом признак того, что у нее все обошлось? О чем думали отец и мать? Почему они не подыскали заранее новое жилье?
— А тебе не надо было их впускать, чтобы они располагались тут, как у себя, — бросила она с досадой.
— А как же иначе? — ответила Роза-Анна. И уже более спокойно начала рассказывать о том, что ей удалось сделать. — Да, трудновато будет сегодня устраиваться… Но я поговорила с соседкой, она нам уступит на ночь одну комнату. И еще я оставила до завтра за нами комнату Филиппа для малышей… наших малышей, — добавила она, словно это необходимо было объяснить. — Я их поспешила уложить поскорее, сама понимаешь. Они затеяли такую возню с теми детьми… с детьми той женщины, я еще не знаю, как ее зовут… Подняли такой шум, просто с ума можно было сойти!
Она вдруг замолчала и внимательно посмотрела на Флорентину, которая сидела перед ней неподвижно, словно каменная, и, казалось, ничего не слышала.
— Откуда ты так поздно? — спросила она.
Но, задав этот вопрос, Роза-Анна не стала ждать на него ответа. Разве существовали на свете такие ответы, которые долетели бы до нее в глубину этой темной пропасти, где она была погребена столь далеко от людского слуха, что могла бы день и ночь кричать, не вырвав у одиночества никакого отклика, кроме слабого эха своего же горя?
Неподвижным взглядом Роза-Анна уставилась на стертый узор линолеума. И внезапно тихим, вялым, утомленным голосом она принялась перечислять все обрушившиеся на них беды, словно ей захотелось, наконец, увидеть их все — и старые, и новые, и малые, и большие, и давнишние, и совсем недавние, и те, что застряли где-то в самых дальних уголках ее памяти, и те, что еще бередили свежие раны ее сердца.
— Твой отец, — говорила она, — твой отец ведь должен был подыскать жилье. Ты же его знаешь, твоего отца! Он вот так всегда до последней минуты все обещает да обещает. Только обещает! Послушать его, так он уже подыскал все, что требуется, — хорошее жилье! Если его послушать! Хорошее жилье! Видно, надо было мне самой всем этим заняться. А где же мне было успеть? Я провела столько времени в больнице! Даниэль-то ведь лежит в больнице, — сочла она нужным напомнить, словно потеряв нить своего путаного повествования. — Даниэль, а к тому же еще и Эжен!.. И надо же нам было ездить в деревню!.. С той поры Даниэль и хворает. Нет, не везет нам. А сейчас-то ведь уже май, сейчас разве найдешь жилье? Где же нам теперь устроиться?
Но за всеми этими бедами, за всеми уже привычными тревогами она видела иные несчастья, целые полчища несчастий, встававших за каждым поворотом того лабиринта, по которому она шла. И она умолкла. Однако все эти тайные горести расположили Розу-Анну к состраданию. Она уже не надеялась найти сострадание к себе, но еще была способна отдавать свое сострадание другим.
— Ты ужинала? — спросила она Флорентину с неожиданной нежностью. — Хочешь, я сделаю тебе омлет?
Но Флорентина сидела перед ней, не разжимая губ. На глаза ее навернулись слезы — не тихие и покорные, но жгучие слезы бунта. Так вот что нашла она у своей матери: мрак, глубокий мрак, и Флорентина погасила в своем сердце всякую искру надежды, особенно теперь, после того как столкнулась с мучительной ложью.
Впервые в жизни Флорентина видела свою мать в грязном платье, непричесанную. И полный упадок духа той, которая до сих пор, несмотря на все их беды, всегда сохраняла мужество, представился Флорентине верным признаком гибели, грозившей всей их семье — и ей самой.
Роза-Анна дергала край передника усталым, машинальным, раньше совсем ей не свойственным движением — совсем как бабушка, подумала Флорентина. И плечи ее непрерывно покачивались, печально и однообразно, словно она убаюкивала ребенка, или какую-то гнетущую мысль, или же старую обиду, боль, которую ей хотелось притупить. А может быть, она убаюкивала свою усталость и все свои путаные сбивчивые мысли — убаюкивала их, чтобы они наконец дали ей покой. Но впадина платья между колен, изгиб рук, как бы поддерживавших невидимую тяжесть, покачивание всего тела, наклон головы — все это напомнило Флорентине, как Роза-Анна держала на руках и успокаивала Даниэля, когда у него начинался жар.
Даниэль!.. Он был таким маленьким для своего возраста. Личико у него всегда было бледное, почти прозрачное. Но до того, как началась эта тяжелая болезнь, он удивлял их всех своим ранним развитием. В предместье часто говорили, что умные детишки — не жильцы на свете. Их маленький Даниэль — такой хрупкий, такой серьезный! Какие мучения уже успели коснуться его? «Только бы он выжил! — подумала Флорентина. — Если он выздоровеет, это будет знаком и моего избавления».
Тут ее мысли приняли другое направление. Она вернулась к своему страху, подобно больному, чье внимание всегда приковано к его страданиям. И вдруг снова ощутила приступ тошноты. На этот раз она поняла, что не может больше бороться со своими опасениями. Надо все сказать матери. Но как?! И особенно сейчас!.. Издалека, как бы сквозь смутный гул, она услышала слова Розы-Анны:
— И куда это наш отец запропастился, почему он не возвращается! Ушел в два часа, и все нет и нет. Что он там ищет? Чем он там занят?
Но эта столь знакомая, тысячу раз слышанная жалоба не пробудила сочувствия в сердце Флорентины. Она сама погружалась в душный мрак, в котором ей неоткуда было ждать ни помощи, ни совета. Все закружилось вокруг нее. Она ощутила мучительную резь в желудке.
Когда она поднялась на ноги, бледная, с униженным выражением лица, ее мать смотрела на нее. Она смотрела на нее так, словно никогда прежде не видела и только сейчас заметила. Она смотрела на нее неподвижными, широко раскрытыми глазами, в которых застыл безмолвный ужас. Ни доброты, ни участия, ни жалости — только отчаянный ужас. Чуть ли не с яростью, голосом, поднявшимся до крика, Роза-Анна бросила:
— Да что это с тобой? Вчера, сегодня утром и вот сейчас опять… Можно подумать, что ты…
Она замолчала, и обе женщины уставились друг на друга, как два врага. В наступившей тишине раздавались только звуки чужой семейной жизни — жизни, которая налаживалась по ту сторону тонкой перегородки в этой обжитой ими квартире.
Флорентина первой опустила глаза.
Со смертельной тоской в сердце, с подергивающимися губами, она подняла веки, пытаясь опять поймать взгляд своей матери: в первый и, несомненно, в последний раз за всю ее жизнь в ее глазах была мольба затравленного зверька. Но Роза-Анна уже отвернулась. Ее накидка тяжело свисала с набухшей груди. Она казалась инертной, безразличной, погруженной в полузабытье.
И тогда Флорентина словно из бесконечной дали увидела себя совсем юной, веселой, возбужденной, трепещущей под взглядом Жана. Эта память о далекой прошлой радости показалась ей невыносимой, более тягостной, более жестокой, чем любые упреки, и она, круто повернувшись, одним резким толчком настежь распахнула дверь и бросилась наружу, в волну ветра, которая словно подхватила ее и унесла прочь.
XXIII
В этом слепом смятенном бегстве, невольно прислушиваясь к стуку собственных каблуков, который гулко раздавался в тишине пустынных улиц, Флорентина пыталась спастись от своего страха, пыталась спастись от самой себя. Вдруг она вспомнила, что Маргарита не раз предлагала ей переночевать у нее. Она никогда не старалась заводить дружбу с девушками своего возраста, считая, что они завидуют ей и могут в любую минуту сыграть с ней какую-нибудь злую шутку, или просто находя их скучными; из всех, кто проявлял к ней в кафе симпатию, никто не выводил ее из себя так, как Маргарита, чьи шумные и назойливые проявления дружеских чувств вызывали у нее только насмешки или раздражение. Но Флорентина знала, как добра Маргарита, и так пала духом, что ей по-настоящему хотелось лишь одного: побыть возле какой-нибудь подруги — пусть даже самой глупенькой, — которая отнеслась бы к ней участливо, и главное, ничего не знала бы о ее несчастье. Она проходила улицу за улицей, подавленная окружавшей ее темнотой и еще больше — мыслью, что пора самообольщения кончилась и она всю жизнь будет теперь мучительно раскаиваться в своей непоправимой ошибке.
Ка улице Сент-Амбруаз, под стенами большой хлопчатобумажной фабрики, она попала в глубокую тень, наполненную пыхтеньем и стонами машин. Все вокруг будто сговорилось мучить и удручать ее: и этот ночной труд, шум которого словно вырывался из-под земли, и редкие прохожие, бросавшие ей вслед любопытные взгляды, и небо, затянутое тучами, и деревья, колыхавшиеся в глубине дворов с жалобным шелестом, словно предчувствуя близкий ливень.
Она повернула в освещенный проход между высокими корпусами прядильной фабрики и, выйдя на улочку Сент-Зоэ, узнала по зеленому коньку на крыше домик, в котором вместе со своей теткой жила Маргарита. Это было одно из тех старых, сохранивших деревенский облик жилищ, какие попадаются еще кое-где в предместье; защищаясь от наступающих на них пакгаузов и заводов, они тем усерднее украшают свои окна накрахмаленными тюлевыми занавесками, до блеска скоблят свои пороги и покрывают фасады свежей краской, чем больше угрожают им гарь, пыль и сажа.
Окно на втором этаже, в комнате Маргариты, еще ярко светилось. Флорентина, не решаясь постучать в дверь, робея при мысли, что ей может открыть тетка Маргариты, строгая и чопорная старуха, остановилась под освещенным окном и принялась звать сперва совсем тихо, потом громче. Наконец за шторой мелькнула тень. Флорентина пробормотала, задыхаясь:
— Маргарита, это я. Открой. Только не шуми.
Лишь когда Флорентина очутилась в маленькой комнатке Маргариты и убедилась, что дом по-прежнему погружен в тишину, она сообразила, что ей ведь надо как-то объяснить свое появление в такой поздний час. Сколько теперь времени? Мучительно боясь проговориться, она пробормотала пересохшими от волнения губами:
— Завтра с утра мы переезжаем. У нас негде лечь спать.
И тут же судорожным движением, которое противоречило спокойствию ее слов, она схватила руку Маргариты, сжала ее до боли и взмолилась:
— Позволь мне остаться у тебя! Позволь!
Маргарита закуталась в халатик с причудливым цветистым узором и пригладила пальцами коротко остриженные, взъерошенные волосы, прихорашиваясь перед подругой.
— Ну конечно, — весело ответила она. — Можно будет поболтать, порассказывать друг другу всякую всячину, ага?
И тут же, заметив мертвенную бледность подруги и ее испуганные глаза, она встревожилась:
— Что с тобой? Ты не больна?
— Нет, нет, — вскричала Флорентина.
Она вся сжалась в кресле, и ее дрожащие руки метались от растрепанных волос к маленькой сумочке, которую она никак не могла открыть. Увидев в зеркале шкафа свое отражение, она ощутила мучительную досаду. Но, твердо веруя в испытанное средство, которое всегда ей помогало, она попыталась кое-как поправить волосы, заставила себя подняться с места, порылась среди вещиц на туалетном столике Маргариты, нашла губную помаду и начала подкрашивать свои сухие, потрескавшиеся от ветра губы. Но еще не кончив, она отвернулась, не в силах смотреть на свое отражение. Плечи ее поникли, и у нее вырвался разочарованный горький смешок.
— Как я выгляжу, Маргарита? — спросила она жалобным голосом. — Я очень подурнела, правда?
— Вовсе нет, — ответила Маргарита. — Ты всегда миленькая, даже когда у тебя усталый вид.
— Да, — еле слышно сказала Флорентина. — Да, это верно… Я очень устала…
Потом, побежденная, сломленная, она призналась:
— Я хочу лечь, Маргарита. Я хочу спать, Маргарита.
Эти слова прозвучали не как просьба, а как жалоба, от которой она не могла больше удержаться.
— Боже мой, как мне хочется спать!
У стены стояла маленькая, уже постеленная кровать.
— Я сменю белье, — сказала Маргарита. — Это быстро.
И она пошла за чистым бельем. Оставшись одна, Флорентина сразу же подбежала к зеркалу и, став перед ним, уже без свидетелей принялась внимательно изучать себя — с неприязнью изучать свой новый облик, это лицо, которое казалось ей незнакомым и пугало ее своим диким, растерянным выражением. Она лишь с большим трудом сдержала слезы, уже навернувшиеся на глаза. Потом дверная ручка повернулась, и она поспешно села и приняла ту же позу, в которой сидела прежде.
Вскоре белоснежные свежие простыни уже звали ее отдохнуть. Флорентина сняла ботинки, чулки, юбку, свитер и бросилась на постель. И как только приятная свежесть льняной ткани окутала ее усталое тело, она внезапно потеряла самообладание и громко разрыдалась. Она плакала, подняв локти и закрывая ладонями лицо, чтобы скрыть его от Маргариты, — плакала исступленными, жгучими слезами, не приносящими облегчения. Время от времени она поворачивалась на бок и билась головой об стену, словно желая причинить себе боль, и при этом горько стонала.
Маргарита дала ей выплакаться. Потом, пододвинувшись к озябшей Флорентине и обняв ее за плечи, она заговорила с ней, как с ребенком.
— Скажи мне, что с тобой? Иногда от этого становится легче.
Она почувствовала, что Флорентина вся напряглась, и продолжала:
— Скажи мне, что тебя так мучит…
И Маргарита стала задавать ей вопросы, словно ребенку, от которого добиваются признания:
— Мать, что ли, тебя обидела? Нет?.. Может, твой кавалер на тебя больше не смотрит? Ну и подумаешь, другие найдутся… Как говорится, одного потеряешь, десять найдешь. Нет, не то? Так, может, потому, что про тебя уже поговаривают? — внезапно добавила она с серьезным видом.
— Кто это поговаривает? — вскричала Флорентина среди рыданий. — Кто это про меня поговаривает?
— Да нет, никто, я просто так подумала, — ответила Маргарита, хотя тут же вспомнила некоторые вполне недвусмысленные выпады. — Не стоит плакать из-за этого. Всегда ведь найдутся злые языки. Не обращай внимания! Я-то ведь знаю, что ты ничего дурного сделать не можешь…
Такое неоправданное доверие и недомолвки, которые она чувствовала в словах Маргариты, окончательно вывели Флорентину из себя. Она отодвинулась к самому краю кровати и заявила:
— Не хочешь сказать, кто обо мне говорит, — ну и пожалуйста, это твое дело.
Потом она с вызовом добавила:
— А со мной ничего такого нет, ничего!
Но тут же, охваченная новым приступом отчаяния, к которому примешивалось горькое ощущение, что она — совсем чужая среди своих товарок, она внезапно вонзила острые ноготки в плечо Маргариты, словно стараясь передать ей свою невыносимую тоску, заставить хоть кого-то страдать вместе с собой.
— Погаси свет, — проговорила она умоляющим голосом.
Но в темноте ей стало еще больнее — от сознания, что она отдана во власть одиночества, во власть какой-то страшной, нечеловеческой силы и что это только ее жребий и она не может ни избавиться от него, ни разделить его с кем-либо. Она цеплялась за Маргариту и, чтобы не поддаться властной потребности рассказать ей обо всем, кусала губы и сжимала кулаки.
Маргарита теперь молчала, инстинктом безошибочно угадав правду. От нее не ускользнуло, что Флорентина сильно изменилась за последние несколько недель и что другие официантки в кафе «Пятнадцать центов» украдкой приглядывались к ней, следили за каждым ее движением с неприязненным любопытством и нередко обменивались потом понимающими многозначительными взглядами.
«Господи, неужели это правда?» — подумала она. И сама удивилась, что не испытывает ни малейшего презрения к Флорентине. А ведь до сих пор она всегда с негодованием осуждала любовные отношения вне брака. Ей и самой случалось с удовольствием посплетничать с другими официантками. Но сейчас, видя, что Флорентина стоит на краю пропасти, она хотела только укрыть ее от беды, помочь ей.
Что будет она теперь делать, такая молодая… то есть не моложе самой Маргариты, но зато более хрупкая, более легкомысленная, а потому и внушающая больше жалости, такая хорошенькая, а значит, и подверженная большим опасностям? Что будет делать она теперь, эта хорошенькая, эта бедная Флорентина? Не уволят ли ее с работы? Что она может натворить в своем отчаянии?
Мучительная жалость, безудержное желание поступить так, как велело ей сердце, охватили Маргариту.
Она не была уверена, хватит ли у нее на это мужества, и, чтобы заставить себя сделать то, что представлялось ей справедливым и великодушным, она заговорила увлеченно:
— Послушай, Флорентина, ты, как видно, попалась. Если это так, я тебе помогу. Я помогу тебе, слышишь?
Но этого было мало, она чувствовала, что ей следовало бы связать себя более определенными, обязательствами, чтобы преодолеть тот врожденный эгоизм, из-за которого все мы стараемся поменьше вмешиваться в чужие беды.
Смутно сознавая все это, Маргарита пробормотала:
— Послушай, Флорентина, понимаешь, можно через это пройти. Не ты первая — другие прошли же через это. Мы будем вместе, Флорентина. Я тебе обещаю. Слушай, я буду тебя защищать. Пусть только они скажут еще хоть слово про тебя, там, в кафе, если я услышу!.. А это у нас с тобой будет вроде бы как секрет.
И, предвидя тем не менее множество затруднений, она начала излагать свои планы, а Флорентина в полном негодовании и изумлении слушала ее, не в силах проронить ни слова.
— У меня есть кое-какие сбережения, — говорила Маргарита. — Это нам поможет. Я одолжу тебе денег, Флорентина, если ты такая гордая, что не возьмешь их так.
Флорентина продолжала молчать. Она тоже размышляла. Предложение Маргариты ничуть не тронуло ее; она была потрясена, что ее тайна может быть обнаружена, и еще более тем, что Маргарита осмеливается говорить с ней о том самом страшном, что должно было произойти позже и о чем она даже сама не решалась думать. Какая же дура эта Маргарита! Какая идиотка! Безмозглая дура! Она любой иеной должна сохранять спокойствие и не торопиться. А главное — надо заставить эту тупицу забыть то, что она вбила себе в голову.
— Ты с ума сошла, — проговорила она, не зная, разозлиться ли ей или рассмеяться. — Нет, ты с ума сошла, честное слово. С чего это тебе пришли в голову такие мысли? Говорю тебе, ничего со мной не случилось. Это все от нервов. От нервов!
Она несколько раз выкрикнула эти слова с яростью и вызовом, словно убеждала в этом саму себя. И, заметив, что Маргарита растерялась и уже почти ей поверила, она испытала огромное облегчение — ей показалось, что она сама начинает освобождаться от своих страхов, и для большей убедительности она тут же принялась осыпать Маргариту новыми упреками:
— Хорошо еще, что ты говоришь это для смеха, а то бы я рассердилась. Я бы сразу ушла, если бы знала, что ты и вправду веришь этому про меня… тому, что сейчас говорила. Возьми свои слова назад, или я рассержусь на тебя. Нет, ты просто сумасшедшая с твоими глупостями!
Она притворно зевнула, потянулась всем телом и голосом, прозвучавшим в тишине резко и сухо, проговорила:
— Ну, а теперь давай спать, а то завтра будем бог знает на что похожи! Давай спать.
Она тут же притворилась уснувшей, чтобы поскорее оградить себя от непрошеного сострадания. И, только услыхав ровное дыхание Маргариты, она осмелилась немного приподняться. Опершись локтем на подушку, она устремила глаза во мрак и наконец — словно во всяком другом месте при малейшей ее неосторожности чей-то взгляд мог проникнуть в ее позорную тайну — отдалась своим мыслям.
Сначала она удивилась странному спокойствию, которое вдруг ею овладело. Слова Маргариты, ее жалость поставили Флорентину лицом к лицу с очевидностью в еще большей степени, чем свидетельства самой природы, и теперь в ее душе уже не оставалось места ни для сожалений, ни для стыда. Она только повторяла, прижимая к груди холодные руки: «Так что же я теперь буду делать?» Она напряженно вглядывалась в темные углы чужой комнаты, словно не понимая, где она находится. И один и тот же вопрос бился у нее в голове: «Так что же я теперь буду делать?»
Она села в постели, протерла глаза и, приложив ладони к вискам, стискивая их, словно пытаясь выжать хоть какой-нибудь план, хоть какую-нибудь надежду, заставила себя думать. Она вспомнила, как однажды молодая работница, которая шла вместе с ней по улице, простодушно поведала ей ужасную тайну. И жизнь в тот день показалась ей уродливой и мучительной. Но раз уж приходится на это идти! Она снова и снова возвращалась к этой мысли, но тело ее уже заранее содрогалось от страха и от предчувствия физической боли, и она поняла, что не осмелится на такой шаг. Ведь всегда, когда она думала о таких вещах, об этом признании, оставшемся у нее в памяти, как ядовитая заноза, перед ее внутренним взором тут же вставало другое видение, в котором смешивались церковь, лики святых и горящие свечи — лики святых, свечи и церковь того утра, когда они с Эманюэлем вместе ходили к обедне. Ей вспоминались прежние дни чистой и наивной радости, и она чувствовала себя отторгнутой от солнца, от света, от жизни, словно мертвой. Она попыталась заставить себя принять решение, но никак не могла поверить, что это — единственный оставшийся у нее выход, а потому ей не удавалось себя уговорить. И она отбросила эту мысль, она призналась себе, что никогда на это не решится.
И страшный вопрос снова начал безостановочно стучать в ее висках: «Что же мне теперь делать?.. Признаться?.. Признаться матери?.. Нет, нет, ни за что на свете… Так что же тогда? Признаться Маргарите?» Спазма сжала ее горло. Нет, нет, этого тоже нельзя делать! Конечно, Маргарита обещает помочь и держать все в секрете. Ей-то легко прикидываться великодушной! Ее никто никогда не любил, никто с ней не гулял, кроме Альфонса, этого безработного, который, наверное, и живет на ее счет. Она-то вовсе ничего в жизни не понимает. И уж конечно, Маргарита только из любопытства прикидывается такой добренькой и милой. И чтобы потом легче было на нее клеветать. «Женщины!» — подумала Флорентина с презрением. Да и может ли женщина помочь другой женщине?.. Но кто, кто поможет ей?
Она стала искать другой выход. Она ведь молода и красива. Не только Жан Левек, но и другие молодые люди интересовались ею. Многие преследовали ее своими ухаживаниями в кафе. Она задержалась на этой мысли, но тотчас воспоминание о том новом, что она испытала, пронзило ее, словно стальной клинок; она откинулась на подушки, глаза ее широко раскрылись. Она едва подавила крик отчаяния. Шепотом она произнесла имя Жана — так страдальцы невнятно называют причину своей боли — и потом начала метаться на подушке, кусая одеяло, повторяя злобным, прерывающимся голосом: «Я его ненавижу! Я его ненавижу!»
До самого рассвета Флорентина судорожно рыдала, зарываясь головой в подушку, чтобы не разбудить Маргариту — эту змею, которая думала, будто разгадала ее тайну. Но вот узкий луч солнца проскользнул в комнату из-под опущенной шторы. Тогда она замерла в неподвижности. Она лежала вытянувшись, не шевелясь, и глаза ее уже были сухими. Ей казалось, что этой ночью по ее сердцу прошлись острые железные и каменные резцы и что оно само в конце концов стало твердым, как гранит. Ее любовь к Жану умерла. Ее мечты умерли. Ее молодость умерла. И при мысли, что ее молодость умерла, она все же ощутила трепет боли, легкий, как разбегающиеся по воде круги, почти незаметные на ее поверхности.
Теперь ее охватил покой, тупой оглушающий покой, проникший в самые глубины ее души, сковавший ее всю. Не было больше ни воспоминаний, ни радости, ни сожалений. В ней жило только покорное ожидание — вопреки разуму, вопреки ей самой, — в котором не было безнадежности, но не было и надежды, просто ожидание, долгое, постоянное, вечное.
Флорентина приняла решение. Что бы ни было, что бы ни случилось, она никогда не выдаст своей тайны. Пусть жизнь идет своим чередом — она будет плыть по течению, она будет ждать: сама не зная чего, но будет ждать. Сейчас ее уже немного поддерживала чуть затеплившаяся, еле ощутимая гордость от сознания, что она не выдала себя, и мысль, что у нее еще есть время обо всем подумать.
В предместье пробуждалась жизнь: до Флорентины донеслось громыхание повозки по мостовой, потом позвякивание бутылок в корзине молочника, а потом вдруг веселое, беспечное посвистывание под четкий стук быстрых шагов; и жажда жизни, таившаяся в сердце Флорентины наперекор всему, вспыхнула вновь, словно вызов. Нет, не все еще кончено! Она не может найти выхода, который ее устраивал бы, она отказывается от всех выходов, которые видит перед собой, но ведь должны же иногда случаться чудеса, говорила себе Флорентина, — ради таких смелых и твердых духом, как она? Ее усталые глаза были прикованы к узкому лучу солнца, которое постепенно заливало комнату.
XXIV
В тот вечер, когда Флорентина убежала из дому, Азарьюс вернулся около десяти часов.
— Я нашел то, что нам надо, — сказал он уже с порога. — Пять комнат, ванная, небольшая веранда. И еще маленький задний дворик, где ты сможешь сушить белье, Роза-Анна. Я уже уговорился. Если хочешь, переедем завтра прямо с утра.
После ухода Флорентины Роза-Анна так и осталась сидеть у стола в полной неподвижности. Слова Азарьюса не сразу дошли до нее сквозь толщу унылого оцепенения. Сначала она услышала только звук его голоса, затем понемногу поняла и смысл слов. Руки ее зашевелились, словно стараясь сбросить гнетущую тяжесть. Но вот она уже встала, держась за край стола. Ее карие глаза выразили облегчение.
— Правда? Неужто тебе удалось найти жилье, найти для нас дом?
Сейчас ей важно было знать только это. Где находится дом? Какой он? Эти вопросы она пока еще и не подумала задать. У них будет кров, будет свой угол, свое пристанище, которое укроет беды и радости только их семьи. Одно это уже представлялось Розе-Анне милостью судьбы, лучом, внезапно блеснувшим среди их смятения. Она призвала на помощь всю свою энергию. В эту минуту ей вдруг стало понятно, до чего тягостно было для нее жить под одним кровом с чужими людьми. Вся жизнь их семьи выставлена напоказ любопытным взглядам посторонних! Нет, пусть любая лачуга, сарай, какая угодно нора — лишь бы не та пытка, которую она переносит вот уже несколько часов!
Она твердо посмотрела в глаза Азарьюса. Энергия возвращалась к ней быстрыми бодрящими волнами. Она была простой женщиной из народа, и запасы энергии, таившиеся в ней, казались неистощимыми. Она решительно ухватилась за край стола и всем телом наклонилась к Азарьюсу.
— Послушай, — внезапно сказала она, — а почему бы нам не переехать прямо сейчас, вечером? Еще ведь не очень поздно!
Взгляд Азарьюса выразил сначала изумление, потом согласие и, наконец, покорность. С того вечера, когда ему вдруг захотелось покинуть семью, он стал обращаться с женой бережнее, чем прежде, словно стараясь искупить тяжелую, непростительную вину перед ней. Роковое невезенье, преследовавшее его в последнее время, пожалуй, больше всего заставило его покорно подчиняться распоряжениям жены. Растерянный, павший духом, униженный, как никогда, он научился скрывать свою тягу к полной свободе и к постоянным переменам и старался доставить удовольствие Розе-Анне, проявляя почти трогательную услужливость.
— Я заказал грузовик для завтрашнего переезда, — сообщил он, — но, пожалуй, это можно сделать сегодня вечером. Если хочешь, я сейчас же пойду и займусь этим. Всего и дела-то минут на пятнадцать.
— Ступай, — решительно сказала Роза-Анна. — Если поторопимся, то успеем еще поставить там несколько кроватей и провести эту ночь уже у себя. Немного повозиться — это только полезно. А за остальным ты можешь заехать завтра утром.
И она добавила уже более мягким голосом:
— Ты же сам понимаешь, что это будет: встанут завтра две семьи вместе, и всем сразу понадобится и плита, и умывальник, и уборная… Это уж просто немыслимое дело! Ну, и к тому же…
Она приподняла руки бесконечно усталым движением.
— …и к тому же мы будем наконец у себя… в своем доме, Азарьюс!
Азарьюс немедленно отправился за машиной, а Роза-Анна решительно принялась собирать сковородки, кастрюли, котелки. В чуланчике за кухней всегда лежало много картонных коробок, заранее приготовленных для переезда. Она достала их одну за другой и, опустившись на колени, стала укладывать в них сначала стопки белья, потом посуду — слой белья и слой посуды. Она заполнила так одну коробку, время от времени поглядывая на висевшие в кухне стенные часы. Боже мой, как медленно получается! К тому же из-за одышки и сердцебиения ей то и дело приходилось давать себе отдых на минутку-другую.
В конце концов ей пришлось признать, что одна она вовремя не управится. Она с неохотой решила разбудить детей. Очень осторожно отворив дверь в столовую, она на цыпочках прошла через комнату. Чужая частная жизнь всегда была для нее неприкосновенна. Она уважала эту неприкосновенность чужой частной жизни с таким же жестоким упорством, с каким защищала неприкосновенность своей. Ступая по скрипучим половицам, она бросила сочувственный взгляд на чужих детей, которые спали на составленных вместе стульях. Сердце Розы-Анны никогда не было равнодушно к общечеловеческим бедствиям, но она относилась с опаской и недоверием к слишком уж всеобъемлющей жалости. Как правило, она запрещала себе чересчур много думать о чужих людях, чтобы сберечь всю свою нежность для родных, и остерегалась великодушных порывов своего сердца. В ее сознании глубоко укоренилась мысль, что своя рубашка ближе к телу. Но в эту минуту всякая осторожность, всякая сдержанность оставили ее. Всегда такая замкнутая, она приветливо повернулась к незнакомке.
— Вы не стесняйтесь, — сказала она. — Пользуйтесь всем, что вам нужно. Мы уже недолго будем вам мешать.
И она ощутила облегчение, словно ей удалось сбросить с себя тяжесть смутной враждебности.
Затем она прошла в маленькую комнатку Филиппа и в темноте, не зажигая света, шепотом заговорила с детьми:
— Вставайте, только не шумите.
Тараща глаза, слегка испуганные, дети приподнимались на своих постелях, а Роза-Анна помогала им одеваться.
— Мы сейчас поедем к себе, — повторяла она снова и снова.
И голос ее, Звучавший в темноте твердо и убедительно, успокаивал детей.
Она одела их всех, кроме маленькой Жизели, которую оставила спать, и повела их за собой, приказав им идти на цыпочках и захватить с собой одеяла и подушки.
На кухне она, не теряя ни минуты, вновь принялась за работу и в то же время ровным, спокойным голосом объяснила каждому, что он должен делать. Опять усевшись на пол, она говорила:
— Ты, Ивонна, аккуратная девочка, ничего не бьешь и не ломаешь. Возьми нашу лучшую посуду и заверни каждую чашечку и каждое блюдечко отдельно в газету. Каждую отдельно, — повторила она тихо и энергично.
Альберу она сказала:
— Ты уже взрослый и сильный! Пойди — только не шуми и не налети на что-нибудь в темноте — пойди возьми там за дверью бак.
Маленькая Люсиль просила и ей что-нибудь поручить, и Роза-Анна согласилась:
— Хорошо. Вот помогай Ивонне, только смотри ничего не разбей. Ладно?
Детей удивлял такой мирный, такой спокойный, чуть ли не торжественный тон их матери. Тревога в их сердцах уже уступала место веселью. Вернулся домой Филипп, но Роза-Анна не нахмурила, по обыкновению, брови и не спросила его, где это он пропадал весь вечер. Она спокойно послала его принести остальные коробки из подвала. И ни в чем не стала его упрекать. Казалось, ничто не могло повлиять на ее удивительную кротость.
Сперва дети исполняли приказания матери молча, стараясь не шуметь, потом, осмелев при виде ее безмятежного спокойствия, начали бурно выказывать свою радость. Этот полуночный переезд привел их в восторг. Они говорили все громче, а иногда принимались кричать и ссориться из-за того, что всем сразу хотелось взяться за одно и то же дело. Но Роза-Анна все-таки не сердилась. Казалось, она потеряла способность сердиться. Лишь иногда она утомленно просила детей вести себя потише.
— Не надо так шуметь, — говорила она. — Ведь мы теперь уже не у себя.
И обещала им с чуть заметной усталой улыбкой:
— Постарайтесь сдерживаться. Теперь уже недолго. Скоро мы будем у себя.
У себя!
Как знакомо было детям это слово, одно из первых, которые они услышали в жизни! Они, сами того не сознавая, произносили его ежедневно, почти ежечасно. И сколько разных мест уже обозначало это слово! Им они называли когда-то сырой подвал на улице Сен-Жак. С этим словом было связано и воспоминание о трех душных клетушках под самой крышей грязного дома на улице Сент-Антуан. Это было почти всеобъемлющее слово, не всегда даже понятное, потому что оно говорило не об одном определенном жилище, а о добрых двух десятках, разбросанных по всему предместью. В нем можно было уловить сожаление, чувство утраты и какую-то примесь неопределенности. Оно было связано с ежегодным переездом. В нем чувствовался оттенок сезонности. Оно отдавалось в сердцах, словно отзвук бегства, непредвиденного отъезда; и звучание его как бы будило в памяти резкие крики перелетных птиц.
Роза-Анна видела обращенные к ней сияющие лица детей; на нее смотрели счастливые, полные сдержанного волнения глаза, и порой все дети сразу умолкали.
Но Роза-Анна, позволив детям немного помечтать, сочла нужным удержать их от излишнего самообольщения.
— Не воображайте только, что мы сейчас въедем в какую-нибудь квартиру миллионера, — ласково сказала она. — Нам таки придется ее самим почистить. Помните, как было грязно здесь, когда мы только что сюда перебрались? Чтобы кто-то сделал там для нас уборку, на это рассчитывать не приходится. — Внезапно вернувшись к повседневным заботам, она быстро спросила: — А кто-нибудь из вас взял половую щетку? Это же важнее всего. Ее нужно иметь под рукой; она нам сразу понадобится. Будет щетка и ведро воды, так нам и грязь не страшна. Я всегда говорю: самое главное — это половая щетка.
Как правило, с младшими детьми она бывала немногословна. В общении с ними она ограничивалась молчаливой нежностью и ласковыми выговорами, но редко разговаривала с ними. Однако сейчас, глубоко расстроенная внезапным уходом Флорентины, она горько упрекала себя и пыталась искупить свою вину перед старшей дочерью, стараясь сблизиться с младшими детьми. К тому же в этот вечер она так остро ощущала свое одиночество, что искала бы сближения с любым живым существом.
Сегодня она была словоохотлива и говорила с ними, как с равными; она не снисходила до их уровня, но ласково и серьезно старалась говорить с ними, как со взрослыми. Это произвело на детей глубокое впечатление. Никогда еще мать не разговаривала с ними так, как сегодня. Глядя им в глаза, она говорила им вещи удивительные и в то же время серьезные; и тут же как бы между прочим позволяла себе пошутить или вздыхала, словно подчеркивая то доверие, с которым вдруг стала к ним относиться.
— Ничего не скажешь, у нас хватает невзгод, — говорила она. — Совсем не весело переезжать вот так, среди ночи. Да и мало ли чего еще!.. Но как подумаешь — мы ведь живем не хуже, чем другие. А в странах, где теперь идет война, найдутся и понесчастнее нас; там уж людям совсем тяжело приходится…
Роза-Анна умолкла, спрашивая себя, сказать ли Азарьюсу об уходе Флорентины сегодня или подождать до завтра. И тут же решила, что правильно поступила, умолчав об этом, — пусть эта сцена, казавшаяся ей сейчас дурным сном, останется тайной между ней и дочерью.
Многие коробки были уже полны. Они всей семьей укладывали следующую, стоя вокруг нее на коленях посреди кухни. И Розу-Анну внезапно охватило безудержное желание привлечь детей к себе, соединить их всех в одном объятии и ободрить их.
— Во всяком случае, новый дом не может быть хуже этого, — проговорила она. — Здесь нам было слишком тесно. А там будет попросторнее. Ваш отец сказал — пять комнат. Пожалуй, у тебя, Ивонна, будет своя. Нечего, конечно, строить воздушные замки, пока мы не видели дома, но сдается мне, там будет нам поудобнее, чем здесь. Ваш отец сказал, что и веранда есть — можно будет поставить несколько горшков с цветами. И дворик — это тоже удобно: если хватит места, будем выращивать кое-какие овощи. Ну, а грязь — это пустяки. Я уже говорила — постараемся, так все вычистим.
Тем временем их проворные руки опорожняли шкафы, оголяли стены. Атмосфера семейного уюта исчезала. Последними ее признаками оставались стенные часы, украшенные креповой бумагой, да кепки, висевшие на гвоздях. Атмосфера семейного уюта умерла, но в глазах бывших обитателей этой квартиры не было сожаления. Наоборот, эти глаза сияли, словно уже видя, как семейная атмосфера возрождается в новом, более прекрасном обличии.
Вот так всегда — лучшими минутами их жизни были те, которые предшествовали переезду.
Но позже они всегда забывали об этом.
К тому времени, когда Азарьюс вернулся, вся кухня уже была завалена упакованными ящиками и связками всяческой утвари. Эта семья обладала особым даром быстро укладываться, уменьем экономно размещать вещи, невероятной изобретательностью и неунывающей бодростью цыганского табора, способного сняться с места за какой-нибудь час.
Великолепно понимая друг друга без слов, они принялись все вместе перетаскивать свое имущество в грузовик. Азарьюс и Филипп вдвоем выносили тяжелые вещи; Роза-Анна собирала более хрупкие предметы и сама ставила их в крытый брезентом кузов, стараясь запомнить, куда что положила. За ней бежали младшие члены семьи: кто бережно нес в своих слабых руках семейную ценность — стенные часы из кухни, а кто — старую, потрепанную куклу, обнаруженную под ворохом грязного белья. Шествие замыкал Альбер — предусмотрительный и благоразумный мальчуган тащил, хотя и с трудом, пошатываясь, целую охапку дров.
Все эти разнообразные вещи, составлявшие обстановку семьи, — как убого, как жалко выглядели они, когда их одну за другой выносили на всеобщее обозрение из их привычных углов!
Между тем у освещенного порога дома собралась кучка зевак и мальчишек.
— Ишь ты, Лакассы переезжают! Как видно, они сильно спешат!
Услыхав это замечание, Роза-Анна благословила ночь, скрывавшую их переезд. Она была рада мраку, завеса которого скрыла их убогий скарб от посторонних глаз.
Слишком часто их пожелтевшие матрасы, колченогие стулья и исцарапанные столы, перевернутые ножками вверх, их уродливые и ржавые железные кровати, их потускневшие зеркала — слишком часто все эти пожитки, явные свидетельства их нищеты, занимали свое место в той печальной процессии переезжающих, которая в первые дни мая заполняла улицы бедных кварталов и медленно двигалась под лучами солнца, особенно подчеркивавших сальные пятна на всей это ветоши.
Наконец самые необходимые предметы разместились в уже привычном порядке: съестные припасы, упакованные самой Розой-Анной в большую корзину, постельное белье в старом чемодане, стол, стулья и даже кухонная плита.
— Ее надо снять и захватить с собой сегодня же, Азарьюс. Как бы там ни было поздно, — твердо сказала Роза-Анна. — Ночью или завтра же утром нам может понадобиться горячая вода.
Почти совсем опустевшая кухня выглядела удивительно просторной и странно безжизненной, когда Роза-Анна вернулась туда уже одна, чтобы оглядеться вокруг в последний раз. Ей казалось, будто она сделала это, чтобы посмотреть, не забыто ли что-нибудь в спешке. Она не уловила ничего иного в том смутном чувстве, которое побудило ее вернуться и ненадолго задержаться в этой оголенной комнате.
Здесь проспал последнюю ночь перед уходом в армию Эжен — вот тут, под этим кровом, который никогда больше не приютит их. Как знать, доведется ли им еще ночевать всей семьей под одним кровом? Здесь Даниэль серьезно играл в свои незатейливые игры, пока его не сломила болезнь! Здесь, когда ей пошел уже пятый десяток, она холодным, пасмурным октябрьским утром заметила, что снова готовится стать матерью — уже в двенадцатый раз. Здесь Флорентина совсем недавно смотрела на нее с немой мольбой…
Флорентина… первенькая! Сердце Розы-Анны рванулось к ней, хотя его все еще переполняли сомнение, гнев и чувство обманутой любви. Она с минуту постояла в раздумье. И спокойствие вновь вернулось к ней. Это чепуха. Флорентина вернется домой. И все объяснит. А наверное, нечего и объяснять. Роза-Анна горячо ухватилась за эту надежду. Флорентина, которая в детстве была такой же набожной и мягкой, как Ивонна, не позволит себе сделать что-нибудь дурное. Теперь Роза-Анна горько упрекала себя. Подумав о том, что дочь может вернуться еще и сегодня, она торопливо вырвала листок из календаря, взяла карандаш и рукой, уже разучившейся писать, вывела несколько строк: «Мы переезжаем, ты можешь переночевать сегодня в комнате Филиппа, а завтра днем я пошлю в магазин Ивонну или Люсиль, чтобы они показали тебе дорогу». Она на секунду заколебалась, а потом подписала: «Твоя мать».
И уже с чувством облегчения она сняла с вешалки за дверью свою шляпу и пальто. Потом тихонько отворила дверь в столовую и, не зажигая света, взяла с буфета распятие и изображения святых, с которыми никогда не расставалась.
Заметив в темноте, что незнакомка заворочалась, Роза-Анна тепло пожелала ей спокойной ночи.
— Больше мы вам мешать не будем, вот только дочь, может, еще вернется попозже. А мы сейчас уезжаем. Теперь вы будете у себя.
За ее спиной открылась дверь, и в дом вошел Азарьюс; пройдя в комнату Филиппа, он бережно взял на руки спящую Жизель и заботливо закутал ее в шерстяное одеяло. И, тесно прижавшись друг к другу, они в последний раз переступили порог этого дома.
Лишь один раз Роза-Анна обернулась и бросила прощальный взгляд на серый дом, темный и безжизненный на фоне звездного неба.
Она устроила спящую девочку у себя на коленях, а Азарьюс сел за руль. Рокот мотора наполнил ее уши оглушительным шумом и болезненно отозвался в усталой голове. Она прижала лицо к окошечку позади нее, стараясь разглядеть, все ли дети в грузовике. Да, они все были тут — кто стоял, кто примостился на сложенных вещах. Она ясно увидела их в резком свете уличного фонаря. У нее было такое ощущение, словно ее окружало все, что ей удалось спасти от гибели, и словно она сохранила большую часть своего богатства. И в темных глубинах ее подсознания зародилось полувоплотившееся в слова раскаяние: ведь она уже готова была усомниться в благости провидения и сердце ее в последнее время отказывалось от всякой надежды — а это было дурно, очень дурно. Но смутное раскаяние снова приближало ее к отцу небесному, который всегда был источником ее мужества. Она положила в темноте руку на плечо Азарьюса и прошептала совсем тихо:
— Ну, поехали!
Азарьюс тотчас же рывком тронул машину, хотя он лишь с трудом различал дорогу перед собой. Он не привык чувствовать своей ответственности за нищету, в которой жили его близкие, он даже вообще не замечал этой нищеты, но этот похожий на бегство отъезд среди ночи потряс его до глубины души. Какое-то неведомое ему прежде волнение сжимало его горло.
Он вел машину полным ходом, так что скрипели шины на крутых поворотах.
Позднее, ночью, когда дети вокруг уже спали на матрасах, положенных прямо на пол, Роза-Анна осторожно приподнялась на локте и начала пристально всматриваться во мрак. Она прислушивалась к молчанию, стараясь проникнуть в тайну этого дома, который приютил их и тем не менее все еще оставался для них незнакомым.
Опершись локтем на подушку, Роза-Анна спрашивала себя: «Как-то жилось здесь людям — хорошо или плохо?» Ей всегда представлялось, что одни дома благоприятствуют счастью живущих в них людей, тогда как другие по роковому стечению обстоятельств предназначены служить пристанищем только для страдальцев.
Этого дома она по-настоящему еще совсем не видела. Они забыли захватить с собой лампочки и кое-как устроились на ночлег в темноте, при свете зажигалки Азарьюса и нескольких спичек.
Да, она еще не видела своего нового жилья, но уже угадывала его, воспринимала его по запаху, на ощупь и на слух. Внезапно, уже после полуночи, мимо пронесся громыхающий поезд, и она почувствовала, что дом весь заходил ходуном. Тогда она все поняла, но тут же безропотно подчинилась судьбе с тем мужественным добродушием, которое всегда служило ей опорой. Конечно, тут должно было обнаружиться какое-то неудобство. Так уж повелось, что всегда находилось какое-нибудь неудобство. Иногда это был недостаток света; иногда — близко расположенная фабрика; иногда — теснота помещения. Здесь таким неудобством была близость железной дороги.
Вот так тайный недостаток нового жилища открылся ей в глухом содрогании, в лихорадочной пляске расшатанных оконных рам и всего остова, словно объятого паникой.
«Не удивительно, — говорила себе Роза-Анна, — что нам сдали его не очень дорого. Так близко к железной дороге — тут же почти невозможно жить. Я никогда не привыкну к этому грохоту». Однако она не пала духом. Пока еще не пала. Она никогда не сдавалась так скоро. «Кроме неудобств, должно же найтись и что-нибудь хорошее. Утром я все как следует разгляжу. Незачем видеть все в мрачном свете раньше времени».
Азарьюс, лежавший возле нее, заворочался. Роза-Анна наклонилась и тихонько положила руку ему на плечо, проверяя, спит ли он. Азарьюс тотчас встрепенулся.
— Ты не спишь? — грустно спросила она.
— Нет.
Наступило долгое молчание. Потом она опять спросила:
— Ты тоже все думаешь?
Он пробурчал в ответ что-то невнятное и зарылся лицом в подушку. Сон бежал от него.
Теперь его и днем и ночью ни на минуту не покидало ощущение краха. Даже нищета семьи, которую он долгие годы старался не замечать, начинала становиться для него привычной — словно спутница, с которой бродишь по дорогам, пока она не останется где-нибудь на обочине. Она становилась для него привычной, как воспоминание. Роза-Анна… когда-то она была рядом с ним молодой… потом усталой… а теперь измученной. И кончилось тем, что она лежит около него на этом убогом ложе. А ночь вокруг них наполнена невнятными жалобами, вырывающимися у спящих…
Он снова беспокойно заворочался. И внезапное сотрясение их жалкой расшатанной кровати разбудило Розу-Анну.
— Не надо думать так много… — сказала она. — Это ни к чему. От этого только зря устаешь.
И, приподнявшись на матрасе, она заговорила с ним, как разговаривала по ночам с кем-либо из малышей, когда тому не спалось.
— Мы ведь еще вместе, Азарьюс. Мы ведь еще сильные, здоровые. И ничего худшего с нами случиться не может. Только наши руки помогут нам вылезти из беды, поверь мне. А ломай голову, не ломай — не поможет.
Она внезапно умолкла. Последнее время ребенок все сильнее шевелился в ней. Он двигался, словно растревоженный заботами, которые обрушились на его мать.
Роза-Анна улеглась поудобнее и немного заплетающимся языком, поддаваясь овладевшей ею сонливости, пробормотала:
— Спи, бедняга. Постарайся уснуть. Поспишь — и настроение переменится. Поспать — это ведь всегда помогает…
Немного позже, на рассвете, когда Азарьюс наконец уснул, она мужественно поднялась, чтобы обследовать свое новое жилье. Она босиком обошла все комнаты. И только потом оделась и обулась.
И когда около шести часов утра бледный луч проник в комнату сквозь мутное окно, Роза-Анна уже давно трудилась, стоя на коленях перед лоханью с грязной водой, и мокрые пряди волос прилипли к ее лбу.
XXV
В пятницу около девяти часов вечера Эманюэль сошел с поезда на станции Сент-Анри. Погода стояла тихая, безветренная, и далекие звезды сияли сквозь тонкие прозрачные облака.
Был теплый мягкий вечер, прорезаемый беспрестанными воплями сирен и насыщенный кондитерскими ароматами. А сквозь эти пресные благоухания порой прорывались резкие запахи пряностей, поднимавшиеся над нижними кварталами у канала, откуда южный ветер доносил их до холма, по склону которого тянется предместье Сент-Анри.
Это был один из тех вечеров, какие редко выдаются в предместье и какого никогда не увидишь в других кварталах города, куда не вторгаются эти пряные запахи, это дыхание иллюзии. Вечер, в котором привычное и экзотическое сплетено так тесно, что невозможно определить, где кончается реальность и где начинается мираж. И все же со времени бесцельных шатаний своего детства Эманюэль запомнил немало таких вечеров. В такие вечера весь трудовой люд — прядильщики, прокатчики, пудлинговщики, ткачихи, — словно сговорившись, покидает свои жилища и устремляется на улицу Нотр-Дам в поисках приключений. Ему самому нередко случалось бродить такими вечерами в поисках неведомой радости, огромной, как небо, распростертое над его головой.
Он прошел до конца набережной. И здесь, окруженный знакомыми картинами и привычными запахами, он остановился и взглянул вверх, на предместье. Родной провинциальный уголок среди большого города? Да, ни одному из кварталов Монреаля не удалось сохранить в такой неприкосновенности своих границ, своего деревенского образа жизни, всех своих отличительных черт, как предместью Сент-Анри.
Неподалеку от вокзала дети играли в классы, и их крики смешивались с гудками паровозов, которые, набирая скорость, мчались мимо дворов, чахлых деревьев, протянутых веревок с бельем — мимо хмурых обрывков чужой интимной жизни, мелькающих на пути поезда, летящего через город. Оттуда, где он стоял, Эманюэлю были видны церковные шпили, пронзающие вихри копоти. Его предместье жило своей обычной жизнью, вечно перебиваемой отъездами, странствиями и вечно равнодушное к отъездам и странствиям. На улице Нотр-Дам торговка прикрывала лотки с овощами. Ее деловитый силуэт двигался взад и вперед за окнами лавки. Торговец жареным картофелем проехал в своей повозке, которую тащила понурая, изнуренная кляча. У ресторана «Две песенки» прохожие замедляли шаг, прислушиваясь к доносившемуся оттуда голосу диктора, сообщавшего последние новости. Рядом букинист продавал с лотка географические карты. Спешили куда-то женщины, крепко прижимая к груди большие пакеты. А сверху, из окна стеклянной будочки, возвышавшейся над крышами домов, время от времени высовывался железнодорожный диспетчер, и казалось, будто он наблюдает за кишащим внизу людским муравейником. Все окна были распахнуты настежь, и звуки человеческой жизни — обрывки разговоров, стук посуды, всяческие шумы домашнего обихода — носились в воздухе, так что казалось, будто семейная жизнь уже больше не замкнута в стенах домов, а вырвалась наружу, выставляя напоказ все свои тайны.
А внизу скользят по реке плоские барки, грузовые суда и танкеры, баржи с Великих озер, грязные лодчонки, и благодаря им предместью Сент-Анри знакомы запахи товаров со всего света: соснового северного леса, цейлонского чая, индийских пряностей и бразильских орехов. Но на улице Дю-Куван, словно в глухом провинциальном уголке, оно укрывает за решеткой своих монахинь, которые парами появляются на улице, когда колокола звонят к воскресной вечерне или к поздней заутрене.
Днем предместье живет беспощадной трудовой жизнью города. А вечером — тихой деревенской жизнью, и тогда его обитатели переговариваются друг с другом, сидя в холодке у порога своих жилищ или выставив стулья на край тротуара.
Сент-Анри — деревенский муравейник.
Эманюэль, повидав свет и возмужав за эти несколько месяцев, теперь, по возвращении в предместье, смотрел на него иным взглядом, зорким и наблюдательным. Он видел Сент-Анри, как никогда не видал его прежде — со всей его сложной, но лишенной каких-либо прикрас жизнью. И он полюбил его еще больше — так путник, вернувшись из долгих странствий, еще сильнее любит свое село, свой родной угол, где находит все на привычном месте, где встречные узнают и приветствуют его.
Быстрым движением он вскинул на плечо свою сумку и отважно пустился в путь.
«Прекрасный вечер», — все время повторял он себе по дороге; так порой мы простодушно поздравляем самих себя с хорошей погодой или с приятным расположением духа, когда все нас радует.
Внезапно он остановился в нерешительности. В витринах и на всех углах виднелись сводки последних известий — в них было напечатано последнее патетическое воззвание Гамелена к французским войскам: «Стоять насмерть!»
Эманюэль почувствовал, что снова тонет в бессмыслице. Он представил себе жестокую кровавую сцену. И на мгновение он перестал видеть прямые столбики дыма, поднимавшиеся над крышами в светлое небо. Он перестал всей грудью вбирать воздух, словно ставший непригодным для дыхания. И вдруг ощутил тягостную тревогу, витавшую над предместьем. Он наконец заметил, что и рабочие, проходившие мимо, держа под мышками сумки с завтраком и низко надвинув кепки, выглядят более суровыми и озабоченными, чем обычно, словно с горечью предчувствуют бедствие, которое пока еще их не коснулось. И тут же он отметил про себя, что на центральной улице прогуливается очень мало молодых людей; эти немногие молодые мужчины, как и он сам, куда-то торопились, и большинство из них было в военной форме.
Эманюэль пошел дальше, помрачнев. Вскоре он очутился перед магазином «Пятнадцать центов», и образ Флорентины завладел его воображением. Он остановился было и заглянул в кафе, но из-за густой толпы, теснившейся у длинного стола, не смог увидеть девушку. Ему захотелось тут же войти и поговорить с Флорентиной. «Но вряд ли это удастся в такой толпе», — подумал он и решил было подождать ее у входа — магазин скоро должен был закрыться. Потом он сообразил, что весь в пыли и что ему не мешало бы привести себя в порядок. Щеки его окрасил яркий румянец; он пошел дальше, насвистывая популярную песенку «Амапола», которую механические радиолы выкрикивали вдоль всего его пути. И он шел, насвистывая не столько с увлечением, сколько с упрямством, как поют иногда, чтобы придать себе бодрости, убедить себя, что бояться нечего.
Минут десять спустя он уже целовал свою мать и сестру Мари и вынимал из сумки, брошенной посреди гостиной, полковые фотографии. Потом, пока его родные передавали фотографии друг другу, стараясь узнать Эманюэля среди его однополчан, он поднялся в свою маленькую комнатку. Она выходила окнами на сквер, где деревья звенели птичьим щебетом и слышалось мягкое журчание фонтана. Эманюэль выглянул в окно. Он вдохнул всей грудью запах сирени, затем отвернулся от окна и занялся туалетом. Бреясь, он время от времени оглядывал комнату дружелюбным взглядом и старался разобраться в том приятном ощущении, которое охватило его, едва он сюда вошел. Ведь прежде он терпеть не мог подолгу сидеть здесь, ненавидел свою пресную гражданскую жизнь и тяготился даже заботливостью матери. Но сейчас эта небольшая комнатка показалась ему приятной. На кольце в полном порядке висели его яркие галстуки, подаренные сестрой, и, хотя они казались ему безвкусными, он все же пожалел, что не сможет сегодня надеть какой-нибудь из них — вот этот, синий в белый горошек, или этот, красный в черную полоску. Он потрогал трубки, разложенные в ряд на комоде, и с улыбкой вспомнил, что когда-то прежде курил трубку… давным-давно, когда он был еще совсем юнцом — в восемнадцать лет. Сколько воспоминаний навевали все эти привычные вещи — стоило прикоснуться к трубке, к пепельнице, от которой еще пахло холодным табачным пеплом, к своему снимку, засунутому за рамку зеркала… Господи, каким смешным, наивным и несчастным выглядел он тогда… До чего же он, наверное, был скучным и угрюмым! Он снова вернулся к окну, продолжая насвистывать «Амаполу», от которой ему никак не удавалось избавиться, затем, внезапно став серьезным, подошел к зеркалу и начал внимательно изучать свое лицо. Флорентина! Полюбит ли она его?.. Найдет ли она приятными эти черты, которые он рассматривал сейчас с такой тревогой? Поймет ли она, что он очень чистосердечен, очень увлечен ею и главное — уже и сейчас несчастен без нее?
Он рассматривал свое лицо, как будто никогда не видел его раньше. Губы были тонкими и серьезными, выражение застенчивости придавало ему очень юный вид, гораздо более юный, чем ему хотелось бы. Но в серо-голубых глазах мелькали отсветы раздумий, отваги и грусти. Пепельно-русая прядь падала на лоб; он нетерпеливо отбросил ее и начал причесываться, стараясь расположить волосы так, чтобы выглядеть постарше.
Потом он снова подошел к окну и облокотился о подоконник. Флорентина!.. Он разрывался между жаждой бежать к ней и желанием просто помечтать о ней, устремив взгляд в этот тихий сумрак. Когда он полюбил ее? В тот первый раз, когда увидел ее в кафе? Или когда они самозабвенно танцевали вдвоем? Или потом, в лагере, когда ее образ каждый вечер вставал перед ним в клубах табачного дыма, отравлявшего воздух солдатской столовой? Там она мало-помалу стала для него привычной мечтой, источником покоя и отдохновения в те долгие часы, когда он, сломленный усталостью, лежал с закрытыми глазами на своей узенькой койке. Ах, Флорентина!.. Быть может, он неверно представлял ее себе в те вечера в лагере, когда мысленно танцевал с ней, разговаривал с ней, бродил с ней по городу, ел с ней, смеялся с ней! Похожа ли она в действительности на странную девушку его мечты, которая разгоняла его тоску, или же она совсем иная и ему еще предстоит завоевывать ее любовь? Та Флорентина его грез любила его; она, как и он сам, была то безрассудно веселой, то беспричинно грустной; она следовала за ним по путям его раздумий. Но настоящая Флорентина?
Снизу, из гостиной, время от времени доносился мягкий смех Мари, который так редко звучал в доме. Эманюэль прислушался к этому веселому приятному смеху. Ведь она почти никогда не смеялась. Необходим был его приезд, чтобы она вдруг стала совсем другой — может быть, своей веселостью она пыталась удержать его дома. «Сестренка Мари!» — подумал он растроганно. Но тем не менее он ясно понимал, что, несмотря на искреннюю привязанность к матери и сестре, он, едва приехав, уже жаждет уйти отсюда. У него было такое ощущение, словно судьба подарила ему один-единственный вечер счастья и за этот вечер он должен растратить столько чувств, что их хватило бы, чтобы наполнить целую жизнь.
Закончив свой туалет, он сбежал по лестнице, прыгая через четыре ступеньки. Бросив на ходу смущенное и торопливое «до свиданья» родным, с которыми побыл совсем недолго, он вышел на улицу с таким ощущением, словно вырвался из тюрьмы — о, из очень приятной и совсем не строгой тюрьмы, где его окружала нежность, но где тем не менее ему иногда бывало не по себе. Освободившись от своей сумки, освободившись от ощущения времени, которое бежало теперь, приближая его к Флорентине, он пошел по тротуару бодрым стремительным шагом. На секунду у него мелькнула мысль, что мать могла догадаться, к кому он спешит, и он досадливо поежился. Потом он решил, что все так или иначе откроется не сегодня-завтра, обещал себе при первом удобном случае рассказать обо всем матери и, тряхнув головой, отогнал от себя эти мысли. В сущности, ему нравилось окружать свою любовь тайной, хотя бы на время.
Он шел широким пружинящим шагом. Его фигура сильно выиграла от строевых упражнений. Походка стала тверже, голову он держал прямее, хотя она все же немного склонялась набок, как только он покидал строй и его не сковывала жесткая дисциплина.
Когда он дошел до улицы Бодуэн, глаза его светились радостной уверенностью. Он думал о том, что все-таки правильно поступил, не зайдя в магазин «Пятнадцать центов». Для этой первой встречи, которая отметит начало их новых отношений, лучше всего зайти к Флорентине домой, как положено, если они собираются встречаться по-настоящему. И он улыбнулся, подумав о том, что до сих пор просто боялся этих слов.
Он сразу же узнал нужный домик, хотя видел его всего один раз, в то утро — как оно ему запомнилось! — когда после церкви провожал сонную Флорентину. Он сразу же узнал его, но только сейчас заметил, какой это маленький и убогий домик, и к его влюбленности примешалась даже не жалость, а огорчение: «Как ей, такой кокетливой, такой впечатлительной, должно быть тягостно жить в этой лачуге!»
Не находя звонка, он нетерпеливо ударил кулаком в дверь; потом поднял голову и сунул пальцы за воротник мундира. На его лбу выступили мелкие капли пота. Он вытер их платком и улыбнулся, слегка выпятив губы, словно посмеиваясь над своей нервозностью.
Наконец какая-то незнакомая женщина с сердитым и усталым лицом отворила ему дверь.
Нет, Лакассы здесь больше не живут. Они переехали. Она не знает куда. Может быть, знает ее муж. Она сейчас его спросит.
Через бесконечно долгую минуту она вернулась с адресом, нацарапанным на клочке бумаги. Эманюэль схватил его и, бормоча слова благодарности, быстро ушел. Ему не сразу удалось отыскать этот дом — пришлось расспрашивать нескольких прохожих. Он находился в тупике, выходившем на улицу Дю-Куван. Тротуара не было. Дом прилепился к самому железнодорожному полотну, в какой-нибудь сотне шагов от станции.
Эманюэль был растроган при мысли о том, что недавно, когда он прогуливался по набережной, он, сам того не подозревая, подошел совсем близко к дому, где жила Флорентина.
В первую минуту он заколебался, постучать ли в переднюю дверь. Чтобы добраться до нее, надо было пройти вдоль самых рельсов, а на двери лежал такой густой слой сажи, словно ее не отворяли уже многие месяцы. Наконец он решился, осторожно постучал по косяку, и почти тотчас же появилась запыхавшаяся Роза-Анна.
Она сразу узнала его, хотя не видела с той далекой поры, когда ходила к ним делать всякую домашнюю работу. Лицо ее засветилось радостью.
— Ах, это вы, мосье Эманюэль! — сказала она.
На ней был просторный, не стянутый поясом халат, и, по-видимому, она только что оторвалась от уборки — ее лицо было в пыли.
Она захотела, чтобы он обязательно вошел и посидел у них. Настаивая на этом, она провела его в единственную комнату, которую успела сделать чистенькой и приветливой, в комнату, где портреты родителей и изображения святых в сотый раз воскресили их обычную семейную атмосферу. Он не смог отказать Розе-Анне в этом знаке уважения и вежливости, но, сидя перед ней, мучительно ждал, когда же она его успокоит. Наконец она заговорила о том, что его волновало. Ибо по застенчивости он ни слова не сказал о цели своего визита, надеясь, что Роза-Анна догадается и сама.
— Вы хотели повидаться с Флорентиной? — спросила она, заметив выражение его лица.
Эманюэль улыбнулся и быстро кивнул.
— Она еще не вернулась, — проговорила она и опустила глаза.
Наступило молчание. Роза-Анна в полном смущении ломала голову над тем, как бы объяснить странное поведение Флорентины в последние дни, не огорчив молодого человека и, главное, не оттолкнув его. Но как могла она сказать, что Флорентина возвращается домой только для того, чтобы есть и спать, и даже в эти минуты замыкается в пугающем безмолвии? Как сказать ему, что Флорентина — уже не та веселая, беспечная девушка, с которой он познакомился как-то вечером? Однако она видела во взгляде Эманюэля такую искренность, такую твердость характера, что готова была признаться ему в том, о чем не могла бы рассказать даже Азарьюсу. А кроме того, быть может, именно Эманюэль и сумеет вернуть Флорентине ее прежнюю веселость, ее утраченную живость. Ведь, судя по всему, она могла скучать все это время как раз о нем. Розе-Анне только и оставалось, что строить догадки — Флорентина уклонялась от каких-либо объяснений с того дня, как убежала из дому. Вернувшись на другое утро, она ни слова не сказала о своем странном поступке; она заявила только, что слишком устала, слишком изнервничалась и потому вовсе не думала о том, как себя ведет.
Роза-Анна подняла голову, и на мгновение в ее глазах загорелась надежда.
— А вы не заходили в магазин? — спросила она. — Может быть, она задержалась на работе дольше обычного. В субботние вечера…
Он недоверчиво улыбнулся, отчетливо понимая, что Флорентина никак не могла оставаться в магазине так поздно. Роза-Анна продолжала:
— Иногда она ночует у своей подружки, Маргариты Летьен. Может быть, она и сегодня к ней пошла. Иногда они ходят вместе в кино, ну, или там гуляют, если погода хорошая…
Она умолкла в полном замешательстве: Эманюэлю, разумеется, должно показаться странным, что мать понятия не имеет, где проводит вечер ее дочь. Тогда — чтобы переменить тему, а может быть, чтобы поблагодарить его за визит, показать ему, как она рада и как уважает семью Летурно, — она принялась расспрашивать молодого человека о каждом из его родственников. Но она все еще говорила очень сдержанно.
— Как поживает ваша сестрица Мари и ваша матушка? — сказала она. — Передайте им, пожалуйста, что я всегда помню о них.
— И они тоже вас не забывают, — поспешил ответить Эманюэль несколько рассеянным тоном, так как из всего, что ему говорила Роза-Анна, он обратил внимание только на одно: Флорентина сейчас, наверное, у своей подружки Маргариты.
Он поднялся с места — не резко, но настолько нетерпеливо, что Роза-Анна сразу все поняла и не стала его удерживать. Она проводила его до двери и еще раз довольно неловко попросила его передать наилучшие пожелания родителям. Потом она постояла на пороге, глядя ему вслед, как это делают в деревне, и крикнула:
— Теперь вы уже знаете дорогу, так наведывайтесь к нам! Может быть, в другой раз вам повезет больше.
Внезапно с чувством щемящей нежности она вспомнила, как в давние времена прощалась с Азарьюсом, вот так же прислонясь к дверному косяку, и кричала ему вслед сквозь ветер, пригибавший траву перед домом: «Возвращайся… теперь ты уже знаешь дорогу…» И ее вдруг охватило такое волнение, что она поспешно бросилась назад в комнату, ослепленная каким-то непонятным сожалением, неожиданным возвратом юности.
Тем временем Эманюэль, разбрасывая тяжелыми башмаками гравий насыпи, уже почти скрылся из виду. На переезде, где железнодорожная линия пересекается с улицей Дю-Куван, он на минуту остановился, раздумывая. Он тут же решил искать Флорентину, если понадобится, даже у Маргариты. Затем он снова пустился в путь, на сей раз по направлению к переулку Сент-Зоэ, так как помнил одну Маргариту Летьен, жившую в этом дальнем конце квартала, и был почти уверен, что это и есть подружка Флорентины. Он продолжал идти бодрым шагом, но сердце его печально сжималось. Правда, пока еще он не очень тревожился. Он только опасался, что ему предстоит провести этот прекрасный вечер без Флорентины. Без Флорентины, которая шла бы рядом с ним, как это представлялось ему в мечтах. Но уже из-за одного этого вечер показался ему бесцветным и скучным. У него было так мало времени. Две недели отпуска пройдут быстро. Нужно было превратить каждую минуту в две.
Маргариты дома не оказалось. Ее тетка не знала, куда она ушла.
В глубине души Эманюэль весь вечер опасался этой минуты, когда доводы холодного рассудка возьмут над ним верх и он неминуемо столкнется с мучительными сомнениями. Думает ли еще о нем Флорентина? Ведь их дружба была такой краткой! Не появились ли у нее новые друзья за время его отсутствия?
Он побрел по улице Нотр-Дам, то отбрасывая все мысли, способные ввергнуть его в отчаяние, то, отдаваясь сомнениям, как отдается стихиям открытое, распаханное поле, обнаженная земля. Но он отказывался от надежды только для того, чтобы минуту спустя цепляться за нее с еще большим упрямством. Временами его охватывала уверенность, что он сегодня же вечером встретится с Флорентиной. Тогда он начинал присматриваться к девушкам, которые прогуливались, потом стал обращать внимание только на тех, которые шли с молодыми людьми. В словах Розы-Анны, вдруг вспомнилось ему, чувствовалась какая-то недоговоренность — может быть, Флорентина ушла гулять с каким-нибудь другом? Он подумал о Жане Левеке, и лоб его пересекла морщина. Но возможно ли, что Жан и Флорентина — друзья? Ведь они беспрестанно ссорились? Однако случается и такое. Бывает, что люди постоянно ссорятся, все время причиняют друг другу боль и тем не менее не могут преодолеть взаимного влечения… Но, подумав, он решил, что дружба между Флорентиной, чье самолюбие было ему хорошо известно, и язвительным насмешником Жаном совершенно невозможна. К тому же Жан прислал ему короткое письмо, в котором сообщал, что навсегда покидает Сент-Анри и будет теперь работать в Сен-Поль-Лермит. Внизу стоял постскриптум: «Меня ждут большие дела».
Эманюэль дошел до вершины холма Сент-Анри. От этой прогулки ему захотелось пить, и он повернул к ресторанчику «Две песенки».
XXVI
Несколько мужчин стояли посреди зала, застыв в молчании; другие прислонились к прилавку, не замечая, что их трубки погасли. Все напряженно слушали последние новости с фронта. В этот час обычные радиопрограммы часто прерывались передачей последних известий. Легкая музыка только что умолкла, и заговорил диктор. Он коротко сообщил последние новости, и затем снова раздалась музыка. Окаменевшие фигуры зашевелились, и несколько человек заговорили разом.
Внезапно прозвучал чей-то глухой голос, похожий на стон:
— Несчастная Франция!
Эманюэль, снова ушедший в свои неотвязные мысли, которые он хотел отогнать от себя хотя бы на время отпуска, с нервной поспешностью зажег сигарету. Набегавшие морщинки ломали линию его бровей. Он курил короткими затяжками, словно не в силах справиться с каким-то внезапным бурным волнением.
Человек, заговоривший о Франции, стоял возле него, облокотясь на прилавок и опустив голову на сжатые кулаки. Потом он выпрямился — медленно, с трудом, словно приподнимая на своих плечах тяжелое бремя страданий; Эманюэль узнал Азарьюса Лакасса, который в свое время делал мелкую столярную работу для его родителей, и тотчас протянул ему руку с той простой и спокойной приветливостью, которая всех к нему располагала.
— Мосье Лакасс, я Эманюэль Летурно, — сказал он. — Я хорошо знаком с Флорентиной.
Азарьюс посмотрел на него — казалось, он был удивлен, услышав имя своей дочери.
— Да, дело плохо! — произнес он вместо ответа. — Несчастная Франция, несчастная Франция!
Он был глубоко взволнован. Этот странный человек, который, понимая бедственное положение своей семьи, не признавал своего поражения, этот лодырь, как его называли в предместье, этот легкомысленный мечтатель был близок к отчаянию только потому, что в далекой стране, известной ему лишь понаслышке, в кровавом сражении решались судьбы армий.
— Франция! — пробормотал он.
Он произносил это слово так, словно в нем заключалось для него что-то близкое, родное и вместе с тем магическое — и привычная повседневность, и редкостное, необычайное чудо.
— Какая прекрасная страна — Франция!
— А откуда вы знаете, что она такая уж прекрасная? — вставил молодой капельдинер из кинотеатра «Картье». — Вы же там никогда не бывали.
Он не упускал ни одного удобного случая сцепиться с Азарьюсом, который как-то вечером упрекнул его за то, что он не пошел в армию.
— Откуда я знаю? — проговорил Азарьюс звучным мягким голосом без тени раздражения. — Откуда ты знаешь, что солнце прекрасно? Потому что издалека, через миллиарды миль — так нам говорят астрономы, — ты чувствуешь его тепло и его свет, верно? Откуда ты знаешь, что звезды хороши? Ведь эти дырочки черт его знает как далеко в небесной тверди? Потому что на расстоянии в мили, и в мили, и в мили тебе видно их сияние по ночам, как бы ни было темно.
Он начал горячиться, и в его словах зазвучал грубоватый безыскусственный лиризм.
— Да, Франция, — говорил он. — Она как солнце, как звезды. Пусть она далеко, пусть мы ее никогда не видели, мы — французы, исконные французы, только уехавшие из Франции, хоть мы и не знаем, какая она — Франция. Ведь мы так же не знаем и что такое солнце, и что такое звезды — знаем только, что они посылают нам свой свет и днем и по ночам… И по ночам, — повторил он.
Он стал рассматривать свои праздные руки, поворачивая их так и сяк; он рассматривал их с изумлением, которое, казалось, испытывал всегда, видя, какие они белые и бесполезные. Потом он вдруг торжественно поднял их кверху.
— Если погибнет Франция, — произнес он, — это будет так же плохо для всего мира, ну, скажем, как если бы исчезло солнце.
Наступила тишина. Все эти люди, даже самые грубые и самые молчаливые, любили Францию. Они пронесли через века таинственную и нежную привязанность к своей далекой отчизне, брезжившую в глубине их душ, словно неясный свет, смутную, но постоянную тоску, редко находившую выражение в словах, но слитую со всем их существом, подобно их религии и наивной прелести их языка. Но когда один из них высказал эту простую истину вслух, они были удивлены и даже смущены, словно вдруг заметили, что раскрыли друг другу свою тайну. Эманюэль, который прислушивался к словам Азарьюса сначала с удивлением, затем с нерассуждающей увлеченностью юной и благородной натуры, а потом с некоторой сдержанностью, чувствуя, что этот патриотический пыл не успокаивает его тревоги и не отвечает его жажде справедливости, теперь задумчиво держался поодаль. Несколько мужчин постарше подошли к Азарьюсу, и один из них, хлопнув его по плечу, вскричал:
— Хорошо сказано, Лакасс!
За прилавком Сэм Латур почесывал затылок, стараясь не показать, как сильно он взволнован, — его переполняла непередаваемая гордость, вроде той, которую он испытывал ежегодно, слушая проповедь в день праздника Иоанна Крестителя[8].
— Конечно, но проку-то от этого немного, — заметил он, стремясь перевести разговор на более понятную тему. — Лучше бы они там, во Франции, думали о подготовке к войне, а то они, как эта птица — страус, что ли? — которая сует голову в песок, когда видит, что надвигается опасность… Я уже тебе сколько раз говорил, Лакасс, что их линия Имажино, Имажино… мало чего стоит!
— Во первых, не Имажино, а Мажино. По фамилии инженера Мажино, создавшего эти укрепления, — поправил его Азарьюс.
— Все одно — ничего это не стоит. — Одни выдумки!
— Может быть. Но дело решается не так-то просто, — отрезал Азарьюс. — Крепость — она и есть всего только крепость. Это еще не вся страна. Страна — совсем другое. Если крепость пала, это еще не значит, что страна погибла.
Его постепенно охватывал ораторский пыл и приятное ощущение, что его слова убеждают слушателей. Он огляделся по сторонам, словно обращаясь не к этой группе жадно внимавших ему зевак, но к огромной толпе, гул которой внезапно зазвучал в его ушах.
— Франция не погибла, — сказал он.
— Но я же тебе все-таки не раз говорил, что их линия Мажино ничего не стоит, — настаивал Латур. — Я говорил тебе: это — ну, вроде бы как я сам за прилавком… Очень легко пырнуть меня в бек…
И, довольный удачным сравнением, он обвел взглядом слушателей, как бы предлагая им самим убедиться в справедливости его слов. Но Азарьюс перебил его почти грубо:
— Франция не погибла. Всякий раз, как на Францию обрушивалось какое-нибудь бедствие, она поднималась потом еще более сияющая, чем прежде. Не раз видали, какова она, Франция, когда ей грозит гибель. Мы все знаем это из истории. И еще мы знаем, что в минуты опасности у Франции всегда находился кто-нибудь, кто вел ее к победе. В древние времена это была Жанна д’Арк. Потом Наполеон Бонапарт. И в последней войне, не забывайте, у Франции был маршал Фош. Кто будет теперь? Этого еще никто не знает, но у нее будет спаситель. В грозный час у Франции всегда находился освободитель.
Он помедлил, облизывая губы и ожидая одобрения слушателей. Но глубокое душевное волнение, охватившее было окружавших его людей, уже улеглось, и им захотелось пошутить.
— Да ты, черт возьми, знаешь историю как свои пять пальцев! — вскричал Латур. — Ты ходишь в вечернюю школу?
И все присутствовавшие поддержали эту непритязательную шутку громким хохотом и восклицаниями:
— А что! Видно, он от учебы не отлынивает! Оно и не без пользы!
— Да, я читаю, я стараюсь узнать побольше, — сухо ответил Азарьюс.
Он помрачнел. Потом он заметил Эманюэля, чье склоненное, скрытое тенью лицо было таким юным, таким задумчивым, что Азарьюс дружески положил руку на плечо молодого человека.
— А вам, молодой солдат, — сказал он, — вам очень повезло!
Он окинул зал растерянным, печальным взглядом, потом снова взглянул на Эманюэля.
— Вы молоды, — продолжал он, — у вас есть мундир и оружие, вы можете сражаться.
— Черт возьми, ты говоришь, как самый древний старик во всей деревне, — бросил Латур, — а ведь ты ни чуточки не старше меня!
— Я уже немолод, — ответил Азарьюс.
И голос его внезапно зазвучал надтреснуто.
Но почти тут же он выпрямился — выпрямился прямо перед Эманюэлем, словно для того, чтобы помериться с ним ростом, и его голубые глаза сверкнули.
— Привет! — крикнул он и вышел.
Некоторое время спустя Эманюэль вышел за ним и снова отправился бродить по городу.
Слова Азарьюса произвели на него сильное впечатление, и он еще больше заинтересовался противоречивой натурой этого человека, который, как все говорили, не мог обеспечить своей семье сносного существования и в то же время обладал такой силой убеждения. Лакасс его интересовал, но к этому примешивалась, пожалуй, и некоторая доля любопытства. И поскольку размышления об отце Флорентины как бы сближали его с ней самой, он попытался яснее определить то впечатление, которое произвел на него Азарьюс Лакасс. У Эманюэля было такое чувство, словно он соприкоснулся с прекрасной и благородной идеей, которую не решался принять полностью, ибо она могла таить в себе опасность. Разумеется, он и сам тоже любил Францию. Как все молодые канадцы французского происхождения, воспитанники коллежей, следовавших французским традициям, если не французскому хорошему вкусу, он разделял многие консервативные идеи, верил в живучесть национального духа, почитал традиции предков, культ национальных праздников — но в этих застывших представлениях, подумал он, не было ничего, что могло бы воспламенить воображение молодежи, ни даже по-настоящему поддерживать мужество: вот и его отец, будучи пламенным приверженцем Франции, тем не менее всячески уговаривал сына не вступать в армию и не спешить на защиту той самой Франции, которую он, по его словам, так горячо любил. И все же в течение некоторого времени Эманюэль, пожалуй, был приверженцем этого культа французской нации, который словно ожил и помолодел в его сердце. Может быть, он, так же как и Азарьюс, увидел в этом культе нечто большее, чем простую верность прошлому. Может быть, ему, несмотря на всю его юность, открылись величие и красота живой Франции. Но он знал, что не только этот порыв заставил его сделать решительный шаг. Он любил Францию, он любил все человечество, бедствия порабощенных стран вызывали у него глубокое сострадание, но он знал, что бедствия царили повсюду на земле и до войны и что бороться с ними надо не силой оружия. Несмотря на то, что по природе он был очень чуток и отзывчив, идея справедливости владела им, пожалуй, сильнее, чем сострадание, и долгое мученичество Китая или глубокая нищета Индии возмущали его не меньше, чем оккупация Франции. И, углубляясь во все эти сложные, жгучие, порой противоречивые размышления, он и сам уже больше не понимал, какие побуждения заставили его добровольно подчиниться военной дисциплине. Но тут он внезапно рассердился на себя за это постоянное возвращение к собственной персоне. Он прекрасно знал, что когда-нибудь ему предстоит сделать смотр всем своим мыслям, чтобы найти свою собственную, неопровержимую правду, но предпочитал, чтобы это произошло не сегодня вечером. Сперва он хотел дать себе несколько дней полного отдыха. И он снова вызвал в памяти нежный образ Флорентины.
Бесцельно бродя по городу, он уже не раз оказывался на улице Дю-Куван, в нескольких шагах от того дома, где жили Лакассы, но не решался опять зайти туда, чтобы не докучать Розе-Анне.
Около одиннадцати часов вечера он снова начал надеяться на встречу и решил постоять у кинотеатра «Картье» в то время, когда там кончается сеанс. Оттуда вышло человек тридцать, и он внимательно присматривался к ним; вдруг одна девушка показалась ему настолько похожей со спины на Флорентину, что он сразу ринулся к ней и уже протягивал руки. Девушка обернулась и при виде Эманюэля с вытянувшимся от досады лицом прыснула со смеху.
Эманюэль ушел, упрекая себя, что мог принять ее за Флорентину. Подумав, он решил, что эта девушка, в сущности, вовсе на нее не похожа и совсем не красива, и ему захотелось тут же рассказать о своей ошибке Флорентине и, быть может, немного посмеяться вместе с ней. Потом в нем шевельнулось смутное беспокойство. Так ли уж хорошо он знает Флорентину? Какая она на самом деле? Склонная к веселью или втайне печальная?
Вспыльчивая или кроткая? Да, немного вспыльчивая, решил он, вспомнив случай в кафе, когда она рассердилась на него и на Жана. «Но ведь ее окружают такие грубые люди! И работа должна ее раздражать! Она, наверное, очень устает!» — говорил он себе. И он начал вспоминать черты ее лица, закрыв глаза, чтобы ярче представить себе тот ее образ, который сохранился в его памяти с первой их встречи. Все другие встречи уже не добавили ничего нового к этому первому впечатлению. С того самого дня он сохранил о ней ясное, точное, отчетливое воспоминание. Он видел ее небольшой прямой нос, горящие глаза, тонкую, прозрачную кожу щек и даже небольшую жилку на шее, которая обозначалась при малейшем волнении. Он вспомнил, какой тонкой показалась ему ее талия, когда они танцевали. И в его ушах зазвучали слова Жана. «Она слишком худая», — сказал Жан. «Нет, — подумал Эманюэль, — не худая, а миниатюрная, очень миниатюрная». Ему понравилось это слово — по его мнению, оно очень точно определяло Флорентину. Он сказал себе, что это будет первое слово, которое он употребит, если ему случится описывать Флорентину какому-нибудь приятелю. «Миниатюрная, такая миниатюрная…» — повторял он, продолжая идти. И вдруг у него болезненно сжалось сердце: он мысленно увидел перед собой жалкое жилище Лакассов и Розу-Анну — как она сидела перед ним, такая кроткая и смиренная. «И она тоже, — сказал он себе, — была, наверное, когда-то тоненькой и хорошенькой».
Снова подумав о Флорентине, он произнес вслух:
— Там ей не место.
И он опять представил себе шумный, полный народу магазин на улице Нотр-Дам, покрытый копотью домик, лепившийся у железнодорожного полотна. «Там ей не место», — упорно повторял он, как будто, вознегодовав против судьбы Флорентины, мог облегчить ее жизнь.
Из каждой настежь распахнутой лавочки, мимо которой он проходил, вырывался могучий металлический голос. Иногда Эманюэль не мог расслышать какие-то слова, а из другой лавочки уже доносился тот же голос, доканчивавший следующую фразу. Сотни репродукторов справа и слева от него, позади, впереди, выкрикивали отрывки последних известий, изо всех сил стараясь напомнить ему о кошмаре, в котором, изнемогая, билось человечество. Он пытался не слушать, а если и слушал, то силился оградить свое сознание от вторжения мрака и ужасов, не воспринимать ничего, кроме слов, бессмысленных, бессвязных, оглушавших его своим звучанием.
Мало-помалу в его впечатлительной душе разочарование уступало место надежде на завтрашний день. «Завтра я увижу ее, — говорил он себе. — Да, да, завтра…» И это словно наполняло его душу радостным волнением. Ему хотелось бы, чтобы эта ночь уже прошла, но он утешал себя мыслью — может быть, это и к лучшему, что ему не удалось увидеть Флорентину сразу же по приезде. Теперь вся его радость была впереди, его доля радости была еще не тронута, он еще не прикоснулся к ней, сохранил ее всю.
«Завтра…» — повторял он, подбадривая себя, — так упрямый путник, задавшийся целью пройти большое расстояние, намечает себе все более и более отдаленные цели. «Да, завтра, пусть даже послезавтра… если не выйдет раньше». Однако он ясно понимал, что не сможет долго выдерживать такое напряженное ожидание в одиночестве. И тем не менее он даже не думал о возвращении домой. Мать обязательно спросит: «Как ты провел вечер, Манюэль?» И своим вопросом вновь напомнит ему о его разочаровании. А он, возможно, скажет ей о своих бесплодных поисках. Тогда она дружески пожурит его и добавит (он был так уверен, что она скажет именно это!): «Послушай, Манюэль, но ты же можешь выбирать среди самых воспитанных девушек в Сент-Анри!»
«Воспитанных…» Это слово она произносила чаще всего подчеркнуто дружеским тоном, подумал Эманюэль. Он невольно улыбнулся. Воспитанная! Была ли Флорентина воспитанной? Нет, решил он. Она была типичной девушкой из предместья, с грубоватыми словечками, с простонародными манерами. В ней было нечто лучшее, чем воспитанность… Знакомая с бедностью, бунтующая против бедности Флорентина с ее развевающимися волосами, с ее маленьким решительным носиком, с ее забавными, иногда грубоватыми словами — словами истины — была самой жизнью.
Нет, чем больше он об этом размышлял, тем меньше надеялся, что мать одобрит его выбор. Это удручало его, но нисколько не ослабляло его решимости. Однако он еще не чувствовал себя в силах преодолеть сопротивление семьи. Сегодня вечером он не смог бы перенести ничего, что противоречило бы его настроению.
Ну, а тогда что же? Поискать кого-нибудь из приятелей? Но он не мог вспомнить ни одного, чье общество было бы ему сейчас необходимо, приятно или полезно. Казалось, он и все его бывшие приятели находились теперь на разных планетах. Эти молодые люди, которые в годы войны продолжали жить своими мелкими личными интересами, слишком возмущали и раздражали его. Сегодня вечером, раз уж ему не удавалось найти полное забвенье, он скорее предпочел бы соприкоснуться с чем-нибудь неизведанным, волнующим, тревожным. Он думал даже, что ему было бы интереснее перекинуться несколькими словами с первым встречным на улице, чем вести длинные разговоры с людьми своего круга. Ему казалось, что этим вечером в его сердце и в сердцах рабочих живет один и тот же мучительный вопрос. Ведь его самого переполняло множество сложных, противоречивых чувств и стремлений, которые надо было понять и примирить. Это желание проникнуть в душу народа было у него всегда, но сегодня оно стало особенно сильным, словно, приближаясь к простым людям, оставаясь с ними, он продолжал поиски Флорентины — поиски, которые должны были помочь ему лучше понять ее, уничтожить все преграды, стоящие между ними. Ах, услышать сегодня вечером голос, все равно чей, лишь бы он говорил на языке Флорентины, на языке народа!
И тут он подумал о своих товарищах с улицы Сент-Амбруаз, о тех, кто собирался у матушки Филибер. И перед его мысленным взором возникла вереница лиц, отмеченных печатью разочарования, печатью тяжелой жизни. Неужели он мог настолько забыть их — первых друзей детства, которые жили в нищете и словно живой укор вставали между ним и той относительной обеспеченностью, тем благополучием, какими он пользовался?
И сейчас его вдруг охватило желание узнать, что же с ними сталось, мягкое и немного грустное любопытство, как будто он неожиданно увидел словно со стороны те разные пути, по которым они пошли и которые теперь успели увести их далеко друг от друга. «Будущее Жана предвидеть нетрудно, — подумал он. — Тот, кто не страдает чрезмерной щепетильностью, всегда преуспеет. Но как идут дела у Альфонса, у Буавера, у Питу?»
Он круто повернул назад и направился к улице Сент-Амбруаз.
XXVII
Дверь кабачка была раскрыта настежь; с улицы были видны закопченные стены; по углам свисала паутина. Зал показался Эманюэлю совсем пустым — пустым и унылым. Только войдя внутрь, он увидел Альфонса, неподвижно сидевшего на своем обычном месте у незатопленной печи. Альфонс растянулся на двух составленных вместе стульях, поддерживая голову сплетенными на затылке руками, и, казалось, уже много часов завороженно смотрел куда-то в пространство. На лице его лежала тень.
— Ну, здравствуй, что ли! — сказал Эманюэль, протянув руку над спинкой стула и слегка касаясь плеча Альфонса.
Потом он обвел глазами маленький зал. Из-за портьеры, отгораживавшей заднюю комнату кабачка, доносилось шарканье домашних туфель матушки Филибер. Около одиннадцати часов она всегда начинала готовить ужин для мужа, возвращавшегося в полночь с завода. Тихонько булькавший на кухне капустный суп наполнял помещение своим неприятным запахом.
Эманюэль взял стул, повернул его спинкой вперед и сел верхом напротив Альфонса.
— Греешься у остывшей печи! — пошутил он.
Альфонс приподнял тяжелые веки и сразу же опустил их, словно свет причинил ему невыносимую боль.
— Остывшая или полная огня, все же компания, — пробурчал он.
Он протянул руку, прося сигарету, со страдальческим видом, не пошевельнувшись, стерпел, когда Эманюэль вложил ему в руку зажигалку, затем вяло перевалился на другой бок.
— А ты не заметил, что зима давно прошла? — смеясь, спросил Эманюэль.
— Да неу-у-ужто? — протянул Альфонс.
Потом он снова погрузился в молчание.
— А как другие? — осведомился Эманюэль. — Что с ними сталось?
Альфонс зевнул.
— Не знаю.
Потом засмеялся желчным, язвительным смехом.
— Ты еще не видел Буавера? — спросил он.
— Нет, я только что приехал.
— Тебе было бы забавно…
Он многозначительно оборвал фразу, давая понять, что мог бы рассказать немало интересного, если бы только захотел, — этой хитростью он обычно сразу же привлекал к себе внимание. Но поскольку Эманюэль не проявил никакого нетерпения, Альфонс нарочито продолжал молчать с хмурым видом; затем он не вытерпел и снова закинул удочку:
— Вот уж кто снимает пенки с этой войны!
— Да? — спокойно заметил Эманюэль.
— Да, — сказал Альфонс. — И еще как! Работенка, новые ботинки, новая шляпа, часы с гарантией на полгода… а в придачу ко всему еще и мадемуазель Эвелина. Если услышишь колокольный звон завтра или там послезавтра, так знай, что это его венчают. Мосье Буавер выйдет из церкви с мадемуазель Рошон из «Пятнадцати центов», которая будет сидеть на его шее до конца дней: будьте спокойны, полная гарантия от мобилизации. Этот парень весь обгарантирован с головы до ног. Он даже от несчастных случаев застраховался — а вдруг ему отрежут ноги при переходе через улицу! Да, он — чудо в своем роде. И останется таким всю свою жизнь. В восемьдесят лет он будет точно таким же, каким был в семнадцать. Ты его помнишь: маленький сопляк, который клянчил у всех сигареты, а когда у него были свои, так говорил: «Это мои. Если вам нужны сигареты, делайте как я. Заработайте на них». Неудавшийся делец: «Все, что ваше — это мое, но мое — это только мое!» Парень с такими понятиями далеко пойдет, можешь быть уверен!
— Значит, он наконец работает? — спросил Эманюэль.
— Ну да, и можно подумать, будто, кроме него, никто никогда не работал. «Ах, моя контора, моя контора… Моя маленькая контора, мое маленькое перо, все мои маленькие делишки…» Он весь в цифрах — с утра до ночи. А потом, чтобы отдохнуть от работы, он в маленькой красной записной книжечке высчитывает цент за центом, сколько ему требуется для начала семейной жизни. Буавер тратит на хозяйство по пятидесяти центов в месяц, как на пакет слив. Пятьдесят центов на холодильник, пятьдесят на электроутюг, пятьдесят центов на веревку для белья, пятьдесят центов на обручальное кольцо. Ему уже известно, во что обойдется чистка нового костюма в белую полоску, который еще у портного. В общем, если ты хочешь прослушать курс в три урока, как преуспеть в жизни, да еще и жениться, получая восемнадцать долларов в неделю, — обратись в Буаверу. Все это у него подсчитано в записной книжке. Я же говорю тебе — феномен. Этакий Рокфеллер в миниатюре.
Эманюэль смеялся от души, догадываясь, что Альфонс, наверное, пытался занять у Буавера денег, но получил отказ.
— Ну, а что другие? Как Питу?
— Не знаю. Больно уж прытки они все стали.
— Ну, а ты как?
— А я как? Сам видишь. Совсем один в своей лодке. Последний из безработных. Последний в своем роде. Экспонат!
И он повторил с оттенком комической снисходительности:
— Совсем один в своей лодке.
— Но послушай, — заговорил Эманюэль. — Ты просто балда. Никогда еще человеку не представлялось столько возможностей, как в наше время.
— Ну, ну, поговори, — пробурчал Альфонс. — Еще один пижон нашелся.
Он подтянул колени к подбородку и с трудом сел, гримасничая от боли, растирая бока и покачивая головой, как старик. В тихий кабачок ворвался вой сирены. Альфонс поднялся на ноги.
— Угости меня хоть кока-колой, — попросил он плаксивым голосом.
Потом внезапно передумал:
— Нет, лучше уйдем поскорее. Старуха, того и гляди, взовьется и выставит меня вон. Она стала совсем невозможной с тех пор, как красавчик Питу больше не поет здесь свои песенки. К тому же еще и любопытной. Ей, видите ли, угодно знать, когда же я с ней наконец расплачусь. Какова, спрашивается! Да пойдем же, — проворчал он, видя, что Эманюэль приподнимает портьеру, чтобы побеседовать с матушкой Филибер. — Ты что, хочешь, чтобы я говорил, да? — сказал он, остановившись посреди комнаты. — Ну, ладно, сейчас поговорим.
Но, выйдя на улицу, он словно совсем забыл о присутствии Эманюэля. Он шел тяжело, с трудом волоча онемевшие ноги, и колени у него подгибались, как у пьяного. Однако, подойдя к улочке Сент-Зоэ, он как будто пришел в себя и воскликнул:
— Нет, нет, только не в эту сторону! У меня нет никакой охоты встречаться с Гиттой!
— С Гиттой?
— Ну да, с Гиттой… С Гиттой Летьен… Я тоже, случается, заглядываю в «Пятнадцать центов». Вот там я и познакомился с Гиттой. Да и ты ее, наверное, видел, когда похаживал к ее подружке, красотке Флорентине…
— Оставь Флорентину в покое, — резко заметил Эманюэль.
— Ладно, ладно, я же ничего такого не сказал, — вскричал Альфонс, и кривая улыбка исказила его лицо. — Я должен был повести ее сегодня вечером в кино, ну, Гитту, и заплатить за это удовольствие. — Он рассмеялся и добавил: — А я не раздобыл денег. Может, она меня еще поджидает.
— Я так думаю, она вряд ли станет ждать тебя во второй раз, — заметил Эманюэль.
— Забавно все-таки, — продолжал Альфонс. — Есть женщины, которым не очень-то нравится, если они уверены в своей победе… Но она хорошая девушка — наша толстуха Гитта. Все было бы проще, если бы она не надавала мне в долг столько денег. Взять хотя бы эту шляпу — она мне купила. И ботинки тоже, если не забыл…
— А, заткнись, — сказал Эманюэль.
Они долго шли в молчании. Дойдя до улицы Сен-Жак, Альфонс указал на светившееся окно какой-то мансарды.
— Ишь ты, это отец приехал в город проветриться, — сказал он.
— Твой отец? Ах да, правда. Родных у тебя больше не осталось. Но я, по-моему, с ним незнаком.
— И ты много потерял, — вздохнул Альфонс. — Отец у меня — тот еще тип.
Он попросил вторую сигарету.
— Я тебе отдам потом все зараз, — сказал он. — И тот доллар, и за выпивку тоже… — Он остановился и при свете зажигалки с любопытством поглядел на свои трясущиеся руки. — Скажи, тебе приходилось бывать на свалке?
— На свалке?
— Ну да, на свалке, на мысе Сен-Шарль.
— Нет.
— Ах, нет!
Он улыбнулся странной улыбкой и принялся рассказывать удивительную и мрачную историю, которая сначала показалась Эманюэлю сплошным вымыслом.
— Я знавал одного типчика, — начал Альфонс, — который устроил себе на свалке вроде бы торговое предприятие. Он подбирал поломанные жестяные котлы, чинил их, выправлял, а потом перепродавал одному старому еврею. Жаль только, что это была не больно-то крупная торговля. Бывало, по целым неделям ничего стоящего не попадалось, но иногда на берег приходили грузовики, доверху наполненные котлами, в которых перетапливают сало, и тут этот парень здорово подзарабатывал. У него была комнатка в городе. Но ведь и на свалке, как везде и всюду, водится жулье. И вот мой парень сколотил себе эдакую дачку прямо на свалке, чтобы стеречь свое торговое предприятие. Было время, когда там построили настоящий поселок — целую кучу лачужек чуть повыше собачьей конуры. Для этих построек не требовалось просить официального разрешения, да и доски и прочий материал долго искать не приходилось. Эх, старина, это была сущая благодать, сколько там валялось всякого добра: спинки кроватей, куски кровельного железа и толстого, не слишком грязного картона. Нужно было только подобрать поломанную трубу, четыре листа железа на крышу, а потом подыскать себе местечко у самой воды, где поменьше вони. И подумать только, что многие готовы платить тысячи долларов за виллу и за воскресную поездку на реку. А ведь у этих ребят на свалке все это было даром — ну, кроме воскресных поездок. И спокойствие — тебе пришлось бы немало поездить, чтобы найти такое спокойствие, как на этой свалке. Эдакое кладбищенское спокойствие — как среди могил. По ночам ничего не слышно, кроме крыс, которые роются в падали и удирают с огромными кусками в зубах. А город остался далеко позади — всякое там социальное обеспечение, и очереди нищих, которые ждут своего талончика на хлеб, и вся городская шумиха неизвестно по какому поводу! А здесь ни трамвайного «дзинь-дзинь», ни огромных лимузинов, которые плюются газом тебе в рожу, словно ты зачумленный, и никакого грохота — ничего. Ты — у себя дома. Но чтобы вернуться к этому деляге, к моему парню, могу тебе сказать, что он в конце концов наладил жизнь на славу. Он никому не должен был ни цента, да и городу он ничего не стоил. И ко всему прочему он еще воспитывал в городе малыша, прямо как солидный человек. И вот надо же было случиться такой беде, что чиновники из санитарной службы забрели на эту свалку, потому что там нашли одного беднягу, который умер совсем один в своей хибаре и его наполовину съели крысы. И знаешь, Летурно, что сделали эти господа из санитарной службы, когда они явились на свалку, зажимая себе носы, прямо всей ладонью?
Альфонс вытер лоб, на котором выступили капли пота.
— Ну так вот, они сожгли весь этот несчастный поселок. Понимаешь, сожгли, Манюэль. Все сгорело дотла — все конуры, все постели и все вши… — Альфонс дышал прерывисто, словно этот рассказ вымотал его вконец. — Ну, и на следующий день, — докончил он, — мой парень уже опять был на пособии.
Он долго молчал, потом деланно рассмеялся и продолжал:
— Но если уж ты подышал вольным воздухом деревни, ты туда вернешься, обязательно вернешься. И этот проклятый поселок снова там отстроился. Ни одной лачугой меньше, ни одной больше. В точности такой же, как прежде. Столько же труб на крышах, маленьких, как цветочные горшки. И столько же котелков кипит внутри. И столько же драных кошек, вернувшихся со всем этим народом, сбежавших отовсюду, где им нечего было жрать, целые полчища драных кошек! Ты мне не поверишь, но перед лачугами даже цветы выросли — подсолнечники; я так думаю, что семена занесло ветром. И что ты ни говори, — бросил он вызывающим тоном, — а там жизнь как жизнь, в той стране. Только это совсем особая страна и другой такой страны нет нигде. Ты преспокойненько обделываешь свои делишки, и никто тебе не мешает, ну, а если ты субботним вечером заскучаешь по обществу, по той, другой стране — так что же? Ты бреешься, едешь в город и развлекаешься, как умеешь. Ты наносишь визит тем, кто живет в другой стране…
Эманюэль молчал, не сомневаясь больше, что он угадал истину. Ему было очень неловко оттого, что он так много узнал о жизни Альфонса и в то же время не имеет никакой возможности помочь ему.
— Альфонс, а почему бы тебе не пойти в армию? Там можно позабыть обо всех своих невзгодах.
— Обо всех своих невзгодах! — повторил Альфонс.
Они подошли ко входу в туннель на улице Сен-Жак. Внезапно Альфонс бросил сигарету. Он остановился под зеленым светофором, который горел в забранной сеткой нише туннеля, проливая на влажный асфальт поток серовато-зеленого света. Черные волосы Альфонса трепал ветер, врывавшийся в подземный проход. И Эманюэлю вдруг почудилось, что лицо его пересекают темные полосы, словно он оказался за прутьями решетки.
— Послушай, Манюэль Летурно, — сказал он. — Я тебе расскажу еще одну историю. Хочешь — верь, хочешь — не верь.
У него вырвался сдавленный смешок, потом он начал свой рассказ:
— После того как я наслушался твоих разглагольствований, я тоже в одно прекрасное утро попал туда — ну, на вербовочный пункт. Да вроде бы это было сразу же на следующий день. Во всяком случае, вместе с тем отрядом завербованных, который прошел по предместью — впереди барабан и красавчики солдаты, а позади — всякий сброд. Это и ты, наверное, заметил: они всегда выставляют впереди самых молодцеватых парней, и тогда всякое отребье в задних рядах не так заметно. Недурно устроено, как подумаешь!
— Но я этого не знал, ты мне никогда не рассказывал, — перебил его Эманюэль.
Альфонс нетерпеливо передернул плечами и продолжал:
— В общем, я стоял на краю тротуара, как тумба, с дьявольски хитрым видом, можешь мне поверить. Я переминался с одного копыта на другое, чтобы хоть немного согреться… и вдруг вижу, идет эта банда. Барабан бьет, впереди бодро вышагивают красавчики. Можно было по-думать, будто все они отправляются куда-то на край света искать золотую жилу, эдакий новый Клондайк или еще что-нибудь почище. «Ну и ну! — сказал я себе. — Давненько уж ты, Фонс, не видел таких нарядных парней и таких откормленных. Иди же вместе с ними, — сказал я себе, — иди же вместе с ними!» И вот таким-то манером я и оказался в отряде — в тех рядах, где шли безработные. Один парень, который шел рядом со мной, подмигнул мне. Я ему тоже подмигнул. Я, правда, не очень люблю фамильярности, но в таких случаях, как этот, когда ты отправляешься на прогулочку, которая вполне может окончиться на краю света, надо же немного потрепаться с теми, кто шагает рядом. И таким манером мы как бы сказали друг другу: «Я упаду — ты меня поднимешь, ты упадешь — я тебя подниму». Своего рода сделка. Это даже удивительно, если подумать — до чего быстро договариваются друг с другом парни, попросту: «заткни глотку» и «не стой раскорякой».
— Продолжай, — прервал Эманюэль.
— Ладно, я как раз подхожу к самому интересному, — криво усмехнулся Альфонс. — Едва я успел обзавестись таким дорожным приятелем, как началась маршировка: выбрасываем правое копыто, потом левое, и пошло — левой, правой, и парень впереди нас орет: «Левой, правой», — а мы делаем как он, и чертовски стараемся — левой, правой. Ну это дело нехитрое — и вот так мы и промаршировали до казармы, эдакой бандой психов! И пока мы шли, нас становилось все больше и больше. Только на углу улицы Этуотер мы подцепили не то троих, не то четверых. Самое забавное, что, едва ты сам попался, тебе уже не терпится, чтобы попались и другие. Мне в тот день казалось, что я не успокоюсь, пока не увижу за собой длиннющий хвост отсюда аж через всю страну, чтоб можно было обкрутить его раз сто вокруг города и даже еще больше. По временам я оглядывался и видел, что наша банда растет и растет, но мне все было мало… Меня прямо-таки корчило, когда я видел парней, которые стояли на тротуарах и смотрели на нас. Так и хотелось им крикнуть: «Идите, идите с нами, — нам будет чертовски одиноко, если только народы всего мира не присоединятся к нам…» Но пареньку, что шагал рядом со мной, — ну, тому, с которым мы перемигивались и заключили сделку, — ему-то нигде не было одиноко. Это был такой пригожий паренек, курчавый, крепкий, круглощекий, а усов еще и в помине нет. Всю дорогу он распевал песни. «Эй, ты бы не расходовался так, — сказал я ему, — а то песенки у тебя кончатся раньше, чем мы найдем место, где присесть». Но ты в жизни не видел парня, который так гордился бы тем, что он настоящий мужчина. Мы завернули за угол, и ветер начал трепать наши лохмотья, словно хотел совсем их с нас содрать. И тут мой паренек вдруг кричит мне в ухо: «Эй, приятель, в армии у нас есть будущее!» А с другого бока от меня шагал старик, который от ветра совсем съежился, как сверток белья. Старик… ну, в общем, ему было уже далеко за сорок, и он пыхтел, как паровоз, — хоть присягнуть. Так вот, пока мы одолевали крутой подъем, и этот тоже заявил: «В армии у нас есть будущее!» Знаешь, много чего забавного понаслушаешься, пока бредешь среди этой компании, которая идет записываться в армию. Будущее! Сдается мне, среди них нет ни одного, кто не думал бы о будущем. Да, будущее! Ну и я тоже об этом начал думать. Я шел себе между этими двумя, между восемнадцатилетним парнишкой и стариком, у которого тоже было будущее…
— Ну, а дальше что? — спросил Эманюэль.
— Ты очень торопишься, — возразил Альфонс. — Я тебе рассказываю историю, которую люди услышат, может быть, через десять лет и которую поймут, может быть, через двадцать лет, я тебе рассказываю необыкновенную историю, а ты меня спрашиваешь: «А дальше?» Ну ладно, я тебе скажу, что было дальше… Пришли мы в казарму. Начали они нас расспрашивать всех по очереди, как кюре на исповеди, только что вместо причастия нас готовили к отпеванию. Но выходит, надо немало знать даже и для отпевания. Да ты сам небось через все это прошел. Не знаю, пришлось ли тебе иметь дело с таким тупицей, как тот офицер, что говорил со мной. Но вряд ли. Не думаю, чтобы их много таких было. Ну так вот, вытаскивает он роскошную самописку, усаживается, как на троне, сморкается, чешется, потягивается и начинает задавать мне вопросы по арифметике. Будь у меня листок бумаги да карандаш и будь я совсем один, чтобы пораскинуть мозгами, я бы нашел ответ. Но он сразу сбил меня с толку. Он не дал мне подумать над всем этим делом и чуть только заметил, что я чего-то не знаю, как тут же взбесился. «Где это вы прожили всю свою жизнь, что вы такой невежда?» — спрашивает он. «А вы где прожили свою? Уж, наверное, не на берегу канала, да?» — спрашиваю я его самого. «Конечно, нет», — отвечает он. «Оно и видно, не в обиду вам будь сказано», — отрезал я. Потом они повели меня совсем голышом к врачу. «Открой рот. Батюшки мои! — говорит он. — Никогда в жизни не приходилось мне видеть столько гнилых зубов! Вы что, никогда не ходили к зубному врачу?» Потом другой обругал меня за то, что я не купил себе очки вместо леденцов, когда мне было десять лет. Но забавнее всех оказался третий, кричавший мне в лицо гадости только потому, что в малолетстве меня кормили луковой похлебкой, а не хорошим пастеризованным молоком. Но знаешь, я не расстраивался. «Ведь в армии есть будущее, — твердил я себе. — Раз и молодой парень, и старик, а вдобавок и все городские газеты твердят об этом на все лады, так наверное это правда. Они меня тут подремонтируют, и я буду готов для их будущего…»
Наступило молчание, в котором вдруг прозвучал предупредительный сигнал. Глухое ворчание наполнило улицу. Земля задрожала от тяжелой поступи локомотива.
— Ну и что же, тебя не взяли? — спросил Эманюэль, не в силах больше выносить этот длинный желчный рассказ.
Альфонс затрясся в приступе дикого смеха, словно чахлое дерево, которое треплет ураган.
— Торопишься! — крикнул он. — Торопишься вернуться в свою банду! Торопишься! Ты-то всегда будешь спешить… Но погоди немного — я тебе сейчас скажу самое забавное: представь себе, что они перекроили всего человека наново; дали очки, удалили миндалины, сделали всякие прививки, напичкали витаминами; даже нос подправили, чтобы он не был кривым. И скоро этот парень со своими вставными зубами и подправленным носом станет красавцем покойником. Ну, а с молодым пареньком, с тем не было никакой волынки, чего уж там! У него-то все было на месте — и зубы, и волосы, и руки, и ноги, да еще и веселый нрав в придачу…
Он взял руку Эманюэля и крепко сжал ее, словно прощаясь навсегда.
Потом его лицо снова стало хмурым, равнодушным, унылым.
— Все в порядке, все в порядке. Что ж, до свидания, до свидания, Летурно. До скорого перемирия, Летурно!
Он быстро ушел — раздувающиеся полы его пальто бились на ветру. Его длинный, как жердь, силуэт исчез в туннеле.
Эманюэль проводил его взглядом. Альфонс казался ему более мертвым, чем все мертвецы, которые останутся лежать на будущих полях сражений. Он пошел дальше совсем подавленный, повторяя словно во сне одни и те же слова, которые преследовали его, как наваждение, как навязчивый мотив, засевший где-то в глубине сознания и не желающий исчезать: «Мир так же плох, как и война. Мир убивает не меньше людей, чем война. Мир так же плох… так же плох…»
XXVIII
Сумятица, воцарившаяся в голове Эманюэля, гнала его все вперед и вперед, несмотря на поздний час. Азарьюс Лакасс, Альфонс Пуарье — его мысли были прикованы к этим двум людям, которых случай показал ему во всем их одиночестве. «Почему? — думал он. — Они мне совсем чужие. Я для них — никто. И они — никто для меня. Почему же они так тревожат меня сегодня?» И внезапно он понял, что их крах пошатнул и его веру в добро, его энтузиазм, ослабил его юные порывы, его волю к действию.
«Вам повезло, молодой солдат!» — заявил ему Азарьюс. И бедняга Альфонс на свой лад, путано и горько, говорил ему о том же. «Повезло!» Но ведь, значит, жизнь стала для них невыносимой, раз уж они позавидовали ему, солдату, и даже не столько из-за его обмундирования и твердого жалованья, сколько из-за того, что в руках у него винтовка и штык — орудия убийства! Позавидовали, еще даже толком не зная, против кого хотели бы их обратить, потому что Альфонс, например, не способен был ненавидеть врага сильнее, чем он ненавидел свою родину. Был ли он единственным в своем роде, этот противоестественный характер? Нет, Эманюэль мог бы назвать двадцать, пятьдесят, сотню похожих на Альфонса людей. Пожалуй, не таких озлобленных, но так же смотревших на жизнь. Так что же можно дать этим колеблющимся, что можно придумать, чтобы повести их за собой на войну, чтобы заставить их петь, бить в барабаны и петь, петь? Внезапно Эманюэль содрогнулся. Ибо ему открылась страшная, ужасающая истина, которая не укладывалась в сознание, разрывала мозг и в то же время, по-видимому, давала ответ на мучивший его вопрос: чтобы воевать, человек должен быть воодушевлен, исполнен огромной любви, великой страсти, а иначе война — бесчеловечна, абсурдна.
Но что это за великая страсть, которая могла бы воодушевить и увлечь человека? Идеал справедливости, красоты, братства? И верит ли еще он сам в такой идеал? От этого зависело все. У Альфонса не было такого идеала и у Азарьюса тоже. Но сам-то он, Эманюэль, сохранил ли он еще этот идеал, это страстное увлечение своей юности, или же он тоже пал настолько, что будет воевать, не понимая, к чему это его приведет?
Предместье окружало его теперь, как тюрьма — тюрьма сомнения, колебания, одиночества. Он решил подняться на гору. Уже не раз он находил там, наверху, какое-то подобие успокоения. Дойдя до улицы Грин, он уверенно зашагал по крутому подъему, который вывел его на улицу Дорчестер.
Теперь он очутился в Вестмаунте. Он шел на гору, а запахи зерна, нефти, смазочного масла, табака оставались внизу, и теперь, поднявшись над предместьем, он всей грудью вдохнул целебный воздух, напоенный запахом свежей листвы и влажных газонов. Вестмаунт — город парков, зелени и безмолвных жилищ — принял его в свое лоно.
Он свернул к западу и вскоре очутился около казарм на улице Сент-Катрин. Здесь ходил часовой — молодой солдат с винтовкой на плече. Эманюэль хотел было тихонько поздороваться с собратом по оружию, как вдруг увидел его лицо. И окаменел от неожиданности.
Это был Питу.
Это Питу проходил сотню метров вдоль фасада казармы, четко поворачивался, щелкая каблуками, а затем, бодро отбивая шаг, шел обратно с винтовкой на плече, совсем один на темной улице.
Подчиняясь строгой военной дисциплине, он не остановился, когда узнал Эманюэля, но лицо его просияло в улыбке.
— Привет, Манюэль! — тихо сказал он, продолжая чеканить шаг.
— Привет, Питу! — откликнулся тот и пошел в ногу рядом с ним.
Некоторое время они маршировали так, бок о бок, словно у молоденького часового неожиданно возникла реальная, осязаемая тень, которая сопровождала его в его однообразном хождении взад и вперед. Потом Питу резко повернулся, щелкнул каблуками, и глаза его на мгновение заискрились детским задором.
— Блеск! — сказал он.
— Блеск! — повторил Эманюэль.
Но впервые он произнес это слово, слегка запнувшись, словно в его мыслях произошла какая-то заминка.
— Тебе это нравится?
— Еще бы! — сказал Питу.
На его испещренном веснушками лице, легко красневшем, как у всех рыжих, отразилось возбуждение. От широкой улыбки гладкие, круглые и блестящие, словно хорошо вытертые яблоки, щеки, казалось, готовы были лопнуть.
— Мы еще встретимся, — пообещал Эманюэль.
— Еще бы… В Англии!
— До свидания, Питу.
— До свидания, Эманюэль.
И они разошлись.
Эманюэль пошел дальше уже более медленным шагом, слегка склонив голову к правому плечу и теперь уже полностью отдавшись своим размышлениям. Он вспоминал разговор у матушки Филибер и спрашивал себя, не сыграл ли этот разговор какую-то роль в решении Питу пойти в армию. Его самого удивляла та сила внушения, действие которой он не раз замечал на своих товарищах, — удивляла и немного пугала. Неужели он может убеждать других, не убедив себя? Неужели он может зажигать энтузиазмом окружающих, не сохранив ни искры энтузиазма в себе самом?
«Питу, — думал он, — Питу в армии!» Это представлялось ему чем-то невероятным, невозможным. Питу, самый младший в их компании! Тот Питу, которого они, кажется, только вчера защищали от больших мальчишек и которого они называли «круглощеким» и «малышом»! Ему вдруг показалось, что он слышит отзвук их бешеного бега там, внизу, вдоль реки, по старому бечевнику, и сквозь быстрый топот их ног — задыхающийся голос Питу, который все кричал: «Подождите меня, подождите меня, и я с вами!» Они старались убежать от него, иногда, чтобы позабавиться, — так, петляя и прячась, забавляется кошка, — иногда же им казалось, что он еще слишком мал для их игр.
Да, вот именно так — еще слишком мал для их игр.
Но Питу все же неизменно возникал где-то позади — забавная маленькая фигурка в слишком коротких брюках, едва прикрывавших его круглые икры, в широком коротком плаще, в котором тонули его спина и плечи, с лицом, затененным полями огромной шляпы. Издали была видна только эта огромная шляпа, и казалось, что она движется сама по себе, то взбираясь вверх по склонам, то скатываясь вниз, бежит и поворачивается, словно по волшебству. Всегда позади них, но никогда не сдававшийся. «И я с вами!»
В те времена они бегали гуськом к старому каналу — купаться. Они выходили к запущенному дикому месту, где вода в канале отражала только лениво плывущие облака и медленно струилась между пологими тихими склонами, на которых редко-редко можно было увидеть какого-нибудь путника. Разбросанные кое-где купы деревьев представлялись им рощей, лесом, небольшой пустырь, на котором паслась одна-единственная корова, — настоящей прерией. Деревня их детских дней! Альфонс выбирал самые темные, самые извилистые тропинки и подбивал их идти все дальше и дальше, отвязать где-нибудь на реке лодку и пуститься на поиски приключений. Широкие открытые горизонты уже тогда будили в нем горькое смятение, жажду свободы, желание больше не возвращаться домой и сожаление, что он не может навсегда уйти в бесконечное одиночество. И он кричал Питу, который упрямо следовал за ними, цепляясь одеждой за гвозди ограды, падая в лужи, и задерживал их на каждом шагу: «Да отвяжись ты от нас, зараза!»
Но потом он все-таки сумел заставить ждать себя, малыш Питу, — однажды вечером они неожиданно услыхали за штабелем бревен на берегу канала веселый мотив. Питу играл на губной гармошке, и они простояли возле него весь вечер. Даже расчувствовавшийся Альфонс и тот потребовал надменным тоном: «Сыграй нам „Дом на горе“».
С того вечера в предместье появился бродячий цирк и начались концерты. Питу — впереди всех со своей неистовой музыкой. Потом пришло время гитары. Знойные, душные вечера, без малейшего дуновения ветра! Питу, свесив ноги, сидел на парапете над каналом и теперь, в свою очередь, главенствовал над ними — Питу, которому столько раз грозила опасность отстать от них.
«Я поспеваю за вами! Эй, эй! Я поспеваю за вами!»
Они спрашивали:
— Откуда это ты раздобыл свою бренчалку?
И сияющий Питу отвечал:
— Мне дал ее один старик еврей и сказал: «Если ты сможешь сразу сыграть мне песенку — она твоя, отдаю ее тебе просто так, эту бренчалку». Вот я ее и получил — эту бренчалку.
Шли годы, и Питу извлекал из своей гитары все более и более печальные мелодии. А если его просили сыграть что-нибудь веселое, он отвечал: «А ну вас, оставьте меня в покое!» А потом, взгромоздясь на прилавок у матушки Филибер, он вдруг спрашивал: «Неужели во всем городе нет никакой работенки? Даже самой паршивой работенки? Неужели во всем городе не осталось никакой работенки?» И болтал стоптанными башмаками с дырявыми подметками.
«Питу в армии!» — думал Эманюэль. Альфонс знал об этом и в глубине своей сумрачной души страдал от этого — потому-то он и отказывался говорить о Питу. И внезапно в памяти Эманюэля всплыли слова: «Пригожий курчавенький паренек, тот, с которым мы перемигнулись и заключили сделку… Паренек, у которого был еще веселый нрав в придачу…» Боже мой, да ведь это же Питу шел тогда в строю рядом с Альфонсом!
«Наш Питу — ребенок, — повторял Эманюэль, — совсем ребенок! Вчера еще он играл на губной гармошке, потом на гитаре, а теперь у него в руках винтовка!». И одна мысль пронзила его сознание, будто стальной клинок, так что он даже замер на месте: Питу больше не страдает от того, что он безработный. Наконец-то Питу зарабатывает себе на жизнь, на легкомысленную птичью жизнь, для которой нужно так мало. Теперь Питу может чувствовать себя счастливым, и не удивительно, что он так лихо щелкает каблуками. Теперь Питу счастлив, наконец-то он держит в руках свой первый рабочий инструмент!
И голова Эманюэля склонилась, словно под тяжестью немыслимых человеческих заблуждений.
На небе сверкали звезды — светлые-светлые. Нужно было прийти сюда, на гору, чтобы увидеть, как они сияют в беспредельных глубинах. И Эманюэль вспомнил слова Азарьюса Лакасса: «Франция — она как звезды, которые посылают нам свет и по ночам, когда кругом мрак».
Когда Азарьюс произнес эту фразу, она показалась Эманюэлю прекрасной. Он помнил, что испытал даже необыкновенный подъем духа. Но сейчас он спрашивал себя, не грядет ли на землю ночь, темная ночь, без света и без звезд. Он спрашивал себя, не начала ли эта черная ночь окутывать землю своим беспросветным мраком еще задолго до войны.
Откуда засияет свет, который поведет мир вперед?
Он очутился на небольшой, полого спускавшейся вниз улочке: потемневшие от времени каменные коттеджи с окнами в георгианском стиле, лужайки, заросли жимолости — все говорило здесь об уютном английском комфорте; и контраст между его мыслями и мягким, глубоким, несокрушимым покоем этой улицы был так резок, что печаль его стала еще сильнее. Эманюэль никогда не питал злобы против богатых. Когда в детские годы он вместе со всей шумливой ватагой ребят безветренными летними вечерами взбирался на гору с криками вроде: «А ну, поглядим, как они там живут, эти миллионеры!» — то делал это вовсе не ради озорства, а просто чтобы набрать полные легкие чистого воздуха и насытить глаза красотой, потому что он втайне любил все прекрасное.
Эманюэль не питал ненависти к богатым. Он никогда не был настолько обездоленным, чтобы дойти до желчной зависти Альфонса; это он чистосердечно признавал.
Но пока он прогуливался здесь среди комфортабельных особняков, его тоска все росла. Это была не обида, не отвращение и даже не то давнее чувство неловкости, которое он, мальчишка из предместья, испытывал, когда поднимался на эту гору. Просто какая-то тоска. Словно все беспокойство, все тревоги нижнего квартала прилипли к нему, когда он уходил, и чем выше он поднимался теперь, тем упорнее они цеплялись за него. Ему даже казалось, что он не имеет права вступать в этот город спокойствия и порядка — ведь его сопровождал запах нищеты, словно болезнетворное зловоние. Тут, наверху, с удовольствием принимали его дар, но не принимали его сомнений, его колебаний, его мучительных проблем. Богатство, благосклонное к лепте бедняка, не желало видеть его измученного лица. Оно безмолвствовало во мраке, отказываясь иметь что-либо общее с этим несчастным, пришедшим сюда только поглядеть.
И Эманюэля постепенно охватило негодование. Теперь и он, как многие другие, задал себе вопрос: «Мы, обитатели нижних кварталов, идем в армию и отдаем все, что можем отдать, — свои руки и ноги». Он поднял глаза к высоким оградам, к усыпанным песком аллеям, к пышным фасадам и продолжал: «А они — разве они отдадут все, что могут отдать?»
Загадочный, жесткий, отливающий сталью блеск дорогого полированного камня как бы коснулся его. И Эманюэль сразу осознал всю непомерность своих помыслов, всю глубину своей наивности.
Камень, кованые железные решетки, надменные, равнодушные дубовые двери, тяжелые медные молотки, железо, сталь, дерево, камень, медь, серебро — все, казалось, понемногу оживало и начинало говорить глухим, слегка насмешливым голосом, который отдавался в кустарнике, в подстриженных изгородях и разносился в ночи:
«О чем ты осмеливаешься помышлять, ты, ничтожное создание? Уж не возомнил ли ты себя равным нам? Но твоя жизнь — это самое дешевое, что есть на земле. А мы — камень, железо, сталь, золото, серебро — мы дороже и долговечнее всего на свете».
— Но жизнь, человеческая жизнь! — настаивал Эманюэль.
«Жизнь, человеческая жизнь! Ее цену еще никто никогда не определял. Она так ничтожна, так эфемерна, так хрупка — человеческая жизнь!»
Уставший от тяжелых раздумий Эманюэль добрался до обсерватории Вестмаунт, расположенной на вершине горы. Он оперся на парапет и увидел внизу бесконечное море огней.
Им овладела глубокая скорбь. Ему вдруг показалось, что он стоит совсем один во вселенной, над краем пропасти, держа в руках самую тонкую, самую хрупкую нить вечной загадки человечества. Богатство или разум — кто из них должен принести себя в жертву, кто из них обладает истинной властью дать человечеству искупление? И кто такой он сам, чтобы браться за решение этой проблемы и взваливать в этот вечер на свои плечи всю ее тяжесть? Молодой человек, который до сих пор вел довольно приятную легкую жизнь, молодой человек, которому были чужды серьезные тревоги и честолюбивые стремления, обыкновенный молодой человек, подобный многим, в меру образованный, со средним достатком, молодой человек, которого — если бы события не швырнули его в такой гигантский, в такой жгучий спор — никогда не коснулись бы никакие заботы, более серьезные, чем забота о службе, о спокойном и сравнительно обеспеченном существовании. Нет, все эти проблемы справедливости, спасения мира были выше его, слишком огромными, расплывчатыми! Кто он такой, чтобы пытаться постичь их?
И от этого ощущения тщетности всех его раздумий только усилилось чувство одиночества. Одно лишь одиночество он и мог измерить. Он мог оценить его глубину по той свободе, с какой растрепанные ветры носились над вершиной, напоенной ароматами. Он мог измерить его протяженность по расстоянию, отделявшему предместье от горы.
Склонясь над парапетом, он посмотрел на юго-западную часть города, и там, среди огоньков, мерцавших, словно светляки в озере мрака, он выбрал один, который мог быть огоньком дома Флорентины.
И тут же образ девушки завладел его сознанием, оттеснив все остальное, и сомнения, колебания, бурные душевные конфликты этого вечера утонули в острой жажде ласки и нежности.
XXIX
Смахивавший на трактир ресторанчик на берегу реки неподалеку от канала Лашин показался Флорентине веселым местечком — здесь, может быть, ее перестанут преследовать горькие сожаления, злые мысли изменятся и больше не будут отравлять душу. Разноцветные китайские фонарики покачивались на ветке дерева перед входом, и это медленное колыхание как бы перетряхивало, перемешивало их яркие краски; пестрая гирлянда цветных лампочек тянулась вдоль низкого порога. Найдя столь колоритное обрамление, владелец ресторана больше уже ни о чем не заботился, кроме рекламы всех имевшихся у него блюд, а также многих товаров, которых в его заведении, совершенно очевидно, быть не могло. Облезлая стена узкого фасада ресторана в буквальном смысле слова исчезла под рекламами: купальщицы в светлых бикини, растянувшиеся на крохотном пляже, неизвестно почему восхваляли тонкий аромат такого-то сорта сигарет; другие, еще менее одетые, рекламировали освежительные напитки. И таких реклам на металле, больших и малых, картонных афиш было невообразимое множество. Эффект от этой пестроты получался ошеломляющий, но Флорентине он понравился. О да, это был такой уголок, куда мрачным мыслям вход не разрешался.
Под лиственным сводом аллеи, в полутени, стоял только один металлический столик, заржавевший от ливней, с полустертым клеймом какой-то пивной. Проходя по аллее, Флорентина уронила:
— А здесь симпатично!
И, желая доставить ей удовольствие, Эманюэль пригласил ее пообедать в этом пригородном ресторанчике.
Но она отказалась от всего, кроме сосисок и бутылки лимонада. Внутри ресторана с потолка свешивались фонарики, такие же, как перед входом; легкий ветерок, долетавший с реки, непрерывно покачивал их. Столы были окрашены в ярко-красный цвет; по стенам висели простенькие картинки — японские пагоды, триремы, плывущие по тихому меловому морю, индусские храмы. В углу стояла механическая радиола, и Флорентина то и дело просила Эманюэля включать одну и ту же судорожную, синкопированную джазовую мелодию.
Обед им подавал сам хозяин. Очень скромный обед, ибо Эманюэль, видя, что у Флорентины нет аппетита, заказал для обоих только легкую закуску. Ресторанчик был почти пуст. Порой заходила какая-нибудь парочка, покупала сигареты или бутерброды, а затем с громким смехом и шутками уходила по дороге вдоль реки.
Этот день совсем не походил на те, что рисовались Эманюэлю в мечтах. Но все же ему нравилась такая атмосфера неожиданности и неизвестности. Ему все время казалось, что вот-вот будет произнесено какое-то слово, будет сделан едва заметный жест, от которого течение их жизней бесповоротно изменится даже без их вмешательства, и всей душой готов был принять эту новую судьбу.
Сегодня он побывал у пасхальной обедни в церкви Сент-Анри, надеясь увидеть там Флорентину, так как, снова охваченный застенчивостью, он предпочел бы встретиться с ней как бы случайно и не решался опять зайти за ней, боясь, что и на этот раз не застанет ее дома. Никогда он не забудет, как Флорентина приветствовала его со смешанным выражением радости и неудовольствия. Словно она боролась с желанием повидаться с ним… вот именно, словно она боролась сама с собой, словно она хотела и убежать от него, и остаться, и убежать и остаться!
Все, что было потом, показалось ему еще более запутанным, странным и сложным. Флорентина на церковной паперти в праздничном пасхальном наряде! Когда он увидел ее, то, взволнованный, не зная, с чего начать разговор, сказал: «У тебя новое платье!» И по привычке слегка ущипнул ее за руку. Она ответила ему быстрой судорожной улыбкой, потом нахмурилась, словно он чем-то задел ее. Но тут же сказала: «А ты все замечаешь! Другие мужчины и не видят, как женщина одета». Как будто он мог забыть ее черное шелковое платье, то, в котором она была у них на вечеринке, ее зеленую служебную форму и розовый бумажный цветок, который украшал ее волосы! Как будто он при каждой встрече не разглядывает жадно, во что она одета!
Они вместе сошли по ступеням церкви. Он шел рядом с ней в солнечном свете, подмечая все подробности ее нового костюма. И как радостно было сказать: «Мы вместе выходим из церкви и выглядим настоящими влюбленными!» Но он не мог понять ее странного замешательства. Она шла, покусывая губы и временами искоса бросая на него нерешительные, растерянные, чуть ли не сердитые взгляды. Он снова и снова вспоминал со всеми их оттенками и интонациями слова, которыми они обменялись в толпе — оба смущенные, донельзя смущенные: «Ты ничуть не изменился, Манюэль!» — «И ты тоже, Флорентина!» — «Тебя отправляют за океан?» — «Да, очень скоро. У меня отпуск на две недели, а потом…» — «Значит, это твой последний отпуск! Как мало времени…»
Она сказала «как мало времени» таким странным, таким задумчивым тоном, что Эманюэль жадно наклонился к ней, надеясь найти в ее глазах разгадку этих слов. Но она, отвернувшись, принялась размахивать сумочкой и нервно постукивать каблуками.
Почему она сказала: «Как мало времени»?
Он протянул руку через стол и сжал ее пальцы.
Она спросила его немного надменно, немного насмешливо, но в то же время с явной тревогой — ее брови нахмурились, а губы вздрагивали:
— Ты, по-моему, о чем-то все раздумываешь. О чем ты раздумываешь?
— О тебе, — ответил он очень просто, без лукавства и без ломания.
Она удовлетворенно улыбнулась, высвободила пальцы, которые он сжал слишком сильно, и вынула пудреницу. За то время, которое они провели вместе, она прихорашивалась уже в третий или в четвертый раз. Эта игра забавляла его. Флорентина напоминала ему умывающуюся кошечку. Он заметил, что, проводя пуховкой по носу, она поджимает губы, и лицо ее каменеет, а потом она обязательно послюнявит кончик пальца, чтобы поправить ресницы и загнуть их краем ногтя; все это развлекало и удивляло его, но, кроме того, он с недоумением замечал, что она ежеминутно разглядывает себя в зеркальце с сосредоточенным и сомневающимся видом. Что же так волнует ее?
Некоторое время оба исподтишка наблюдали друг за другом. Потом она сказала, поднося ко рту губную помаду:
— Брось монетку в проигрыватель, Манюэль.
Его уже больше не удивляла ее потребность в шуме, в оживлении. Со вчерашнего дня его самого не покидало какое-то странное возбуждение, которое искало выхода в непрерывном движении. Он подошел к радиоле и выбрал свою любимую пластинку. Это была «Горькая радость», песенка, в которой выражалась для него сейчас радость и горечь их встречи. Флорентина не сразу узнала этот мотив. Она спросила:
— Что ты поставил, Манюэль?
И вдруг вся напряглась. «Вновь увидеть тебя…» Эта сентиментальная фраза больно отозвалась в ее сердце. Губная помада скользнула по щеке. Она увидела себя у двери кинотеатра в тот вечер, когда ступила на путь, уводящий в бездну неизвестности, в тот вечер, когда она была уже обречена.
Эманюэль мягко обнял ее за талию.
— Потанцуем? — сказал он.
Весь день он ждал этой минуты, когда сможет подержать ее в объятиях под ритм вальса, ощущая ее хрупкое гибкое тело.
Флорентина с остановившимся взглядом кружилась в вальсе, не сознавая, куда она стремится, не понимая, что она делает. Она вспомнила, как ей было холодно у двери кинотеатра. Ледяной ветер той ночи! И все эти темные улицы, откуда мог появиться Жан, остававшиеся безмолвными, безлюдными, безмолвными и пустынными! «Вновь увидеть тебя…» Печальный напев отзывался в ее душе гнетущей тоской. Какими скверными были тогда ее мысли! Ни надежд, ни радости. И холод! Зимний ветер, бушующий ветер выл вокруг нее. В тот вечер никто не пришел к ней среди вьюги. И никто никогда не приходил к ней.
— Ты не попадаешь в такт, — мягко упрекнул ее Эманюэль.
И он начал напевать ей на ухо: «Вновь увидеть тебя…»
Она кружилась, оступаясь, вся напряженная, и старалась проникнуть в смысл этих странных слов, долетавших до нее издалека, этих лживых слов песенки, которые теперь повторял ей Эманюэль. Она видела какую-то девушку, сидящую в одиночестве в зале кинотеатра, пытающуюся внушить себе, будто что-то помешало Жану прийти, и знала, что эта девушка — она сама. Неужели она могла быть такой наивной, такой глупой, таким ребенком! И внезапно ей захотелось вместо Жана отомстить Эманюэлю, найти какое-нибудь злое слово, хотя бы одно жестокое слово, чтобы ранить его и, в свою очередь, прочесть страдание в его взгляде.
— А ведь мы так хорошо танцевали вместе в последний раз, — сказал Эманюэль.
Увидев, что щека у нее испачкана губной помадой, он протянул ей платок, но она этого не заметила, и он вытер ей щеку сам, очень осторожно и бережно.
Тогда она рассмеялась резким, язвительным смехом.
— Да ты посмотри на себя! Ты-то сам весь в помаде. Вот уж и правда словно влюбленные!
Но тут же она заметила, что зашла слишком далеко, что ее слова оскорбили Эманюэля. Нет, она хотела вовсе не этого. Сделать ему больно — да, но оскорблять его и отталкивать от себя она не хотела… С Эманюэлем надо было дружить. Она овладела собой, яростно и решительно тряхнула волосами и улыбнулась Эманюэлю скорее вызывающей, чем дружеской улыбкой.
И на мгновение образ, такой дорогой для него, начал меркнуть. Вместо него Эманюэль увидел перед собой раздражительную, капризную девчонку, крикливую, грубо намазанную. «Это больше не моя Флорентина, я обманываю себя, я ошибаюсь…» — подумал он. Но эта мысль тут же исчезла. Ему открылась более простая и более грустная истина: Флорентина, как и он сам, была взволнована, утомлена, ее обуревали противоречивые чувства.
— Уйдем отсюда, — сказала она. — По-моему, здесь скучно. А по-твоему?
Где бы они ни были, она всегда торопила его уйти. Она говорила себе: «Это труднее, чем я думала… притворяться, будто я люблю его… заставить его полюбить меня еще сильнее…» Но как бы это ни было мучительно, она твердо знала, что будет неотступно добиваться поставленной цели.
Он помог ей надеть ее новое пальто. Она сказала немного вызывающе:
— Оно модное, куплено этой весной. Я за него дорого заплатила. Оно тебе нравится?
Это было пальто из легкого шерстяного букле, задрапированное на бедрах, с крупной черепаховой пряжкой на поясе — одно из тех, которые во множестве выставлялись в витринах магазинов предместья. Сердце его болезненно сжалось, когда она повторила, уже начиная сердиться:
— Ну, говори же, оно тебе нравится?
— Да, Флорентина, оно мне нравится.
И он подумал, как приятно было бы покупать ей всякие туалеты — ведь она так любит наряжаться. Он представил себе, как сопровождает ее по магазинам, помогая ей делать покупки. И вдруг осмелился:
— Флорентина, может быть, это покажется тебе странным, но я хотел бы перед отъездом купить тебе в подарок платье, настоящее нарядное платье. Мы его вместе выбрали бы…
Он смущенно запнулся, почти уверенный, что она откажется. Но, к его величайшему удивлению, она крепко сжала его руку. Она была в полном восторге:
— Да, Манюэль, мне будет так приятно!..
Она дала ему подержать сумку и перчатки, пока надевала шляпку — небольшой ток, весь покрытый жесткими листиками и цветочками.
— А шляпа? — спросила она. — Она тебе нравится? Ну!.. — угрожающе закончила она, готовая рассердиться.
Она вынула платок из сумки, которую держал Эманюэль, мельком улыбнулась ему, как бы прося быть терпеливым, и снова начала пудриться перед стенным зеркалом. Он представлял себе, каким смешным выглядит со стороны, — с перчатками и шарфом в руках, с раскрытой сумкой, полной дамских мелочей, в которой она то и дело рылась, но тут же подумал, что позже ему будет приятно вспоминать именно это: как он стоял позади Флорентины, ожидая, чтобы она обернулась и сказала, что готова отправиться дальше.
И снова они пошли бродить по берегу реки. Покидая Сент-Анри, они не решили заранее, как проведут этот день. Флорентина предложила:
— Поднимемся на гору.
Но по дороге она передумала!
— Пойдем к Лашину.
Сначала он думал, что ей, как и ему самому, хочется одновременно быть всюду — ведь отпуск так короток? Но теперь по некоторым случайно оброненным фразам он понял, что она равнодушна к красотам природы и даже вообще ничего не замечает: ни удивительной ясности этого дня, ни лодок и яхт, скользящих по реке, ни очарования островков вдали, почти безлюдных или совсем пустынных и всегда привлекавших его взгляд, — он называл их Флорентине и рассказывал о них. Позднее, уже в середине дня, когда они вышли на аллею в парке Верден, ее занимало только одно — присматриваясь к пестрой шумной толпе гуляющих, она искала среди них знакомые лица.
— Я здесь никого не знаю, — сердито и как бы удивленно сказала она.
Ее раздражал интерес Эманюэля к этому зрелищу, и она нетерпеливо торопила его:
— Здесь не на что смотреть. Уйдем отсюда, Эманюэль.
Когда она опиралась тонкой рукой без перчатки на его локоть, Эманюэль чувствовал в этом прикосновении тревожное желание удержать его и был счастлив. Он забывал в эти минуты, какие усилия приходилось ему делать, чтобы не замечать бестактностей Флорентины и ее невежества, словно он уже старался обмануть инстинкт, который предостерегал его, звал отступить.
Теперь она спросила уже усталым голосом:
— Ну, куда же мы пойдем, Манюэль?
Он предложил ей посмотреть Конавогу — резервацию индейцев на южном берегу реки.
Она с недоумением выслушала его объяснения. И по наивности ее вопросов Эманюэль понял, что она почти ничего не знает об окрестностях Монреаля.
— Эх, будь у меня месяц, я бы заставил тебя узнать свою страну, — сказал он.
— Но раз у тебя всего две недели, так чего их тратить на дикарей? — возразила она.
Он предложил ей покататься на лодке. Она замялась, не желая признаться, что смертельно боится воды. Наконец он без особой охоты спросил:
— Ну, хочешь, пойдем в кино?
Это, пожалуй, устраивало ее больше. Впрочем, нет. Сейчас ей ничего не хотелось. Она слишком устала ждать хоть какой-нибудь определенности. Ей хотелось только, чтобы вокруг них было темно — теперь она предпочла бы темноту самому прекрасному солнечному дню, — чтобы вокруг них было темно и Эманюэль обнял бы ее и сказал бы, что не может жить без нее. Вот чего она жаждала сейчас. Почему же он не говорит этого? Если бы он наконец признался ей в любви, она успокоилась бы. Это означало бы, что ей удался тот план, который она придумала накануне, как только узнала от матери о визите Эманюэля.
Время от времени она поворачивала к Эманюэлю голову и глядела на него из-под опущенных век. И вспоминала, как он держал в ресторане ее сумку. «Да, он любит меня, — думала она, — он без ума от меня». И в самом деле, взгляды, которые он бросал на нее, были такими нежными, что ей даже стало немного стыдно. Но тут же она сказала себе: «Тем хуже для него, если он так меня любит… И очень глупо с его стороны». И так как ее самолюбие все еще бунтовало, она постаралась убедить себя, что по-своему любит Эманюэля.
Это удавалось ей до тех пор, пока она не начинала сравнивать характер Эманюэля с некоторыми чертами характера Жана. Тогда она пренебрежительно выпячивала губы, бесцеремонно обсуждая про себя шедшего рядом с ней молодого человека, и с некоторой гордостью думала: «Жан не потакал бы всем моим капризам, как он». И ее уверенность, что замысел ее осуществится, стала еще сильнее.
Она шла, спотыкаясь на высоких каблуках, настолько усталая, что Эманюэль встревожился.
— Ты же видишь, что больше не можешь идти, — сказал он, осторожно поддерживая ее за талию. — Ты испортишь свои красивые туфельки, — пошутил он, пытаясь засмеяться.
Но на самом деле он был озабочен и встревожен. Под глазами Флорентины легли темные круги. От усталости запали крылья носа. Она сильно побледнела. Эманюэль настоял, чтобы они сели в автобус, шедший в город.
Но, еще не доехав до Вердена, где справа слышался грохот порогов, она уже еле переводила дыхание.
— Давай сойдем, — сказала она.
В автобусе ее укачало, она ослабела и почувствовала, что ее решимость тоже слабеет. Боясь, что ее охватит оцепенение и все станет ей безразлично, она сделала отчаянное усилие, стараясь казаться веселой и даже проявлять интерес к тому, что нравилось Эманюэлю.
— А здесь красиво, и вода, ну и все остальное, — говорила она, но смотрела при этом только на кончики своих переплетенных пальцев. — Давай сойдем и поглядим, нет ли кого с удочкой.
Ей внезапно вспомнилось, как еще маленькой девочкой она ходила сюда по воскресеньям с отцом, который ловил здесь налимов. Минутами ей искренне хотелось, чтобы Эманюэль лучше понял ее, узнав ее детство, и полюбил ее такой, какой она была когда-то. И она сказала, слегка наклонившись к плечу молодого человека:
— Прежде мы с отцом иногда приходили сюда. Я снимала туфли, чулки и играла в воде… Мне, наверное, было лет пять или шесть…
За все это время она впервые упомянула о своих родителях, словно до сих пор ее удерживала застенчивость или гордость. Как ни незначительно, как ни мимолетно было это упоминание, оно тронуло Эманюэля. Он взял пальцы Флорентины и нежно их пожал. И она, тоже слегка взволнованная этими детскими воспоминаниями, продолжала, устремив в пространство невидящие глаза — вернее, глаза, видящие только картины прошлого:
— Мой отец всегда был добр к нам, когда мы были маленькими… Мой отец… Многие о нем плохо говорят, что он не работник, что он нигде долго не удерживается… Но отец всегда был добрым… Только ему никак не везло, моему отцу.
Она все время повторяла «мой отец, мой отец», — словно припев, словно мольбу, словно извинение, словно защитительную речь, как будто, оправдав Азарьюса, она могла обрести душевное спокойствие. Эманюэль, растроганный, внимательно слушал и взглядом просил ее продолжать.
Флорентина увидела на его лице чересчур уж явное сострадание.
— Ну, давай сойдем, — раздраженно сказала она.
Они сошли около электростанции и двинулись дальше пешком — медленно, потому что Эманюэль все время удерживал Флорентину. Он думал о том, что теперь, когда она открыла ему уголок своей души, такой несчастной, такой трогательной, ему не хватит всей жизни, чтобы утешать ее, руководить ею и даже, если понадобится, прощать ей все разочарования, которые она может ему принести. Эта короткая фраза — «ему никак не везло», в которой он услышал объяснение целой жизни, глубоко взволновала его. Целая жизнь, полная жестоких случайностей, неудач и унизительного смирения. «Ему никак не везло».
Он попытался успокоить Флорентину, ласково пожав ее тонкую руку. Она оказалась более скрытной, чем он думал, и это усилило его беспокойство и нежность к ней.
Флорентина шла торопливым шагом, поджимая губы. Она называла себя идиоткой за то, что открыла Эманюэлю пусть даже самый маленький кусочек своей жизни, ту ничтожную частицу горькой нежности, которая еще таилась в ее сердце. Нет, мягкость ни до чего хорошего не доведет. Именно мягкость и погубила их всех. Мягкость — это не для нее. От нее надо отказаться раз и навсегда. И, сердясь на себя, она старалась обогнать Эманюэля. Тропинка, по которой они шли, сужалась около крупных камней; тогда Эманюэль позволял Флорентине уходить немного вперед, а сам нарочно отставал, чтобы посмотреть, как она идет. Ему нравилась ее подпрыгивающая походка, ее манера одним взмахом головы откидывать на плечи волну каштановых волос.
Он предпочел бы, чтобы она не надевала шляпы — ведь у нее были такие красивые, такие пышные волосы. Но она отправилась на эту прогулку в том же наряде, в каком была в церкви. Она взяла с собой даже перчатки и очень старалась их не запачкать. То и дело она снимала их, складывала и, чтобы не потерять, отдавала Эманюэлю, потом снова брала их, надевала, смотрела, как они обтягивают руки, и тогда в глазах ее светилось глубокое удовлетворение.
Золотистая дымка, казалось, трепетала над гладью реки. Порой, когда они вглядывались в даль, пытаясь увидеть очертания противоположного берега, сияние слепило их. К середине дня стало свежо. Временами налетал резкий ветер. Вскоре очарование этого дня утонет в набегающих волнах, так же как и каждое произнесенное ими слово, каждое сделанное ими движение утонет в таинственной бездне воспоминаний. Эта мысль была для Эманюэля до того непереносимой, что он рванулся к Флорентине, обнял ее за плечи, а когда она удивленно посмотрела на него, смог только, ничего не объясняя, улыбнуться ей растроганно и благодарно.
Тогда она бросила на него быстрый, решительный, полный ожидания, почти властный взгляд. Он, казалось, наконец-то был готов заговорить. Морщинка легла поперек его лба, и Флорентина поняла, что он ищет точных слов, стараясь вернее передать чувство, которое ему никогда еще не приходилось высказывать, и что, сдерживая ныл своего увлечения, он пытается определить, как далеко он может зайти в своем объяснении. Его губы слегка вздрагивали, и он нервным движением вытер капельки пота, выступившие у него на лбу. Потом взял себя в руки. И сказал очень ласково, с показной легкостью, мягко, но с тем оттенком категоричности в голосе, который показывал, что решение его принято:
— Нам надо было бы встретиться давным-давно, Флорентина.
И сразу она ощутила огромную растерянность и опустошенность. Захваченная врасплох, она вся похолодела от страха — от безумного страха, какого ей еще никогда не приходилось испытывать. Если она сейчас потеряет Эманюэля, между ними все будет кончено. Все. На сей раз она погибнет окончательно. И, сама не понимая почему, она почувствовала, что эта потеря была бы тяжела для нее по многим причинам. Дело было не только в ее безопасности, в ее спасении. Эманюэль, быть может, вернул бы ей вкус к жизни, она обрела бы новую гордость, а кроме того — радость быть хорошо одетой, кокетливой, неотразимой. Благодаря ему она снова почувствовала себя красивой, способной на пылкие чувства. Неужели же все это будет отнято у нее? Она крутила ремешок сумки и, чтобы скрыть от Эманюэля выражение своего лица, низко опускала голову или смотрела в сторону ничего не видящими глазами.
— Ты так порвешь сумку, — пошутил Эманюэль. — Она у тебя тоже новая? — спросил он, делая вид, что не замечает, как она сердится.
— У меня все новое! — запальчиво ответила она. — Я купила этой весной все новое… чтобы…
— Чтобы вскружить кому-нибудь голову, — докончил он с полуулыбкой.
Но в его тоне Флорентина уловила внезапную и острую тоску. Тоску, подобную той, которая колола ее сердце каждый раз, когда Жан заговаривал с ней, а она не улавливала смысла его сложных запутанных фраз. Эманюэль смотрел на нее пристальным, изучающим взглядом. Она видела, что он стиснул зубы, и догадывалась, что он до боли сжимает руки, заложенные за спину. Он держался с ней сейчас более застенчиво, чем при первой встрече. Это удивляло ее, а главное — тревожило.
— Ты любишь кого-нибудь, Флорентина? — спросил он.
Она заколебалась. Как вернее завоевать его? Заставить его ревновать? Быть может, да. А быть может, и нет. Она хорошенько этого не знала. Но ошибаться было нельзя. Главное — ошибаться было нельзя. Когда они обедали в ресторане, туда зашли перекусить две пары; один из посетителей был в форме моряка. И Флорентина два-три раза позволила себе мельком взглянуть на него, а может быть, даже и улыбнуться ему, потому что он был молод и очень хорош собой. Она вспомнила, что Эманюэль тогда начал нервничать и, не сказав ни слова, заставил ее пересесть так, чтобы она не могла встретиться в зеркале глазами с этим моряком. Нет, подумала она, было бы идиотством, было бы непростительной глупостью признаться ему, что она любила Жана.
Она поковыряла землю носком туфли и пробормотала, напряженно обдумывая новый план:
— Ну, ты сам понимаешь, в магазине многие заигрывали со мной…
— Да, это я знаю, — ответил Эманюэль.
Он говорил напряженным, срывающимся голосом. Однако он притворялся спокойным, покачивался с ноги на ногу и не торопил ее с ответом. И в эту минуту она заподозрила в Эманюэле силу воли, которой совсем не предвидела. Она поняла, что между ними ляжет глубокая пропасть, если только она не поведет игру в открытую. Рассмеявшись, она потерлась щекой о щеку Эманюэля, прикоснулась пальцем к его губам и вскричала:
— Глупый, глупый ты, глупый! Ты же спрашивал меня перед отъездом, согласна ли я быть твоей подружкой. И ты же сам знаешь, что я ждала тебя, только тебя!
И тогда стена, которую с нечеловеческим усилием возводил Эманюэль, защищаясь от ее юного очарования, рухнула. Он глубоко дышал, как после грозы. Теперь он понял, что весь день его не оставляло горькое сомнение. Уловки и раздражительность Флорентины минутами выводили его из себя. «Я нужен ей только как замена», — говорил он себе.
Но этот простой, ласковый жест рассеял все его опасения. Ее палец у него на губах! Он взял ее за руку, и они спустились к реке, прокладывая себе дорогу среди ветвей, которые цеплялись за пальто Флорентины, хлестали ее по тонким прямым ногам, и ему казалось, что он вступает в мир, где нет ни войны, ни ужасов, ни сомнений, ни человеческих тревог, где все умолкло, кроме шума листвы и шелковистого шелеста светлого платья.
Позже, когда сумерки уже сгустились, они сидели у реки, на берегу маленькой бухточки, куда еле доносились отдаленные слабые шумы города. Их убежище заслонял высокий обрыв. Они были одни, совсем одни, они слышали только, как река поет свою вечную песню, видели только, как цапли низко-низко пролетают над скудной прибрежной травой. Временами чайка взмывала высоко над серебристой рябью реки, и тогда ее крылья вспыхивали ярким пламенем; казалось, все остатки дневного света слились в красочное пятнышко, которое металось, следуя за полетом птицы, то внизу, над камышами, то высоко-высоко, над ветвями вяза.
А вдали гряда лиловых туч медленно погружалась в воду.
Они выбрали для отдыха большой плоский камень. У его подножия бормотали маленькие водовороты — последние отзвуки далеких быстрин. Эманюэль постелил на камень свой большой платок цвета хаки, чтобы Флорентина не запачкала новое пальто. Она устроилась на камне, свесив ноги, а Эманюэль обнял ее, еще робея и вместе с тем удивляясь, что Флорентина позволяет ему такую фамильярность. Для Флорентины ночь была теперь желанна — эта ночь больше не страшила ее, потому что не грозила ей одиночеством, эта ночь была добра к ней, потому что стирала лица, меняла черты, смешивала воспоминания, смешивала времена и приносила ей смутное ощущение забвенья.
Ласковым и решительным движеньем она тяжело опустила голову на плечо Эманюэля. И это было не только притворством. Быстро приближавшаяся ночь смывала воспоминания, и Флорентине казалось, будто целая вечность отделяет ее от того, что было ее прошлым, ее глупостью, будто она — совсем невинная девочка, жаждущая новых для нее знаков внимания. И это вовсе не было обманом. Если незнакомец, который сидят рядом с ней, хочет любить ее, любить безумно, то и она, быть может, еще окажется в силах ответить на этот зов любви. Теперь ей казалось, что любовь обязательно должна быть робкой и нежной. Ночь действовала на нее как снотворное, притупляя и затуманивая ее сознание.
Прижавшись к Эманюэлю, она вдыхала запах его волос, его мундира. И вопреки всему на самом деле начинала увлекаться, потому что была глубоко неравнодушна к внешним проявлениям любви. Путь к ее душе лежал только через поцелуи.
Она слышала, как сердце Эманюэля бьется глухо и учащенно. Она внимательно наблюдала за ним, и хотя часть ее души стала мягкой и нежной, другая по-прежнему оставалась настороженной и решительной. Она все время испытующе поглядывала на него из-под опущенных век.
Но им снова овладели вчерашние душевные терзания, и, не в силах примирить эти кошмарные путаные видения с представлением о счастье, пусть даже мимолетном, он слегка отстранился. Чувствуя, что не может больше бороться с искушением, он, чтобы спасти их обоих, не нашел ничего лучшего, чем воззвать к воле Флорентины.
— Ты будешь ждать меня? — внезапно спросил он глухим, прерывающимся голосом. — Я знаю, что это жестоко и несправедливо, но ты будешь меня ждать, Флорентина? Будешь ли ты ждать меня до той поры, пока мир не исцелится? Год, два года, а может быть, и дольше? До конца войны? Отдашь ли ты мне все это время, Флорентина?
Она насторожилась и отодвинулась от него. О чем он говорит? «До той поры, пока мир не исцелится?» Что означают эти странные слова? Она страшилась чего-то, чего не могла понять, и в то же время чувствовала, что вот сейчас держит в руках и собственную судьбу, и судьбу Эманюэля. Она собралась с мыслями. Ей уже было хорошо известно, что есть чувство, голос которого звучит громче и голоса отчаяния, и голоса рассудка и сердца. Она призвала на помощь всю свою силу, всю силу слабой женщины, свою всепобеждающую силу, перед которой должен был умолкнуть рассудок.
Она слегка повернула покоившуюся на плече Эманюэля голову, так, чтобы он увидел ее испуганные глаза.
— О, Манюэль, ты уедешь, и я тебя больше не увижу! Я не хочу ждать все это время! Я просто не смогу жить без тебя все это время! Я буду так бояться, что ты найдешь себе другую подружку. Подумай только — все это время!
В эту минуту ее так опьянял звук ее собственного голоса, так захватили ее собственные слова, что она сама была готова поверить, будто в тот день, когда Эманюэль покинет ее, жизнь станет для нее невыносимой. По ее щекам струились слезы, и они были не совсем притворными. Она оплакивала в эту минуту свое прошлое безумство и жалела себя больше не за то, что совершила ошибку, а за то, что была несчастлива. Она обнимала Эманюэля своими хрупкими руками. Ей было страшно, и в то же время она чувствовала, что вот-вот достигнет цели — и только благодаря твердости своей воли. Ее голос выдавал все ее страхи, но вместе с тем в нем звучало и трепетное торжество. Она уже видела себя возрожденной, любимой, красивой, как никогда раньше, — и спасенной. Она подождала, пока вокруг них стало еще темнее, пока небо над ними почернело еще больше, и внезапно, опьяненная этим мраком, словно густым вином, холодно и решительно подставила Эманюэлю губы. Но сразу же ее захватил порыв страсти. Она больше не понимала, что ее волнует — воспоминание о ласках Жана или поцелуи Эманюэля. Она погрузилась в какое-то минутное забытье, жадно отдавая свое узкое личико губам Эманюэля.
Он не смел даже надеяться на такое счастье. С первого же дня отпуска, еще в поезде, непрестанно видя перед собой образ Флорентины, он начал опасаться, как бы присущая ему порывистость не завела его слишком далеко. Он считал, что жениться на Флорентине перед самым отъездом было бы несправедливо, и позволял себе строить планы только о двух неделях беспечной веселой дружбы. А кроме того, ему на ум невольно приходили и другие соображения: недовольство родных и особенно отца! Огорчение, которое он причинит матери, — тем более жестокое, что это случится перед самым его отъездом! И наконец, сложность взаимоотношений Флорентины с его родными, когда она станет его женой. Но сейчас он был охвачен таким лихорадочным возбуждением, что поспешный брак с Флорентиной представлялся ему чем-то вполне естественным. Разве не так же второпях, перед самым отъездом, венчались и все другие? Почему же и они с Флорентиной не имели права на свою долю радости перед тем, как расстанутся, — и, быть может, навсегда? Дождется ли эта радость его возвращения, переживет ли она все случайности возвращения? Разве это — не та редкостная, непредвиденная, мимолетная милость судьбы, за которую надо немедленно ухватиться? Совершенно потрясенный этим внезапным решением, охваченный восторгом, он даже забыл, что оно было подсказано ему Флорентиной. Теперь ему казалось, что он сам принял это решение уже давно и что противиться ему было бы так же бесполезно, как бесполезно было бы бороться с безумием и хаосом, которые объяли весь мир.
От волнения он не мог связно сказать несколько слов, но голова у него стала ясной, такой ясной, какой не была уже много месяцев, — он отдавал себе отчет во всех трудностях и все их преодолевал.
— Время… — сказал он. — Маловато его у нас… всего недели две…
Сейчас ему казалось, что он не может преодолеть лишь одно препятствие — время, неумолимое время.
Но Флорентина, застигнутая врасплох его нетерпением, которое сама же разбудила, и чувствуя, что ее быстрее, чем она предполагала, уносит в неизвестность — в неизвестность, которая теперь, когда она лучше ее осознала, начинала казаться ей пугающей, — почти совсем перестала поощрять Эманюэля. Она сидела неподвижно, глядя во мрак перед собой расширенными глазами.
— Да, время… — пробормотал он. — Ты думаешь, его хватит, Флорентина?
Он зажег сигарету и быстро затянулся несколько раз подряд, чтобы помочь себе думать.
— Около двух недель… — И вдруг он круто обернулся к ней. — Так мы еще успеем! — вскричал он, возбужденный и ликующий. — Я завтра же зайду к священнику вашей церкви. Можно будет все устроить в среду, а может быть, и во вторник… Снимем хорошую комнату в гостинице… И в книге записей будет стоять: господин и госпожа Летурно!..
Он расхохотался и тут же умолк, прислушиваясь к внезапно вырвавшемуся из его груди смеху: ведь он уже так давно не смеялся!
Теперь и Флорентина тоже вошла во вкус, увлеченная, несмотря на все, этой перспективой: несколько дней в гостинице с Эманюэлем, который, конечно, будет баловать ее, накупит ей всяких подарков.
Ни он, ни она не думали ни о чем, кроме этих нескольких дней, которые будут напоены юностью; он представлял себе ревниво оберегаемую от чужих глаз интимность, своего рода бегство в мир нежных грез, сладостного безделья; а она — яркие огни кинотеатров, большие магазины, по которым ей будет так приятно ходить. И то, что каждый из них увидел в эту минуту молчания, доставило им столько радости, что они в искреннем порыве внезапно поцеловались.
Потом ночь окончательно укрыла своим мраком их сплетенные тени.
Эманюэль говорил, не умолкая.
— Ты будешь получать за меня пособие, Флорентина, — сказал он. — И я буду присылать тебе часть моего жалованья, так что тебе не нужно будет больше работать. Ты сможешь даже снять себе дом.
А про себя подумал: «Ее собственный дом, который она обставит по своему вкусу, где она будет меня ждать».
— Ждать не так уж долго, — сказал он. — То есть до тех пор, пока кончится война. Оба мы еще молоды. Сколько тебе лет, Флорентина?
— Девятнадцать, — ответила она.
И повернулась к нему, всем своим видом как бы говоря: «Я еще достаточно молода, чтобы начать все сначала. И ты можешь мне многое простить».
— А мне только двадцать два года. Мы оба будем еще молоды, когда я вернусь, Флорентина. Впереди еще будет вся жизнь, а потом…
Он замолчал, сам изумленный противоречивым ходом своих рассуждений за последние несколько минут. Сначала все его робкие надежды сводились только к одной-двум счастливым неделям, но затем, осмелев при мысли, что его желания могут осуществиться, он устремился мечтами в будущее и захотел вырвать у времени обещание, гарантию целой счастливой жизни. Но подсознательно он понимал, что обманывает самого себя. Он внезапно представил себе все опасности, которые таила для него и для Флорентины их долгая разлука. Перед ним возникло видение их одинокой юности. И он пробормотал глухим голосом:
— Только, Флорентина, чтобы сделать то, что мы собираемся сделать, мы должны быть уверены, что любим друг друга по-настоящему, что любим друг друга на всю жизнь.
Этот вопрос, который он задал ей, вернувшись из захватывающего путешествия в даль времен, был очень серьезен. Он звучал, как обращенная к ней мольба. Это был смелый зов, брошенный в будущее, облика которого не могли предугадать ни он, ни она. Это был вызов той темной полосе времени, которая простиралась где-то впереди.
Теперь на водной глади лежали лишь слабые белесоватые блики, но Флорентина и Эманюэль ничего не видели. Вокруг них в непроглядном мраке царила тишина.
Эманюэль пытливо изучал лицо Флорентины, и не только это лицо, которое он полюбил так недавно, — он пытливо изучал те немногие слова, жесты, которые заключали в себе все, что он знал о Флорентине. Вокруг их сближенных лиц была только мгла, только темнота. Не видя ее глаз, он боялся, что вновь почувствует себя одиноким, а потому еще крепче сжимал ее в объятиях. Она знала, что он больше не видит ее глаз. И была этому рада, так как ей казалось, что она сама не смогла бы выдержать собственный взгляд. Она поспешно проговорила:
— Да, это верно, надо любить друг друга на всю жизнь.
И на этот раз она говорила от всего сердца. Все бури улеглись. В ее жизни уже не будет ни экстазов, ни бездн — перед ней лежала только ровная, спокойная дорога, и, видя ожидавшее ее на этой дороге спасение, она больше не удивлялась тому, что пошла по ней.
XXX
Роза-Анна бесшумно вошла в комнату, где спала Флорентина. Она повесила на железную спинку кровати зеленое бархатное платье — свадебный наряд дочери. Она поставила на пол изящные туфельки и, развернув красивую нижнюю юбочку из палевого шелка, со всяческими предосторожностями разложила ее на стуле. Затем поглядела на Флорентину, которая все еще спала, прикрыв лицо согнутой рукой; и, подойдя к кровати, она осторожно дотронулась до ее обнаженного плеча кончиками пальцев.
С того самого вечера, когда она решила, что догадалась о позоре дочери, она всегда чувствовала себя в ее присутствии неловко. Словно сама взяла на себя часть этого позора. Она едва осмеливалась смотреть на дочь. И совсем не осмеливалась с ней заговаривать.
Правда, вот уже несколько дней, как эта неловкость рассеялась. Видя, что на щеках Флорентины снова заиграл румянец, что она, по-видимому, счастлива с Эманюэлем, Роза-Анна успокоилась. Тяжесть отлегла от ее сердца. Она простодушно радовалась за Флорентину, которая так удачно выходила замуж; иногда она даже позволяла себе гордиться, но все это омрачалось тем, что в поведении дочери не чувствовалось особого восторга. И сегодня утром, когда она гладила костюм Филиппа, в его кармане среди всяких бумажек она обнаружила письмо, адресованное Жану Левеку и написанное рукой Флорентины.
И самые жестокие сомнения вновь ожили в ее душе.
Однако время шло. Наклонившись над постелью Флорентины, Роза-Анна несколько секунд колебалась и наконец потрясла ее за плечо.
— Сегодня день твоей свадьбы, слышишь, пора вставать…
В ее голосе прозвучало легкое раздражение. Ведь сама-то она в день своей свадьбы поднялась на заре, хотя никто ее не будил, и громко пела, одеваясь у залитого солнцем окна.
При этих словах Флорентина мгновенно приподнялась и, растерянно мигая, огляделась вокруг непонимающими глазами. Теперь в минуты пробуждения она чувствовала себя расслабленной, воля больше не поддерживала ее, и она ощущала привычную подавленность, которая всегда обрушивалась на нее, как только она просыпалась. Наклонив голову, она несколько секунд размышляла с остановившимся взглядом. Зачем она проснулась сегодня утром? Да и вообще — зачем она просыпается? Но сегодня утром, особенно сегодня, какая новая душевная тяжесть ляжет на нее, как только она снова вернется в мир реальности? Она приподнялась на подушке; в ее глазах мелькнула растерянность. И тут же она вспомнила: «Ах да, ведь сегодня моя свадьба… моя свадьба с Эманюэлем…» И слово «свадьба», которое прежде связывалось в ее воображении с опьяняющим счастьем, с успехом, показалось ей теперь суровым, гнетущим, таящим в себе ловушки и горькие неожиданности. Она посмотрела на свою мать, и ей бросилось в глаза, с каким трудом двигается погрузневшая Роза-Анна. И перед ней возникло видение — она сама, вот так же обезображенная. Она потянулась, чувствуя, как по ее хрупкому телу пробежала дрожь; мысль об испытании, через которое ей придется пройти, вызвала у нее яростное негодование. О, как она ненавидела ловушку, в которую попалась! Но разве не идет она опять к этой ловушке, и к тому же по доброй воле? Ее лицо выразило отвращение, почти ненависть. Потом она уловила немой упрек во взгляде матери, вскочила с постели и начала одеваться.
Розе-Анне и Азарьюсу очень хотелось устроить свадьбу их старшей дочери как можно лучше. Азарьюс метался, стараясь получить деньги за несколько дней работы. «Сейчас не время скупиться — ведь такой случай!» — повторял он. И на сей раз Роза-Анна поддерживала его: «Правильно, Азарьюс, надо, чтобы у Флорентины был приличный гардероб». Они сделали все, что могли, и в день свадьбы Флорентина была одета хорошо — гораздо лучше, чем позволяли их средства. «Нельзя, чтобы Летурно считали, что она им не ровня, — самолюбиво думала Роза-Анна. — Эманюэль возьмет ее не в лохмотьях».
Она не спала всю ночь, дошивая шелковую нижнюю юбку, и теперь с замирающим от волнения сердцем ждала хоть какого-то слова, хоть какого-то взгляда Флорентины, который вознаградил бы ее, и главное, успокоил бы.
Перед тем как надеть платье, Флорентина встала и начала причесываться. В комнате почти не было мебели, но она вся была загромождена ящиками и картонками для переезда, и Флорентина выглядела среди них такой тоненькой, такой хрупкой, что всякая обида исчезла из сердца Розы-Анны.
Но какая холодная и непреклонная решимость замкнула уста Флорентины? Почему она не доверилась матери? После того как Эманюэль уедет и Флорентина вернется домой жить с ними, им, несомненно, удастся поговорить по душам. Однако не будет ли слишком поздно? Если Флорентине действительно нужна помощь, пожалуй, лучше было бы вмешаться именно сейчас.
Роза-Анна уже протянула было платье Флорентине, но заколебалась, словно не решаясь отдать его: ее пальцы неловко поглаживали и комкали ткань, в рассеянном взгляде чувствовалась неуверенность.
— А если тебе кажется, что ты ошиблась, — вдруг сказала она, — если ты идешь замуж против воли, если ты любишь кого-нибудь другого, так ведь еще не поздно. Нужно только сказать…
Вместо ответа Флорентина выхватила платье из рук матери.
— Дай я сама оденусь, — сказала она. — Я могу одеться без твоей помощи.
Нет, она не отступит от своего решения. Наконец-то ее жизнь определилась раз и навсегда. Это будет совсем не то, о чем она мечтала. Но все же это в тысячу раз лучше того, что могло с ней случиться. И, одеваясь, она очень спешила — спешила превратиться в новое существо, в другую Флорентину, которая будет готова встретить новую, неизвестную жизнь и, быть может, сумеет забыть ту Флорентину, какой она была прежде.
Она откинула голову и стала разглядывать себя сквозь полуопущенные ресницы. Как приятно было после тех мучительных мыслей, которые осаждали ее в минуту пробуждения, увидеть свою все еще тонкую талию, свою юную упругую грудь. Она повернулась на каблуках и почувствовала облегчение, такое облегчение, что ей захотелось бы приласкаться к матери, если бы та не выглядела сейчас такой суровой. Ведь на секунду ею овладел было мучительный страх, что она увидит себя внезапно обезображенной. Может быть, ей приснился дурной сон… Но теперь она понемногу успокаивалась. Сегодня она будет хорошенькой, очень хорошенькой — ради своей свадьбы. Пусть в памяти Эманюэля останется ее трогательный образ. Эманюэль… К тому времени, когда она подурнеет и ее тонкая фигура округлится, он будет уже далеко. Он, конечно, ничего не сможет заподозрить. А она теперь станет хитрой, она сохранит свою тайну. Она никому ничего не скажет. Нет уж! Ее решение непоколебимо. Ни мать и никто другой никогда не вырвут у нее признания.
Роза-Анна видела лицо Флорентины в небольшом зеркале, висевшем на стене над столом: твердо сжатый рот, решительный, чуть ли не вызывающий взгляд.
Она рассматривала это лицо с изумлением. Такая Флорентина — с застывшим лицом, со сдвинутыми бровями — казалась ей совсем незнакомой. Она не узнавала в ней ту, прежнюю Флорентину, пусть раздражительную, но в глубине души всегда стремившуюся загладить свою вину. И она не решилась задать ей прямой вопрос, с горечью чувствуя, что такая попытка ни к чему хорошему не приведет. Она только пробормотала тихим голосом, как бы разговаривая сама с собой и повинуясь непреодолимому требованию своей совести:
— Брак, Флорентина, это серьезное дело.
— Вечно-то ты поучаешь, — сказала Флорентина; она произнесла эти слова с яростью, потому что теперь, когда все другие трудности остались позади, она ясно видела тот путь лжи и разочарований, на который вступила.
— Да разве я поучаю! — сказала Роза-Анна.
Ее глаза забегали. Перед ней встал образ ее старой матери, суровый и холодный, и она подумала, что, может быть, и сама на нее похожа. Она постаралась найти слова, которые звучали бы не слишком наставительно, но это было очень трудно, потому что источником всей ее духовной жизни были сухие благочестивые брошюрки. Да и враждебное высокомерие Флорентины так мешало ей проявить ее естественную нежность! Вдобавок она еще и упрекала себя. Разве не сама она оттолкнула Флорентину, когда та попыталась быть с ней откровенной?
— Я не хочу поучать, Флорентина. Я хочу только, чтобы ты знала, что в замужестве есть не одни радости. Есть и много трудностей.
Флорентина пудрилась, твердо сжав губы. Тем картинам, которые старалась вызвать в ее воображении Роза-Анна и которые смутно возникали перед ней самой в минуту пробуждения, она сознательно противопоставляла другие, которые были ей гораздо более приятны: аллея перед церковью, по которой она пройдет под руку с отцом, алтарь, украшенный цветами, свадебный завтрак в доме родителей Эманюэля, все те комплименты, которые ей будут говорить, затем их отъезд, дождь конфетти, визит к фотографу; все это будет так интересно. А потом… впрочем, ей не хотелось заглядывать так далеко. Медовый месяц… это будет весело. Эманюэль был очень добр к ней. Еще вчера, когда они строили планы на будущее, она была изумлена его заботливостью. Не то чтобы растрогана, но очень успокоена. И вдруг она почувствовала, что сполна отомстила Жану за его измену и оправдала себя в собственных глазах; это снова сблизило ее с родными, снова сделало ее достойной их уважения — ведь она рисковала его потерять, — а потому она решила, что очень ловко и умело осуществила свои планы, и улыбнулась медленной, задумчивой улыбкой, в которой сквозила твердая решимость и, несмотря на все, трагическое желание вернуться к прошлому. Она чуть было не бросилась на шею матери, но Роза-Анна уже отвернулась, постояла секунду в нерешительности и ушла в кухню.
Азарьюс ждал их, одетый в свой лучший костюм, с розой в петлице. Его свежевыбритое лицо пахло пудрой. В белой рубашке со слишком узкими манжетами и воротом он выглядел скованным и, казалось, был взволнован и несколько смущен тем, что слишком рано и как-то неожиданно для него наступил день, когда ему предстояло вести дочь к алтарю. Флорентина… сейчас она чаще, чем когда-либо, вспоминалась ему совсем маленькой — девочка с длинными косами, которые подпрыгивали у нее на спине, когда она бегала. Такой образ не вязался с приготовлениями к свадьбе, и это озадачивало его, но он скорее радовался, чем печалился. Флорентина уже выходит замуж… а он, ее отец, еще так молод!
— Ну, скоро ты будешь готова, дочурка? — спросил он.
Облокотясь о подоконник, он смотрел на крохотный кусочек неба, который был виден сквозь грязное окно, и очень громко — потому что мимо проходил поезд — говорил:
— А знаешь, день сегодня прекрасный! Все залито солнцем!
Они и прежде жили среди непрерывного пыхтения поездов, хотя их дом находился довольно далеко от железной дороги, проходившей по насыпи в конце коротенькой улицы Бодуэн. Теперь же их домик стоял у самой станции Сент-Анри, и мимо него тянулось множество путей. И они не знали отдыха. Трансконтинентальный экспресс, поезда на Оттаву и на Торонто, пригородные поезда непрерывно проносились мимо их дверей. И были еще товарные поезда, бесконечные тяжелые составы с продовольствием или длинные ряды платформ с углем. Иногда вагоны останавливались, катились назад, затем снова вперед, и тогда на их дом обрушивались изнурительные прерывистые звонки, громкий лязг сталкивающихся тяжелых железных крюков и волны копоти. А иногда мимо на полной скорости с резким свистом проносился локомотив, и по дому проходило долгое содрогание. Оконные стекла дребезжали, и все вещи, висевшие на стенах, все вещи, запертые в ящиках, мелко дрожали, словно охваченные волнением. Чтобы быть услышанными среди такого грохота, им приходилось возвышать голос до крика, как при ссоре, и в конце концов они начинали посматривать друг на друга с удивлением, и с оттенком глухой неприязни. А потом, когда грохочущий поезд уносился вдаль и дом, тихо потрескивая, вновь успокаивался, его обитателям казалось, будто солнце уже зашло и за тусклыми окнами занимается новый хмурый день.
А Роза-Анна тем временем вся ушла в мечты о солнце и о легком ветерке — так иногда люди, чтобы лучше понять свои страдания, воскрешают далекие неуловимые призраки былого, и те являются из глубин памяти скорее как непрошеные гости, чем как друзья. Ей вспоминался день ее свадьбы, такой ясный и лучезарный, колокольный звон, плывший над деревней и полями. Она вновь вдыхала запах нив и на дороге своей юности, столько раз, столько раз уже пройденной в воспоминаниях, вновь находила радости, у которых был здоровый, сочный вкус земных плодов. А потом, оглядывая окружавший ее беспорядок, она была готова возненавидеть все эти осаждавшие ее воспоминания. Разве не насмешкой судьбы были эти благодатные дни в самом начале их жизни, в самом начале ее молодости? И разве не насмешка судьбы — вот эта свадьба сейчас, когда они только-только переехали в грязный безликий дом, который никакими узами еще не связан с их жизнью?
Ветер обрушивал на окна потоки искр и копоти. Казалось, весь горизонт, жаждущий избавиться от копоти, не нашел другого места, куда бы сбросить ее, кроме этих плохо пригнанных окон. Азарьюс стоял тут, в пыльной мгле, которая как бы отгораживала его от окружающих, но Роза-Анна знала, что мысли его далеко: ведь и она сама минуту назад вырвалась — или, по крайней мере, пыталась вырваться — из этого дома. Он тихо и рассеянно похлопывал рукой по подоконнику.
Роза-Анна краешком глаза наблюдала за ним. Она понимала, что он просто не заметил, как нервничала Флорентина в последнее время, что он даже и не подозревал о той драме, которая, возможно, разыгрывалась в ее жизни, что он ничего не видел, ни о чем не догадывался, и никогда еще она так не колебалась, порицать ли его или жалеть. В последние дни он словно освободился от какого-то гнетущего бремени. Походка его стала решительнее и тверже. Иногда лицо его омрачалось, но стоило ему заметить, что за ним наблюдают, как взгляд его становился уклончивым и непроницаемым. Он словно таил какую-то скрытую надежду, думала Роза-Анна. И то, что он, невзирая на возраст и на все преследовавшие его неудачи, мог еще так упорно на что-то надеяться, порой раздражало бедную женщину даже больше, чем сознание, что муж не делится с ней своими мыслями. Раз-другой она застигла его врасплох, когда он разговаривал сам с собой: «Ничего иного не остается. Надо решаться». Когда же она спросила, о чем он говорит, Азарьюс одним рывком поднялся с места и без тени смущения шутливо сказал: «Не мешай, не мешай, Роза-Анна. Скоро ты сама все узнаешь. У нас будут деньги — и все пойдет хорошо».
Когда она видела его подавленным, ее сердце тревожно сжималось. Однако жизнь научила ее, что гораздо больше следует опасаться непостижимой молодости его натуры.
На столе лежала газета — Азарьюс теперь ежедневно покупал газету, а иногда и две. Роза-Анна равнодушно взглянула на нее. И прочла набранный крупным шрифтом заголовок: «БЕЖЕНЦЫ В ПУТИ».
— Как и мы — в пути… всегда в пути… — пробормотала она.
Взгляд ее упал на другую строку, чуть ниже: «НОВЫЙ КОНТИНГЕНТ КАНАДСКИХ ВОЙСК ВЫСАЖИВАЕТСЯ В АНГЛИИ». Она машинально посмотрела на дату. Это была вчерашняя газета — от двадцать второго мая.
— Как знать, может быть, скоро наступит очередь Эжена, — проговорила она.
И продолжала про себя: «Эжен… Флорентина… Кто уйдет следующим? Неужели мы больше не будем вместе? Уже?» Она окинула комнату скорбным, усталым взглядом. О нет, здесь они никогда не будут счастливы. Она поняла это в ту самую минуту, как они вошли сюда. Какая новая беда нависла над ней? Тяжелое предчувствие сжало ее сердце. Что-нибудь случится с Эженом! Теперь, стоило слегка притупиться боли очередного горя, она уже ждала нового испытания, ждала чуть ли не с нетерпением, словно, пережив его заранее, она могла хоть немного уменьшить его тяжесть.
— Бедный мальчик! — со вздохом пробормотала она.
Азарьюс вздрогнул. На мгновение ему показалось, что она говорит о нем. В давние времена, чтобы исцелить его от иллюзий или чтобы утешить среди всяческих неудач, она порой шептала ему эти слова, обняв, словно ребенка. Тоскливая жажда нежности волной поднялась из самых глубин его существа, и он понял, что отдал бы жизнь ради того, чтобы еще хоть раз увидеть Розу-Анну счастливой. Он скользнул взглядом по утомленно склонившейся фигуре жены, увидел ее лоб, испещренный сетью мелких подвижных морщин, ее руки, побелевшие от частых стирок. Брак Флорентины начал и в нем самом пробуждать давние воспоминания, и вместе с воспоминаниями в его душе возникла какая-то странная, непонятная тяжесть — она, наверное, всегда была с ним, он тащил ее за собой, как ядро, и она, словно цепь, сковывала все его усилия. И только сейчас он понял это! После первой минуты изумления, когда он уже примирился с тем, что Флорентина стала взрослой и готова вылететь из родительского гнезда, он никак не мог забыть то, что открылось ему в прошлом, то, что он видел позади себя: бесконечную вереницу тянущихся один за другим дней, и промахи, и упущенные возможности. Это было хуже всего. И Роза-Анна!.. Он был уверен теперь, твердо уверен, что за всю свою жизнь никого не любил, кроме нее. Только вот доказать ей этого он никогда не умел. Ну, что ж, настала наконец пора доказать ей свою любовь. И не видеть больше, как она страдает по его вине. Он закрыл глаза. Вот к чему он стремился всеми силами. Уйти… как того требовало чувство справедливости… И не видеть больше ее страданий…
Он хотел заговорить с ней. Никогда еще, быть может, он так не жаждал ей все объяснить, никогда он не испытывал такой потребности оправдаться перед ней, но в эту минуту Роза-Анна уже встала и с усилием, с напускной веселостью улыбнулась Флорентине, которая вошла в кухню.
Потом она вспоминала, что только-только успела взглянуть на Флорентину, одетую для свадьбы, и что они даже не поцеловались.
Флорентина спросила:
— Мама, посмотри, хорошо ли сидит платье?
И Роза-Анна заставила ее медленно повернуться, разглядывая платье и время от времени нагибаясь, чтобы снять кое-где ниточки наметки. Потом Азарьюс потянул девушку к выходу.
— Идем скорее, дочурка, на улице поймаем такси.
Теперь они жили совсем близко от той стоянки такси, где несколько месяцев назад работал Азарьюс. Роза-Анна, сидя у окна, увидела, как они пересекли железную дорогу. Потом она разглядела их в красивой черной машине — Азарьюсу пришла в голову мысль, сделать крюк по улице Дю-Куван, чтобы Роза-Анна могла увидеть их на прощанье.
Она протерла грязное окно, вся подалась вперед и успела различить бледно-зеленое пятно — маленькую шляпку, изящно сидевшую на каштановых волосах, блеск которых был виден даже сквозь стекло машины. Она помахала рукой, но тут же поняла, что это бесполезно — машина уже скрывалась из вида, да и Флорентина вовсе не смотрела назад. Она уехала без колебаний, не помахав рукой, не бросив на дом прощального взгляда. Она уехала так, словно ее здесь ничто не интересовало, ничто не удерживало, подумала Роза-Анна. «Ну, как чужая!» — пробормотала бедная мать, готовая заплакать. И, заметив, что сама она так и стоит, подняв руку, она ощутила такую обиду, что ей захотелось спрятаться куда-нибудь, закрыть лицо ладонями и долго-долго быть одной, совсем одной.
Она резко отвернулась от окна и, присев к столу, оперлась на него, смертельно усталая. У нее хватало домашних дел, забот, которые могли бы отвлечь ее. Вскоре проснутся малыши. Надо будет одеть их, умыть, приготовить к уходу в школу. С Филиппом придется быть терпеливой, воздействовать на него лаской и похвалами, чтобы добиться от него небольших услуг. Да, уж чего-чего, а хлопот у нее хватало. Но она предпочитала думать именно о том, что причинило ей такую острую боль, — об отъезде Флорентины. Пожалуй, ей нужно было сейчас только одно — побыть наедине со своим страданием, вновь переживать и переживать его, упиться им до конца.
Халат распахнулся на ее бесформенном животе. Обнажились распухшие ноги, на которых темными пятнами и бугорками обозначились вздутые вены. И внезапно Роза-Анна всем телом упала на стол, обхватив голову руками. Она уже так давно, так давно не плакала! И сейчас одно только ощущение, что слезы вот-вот готовы хлынуть, принесло ей что-то вроде облегчения.
Но тут в тишине раздались частые шажки. В дверях показалась Ивонна. Она некоторое время стояла неподвижно, робко глядя на мать. Затем порывисто упала перед ней на колени.
Роза-Анна принялась машинально накручивать на пальцы волосы дочери. Через несколько минут, словно поняв наконец, кто перед ней, она слегка отстранила Ивонну и, смущаясь под ясным взглядом девочки, запахнула халат.
— Что тебе, моя Ивонет? — спросила она.
Давно уже она не называла дочь ее детским именем. Подрастая, Ивонна стала молчаливой, серьезной, почти суровой, и временами ее потребность в покаянии и молитве была так велика, что изумляла Розу-Анну. Такая чрезмерная набожность нередко даже огорчала мать. Она иногда нарочно давала Ивонне какое-нибудь дело в доме как раз в ту минуту, когда девочка собиралась незаметно уйти в церковь. «Ты же знаешь, что самый лучший способ служить богу — это помогать родителям», — говорила она, чтобы прогнать складки с упрямого лба девочки. И рассказывала ей притчу о Марфе и Марии. Но так как помнила она ее уже не очень хорошо, то случалось, что путала обеих сестер и кончала так: «Ты же знаешь, Иисус сказал, что это Марфа избрала благую часть». Ивонна на это ничего не отвечала.
Положив голову на колени матери, девочка вдруг тихо заплакала. Растроганная Роза-Анна подумала, что, пожалуй, она не понимала своей дочери и была к ней недостаточно внимательна. Взяв девочку за подбородок, она приподняла ее голову и заглянула ей в глаза. Выражение этих глаз глубоко потрясло Розу-Анну. Вместо затаенного упрека, как это бывало прежде, она увидела в них нежную жалость и даже желание защитить ее.
Девочка не отвела взгляда. И, обвив худенькими руками отяжелевший стан матери, пробормотала:
— Бедная моя мама! Бедная мама!
Под ночной рубашкой Роза-Анна ощутила уже развившуюся девически нежную грудь своей дочери. «Уже!» — подумала она. И не сразу поняла, радует ее эта мысль или еще сильнее печалит.
После короткого молчания она сказала, ласково перебирая волосы Ивонны:
— А знаешь, ты ведь скоро станешь такой же большой, как Флорентина. — И добавила тихим, дрожащим голосом: — И ты тоже выйдешь замуж?
— Нет, — твердо ответила девочка.
Она присела на корточки у ног матери. Ее восторженный взгляд был прикован к грязной стене, словно она видела эту стену в солнечном озарении.
— Я стану монахиней, — сказала она.
И голос ее звучал певуче, окрыленно и мягко.
— Ты станешь монахиней, — повторила Роза-Анна.
Она принялась накручивать на палец пояс своего халата.
— Если только господь не возьмет моей жизни раньше, — продолжала Ивонна. — Я просила бога взять мою жизнь, чтобы Даниэль выздоровел.
Наступило молчание. Все поплыло перед глазами Розы-Анны, словно их застлало туманом. Даниэль… Она почти забыла о нем из-за тех волнений, которые доставила ей Флорентина. Как же она могла? И ведь все они, занятые собственными заботами, совершенно забыли о больном ребенке… как будто его уже не было. Одна только Ивонна все время думала о нем и теперь сурово напомнила ей об их забывчивости.
Роза-Анна знала, что ее голос не будет сейчас особенно твердым. Она попыталась подняться и, пристально глядя на Ивонну, словно уже больше не различала ее черт, быстро сказала:
— Я очень устала сегодня и не смогу поехать в больницу. И потом, знаешь, меня сильно укачивает. Как ты думаешь, ты сможешь найти туда дорогу одна?
Девочка сразу вскочила на ноги. Глаза ее засветились радостью.
— Конечно, я же буду спрашивать, как мне пройти. Я пойду. И отнесу Даниэлю апельсин, который у меня остался. И шоколад, который нам подарил Эманюэль. Может быть, Дженни позволит ему это съесть. Его добрая Дженни, его красивая Дженни!..
Роза-Анна рассказала ей о привязанности малыша к молоденькой сиделке, и с тех пор Ивонна сама полюбила ее и возносила за нее свои детские молитвы. И, получив наконец давно желанное разрешение пойти в больницу, она принялась поспешно одеваться, словно опасаясь, что мать может еще передумать.
Роза-Анна слышала, как она напевала отрывки псалмов. В них говорилось главным образом о мае — самом лучшем из всех месяцев. Но вот наконец Ивонна появилась в своем скромном монастырском платьице — длинном, гораздо ниже колен, и слишком узком в груди.
Уже на пороге, перед тем как выйти, она внезапно сказала торжественным голосом:
— Только я еще не решила, что буду делать, когда стану монахиней. Может быть, помогать бедным… а может быть, ухаживать за больными. Ведь и то и другое одинаково хорошо перед богом, да, мама?
— Да-да, — рассеянно сказала Роза-Анна, — только не спеши, когда будешь переходить улицу, и посмотри в обе стороны. Возьми несколько центов из моей сумки, на случай если очень устанешь идти пешком.
— Нет, не нужно, — весело ответила Ивонна.
И затем быстро вышла, такая чопорная в этом грубом платье, несмотря на свой юный возраст. Тяжелые пакеты оттягивали ей руки. Роза-Анна догадалась, что в большой коричневой сумке, которую она крепко прижимала к груди, были не только лакомства. Конечно, в ней лежали и изображения святых, и благочестивые брошюрки, которые девочка ревностно собирала.
Сгорбившись у окна, Роза-Анна смотрела, как из ее дома уходит еще одна дочь. Она подумала, что этот долгий путь, да к тому же в гору, труден для девочки, которая никогда еще не ходила одна дальше, чем в церковь. Вдобавок из-за всего, что сейчас произошло между ними, этот уход показался Розе-Анне полным какого-то особого, зловещего смысла. И когда Ивонна исчезла за углом улицы Дю-Куван, Роза-Анна с болью вспомнила ее лицо. Ей показалось, что девочка уже отрешилась от мира и что они теперь далеко друг от друга. И среди всех разлук, обрушившихся на нее, эта разлука представилась ей самой жестокой, самой таинственной и самой непоправимой.
Она лишилась Ивонны. Но Ивонна никогда ей и не принадлежала.
В последнее время Даниэль много плакал. Его покрасневшие, распухшие веки открывались с трудом. Вот уже больше недели Дженни дежурила в другой палате, и теперь он видел ее только изредка, когда она мимоходом забегала поправить постель, обдавая его сладостным запахом своих белокурых волос.
Сначала он звал ее, кричал и неистовствовал так, что весь покрывался испариной и потом долго лежал неподвижно, измученный, ослабевший. Затем он стал звать мать, которая тоже так давно его не навещала. А теперь он уже не звал больше никого.
На его прозрачном, обтянутом кожей личике появилось какое-то старческое выражение. Он был пугающе худ. Его тщедушное, почти уже неподвижное тело казалось под одеялом совсем плоским. Ему переливали кровь, его кормили сырым мясом, как это было прописано, когда его положили в больницу, но ему становилось все хуже и хуже. Без всяких страданий, совсем незаметно он вступал в последнюю стадию болезни.
Наклонившись к брату, Ивонна, со свойственной детям обостренной интуицией, поняла, что он вот-вот умрет. Вся энергия, вся жизнь, еще тлевшие в нем, сосредоточились в его напряженном взгляде.
Но он все же потянул к себе большой пакет, который она ему принесла. Под его нетерпеливыми пальцами пакет разорвался, и мальчик увидел, что по одеялу рассыпалось множество игрушек. Он с восхищением принялся разглядывать раскрашенные картинки, потом увидел картонного цыпленка, который мог стоять. Ивонна объяснила ему, что нарисовала и вырезала все это в школе перед пасхальными каникулами именно для него.
При слове «школа» он насторожился и как будто задумался. Потом снова опустил глаза и принялся рыться в сумке, полной всяких сюрпризов. В его руки попала цепь вырезанных из белого картона человечков, державшихся за руки. При виде их на его заострившемся личике появилось слабое подобие улыбки. Потом он внезапно оставил все, что сначала собрал в кучу около себя, и схватил апельсин, который чуть было не скатился по одеялу.
Он сложил ладони горстью, поднял апельсин к свету и начал рассматривать его, слегка наморщив лоб. В больнице ему часто давали в стакане сок, у которого был вкус апельсина. Но апельсин — это был не сок, он был не в стакане; он напоминал о рождестве. Это был тот апельсин, который находили в чулке рождественским утром и потом долго ели дольку за долькой, растягивая удовольствие. Он был чем-то вроде нового пальто, вроде блестящей флейты; его очень хотели, его выпрашивали, а потом, наконец получив, совсем им не дорожили.
Странно все-таки, что у него есть сейчас этот рождественский апельсин. Сейчас ведь не зима. Его мать не возвращается нагруженная всякими пакетами, которые она с таинственным видом прячет куда-нибудь, прежде чем снять пальто и шляпу. Да, сейчас не зима, сейчас не рождество, и, однако, он держит в руках апельсин — круглый, мягкий, сочный.
Но ему не хотелось есть. Он выронил апельсин из рук. И, слегка повернув голову к Ивонне, начал рассматривать ее. Он очень любил ее когда-то, в том мире, который представлялся ему теперь таким далеким, таким чужим, он очень любил ее в те дни, когда по вечерам она помогала ему готовить уроки. В дни своих школьных занятий он так любил ее серьезное лицо, склонявшееся рядом с ним над открытой книгой, ее голос, когда она вместе с ним читала по складам, произнося нараспев названия букв. И теперь он спрашивал себя, что означает присутствие Ивонны у его изголовья.
Минуту спустя он начал застенчиво ей улыбаться. И даже протянул руку, пытаясь прикоснуться к ее щеке, хотя прежде всегда бывал очень сдержан.
Он водил ладошкой по щеке сестры — так младенец протягивает руку загадочным жестом обладания и любопытства.
Тогда она, едва сдерживая слезы, спросила:
— Ты еще помнишь твои молитвы, Нини?
Он слегка кивнул, но тут же его лицо омрачилось. Он пробормотал:
— Нет, я уже не помню… Только «Отче наш»…
— Достаточно и «Отче наш», — сказала она. — «Отче наш» — это молитва, которой нас научил сам Иисус. Повторяй вместе со мной, Нини.
Он посмотрел на сестру с тревожным любопытством, но начал, запинаясь, читать молитву — сам, без подсказки, пока не дошел до слов: «Да будет воля твоя на земле, как и на небе». Тут он остановился, словно чем-то озадаченный.
— Ивонна, а на небе будет Дженни?
— Да, твоя красивая Дженни, твоя добрая Дженни будет там когда-нибудь, — серьезно ответила Ивонна.
— Дженни, — проговорил он с оттенком вызова и исступленной нежности. Потом он вздохнул. — Но она никогда не крестится, — сокрушенно пробормотал он.
Ивонна поколебалась, облизнула губы и проговорила с некоторым усилием:
— Все же я думаю, что она попадет на небо.
— А мама?
— В этом ты можешь быть уверен, — сказала Ивонна с глубокой убежденностью в голосе.
Он долго раздумывал, а потом спросил:
— А ты?
Кроме нее, у него ничего не осталось в мире, и в его сердце, узнавшем столько разочарований, внезапно пробудилась горячая любовь к ней.
— И я, — сказала Ивонна, наклоняясь, чтобы поцеловать его.
И ее тоже вдруг залила волна исступленной, экзальтированной нежности. Чтобы успокоить Даниэля, она в эту минуту была готова поступиться даже своей совестью — совестью честного и глубоко религиозного ребенка.
— На небе будет все, что ты любишь, — сказала она певучим голоском. — Это и есть небо — все, что ты любишь. Там будет добрая пресвятая дева. Она будет баюкать тебя на руках. И ты будешь лежать в ее объятиях так же, как ее младенец Иисус.
— А мое новое пальто у меня там будет? — упрямо перебил он.
— Если ты захочешь, у тебя будет твое новое пальто, но у тебя будет и много других вещей, гораздо лучше. На небе ты никогда больше не будешь голодным, Нини. Тебе никогда больше не будет холодно. И у тебя ничего больше не будет болеть. Ты будешь петь вместе с ангелами.
Он закрыл глаза, утомленный видениями, которые возникали перед ним. Тогда, чтобы не разрыдаться возле его кроватки, Ивонна поспешно поднялась. Она вложила апельсин в его руки и убежала — худенькая девочка в узком длинном платье, которое хлестало по ее тонким ногам.
Даниэль увидел, как она убегала. Он хотел позвать ее обратно, но его слабый крик не догнал ее.
С этой минуты он стал ко вещему равнодушен, ничего не говорил, ни о чем не просил. Несколько дней спустя сиделка, сменившая утром ночную дежурную, нашла его мертвым. Он тихо угас, без жалоб, без страданий.
XXXI
Роза-Анна одела детей, как только они пообедали. Удивленные тем, что мать так торопится их выпроводить, они вовсе не спешили: то подбирали остатки еды на тарелке, то мешкали в поисках куда-то задевавшихся шапок и пальто. Тогда Роза-Анна сама принялась их поторапливать; она проводила детей до порога, отправив с ними крошку Жизель и поручив Ивонне заботиться о ней.
Девочка вспомнила о других столь же поспешных уходах из дома в ту пору, когда она была еще совсем маленькой. Обеспокоенная этими воспоминаниями и страдальческим лицом матери, она уходила очень неохотно.
— Позволь мне остаться дома, — умоляла она.
Но Роза-Анна твердо стояла на своем:
— Нет-нет, сегодня я могу обойтись без тебя. Ступайте, развлекитесь немного перед школой. Да и после занятий поиграйте на улице.
Она смотрела вслед маленькой кучке детей — очи шли, держась за руки, Жизель в середине. Она слушала их удаляющиеся голоса и внезапно почувствовала неистовое желание позвать их обратно, поцеловать еще раз, на мгновение прижать к груди. За эти месяцы беременности ее не раз охватывало предчувствие смерти, и порой она даже лелеяла это предчувствие и радовалась ему в томительной жажде покоя. Но сейчас, при виде детей, которые остановились у железнодорожного переезда, а потом двинулись вперед все разом, очень робкие, потому что они впервые взяли с собой Жизель и чувствовали себя ответственными за нее, Роза-Анна представила себе опасности, угрожавшие им сегодня, завтра, в будущем, и отогнала желание покоя, желание умереть, как нечто греховное.
Она вошла обратно в комнату, и стук закрывшейся за ней двери еще долго отзывался в ее сердце. Теперь она была одна, как всегда бывает одна женщина в такие минуты, подумала она, чтобы подбодрить себя… Но ей пришлось признать, что никогда еще она не была так одинока, что никто в мире не был так одинок, как она.
Ее дом предстал перед ней во всем своем ужасающем уродстве, во всем своем ужасающем равнодушии. Ничто здесь не радовало и не утешало ее: повсюду беспорядок, следы поспешного переезда, неустроенность. В сущности, Роза-Анна перебралась в этот дом, как и во многие прежние жилища, лишь для того, чтобы иметь угол, где можно было бы родить, и не успела даже сколько-нибудь прилично устроиться. Но никогда еще она так остро не ощущала отсутствия привычного порядка, отсутствия хотя бы кажущейся устойчивости. И из-за этого ей казалось, что она заточена здесь, в этих четырех стенах, для страданий, только для одних страданий.
Спотыкаясь, неуверенным шагом, она прошла через кухню и несколько раз постучала в стену, чтобы, как они уговорились, предупредить соседку. Все утро боль подстерегала ее, схватка следовала за схваткой через короткие промежутки. И Розе-Анне то хотелось, чтобы передышка длилась подольше, то, наоборот, чтобы боль обрушилась на нее в полную силу, лишь бы все скорее кончилось. Она перенесла первые приступы, не подавая вида своим близким и продолжая хлопотать по дому — из-за гордости, которая заставляла ее держаться как можно дольше, инстинктивной стыдливости, которая заставляла ее отвергать всякое сострадание, а также из-за наивной уверенности, что, мучая себя таким образом, она помогает природе.
Но все же настало время, когда пришлось признать эту боль, которую она отрицала, как только та проходила, продолжая, однако, носить в себе всю жизнь страх перед ней — детский, затаенный, глубоко скрытый страх.
Она вошла в свою комнату, большую, пустую, почти без мебели. В глубине ее стояла кровать… Роза-Анна вытянулась на ней. И, устремив глаза на серый потолок, она стала звать Азарьюса, она звала его среди стонов, а потом совсем тихо, приглушенным голосом. Даже наедине с собой она стыдилась открыто признаться в своем страдании… Азарьюс… Где он? Почему его нет сейчас возле нее? Затем она припомнила — с мучительным усилием, словно самые недавние события стали уже далекими, неясными, полустершимися воспоминаниями. Этим утром, как только им сообщили о смерти Даниэля, Азарьюс бросился в больницу. А позже, видя, что он не возвращается, она договорилась с соседкой, чтобы та в слуг чае надобности сходила за акушеркой. Даниэль… Азарьюс… Ее мысль вновь и вновь возвращалась к ним. Кто же умер? Даниэль, их младший? Но ей казалось, что сей: час она страдает из-за него, что это он опять раздирает ее тело. Бедный малыш!.. Она видела маленький белый гробик, такой коротенький, такой узенький, маленький гробик, который Азарьюс нес под мышкой. Но нет, нельзя было думать о таких страшных вещах, говорят, это вредно для беременных женщин. Но о чем же, о чем ей думать, как не об этом узком гробике, чуть побольше колыбели?.. Похороны, крестины, все значительные события жизни представлялись ей одинаково трагическими, непостижимыми, горькими. Она видела то свежевырытую могилу, готовую принять маленький гробик, то спящего ребенка в длинной крестильной рубашке… А пеленки? Готовы ли пеленки?.. Да, те самые, которые в свое время служили Флорентине… Флорентина! Где она теперь? Боже мой, Флорентина уже замужем. Придет день, когда и она станет добычей страданий и физического унижения… Флорентина… Как она была счастлива, когда родилась Флорентина. Ей всегда хотелось иметь дочерей. И все же каждый раз во время родов она желала мальчика, который будет страдать меньше, чем она. И всегда, во мраке, в одиночестве, среди тяжких мук, она боялась родить девочку.
Внезапно она вернулась к действительности. Стенные часы медленно отсчитывали минуты — так медленно, что при каждом взмахе маятника Роза-Анна словно опускалась в бездонную пропасть, снова поднималась из нее и снова опускалась. Многие женщины в разговорах с ней утверждали, будто только первые роды тяжелы. Но она знала, что это неверно. Она знала, что тело с каждым разом чуть больше страшится этого позора нового порабощенья болью, а душа чуть больше леденеет над краем пропасти, и вдали, за столькими годами беременности, ей виделась ее прекрасная, беззаботная и целомудренная юность, с каждым разом все более далекая — такая далекая, с каждым разом отходившая все дальше, все более далекая, с каждым разом все более далекая.
Она приподнялась и вытерла влажный от пота лоб. Теперь она уже была уверена, что соседка не услышала ее стука в стену. Должно быть, вышла на минуту-другую, как раз когда она ее звала. Надо встать, надо пойти поискать кого-нибудь: минутами ей казалось, что она уже сделала это мучительное усилие, но тут же она понимала, что оно ей еще предстоит. Ей удалось сесть и спустить ноги с кровати: и, хватаясь за стулья, за стены, она кое-как одолела огромное расстояние, отделявшее ее комнату от кухни. Еще несколько шагов… Она коснулась вытянутыми руками стены и, собрав все свои силы, принялась стучать.
Человеческий ли голос ответил ей из-за стены? Раздался ли стук шагов на крыльце? Пронесся поезд. Свист локомотива взорвался у нее в ушах. С неимоверным усилием она выпрямилась, прошла через комнату, упала на кровать и вдруг представила себе, как она сама лежит в гробу с четками в неподвижных, мирно сложенных руках. И ее охватило такое желание погрузиться в смерть, разом избавиться от всех страданий, что она даже скрестила руки на груди, чтобы стать похожей на это сладостное видение. Понемногу ей стало казаться, что она уже присутствует при собственной агонии, что она наблюдает за всеми ее этапами и что ей придется потом, когда все будет кончено, заняться приготовлениями к похоронам. Во что ее оденут? И внезапно ужас, охвативший ее при мысли, что у нее нет ни одного приличного платья для похорон, вернул ее к действительности. Она увидела беспорядок, который воцарится в семье: малышей, которых некому будет накормить и одеть; Азарьюса, который — сам сущий ребенок — не сможет найти ни запонок к пристегивающемуся воротничку, ни воскресного костюма. Тысячи забот нахлынули на нее. Надо бы зачинить прореху на штанах Филиппа. И надо бы спросить его, где он пропадает целыми днями, уходя из дома с самого утра.
Она пробормотала: «Иисус, Мария, не сейчас… когда мои дети подрастут…» И тут же решила: «Придется лечь в больницу». Она нашла туфли под кроватью, чулки… Добралась до комода, где лежала ее шляпа. Но ей никак не удавалось вспомнить, куда она повесила пальто. Тщетно напрягая память, она вновь и вновь обводила взглядом комнату. Ее убогая одежда… Как она стыдилась ее… И стыдилась вот так отдать себя чужим рукам… Но более могучий инстинкт, пытавшийся противостоять жестокой хватке боли, требовал, чтобы она шла поскорей, хотя бы и одетая кое-как. Наконец она нашла пальто, набросила его на плечи и пошла, пошатываясь, совершенно не представляя себе, каким образом она сумеет попасть в больницу, и втайне надеясь, что так туда и не попадет. На пороге она столкнулась с соседкой, которая привела акушерку.
Через несколько минут, снова лежа в постели, она подумала с грустью, с глубоким чувством неловкости: «Так и есть; меня, наверное, положили в больницу». Всю свою жизнь она панически боялась больниц. Ей представлялся резкий свет, пугающая обстановка, множество чужих людей вокруг нее… Она не смогла заставить себя лечь в больницу, даже когда рожала Филиппа, хотя доктор советовал ей, потому что роды были тяжелыми. Но на сей раз ей, по-видимому, не удалось этого избежать.
Но постепенно, однако, по звукам, по запахам Роза-Анна узнавала свою квартиру. У нее вырвался легкий вздох облегчения. Она даже робко приоткрыла глаза, стараясь вернуться к действительности, разобраться, что происходит вокруг нее. Две женщины деловито хлопотали в комнате. «Все-таки чужие», — сказала она себе.
Именно это и было ей всегда особенно тяжело: чувствовать на себе чужие взгляды, принимать чужую помощь. Как это невыносимо — нуждаться в помощи! Она пыталась прикрыться хоть кончиком простыни или одеяла.
Чужая? Нет, нет, она узнавала теперь склонившееся над ней лицо. Это же самое лицо уже склонялось над ней, когда она рожала Даниэля, а потом маленькую Жизель.
Сильные руки помогали ей и глубоко унижали ее. Но по временам ее мысль, отвлекаясь от настоящего, витала где-то далеко-далеко, среди разрозненных картин прошлого. Ее мысль уносилась к былому, словно плывущая по течению лодка, с которой виден быстро бегущий назад пейзаж: порой целая обширная излучина, порой только одно место на берегу — но ясно, отчетливо, выпукло. И она плыла в этой стремительной лодке, вновь спускаясь с головокружительной быстротой по реке жизни, по которой некогда поднималась так медленно, ценой таких усилий, — и многое из того, что она едва замечала во время первого своего путешествия, теперь вставало перед ней гораздо яснее. Но все мелькало слишком быстро и беспорядочно, и ей никак не удавалось на чем-нибудь сосредоточиться. И чем больше наслаивались друг на друга, смешивались друг с другом эти видения, тем меньше она их понимала. Вот она — смущенная, сияющая, ласковая невеста Азарьюса. Увидев эту девушку в светлом муслиновом платье, стоящую летним днем на берегу прозрачной реки Ришелье, Роза-Анна могла бы улыбнуться ей, как посторонней, случайная встреча с которой приятна, но не имеет никакого значения. И почти тут же она, внезапно постаревшая, принимала жертву Эжена… Ах нет, она боролась с Эженом. Она боролась ради скромных денег. Ради скромных денег, которые он отбирал у нее и на которые она должна была купить одежду и пищу. И она снова стояла на берегу Ришелье: ее летнее платье шелестело от легкого ветра, а спутанные пряди волос, пахнущие сеном и цветами, хлестали ее по лицу… А теперь она шла, шла по улицам предместья в поисках дома, где ей можно было бы родить… Ведь ей надо торопиться, чтобы поскорей дошить свадебное платье. Для Флорентины, которая выходит замуж за Эманюэля… Нет, нет, это было еще до ухода Флорентины, это было в те времена, когда они получали пособие по безработице… Она шила, чтобы внести свою долю в домашние расходы… Нельзя долго болеть… а то она растеряет всех своих клиенток… Мадемуазель Элиза требует, чтобы платье было готово немедленно… Боже мой, значит, надо подняться и дошить это платье… Отчаянное усилие, которое она сделала, вызвало острую боль. Теперь она наклонялась над больничной койкой. Кто же умирает? Кто так жестоко страдает? Где она? Даниэль? Неужели она ничем не может смягчить страдания этого ребенка? Или свои собственные? Их страдания как бы слились, растворились в ее плоти… И внезапно она услышала слабый крик. Она упала на подушку. И почти тут же сквозь пелену мрака до нее донесся голос:
— Видели вы что-нибудь подобное, госпожа Лавалле? Даже не застонала. Ни единого стона! Да, немного найдется таких мужественных, как госпожа Лакасс!
«Ни единого стона», — повторила про себя Роза-Анна. От кого она уже слышала эти слова? И внезапно она вспомнила — их произнесла акушерка, помогавшая при родах ее матери: «Ни единого стона…» Роза-Анна вдруг почувствовала, что очень близка к матери, так близка, как никогда еще не была. И ее сердце наполнили своеобразная гордость и мужество, словно воспоминание о старой госпоже Лаплант каким-то странным образом придало ей новые силы.
Она то начинала дремать, то вновь пробуждалась при мысли о множестве мелких, не терпевших отлагательства забот. Протянув руку, она указала акушерке на ящик комода; в котором лежало белье для новорожденного. У нее всегда все было приготовлено заранее. И на этот раз все тоже было уже готово: распашонки, пусть не шелковые и ничем не украшенные, но чистые и теплые.
Но тут же, внезапно встревожившись, она испуганно попросила показать ей ребенка. Ах, этот вечный страх родить урода!
— Славный малыш, — сказала акушерка. — Щуплый, но здоровенький. А весит, я бы сказала, фунтов шесть, — добавила она, взвесив его на своих пухлых руках.
И Розу-Анну охватило неудержимое, безумное желание взять его на руки. Наконец его принесли ей — вымытого, закутанного в пуховое одеяльце. Из-под одеяльца высовывались крохотные, плотно сжатые кулачки. На шелковистых щечках подрагивала тень светлых, тонких, как пушок, ресниц. Розу-Анну всегда умиляла хрупкость новорожденных. И она отдалась наконец отдыху, держа в руках крохотное спящее существо. Она чувствовала, как освобождается от боли, от щемящей печали. Каждый раз после родов она чувствовала себя умиленной и в то же время полной мужества, словно только что испила из таинственного неиссякаемого источника своей молодости. Ей казалось, что она прижимает к груди не своего двенадцатого ребенка, но первого и единственного. И все же это восхищение и нежность распространялись и на других детей. Немного позже она услышала, как они вернулись, — их привела Ивонна, которая ходила с ними гулять после школы. От беготни и свежего воздуха они проголодались и требовали, чтобы им дали поужинать. Роза-Анна, удивляясь самой себе, давала указания акушерке, которая по принятому в предместье обычаю должна была выполнять также и обязанности няни.
— В буфете холодное мясо и хлеб, — пробормотала она. — Дайте детям поесть. И посмотрите, пожалуйста, в порядке ли их одежда, можно ли в ней завтра пойти в школу. Может быть, надо кое-что починить.
Она попыталась думать о многих других вещах, о которых ей никак нельзя было забывать. И мысли ее уже вошли в привычную колею, потонули в сплетении всяких мелких забот, которые и до болезни и после болезни всегда оставались все теми же. Она мужественно боролась с одолевавшим ее сном, снова и снова спрашивая:
— Мой муж еще не вернулся?
Сегодня утром он ушел из дому очень рано, подавленный горем и еще каким-то чувством, которое, как ей казалось, она угадала: глубоким отвращением к их жизни, глубоким отвращением к себе из-за своей неспособности помочь семье. Куда он мог направиться, уйдя из больницы? Какая душевная боль терзала и его тоже? И на какой отчаянный шаг может толкнуть его эта душевная боль? Бедняга Азарьюс! Она считала его ответственным за их нищету, а между тем — сейчас она это понимала — он сделал все, что мог. «Мужчина не так вынослив, как женщина, — подумала она. — Мне следовало быть более терпеливой. У него ведь тоже были свои горести».
И Роза-Анна, давно уже не думавшая о том, чтобы прихорашиваться для мужа, попросила набросить на нее кружевную накидку, которую Азарьюс подарил ей вскоре после свадьбы. И еще она попросила накрыть постель белым покрывалом: накрахмаленное, разглаженное и аккуратно сложенное, оно всегда лежало наготове на случай какой-нибудь самой страшной беды — болезни, смерти. Когда две женщины, держа покрывало за концы, отошли друг от друга, чтобы расправить его, Розе-Анне на мгновение показалось, что от этих жестких, плохо распрямляющихся складок на нее повеяло запахом опасности, холодом угрозы. Ее мать всегда говорила, что, если без крайней необходимости пользоваться лучшим бельем, какое есть в доме, можно накликать несчастье. Под «крайней необходимостью» подразумевалось то, о чем никто не решался говорить вслух, но все понимали, что значат эти слова — несчастные случаи, смерть близких.
Но Роза-Анна тут же отогнала от себя эти нелепые страхи. Она уступила тому желанию, которое всегда овладевало ею в те годы, когда она была еще молодой матерью, — показаться Азарьюсу одетой во все белое. Тревога покинула ее. Она спокойно засыпала. Тяжелое страдание не отняло у нее ни мелких забот, ни каждодневных трудностей; оно оставило в неприкосновенности ее повседневное бремя.
XXXII
Когда Роза-Анна проснулась, уже стемнело. Шторы на окнах были раздвинуты, чтобы впустить свежий воздух. Красные огни семафоров отражались в оконных стеклах. Непрерывно раздавались пронзительные тревожные звонки, и Розе-Анне почудилось, что она слышит отчаянный призыв, который пробудил ее. Она кому-то нужна… Кто-то зовет ее… Она приподнялась и, сразу вернувшись к действительности, произнесла имя мужа. Азарьюс… Откуда он зовет ее? Или это почудилось ей в дурном сновидении, которое еще преследует ее?.. Нет, нет, она была уверена, что в какую-то минуту, когда она спала, мысли Азарьюса обратились к ней, и она подсознательно догадалась, что ей угрожает новая беда. Она резко повернулась, и в ее теле снова проснулась боль. Она опять позвала мужа, напрягая все силы, словно ее крик должен был лететь далеко-далеко, чтобы достичь слуха Азарьюса.
На этот раз в соседней комнате раздались шаги. Это были мужские шаги, твердые и уверенные. Роза-Анна сразу успокоилась. Застенчивая, медленная, слегка смущенная улыбка появилась на ее губах, и ее охватила неожиданная радость — оттого, что после перенесенных страданий к ней снова вернулась жизнь со всеми ее требованиями, привязанностями и даже… да, даже с ее невзгодами и разочарованиями.
Шаги приближались. Это были шаги Азарьюса, и вместе с тем они звучали как-то необычно. Она прислушивалась к скрипу половиц под тяжелыми башмаками. Кажется, она догадалась, в чем дело. Он, наверное, купил себе новые ботинки, грубые рабочие ботинки. И опять на нее нахлынули воспоминания. Было майское утро. Развешанное на дворе белье, выстиранное накануне и увлажненное росой, хлопало под аккомпанемент птичьего щебета. Азарьюс уходил на работу в пригород. А она опять легла после того, как накормила мужа завтраком, и прислушивалась теперь к его твердым шагам, раздававшимся на тротуаре. В то майское утро Азарьюс уходил, напевая. И она была спокойна за будущее. Она была спокойна за ребенка, который вскоре должен был родиться, — за своего первого ребенка. Она ничего не боялась. Ее не могло постичь никакое несчастье. Она прислушивалась к шагам мужа до тех пор, пока они не затихли вдали. Полная суровой нежности, она сказала вслух, обращаясь к своей робкой любви, к своему настоящему, своему будущему: «Он идет зарабатывать нам на жизнь».
Ах, в былые дни счастье выпадало и на ее долю — этого нельзя не признать! И внезапно ей захотелось выбрать одну из радостей своей юности, одну-единственную, все равно какую — ведь их было так много, этих майских рассветов! — и подарить Азарьюсу волнующее воспоминание 0 ней.
Дверь комнаты чуть приотворилась, затем открылась настежь. Силуэт ее мужа четко вырисовался на фоне желтого прямоугольника. Роза-Анна приподнялась с тревожной улыбкой на усталом лице и протянула Азарьюсу спящего младенца. Ведь воспоминаний было так много и среди них трудно было сделать выбор, да и к каждому из них все же примешивалось что-то грустное. Но ребенок — это было будущее, ребенок был поистине их вновь обретенной молодостью, великим призывом к мужеству.
— Зажги свет и посмотри на него, — сказала Роза-Анна. — До чего же он похож на Даниэля, когда тот родился, — помнишь, такой же розовый и светловолосый.
— Даниэль, — сказал Азарьюс.
Голос его сорвался. Он уткнулся головой в край постели и зарыдал, судорожно всхлипывая.
— Он больше не страдает, — просто сказала Роза-Анна.
Но она упрекнула себя за то, что напомнила Азарьюсу об умершем ребенке. Ведь Азарьюс не погружался, как она, в глубины страдания и потому не понял, что смерть и рождение имеют почти одинаковый трагический смысл. Она знала, что печаль по Даниэлю будет постепенно становиться все более острой, все более жестокой, по мере того как возобновившаяся повседневность будет напоминать ей о нем; она знала, что это окаменевшее горе лежит в ее сердце, но прежде всего она думала о том, что Даниэль избежал своей судьбы, избежал своей доли страданий, на которую она, мать, обрекла его, рожая. И это было как бы утешением для нее.
Она схватила бессильно свисавшую руку Азарьюса.
— Азарьюс, мы не видим друг друга, — сказала она. — Зажги свет.
Сначала он не ответил. Он неловким движением вытер глаза. Потом глубоко вздохнул.
— Погоди немного, мать, сперва мне надо с тобой поговорить.
Снова наступило тягостное молчание. Затем неуверенным, срывающимся голосом, в котором еще чувствовались слезы, но уже звучала твердая решимость, он бросил:
— Приготовься услышать новость, Роза-Анна.
Она не была встревожена таким предисловием, которое в другое время сильно ее обеспокоило бы. Но ее рука чуть-чуть крепче сжала руку мужа.
— Ну, что ты еще натворил, Азарьюс?
Прошла минута. Непонятное молчание все еще длилось. В другое время ее сердце уже сжалось бы от недоброго предчувствия.
— Ты молчишь, Азарьюс? Опять набедокурил?
Он шумно засопел и смахнул последнюю слезинку с ресниц. Затем поднялся, отталкивая стул ногой.
— Роза-Анна, — сказал он, — сколько уже времени ты надрываешься и все ни слова не говоришь, так? Да, да, я-то это хорошо знаю, — добавил он, отметая всякие возражения. — Я помню, что с тех самых пор, как мы поженились, ты все трудилась и трудилась и всегда вытаскивала нас из беды. Сначала были маленькие неудачи, всякая мелочь, а потом уже и крупные, и все это накапливалось и накапливалось у тебя на сердце, и в конце концов у тебя уже не стало больше слез, даже когда ты пряталась от меня по вечерам. Да, дошло уже до того, что ты больше не могла плакать. И горе все грызло и грызло твое сердце! Ты думаешь, я этого не замечал? — воскликнул он с неожиданной горячностью. — Ты думаешь, я ничего не видел? А потом стало совсем плохо: ты ходила работать по чужим домам, а я был слишком слабодушен и все не мог заставить себя взяться за любую работу — подметать улицы, чистить сточные канавы…
Он наслаждался этим самоуничижением, опьянялся сознанием своей житейской неприспособленности, словно надеясь, что в конце концов получит за это прощение. Но вдруг голос его сорвался. Он, видимо, не смог удержаться от слез и лишь с трудом взял себя в руки, — когда он снова заговорил, его голос был глухим и дрожащим:
— Понимаешь, Роза-Анна, это потому, что мне все не верилось, что мы докатились до полной нищеты. Я не сумел этого увидеть. Мне все представлялось время, когда мы оба были молоды и наши сердца были полны надежд. Только это я и видел всегда. Нет, я не видел нашей нищеты. Я замечал ее изредка, минутами, когда голова у меня была ясная, я замечал, как тебе трудно, но все не мог поверить, что это и взаправду так. Я не мог поверить, что ты, моя бедная женушка, которая всегда была такой смешливой, теперь уже больше не смеешься. У меня все стоял в ушах тот смех, каким ты смеялась в молодости. И ничего другого я не хотел слышать; на остальное я закрывал глаза. Да, я долго был таким. Что поделаешь, Роза-Анна, — жалобно закончил он, — понадобилось десять лет, чтобы я наконец заметил, что мы докатились до самого дна…
— Азарьюс! — вскричала Роза-Анна, чтобы заставить его замолчать, потому что представшее перед ней зрелище всех их невзгод и бед было для нее невыносимо, — ведь, что бы ни случалось, она всегда отказывалась их признавать. — Азарьюс, не говори так!
Он подошел и наклонился над ее кроватью.
— Я заговорил с тобой об этом сегодня потому, что с твоими бедами покончено, Роза-Анна. Слушай меня, Роза-Анна: все начинается заново. Прежде всего, ты сможешь подыскать теперь себе домик по вкусу, как только к тебе вернутся силы и ты снова встанешь на ноги… Веселый домик, какой тебе всегда хотелось… Не такой, как этот, где ты не могла — я-то видел это — глаз сомкнуть по ночам, а все думала и думала целыми часами, как бы устроить наши дела…
В его голосе зазвучали гордость и глубокое удовлетворение.
— Да, ты ведь всегда считала, что я-то не могу устроить наши дела… Ну, так вот, теперь это сделано. Все устроено. Ты будешь жить так, как тебе всегда хотелось. Это я все же смогу для тебя сделать, Роза-Анна… Смогу, хоть, правда, с опозданием, наконец-то дать тебе несколько лет спокойствия…
— Спокойствия! — отозвалась она надтреснутым, недоверчивым, приглушенным голосом. — Спокойствия!.. — Потом она снова взяла себя в руки. Почти умоляющим тоном она попросила: — Не говори глупостей, Азарьюс. Не искушай судьбу.
Он с шумом втянул в себя воздух и продолжал уже почти весело:
— Глупости! Вот всегда ты так говоришь — глупости! Но погоди немного — ты увидишь, что это совсем не глупости… Нет, нет, Роза-Анна, это и в самом деле спокойствие. Спокойствие, какого у тебя никогда еще не было. Послушай… С июля ты начнешь получать кругленькую сумму, новенький чек от правительства, который тебе доставят прямо на дом… И так, ты и будешь получать его первого числа каждого месяца… Что ты на это скажешь, а?
Его голос звучал теперь так же радостно и удовлетворенно, как в былые дни, когда он отдавал жене весь свой заработок. «На, возьми, это все твое», — говорил он, вкладывая пачку долларов в руку Розы-Анны и крепко сжимая ее пальцы в своих. «Все это — твое». Он словно преподносил ей в дар все свои наполненные трудом дни, свое ремесло плотника, свои сильные руки и еще — будущее, будущее, которое представлялось им обоим безмятежно ясным.
— Нет, нет, — недоверчиво сказала Роза-Анна. — Не говори ты мне о спокойствии, бедный ты мой… Это не для нас, об этом нечего и думать. Лучше никогда не тешить себя несбыточными надеждами.
— Несбыточными! — повторил Азарьюс. — Но послушай — я же тебе говорю, что ты будешь ежемесячно получать чек на кругленькую сумму. Так что спокойствие придет к тебе — придет по почте. Пятьдесят пять долларов в месяц, Роза-Анна… Они придут к тебе прямо в руки! Ты будешь получать их каждый месяц… Но это еще не все. Эти деньги будут полагаться только тебе. А вдобавок ты будешь получать кое-что и на детей. И всего выйдет что-нибудь вроде девяноста семи долларов в месяц. Разве это — не спокойствие, а?
Она улыбнулась, недоверчивая, ослабевшая, такая далекая от всяких подозрений, что через несколько секунд принялась подшучивать над ним:
— А ты все такой же! С мастерской мелкой мебели ты собирался выручать две тысячи долларов в год, помнишь? А потом торговлей железным ломом ты рассчитывал зарабатывать три тысячи долларов. А когда играл на скачках, то уже вот-вот должен был купить домик на Нотр-Дам-де-Грас.
Потом она продолжала уже более мягким тоном:
— Пусть уж все идет своим чередом. Все устроится, как и всегда устраивалось. С помощью наших рук. Уж послушай меня. Так-то оно лучше. Оно вернее рассчитывать на свои руки, только на свои руки, чем заниматься выдумками… Выдумки — они и есть выдумки. Подумать только, девяносто семь долларов в месяц с доставкой по почте! Ты же сам знаешь, у нас таких денег никогда и не бывало. Во всяком случае, давно уже не бывало. Это же очень большие деньги. Откуда они у нас будут? У нас, у таких бедняков? У нас?..
— Говорю тебе, они уже есть!
И он с живостью продолжал:
— Ты их получишь! Именно ты! Каждый месяц — девяносто семь долларов! Но это еще не самое главное…
Он расхаживал по комнате, нервно заложив руки за спину, потом внезапно рассек воздух резким, упрямым жестом.
— Самое главное…
Он подошел к кровати, глубоко вздохнул и воскликнул:
— Самое главное то, что ты наконец избавишься от меня!
Как только он сказал это, наступила пугающая тишина. Он постарался произнести эти слова легко и насмешливо, но едва лишь они сорвались с его губ, как между ним и Розой-Анной легло молчание.
Внезапно тоска сжала его горло. Он подошел к окну, облокотился о пыльный подоконник и замер, пристально глядя на огни железной дороги. Он понял, почему так прямо бросил это грубое слово — потому, что оно таило в себе особый смысл, как бы залог его собственного освобождения. Он долго стоял у окна, глядя на поблескивающие рельсы. Они всегда притягивали к себе его взгляд. Полузакрыв глаза, он смотрел, как они убегают в беспредельную даль, унося его к вновь обретенной молодости. Свободный, совсем свободный, он начнет теперь новую жизнь. Он уже как бы вдыхал не копоть и не угольную пыль, а воздух открытых просторов, могучие бурные ветры. Он думал о грузовых судах на канале Лашин, за которыми всегда следил с исступленным желанием уехать. Он думал о древних странах, о которых мечтал еще совсем мальчишкой, о Франции — это название жило в дальнем уголке его сердца, как тоска по родине. Он даже представил себе поля сражений, дымящиеся людской кровью, — но зато человек мог проявить там всю свою силу. Его жизнь была вся наполнена мелкими неудачами, и теперь ему вдруг захотелось приключений, опасностей, риска. И хотя он не был способен справиться даже с бедами своих близких, его внезапно охватило лихорадочное возбуждение при мысли о схватке с грандиозными бедствиями, которые потрясали мир.
На лбу у него выступил пот. Он взволнованно задышал. Он и сам уже больше не понимал, что побудило его сделать решительный шаг — желание спасти самого себя или свою несчастную семью. Но он ощущал на губах вкус свершения, вкус возрождения к жизни.
До него донесся слабый, неуверенный голос, в котором слышался страх:
— Азарьюс, ты что, нашел работу в деревне и собираешься уехать?
Он не ответил.
Она продолжала хриплым, почти свистящим голосом:
— Азарьюс, зажги свет, я хочу тебя видеть!
Азарьюс медленно подошел к лампочке, свисавшей с потолка, и повернул выключатель.
В первую минуту, ослепленная светом, Роза-Анна увидела только движущиеся руки мужа, затем его лицо, бледное, но решительное и такое молодое, что ее словно что-то ударило в сердце.
Ее взгляд скользнул по его плечам, по талии, по ногам — она не узнавала надетой на нем одежды. Ее глаза неестественно расширились. Губы задрожали. И у нее вырвался отчаянный крик, один-единственный, утонувший в свисте проносившегося мимо локомотива.
Азарьюс неподвижно стоял перед ней в солдатской форме.
XXXIII
Серо-зеленые шинели волна за волной катились к станции Бонавантюр, унося в своем разливе светлые пятна женских платьев, а также песни, смех, запах перегара, икоту, вздохи — слитный гул возбужденной толпы.
Эманюэль и Флорентина пришли заранее и устроились на скамье в зале ожидания. Они разговаривали, держась за руки над вещевым мешком, лежавшим на их сдвинутых коленях. Обрывки фраз, минуты молчания, последние советы — их слова, их тревога терялись среди топота подкованных сапог, среди множества вздохов, как будто бы легких, как будто бы счастливых, поднимавшихся к своду вокзала.
Эманюэль смотрел на свой подходивший полк с недоумением. Почти на всех лицах сияла радость. Какой-то солдат шел, пошатываясь, поддерживаемый двумя приятелями, которые хохотали во все горло. Чуть подальше другой солдат выкрикивал пьяным голосом: «Теперь-то мы повидаем мир! Уж теперь-то мы повидаем мир!» Вокруг царило искусственное, лихорадочное возбуждение. Эманюэль отвернулся и обнял Флорентину.
Он думал, что легче перенесет отъезд, если уже будет женат на ней, что такое доказательство веры в будущее подбодрит его. Но теперь он обнаружил, что между ними возникли хрупкие, и все же прочные узы, ткань привычек, которую будет трудно, очень трудно разорвать. Флорентина, тысячу раз в день примерявшая платья и шляпки, которые он ей подарил! Флорентина, всегда готовая куда-нибудь пойти, погулять по улицам, постоять у витрин! Флорентина, то кокетливая, то вдруг такая печальная, такая удрученная! И те короткие минуты нежности, когда она, взяв его руку в свои, говорила: «Господи, как мне будет тоскливо, когда ты уедешь!» Эти дни пронеслись, словно краткие миги, словно сновидение. «Как вспышка молнии, — сказал себе Эманюэль. — Нет, уезжающим следовало бы отказываться от нежных привязанностей!»
Толпа вокруг них пела, смеялась. Почему она пела? Почему смеялась? Что, собственно, веселого было в их отъезде?
Они молча встали. Флорентина помогла Эманюэлю приладить вещевой мешок на плече, и они вышли в соседний зал, обняв друг друга за талию, как двадцать, как сто других пар. Людской водоворот грозил разлучить их. Поэтому они еще крепче прижались друг к другу.
Они увидели, что у барьера центрального перрона собрались все солдаты из Сент-Анри, и направились к ним.
Среди солдат стоял Сэм Латур. Он комически-покровительственным жестом пожимал руки направо и налево. Добродушное выражение и широкая улыбка его багрового лица никак не вязались с потоком проклятий, лившимся из его мягко очерченного рта. «Каналья Гитлер! — кричал он. — Постарайтесь привезти мне пару волосков из его усов, а еще лучше — кисточку с его хвоста, я из нее сделаю половую щетку!»
Но самым могучим, самым убедительным был голос Азарьюса Лакасса. С важным сержантским видом он расхаживал среди солдат, обращаясь то к одной, то к другой группе:
— Передайте им там, во Франции, чтобы они крепко держались до нашего прибытия!
Он развернул сложенную газету, и ему сразу бросился в глаза заголовок: «СОЮЗНИКИ ОТСТУПАЮТ К ДЮНКЕРКУ!» Азарьюс с такой силой ударил кулаком по газете, что порвал ее.
— Пусть только не сдаются, пока мы не подоспеем, — закричал он. — Это все, чего мне от них надо! Скажите им, что мы, канадцы, скоро подоспеем на подмогу — да и американцы тоже, наверное, не задержатся!
Он увидел молодого солдата, совсем еще мальчика, который выглядел растерянным и смущенным.
— Ты вот, — произнес он, хлопнув его по плечу, — ты можешь убить их штук тридцать, этих немцев, а? — И тут же добавил со смехом: — Но только смотри не убивай их всех, оставь и мне парочку. Не кончайте эту войну слишком быстро!
Вид у него был восторженный, он весь светился счастьем.
За ним с сияющим лицом стоял Питу. А дальше, позади Питу, Эманюэль увидел еще чей-то лихорадочно горящий взгляд. Эманюэль не мог поверить своим глазам. Неужели перед ним вчерашние безработные? Неужели это те самые мальчишки — вчера еще такие вялые, жалкие, покорные, потерявшие всякое мужество? Неужели это Питу, музыкант, растративший столько праздных лет на песенки под гитару?
Он снова перевел взгляд на Азарьюса, и его недоумение возросло. Неужели это тот самый человек, которого он всего неделю назад видел таким удрученным? Неужели это муж Розы-Анны?
Сегодня этот человек выглядел не намного старше его самого, думал Эманюэль. От него словно веяло непобедимой силой. Просто-напросто он стал наконец человеком, и это ощущение наполняло его безмерной радостью.
Итак, в предместье пришло спасение.
Спасение в войне!
Эманюэль с безмолвным призывом посмотрел на Флорентину. Сначала он ощутил в груди какую-то странную пустоту, потом в его душе разразилась буря; На него снова обрушилась тревожная тоска, которая охватила его однажды вечером, когда он в одиночестве глядел на предместье с горы. Он уже не спрашивал себя: «Почему я иду на войну?» — но: «Почему идем на войну мы все? Мы отправляемся все вместе… Наверное, мы идем к какой-то общей цели?»
Нет, теперь ему уже недостаточно было понять свои личные мотивы, теперь ему необходимо было узнать ту великую истину, которая вела сейчас за собой их всех так же, как, наверное, вела за собой людей и в ту, первую мировую войну, — потому что без этого их уход на фронт был бы совершенно бессмысленным, был бы всего лишь чудовищным повторением прежней ошибки.
Он наклонился к Флорентине и именно ей задал смущавший его вопрос.
— Ты можешь сказать, почему мы все идем на фронт — и твой отец, и брат, и я сам? — спросил он.
Она подняла на него удивленный взгляд.
— Ты хочешь сказать — почему вы все записались в армию?
— Да.
— Что ж, я вижу только одно, — сказала она рассудительным тоном. — Это потому, что вам всем было выгодно записаться в армию.
Он долго смотрел на нее в молчании. Как он не подумал об этом раньше? Она ближе, чем он, стояла к народу. Она лучше, чем он, знала народ и знала верные ответы. Он снова перевел взгляд на толпу. И ему почудилось, что в бесчисленных вздохах облегчения он слышит тот же ответ, который дала ему Флорентина. И ему почудилось, что вдали, за этим могучим дыханием освобождения, поднимающимся над толпой, раздается звон монет.
«И они тоже! — подумал он. — Они тоже куплены!»
«Они-то в особенности!» — сказал он себе.
Ему казалось, что он собственными, глазами видит глубочайшее падение человечества. Богатство там, на горе, говорило ему правду.
Но через мгновение Эманюэль овладел собой. Он думал: «Впрочем, нет, это не вся правда. Те, кто уезжает, — только мелкие стяжатели. Есть великое множество всяких Леонов Буаверов и Жанов Левеков, которые будут обязаны войне своей карьерой, а может быть, и богатством, и притом не подвергнут себя ее опасностям».
Но тогда — зачем? Зачем идут в поход полки? Должна же быть какая-то извечная истина, которая, быть может, еще неизвестна сейчас и была неизвестна тем, кто воевал в первую мировую войну. Быть может, под толстым слоем человеческого невежества таится какая-то неясная первопричина, которую человек просто не умеет понять и выразить.
Внезапно Эманюэль услышал, что в толпе раздался властный металлический голос:
— We’ll fight to the last man for the British Empire![9]
«За империю! — подумал Эманюэль. — Чтобы какая-то страна сохранила свои границы! Чтобы богатство оставалось на одной стороне, а не на другой!»
Теперь уже вся толпа пела:
— «There’ll always be an England!»[10]
«Пусть так, ну, а я, а Питу, а Азарьюс? — думал Эманюэль. — Разве мы идем в бой ради доброй старой Англии, ради империи? В эту самую минуту в других странах охваченные неистовством солдаты с тем же энтузиазмом поют гимн своей родины. В Германии, в Италии, во Франции — повсюду они поют гимн. Как и мы могли бы петь: „О Канада!..“ Нет, нет, — горячо сказал он себе, — я отказываюсь быть таким патриотом-националистом. И только ли я один?»
Он пытался отогнать чудовищную, парадоксальную мысль. И все же она упорно въедалась в его сознание: у всех этих людей, шедших на войну, не было одной цели. Некоторые шли на край света, чтобы обрести уверенность в несокрушимости своей империи. Некоторые шли на край света, чтобы стрелять и подставлять себя под выстрелы — и это было все, что они знали. А некоторые шли на край света, чтобы обеспечить своей семье кусок хлеба. Но что могло на краю света показать этим людям общность их судьбы — что, кроме смерти?
Барьеры раздвинули, и толпа хлынула на перрон. Все дальнейшее прошло перед Эманюэлем, как в кошмарном сне. Он поцеловал мать, сестру и отца. Затем он обнял Флорентину. За краткий срок их совместной жизни он узнал, что она ветрена, тщеславна, нервна, подчас раздражительна. Он знал теперь, что она слабовольна и легкомысленна, но любил ее за это еще больше. Он любил Флорентину, как ребенка, который нуждается в поддержке.
Он крепко обнял ее и увидел слезы на ее впалых щеках. В течение последних дней она нередко отпугивала его своей холодностью, а иногда озадачивала внезапными переходами от нежности к отчужденности. Эти слезы глубоко взволновали его.
Она плакала на его плече. Он не знал, что это были слезы невольного облегчения и смутной тоски, таившейся под удовлетворенным тщеславием. Она была очень впечатлительна. Вся внешняя сторона отъезда — слезы, прощальный взмах руки — затронула ее неглубокую чувствительность больше, чем скрытая за этим подлинная драма. Но Эманюэль поверил, что она по-настоящему взволнована, и был потрясен.
Он вскочил на подножку вагона. Один миг он почти висел, держась рукой за поручень и склонив голову набок, — в такой позе, словно приносил кому-то в жертву свою юность. Но его жадное любопытство, его мучительные раздумья по-прежнему не находили ответа. Он уезжал, так и не поняв — во имя чего.
И вот внезапно… Это было как озарение. Он получил ответ. Он получил его не от Флорентины, которая махала ему вслед, не от матери, такой маленькой, уже почти затерявшейся в толпе, не от Азарьюса, провожавшего состав взглядом. Он чудесным образом получил его от неизвестной женщины.
Это была какая-то маленькая, совершенно незнакомая ему тщедушная старушка с кротким и покорным лицом, стоявшая в толпе с таким видом, словно она затерялась среди чужих.
На секунду их взгляды встретились. И в то же мгновение Эманюэль понял. Эта простая женщина шевелила губами, как бы обращаясь к нему с последним напутствием. Он не расслышал слов, но по движению ее губ понял, что она говорит только ему: «Это кончится. Когда-нибудь кончится. Когда-нибудь этому придет конец».
И сознание Эманюэля словно озарил свет.
Так, значит, вот какая смутная, непонятная для большинства людей надежда и на этот раз снова воодушевила человечество — уничтожить войну.
Флорентина уже превратилась в светлое пятно. Он видел, как она вынула пудреницу и стерла со щек следы слезинок. Он закрыл глаза, словно запечатлевая в памяти этот образ. Потом он попытался снова найти в толпе это узкое лицо с горящими глазами. Но не успел еще поезд скрыться из виду, как она, не обернувшись, ушла прочь.
Она почувствовала себя очень усталой. Не дожидаясь отца, она одна пробралась через густую толпу и поспешно пошла к выходу.
Жара и гул толпы растревожили ее. Смутная печаль сжимала ее сердце. Не горе, но ощущение потери, всю значительность которой она еще только начинала понимать.
Она вышла из здания вокзала и остановилась, чтобы немного собраться с мыслями.
Ей самой было не совсем ясно, что ее так волнует.
Она приняла доброту и заботливость Эманюэля как должное. Эти его достоинства не произвели на нее особого впечатления. Но ее тронула его щедрость.
Перед отъездом Эманюэль вдобавок к тем сбережениям, которые он положил на ее имя в банк, отдал ей почти все свое жалованье.
Флорентина открыла сумку. С чувством глубокого удовлетворения она потрогала чековую книжку и пачку банкнот. Но вдруг ей стало стыдно, и она сбежала вниз, на тротуар.
Она чуть не упала, столкнувшись с группой молодых людей, выходивших из автомобиля. Какая-то дама быстро протянула ей руку. Это была маленькая старушка, вся в черном, очень хрупкая.
— Вы только что проводили кого-нибудь из своих? — спросила она. — Отца или, может быть, жениха?
— Мужа, — коротко ответила Флорентина.
Она произнесла слово «муж» немного хвастливо, но сообразила это только потом.
— Вы должны гордиться вашим мужем, — сказала старая дама перед тем, как отойти.
Флорентина на секунду задумалась. Затем какая-то новая улыбка, застенчивая и светлая, озарила ее усталое лицо. Ей сразу вспомнилось, что многие обращали на нее внимание, когда в последнее время она появлялась где-нибудь под руку с Эманюэлем. И у нее защемило сердце.
Она не любила Эманюэля. Вернее, она не полюбила его так сильно, как одно время надеялась полюбить. И все же она испытывала что-то вроде благодарности или, вернее, удовлетворения от того, что он ее любит, и искренне хотела ответить ему на его чувство.
Она подняла глаза. И внезапно резко выпрямилась. На противоположном тротуаре она увидела Жана Левека. Остановившись под фонарем, он развертывал газету. На нем был хороший костюм, который Флорентина принялась с жадностью разглядывать. От нее не ускользнуло даже, что галстук Жана был того же цвета, что и летние ботинки и шляпа из мягкого фетра, небрежно сдвинутая на затылок. Она вспомнила Эманюэля — в немного помятом мундире цвета хаки и грубых, тяжелых ботинках. И внезапно ее охватила ярость при мысли, что Жан появился здесь, чтобы унизить сохранившийся в ее памяти образ Эманюэля. Затем у нее возникли иные, коварные мысли. Было мгновение, когда, преисполненная горечи, она уже собиралась подойти к Жану. Чтобы показать ему обручальное кольцо. И чтобы Жан как следует разглядел платье из узорного шелка, купленное ей Эманюэлем, и изящные туфельки, которые он подарил ей накануне отъезда. И прелестную замшевую сумочку! Он все это выбрал для нее сам. Никогда еще она не была так нарядно одета. И, смущенная, растерянная, она думала о том, как, в сущности, грустно быть такой элегантной и знать, что на тебя никто не смотрит, — даже Жан… ну, хотя бы на минутку… «Хотя бы только на одну минутку, — думала она. — Только чтобы доказать ему, что он мне теперь совсем не нужен». Было очень трудно уйти вот так, даже не бросив ему какой-нибудь насмешки, не увидев в его глазах интереса, любопытства, а может быть, даже и желания… Ах, увидеть, как загорятся его глаза, а потом посмеяться, посмеяться над ним и уйти, чувствуя себя отмщенной, удовлетворенной, счастливой — да, по-настоящему счастливой! Ее сердце билось так сильно, что у нее даже перехватило дыхание, пока она исподтишка наблюдала за молодым человеком, все же опасаясь, как бы он ее не заметил…
Жан поднял голову, сложил газету и пошел дальше. И тогда, сдерживая дыхание, она поспешила отступить в тень стоявшей рядом машины — ее руки стали влажными от волнения, в висках стучало; она замерла на месте, ожидая, чтобы Жан прошел мимо, не заметив ее. Проходя, он слегка задел ее рукавом. Она едва удержалась, чтобы не вскрикнуть, не пошевельнуться. Затем она быстро ушла. Она пересекла улицу почти бегом. Она шла по направлению к предместью. Она спешила прочь с таким чувством, словно спасалась от чего-то.
Она долго шла так куда глаза глядят, с развевающимися на ветру волосами. Потом немного замедлила шаг. И наконец остановилась, совсем запыхавшись. И тут она с изумлением почувствовала, что довольна собой. Ее удивило это никогда прежде не испытанное удовлетворение, уважение к самой себе. Она поняла, что для нее и в самом деле начинается новая жизнь.
Возвращение Эманюэля, о котором раньше она не могла думать без ужаса, теперь показалось ей вполне естественным. Ее будущий путь был ясным и определенным. Она думала о нем без особой радости, но и без печали. Охватившее ее спокойствие было для нее столь же благотворным, как отдых на залитой солнцем скамейке для того, кто целую долгую ночь брел во мраке. «Много чего случилось за последнее время, — думала она. — Но все это, конечно, скоро забудется». Она уже больше не замечала, что в ее сердце почти нет горечи. Мало-помалу ее мысли обратились к будущему ребенку, и теперь она думала о нем без неприязни. Ей казалось, что это вовсе не ребенок Жана, что это ребенок ее и Эманюэля. Она еще не любила этого ребенка, который причинит ей страдание; вероятно, она никогда и не сможет полюбить его, она даже все еще боялась его, но ей казалось, что со временем она привыкнет не связывать мысль о нем с мыслью о своем грехе, о своей роковой ошибке. Эманюэль позаботится о них. Эманюэль… Брак с ним будет, конечно, гораздо удачнее, чем был бы брак с Жаном. Эманюэль весь раскрывался в каждом своем слове, в каждом взгляде, и всегда можно было знать заранее, чего от него ждать. Конечно, она не питала больше надежд на бурные чувства, но она предвидела благополучие и спокойствие, которые вознаградят ее за перенесенные страдания. И это благополучие, это спокойствие она распространяла и на мать, и на братьев, и на сестер; и ее охватило гордое чувство полного искупления. На миг при мысли о порывистом характере Эманюэля, о том, что он мог оказаться и вспыльчивым, ей стало немножко страшно. Пожалуй, лучше было бы признаться ему во всем. Но тут же она усмехнулась. И в сотый раз поздравила себя с тем, что так ловко разыграла свои карты. Впрочем, ни греха, ни вины, ни прошлого больше не было — все это уже кончилось. Осталось только будущее.
Она шла по улице Сен-Жак, уже совсем темной теперь, когда она приблизилась к предместью, и ее практичный ум был занят деловыми заботами. Она строила всевозможные планы, у нее возникали всякого рода неожиданные соображения, одно другого приятнее и заманчивее. С двумя пособиями — ее и матери — они смогут жить теперь очень хорошо. Эманюэль уговаривал ее бросить работу, но она была жадна и поэтому думала: «Я буду работать, пока смогу — все-таки лишние деньги». В ней пробуждалось тщеславие и тайное сочувствие к своим. «Своими» она считала свою семью и Эманюэля, но отнюдь не семью Летурно. Она была втайне уязвлена некоторой холодностью, которую они выказывали, и всегда испытывала в их присутствии неловкость, а потому собиралась по отношению к ним делать только то, чего требовала простая вежливость. Она охотно обошлась бы и без этого, если бы Эманюэль так не настаивал. Потом, опьяненная гордостью и алчностью, она вспомнила дом, который сдавался на бульваре Ла-Салль, почти такой же красивый, как дом Летурно. «А почему бы и нет? — сказала она себе. — Теперь у нас есть деньги, Сент-Анри нам больше не подходит». Она не осмеливалась признаться даже себе самой, как ей хочется порвать со всем тем, что могло бы напомнить ей о ее нелепом увлечении Жаном Левеком. Она обдумала покупку новой одежды для матери и для детей. «Наконец-то мы заживем на славу», — повторяла она про себя с чувством удовлетворенного тщеславия и с некоторым недоумением. «Мама никак не может утешиться, — думала она. — Но папа хорошо поступил, что пошел в армию. Это самое лучшее, что он сделал в жизни… А мама… мама должна с этим примириться. Странно все-таки, что это ее так огорчает… А ведь у нее никогда еще не было столько денег!»
Она шла быстро, хладнокровно подсчитывая, какими суммами они могут располагать. И сама удивлялась тому, как хорошо все устраивается. Она мысленно налаживала их жизнь очень толково и деловито, с несвойственной ей раньше серьезностью; все затруднения исчезали. Да, для нее и в самом деле начиналась новая жизнь.
Однако время от времени она вдруг содрогалась при мысли, что они, женщины, будут получать все эти деньги, пока мужчины рискуют своей жизнью; но она не была склонна к серьезным размышлениям и тут же вновь принималась за подсчеты; теперь она богата, она собиралась купить то-то и то-то, и в глубине души она радовалась тому, как сложились обстоятельства — ведь, если бы не было войны, что с ними со всеми сталось бы?.. Она чувствовала себя немножко оглушенной, очень гордой и спокойной… а поезд тем временем уже несся по предместью, и Эманюэль наклонялся к окну, чтобы увидеть дом Лакассов. На втором этаже горел огонь — по-видимому, в комнате Розы-Анны.
Молодой человек смотрел на него с безмолвной жалостью. Потом огонек остался далеко позади и поезд прошел через площадь Сент-Анри.
Прижав лицо к стеклу, Эманюэль следил, как мелькнули шлагбаум, бронзовая статуя Христа, церковь, сигнальная будка на столбах. В глубине одного из дворов он увидел дерево, которое протягивало свои искривленные ветви между электрическими проводами и веревками для сушки белья. Его листья, жесткие и сморщенные, казалось, уже умирали от усталости, не успев еще как следует развернуться.
Свинцовые тучи, низко висевшие в небе, предвещали грозу.
Примечания
1
Н. И. Ванникова, Канадская литература на французском языке, 1945–1965, «Высшая школа», М. 1969.
(обратно)2
Д. Картер, Канадская литература будет жить. — «Иностранная литература», 1963, № 8.
(обратно)3
Рабочее предместье Монреаля. (Прим. перев.).
(обратно)4
Теперь все в порядке, Денни? (англ.).
(обратно)5
Он устал. Может быть, завтра вы сможете посидеть дольше (англ.).
(обратно)6
Имя: Даниэль Лакасс. Возраст: шесть лет (англ.).
(обратно)7
Мэзоннев Поль де Шомдей — основатель города Монреаля (1640 г.). (Прим. перев.).
(обратно)8
Иоанн Креститель считается покровителем Канады. (Прим. перев.).
(обратно)9
Мы до последнего человека будем сражаться за Британскую империю! (англ.).
(обратно)10
Англия да пребудет вовеки! (англ.).
(обратно)




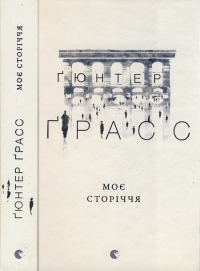






Комментарии к книге «Счастье по случаю», Габриэль Руа
Всего 0 комментариев